Владислав Петрович Крапивин Застава на Якорном поле
ВЫСТРЕЛ С МОНИТОРА
Обсерватория «Сфера». Плановое донесение спецгруппы «Кристалл-2», № 142-д.
В течение последних трех суток наблюдалось локальное возмущение межузловых четырехмерных полей. В пространстве «Бэта» (максимально приближенная гипотетическая грань) имел место кольцевой ретросдвиг с суточным радиусом. На границе сдвига зафиксировано перемещение малой (ок. 1,7 г) металлической массы — предположительно с характеристикой типа «прокол». Данное явление могло быть как причиной, так и следствием возникновения Т-кольца. Могло быть также и случайным явлением, не имеющим связи с ретросдвигом. (Особое мнение мл. науч. сотр. М. Скицына: «Последнее исключается. Связь несомненна».)
Далее (в пределах амплитуды) отмечено эхо поля VITA, совпадающее с теоретическими расчетами М. А. Мохова. Тем не менее группа не считает этот факт достаточным, чтобы рассматривать эхо как резонанс явлений типа «переход», или «бросок» (по М. А. Мохову — «Мёбиус-вектор».)
Примечание: мл. науч. сотр. М. Скицын считает, что эхо есть именно резонанс «Мёбиус-вектора».
Что касается понятий, предложенных нам Центром под шифрами «Дорога», «Окно» и «Командор», группа считает, что данные абстрактно-философские категории программированию и анализу не подлежат и к теме «Кристалл-2» отношения не имеют. (Особое мнение мл. науч. сотр. М. Скицына: «Имеют».)
* * *
…Сюжеты о Командоре — продукт студенческого (в основном стройотрядовского) фольклора периода активной реставрации исторических памятники» и увлечения модными, хотя и псевдонаучными идеями о многомерности миров и явлений. Заметного влияния на молодежное самодеятельное творчество не имели.
(Из реферата доцента Т-ского пединститута У. О. Валуевой,
изданного на правах рукописи)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИЗГНАННИКИ Пароход «Кобург» 1
Пристань Лисьи Норы построена у низкого травянистого берега, недалеко от поселка с тем же названием. Поселок большой. Можно сказать, городок. Но «метеоры» и «кометы» минуют Лисьи Норы, не сбавляя хода. И когда кто-нибудь хочет попасть на такое быстрое судно, он должен ехать на пристань Столбы. Отсюда на теплоходе с подводными крыльями можно за четыре часа добраться до самого устья. Но это если повезет с билетом…
В разгар лета, когда в здешних краях полно рыбаков, туристов и прочего отдыхающего народа, купить билет на скоростное судно не так-то легко. Поэтому три колесных пароходика местной линии тоже не остаются без работы.
Здешние жители называют их «смолокурами» (потому что пароходики давно уже работают не на угле, а на мазуте). «Смолокурам» не меньше чем по полсотни лет. Но они еще бодро шлепают гребными досками и громко, хотя и сипловато, гудят у сельских пристаней. Уж они-то, в отличие от «комет» и «метеоров», не пропускают ни одного деревенского дебаркадера. С дебаркадеров спешат на пароход неразговорчивые бабки с гогочущими гусями в корзинах, гладко выбритые районные уполномоченные, которых командировали в глубинку, а иногда и местные мальчишки — они не прочь зайцами прокатиться до соседней деревни.
В «смолокурах» не чувствуется смущения перед современными судами. В их неторопливости — солидность пожилых работников, занятых не очень заметным, но необходимым делом. И может быть, даже усмешка по поводу нынешней суетливой жизни.
От Лисьих Нор до устья «смолокур» добирается за двое суток. Если северо-западный ветер гонит с залива крутую мутно-желтую волну, пароход швартуется в Лесном Заводе, у деревянного пирса под защитой Мохнатого мыса. А когда в заливе тихо, он шлепает до самого Кобурга — к большой радости туристов, которым не терпится осмотреть развалины здешней крепости.
Развалинами крепость сделалась в последнюю войну. А в начале позапрошлого века ее целехонькую — после неутомительной двухнедельной осады — галантно сдал генералу Кобургу не то шведский, не то прусский гарнизон. Мало знаменитый и не избалованный победами генерал-майор был так упоен свалившейся на него удачей, что присвоил крепости и городку свое имя. Сенат и Морская коллегия посмотрели на это мелкое самоуправство сквозь пальцы, и потому имя сохранилось до наших дней. И не только сохранилось, но и дало название одному из «смолокуров» (два других называются «Декабрист» и «Кулибин»).
Второго августа после полудня «Кобург» подошел к Лисьим Норам и полтора часа попыхивал у дебаркадера, поджидая пассажиров. На сей раз их оказалось немного. Устроилась на кормовой палубе компания стройотрядовских ребят. Потом поднялся по сходням высокий пассажир в серовато-белой парусиновой куртке.
Пассажир был высок, прям и еле заметно прихрамывал. Он словно хотел иногда опереться на трость, но вспоминал, что ее нет, и выпрямлялся еще больше, неловко дергая правой рукой. В левой он держал клеенчатый чемодан. Лицо у пассажира было длинное, в резких складках, с мясистым носом, который нависал над впалым прямым ртом. Гладкие волосы, почти сплошь седые, разделял несовременный пробор. Брови, тоже с сединой, торчали мелкими клочками. Из-под этих бровей пассажир быстро, но цепко оглядел небритого пассажирского помощника с полинялой синей повязкой на рукаве, когда тот спросил билет.
— В третью каюту, — буркнул помощник, но потом почему-то подтянулся, кашлянул и добавил: — Пожалуйста…
В полутемном коридоре, куда выходили двери шести кают, стоял особый, «пароходный» запах: старой масляной краски, теплого железа, машинной смазки, речной воды и близкого буфета. Пассажир поморщился и чемоданом двинул внутрь приоткрытую дверь.
Каюта оказалась узкой, с двумя деревянными койками — одна над другой. Напротив коек был привинчен к стене белый крашеный стол, рядом стояло старомодное кресло с вытертым красным плюшем, у окна — конторский стул. У двери светился белым фаянсом умывальник со старинным медным краном. Из крана капало.
— Милая эпоха Сэмюэля Клеменса, — глуховато сказал пассажир — он был, видимо, доволен тем, что оказался в каюте один. Поставил чемодан под стол, медленно сел в кресло и прислонился затылком к плюшевой спинке. Прикрыл глаза.
Пока человек так сидит, скажем о нем еще несколько слов. Договоримся называть его просто Пассажиром. Во время бесед с мальчиком они так и не узнали имен друг друга. То ли мешало какое-то смущение, то ли, наоборот, возникло внутреннее согласие, при котором ясно, о чем спрашивать можно, а о чем не надо…
Итак — Пассажир. Можно было бы назвать его и Стариком, но это не совсем точно. Был он очень пожилой, но полным стариком не казался даже мальчику.
2
Мальчик появился на пристани перед самым отчаливанием «Кобурга». Невысокий, в синей круглой кепчонке с большим козырьком и белой надписью «Речфлот», с такой же синей спортивной сумкой на ремне с кольцами. Ремень был длинный, сумка сердито швыркала по пыльно-загорелой ноге, когда мальчик шел от кассового домика к дебаркадеру по тропинке среди подорожников и луговой кашки.
Он шел независимо.
Кепка на нем была надета козырьком назад. Из-под нее на затылок и виски спускались темные сосульки давно не стриженных волос.
В трех шагах позади мальчика так же независимо и молчаливо шла старая женщина. Сухая, рослая, в беретике.
Тропинка привела к мутной луже посреди травы. Это была, видимо, постоянная лужа, через нее перекинули сходню — две доски с поперечными брусками. Мальчик решительно ступил на доски, они хлопнули, вода выплеснулась из щели и забрызгала кеды. Бесцветно-ровным голосом, но отчетливо женщина сказала:
— Промочишь обувь и носки, а запасных у тебя нет.
Худые лопатки мальчика шевельнулись под выцветшей, в бело-розовую клетку, рубашкой. Это неуловимое движение стоило нескольких фраз: «Зачем говорить чепуху — какие-то несколько капель. И вообще, я как-нибудь сам о себе позабочусь. И я же понимаю, что дело не в брызгах, а просто вам надо что-то сказать, потому что идти вот так и молчать вам тошно. Но уж если кто-то виноват в этом, то никак не я…»
Перешли лужу, и спутница мальчика заговорила опять:
— Все-таки я не понимаю: почему ты не взял чемодан с вещами?..
Не обернувшись, но оч-чень вежливо мальчик сказал:
— Ведь я же объяснил, Анна Яковлевна: я оставил чемодан в залог за испорченные часы.
— В конце концов, это просто нелепо… Ты ставишь меня перед своими родителями в двусмысленное положение.
Мальчик опять шевельнул спиной…
Пассажир открыл глаза, когда мальчик и его спутница вошли. Он был, без сомнения, джентльмен и, увидев женщину, хотел было встать. Но поморщился и остался в кресле.
— Извините, — сказала Анна Яковлевна, — мы вас побеспокоили. Судя по билету, здесь место мальчика… Я понимаю, вам, наверно, приятнее путешествовать одному, но что поделаешь…
Пассажир все-таки поднялся. Прямой, седая голова под самый плафон.
— Ничего… — Он даже улыбнулся. Он, видимо, сперва решил, что в каюте поселится эта пожилая дама, и теперь был доволен: мальчик — более удобный сосед. — Я думаю, мы поладим.
Анна Яковлевна посмотрела на мальчика:
— Я уверена: ты будешь вести себя так, чтобы не стеснять взрослого человека.
— Я тоже в этом совершенно уверен…
Мальчик аккуратно устроил кепку на вешалке у двери и поставил на стул сумку. Она, полупустая, мягко осела.
Анна Яковлевна сухо сказала:
— Папе я вечером позвоню.
Мальчик наклонил и опять поднял голову, поправил на стуле сумку.
Анна Яковлевна проговорила:
— Я думаю, у тебя нет оснований на меня обижаться.
— Ни в малейшей степени, — сказал мальчик сумке.
Анна Яковлевна коротко вздохнула:
— Что поделаешь, раз мы оба — люди принципов…
Пароход басовито гукнул два раза.
— Вы можете опоздать на берег, Анна Яковлевна.
— Прощай.
Он аккуратно кивнул опять и, когда она ушла, вдруг обмяк, неуловимо повеселел. Теперь стало заметно, что лицо у него не твердое, не упрямое, а живое и готовое к улыбке.
Это был мальчишка лет одиннадцати, узкоплечий, но круглолицый, толстые губы, нос сапожком, глаза цвета густого чая. В глазах этих еще держалась недавняя напряженность и досада, но на Пассажира мальчик глянул без хмурости, с нерешительным любопытством: что вы за человек? Правда поладим?
История с аквалангом 1
Тяжело ворочая колесами, пароход стал отодвигаться от пристани. Толчки поршней и вибрация вала передались ногам сквозь каютную палубу. Мальчик переступил, будто от щекотки. Он держался за спинку стула и смотрел в окно.
Пассажир опять опустился в кресло, достал из внутреннего кармана свернутый цветной журнал…
Шаткая дверь от вибрации отошла. Из коридора снова дохнуло разными запахами, и больше всего буфетом.
— Можно я открою окно? — тихо сказал мальчик.
Пассажир зашевелился:
— Сделай одолжение. Я сам хотел попросить… — Голос у него был низкий, с прикашливанием.
Квадратное окно совсем не походило на морской иллюминатор. С верхнего карниза свешивалась куцая занавеска в цветочках. Стекло в деревянной раме дребезжало.
В полуметре от пола под окном тянулась белая труба, видимо отопление. Мальчик встал на трубу, откинул на раме боковые крючки, потянул вниз брезентовую петлю. Перекошенная рама сперва сопротивлялась, потом со стуком опустилась в пазах. Мальчик виновато ойкнул.
Он уперся коленями в узкую подоконную доску, грудью лег на край опущенной рамы и по плечи высунулся из окна.
Увешанный спасательными кругами дебаркадер уходил назад. Берег отодвигался. День был теплый, но почти без солнца. Лишь изредка желтые проблески вылетали из-за мягких серых облаков. Сварливо перекликались чайки.
Мальчик медленно вздохнул — то ли от каких-то переживаний, то ли просто от речного воздуха. Вздыхать было неудобно: рама давила на ребра. Стоять было тоже неловко: острый край подоконной доски резал колени. Но мальчик стоял долго. Влажный воздух шевелил у него волосы, входил через плечи в каюту, качал занавеску, и она щекотала мальчику шею.
Берег сделался выше, и пристань исчезла за мысом.
Пассажир вдруг сказал:
— Голубчик, если не трудно, подвинься немного в сторону. Читать будет посветлее.
Мальчик торопливо сдвинулся в окне, прижался плечом к его краю. Так он стоял еще минуту. Затем прыгнул с трубы, потер коленки, подумал и шагнул к стулу. Достал из сумки растрепанную, пухлую книжку.
Пассажир укрывался за развернутым номером «Огонька». С обложки улыбалась девица в оранжевой каске строителя. Мальчик полувопросительно сказал девице:
— Моя койка, наверно, верхняя…
— М-м?.. Если не возражаешь, — отозвался Пассажир и опустил журнал. — Мне с моими суставами карабкаться как-то не с руки… Вернее, не с ноги.
Мальчик никак не отозвался на шутку. Присел и стал расшнуровывать кеды.
— Но с другой стороны… — Пассажир, кажется, забеспокоился. — Ты не свалишься оттуда?
Мальчик сердито распутывал на шнурке узел.
— Я и в вагоне-то не падал никогда, а там полки в два раза уже…
Он задвинул кеды под стул и по привинченным к стойке ступенькам забрался наверх. Койка была застелена шерстяным одеялом, в изголовье лежала твердая подушка в синеватой казенной наволочке. Мальчик повозился на одеяле, постукал подушку ребром ладони и притих с книгой.
В каюте стало тихо, только Пассажир изредка шелестел журналом. Под палубой ровно вздыхала машина, за окном бурлила вода, с кормы доносились голоса и негромкий перезвон струн.
Потом занесло в окно комаров — их в этот пасмурный, теплый день было много над берегами и водой. Комары тонко запели. Но Пассажир не обратил на них внимания. И лишь когда отошла опять и заскрипела дверь, он отложил журнал. Медленно встал.
Верхняя койка оказалась у Пассажира на уровне груди. Он взглянул на мальчика. Мальчик не читал. Раскрытая книга съехала к самому краю койки, а мальчик спал. Воздух из окна шевелил его ресницы. Нижняя губа смешно и сердито оттопыривалась, к ней прилипло семя одуванчика, влетевшее вместе с комарами.
Пассажир осторожно шагнул к двери, запер ее, скрипучую, на щеколду и вернулся к мальчику. Тот повозился, хлопнул губами и слизнул семечко. Подтянул и обнял коленки (на них все еще краснели рубчики от подоконной доски). На мятых шортах оттопыривался карман, из него тополиным листиком выглянул угол новой трехрублевки. Пассажир мизинцем вдвинул твердую бумажку в карман, прогнал с мальчишкиной ноги двух комаров и оглянулся на окно: не поднять ли раму? Но передумал, снял свою парусиновую куртку и укрыл мальчика от пяток до плеч.
Потом взял книгу. Это было старое, тридцатых годов, издание романа Гюго «Человек, который смеется».
Пассажир полистал, постоял, словно что-то вспоминая. Закрыл книгу и положил поближе к мальчику. Затем он, морщась и постанывая, лег на нижнюю койку. Навзничь. И кажется, заснул.
2
Сколько прошло времени, трудно сказать. «Кобург» успел приткнуться к пристани Косари, постоять полчаса и двинуться дальше. Пассажир или проспал это событие, или не обратил на него внимания. Когда он открыл глаза, все так же плескалась вода и поскрипывали на проволоке кольца занавески. На потолке змеились длинные живые блики: значит, облака поредели. Блики были неяркие, желтые, — видимо, вечерело.
С верхней полки спустилась и закачалась нога в полинялом голубом носке. На пятке была дырка размером с копейку, а к середине ступни прилип расплющенный высохший паук.
— Выспался? — спросил у ноги Пассажир.
Нога исчезла, с края свесилась голова с темными нестрижеными прядями.
— Ага… Это вы меня укрыли?
— Естественно… Комары зудят, вот и укрыл.
Мальчик почему-то вздохнул:
— Меня комары не трогают… Хотя если сплю, то, наверно, могут… — Он опустил куртку. — Спасибо.
— Если не трудно, повесь у двери.
— Ага… Спасибо, — снова сказал мальчик и прыгнул вниз.
Вернувшись от вешалки, он боком устроился в кресле, перекинул ноги через подлокотник. Поболтал ими.
— Можно посмотреть журнал?
— Да ради бога…
Мальчик полистал «Огонек», но почти сразу отложил. Поскучнел и стал смотреть в окно.
— Неприятности? — вдруг тихо сказал Пассажир.
Мальчик не удивился. И не оглянулся. Так же тихо спросил:
— Почему вы решили?
Пассажир не то усмехнулся, не то вздохнул. Объяснил:
— Я такую примету знаю с детства: если паука раздавишь, обязательно что-то нехорошее случится. А у тебя паук на носке.
Мальчик быстро подтянул ногу и с минуту сидел в позе известной итальянской скульптуры. Называется «Мальчик, вытаскивающий занозу». Разглядывал ступню. Взял останки паука за лапку, отнес к окну, дунул.
— Нет, он уже дохлый был, когда я наступил… Это я в чулане веревку искал… разутый, чтобы не топать зря… На живого зачем наступать?
— Но если случайно…
— И случайно не наступлю. Потому что чувствую.
Мальчик вернулся в кресло, забрался с ногами. Встретился с Пассажиром взглядом и поморщился. Взялся за нижнюю губу.
— У тебя что-то болит?
— Не… По-моему, это у вас болит, — нерешительно сказал мальчик. — Только не пойму что. Будто везде…
— А! Ты угадал… — Длинное тело Пассажира болезненно шевельнулось. — Эта штука называется остеохондроз. Не слыхал?
Мальчик свел брови и качнул головой.
— Между позвонками нарастают хрящи и зажимают нервы. И боль отдает в самые неожиданные места, от пяток до мозжечка… Потому как старость, дорогой мой…
Все так же, со сведенными бровями и держась за губу, мальчик проговорил:
— Если позвоночник, то главная боль в спине… Да?
— Ох… пожалуй…
— Тогда… я, наверно, могу…
— Что? — Пассажир приподнял голову. — Что ты можешь, дружок?
— Ну… полечить, если вы хотите. Я немного умею…
— Неужели?
— Ага… Я уже так делал. С одним человеком. И получалось… Только вам надо вверх спиной лечь.
— Гм, это задача… Впрочем, попробую… А что ты предлагаешь? Массаж? — Пассажир глянул на худые мальчишкины руки.
— Да не-е… — Мальчик спустил с кресла ноги, — Я не буду касаться. Или чуть-чуть. Вы не бойтесь…
Пассажир коротко, с прикашливанием засмеялся и стал переворачиваться на живот.
— Уверяю, что не боюсь. Хуже не будет…
Мальчик принес к постели стул. Сел задом наперед, грудью навалился на спинку. Втянул и закусил губу. Худая спина Пассажира закаменела под синей с белыми полосками рубашкой.
— Вы не напрягайтесь так, — осторожно попросил мальчик. — Не натягивайте… все жилки.
— Ох, ладно… — Спина обмякла, даже подтяжки ослабли.
Мальчик сощурился, протянул руки, ладонями провел вдоль спины. Шепотом сказал:
— Ой-ей…
— Что? — выдохнул в подушку пассажир.
— Сколько всего у вас… Ну, от которого боль…
— Да? Уже во всем разобрались, уважаемый доктор?
— А вы не дразнитесь, — строго сказал мальчик.
— Ох, извини. Молчу.
— Не, молчать не надо. Лучше про что-нибудь разговаривайте. — Ладони мальчика то замирали, то плавали над синей рубашкой.
— Но я, право, не знаю… Видишь ли, я как-то не имею опыта бесед в… таких ситуациях.
— Значит, сильно болит? — Мальчик говорил с некоторым напряжением. Он грудью сильно налегал на спинку стула.
— Болит? М-м… пожалуй, меньше. Ты не беспокойся, я привык терпеть. В жизни всякое бывало…
— На войне?
— И на войне, и после…
— А вы кто? Ну, профессия у вас какая?
— Профессии были разные. Последняя — совсем не романтическая. Ревизор в системе «Плодовощторга»… Но это так, мимикрия.
— Что? — удивился мальчик.
— Маска для души… В душе человек далеко не всегда тот, кто он в жизни. Впрочем, тебя это не должно волновать.
— Ну почему же? — уклончиво сказал мальчик. И другим голосом, оживленней, спросил: — А вы до какой пристани плывете?
— Сейчас, этим рейсом? До Якорного Поля.
— Даже и не слышал про такую… Это поселок?
— Это заповедник. Там у меня… друг юности.
— А далеко это Поле?
— Ну… после Краснодольска.
— У-у… Я раньше сойду, в Жуково. А оттуда — в Черемховск.
— И к кому же ты туда направляешься?
— Домой.
— А та… дама, которая тебя провожала? Родственница?
— Не-е… Знакомая отца. Вернее, его мамы, бабушки моей.
— Понятно…
Мальчик, двигая ладонями, вздохнул:
— Нет, вам, наверно, непонятно, почему мы так с ней расстались.
— Признаться, да… Но любопытствовать не смею. Чужие секреты…
— Да никакие не секреты. Просто у меня лопнуло терпение… Я у нее жил две недели, меня папа туда устроил. Ну, вроде как погостить и заодно немецким позаниматься. У меня с языком никак не ладится. В этом году в шестом классе экзамены по иностранному языку сделали, дак я еле выплыл…
— О.., ты, значит, шестой класс закончил? Солидно.
— Ага. Я только ростом не очень, а вообще мне уже скоро тринадцать.
— Как и ему…
— Кому?
— Что?.. Ох, это я так, отвлекся… Ну и как ты жил в Лисьих Норах?
— По-всякому жил. Анна Яковлевна эта… Ну, она со своим характером. Вся такая, будто из прошлого века. И с меня стала требовать, чтоб всегда поглаженный, причесанный… Вставать по часам, ложиться по часам. С десяти до одиннадцати, каждый день, зубрежка немецкая… И всегда «извините» и «пожалуйста»… И вилкой не брякать… о старинные тарелки…
— Просто как Гек Финн и вдова Дуглас, — вздохнул Пассажир. — Помнишь?
— Ага… Ну, нет. Наверно, все-таки не совсем так, я зря наговаривать не хочу. Она ведь, в общем-то, неплохая, наверно… С ней иногда интересно было, она про прежние времена много рассказывала… И по немецкому меня подтянула.
— А из-за чего же конфликт?
— Да так, накопилось… Сперва мне вовсе и не трудно было, я к ее режиму быстро приспособился. Ну, не то чтобы по правде стал таким… совсем уж воспитанным, а просто сказал себе: «Терпи, так надо». Помните, вы про маску говорили?
— Да-да… Значит, ты принял правила игры?
— Ага! Вот именно, будто играть стал! И даже интересно сделалось… Да там и хорошего было много! Книг у нее полным-полно, журналов старых про путешествия… И я же не все время с ней дома сидел. А Лисьи Норы — юродок интересный, мы там с ребятами везде лазили, исследовали. И всякие игры устраивали.
— Любопытно. И какие же игры у… нынешнего поколения?
— Ну, например, мы акваплан сделали. Знаете?
— М-м…
— Большой кусок фанеры с веревкой. Он к моторке цепляется на буксир… У одного мальчишки есть старший брат, у него моторная лодка. Ну вот, на фанеру встанешь, за веревку держишься, будто за вожжи, и моторка тебя тащит. Быстро так, будто летишь над водой.
— Как на водных лыжах?
— Ага. Только это проще. Можно почти без тренировки, это даже у самых маленьких получалось… И здорово так!.. Ну вот, из-за этого акваплана я с ней и поругался.
— Не разрешала кататься?
— Да не в том дело. Я с ее часами в воду булькнулся… У меня часов нету, она мне дала свои старые. Чтобы я к обеду в точности приходил. А я же их на руке носить не буду: дамские. Вот в кармане и таскал. И забыл выложить на берегу…
— Так ты что же, одетый на этом акваплане ездил?
— А чего такого? Только босиком… По ногам брызжет, а выше колена и не замочишься. Мы с отмели стартовали и туда же обратно приплывали. Кто научился, тот никогда не свалится…
— Однако же булькнулся.
— Потому что мотор заглох! Это первый раз случилось, никто даже не ожидал… Ну и ладно бы, самому-то высохнуть не долго. Да только часы остановились наглухо: вода в них попала. Ну и началось: «Ах, какой ужас! Ты не только часы испортил, но и сам мог утонуть». И еще: «Аккуратный и собранный человек не позволит себе попадать в такие ситуации…» Я не удержался. «Знаете, — говорю, — как надоело быть аккуратным и собранным! Вы меня будто канарейку в клетке воспитываете…» Она, конечно: «Как ты можешь так говорить! Я за тебя волнуюсь…» — Мальчик посопел и сильно заскрипел стулом. — Ну, тут я и сказал: «Вы не за меня, а за часы волнуетесь. Вы не бойтесь, папа заплатит за ремонт…» Может, я зря такое брякнул, да назад не проглотишь… Она села, помолчала так выразительно и говорит: «Такого я, признаться, от тебя не ожидала… Ты, конечно, мальчишка, но и мальчишкам не все позволено…» А потом: «Одно из двух: или ты немедленно и как следует извинишься, или мне остается проводить тебя на вокзал…» А чего я буду извиняться, если я правду сказал…
Пассажир с осторожным интересом спросил:
— А признайся, голубчик: ты уверен, что сказал ей правду?
— Ну… насчет часов я, наверно, зря. А насчет канарейки… Да и вообще… Так обидно сделалось. Как тут извиняться?.. Она губы поджала и давай звонить на вокзал, про расписание. А тот поезд, который нужен, уже ушел. С автостанции сказали, что билетов на автобус нет. Тогда она на пристань позвонила, а тут этот «Кобург». Она говорит: «Я иду за билетом, а ты уложи чемодан и ступай за мной…» А я сумку только взял с книжкой, а чемодан не стал собирать. Пускай, назло ей, останется…
— А может, решил, что она еще передумает?
— Вот уж нет… — Мальчик взялся за спинку стула и утомленно откинулся назад. — Такие, как Анна Яковлевна, ничего не передумывают… А я тоже… А спина у вас, по-моему, уже не болит. Да?
— Что? — Пассажир приподнялся на локтях. — Не может быть… В самом деле… — Он осторожно пошевелил поясницей.
Мальчик улыбнулся и согнутым локтем провел по лбу.
— Сейчас болеть не будет. По крайней мере, до утра… Я вас нарочно разговором отвлек, чтобы легче было боль убрать.
— Ох, спасибо… Как же это у тебя получается?
— Получается… иногда. — Мальчик встал и серьезно сказал: — Только потом все тело гудит и есть ужасно хочется.
Мыс город
В конце короткого коридора была буфетная дверь. За дверью оказались три липких столика (за ними никого не было) и прилавок с хмурой полной теткой в кокетливой кружевной наколке.
Мальчик взял у буфетчицы две котлеты и стакан теплого чая. Разменял хрустящую трешку — свой дорожный запас. Буфетчица сказала, что рублей нет, и дала сдачу одинаковыми монетками по пятнадцать копеек.
Гарнир из вареных макарон отдавал тухлым, но котлеты все же пахли котлетами, и мальчик сжевал их, помазав горчицей. Проглотил чай. К тарелке с хлебом нахально шел крупный рыжий таракан. Мальчик повернул к нему, словно зеркальце, прямую ладонь. Таракан попятился, встал на задние лапы, ощетинил усы, кинулся на край стола и спрыгнул.
— То-то же, — сказал мальчик. И ушел на корму.
Здесь под косо подвешенной лодкой расположился небольшой студенческий табор. Кто-то спал, привалившись к рюкзаку, кто-то тихо разговаривал и смеялся. Похожий на цыгана парень сидел на стопке рыжих спасательных жилетов и трогал струны гитары. Мальчик встал у перил с проволочной сеткой, поразглядывал стройотрядовцев и стал смотреть на реку.
Небо совсем очистилось. Солнце уже пряталось за кромку леса на высоком берегу и лишь изредка стреляло красноватыми лучами из-за верхушек елей. Другой берег, низкий, луговой, был покрыт оранжевым светом. На нем хорошо были видны деревни с почерневшими рублеными избами и деревянными церквушками, которые еще не разобрали и не свезли в заповедники.
Потом выплыло из-за поворота село. Уже не с одной, а с несколькими церквами. Главная была каменная, белая и ярко светилась под наклонными лучами. Золотисто-зеленый берег, желтый плес, темные и светлые колокольни, купола, маковки…
— Ну прямо Углич, что на Волге, — сказал кто-то среди студентов.
— А и так почти Углич — Уголичи-Северские. Давний оплот здешних староверов. Даже цари ничего не могли поделать…
— Этакая Русь рядом с Западом…
— История, чего ж тут…
Девушка в синей аэрофлотовской пилотке подняла от рюкзака голову и спросила гитариста:
— Миша, а ты песню про Углич помнишь?
Тот прихлопнул струны.
— Ту, что Димка Ярцев сочинил? А как же! Мы ее и там… помнили. Правда, комацдиры косились: не в жилу, мол. Но все равно…
— Эх, Димка, Димка… — сказали за грудой рюкзаков. — Главное, перед самым дембелем…
Гитарист переливчато перебрал струны, откинул волосы, посмотрел на Уголичи-Северские… Голос у него оказался высокий, почти как у девушки.
Раскалил закат на небе угли И с размаха на реку обрушил. И глядится в воду древний Углич С темно-красной церковью-игрушкой…Парни и девушки начали подвигаться к певцу, окружили. Мальчик его уже не видел. Но голос звенел.
…А игра была — не на свирели, У крыльца толпой бояре стали. «Покажи, царевич, Ожерелье…» И по горлу — с маху — острой сталью… Вот и все. Легенда или сказка… От заката взгляды поднимите: Виден в небе храм в багровой краске Жил да был на свете мальчик Митя…Мальчик вспрыгнул на планшир, ухватился за трубчатую стойку фонаря. За головами и спинами опять увидел гитариста. Тот наклонился над струнами, голос у него как бы потемнел:
Жил да был… Над Волгою затишье. Не спеша звезда в закат упала…И вдруг с плачущим, чисто цыганским вскриком, со взмахом отброшенных волос:
А за что во все века мальчишек — Топорами, пулями, напалмом?!Мальчик вздрогнул и соскочил на палубу. И услышал уже из-за голов:
Тонкий крест стоит под облаками, Высоко стоит над светом белым. Словно сам господь развел руками, Говоря: «А что я мог поделать?»Тихо стало, и в плеске забортной воды, в бледнеющем оранжевом свете Уголичи-Северские медленно проплывали мимо «Кобурга», который к этой пристани почему-то не причаливал…
Мальчик постоял еще на корме. Песен больше не было. Да и слушать другие после этой, про Углич, не хотелось. Он ушел на середину парохода, сел на скамейку из крашеных реек, у стенки с каютными окнами. Здесь палуба была совсем узкая — от скамьи до бортового поручня не больше метра.
Прошел пассажирский помощник. Мальчик подтянул ноги, поставил пятки на скамью. Помощник сказал равнодушно:
— Один, значит, едешь? Гляди не балуйся.
Мальчик обнял колени, ткнулся в них подбородком.
За высоким кожухом вертелось и расталкивало воду гребное колесо. Сквозь этот шум слышен был миролюбивый звон комаров.
Вверху на мостике сказали:
— Иван, флаг сыми! Видишь, солнце ушло.
Оранжевый свет угас, небо стало зеленоватым. Мальчик знал, что потемнеет оно не скоро. Время белых ночей давно кончилось, но до осеннего равноденствия было еще далеко, и над здешним речным и лесным краем подолгу стояли белесые сумерки.
Появился на палубе Пассажир. Присел на край скамьи. Помолчал. Сказал неловко, но бодро:
— Да, голубчик, ты меня прямо воскресил.
— Вот и хорошо, — вздохнул мальчик. Не обернулся, смотрел, как наплывает высокий и почти черный мыс.
Это был крутой полукруглый холм. Лесистый, сумрачный. С обрывистым выступом над водой. Выступ напоминал забрало рыцарского, колючим гребешком украшенного шлема. Кромка «забрала» была без леса — ломаный гранитный край с редкими деревцами. От него до воды метров сто, наверно.
И вот эта махина двигалась на пароход. Видимо, фарватер проходил недалеко от обрыва. Там ярко горела красная капля бакена, отражалась дрожащей стрункой.
Пассажир спросил:
— Спать не собираешься?
— Рано еще. Да и днем выспался.
— Это верно. Я тоже подремал… Все как и должно быть.
— Что должно быть? — отозвался мальчик. Без особого, впрочем, любопытства.
— Это я так… Извини, я хочу спросить… Допускаю, что выгляжу назойливым, но все-таки… Мне кажется, что тебя что-то беспокоит. Грызет, как иногда выражаются… Не могу ли я помочь?
Мальчик не удивился. Сказал, все так же глядя на мыс:
— Но меня ничто не грызет… Думаете, будто я боюсь, что дома попадет? Ничуть.
— Нет, я не про это… А может быть, тебе просто зябко? Возьми мою куртку.
— Не… мне тепло. Если надо, у меня безрукавка в сумке есть… Из козьей шерсти, домашняя вязка.
— А, это хорошо… Мама, наверно, вязала?
— Нет, не мама… Смотрите, там кто-то стоит!
Мыс придвинулся почти вплотную, обрыв нависал над пароходом. Кромка «рыцарского забрала» скрыла за собой лесистую вершину холма. Черный неровный край рисовался на светлом небе, над ним висела голубая несмелая звездочка. А левее звездочки виден был неподвижный силуэт. Маленькая, тонкая фигурка со склоненной головой и опущенными руками.
Конечно, ничего особенного в этом не было. Мало ли туристов на здешних берегах! Какой-нибудь пацаненок улизнул из палатки и глядит с высоты на окрестности…
Но беспричинная тревога толкнула мальчика — так же как во время песни об Угличе. Он крепче охватил колени и прижался теменем к дрожащей стенке каютной рубки.
— Стоит… — с непонятной интонацией отозвался Пассажир. Он тоже смотрел, запрокинув лицо. — Стоит. Да…
Звездочка прошла за плечами мальчишки на обрыве. Силуэт шевельнулся. В это время заскрипели доски расшатанной палубы. С носа шла переваливаясь буфетчица. Пассажир подвинул ноги под скамью, а сам все смотрел вверх. Буфетчица прошла, и от ее передника пахнуло макаронным гарниром. Мальчик придержал дыхание. В эту секунду на досках звякнуло. Денежка! Светлое небо отразилось в белом кружочке. Пассажир быстро повернулся к мальчику. Тот сбросил со скамейки ноги, нагнулся.
Однако проворнее всех оказалась буфетчица. Неожиданно легко обернулась, присела, накрыла монетку ладонью.
— Это моя!
— Почему вы решили, что ваша? — с непонятной злостью сказал Пассажир.
— А чья еще? — Буфетчица сжала находку в кулаке, встала. — Карман-то дырявый на фартуке, всю мелочь растрясла. Ох ты, пропади оно все пропадом… — И пошла прочь походкой вороватой утки.
— Вот ведь с… сытая жадюга, — с болезненной досадой произнес Пассажир.
Мальчик отвернулся. Всегда неловко, если в симпатичном человеке открывается неприятная черта. Пассажир, кажется, смутился. Закашлял.
— Наверно, она правда из кармана денежку выронила, — скованно сказал мальчик.
— Да нет. Это не ее… — вздохнул Пассажир.
— Ваша?
— Да нет… — Он опять сумрачно вздохнул. — Скорее, твоя…
— А! Может быть… — Мальчик встал, подергал шорты, в кармане забрякало. — Я сегодня три рубля разменял, сплошь пятнадчиками. Наверно, один выскочил. Ладно, не разорюсь!
— В буфете разменял? — поинтересовался Пассажир.
— Ага.
— А завтра туда пойдешь?
— Не… Там противно. Как-нибудь дотерплю, утром моя пристань. А оттуда до дома полчаса на автобусе.
— Утром ты едва ли доберешься, — ворчливо сказал Пассажир. — Машина еле дышит, я в этом деле понимаю… Боюсь, что ночью мы застрянем с ремонтом.
— Это плохо, — обеспокоенно сказал мальчик.
— Так что без буфета нам, голубчик, не обойтись.
— Но котлеты я больше есть не буду. От них до сих пор в желудке тошно. Лучше уж вафли с чаем.
— Это неважно, — тихо сказал Пассажир. — Главное, чтобы все вернулось на круги своя…
— Что?! Пароход в Лисьи Норы вернется?
— Да нет, это я о своем… Не обращай внимания.
Мальчик послушал, как работает машина. Не уловив в ее ритме сбоев, решил, что опасения напрасны, и опять устроился с ногами на скамейке, посмотрел вверх.
Темная фигурка по-прежнему рисовалась на зеленоватом небе. Неподвижная… И вновь мальчик ощутил беспокойство. Словно тому, кто стоял на обрыве, что-то грозило.
Мыс уже отходил назад. Край обрыва менял очертания. Квадратный зубец сближался с силуэтом, грозя через полминуты закрыть его. Звездочка была теперь далеко в стороне.
Мальчику хотелось, чтобы стоявший на кромке ушел оттуда раньше, чем скала скроет его из виду. Но тот не шевелился.
— Стоит и стоит… — прошептал мальчик.
— Стоит, — неожиданно громко отозвался Пассажир. — Куда же ему деваться…
— Почему «куда деваться»?
— Это же бронза. Скульптура.
— Да?! — удивленно и с облегчением сказал мальчик.
— Многим кажется, что просто человек на обрыве…
— Мне даже показалось, что он шевелился. Будто рукой махнул… Перед тем как тут эта пошла, из буфета.
— Издалека да в сумерках что не почудится…
Темный выступ на обрыве наконец плавно закрыл скульптуру.
— А я-то думал… — сказал мальчик. — Будто мальчишка там.
— Ну, так и есть. Бронзовый мальчик, ростом с тебя.
— Значит, там парк? Или пионерский лагерь?
— Нет, место глухое. Но раньше был город…
— Как это… был? А куда девался?
— Обезлюдел понемногу, разрушился. Остатки война сровняла… А памятник вот сохранился.
— Памятник?
— Да, памятник мальчику. Жителю этого города… Кстати, место до сих пор так и называется — мыс Город. Только об этом не все знают… Ты ведь не знал, верно? — Вопрос прозвучал странно, с вкрадчивой интонацией.
— Я не знал, — насупился мальчик. — Я первый раз тут плыву. В Лисьи Норы я на поезде ехал… И вообще мы в этих краях недавно, а раньше в Тюмени жили…
— Про город на мысу и местные-то жители почти не помнят.
— Значит, он древний?
— Отнюдь…
— Тогда почему не помнят?
— Слишком заняты собственными делами.
— А этот памятник… то есть мальчик, он кто? Герой?
— Герой? Возможно… в какие-то моменты. Чтобы судить об этом, надо знать его историю.
— А вы знаете?
— Мне ли не знать, — сухо отозвался Пассажир.
И наступило молчание. У Пассажира — непонятное, у мальчика — слегка обиженное. Мальчику казалось, что он имеет право услышать подробности. Но расспрашивать он не стал.
Пассажир наконец сказал:
— У ревизоров «Плодовощторга» тоже бывают странности… Я долго собирал в этих местах разные истории. И подлинные случаи, и легенды… И одна из них как раз об этом городе.
— Легенда?
— История, голубчик… Подлинная, хотя и малоизвестная… Я по канцелярской привычке все, что узнавал, записывал в тетрадку. Написал и про этот город… Упаси господи, я никогда не метил в литераторы, писал для себя, просто чтобы не забыть… Но… — В голосе Пассажира скользнула неожиданная самоуверенно-ребячливая нотка. — На сей раз получилось, по-моему, что-то вроде повести. Возможно, не хуже других…
— А он что, погиб? Тот, кто на памятнике…
— Н-нет… Почему ты решил?
Мальчик вздохнул:
— Я не решил. Просто я не люблю историй с плохим концом.
Пассажир, кажется, улыбнулся в сумраке:
— А ты думаешь, я собрался тебе рассказывать?
Тогда улыбнулся и мальчик:
— Мне так показалось.
— Видишь ли… Я твой должник. Ты меня от хвори спас. А теперь вот сидишь и, кажется, скучаешь. И я подумал, что если смогу развлечь тебя… Если, конечно, тебе любопытно…
— Ага, — сказал мальчик.
— Только пойдем в каюту, дружок. Зябко здесь все-таки, а история не короткая…
Мальчишки в старом городе 1
В каюте над столом была укреплена лампочка под желтым шелковым колпаком. Она уютно засветилась. Пассажир достал из чемодана клеенчатую тетрадь с разлохмаченными уголками. Надел круглые очки в тонкой серебристой оправе. Сел в кресло.
— А ты забирайся на свой насест…
— Я лучше так. — Мальчик опять сел верхом на стул. Это была привычка, от которой не отучила его даже Анна Яковлевна.
Пассажир полистал тетрадь, посмотрел на мальчика из-за очков. Покашлял. При желтом свете морщины его казались резкими, как шрамы. Водянисто-серые глаза стали очень темными. Тень от носа легла на рот и подбородок — будто прижатый к губам толстый палец.
Мальчик с вежливым нетерпением поворочался на стуле.
Пассажир отложил тетрадь.
— Наверно, лучше так… В начале у меня написано длинное вступление: история города с давних времен, быт, нравы и прочая, прочая… Боюсь, что это скучно. Лучше я начну без записок, полаконичнее… На диалекте коренных жителей город назывался тогда Реттерхальм — Рыцарский Шлем…
Он и правда был построен во времена рыцарей. Место подходящее. С той поры в городе осталось много всякой старины: красивые здания, церкви, два замка. Арки каменных мостов над расселинами и оврагами, которые рассекают склоны холма…
На обрыве, где сейчас памятник, стоял артиллерийский форт. Впрочем, о нем позднее… Улицы поднимались от подножия холма к вершине. Порой это были даже не улицы, а широкие и узкие лестницы с площадками, тропинки среди садовых решеток и гранитных стен с колоннами и нишами. В нишах стояли чугунные фигуры древних святых и воинов, закованных в доспехи.
А главная улица охватывала холм спиралью. Она несколькими витками шла от набережной со зданием магистрата до площади с Маячной башней. Башня была круглая, с громадным стеклянным шаром наверху. Внутри шара, чуть заходило солнце, вспыхивал фонарь. Впрочем, он служил скорее для украшения, чем для пользы, потому что большие суда по реке не ходили.
— Не ходили? Она же широкая…
— Да ведь и сейчас не ходят болыпие-то… В устье лежит песчаная отмель. Бар называется. Этот бар не пускает суда в реку. А без сообщения с морем у реки какая жизнь… Ты, наверно, обратил внимание, что на здешних берегах нет крупных городов. Не то что на других ближних реках…
— Но этот, Реттерхальм, он был все-таки крупный?
— Вовсе нет. Около двух тысяч жителей. Даже по тем временам это совсем не много… Однако город был знаменит своим театром, библиотекой, древностями. Сюда любили наезжать поклонники искусства и старины… И сами обитатели Реттерхальма любили, конечно, свой город. В том числе и юные жители, школьники. Потому что трудно придумать более подходящее место для игр, чем старые переулки, заросшие дворы, таинственные подвалы под цитаделью и галереи в замковых дворах.
— А тот мальчик, он…
— И тот мальчик любил, разумеется. О нем сейчас и речь… Я постараюсь, чтобы ты представил его подробно. Когда ясно представляешь себе человека, легче его понять… Лет ему было без малого тринадцать. Лицо узкое, глаза светлые, волосы прямые и почти белые. Даже подстриженные они падали на уши и на шею… В общем, типичный житель здешних северных мест. Обыкновенный реттерхальмский школьник в голландке и с шульташем…
— С чем?
— Так называлась школьная сумка из твердой кожи — шульташ. А голландка — это матросская блуза с галстучком. Тогда такие блузы носили мальчишки во всей Европе. Или короткие курточки с узкими рукавами и белыми откидными воротниками. И штаны с медными пуговками у колен, и высокие башмаки с крючками для шнурков, и кусачие шерстяные чулки, без которых даже в жаркие летние дни не пускали в реттерхальмскую школу… Так что, видишь, внешне Галька был совсем не такой, как ты…
— Кто?
— Ах да… Тебе его имя, наверно, покажется странным. Как у девочки… Но полное имя мальчика было Галиен. Галиен Тукк, сын Александра Тукка, заведующего костюмерными мастерскими городского театра. У Галиена, кстати, имелось двое старших братьев и младшая сестра… Итак, Галька -его мальчишечье имя. По-реттерхальмски звучало оно так же, как и по-русски. Между прочим, и мелкие, обточенные водой камешки назывались галькой, как у нас. Пожалуй, только помягче — халька…
Характер у Гальки был разный: то задумчивый, то веселый. Потому что и в жизни было много разного. Хорошо было посидеть над толстой книжкой про рыцарей, драконов и фей, а хорошо и другое: прибежать из школы, кинуть под кровать громоздкий шульташ, сбросить осточертевшие башмаки и чулки, схватить деревянный меч и бежать босиком, в развевающейся голландке в замковый двор, где приятели затевали военные игры.
Галька не был ни отчаянным, ни задиристым. Но если нападали, не отступал. И если попадало деревянным клинком по костяшкам или камнем из рогатки, не ронял ни слезинки. Он мог заплакать по другой причине: от какой-нибудь обиды или от жалобной истории — одной из теэ?, которые иногда придумываются сами собой. Например, как после рыцарского подвига его, смертельно раненного, приносят в город и главный советник магистрата господин фан Биркенштакк произносит речь о герое, павшем во славу родного Реттерхальма… А бывали слезы от оценок но латыни, которые ставил господин Ламм — самый безжалостный наставник реттерхальмской мужской гимназии…
Однажды на исповеди Галька отчаянно сознался пастору Брюкку в своих слабостях и слезах. И еще в том, что желает наставнику Ламму свалиться с моста над Восточным оврагом и сломать… ну нет, не шею — это чересчур. Но хотя бы вывихнуть ногу. Чтобы он недели две не ходил на уроки и не мучил школьников ненавистной латынью.
Пастор Брюкк произнес краткую речь о красоте и пользе языка римлян и ученых, а также о терпении и любви к ближнему, но потом вздохнул и отпустил Гальке грехи, потому что сам был когда-то гимназистом…
Пассажир замолчал и глянул на мальчика: слушает ли?
— А в каких годах это все было? — спросил мальчик.
— В каких годах… Ну, прикинь. В ту пору по улице, что спиралью опоясывала холм, пустили трамвай. А трамвай этот был одним из самых первых на всем свете, старше берлинского…
Кстати, глава магистрата фан Биркенштакк долго не соглашался на такое новшество. Но собрание выборных представителей настояло. Среди жителей Реттерхальма было много пожилых граждан, им надоело карабкаться по лестницам. Радовались трамваю и мальчишки, тем более что детям позволяли ездить бесплатно. У вагоновожатого Брукмана в первые дни только и было работы что катать школьников. Конечно, город небольшой, но пока трамвай пять раз объедет холм — это целое путешествие…
Сейчас время сказать, что именно с трамваем связано начало нашей истории. Правда, случилось это не весной, когда трамвай только пустили, а в августе, в первые дни школьных занятий. Не удивляйся, это у вас ученье начинается с сентября, а тогда в школу шли первого августа. Конечно, такой обычай ребята проклинали. Лето на дворе, а ты жарься за партой! И после уроков они стрались наверстать упущенное. Тем более что август в том году стоял жаркий… И вот теперь… — Пассажир сел поудобнее и взял тетрадь. — Теперь, голубчик, если не возражаешь, я почитаю. Тут уже не предисловие, а события… Тебе не наскучило?
Мальчик быстро замотал головой.
Пароход уже долго стоял у какой-то пристани. Машина не работала. За тонкой стенкой каюты сварливо, но негромко спорили мужчина и женщина. Это не мешало тишине. В лампочке тонко звенела раскаленная нитка.
Пассажир выпрямился в кресле и поправил очки.
— Итак, приступаем…
2
«После уроков сговорились поехать купаться на протоку. У старого Томсона, что жил в хибаре за пристанью, за два медяка взяли напрокат лодку.
Приятелей было шестеро: длинный, веснушчатый Вилли, по прозвищу Кофельнагель, братья Жук и Вафля (сыновья аптекаря Сумса), круглый Хансен (за солидность все его звали только по фамилии), Галька и маленький Лотик. Все, кроме Лотика, учились в одном классе. А Лотик был на три года младше. Вообще-то прозвище его было Клотик. Но этого несчастного человека воспитывали сразу три тетушки, по вечерам они наперебой звали племянника с балкона: «Клотик, иди домой! Клотик, Клотик!» (потому что на свое настоящее имя он вовсе не откликался). Буква «К» в начале и в конце сливалась. Получалось: «Лотик, Лотик, Лотик!» Так его и стали звать наконец, хотя клотик — это шарик на верхушке мачты, а что такое лотик — непонятно.
Впрочем, Лотик объяснил, что это — маленький лот, прибор для измерения глубины.
— Но ты же совсем не умеешь нырять, — засмеялся Галька.
Лотик тоже засмеялся и сказал, что научится. Он ни на кого не обижался, а на Гальку тем более. Галька ему очень нравился. Лотик мечтал когда-нибудь отличиться в Галькиных глазах и сделаться его самым крепким другом. Галька, конечно, такую привязанность видел, однако всерьез Лотика не принимал. Ну, в самом деле, что это за друг? Маленький, головастый, неловкий… И все же Галька не обижал его и не отшивал от компании, как некоторые. Даже заступался. Ведь тот, кто любит читать про рыцарей, должен и сам быть великодушным, верно?..
Они переехали реку и спрятали лодку в кустах на Китовом острове. Остров так называется, потому что похож на всплывшего кита. На другом берегу острова они побросали одежду и переплыли через протоку на отмель. Галька держался поближе к Лотику: вдруг тот хлебнет водички! Вон как бестолково бултыхается…
Протока — это второе, узкое русло реки, за островом. В одном месте оно расширяется, и там у низкого лугового берега твердое дно с белым песком. Дно полого уходит к средине русла. Посреди протоки глубина достигает сажени, взрослого человека закроет с головой. Но течение тихое, не опасное… Впрочем, когда купались, на глубину редко кто совался.
День был жаркий, но вода в августе уже прохладная. Чтобы не продрогнуть, приходилось барахтаться, гоняться друг за другом…
— Э, а где Лотик? — вдруг сказал круглый Хансен…
Все завертели головами.
Лотик был далеко, почти на середине. Над солнечной водой темнела его «головастая голова» и тощие плечи.
— Э, — сказал Хансен. — Один уплыл. Потонет, дурень…
— Эй ты, марш назад! — закричал Кофельнагель. Замахал веснушчатым кулаком. — Взяли тебя на свою голову!
— Вы чего! Я же на свае стою! Помните, сумасшедший Хендрик хотел здесь мельницу строить и повбивал чугунные сваи?
Все, конечно, про сваи помнили. Но Галька громко сказал:
— Соскользнешь и булькнешься!
— А вот и не булькнусь! Глядите! — Лотик высоко подпрыгнул, мелькнули его загорелые икры и белые лятки… И — словно не было на свете Лотика! Святые Хранители!
Все, даже круглый Хансен, кинулись взапуски к тому месту. Вытащить, пока не наглотался! Но Лотик вынырнул сам, и на лице его сияла щербатая улыбка.
— Вот! Смот… Ой!
Его ухватили под локти и за волосы и, не слушая, выволокли на берег. И круглый Хансен при всеобщем одобрении деловито вляпал ему ладонью по известному месту. Так, что стреляющее эхо пронеслось над водой и Китовым островом. Но Лотик не обиделся и сейчас. Все равно улыбался.
— Вы чего? Я же научился нырять! Я до самого дна достал!
— Как не достать, если башка чугунная, — хмыкнул похожий на черного жука Жук.
— Я не башкой, я пальцами достал! Вот! — Лотик разжал кулак. На ладони была горсточка сырого песка. И в ней блестела крупная серебряная чешуйка.
— Это что? — Мальчишки сунулись к ней носами. — Э, денежка…
— Может, на дне клад зарыт?
— Лотик, ты запомнил место?
— Ну откуда клад в том песке? — Галька взял монетку. — Это, наверно, сумасшедший Хендрик потерял, когда сваи вбивал…
— Она бы потемнела с той поры, — возразил Хансен.
Галька потер монетку о голый живот:
— Может, такое серебро, что не темнеет… Смотрите, десять грошей!
— Почему грошей? — заспорил Кофельнагель. — Десять грошей поменьше размером.
На монетке было отчеканено число «10», а под ним — только ржаной колосок. Перевернули. На другой стороне был выбит чей-то профиль и шли по кругу крошечные буковки.
— «Фре-е… стаад… Лехтен-старн», — прочитал Галька. — Слава богу, не латынь. Почти что по-нашему.
— Но не совсем, — заметил белобрысый, немногословный Вафля.
— Все равно понятно, — сказал Хансен. — Свободный город Светлая Звезда.
— Такого нет, — заявил длинный Вилли Кофельнагель.
— Как же нет, если вот монетка! — заспорил Жук. — Он где-то есть. Или раньше был… Тут чей портрет?
Пригляделись к профилю.
— Пфе, да это мальчишка, — сказал Кофельнагель.
— Ты перекупался, Нагель, — заметил Жук. — Это же тетенька. Королева или принцесса.
— Ты сам принцесса. Гляди хорошенько, э.то мальчик, — храбро сказал Лотик. Он чувствовал себя героем дня.
И правда, профиль был явно ребячий: курносый, с короткой стрижкой. И с улыбкой, спрятанной во взгляде. Будто веселый мальчишка лишь на миг притворился серьезным — для важного дела, чтобы на монете отпечатали.
— Небось какой-нибудь наследный принц, — заметил Вафля.
— Наследных принцев на монетах не чеканят, — возразил Галька. — Только королей.
— А разве бывают короли-мальчики? — удивился Лотик.
— Иногда… Возьми, Лотик, денежку, не потеряй.
— Он все равно потеряет, — сказал Кофельнагель. — Лучше подари ее, Лотик, мне.
— Фиг, — отозвался Лотик (по-реттерхальмски это звучит в точности как по-русски). — Я ее Гальке подарю. На, Галька.
— Да? Спасибо… — Гальке стало тепло от благодарности. Не то чтобы нужна была ему монетка, а так… Он погладил денежку мизинцем. — А все-таки интересно: десять чего? Грошей, пфеннигов, копеек? Пенсов? И каких она времен, а?
— Надо спросить учителя истории, — предложил рассудительный Вафля.
— Он зажилит ее для своей коллекции, — заметил Жук.
— А отчего бы нам не пойти к мадам Валентине? — сказал круглый Хансен. — Она знает все.
— Ура! К мадам Валентине, к мадам Валентине! — закричали мальчишки и кинулись вплавь на Китовый остров. Галька, с монеткой за щекой, плыл позади всех. Поглядывал на Лотика: не пустил бы головастик пузыри…»
3
— Несколько слов о мадам Валентине, — сказал Пассажир. — В начале, где идет описание нравов и жителей, у меня говорится о ней подробно. А если коротко, то так. Мадам Валентина была пожилая дама со странностями. Она торговала леденцами, но это занятие было для отвода глаз. Основное время мадам Валентина посвящала наукам, иногда печатала статьи в столичном философском журнале (и статьи эти каждый раз вызывали скандал в среде университетской профессуры). Кроме того, у нее был ящик с треногой и объективом, и она по заказу реттерхальмских жителей делала фотопортреты на твердом, как доска, картоне.
Жила мадам Валентина одна, если не считать рослого рыжего кота, канареек и жабы Жаннеты, которая обитала в стеклянной банке из-под маринада.
«…Когда мальчишки явились к мадам Валентине, она развешивала на дворе выстиранные цветастые юбки и вела перебранку с соседкой. Двор соседки был выше по склону, и та кричала через каменный, заросший плющом забор:
— Я пойду в магистрат, уважаемая мадам Валентина! Я терпела все, даже неприличные песни вашего граммофона, но этот последний фокус! Дым от пережженного сахара для ваших отвратительных леденцов так и лез мне в окна, хотя ветер дул в другую сторону! А ваш бессовестный кот вчера весь день гонялся за моими курами!..
— Сударыня! — отвечала мадам Валентина и взмахивала тяжелыми юбками, как матадор плащом. — Опомнитесь! На меня вы можете изливать любые недостойные вымыслы, но как совесть позволяет вам клеветать на беззащитную божью тварь? Где свидетели? Вы уверены, что это был мой Бенедетто?
— А кто же еще! Весь город знает вашего рыжего бандита!
— Рыжего?! Мадам Анна-Элизабет фан Раух! Где и когда вы видели у меня рыжего кота?
Беззащитная божья тварь сидела в двух шагах от хозяйки. При последних словах мадам Валентины Бенедетто вздыбил шерсть, и она из апельсиновой стала седовато-лиловой.
— Тьфу! — сказала наверху мадам Анна-Элизабет. — В прежние времена вас сожгли бы на костре!
— В прежние времена, уважаемая соседка, я сделала бы так, чтобы ваш язык приморозило к нёбу, как лошадиный помет к февральской мостовой! Лишь глубокое почитание конституции Реттерхальма, запрещающей лишать права слова кого бы то ни было, останавливает меня… Но поспешите в дом, сударыня, у вас там от перегрева лопнула бутыль с уксусом!..
Посмеявшись вслед соседке, мадам Валентина повернулась к мальчишкам:
— О! Здесь всегда рады гостям, но должна заметить, что время утреннего кофе давно прошло. А чай с леденцами у меня подают несколько позже — Мы по делу, мадам Валентина. — Галька вынул из-за щеки монетку. — Добрый день… Вот…
— Бакалавр философских и естественных наук Валентина фан Зеехафен не занимается важными делами на дворе. Прошу в дом.
Каждый раз, когда ребята попадали к мадам Валентцне, у них открывались рты. На стенах висели пучки трав и громадные птичьи крылья, в углу свалены были книги-великаны в обложках из потрескавшейся кожи. Из помятой трубы граммофона смотрело удивительно живыми глазами чучело крокодила. Желтели чертежи тугих воздушных шаров и лодок с перепончатыми крыльями. Облокотившись на шкаф с минералами, стоял на железных ногах полный набор рыцарских доспехов. Из-под приподнятого забрала глядел белый череп. Мадам Валентина утверждала, что это ее предок, первый владетель приморского замка Зеехафен.
С темного портрета в бронзовой раме смотрела сама хозяйка дома — в квадратной шапочке с кистью и в черной мантии.
Про мадам Валентину рассказывали всякое. Говорили даже, что она училась в Бразилии и совершила кругосветное путешествие. Впрочем, по другим слухам, она всю жизнь провела в родном Реттерхальме, лишь изредка выезжая в столицу. Одно было известно точно: много лет назад она преподавала географию в гимназии и оттуда ее уволили с большим скандалом. Наивный и потому бесстрашный Лотик однажды спросил ее: правда ли это?
— Да, — гордо сказала мадам Валентина. — Скандал помнили долго. А я десять дней даже просидела по указу магистрата в тюрьме. Вернее, на офицерской гауптвахте артиллерийского форта. Все офицеры и сам форт-майор Хорн ухаживали там за мной напропалую — это были чудесные дни.
— А… за что же вас? — нерешительно спросил тогда Галька.
— Из-за линейки всего-навсего… В те времена был еще обычай воспитывать детей линейкой. И вот директор гимназии маленькому мальчику приказал подставить ладонь и хлестнул его по этой ладошке… На глазах у меня, у Валентины фан Зеехафен! Ударить ребенка!.. Я выхватила линейку и сломала ее на три части!
— И за это под арест? — недоверчиво сказал Галька.
— Ну, сударь мой… Линейка была тяжелая, из пальмового дерева, а сломала я ее о высокоученую директорскую лысину…
Когда мальчишки кончили хохотать, мадам Валентина заметила:
— Все к лучшему. Освободившись от должности, я наконец-то в полную меру занялась научными проблемами.
Что за проблемы решает мадам Валентина, понять было невозможно. Однако леденцы у нее получались восхитительные: яркие, как стеклышки от калейдоскопа, и по вкусу — самые разные: лимонные, земляничные, ананасные… В своей лавке на площади Королевы Анны мадам Валентина продавала их, не считая. Пригоршню — за медный грош. В дни такой торговли у школьников был праздник.
— Какое же дело привело ко мне столь почтенную компанию? — спросила мадам Валентина, когда мальчишки пооглядывались и прикрыли рты.
— Вот… — Галька протянул на ладони подарок Лотика.
— О-о… — Мадам Валентина укрепила на носу пенсне. — A-а… Лехтенстарн, из Союза городов Млечного Пути. Семнадцатый век… Десять колосков… Когда-то за такие деньги можно было купить верховую лошадь…
— А что это за мальчик? — сунулся из-за спины Лотик.
— Да, мальчик… Он уже в те времена был легендой. Это один из Хранителей, маленький трубач. Он спас Лехтенстарн, когда в него хотели тайно пробраться враги, заиграл тревогу… Любопытная находка, хотя не такая уж редкость… На что меняем, Галиен Тукк? А?
— Не, это подарок, — быстро сказал Лотик. — Это я Гальке подарил.
— Да… — вздохнул Галька.
— Ну, это другое дело… Поскучайте здесь без меня, а я, так и быть, заварю свежий чай.
Мальчики разбрелись по комнате. Галька подошел к подоконнику. На мраморной доске стояли горшочки с кактусами. Кактусы цвели белыми и красными звездами и колокольчиками. Среди них поднимался из горшочка с землей странный кристалл: синеватый, полупрозрачный, с искорками. Он был похож на толстый граненый карандаш, закрученный на пол-оборота по спирали.
— Мадам Валентина, а что это? — спросил Галька, когда хозяйка вернулась из кухни. — Раньше здесь этого не было.
— А! Это я выращиваю модель мироздания. Довольно скучный опыт, потому что бесконечный… Прошу за стол, господа. Я рада вам, вы меня развлекли. А то эта ду… эта неразумная особа мадам Анна-Элизабет выбила меня из колеи… Галиен Тукк, за стол.
— Иду… А разве мироздание… оно такое?
— Боже! Это ведь модель… Мироздание — разное, сударь мой. И проявлений у него, как и вариантов у судеб человеческих, множество. Как и граней у вечного кристалла. Но меня беспокоит не число граней, а есть ли смысл определять гипотетический радиус изгиба, когда… Ох, не толкайте меня на ученую беседу, иначе останетесь без чая! Галька, негодник, ты пойдешь за стол?.. Хансен, вот тебе большая кружка. Лотик, не толкай леденцы в карман про запас, я потом насыплю в кулек. А то карманы слипнутся, как в прошлый раз, и тетушки опять возьмутся за тебя с трех сторон…
В эту секунду круглый Хансен взвизгнул и поддал стол тяжелыми коленями. Чашки подскочили, расплескался чай. Оказалось, что жаба Жаннета выбралась из банки, гуляла под столом и мокрым животом плюхнулась Хансену на босую ногу. Вафля и Жук подавились от хохота леденцами. Кофельнагель стал равномерно бить их по спинам.
— Ай как стыдно! — сказала мадам Валентина. — Бояться такой красавицы и умницы… — Покачивая седым узлом прически, она составила чашки на поднос и отправилась на кухню — за новой порцией.
Она там задержалась, и все уже перестали смеяться. Хансен стыдливо сопел. Лотик все-таки совал в карман леденцы. Галька укоризненно поглядел на него. Лотик стал торопливо говорить:
— Я столько раз смотрел и все удивлялся. Вон те склянки с песком, они совсем небольшие, а песок из одной в другую сыплется и все никак не кончится. Почему?
И все повернулись к камину, на котором среди статуэток и флаконов стояли песочные часы. Простенькие, как в аптеке Сумса. И вспомнили, что в самом деле: мадам Валентина никогда их не переворачивала. А песку-то в верхней колбочке, кажется, всего на две минуты. Но бежит сухая струйка, бежит, падает на песчаную пирамидку в нижнем стеклянном пузырьке, а та вроде и не растет…
— Чертовщина, — сказал Кофельнагель и выбрался из-за стола. Шагнул к камину.
— Э, не трогай, — заерзал Хансен. — Мадам Валентина не любит, когда без спросу…
— Всего ты боишься. Молчи, а то жаба укусит. — Кофельнагель взял часы, перевернул, и… все открыли рты. Желтая струйка теперь била вверх. В тишине даже слышно стало, как шуршат по стеклу песчинки.
Мадам Валентина появилась в дверях. Мягко шагнула к столу, опустила поднос, метнулась к Кофельнагелю и выхватила часы. У рыцаря возле шкафа со скрежетом упала вдоль туловища и закачалась железная рука. Перестали свистеть не смолкавшие до той поры канарейки. Мадам Валентина перевернула часы и поставила на камин — как раньше. Строго сказала притихшим ребятам:
— А вот с этим, господа, не шутят…
— Простите, — забормотал порозовевший Кофельнагель. — Я…
— Иди за стол… Это осевой хронометр доктора Комингса. Величайшее изобретение, которое до сих пор не признают академики. Да-с… Ты, любезный Вилли, сейчас замкнул время. В ма-аленькое колечко, но кто знает, что могло случиться…
Хансен осторожно спросил:
— Но кажется, ничего не случилось?
— Поживем — увидим… Допивайте чай — и брысь! — Мадам Валентина за шутливой сердитостью прятала серьезное беспокойство. — Кристалл мироздания не может расти в таком гвалте.
Лотик напоследок пихнул в рот дюжину леденцов, отер губы галстуком голландки и спросил:
— А что такое мироздание?
— Вселенная, друг мой… Весь мир, в котором обитаем мы, не познав смысла бытия. Все переплетение времен и судеб… Вот тебе газета, сделай кулек, несчастье мое…
— Можно я возьму это для Вьюшки? — попросил Галька. Он держал за палочку прозрачного малинового клоуна.
— Заверни в бумажную салфетку…»
— А кто эта Вьюшка? — спросил мальчик у Пассажира.
— Сестра. Помнишь, я говорил?
— Помню. А сколько ей лет… было?
— Около семи… Звали ее, вообще-то, довольно громоздко, по обычаю того времени: Анна-Мария-Лотта. Но Галька прозвал Вьюшкой. Она была черная, как заслонка в печной трубе. И вертлявая, как рыбка-вьюн… Ну что, читать дальше?
— Ага… — тихо сказал мальчик.
— «На улице Кофельнагель веско проговорил:
— Все-таки мадам Валентина — ведьма.
— Деревяшка ты, Нагель, — возразил Вафля. — С ней дружит сам пастор Брюкк. Стал бы он знаться с нечистой силой?
— Дружит!.. Он небось не видел, как песок вверх сыплется.
— А это просто фокус, — не сдавался рассудительный Вафля. — Ты колбочку в руке держал, там воздух нагрелся и стал выталкивать песок вверх. Физическое явление.
— Сам ты явление. Возьми в аптеке у папаши такие часы и попробуй этот фокус повторить! Физик…
— Да ладно вам, — поежился Хансен. — Я вот вспоминаю, как у рыцаря рука грохнула. Жуть.
— Там просто крючок сорвался, — сказал Жук. — Я видел…
Лотик облизал губы и спросил:
— А скелет в рыцаре по правде настоящий, вы как думаете?
— Иди проверь, — сказал Кофельнагель. — Небось тогда уже не леденцами штаны перепачкаешь.
— А давайте в рыцарей поиграем! — подскочил Жук. — Давайте турнир на поляне у Круглой башни!
— Давайте! — обрадовался Лотик.
— А головастиков не берут в рыцари, — сказал Кофельнагель.
— Ну что ты к нему вяжешься? — заступился Галька. — Он будет судья.
— Да, я буду епископ Реттерхальмский! Буду награждать победителей медалями!
— А где медали-то? — заметил Вафля. — Надо сделать…»
Медали делались из медных монеток. Монетки клали на рельсы и ждали, когда протарахтит трамвай. Вагоны были не такие тяжелые, как в наше время, — вместо стен и крыши — витые столбики и парусиновый навес с бахромой, рост пониже, колеса поменьше, — но все-таки они раскатывали денежки в тонкие лепешки. Потом в медных «блинчиках» пробивались отверстия, делались петельки для булавок. Если завоевал победу — прицепляй медаль на голландку и гордись. Правда, гордиться можно было только подальше от родительских и учительских глаз. Взрослые считали, что грешно портить для игры даже самые мелкие деньги. Да и соваться на рельсы считалось опасным делом. Вагоновожатый Брукман не раз грозил оторвать уши тем, кто раскладывал на трамвайном полотне монетки…
«- Ну что, накатаем медалек?! — Неугомонный Жук подкинул на ладони два медных гроша.
Все зашарили по карманам. У каждого нашлись одна-две медяшки. Кроме Лотика.
— А Брукман сейчас не ездит, обедает, — сказал Лотик. — Видите, ровно два часа.
Они шли мимо фонтана с солнечными часами. Тонкая тень пересекала мозаичный циферблат как раз на римской двойке. Галька присвистнул:
— Вот это да! Мы в половине второго только лодку взяли. Купались, у мадам Валентины сидели — и все за полчаса!
— Это фокусы мадам Валентины, — хмыкнул Кофельнагель.
Было известно, что Брукман раньше трех часов из депо не выедет. Поэтому решили пока сыграть в перевертыши…»
— Знаешь, что такое перевертыши? — Пассажир глянул из-за очков.
— Не-а…
— Сейчас ребята не играют на деньги?
— Ну… бывает. В Лисьих Норах большие парни в карты дулись…
— Перевертыши — это не в карты. Монетки кладут столбиком и бьют круглым камешком. Кто такую перевернет — забирает…
— А! Это как в чику!
— Вот именно… Такую они и затеяли игру. У замковой стены, за кустами, чтобы не видели посторонние…
«Обычно Гальке везло, рука у него была меткая. Но в этот раз все медяки выиграл Кофельнагель. Потом он великодушно вернул каждому по денежке. На медаль. Только Лотику не дал. И Гальке. Сказал:
— У тебя же есть «десять колосков».
— Так что же, на рельсы ее? Ты спятил?
— А давай я разменяю ее на десять грошиков! И еще сыграем! Может, отыграешься…
Он хитрый был, Кофельнагель. Знал, как разжигает человека обидный проигрыш. Но Галька сперва ответил:
— Иди-ка ты… — И покосился на Лотика. А тот губы надул и в сторону глядит: поступай, мол, как знаешь, твоя монетка.
Кофельнагель сказал:
— Боишься.
— Я?! Да если хочешь знать, я мог бы тебя в два счета обставить! Просто у меня сперва рука подвернулась, а после…
— Ты не хвастайся, а разменяй да играй! И десять грошиков твои будут, и «колоски» отыграешь! С портретом Хранителя. Ха-х amp;…
Галька опять посмотрел на Лотика. Виновато. И пообещал:
— Не бойся, я точно отыграю. Пусть Нагель не задается.
— Мне-то что, — отозвался Лотик. И отвернулся.
И конечно, Галька проиграл. Все десять медяков за пять минут. И так ему тошно стало! И монетку жаль, и перед Лотиком стыдно. Хоть и головастик, а все равно… Галька пробормотал:
— Да ладно, завтра обязательно отыграю, ты не беспокойся.
— Мне-то что… — прошептал Лотик.
Кофельнагель, улыбаясь, дал Гальке грошик:
— Не горюй. Возьми на медаль.
Галька взял. Просто чтобы не подумали, будто он очень переживает.
И все пошли на Трамвайную площадку. Так назывался перекресток, где рельсы отворачивали от основной колеи и уходили в туннель, вырытый в крутом уступе (там, за чугунными воротами, было трамвайное депо). Место, чтобы катать медали, самое удобное. Трамвай из ворот выезжает без пассажиров, и никто не заметит мальчишек, притаившихся в зарослях дрока. Брукман смотрит только вперед. Он, если и разглядит на пути денежки, тормозить не станет: линия от депо идет под уклон.
Мальчишки разложили на теплых рельсах монетки. И тут Галька увидел… Ну, вы догадались! Коварный Кофельнагель положил серебристую денежку. С портретом мальчика-трубача!
— Ты что делаешь, Нагель! — крикнул Галька. И кулаки сжал.
— А что? Моя денежка, что хочу, то и делаю.
— Ты не имеешь права! Я ее еще отыграю! Завтра!
— Ха! Я разве обязан ждать?
— Но она же редкая! Она из свободного города!
— Ну и хорошо! Значит, медаль будет редкая! Ха! Рыцарская медаль свободного города! Может, ты ее и заслужишь.
Галька хотел ногой сбросить монетку с рельса.
— Э, нечестно, — сказал круглый Хансен.
И Галька сник. Мальчишечьи законы были незыблемы: проиграл — не хнычь, а кто выиграл — хозяин.
— Конечно, Нагель поступает, как скотина, — заметил Вафля. — Но ты, Галька, сам виноват.
— За «скотину» мы еще посчитаемся, — начал Кофельнагель.
И в этот миг все услышали дребезжание трамвая.
Трамвай шел не из дело, а снизу! С главной улицы! Чудеса!
Мальчишки, царапаясь и сопя, полезли в заросли.
— И правда, со временем что-то не то, — выдохнул рядом с Галькой Хансен. — Брукман сроду на обед не опаздывал.
Галька не ответил. Сквозь листья он видел монетку на рельсе.
Из-за двухэтажного дома с часовым магазином Румерса показался трамвайный поезд. Три желто-красных вагона. Усатый Брукман стоял на передней площадке у рычагов.
Может, Брукман заметит монетки, остановится? Нет, он смотрел прямо на ворота депо. Сейчас чугунное колесо расплющит монетку, пройдет по лицу мальчишки-трубача!
Галька заплакал и отчаянным взглядом уперся в трамвай — словно остановить хотел! И трамвай вдруг завизжал колесами, затормозил в метре от монетки. Брукман задергал рычаги, заругался, замахал руками, Галька — будь что будет! — бросился к рельсам! Спасти монетку, пока трамвай не поехал!
А трамвай вдруг дернулся, пошел назад. Быстрее, быстрее… Брукман все дергал рычаги. Потом схватился за голову, прыгнул с площадки, упал на колени, вскочил. Он что-то кричал, но у Гальки уши будто забило ватой.
Трамвай без тормозов докатил до поворота, и задний вагон сорвался с рельсового изгиба. Он опрокинулся набок, на него наскочили другие. Они вздыбили колеса, нехотя кувыркнулись и покатились по склону, ломая кусты и фонтаны Южного городского сквера.
И все это в дикой тишине, которая навалилась на Гальку. Он сам не помнил, как домчался до поворота. Вагоны все кувыркались, крушили клены, давили беседки. А там, ниже, Лодочная улица, вон черепичные крыши, люди во дворах… Не надо!
Вагоны подпрыгивали, переворачивались, как сброшенные с горки игрушки. Как их задержать, остановить?..
Средний вагон застрял между вековыми вязами, задний налетел на него, встал торчком, лег сверху. Передний оторвался и продолжал кувыркаться.
— Ну стой же!!!
Вагон перевернулся еще раз, покачался вверх колесами на тонких столбиках крыши, лег набок и замер.
Галька, всхлипывая, вытер лицо.
И тут Гальку схватил за плечи Брукман! Галька не сопротивлялся. Брукман что-то кричал и тряс его, тряс, тряс…
Приговор 1
Откуда-то появились два полицейских — пожилой, толстощекий Груша и молоденький, прыщавый Кунц, который был женат на двоюродной сестре Хансена. Повели Гальку в управление. Брукман шел сзади и все выкрикивал, что из-за сопливого негодяя, который бросился под колеса, он так рванул тормоза, что колодки не выдержали. Куда смотрят отцы?! Родители и школа распустили сорванцов, а его, старого Брукмана, теперь в тюрьму, да?
Груша оглядывался и успокаивал его.
У Гальки промелькнуло: «Как же так? Я ведь бросился потом, когда он уже затормозил…» Но тут же он понял, что это просто показалось. И зачем выкручиваться? Виноват с головы до пяток… Пусть делают с ним что угодно, он готов ко всему.
…Но того, что вскоре на него обрушилось, Галька все равно не ожидал…
Штатт-майор полиции Колленбаркер, качая лысой головой, составил протокол. Галька ничего не отрицал. Да, положил на рельсы монетки. Потом пожалел одну и кинулся, чтобы схватить…
Он опять всхлипнул:
— Я же не знал, что так случится. Мне показалось, что господин Брукман уже остановил трамвай…
— Оставь господина Брукмана, — сурово сказал штатт-майор Колленбаркер. — У него из-за тебя сердечный приступ, с ним возится доктор…
Появились отец и старший брат Михель, который служил помощником младшего архивариуса в магистрате. Брат держался за потные щеки и шепотом говорил:
— Вот дурак-то, вот дурак…
Отец, маленький, взъерошенный, надавал Гальке оплеух и прокричал, что это лишь начало, а главное будет дома.
Но домой Гальку не отпустили. Груша отвел его в школу, и там арестанта заперли в подвальной комнатке с решеткой в оконце. Раньше, в суровые времена розог и долгих отсидок «без обеда и ужина», здесь был гимназический карцер, а теперь хранились облезлые глобусы и облысевшие птичьи чучела. Но вот — кто мог подумать! — комнатке вернули ее прежнюю роль.
Галька сел под окном на корточки и взялся за голову. Он то приходил в отчаяние (так нежданно и непоправимо свалилось на него несчастье), то замирал в сонном отупении.
Потом Галька встряхнулся. Пол был каменный, холодный даже летом, босые ноги ломило. Галька расстелил на полу старые карты, лег, положив под затылок твердое чучело совы. И стал привыкать к жизни заключенного.
Из окна доносились звуки, такие незаметные, когда ты свободен, и такие милые, заманчивые для того, кто в заточении. Кто-то смеялся на улице, галдели воробьи, гукнул в отдалении резиновой грушей автомобиль советника Флокса — единственный в городе. Ударили один раз часы на магистрате. Половина какого-то часа. Какого? Сколько времени прошло с той минуты, когда школьник Галиен Тукк перестал быть обыкновенным мальчиком и превратился в разрушителя и злодея?.. Хорошо еще, что не в убийцу. А если бы трамвай кого-то придавил?
Галька опять всхлипнул и ткнулся носом в пыльную сову. От нее пахло опилками и нафталином…
За окном завозились, зашептали:
— Галька, Галька…
Он вздрогнул, увидел за решеткой ноги с зелеными от травы коленками, а над ними кудлатую голову. Это сидел в лопухах на корточках Лотик.
— Галька, с тобой что сделали?
— Пока ничего… — Галька сел. Вытер глаза.
— А что… сделают?
— Не знаю… Ох, Лотик, не знаю я… — Не было сил притворяться бесстрашным.
— А ребята спрашивают…
Галька все же ощутил что-то вроде гордости:
— Ты им скажи: я никого не выдал. В полиции думают, что я один был.
— Ага… А еще они спрашивают: может, передать напильник и веревки? Для побега.
Галька улыбнулся горько и снисходительно:
— Нет, Лотик, это ведь не игра в рыцарей. Куда я убегу?
— А может… мы тебя спрячем?
— Нет, Лотик… Я сам виноват. Это потому, что я твою монетку разменял. — Галька ощутил, как подкатило к горлу раскаяние. И даже нежность к Лотику: вот ведь, маленький головастик, а не испугался, пришел, помочь хочет. — Ты мне подарил, а я… Так мне теперь и надо!
— Да что ты! — Лотик негодующе хлопнул по коленкам. — Это Нагель виноват! Ребята его отлупить хотят… Галька, а денежку я с рельсов подобрал. Возьми ее опять…
Галька замотал головой. Разве он сейчас имел право на такой подарок?
— Возьми! — отчаянно прошептал Лотик. — Она же все равно твоя… Я загадал, чтобы она из беды тебя выручила…
— Правда? — Это была все-таки надежда. — Ну, давай…
Стекла в окошке не было. Монетка звякнула о каменный пол. Галька подхватил ее. Профиль маленького трубача был по-прежнему невозмутимо-задорным и хранил скрытую улыбку.
«Все Святые Хранители и ты, спаситель Лехтенстарна, помогите мне… Ты ведь такой же мальчик, как я, защити меня… Я, конечно, виноват, что разменял тебя у Кофельнагеля, но я просто не подумал. Прости, а? Я больше никогда-никогда…»
Галька бережно, как на бабочку, подышал на монетку, вытер ее подолом, опустил в карман… и пальцы его наткнулись на леденцового клоуна, завернутого в бумажную салфетку.
— Лотик! Я тебя очень прошу! Приведи сюда Вьюшку!
— Сейчас! — Лотик ящеркой метнулся в лопухи и очень скоро вернулся с девочкой.
— Галик… — задышала сквозь ржавые прутья Вьюшка.
Галька встал на цыпочки, взял сестренку за маленькие мокрые пальцы.
— Ты ревела, что ли? Не смей… — А сам опять подавился комком.
— Ты теперь всегда здесь будешь сидеть? — спросила Вьюшка.
— Не знаю…
— Мальчишки говорят, что тебя будут здесь держать, пока папа не заплатит деньги за все, что поломано, городской казне… А что такое казна? Тетенька-кассирша?
У Гальки не было сил улыбнуться. Он только вздохнул. Вьюшка пообещала:
— Я тебе сюда буду яблоки приносить и еще всякое вкусное… Галик, а можно, чтобы меня тоже сюда посадили?.. Ой, Лотик говорит, что сторож идет!
— Постой! Мама что делает?
— Мама сперва плакала, а сейчас ужин готовит… Ой, я побежала… Я потом еще…
Пальцы сестренки выскользнули, зашуршало в лопухах…
Тогда Галька опять заплакал. Уже не от страха, а от тоски по дому.
Стало быстро темнеть. Кто-то скребся по углам. Но было не страшно. Галька даже удивился, что ничуть не боится в сумраке, среди чучел с выпуклыми стеклянными глазами. Он, кажется, вообще уже ничего не боялся, потому что очень устал. Надо было приспосабливаться к такой жизни. Ведь, если сидеть, пока не выплатят все убытки, полжизни пройдет…
Сквозь решетку и листья глянула белая луна. Яркая, как электрический фонарь трамвая. Тогда загремел засов и пришел полицейский Груша. Он отвел Гальку домой.
2
Мать покормила Гальку ужином. Она его не ругала и вообще ничего не говорила. Только вздыхала и вытирала глаза. А Галька ни о чем не спрашивал. Измученный и голодный, он торопливо глотал все, что было на тарелках. И потихоньку начинал надеяться, что его простят.
Спал Галька наверху, в мансарде, в одной комнате со старшим братом — не с Михелем, а с другим, Эриком. Но Эрик, выпускник гимназии, в эти дни уехал поступать в столичное училище пароходных механиков. Галька бухнулся на постель одетым и сразу уснул. До позднего утра.
А утром пришел посыльный с бумагой: Галиену Тукку надлежало в три часа пополудни явиться на заседание магистрата.
Отец только губы поджал. Видно, он знал это заранее. Мать заохала, зашептала молитву. Принялась гладить Галькину белую рубашку и чистить его парадный костюм. Будто Гальке на праздник идти, а не на суд, не на расправу.
Полдня томился Галька страхом и ожиданием. Даже с Вьюшкой не мог разговаривать. В магистрат он пошел почти что с радостью: скоро кончится ужасная неизвестность!
Их с отцом ввели в круглую комнату с узкими, как в соборе, окнами. За зеленым столом сидело два десятка советников. Молчаливые, в малиновых мантиях. Отец поклонился и Гальку толкнул: кланяйся, дурак. Галька послушно согнулся — так, что волосы упали на лицо. Сквозь них Галька со страхом смотрел на главного советника Адама Питера фан Биркенштакка. Это был маленький старик с красными птичьими глазками, тяжелыми веками и носом, похожим на клюв попугая. На носу и на лбу Биркенштакка в минуты волнения набухали синие узелки и жилы. А волнений и забот у главного советника хватало: целый город. И надо сказать, он держал этот город в крепких руках. Случай с пуском трамвая был, пожалуй, единственный, когда фан Биркенштакк не сумел настоять на своем. Да и то, скорее всего, потому, что не очень старался. Решил показать, будто мнение граждан для него превыше всего…
Отец опять толкнул Гальку: выпрямись, дубина.
Секретарь магистрата стал спрашивать: действительно ли это Галиен Тукк, сын Александра Тукка? Действительно ли это именно он был вчера задержан полицией? И признает ли он все, что написано в полицейском протоколе? Галька на все вопросы отвечал сиплым «да». Подумал было: не сказать ли, что трамвай остановился раньше, чем он, Галька, бросился за монеткой? Но не посмел.
Монетку с профилем трубача-Хранителя Галька забыл в кармане старых штанов. И наверно, поэтому она не спасла его.
Адам Питер фан Биркенштакк поднялся и тонким голосом прочитал постановление. Гимназист Галиен Тукк навсегда изгонялся из родного города. Ибо он, нарушив запреты и правила поведения, причинил городу многие беды, подверг опасности его жителей и потому более не может быть гражданином Реттерхальма. Через двадцать четыре часа он должен покинуть город и впредь не появляться в нем, а также в его окрестностях радиусом в двадцать четыре итальянские мили…
— Вам ясно решение магистрата? — спросил главный советник, и жилки на его носу набухли.
Отец часто закивал и поклонился. Галька стоял оглушенный. То, что случилось, было страшнее всего, что он мог ожидать.
Адам Питер фан Биркенштакк оглядел советников:
— Нет ли сомнений у почтенных членов магистрата?
Один советник — молодой, круглолицый, с черными усами — сказал с веселой ленцой:
— Да зачем уж так-то? Всыпать бы ему горячих да посадить на недельку на хлеб и воду, как в давние времена…
Жилки главного советника набухли сильнее:
— Законы Реттерхальма исключают тюремное наказание для детей. А что касается горячих, то перед изгнанием виновных всегда били плетьми, и мы не отступим от обычая…
Одеревеневший Галька не двинулся.
— Но сейчас просвещенный век, и процедура будет символической, — закончил Биркенштакк. Затем посмотрел на черноусого советника: — А вам, господин Штамм, замечу, что приговор в любом случае не подлежит изменению. Это решение не только магистрата, но и граждан города. Вчера наши посыльные обошли все дома, и под приговором подписался почти каждый взрослый житель Реттерхальма…
Два служителя в старинных камзолах и париках отвели Гальку в соседнюю комнату — сводчатую, без окон. У стен горели газовые фонари. Гальку поставили в трех шагах от некрашеной скамьи. Говорили шепотом, в фонарях шипел газ. Принесли толстую, тугую куклу из потертой желтой кожи, ростом с большого дядьку, но мало похожую на человека. Бухнули на скамью. Служитель углем написал на коже: «Galien Tuck». Другой, неумело махая плетеным кнутом, нанес, кукле несколько ударов. На ней лопнул шов, посыпались опилки.
Галька был как во сне. Он даже не все понимал, что делалось. Понимал только главное и страшное: больше он не будет жить в своем городе. Ни-ко-гда…
По дороге из магистрата отец рассудительно говорил, что они с Галькой отделались пустяками. Никакое это не изгнание. Просто он отвезет Гальку в Кобург, в частный школьный пансион господина Гиневского, там Галька получит образование и так же, как после гимназии, сможет поступить в университет или военное училище… О месте в пансионе обещал похлопотать сам господин Биркенштакк, он оказался очень великодушен…
Галька молчал. Он был набит безнадежным отчаянием.
Дома у него прорвались рыдания. Галька кинулся к матери, умолял ее что-нибудь придумать. Ну, не мог, не мог он расстаться с домом, с мамой, с Вьюшкой. И с городом… Он только сейчас понял, как любит свой город. Все улицы, дома, лестницы, все заросшие закоулки, молчаливых рыцарей в латах… Он готов был вцепиться в любой камень, в фонарный столб — намертво, чтобы не оторвали! Как он будет жить без друзей, без игр в замковых дворах, без купаний на отмелях? Даже без гимназии, в которую так не хотелось идти утром, когда не выспался и не выучил уроки. Даже без учителя латыни господина Ламма!
Пусть бы лучше не кожаную куклу, а самого Гальку исхлестали плетью, только бы не выгоняли. Пусть бы держали в подвале, но все-таки здесь, на родине…
Мама гладила Гальку по волосам и успокаивала, как умела. Что она еще могла?
К тому же всем когда-то приходилось уезжать. Вон и Эрик уехал в училище, без всяких слез. В Кобурге тоже люди живут. Конечно, вдали от дома не очень-то сладко, но зато как хорошо, что магистрат не заставил семью Тукков оплачивать убытки. А ведь могло кончиться полным разорением. Но главный советник проявил сочувствие и благородство. Радоваться надо, а не слезы лить…
Старший брат Михель отдал Гальке свой чемодан.
— Чего ревешь, дурень? Сам же хотел стать путешественником. Не всю жизнь у мамашиной юбки сидеть. Я тебе завидую.
Толстый, глупый Михель не поцимал! Галька мечтал путешествовать по свету, делать открытия, совершать подвиги. Но он мечтал и о другом: как будет возвращаться в родной город, как ему там будут рады. И в самых дальних краях он помнил бы свой город и свой дом, как самое дорогое… А сейчас что?
Подходила Вьюшка, но Галька убегал от нее. Чувствовал: если Вьюшка начнет жалеть и утешать, сердце у него разорвется. Это не просто такое выражение. Он ощущал, что сердце именно порвется — на два кровавых ошметка. И если бы это в один миг, то пусть. Но наверно, сперва будет очень больно…
К вечеру слезы кончились. Галька поднялся в мансарду. Он как-то сразу успокоился. Но это было безрадостное спокойствие. Пустое и безнадежное, потому что внизу, в гостиной, стоял собранный чемодан. Утром приедет дилижанс…
Двигаясь механически, Галька разделся и лег. Ему приснилось, будто он опять стоит в круглой комнате магистрата, босой, в ночной рубашке. А Биркенштакк — весь в синих жилах — читает приговор. Потом Гальку ведут по , пустым улицам на Маячную площадь, там срывают с него рубашку, и вагоновожатый Брукман толстой трамвайной веревкой хлещет его, широко размахиваясь и открывая рот. И все это в полной тишине. Боль от ударов слабая, и Гальке даже не стыдно, потому что кругом не люди, а громадные кожаные куклы без лиц. И только Вьюшка и Лотик проталкиваются между ними, рвутся к Гальке, и у Лотика в руках старинное ружье со стволом-воронкой, чтобы застрелить Брукмана… Но куклы стискивают Лотика и Вьюшку тугими телами, потом придвигаются, наваливаются на Гальку, давят…
Он вскрикнул, сел на кровати.
В окно светила яркая до голубизны луна. Гальке показалось, что сейчас что-то случится. Нет, не страшное и не радостное, а просто какое-то изменение…
Он, путаясь в длинной рубашке, подошел к окну. Виден был склон холма до самой вершины. Крыши, лестницы, арочный мост. И Маячная башня подымалась из-за темных вязов. Сильно блестел стеклянный шар. Фонарь в нем не зажигали, время было такое (о причинах этого чуть позже).
Все было знакомое, Галькино, родное. Хоть кричи от тоски. Но Галька не кричал даже мысленно. Он размышлял. Окна уже нигде не светились, город спал.
Город спал. Хотя один из его жителей, мальчик Галька, изнемогал от горя. Люди подписали придуманный главным советником приговор, покачали головами, сказали детям: «Вот видите, к чему приводят шалости» — и теперь уже не думают о случившемся. А если кто и думает, больше жалеет о трамвае: когда его еще починят!
А кто пожалеет Гальку? Ну, одноклассники вспомнят. Поговорят, посочувствуют и займутся своими делами. Лотик — тот в самом деле крепко пожалеет. А еще? Ну, родные, и сильнее всех — Вьюшка. Но разве они — город?
Городу было все равно. Больше того: город отказался от Галиена Тукка! Спокойно так, между делом… Галька ощутил, как у него заломило тело. Будто рубцы от веревки Брукмана были настоящими, не во сне. Галька даже застонал.
Он скинул рубашку, натянул старые штаны и залатанную голландку, раскрыл окно и выбрался на крышу. По приставной лестнице спустился на лунный двор.
Это был привычный путь, Галька не раз так сбегал из мансарды для вечерних игр. Но сейчас он уходил навсегда.
Он ушел из города, не взявши ни куска хлеба, ни фляги с водой, босиком, без шапки и куртки…»
— И ни с кем не попрощался? — спросил мальчик.
— А как прощаться? Его бы задержали.
Мальчик молчал.
— Он мог бы пробраться в комнаты, где спали отец и мать, и все остальные… — сказал Пассажир. — Но видимо, он боялся… что, если посмотрит на них, не решится уйти. И он не стал прощаться ни с кем. Даже мысленно…
— Даже с Майкой?
— С кем?
— Ой… Я хотел сказать — с Вьюшкой. — Мальчик громко заскрипел стулом, отвернул лицо.
Пассажир оставил тетрадь, снял очки.
— Я понял, — сказал он вроде бы виновато. — У тебя есть сестренка. Ее зовут Майка.
— Ну, есть… — Мальчик низко-низко нагнулся, стал дергать шнурки. Суетливо скинул йеды, вскарабкался на свою койку. Лег лицом к стенке. Странно притих.
Пассажир посидел с полминуты. Растерянно встал. Спина мальчика под бело-розовой клетчатой тканью напряженно застыла.
— Я тебя чем-то обидел? — тихо спросил Пассажир.
Мальчик пошевелился. Потом повернулся — неловко, медленно.
— . Да нет, что вы… — прошептал он.
Пассажир стоял между койкой и лампой, лицо мальчика покрывала тень. И все же видно было, что глаза у него мокрые.
— Я понимаю, ты, наверно, соскучился по сестренке. Но ведь завтра уже вернешься…
— Да не в том дело… — Мальчик посопел, потерся щекой о подушку. Он смотрел мимо Пассажира.
Тот сокрушенно сказал:
— Значит, это я тебя своим чтением расстроил. Ну, извини…
— Да нет. Я сам себя расстроил, — отозвался мальчик сердито. И вдруг чуть-чуть улыбнулся: — Я такой… У меня вроде как у Гальки: иногда ни с того ни с сего капли из глаз…
— Это хоть у кого бывает, — осторожно заметил Пассажир.
Мальчик мазнул пальцами по глазам и решительно спросил:
— Вы думаете, я из-за немецкого в Лисьи Норы поехал?
Пассажир выжидательно молчал.
— Из-за Майки, — выдохнул мальчик.
Видимо, долго копилась у него печаль и обида, если теперь выплеснулась навстречу случайному попутчику… Впрочем, не такому уж случайному: ведь полсуток вместе. И как-то, наверно, связал их третий человек — маленький житель старого города Реттерхальма…
— Я ее совсем крошечную на руках таскал, — прошептал мальчик. — Целыми днями… Мне самому шесть лет было, а она горластая такая оказалась и хитрая: лежит — орет, на руки возьмешь — молчит. Я сам реву, а ее таскаю, потому что страшно: вдруг задохнется от крика! А больше с ней некому было, папа на работе…
— А… мама?
— Она умерла, когда Майка родилась.
— Извини, малыш…
— Но вы не думайте, что я на Майку злился! Наоборот… Я от нее не отходил, потому что она… ну, как частичка мамы. Дрожал за нее… А у нее потом спина стала болеть. Сколиоз… — Мальчик говорил, глядя в угол каюты, и глаза у него стеклянно блестели. — Когда лежит — больно. Плачет: «Возьми на ручки». А большая уже… Я ее глажу, каждый позвонок прощупываю… Вот тогда и научился боль прогонять руками… Иногда она еще сама не знает, что скоро у нее заболит, а я уже чувствую… Потом у нее прошло. Но она все равно от меня ни на шаг…
Мальчик вздохнул прерывисто, словно после долгого плача.
— Ну… а что случилось-то? — негромко сказал Пассажир.
— Да… вроде бы ничего такого. Папа женился весной… Я и сам папе говорил: давай, всем лучше будет. И правда, лучше стало, она хорошая, тетя Зоя. Безрукавку мне связала… Только Майка…
— Что? Не призндот ее?
— Да наоборот… — Мальчик дернул головой, зло всхлипнул в подушку. — Сразу к ней прилипла. А меня будто больше нет… Отец говорит: ты должен понимать, — девочке мама нужна, ты держись. Ну, я и держался… Потому что ведь никто же не виноват, я понимаю. А все равно… И тетя Зоя все чувствует. Мы с папой тогда и решили, чтобы в Лисьи Норы на время…
Пассажир медленно отступил, сед. в кресло.
— Вот, значит, как у тебя… Тут такое дело, а я тебя сказками развлекаю.
— Разве это сказка? — насупленно спросил мальчик. — Вы же говорили, что по правде.
— Да… Для меня это правда, а для тебя… Что тебе до какого-то мальчишки из далеких времен, когда своих переживаний хватает, верно?
— Нет… — вздохнул мальчик. — Не верно. Мне все равно интересно. Просто я… раскис маленько, когда Майка вспомнилась. Вы не обижайтесь.
— Да что ты, голубчик! Разве я обижаюсь!
— А что было дальше? С Гальной…
— Значит, можно продолжать?
Мальчик кивнул, мазнув носом по подушке.
— А ты не устал? Поздно уже…
Пароход все стоял у пристани, машина молчала. Видно, и правда что-то случилось. Люди за стенкой примолкли. Только шаги вахтенного на верхней палубе нарушали тишину.
— Я не устал, — сказал мальчик. — Только можно я буду здесь? Лежать и слушать.
«По лестницам и тропинкам, по кривой улице Булочников Галька спустился с холма. Никто не встретился на пути. Дома кончились, и дорога пошла вдоль реки. Галька шагал быстро. Тоска сидела в нем, как ледяной комок. Он почти не думал, что будет впереди. Знал только, что в город не вернется и в Кобург не поедет. Может, выроет землянку и станет жить, как отшельник. Может, просто умрет где-нибудь у края дороги, и, когда его найдут, у кого-нибудь шевельнется совесть.
К середине ночи он увидел заброшенное строение, сделанное из перевернутого баркаса. Забрался туда. Внутри были нары с остатками соломы. Галька съежился на них и уснул.
…Проснувшись, он сразу вспомнил все, что случилось. И так ему стало тяжело на душе, что не захотелось открывать глаза. Наконец он все-таки открыл их.
Солнце било в щели и косое окошко. Но не это первым делом увидел Галька. Он увидел большой никелированный револьвер, наведенный прямо ему в лоб. В стволе был крупный черный глазок. Держал оружие краснолицый мужчина с бакенбардами, в матросском берете с помпоном.
— Тихо, птенчик, — просипел он и прищурил левый глаз. — Шевельнешься — и пуля.
Этого еще не хватало! Что, весь мир ополчился на Гальку?
Ни капельки страха не испытал Галька, только горькую досаду. И опять заболели рубцы от приснившихся побоев.
— Ну и черт с тобой, стреляй… — Он отвернулся. — Дурак…
— А ну, встань! — рявкнул дядька в берете. — Руки вверх!
Галька поднялся с нар. Но рук не поднял, сунул их в карманы. И пальцы нащупали монетку Лотика. Это неожиданно обрадовало Гальку. Будто надежда появилась.
— Чего орешь? — сказал он. — Твой сарай, что ли?
Вошел красивый офицер с усиками. В белом кителе с двумя звездочками на рукаве. Моряк с бакенбардами опустил револьвер.
— Господин лейтенант, здесь мальчишка. Я боюсь, не лазутчик ли. Грубит, господин лейтенант…
— Кто такой? — резко спросил офицер.
— А вы? — сказал Галька. В нем шевельнулось любопытство: что будет дальше?
— Отвечай, сопляк! — крикнул лейтенант. Он был очень молодой. Он покраснел.
— Сам сопляк! — Гальке нечего было терять.
— Боцман! — полыхая девичьими ушами, отчетливо проговорил лейтенант. — Позовите матроса, пусть всыплет этому… два десятка линьков. Для воспитания вежливости.
— Слу… — начал боцман.
Галька прыгнул, вцепился в ствол, дернул вниз, перехватил рубчатую рукоятку. С усилием, но быстро взвел курок. Револьвер был знакомый — армейский «смит-вессон». Такие «пушки» показывали мальчишкам офицеры форта, когда те наведывались в гости.
Галька опять метнулся на нары.
— Не подходить! Выстрелю, честное слово!.. Мне все равно…
— Идиот, — сказал лейтенант боцману. — Вы будете разжалованы… Эй, ты, брось оружие!
— Стоять! — Галька глянул на лейтенанта поверх ствола. Звенело в Гальке бесстрашие.
Нагнувшись, шагнул в сарай седой моряк. Сухой, стройный, с черным эполетом на левом плече. Сказал спокойно, как дома:
— Что тут за шум?.. Боцман, это ваш револьвер у мальчика? Десять суток ареста по возвращении на базу. Мальчик, оставь оружие, настреляешься еще в жизни.
Этому человеку со спокойным голосом и резко-синими глазами Галька подчинился без промедления. Но и-без-боязни. Бросил «смит-вессон» на солому, шагнул с нар.
— Ты из Реттерхальма? — спросил седой офицер.
Галька кивнул.
— Сбежал, что ли, из дома?
Галька помотал головой. И понял, что расплачется.
— Ладно, разговоры потом, — решил офицер. — Ты, наверное, голоден?.. Лейтенант, распорядитесь… — Он опять повернулся к Гальке. — Я командир монитора. Капитан-командор Элиот Красс».
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ВЫСТРЕЛ Война мониторов 1
— «Теперь пора сказать о мониторах. Они появились в начале семилетней кампании у берегов Рога. Их начали строить обе воюющие стороны. Строили интенсивно, однако не очень умело и без единого образца. Вот и стали появляться в прибрежных водах разномастные бронированные черепахи с тупыми носами и уходящей в воду палубой. Их общим признаком были приземистые стальные башни с орудиями колоссального калибра (с одним или двумя) и очень мелкая осадка. Она давала возможность проходить над отмелями, забираться в небольшие речки и заливы.
Мониторы участвовали в бдокаде прибрежных крепостей, в десантах и гораздо реже воевали друг с другом. Их осадные орудия были мало приспособлены для морских сражений. Возможно, это и привело к тому, что моряки противоборствующих эскадр смотрели друг на друга без особой враждебности. Скорее с профессиональным интересом. Да и что им было делить? Путаные претензии и споры сухопутных премьеров были непонятны даже многим старшим офицерам, не говоря уже о лейтенантах и матросах. С другой стороны, случалось, что командирами сходившихся в бою мониторов оказывались выпускники одной военно-морской академии. Война-то шла, по сути дела, гражданская.
Здесь и причина того, что после Юр-Тогосской конференции в одной эскадре мониторов сошлись бывшие противники.
В результате временного перемирия возникло несколько карликовых государств: Ной-Бельт, Юр-Тогос, Западная Федерация и так далее. А по решению мирной конференции в Юр-Тогосе они слились с основными странами Северо-Западного Рога. Но несколько армейских подразделений и несколько кораблей с обеих сторон отказались признать решения конференции. Тех и других не устраивали многие пункты договора. В частности, то, что непомерно усиливалось влияние короля Наттона Второго и его знаменитого премьера…» Впрочем, ты, наверно, помнишь это из истории… — Пассажир оторвался от тетради.
Мальчик Подергал нижнюю губу, отпустил с резиновым щелчком.
— Не… Ничего я не помню. Мы такого и не учили, по-моему… Северо-Западный Рог — это что? Скандинавия?
— Скандинавия? М-м… Ну, в известном смысле… Ох, прости, пожалуйста, я не учел… Надо бы договориться… — Пассажир снял очки, почесал дужкою кустистую бровь. — Давай так: будем считать, что у истории несколько параллельных путей…
— Как это? — насупленно спросил мальчик. Ему все еще было неловко за недавние слезы и прорвавшееся признание о семейных горестях.
— Говоришь, как… Ну, возьмем хотя бы гипотезу мадам Валентины. Помнишь? У Вселенной, как у кристалла, множество граней, и на каждой история пишется по-своему…
Ну, ладно… А с Галькой-то что?
— Сейчас, сейчас. Потерпи, тут без объяснения о мониторах не обойтись…
«Совещание высших офицеров непокорных полков и кораблей потребовало, чтобы Наттон отрекся от престола, а договор был пересмотрен. Король объявил участников совещания мятежниками. Те, в свою очередь, соединили свои силы и объявили себя отдельной воюющей державой. Сухопутным повстанцам не повезло: королевские дивизии генерала Каптеона обложили их в крепости Ной-Резен. Через месяц крепость сдалась. Крупные морские суда тоже в конце концов иоспускали флаги. Но мониторы капитулировать категорически отказались. Объединенную эскадру, в которой уживались теперь бывшие противники, возглавил семидесятивосьмилетний адмирал Контур.
Старик был бодр, язвителен, талантлив как военно-морской начальник и ничего не хотел для себя. Он хотел республику. Может быть, не столько из-за политических взглядов, сколько из-за давних счетов с Наттоном. Личные были счеты или нет, однако дело адмирала многим казалось справедливым. Контур сидел в форте Черный Обруч, сочинял со своим штабом планы и принимал донесения. Мониторы устраивали рейды, громили береговые укрепления, порой под устрашающую канонаду высаживали десанты и захватывали склады.
Король вел себя дипломатично. О Контуре отзывался с подчеркнутым уважением и в конце концов — по совету премьера — даже официально признал мониторы воюющей стороной. Такой хитрый ход принес ему ряд преимуществ. До этого решения неясно было, как поступать с экипажами мониторов, если они попадали в плен (а такое случалось). По правилам их полагалось вешать, как пиратов и мятежников, но жестокости не могли укрепить и без того шаткий авторитет его величества. А захваченные моряки воюющей стороны попадали под действие гуманного закона о воен нопленных.
Кроме того, раз есть воюющая сторона, можно не отменять давным-давно введенное военное положение. Управлять страной проще: никакой тебе лишней демокра тии…
Через два года адмирал Контур скончался и под пушечный салют мониторов был торжественно опущен в воды залива, в самой глубокой его части. После этого в штабе эскадры начались трения и разногласия, мониторы все чаще действовали на свой страх и риск, в одиночку, не ставя штаб в известность. Некоторые, оговорив почетные условия сдачи, прекратили войну. Но около десятка стальных черепах еще ползали в мелководье, нагоняя страх на обывателей и тревожа гарнизоны.
…Реттерхальм был, казалось, гарантирован от нападения. Правда, песчаный бар в устье — не препятствие для мониторов, но зато несомненным препятствием служил форт. Он стоял над обрывом, на крайнем выступе, который именовался Забрало.
В укреплении было около сорока солдат, семь офицеров во главе с форт-майором Дрейком и шесть орудий береговой обороны. Удары их шестидюймовых конических снарядов не выдержала бы никакая броня. Это знали и командиры мониторов, и гарнизон форта, и жители города. Поэтому, если маяк Реттерхальма и не зажигали по ночам, то исключительно из уважения к инструкциям, а не от страха нападения.
Надо сказать еще про одно обстоятельство. Большинство реттерхальмцев полагало, что мониторы даже не имеют права атаковать их город. Реттерхальм формально не входил в состав королевства, он с давних пор пользовался широкими правами самоуправления, наподобие средневековых вольных городов. Лишь в военное время на него распространялся королевский протекторат. Но это же для защиты, а не для участия в боевых действиях!
Все это было известно капитан-командору Элиоту Крассу. И тем не менее он принял решение о рейде. В условиях войны Реттерхальм являлся союзником короля Наттона, и этого достаточно. К тому же у Красса не было выхода.
После смерти адмирала Контура капитан-командор Красс вышел из состава штаба. Он не хотел участвовать в склоках, он был моряк. Его хорошо знали на флоте. Еще до перемирия он прославился тем, что, командуя парусником «Плутон» под флагом Федерации, одержал победу над юр-тогосским монитором «Клад». Стальной четырехмачтовый винджаммер Красса таранил и утопил плоский броненосец на траверзе маяка Рогур. Красс подобрал спасшихся людей из экипажа противника, вежливо сдал их на нейтральный пароход и пошел чинить смятый в лепешку форштевень.
Юр-Тогосское адмиралтейство подняло крик, что Красс командовал коммерческим судном и не имел права вступать в боевые действия. Красс отвечал, что, во-первых, он шел под военным капитан-командорским флагом, а во-вторых, в действия вступил вынужденно. Кто велел капитану «Клада» соваться наперерез парусной стальной громаде, идущей пятнадцатиузловым ходом?
К сожалению, через месяц после этого случая красавец «Плутон» подорвался и затонул у Ной-Эланда…
Уйдя из штаба, Красс принял под командование монитор с кокетливым и глуповатым названием «Не бойся». Черт возьми, кто кого «не бойся»? Почему?
Был этот, с позволения сказать, корабль тихоходным даже по сравнению со своими собратьями. Маломаневренный и, главное, с нелепым вооружением. Из широкого разъема полусферической башни (похожей на купол обсерватории) смотрела пасть единственного орудия. Это была осадная сорокавосьмидюймовая мортира, кое-как приспособленная для судна. Ее назначение — швырять по навесной траектории круглые снаряды метрового диаметра и чудовищной разрушительной силы. Пока монитор «Не бойся» в составе флотилии принимал участие в осадах и штурмах, мортирное вооружение себя как-то оправдывало. Но время крупных баталий прошло, а одиночное крейсерство с таким громыхальником… Это все равно что человек шел бы в разведку с трехпудовым фугасом под мышкой.
У экипажа было, конечно, и стрелковое оружие, но много ли с ним навоюешь? В крайнем случае высадишься в рыбачьей деревне, чтобы пополнить съестные припасы, вот и все.
Элиот Красс полагал, что такие десанты — не дело. Не война это. Он не был воинственным по натуре и предпочитал ходить на парусниках, но, с другой стороны, он являлся офицером военного флота, противником монархии и давним другом покойного адмирала. И посему считал долгом, пока не заключен мир, не отсиживаться в тихих бухтах.
Командовать монитором оказалось не просто. Одна из причин — та, что в экипаже собрались главным образом бывшие моряки Юр-Тогосской флотилии (и даже два матроса с потопленного «Клада»). Открытых трений не возникало, дисциплина есть дисциплина, однако в отношениях ощущалась натянутость. Из офицеров можно было положиться лишь на механика и старшего артиллериста (он же штурман). Зато помощники капитана… Ладно, первый лейтенант, белобрысый, меланхоличный Клотт, был, по крайней мере, сдержан. Но красавчик Хариус вел себя несносно. В кают-компании монитора — тесном железном ящике с заклепками по стенам — за столом то и дело возникало неловкое молчание после ребячьих дерзостей второго лейтенанта.
— Мальчик еще, — сказал однажды механик. — Ершится и краснеет. Уши бы надрать…
Но это был не просто мальчик, а злой мальчик. Даже подловатый. Запанибрата держался с пожилыми матросами, а молодым, случалось, тыкал украдкой кулаком в зубы… Но в то же время не трус. Первым одобрил план командира: проскользнуть мимо форта к Реттерхальму, атаковать противника с тыла, взять с города контрибуцию, вывести из строя береговую артиллерию, а два орудия установить на мониторе вместо бесполезной мортиры.
Впрочем, другие моряки — и матросы, и офицеры — тоже поддержали Красса. Лишь старший артиллерист капитан-лейтенант Бенецкий счел необходимым заметить:
— Но риск, господа. Если первый выстрел окажется неудачным, мы в ловушке. Вторым выстрелом можно только сигналить о сдаче, он будет холостым.
Все это знали. В орудийном погребе монитора из двадцати ячеек для гигантских бомб оставалась занятой лишь одна. И пополнить боезапас было невозможно: на складах в Черном Обруче таких старинных снарядов не осталось.
Элиот Красс ласково сказал артиллеристу:
— Чтобы выстрел оказался безошибочным — это ваша забота, голубчик. Тогда взрыв нашего «шарика» парализует гарнизон форта и вызовет панику в городе… Вы же виртуоз, господин Бенецкий. Вспомните, как вы рассчитали выстрел по казематам Кондор-хауса.
Артиллерист слегка поклонился, но педантично уточнил, что для расчета необходима привязка на карте: точное место монитора в момент выстрела.
Карта реки и окрестностей Реттерхальма у них была. Хотя и старая, но подробная, крупного масштаба и с точной координатной сеткой. Но как незаметно провести монитор мимо форта, как не напороться на подводные сюрпризы и где поставить броненосец на якорь, с одной картой не решить. Нужен был знающий человек, желательно из местных жителей.
2
Гальку отвели на стоявший у берега монитор, накормили в кают-компании. Куски остывшей каши и мелко рубленную солонину он глотал с жадностью изголодавшегося зверька. И так же, как в зверьке, сидела в нем настороженность. Где он? В ловушке?
Именно ловушку, тюрьму напоминала тесная кают-компания. В иллюминаторах под низким потолком плескалось солнце, но блики его лишь подчеркивали сумрачность железной комнатки. Единственным ее украшением было старинное кресло капитана. Седой командир монитора сидел в этом кресле и, не глядя на Гальку, листал корабельный журнал. Больше никого не было.
Пришел вестовой в голландке (как у Гальки), поставил кружку с кофе, вышел…
Чего хотят эти моряки? Зачем им Галька?
Всю жизнь он знал, что люди с мониторов — это враги. Но с другой стороны… чьи враги? Реттерхальма? Ну и что? Город вышвырнул, выплюнул Гальку, как выплевывают случайно запеченный в хлебе камешек! Обратного пути нет…
Он взял кружку двумя руками, уткнул в нее нос, замер…
Командир монитора шевельнулся и вздохнул:
— Кофе у нас, конечно, бурда. Не то что в кондитерских Реттерхальма. А?
Галька молча поставил кружку. Встретился с командиром глазами. Тот сказал тихо:
— Так что же с тобой случилось, малыш?
Упав щекой на стол, Галька ощутил под скатертью из старого сигнального флага все то же клепаное железо…
Через полчаса офицеры собрались на корме. Монитор укрывала маскировка из ветвей, к двум тонким мачтам и трубе были привязаны березки. И тем не менее железо уже нагрелось от солнца.
— Спит пока… — сказал Красс. И посмотрел на Хариуса. — Нет, лейтенант, это не лазутчик. Если бы вы видели его во время разговора и вспомнили свое детство, то поняли бы это сразу. Лазутчики так не плачут… Впрочем, вы в том возрасте, когда детство еще не вспоминают… — Он не мог отказать себе в удовольствии кольнуть нахального мальчишку.
Лейтенант Хариус заполыхал щеками и ощетинил усики.
— Воспоминания детства не входят в мои служебные обязанности, господин капитан-командор! Что же касается должности второго лейтенанта…
То вы исполняете ее отменно, не спорю, — примирительно закончил Красс. — Не кипятитесь, я приношу извинения… Господин Бенецкий, карта при вас?
Да… Вы полагаете, капитан, мальчик может быть полезен?
Надеюсь. Мне кажется, сама судьба его нам послала.
Судьба-то судьба… — Артиллерист потрогал свое штатское пенсне. — Однако… все-таки есть какие-то правила чести… Получится, что мы толкнули ребенка на предательство…
Мы на войне, господин штурман! — опять вскинулся Хариус.
К сожалению… — сказал Красс. — И к тому же пока что все наоборот: город предал мальчишку и толкнул его к нам… Я поговорю с мальчиком сам.
Разговор произошел в полдень, когда Галька отоспался на узком клеенчатом диване кают-компании.
— И что же нам с тобой делать? — задумчиво спросил Красс. Увидел, как напрягся Галька, и поправился: — Точнее, что ты сам-то думаешь делать?
Галька пожал плечами, обмяк.
— Мы могли бы оставить тебя на мониторе. Если хочешь… — Капитан-командор смотрел мимо Гальки в открытую дверь. — Но… мы ведь, как ни верти, люди разных воюющих сторон. Реттерхальм поддерживает короля.
— Я ни с кем не воюю, — хмуро сказал Галька. — А Реттерхальм я ненавижу.
— Ты в этом уверен? Там твои родные…
— Родные… Они ведь не целый город. А он… — Галька проглотил komqk и вскинул опять набухшие слезами глаза. — Я тогда подошел к окну и смотрю… Под луной хорошо видно… город. И он спит. Им всем наплевать на меня… А я… Почему я должен их любить?
Он говорил искренне, и капитан-командор Красс — много повидавший и много понимающий человек — уловил эту искренность мальчишки.
— Тогда ты, можеть быть, не откажешься помочь нам?
— А… что надо делать?
— Надо проводить в город двух наших людей и посоветовать им, как найти опытного человека: лодочника, рыбака. Того, кто проведет ночью монитор мимо форта, в протоку. И укажет за островом подходящее место для якорной стоянки…
— А… если этот человек не захочет?
— Ну… мы ведь на войне, мой мальчик. Не стану скрывать: заставим.
Чувствуя внутреннюю дрожь и понимая, что окончательно уходит из прежней жизни, Галька сипло проговорил:
— А зачем специальный человек? Я сам знаю протоку. Мы с ребятами ее вдоль и поперек исплавали. И на лодке, и так… У вас есть карта?
— Господин Бенецкий! — крикнул Красс в открытую дверь.
ЗАРЯД № 3 1
Капитан и штурман не скрыли от Гальки ничего, рассказали весь план. За исключением одной детали (но она сейчас не играла роли). Галька в свою очередь толково показал на карте, что если взять от главного фарватера влево еще за полмили до форта, а в протоке держаться почти вплотную к острову, то мелкосидящий броненосец нигде не заденет дна… Да, Галька понимает, что конструкция дурацкая и днище у монитора хлипкое, в отличие от палубной брони. Но ведь осадка йсего полтора метра, а глубина, если идти точно, не меньше сажени.
Да, если будут видны контуры берегов, Галька покажет, где брать курс на протоку. Вот тут, на створе старой мельницы и Маячной башни… Что? Откуда знает, что такое створ? Учил же он географию! И память у него лучше всех в классе, это даже латинист Ламм признавал…
Якорная стоянка за островом? Удобнее всего вот здесь. Глубина небольшая, но хватит. Правда, когда рассветет, с форта могут увидеть за Китовым островом мачты и даже трубу.
— Это уже неважно, — сказал артиллерист.
— А какое там дно? — спросил Красс.
— Плотный песок… Надо только быть осторожным, в одном месте под водой торчит чугунная свая, — честно сказал Галька. — Но я покажу где… Я там все помню».
— Это он по правде? — Мальчик свесил с койки голову и от волнения колотил по одеялу ногами. — Неужели он решил стать предателем?
— Ты считаешь, что это все-таки предательство?
— Конечно!.. Ой, я знаю! Он заманит их в ловушку?
— Ты вспомни. Там, в песчаном дне, торчала не одна балка. Самая высокая — та, с которой нырял Лотик. Но были и другие, только глубже. Над ними монитор мог пройти и стать на якорь. Впритирку, но мог…
— Ну и что?
— «…Галька помолчал, глядя на карту. Потом осторожно, будто пробуя слова на ощупь, проговорил:
— Только я все-таки боюсь…
— Чего же, мальчик? — Красс, видимо, принял Галькину осторожность за простую детскую робость.
— Вот ваша пушка… — Галька через плечо глянул на артиллериста. — Она ведь вверх стреляет, по крутой дуге, да?
— Естественно. Это же мортира.
— Такая громадная… А от отдачи бывает осадка?
— Случается. При хорошем заряде иногда палубу заливает… А! Ты боишься, что коснемся дна?
Галька кивнул и быстро отвернулся. Пусть думают, что и правда боится. За монитор.
— Ты умница, — сказал Красс. — Но если дно плоское и песчаное, ничего не случится. Другое дело, если острые камни… Но ведь их там нет?
— Камней там нет…»
Мальчик поколотил ногой о ногу — словно таким способом поаплодировал.
— Здорово он придумал!.. Только… Ой…
— Что?
— Но ведь бомба-то все равно вылетит! По городу!..
Пассажир покивал:
— Речь шла и об этом… Но Гальке объяснили, что выстрел — это лишь демонстрация силы, чтобы ошеломить противника. Гальку даже спросили:
" — Что ты посоветуешь? Куда послать бомбу, чтобы не было напрасных жертв?
— Вот сюда. — Галька уткнул палец в карту, в левый берег с планом набережной и ближних улиц. — Здесь площадь перед магистратом, а домов, где кто-то живет, нет… — Он успокоенно подумал, что дом, где родители, брат и Вьюшка, вообще на другой стороне холма. И все же спросил с тревогой: — А правда никого не поубивает?
Красс переглянулся со старшим артиллеристом, похожим на гимназического учителя географии. Тот объяснил:
— Видишь ли… здание магистрата образует дугу и создает замкнутое пространство. Оно с фасада, конечно, будет разрушено… В нем кто-нибудь есть по ночам?
«Только желтая кожаная кукла», — с болью вспомнил Галька и покачал головой.
Артиллерист продолжал:
— Не скрою, что во многих домах вылетят стекла, кого-то скинет с кровати… Могут быть случайные жертвы… Это война…
Капитан-командор смотрел на Гальку твердо, честно. Его лицо сейчас было как у древнего Красса — римского полководца из учебника истории. И Галька невольно подтянулся, встал прямо.
— Галиеи, — сказал капитан-командор. — Мы же не скрываем: ты идешь на серьезное дело. На суровое. Ты выбрал сам… Я должен предупредить: если ты задумал хитрить, лучше не надо. Получится, что ты диверсант и воюешь против нас. А для тех, кто воюет, законы одинаковы — и для взрослых, и для мальчиков. И как поступают с диверсантами и шпионами, ты знаешь…
Крупные мурашки пробежали по Гальке от затылка до пяток. Но он не отвел взгляда.
— Я знаю.
— Может быть, тебе лучше уйти? Мы дадим тебе на дорогу еду, одежду, деньги… Я не хочу для тебя беды.
— А вы не боитесь, что я вернусь в город и расскажу, как вы собираетесь напасть? — в упор спросил Галька.
— А мы в этом случае и не пойдем в Реттерхальм, — тем же тоном ответил Красс. — Значит, не судьба. Мы изменим планы.
Галька опустил голову и с полминуты думал. Красс и Бенецкий терпеливо и понимающе молчали. Галька нащупал в кармане монетку Лотика. И глянул на Красса чисто, спокойно.
— Нет, я проведу вас в нужное место. Как договорились.
Он проводит. И обратно монитору не уйти. А ненавистное серое здание магистрата — с его башнями, часами, арками и узкими тюремными окнами — пускай рушится и горит. Пусть!
«Это вам не трамвай, — подумал Галька. — Звону будет побольше… А все-таки Брукман врет. Я помню точно: трамвай затормозил раньше, чем я прыгнул…»
2
Трое суток монитор простоял у лесного мыса в шести милях от Реттерхальма. Замаскированный, незаметный с реки и с берега. Да и некому было замечать, место безлюдное.
Большинство моряков жило на берегу, в сарае и шалашах.
Экипаж монитора состоял из сорока человек. Многие относились к Гальке добродушно, звали в свой кружок во время обеда, дарили вырезанные из сучков свистульки, иногда со смехом просили:
— А ну, юнга, расскажи, как ты обезоружил нашего боцмана.
— Да ну… — скромно говорил Галька. — Это я с перепугу. Думаю, как выстрелит! Вот и дернул за дуло…
Были и такие, кто не обращал на Гальку внимания. Но только двое смотрели враждебно: лейтенант Хариус открыто заявил, что не верит мальчишке ни на грош, а боцман… ну, этот ясно почему злился.
Галька жил свободно. Выстроил себе индейский виг вам, часами бродил но лесу… Или ляжет в траву и смотрит на облака. И думает. О многом…
Думал он и по ночам, один в вигваме. И чем дальше, тем изнурительней становились мысли. Не давала ему покоя история с трамваем. Ведь он же затормозил раньше!.. Ну а самое главное — Гальке уже не казалось, что это будет здорово, когда бомба разнесет магистрат. И когда полетят повсюду стекла… Пусть даже никто не пострадает, но наверняка обрушатся хрупкие фонтаны, повалятся из ниш чугунные рыцари (в том числе и Колченогий Том, за которым любил укрываться Галька, когда играли в пряталки). И возможно, вспыхнут пожары…
Шар на маяке, наверно, лопнет и осыплется битыми стеклами от ударной волны.
…А если вдруг выстрел будет неточным и снаряд врежется в гущу домов?!
Утром Галька так и спросил у старшего артиллериста:
— А если выстрел будет неточным?
— Это исключено, — спокойно, даже чуточку лениво ответил Бенецкий. — Я понимаю твой страх, но он напрасен. Пойдем.
Он повел Гальку в недра монитора, где пахло сухим теплым железом. Включил фонарик. Открыл в зарешеченной каютке стальной клепаный рундук.
— Смотри.
Внутри лежали длинные холщовые мешочки с черными буквами и цифрами.
— Это артиллерийский порох. Так называемые картузы. Каждый взвешен с аптечной точностью. Они закладываются в орудие по строгому расчету. Потом на дуге прицела устанавливается точнейший угол стрельбы. И не просто так, а в соответствии с таблицами… Вот их сколько… — Артиллерист повел фонариком. На железной полке стояли одинаковые серые книжки. — Это гарантирует стопроцентное попадание… Ну? Я тебя убедил?
— Почти, — вздохнул Галька. — Только все же непонятно… Если можно так точно рассчитать, почему артиллеристы часто мажут по цели?
— A-а… — засмеялся Бенецкий. — Это из-за спешки, в бою. При стрельбе по движущимся целям. Бывает, что не до расчетов, да и расстояние до целей известно не всегда… И бывают разные артиллеристы… — Пенсне Бенецкого отразило фонарик. — Да… Мы не промахнемся. Дистанция измерена по карте с точностью до сажени. Вес пороха высчитан до грамма: артиллерийский заряд номер три.
Отклонение снаряда возможно на два-три метра, не более… А дальше — дело десанта. Одна его часть — прямо в город, в гости к господину главному советнику Биркеиштакку… Ты ведь обещал показать к нему дорогу? Ну вот… А вторая группа занимает перешеек и блокирует форт. Господам артиллеристам придется сдаться. Развернуть крепостные орудия в тыл, в сторону монитора, они сразу не смогут, на это надо не меньше трех часов. И вести бой с десантом не станут, мы к тому времени возьмем заложников в городе…
— Биркенштакка, — сумрачно сказал Галька.
— Охотно. Чтобы доставить тебе удовольствие.
Но Галька удовольствия не испытывал. Вид пороховых картузов у него вызвал совсем другие чувства. И мысли. Пока, правда, неясные.
Но скоро мысли и планы стали точнее.
Монитор «Не бойся» готовился к боевой операции. Механик фан Кауф сменил белый костюм на замызганную матросскую робу и с помощниками возился в машине. Матросы перешли с берега в тесные, ржавые кубрики. Чистили карабины.
Карабины! Значит, возможна стрельба не только из мортиры! Значит, кого-то могут и убить? Из-за него, из-за Гальки!
Но он держался спокойно. Он думал…
Отход был назначен на три часа ночи. Луна в те вечера вставала ущербная, но светила еще ярко. Заходила она ближе к утру. Когда скроется луна и в мутных признаках рассвета едва проступят очертания берегов, нужно будет подойти к протоке. Самое время, чтобы проскользнуть в сонном сумраке мимо форта за остров. В форте и городе, конечно, никто не ожидает, что в тесную протоку посмеет сунуться вражеский броненосец береговой обороны…
Перед заходом солнца старший артиллерист Бенецкий с матросами зарядил мортиру. В присутствии любопытного мальчишки. Они с помощью рокочущего механизма поставили ствол орудия вертикально, уложили в него картузы с порохом и закрыли их поддоном — круглым щитом из досок, похожим на крышку для бочки. Пороховая камера была уже, чем основной канал ствола. Поддон лег внутри орудия на кольцевой выступ.
— А снаряд почему не закладываете? — сунулся Галька.
Бенецкий терпеливо объяснил, что снаряд очень тяжелый. Если его взять из трюма и вкатить в мортиру сейчас, нарушится центровка судна. Поэтому бомба ляжет в орудие перед выстрелом. Галька кивнул и спросил деловито:
— А не получится, что порох в мортире за ночь впитает влагу из воздуха?
Старший артиллерист посмотрел на мальчишку с уважением.
— Ты разумно мыслишь. Порох должен быть сухим. Однако всему своя мера. Артиллерийскому пороху необходимо еще и дышать… Дождя не ожидается, все будет в порядке. В крайнем случае зачехлим ствол…
А пока оставили мортиру открытой, глядящей вверх.
Белый флаг 1
Как бы давая понять, что считает себя членом экипажа, Галька обратился к озабоченному Крассу официально:
— Господин капитан-командор! Позвольте мне до отхода спать не на судне, а на берегу, в своем вигваме.
Почему так? — недовольно отозвался Красс.
Ну… В кают-компании пусто… Одному там как-то… Галька умело изобразил смущение.
— Боишься, что ли? — уже добродушно спросил Красс.
— Нет, но… неуютно все-таки… — Галька вздохнул и посопел.
— А в кубрике с матросами?
— Там же места нет! И духотища.
— А в шалаше одному не страшно?
— Там я привык… Да вы что, боитесь, что я убегу? — спросил Галька с совершенно настоящей обидой.
— Не боюсь, ступай. Но от шалаша ни на шаг. Выспись как следует, голова должна быть ясная, глаза зоркие… Перед отходом пошлю за тобой матроса.
— Есть…
Галька улегся в вигваме и стал опять думать, думать, думать… И чем больше думал, тем яснее понимал, какую глупость он сделал. Да, здесь он в стороне от подозрительных глаз. Но ведь проникнуть с берега на палубу труднее, чем из кают-компании. У трапа наверняка стоит часовой! Конечно, он пропустит Гальку, но незаметно к мортире тогда уже не пробраться.
От досады Галька постукался головой о плоскую трехлитровую флягу, что лежала у него в изголовье. Галька спал по-походному: на постели из веток, под старым бушлатом, с жестяной флягой вместо подушки… Фляга на Галькииы удары отозвалась насмешливым гудением: сам намудрил, сам и выкручивайся.
Сквозь ветки вигвама пробивался лунный свет. Он то сиял, то угасал — это бежали с северо-востока темные клочковатые облака, небольшие и быстрые. И шумел ровный ветер. Галька стиснул в кармане монетку. В эти дни он с ней не расставался. Иногда вынимал и разглядывал. Лицо мальчика на монете порой казалось задорным, словно он подбадривал: не робей. А иногда оно было укоризненным: ты что же это делаешь, Галиен Тукк?
Сейчас монетку не разглядишь. Галька просто погладил ее пальцами и выполз из шалаша.
Из береговых кустов он смотрел на монитор. Фигура в берете с помпоном, со стволом над плечом, конечно, торчала у трапа.
…Но бывают же счастливые моменты! Когда серое широкое облако набежало на луну, кто-то громко сказал из носового люка: .
— Эй, Уно! Иди-ка подсоби, шарнир заело…
Да, дисциплина была на мониторе «Не бойся» так себе. Виданное ли дело, чтобы на боевом корабле человек ухо дил с поста? Но балда Уно подкинул за спиной карабин и пошел…
Давай, Галька!
На палубе, в тени высокой дымовой трубы (от нее пахло, как от железной угольной печки), Галька переждал сердцебиение. Так… Все, кажется, в порядке. Сейчас — самое главное. Самое отчаянное. Жизнь или смерть. Тут уж как повезет…
Святые Хранители и ты, мальчик-трубач, помогите Гальке! Подарите ему минуту. Всего одну минуту! Сделайте, чтобы никто не взглянул на мортиру, когда Галька, перегнувшись через край ствола, приподнимет одной рукой край поддона, а другой выдернет из-под него два или три картуза с порохом! И еще пол минуты — чтобы скользнуть обратно…
А потом — пусть идут к Реттерхальму, пусть палят! Бомба хлопнется в воду, не долетит! И тогда…
А что же тогда? Галька не знал. Даже и не думал Вернее, думал, но неясно, урывками. На выстреле с недолетом его планы кончались. Дальше будь что будет. Месть моряков, когда они догадаются о диверсии? Пусть… Да и не до мести им будет… Благодарность спасенного города? Галька горько усмехнулся: не нужна ему благодарность. Пусть наденут лавровый венок на желтую кожаную куклу с надписью «Galien Tuck».
Главное, чтобы он, Галька, до конца выполнил все задуманное. Чтобы никто не смог сказать, будто он предатель.
…Часового все еще нет. На корме глухие шаги вахтенного офицера. Но верхушку орудийной башни с кормы заслоняет труба… Скоро ли опять спрячется луна? До мортиры несколько шагов. Палуба закидана ветками. Они свежие, не хрустят, да к тому же Галька тыщу раз играл в индейцев и знает, как ходить по веткам бесшумно… Вот снова тень. Пошел!..
Полукруглая башня была высотой в человеческий рост. Вертикально поднятый ствол мортиры торчал над ней еще на метр. Галька взлетел к нему по изогнутому трапу с поручнями, подпрыгнул, лег животом на широкий срез орудийного ствола. Живот свело от железного холода. Из жерла дохнуло запахом пушечной смазки и селитры. И темнота…
До поддона совсем недалеко. Еще перегнуться, чуть-чуть… Ногти зацарапали доски… В досках есть отверстия, — наверно, чтобы порох дышал… A-а, вот, нащупалось одно! Галька вцепился, потянул. Ну! Сильнее!
То ли доски были слишком тяжелы, то ли деревянный круг притерся к стенкам ствола — поддон ни с места. Этого Галька не ожидал. Святые Хранители… Ну еще немного сил!
Нет, если тянуть со всей отчаянностью, тело перевешивает и можно свалиться внутрь мортиры. А время-то летит! Вот-вот кто-нибудь появится рядом, взглянет на башню… Кажется, уже идут! Ветки шелестят!
Галька сам не помнил, как ухнул головой в орудийное жерло. И съежился, затих — будто перепуганный котенок на дне бочки. Не заметили?.. Ох, кажется, нет…
Сюда, в короткую стальную трубу мортиры, звуки доносились перепутанно, смутно, словно отражались от неба: шум деревьев на берегу, шаги, кашель, голоса… По голосам Галька различил, что недалеко от башни остановились двое. Разговаривают. Да и слова можно разобрать.
— Дисциплина, как у сезонников на угольной барже… — Это Красс.
— Не мудрено. Столько месяцев бродячей жизни. Мы уже не военное судно, а полудикий капер. — Это артиллерист. — И сколько еще все продлится, одному Богу ведомо…
Красс ответил неразборчиво. Бенецкий сказал:
— Нервы. В лунные ночи меня теперь тянет на скорбные откровения… Я понимаю, мы офицеры. Но иногда здравый рассудок просто вопит: «Господа, кому это нужно?»
— Вопит, — коротко согласился Красс.
— Да… Подумать только, какой ерундой мы занимаемся. А ведь я, автор монографий по баллистике, профессор прикладной математики, мог бы сейчас преподавать в академии флота. А вы — командовать клипером где-нибудь на австралийской линии.
— Пожалуй, — согласился Красс. — Хотя едва ли… У меня есть другие планы. Но уж конечно, не это ползанье на брюхе по мелководью… Однако что поделаешь, господин Бенецкий. Пока нет мирного договора, нам просто некуда деться.
— Вам хотя бы в одном проще: вы, к счастью, без семьи…
— Тоже мне счастье, — вздохнул Красс.
— В данном положении — счастье… А у меня жена и сын остались в Регеле. Генерал Барен, тамошний военный губернатор, тупая скотина, объявил их гражданскими пленными. Сынишка ходит в местную школу, и ученики в классе травят его… Если позволите, капитан, когда мы возьмем заложников, я обменяю Биркенштакка на семью…
— Разумеется. Если штаб согласится… А впрочем, на кой черт нам спрашивать согласие у штаба?
— Я тоже думаю… Сыну десять лет. Кстати, очень похож на нашего… юного лоцмана, только помладше. Я, когда на этого мальчишку смотрю, просто… знаете, в глазах щиплет… И до того горько, что мы его обманываем… Что?
Галька перестал дышать. Стало очень тихо. Казалось только, что шелестят темные облачные клочья — они летели над Галькой в зеленом круге неба. Наконец Красс громко сказал:
— А в чем, собственно, мы его обманываем? Я изложил наш план мальчику подробно и честно.
— Да, — так же громко отозвался Бенецкий. — Я не это имел в виду. Я о том, что вынуждены вмешивать ребенка в военные дела и не можем ничем помочь ему.
— Придет время — поможем… Эй, Уно Квак! Смирно! Вы почему ушли от трапа? Вы, кажется, часовой!
— Но господин капитан… — Голос Уно был плачущим. — Боцман позвал, велел помочь развинтить ша…
— Молчать! Если вы еще раз покинете пост, я просто-напросто прикажу расстрелять вас! Ясно?
— Так точно, господин капитан-командор… Только я ведь на минуту. И боцман… И от кого караулить-то? Пусто кругом… Что за служба, господи! Лучше уж и правда на тот свет…
— Ступайте, не хнычьте… Послушайте, Бенецкий, ударный спуск уже поставлен на затравку?
— Да, капитан. Только надеть капсюль…
— Мне пришло в голову… — Красс, кажется, коротко засмеялся. — Что, если грохнуть сейчас холостым? Для учебной тревоги. Чтобы встряхнуть этот юр-тогосский сброд, именуемый экипажем!.. Во время переполоха увидим, кто чего стоит. А зарядить орудие снова мы до отхода успеем, запасной порох еще есть… А?
— Как скажете, капитан, — бодро отозвался Бенецкий.
— Пожалуй, так и сделаем. Несите капсюль.
— Есть… Хотя…
— Что?
— Шесть миль до города. В форте услышат выстрел…
— A-а, черт. Вы правы. А жаль…
Голоса заглохли. Капитан и артиллерист, видимо, отошли.
Наверное, каждый поймет, что почувствовал Галька в конце их разговора. На миг казалось, будто он уже летит в огненном вихре прямо к луне. Еще секунда — и кинулся бы из мортиры! На глазах у офицеров! Но не кинулся, только отчаянно зажмурился…
Да, смелый был мальчишка Галиен Тукк, ничего не скажешь… И, лишь услышав об отказе от «учебной тревоги», он совершенно ослаб от только что пережитого ужаса. Понял, что еще немного — и, наверно, случилась бы неприятность, которая бывает при очень большом испуге у малышей.
И тут, хотя и обмирал Галька, искоркой прыгнула в нем ехидно-озорная мысль: вытащить порох не удалось, но зато была полная возможность подмочить его.
А в самом деле!.. На войне героическое часто перемешивается… ну, скажем, с не очень героическим. Да и ладно, лишь бы порох сделать сырым…»
— Ну и что? Подмочил? — хихикнул мальчик.
— Н-нет… Прикинув, Галька понял, что у него не хватит, гм… внутренних запасов. Заряд-то громадный. Но идея осталась!
«Галька, не дыша, глянул из-за края ствола. У но понуро стоял у трапа, к башне спиной. Офицеры ушли. Галька дождался летучего сумрака, бесшумно перекинулся из мортиры, тихо съехал с башни на ветки палубы, в тень. Неслышно скинул штаны и голландку, пояском привязал одежду к голове. И скользнул без плеска с пологой, уходящей в воду палубы.
«А-а-ай!..» (Но молча, про себя!) Ох и неласкова ночная августовская вода! И не вздрогнуть, не булькнуть. Надо ждать, чтобы медленное течение само пронесло тебя вдоль монитора дальше, за поросший ивняком выступ берега.
…Когда Галька выбрался на сушу, каждая клеточка тела трепетала от озноба. А ведь это было только начало…
Он кружным путем пробрался в свой вигвам. Ремешком притянул к груди большую плоскую флягу. Посидел на корточках, всхлипывая от холода и страха. И снова нырнул в кусты. В ночь.
Всю одежду Галька оставил в шалаше. Он понимал, что никакая материя, даже самая малая тряпица, не высохнет быстро. На поддоне от нее надолго останутся влажные пятна, их заметят, когда станут закладывать снаряд.
Галька скользнул в воду в сотне шагов от монитора, выше по течению. И опять стиснул его холод. Галька присел на песчаном дне. Забулькала фляга, отяжелела. Галька заткнул пробку. Погрузившись по самые ноздри, он отдался течению.
Не заметили, не окликнули. Вот и покатая стальная туша. Цепляясь за швы броневых плит, рассаживая колени о заклепки, Галька полез по скату палубы в тень башни.
Голый человек при опасности чувствует себя вдвойне беззащитным. Галька обмирал при мысли, что его могут поймать такого. Сколько будет злобного гогота! Неужели так и расстреляют? В приговоре Галька не сомневался: Красс предупреждал, что законы войны одинаковы для взрослых и для мальчишек… Хотя, наверно, стрелять не решатся: город недалеко. Вздернут на гафель? Или проще — камень на шею? Иди, мол, откуда вылез…
Да, но сперва пусть поймают! Галька слегка разозлился. Нащупал языком за щекой монетку — свой талисман. «Мальчик из далекого города Свет Звезды, ты ведь поможешь, верно? Ты самый смелый из всех Великих Хранителей. Потому что маленькому быть смелым гораздо труднее, чем взрослому…»
То ли помогла монетка, то ли просто удача шла рядом с Галькой. Никто не заметил его, когда он, прикрываясь ветками, обсыхал в тени башни. Он дрожал, и в недрах монитора ощущалось дрожание: там разводили пары. Никто не видел, как скользнул он в ствол. И не звякнула фляга, не стукнули под пятками доски. И вода лилась бесшумно — из горлышка в отверстие поддона. Правда, медленно лилась: порох впитывал ее неохотно. Однако и это кончилось, хотя длилось мучительно бесконечно.
И обратный путь был удачным, если не считать, что река показалась еще холоднее.
…А через два часа, когда он в вигваме, под бушлатом, все еще вздрагивал во сне от пережитого, раздался добродушный голос:
— Эй, лоцман! Капитан кличет, пора…
2
Когда над рекой стала растекаться белесая муть рассвета, монитор «Не бойся» вошел в протоку.
…Весь путь до назначенного за Китовым островом места Галька стоял рядом с рулевым, на решетчатом мостике. Здесь же были Красс и Бенецкий. Галька шепотом советовал:
— Чуть левее… Вон на тот большой куст… Теперь держитесь у самого берега…
Машина утробно рокотала в железных внутренностях броненосца, мостик вибрировал. Галька оглядывался на трубу. Из нее вылетали сгустки дыма и смешивались с сумраком. Луны уже не было. Иногда мерцали в дыму искры. Красс велел зачехлить ствол мортиры. А то, мол, одна искорка в отверстие поддона — и орудие шарахнет раньше времени.
— Не так ли, юнга? — Красс положил Гальке на плечо узкую ладонь. — Раньше времени нам шум ни к чему…
Ха! Они не знали, что никакие искры не страшны верхним картузам пороха!..
Мутно чернеющий на обрыве форт миновали благополучно. Теперь справа, за горбатой и мохнатой спиной острова, тихо двигался силуэт Маячной башни. Машина еле бормотала. Когда башня спряталась за верхушкой растущего на острове кривого ясеня, Галька быстро сказал:
— Здесь…
Сразу грохнула на корме, заскрежетала якорная цепь.
Услышат же! — притворяясь испуганным, сказал Галька.
— Теперь это уже неважно, — сухо отозвался Красс.
Отдали и носовой якорь, чтобы монитор не развернуло течением. Зарычали брашпили, подтягивая цепи.
Быстро светало, небо над островом сделалось желтым, шар на Маячной башне заискрился. Матросы сбрасывали ветки с двух десантных шлюпок. Было зябко, и пахло болотом.
Загудела броневая палуба — это от носового люка везли по рельсам на тележке снаряд, чудовищную черную тыкву с похожей на хвостик фитильной трубкой.
Даже по тогдашним понятиям система была допотопная: орудие гладкоствольное, заряжалось с дульной части, фитиль бомбы поджигался вручную в строго рассчитанный момент. Галька все это знал. Теперь он следил, как опускается ствол и матросы вкатывают с тележки снаряд в пасть мортиры.
Бенецкий, Красс и следом за ними Галька сошли с мостика на палубу. Старший артиллерист скрылся в башне, — видимо, встал к прицелу. Желтая заря тускло отражалась в гладкой стали броневого купола. Опять заурчали смазанные шестерни, короткий орудийный хобот стал подниматься.
Подошли командиры десантных шлюпок лейтенанты Клотт и Хариус. Они, как и старшие офицеры, были в белых парадных кителях, с кортиками.
— Господин капитан-командор, честь имеем доложить: десантные группы к высадке готовы!
— Минуту, господа…
Капитан смотрел на мортиру. Снова загудел механизм, нехотя повернулась башня. Жерло мортиры глядело уже не в сторону Маячной башни, где был центр города, а… куда же?
Галька бросился к Бенецкому, который вышел из башни:
— Это же неправильно!.. Не туда!.. Там же форт!
— Именно, — сказал Бенецкий и мягко отстранил Гальку.
— Но вы же… Вы говорили…
— Увы, мой друг, военные планы — дело изменчивое.
Галька отчаянно оглянулся на Красса:
— Вы обещали, что никто не пострадает! А там люди!
— Мальчик, эти люди — солдаты. Как и мы. Идет война, без крови она не бывает.
— Вы меня обманули! — яростно сказал Галька.
Красс ответил невозмутимо:
— Война не бывает без обмана. Ты это знаешь не хуже нас.
«Знаю! — подумал Галька. — Ладно, так вам и надо! Куда ни стреляйте, все равно будет недолет!»
Но нужно было до конца играть свою роль.
Галька оскорбленно отступил и скрестил руки.
— Я не пойду с десантом! И ничего не буду показывать в городе.
— Еще бы, — хмыкнул лейтенант Хариус. — Ты бы нас там завел… Капитан, этот петушок, видимо, еще не знает, что его трюк с порохом раскрыт?
Галька обмер.
— Не понимаю, что вы с ним нянчитесь, господин Красс, — развязно сказал Хариус. — Надо было сразу спустить кожу с этой голой макаки. И посадить его в цепной ящик.
— А корабль бы повели вы? — холодно отозвался Красс.
Значит, все пропало! Его, Гальку, надули, как последнего дурачка! Гады! Лицемеры!
Ярость и обида рванули Гальку с места.
— Сам ты макака паршивая! — И он, уже ни о чем не думая, врезал красавчику Хариусу по щеке растопыренной пятерней!
Тот пискнул, взревел, ногой сбил Гальку на палубу…
— Лейтенант! — рявкнул Красс. — Вы что! Смирно! Вам в десант, а вы воюете с мальчишкой! Позор!
Хариус шумно дышал. Галька от удара в живот корчился на железе, глотал воздух. Подошел Бенецкий.
— Он сильно тебя ударил?
— Вы паршивые пираты, — плакал Галька.
— Боцман, отведите мальчика на бак и не спускайте с него глаз, — приказал капитан-командор.
— Да зачем он нам? — тихо сказал Бенецкий. — Пусть плывет на берег и уходит.
— Он нужен мне. Для последней беседы…
Боцман Яков наполовину отвел, наполовину оттащил Гальку на бак. Посадил на крышку люка. Пудовыми ручищами держал за плечи — не убежишь. Да и сил нет бежать. И куда? И главное, зачем? Как теперь жить? Из-за него сейчас погибнут артиллеристы форта. Кому какое дело, что Галька этого не хотел? Кто поверит? Он привел монитор… Он предатель…
И пострадают-то люди, которые перед Галькой ни капельки не виноваты. Артиллеристы не подписывали приговор об изгнании! Они не считаются жителями города, они — форт.
Галька с мальчишками столько раз бывал в форте! Ребят всегда встречали, как приятелей. Угощали солдатской похлебкой, показывали пушки, дарили старые пряжки от поясов и кокарды. С форт-лейтенантом Зубом Галька играл в шахматы. Толстый, добродушный сержант Бурх недавно, перед началом школьных занятий, подстригал Гальку портновскими ножницами…
Сейчас эти люди спят и ничего не знают. А через несколько минут многих из них не будет!
Святые Хранители, за что же это все?
Сквозь пелену боли, сквозь мокрые ресницы Галька увидел, как ушли к острову десантные шлюпки. Потом из черных кустов замигал фонарик.
— Пора, — отчетливо сказал Красс.
Все прижали к ушам ладони. И боцман! Отпустил Гальку. Лишь сам Галька не шелохнулся.
…Выстрел показался ему негромким. Но упругая сила смяла, швырнула Гальку с люка. Он ударился спиной о палубу. А палуба наклонно ушла вниз, ее залила вода, смыла последние ветки, накрыла Гальке грудь. Мортира выдохнула снаряд, и, лежа навзничь, Галька видел, как уходил в небо черный мячик. Сперва в небо, а потом по дуге все ниже… Галька стремительно сел. Не на-а-а-до! Он вцепился в падающую бомбу глазами. Каждым своим нервом, всем своим отчаянием он словно стремился задержать в полете этот смертельный метеор.
Кромка острова прятала от сидящего Гальки бастион. Снаряд упал за остров. Сейчас грохнет! Сейчас… Сей… Что?
Тонко звенела в ушах тишина. Да где-то, кажется, раздался всплеск…
Мокрый Галька поднялся. Вода нехотя уходила с палубы. По железу гулко бегали. Кричали. С острова опять засигналили фонариком.
— Сообщают, что недолет! — громко сказал Красс. — В чем дело, Бенецкий?
— Этого не может быть!
— Увы, это есть. Вы же слышите, нет взрыва. Снаряд упал в воду, фитиль не догорел… Вон и шлюпки возвращаются. — Красс был странно спокоен.
Бенецкий бросился в башню, — наверно, осматривать прицел. Вышел. Сказал:
— Все в порядке.
С размаху въехала на пологую палубу шлюпка, выскочил Хариус. Завопил:
— Как это понимать, капитан-лейтенант Бенецкий?!
— Никак, — сумрачно ответил артиллерист. — Этого не понимаю я и уж тем более не поймете вы…
— Это из-за пороха!
— Я же заменил заряд у вас на глазах.
— Значит, тот мальчишка успел снова?! Когда?! Это была ваша вахта, господин капитан-командор!
— Хариус, вы идиот, — устало сказал Красс.
— Вы оскорбляете меня сегодня второй раз!
— Я называю вещи своими именами.
— A-а… да! Вы правы, я идиот! Я не понял сразу, что вы изменник! Вы потворствовали сопляку, чтобы погубить корабль! Вы тайный королевский лизоблюд!
— Лейтенант Хариус, сдайте оружие, вы арестованы…
— Вы сами арестованы! — Хариус выхватил «смит-вессон».
В это время подошла вторая шлюпка. С грохотом высаживались матросы, шагнул на палубу Клотт.
— Лейтенант Клотт! Капитан Красс предал экипаж и корабль, я арестовал его! — Хариус почти визжал. — Вы поддерживаете меня?
— Охотно, — флегматично сказал Клотт.
— Вот и имей дело с недоучившимися кадетами, — заметил Бенецкий.
— Вы, Бенецкий, тоже арестованы! Матросы, это изменники! Помните, что вы — люди Юр-Тогоса, а эти северные аристократы… они всегда мечтали переметнуться к королю! Взять их!
Матросы, топоча и сопя, окружили капитан-командора и артиллериста. Суетливо сдернули с них пояса с кортиками.
— Судя по всему, они спелись еще на острове, — хладнокровно заметил Красс. И через головы низкорослых юртогосцев оглянулся на Гальку.
Галька стоял расставив мокрые ноги и улыбался. Боли уже не было. Только спокойная и немного усталая радость. Потому что это случилось. Благодаря Гальке или нет — неважно! Все равно недолет! Вот вам!..
А может, это ты помог, маленький Хранитель? Спасибо!
Хариус тоже взглянул на Гальку. Лицо лейтенанта стало злорадно-задумчивым. Он почесал подбородок рукояткой отобранного у Красса кортика и небрежно распорядился:
— А мальчишку расстрелять немедленно…
Галька ничего особенного не почувствовал. Он был как во сне. Или в театре, где смотрел пьесу про другого мальчика. Что-то громко говорили Красс и Бенецкий, что-то насмешливо отвечал Хариус. Гальку толкнули, прислонили к фок-мачте. Стуча сапогами и прикладами, против него встали шесть человек. Подошел седьмой — с веревкой. Сейчас… Но страха так и не было. Потому что теперь все равно. Что еще оставалось Гальке в жизни? Город спасен, а идти ему, изгнаннику, все равно некуда. О том, что Реттерхальм мог принять его обратно, у Гальки и мысли не было. Все равно это уже не его город…
Красавчик Хариус прокричал команду, шеренга выровнялась. Троих в шеренге Галька не знал, не помнил. А трое других были растяпа Уно, тощий пожилой дядька с длинным прозвищем Щербатая Щука и пухлый низенький матрос по кличке Каша. Каша позавчера подарил Гальке свистульку, а Щербатая Щука любил спрашивать, показывая редкие зубы: «Ну расскажи еще разок, как ты обезоружил боцмана? Гы-ы…»
И сейчас выстрелят в Гальку?
«Не заплакать бы», — подумал Галька. Плакать хотелось не от боязни, а просто от грусти. Грусть была смешана с ясным и гордым пониманием, что погибает он победителем.
Кажется, надо припомнить всю свою жизнь… Ничего толком не вспоминается. Ну, тогда самое главное! Маму, отца, братьев. И Вьюшку! «Маленькая моя…» Галька глотнул и сжал кулаки в карманах. В правом — монетка с профилем мальчишки-Хранителя.
«Мы ведь все сделали как надо, верно?» — сказал ему Галька. Словно товарищу.
— Хариус, вы спятили? Это ребенок! — отчетливо произнес в толчее матросов Красс.
— Вы сами говорили: военные законы одинаковы для всех, — громко отозвался лейтенант. — Эй, ну что ты там возишься?! — Это он матросу.
Тот подступил с веревкой к Гальке.
— Постойте! — звонко сказал Галька. — У меня последняя просьба! Так ведь полагается — последнее желание! Да?
— Ну… давай, — хмыкнул Хариус в наступившей нехорошей тишине.
— Не привязывайте… Куда я денусь?.. И еще… Скажите в городе, что это я… все сделал! — Галька уже не помнил, что недолет случился по непонятной причине.
— Гм… не привязывайте! — ненатурально бодрым голосом сказал Хариус. — А насчет известия городу — это гарантировать не могу. Я не собираюсь там беседовать!
«Они что? Еще не поняли?» — удивился Галька. И открыл рот, чтобы крикнуть: «Дураки, куда вы денетесь!»
Но Хариус скомандовал:
— Матросы, на-а… прицел!
Галька увидел черные дула, прижался спиной к мачте. Мачта была железная, круглые заклепки впились в сиину. «Как пули, — мелькнуло у Гальки. — Только с той стороны». И еще представилось, как пули пройдут навылет и горячо расплющатся под спиной о металл. Но этого он уже не почувствует… Лишь бы не заплакать… Монетка впилась в ладонь…
— Матросы, не стреляйте! — крикнул Бенецкий. — Вы с ума сошли! Горожане вам не простят смерти мальчика! Вас самих расстреляют в плену!
Карабины закачались.
— Простят! — с горьким бесстрашием крикнул Галька. — Я им не нужен, я изгнанник! Стреляйте!
— Кто вам сказал, что мы собираемся в плен?! — визгливо отозвался Хариус.
— А вы надеетесь выбраться отсюда? — Это Красс.
— Да! Матросы! Мы пробьемся! Броня крепкая, а из гаек и запасных заклепок мы сделаем картечь. Мы дождемся сумерек, обманем врага!.. Уйдем вверх по течению!
— Господи, какой дурак! — вздохнул Красс. — Клотт, скажите хоть вы ему…
— Мы будем пробиваться, — сказал Клотт.
Галька подался вперед:
— Вы же не сойдете с места! Вы сидите на сваях! — И отчаянно испугался: а если не вышло? Но ведь такая отдача!..
Над люком показалась голова механика фан Кауфа.
— Господин капитан, беда! Днище пробито, вода так и хлещет! Балкой заклинило вал!.. Что здесь происходит, господа?
Красс решительно взял у Хариуса свой кортик.
— Еще раз вынужден подчеркнуть, что вы идиот, Хариус. У вас же нет патента на командование монитором. Если вы попадете в плен в роли командира корабля, вас повесят, как пирата. А заодно и вас… — Он обвел глазами матросов. — Как разбойничий экипаж.
Шеренга перед Галькой вразнобой опустила карабины.
Справа, за оконечностью острова, громко застучала машина. Видимо, от форта шел паровой катер — парламентеры или разведка.
Надевая пояс, капитан-командор Красс приказал:
— Лейтенант Хариус, потрудитесь поднять белый флаг… Что? Вам еще не приходилось поднимать белый флаг? Тем более. В жизни все полезно испытать…
…Когда катер был уже совсем близко, а понурый экипаж выстроился, на полузатопленной палубе, Красс вполголоса сказал задумчивому Гальке:
— Со сваями было рассчитано безукоризненно… А как тебе удалось повторить это дело с порохом?
— Не повторял я, — честно сказал Галька. — Сам ничего не понимаю…
— Ну, все равно, — усмехнулся Красс. — Хотя ты и жив, я выполню твою последнюю просьбу.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ЛЕГЕНДА О КОМАНДОРЕ Памятник 1
Капитан-командор сдержал обещание. Он рассказал офицерам форта, какую роль в поражении монитора сыграл бывший житель Реттерхальма Галиен Тукк. И жизнерадостный румяный форт-майор Дрейк облапил и расцеловал Гальку, исколов ему щеки могучими усами. Он велел немедля седлать лошадей — для себя, для Гальки и эскорта, чтобы с триумфом доставить героя в город.
— Ты умеешь ездить верхом?
— Можно я останусь у вас? — тихо попросил Галька. Он был задумчив.
— А… почему так?
— Ну, я же… меня ведь прогнали. Я даже права не имею…
— Тысяча каленых ядер в глотку этой обезьяне Биркенштакку! — взревел форт-майор. — Он будет бросать цветочки под копыта твоей лошади!
— Нет, не надо, — вздохнул Галька. — Можно остаться?.. Только пусть кто-нибудь скажет у меня дома, что я здесь…
Пленных матросов отправили под конвоем в город, на попечение магистрата. Офицеров монитора форт-майор Дрейк оставил в форте и обошелся с ними по всем правилам военного этикета:
— Господа, надеюсь, вы дадите слово не покидать форт и не предпринимать враждебных действий, пока не будут закончены переговоры об обмене и прочие формальности?.. Благодарю… Нет-нет, кортики оставьте при себе, трофейное оружие мы привыкли брать лишь в бою…
Дать слово отказался лишь лейтенант Хариус, и его, без кортика, с извинениями заперли в камере гауптвахты. Остальных тоже разместили в камерах, но не запертых и обставленных с некоторым комфортом. Лейтенант Клотт держался с прежней невозмутимостью, хотя Красс, Бенецкий и фан Кауф разговаривали с ним сквозь зубы. Вскоре в столовой на квартире командира форта за вполне приятельским столом собрались офицеры-артиллеристы и их пленники. Хлопнули пробки… Хариусу отправили бутылку в камеру… Да, это были времена, когда в воюющих армиях еще сохранялись остатки рыцарских понятий и правил.
Галька тоже был за столом. Неловко прятал под стул босые ноги и жадно грыз говяжий мосол из жаркого. Форт-майор Дрейк провозгласил тост в честь отважного и находчивого юноши («Вы ведь не станете отрицать этих его качеств, господа моряки?»). Офицеры, звеня шпорами, поднялись. «Юноша» тоже встал — немного испуганный, неловкий. Встретился глазами с прямым взглядом Красса и опустил голову. Вытер пальцы о мятые штаны. И вдруг понял, что хочет спать — неодолимо, смертельно.
Проснулся он в казарме, на солдатской койке, от которой пахло сеном. Барабанщик форта, парнишка лет пятнадцати, тряс Гальку за плечо:
— К тебе пришли.
Оказалось — мама и Вьюшка… Ну, тут, конечно, все было: и объятия, и слезы. Впрочем, не долго. По правде говоря, Галька не был в семье любимцем. Нельзя упрекнуть родителей, что они относились к нему хуже, чем к другим детям, но… Старших женить пора, масса забот, а младшая — она и есть младшая, над ней больше всех дрожишь. Средний же — ни то ни се… Вот и привык Галька жить без особых нежностей.
— Ты чего домой не идешь? Пошли! — требовала Вьюшка.
Галька упрямо качал головой. Мать вздохнула:
— Ободранный-то какой, мятый. Мы тебе выходной костюм принесем.
Галька вздрогнул — вспомнил, как стоял в этом костюме перед советниками магистрата.
— Не надо, господин Дрейк мне форму обещал.
К вечеру и правда готово было обмундирование. Солдат-портной взял одежду барабанщика, слегка укоротил брюки, немного ушил куртку — вот и все. Форт-майор сам вручил Гальке эполеты вольноопределяющегося. Он считал, что после всего случившегося юный Галиен Тукк имеет полное право на мундир артиллериста.
Галька улыбнулся и откозырял. Но за улыбкой осталась прежняя задумчивость и печаль.
— А где же я тебя устрою? — вдруг озадачился форт-майор. — В казарме теснота… Вот что, живи у меня!
— Если позволите, я хотел бы поселиться с капитан-командором Крассом, — тихо сказал Галька.
Майор изумился:
— С пленным? В камере?
— Ну и что?.. Я ведь и сам вроде как… преступник. Изгнанник, — опять улыбнулся Галька.
— Снова ты об этом! Да знаешь ли, что из столицы приехал королевский комиссар? Разбирать твое дело!
— Специально из-за меня?!
— Представь себе! Подробностей не знаю, но скоро этот господин сам будет здесь…
— Ну, будет так будет… — Прежнее иевеселое настроение не оставляло Гальку. — Значит, можно мне с капитаном?
— А он согласится?
— Я надеюсь.
Несколько раз на дню Галька встречался с Крассом взглядом и чувствовал: между ними какая-то ниточка.
Появился в форте Лотик. И с ним опять Вьюшка. Оба воззрились на Галькину темно-красную куртку с золотыми шнурами. Галька взъерошил у Лотика косматую голову.
А монетка твоя у меня. Больше не терял. Помогла…
Лотик счастливо вздыхал.
— А что за столичный господин приехал? Знаешь?
Лотик знал, конечно. И Вьюшка знала. Человек этот приехал потому, что в столице стало известно о бессовестном решении магистрата насчет Гальки…
— Это мадам Валентина в столицу сообщила, — торжествующе сказал Лотик. — Мо-мен-тально!
— Как моментально? У нас же нет телеграфа!
Лотик серьезно, даже с некоторой важностью разъяснил:
— Мадам Валентина и не такое может. Я с тех пор, как у нее живу, всего насмотрелся.
— У нее живешь? Почему?
— Он ушел от теток! — ввернула Вьюшка. — Потому что они против тебя тогда бумагу подписали!
Галька вопросительно посмотрел на головастика. Тот глядел исподлобья — и смущенно, и упрямо. Галька опять взлохматил его волосы.
— Мы завтра еще придем, — сказал на прощание Лотик.
Едва они убежали, прибыл верхом из города королевский комиссар. Это был сухой человек в черном мундире военного чиновника министерства юстиции. С длинным гладким лицом, со светлыми и совершенно бесстрастными глазами. Офицеры, став шеренгой, откозыряли. Посланец из столицы попросил дать ему возможность побеседовать с Галиеном Тукком наедине. Форт-майор Дрейк провел их к себе.
И тут же все разъяснилось.
Сухо и очень понятно чрезвычайный представитель правительства сообщил, что решение реттерхальмского магистрата незаконно по ряду причин. Главная — та, что в военное время, находясь под королевским протекторатом, город вообще не вправе принимать решений по вопросам хражданства. Всякое самоуправство чревато большими бедами, любое нарушение законов подобно ржавчине разъедает государственный механизм. Это во-первых.
А во-вторых, вагоновожатый Брукман признался пред ставителям магистрата и пастору Брюкку, что появление мальчика на рельсах не было причиной аварии. Трамвай затормозил раньше, сам собою. Что произошло с тормозами, Брукман и теперь не может объяснить. Но вины господина Тукка здесь нет.
И далее. Полагая, что пора укреплять уважение к законодательству, соблюдение которого особенно необходимо при военном положении, королевская прокуратура сочла необходимым отнестись к неправомерным действиям магистрата и граждан Реттерхальма со всей суровостью — с применением статьи одиннадцатой закона 1655 года о так называемом «праве на ответное действие». По этому закону человек, пострадавший несправедливо, может требовать, чтобы виновные были наказаны теми несчастьями, которые испытал он сам.
— Я хочу знать ваше мнение по этому поводу, сказал военный советник юстиции первого класса фан Риген.
Галька смотрел на ровное, полукруглое пламя керосиновой лампы. Опустишь веки — и в глазах от пламени зеленые язычки…
— Вы меня поняли, господин Тукк? — спросил фан Риген.
— Я вас понял. Я думаю, — тихо сказал Галька.
— Думайте.
Галька молчал минут десять. Фан Риген больше не торопил его. Сидел прямой, бесстрастный. Исполнитель закона.
— Хорошо… — прощептал Галька. — Пусть они уходят…
— Что?
— Я сказал, — громче повторил Галька и сощурился на пламя. — Пусть они уходят из города.
— Кто?
— Все, кто подписал приговор.
— Но… — Впервые в лице фан Ригена мелькнуло что-то живое. — Это почти все жители.
— Пусть! — сказал Галька.
Советник юстиции встал:
— Хорошо, это ваше право. Мне нужно подготовить бумаги. Я приеду завтра после полудня, и мы утвердим решение.
2
Галька спал в одной камере с капитан-командором Крассом. В каменной сводчатой комнате с зарешеченным окном, но на роскошной кровати, которую поставили по приказу форт-майора.
Красс не стал возражать против соседства. Серьезно кивнул и не удивился.
Говорили они с Галькой о чем-то перед сном или нет — неизвестно.
Неизвестно также, снилось ли что-нибудь Гальке. Можно лишь предположить, что ему приснился город, покинутый жителями. Хорошо бродить по знакомым улицам, не встречая никого. Обидчики ушли, город остался. Поскрипывают на узорчатых кронштейнах вывески, падают первые желтые листья. Подбежала чья-то собачонка, ластится. Галька идет по заросшему трамвайному пути и держит за руку Вьюшку. Спрашивает:
«Ну что, разве нам плохо?»
Вьюшка молчит.
Утром опять пришли Лотик и Вьюшка. Галька сидел между каменными зубцами на верхнем ограждении бастиона. Отсюда видна была река, Китовый остров, а за ним — трубы и мачты севшего на сваи монитора. К мачтам все еще были привязаны березки.
Вьюшка была молчаливая и какая-то испуганная. Галька притянул ее к себе. Лотик тихо сказал:
— Галик… а можно мои тетки останутся в городе? — Он смотрел под ноги, вертел босой пяткой на каменной плите. Словно хотел высверлить лунку.
— А зачем тебе тетки? Ты же ушел от них.
— Ну, все равно… Они старые, куда они денутся? А ту бумагу… они ведь ее просто по глупости подписали… — Головастик нерешительно поднял глаза.
— Пусть остаются, — глядя на заречные луга, сказал Галька.
— Ладно… А школы не будет?
— Ребята не подписывали приговор, — сумрачно отозвался Галька. — Пусть остаются… и ходят в школу, если охота.
— А учить кто будет? — вздохнула Вьюшка.
Галька хмыкнул:
— Можно подумать, главная радость в школе — учителя…
Лотик сказал:
— А учитель Ламм не подписывал ту бумагу. Отказался.
— Ну?! — изумился Галька.
— Ага… Говорят, он ответил: город, который выгоняет своих детей, достоин всякого наказания. Это он по-латински сказал, я не помню точно…
— Правильно сказал, — буркнул Галька. — Видишь, значит, он тоже останется.
Лотик медленно покачал кудлатой большой головой.
— Нет. Ему некого будет учить. Ребята не захотят жить без родителей. Без них плохо, это я уж по себе знаю.
Они помолчали. Припекало солнце, и по зубцам прыгали воробьи. Заиграл горнист, у солдат начинались занятия.
— Им теперь и защищать-то некого будет, — как-то не по-настоящему хихикнул Лотик.
Галька неуверенно проговорил:
— Я думаю, ребята из нашего класса… и из твоего, Лотик… пусть остаются с родителями.
Вьюшка подпрыгнула:
— И еще пекарь Клаус, ладно? А то как мы без хлеба?
Пекарь Клаус был большой, толстый, добродушный.
Зачем он подписал Галькино изгнание? Тоже не подумал? Без хлеба человеку нельзя. А без своего города, без родного дома можно?
Лотик осторожно проговорил:
— К тебе пастор Брюкк хотел прийти… Он тоже не подписывал…
— Ну и пусть остается в городе. Зачем приходить-то?
— Он не останется, он вчера ночью в церкви говорил, что всегда будет вместе со своими прихожанами…
«Ночыо…» — подумал Галька. И представил, что вчера вечером творилось в городе, когда фан Риген сообщил о решении Галиена Тукка!
Но лицо у Гальки не изменилось.
Выошка крутнулась:
— Ой, вон они идут! Пастор Брюкк и еще!
По дороге, что соединяла город с Забралом, шла толпа мужчин и женщин. Человек двадцать. И ребятишки. Седой пастор в своем черном одеянии медленно шагал впереди.
Галька вскочил.
— Выошка, Лотик! Идите навстречу! Скажите… что я не могу, я болею, пусть потом… Ну идите же!
Сам он бросился в свою камеру, упал на кровать, лицом зарылся в подушку. Капитан-командор Красс поднялся из кресла и долго смотрел на Галькину вздрагивающую спину.
— Вот теперь я спрошу о главном, — наконец сказал он. — Стоило ли спасать город, чтобы потом он обезлюдел?
— А вам-то, что? — глухо спросил Галька.
— Мне-то? Да ясности хочется, — как-то по-стариковски вздохнул Красс. — Или ты спасал не город, а лишь свою честь?
— А что? Этого мало?
— Отнюдь… Я ведь только спросил.
Днем Галька встретил советника юстиции фан Ригена во дворе форта. И еще издалека громко сказал:
— Пусть все остаются! Все! — Он стиснул кулаки, и в правом была монетка. — Кроме Биркенштакка…
На закате, когда горнист сыграл вечернюю зорю и был спущен крепостной флаг, пришел Биркенштакк. Послали за Галькой. Он встретился с главным советником магистрата у левой башни, под зажженным фонарем командирского поста.
Биркенштакк был в дорожном сюртуке и плаще, в мягкой и мятой шляпе (тоже цвета дорожной пыли). Он показался Гальке совсем усохшим. Только покрытый жилками клюв был прежним.
Биркенштакк сказал:
— Господин Тукк. У меня есть полтора часа до окончания срока, в который я должен покинуть город. И мне хотелось бы…
— Меня зовут Галиен. Галь… Галька, если нравится… Что вам хотелось бы, господин Биркенштакк?
— Поговорить. Пять минут…
— Пойдемте.
Красса в камере не было. Солдат внес горящую лампу. Дверь осталась открытой. Было тихо, с реки сладко пахло осокой. Где-то кричали лягушки.
— Садитесь, господин главный советник, — не то сказал, не то вздохнул Галька. И сел на край кровати.
А Биркенштакк опустился в кресло. Шляпу положил на колени, как в церкви.
— Я не долго задержу вас, гос… Галиен. — Жилки на носу Биркенштакка вспухли. — Ваше решение справедливо. И хотя я родился и вырос в Реттерхальме и немало сделал для города, я не прошу о снисхождении. Сейчас я уеду в деревню и…
— Может, хоть перед отъездом вы скажете мне правду? — перебил Галька.
— Я за этим и пришел…
Галька перебил опять:
— Я думал все эти дни. Трамвай стал тормозить раньше, чем я бросился к рельсам, Брукман сам признался, и вы всё знали… Зачем вы меня выгнали, если я не виноват?! — Галька закашлялся, в горле заскребло.
— Я скажу… Вы виноваты, хотя и невольно. В том-то и дело. Вы не хотели, чтобы трамвай ехал дальше, и он стал…
Галька непонимающе моргал.
— Да, гос… Галь. Это так… Мало того. Несколько человек видели, как один из вагонов навис над обрывом, но вдруг опрокинулся назад, хотя по всем законам тяготения должен был покатиться вниз… Его тоже задержали вы… Галь.
— Как?!
— Видимо, силой взгляда и воли… Или еще как-то. Откуда мне знать природу этих явлений? Я не мадам Валентина… Но я знаю другое: жизнь в городе сбалансирована, отношения в нем ясны и просты, люди счастливы, насколько это можно в наше время. Такое благополучие достигнуто немалыми трудами. Легко ли было добиться, чтобы все притерлись друг к другу, чтобы все было налажено, чтобы даже мадам Валентина вписалась в этот уравновешенный быт… И вдруг появляется еще один койво!
— Кто?
— Койво… Вы не знаете? Так называли в старину людей, обладающих необъяснимыми свойствами.
— Какими?
— Разными… Одни умеют читать чужие мысли, другие видят, что напечатано в закрытой книге, третьи могут взглянуть на человека и сказать ему, чем он болен… При некоторых светятся или загораются предметы… А бывают такие, как вы… Койво не всегда знают о своих свойствах и не всегда умеют ими распоряжаться. Не все мудры, как мадам Валентина. Но все — опасны. Случается, что из-за них на город сыплются молнии, а над реками рушатся мосты…
— И вы решили от меня избавиться! Таким образом!
— Я отвечал за город… Галь. А сказать правду я не мог ни вам, ни другим. Кто знает, к чему бы это привело?
— А по-моему, вы просто трус!
— Возможно… — вздохнул Биркенштакк. — Но трусость тоже бывает доблестью. Особенно когда один отвечаешь за многих. Когда вы станете старше… Галиен… вы поймете, что быть трусом порой гораздо труднее, чем смелым.
— Да ну? — насмешливо сказал Галька.
— Да, мой друг… Впрочем, сейчас я понимаю, что в случае с вами моя трусость была неоправданна. Думал, что имею дело с обычным мальчишкой, а вы проявили взрослую смелость, находчивость и гражданское мужество. Вы настоящий мужчина.
Галька медленно покачал головой:
— Я мальчик, господин Биркенштакк… На мужчин я насмотрелся в эти дни, ну их к черту. Они и предать могут, и убить… беззащитного… Слава Хранителям, я еще ни в чем таком не замешан. И нечего меня сравнивать с мужчинами. Тоже мне похвала…
— Возможно, вы правы… Но вот что хочу сказать перед уходом. Может быть, на решение о вашем изгнании меня толкнула сама судьба. Не будь этого, вы не спасли бы город…
— Так можно что угодно свалить на судьбу.
— Я не оправдываю себя. Я благодарю судьбу и Хранителей… Галь, я вчера в городе говорил с форт-лейтенантом Зубом. Он передал мне, что рассказывали пленные моряки. Подмоченный порох они заменили, а бомба все-таки не долетела… Галь, вы смотрели на летящий снаряд?
«Да! — эхом отдалась в нем разгадка. — Да! Я смотрел! Я старался удержать снаряд!..» Неужели такое возможно?! Галька взглядом уперся в лампу. Есть у него такая сила? Что же лампа не шевельнется?
Биркенштакк проследил за его взглядом. Осторожно сказал:
— Видимо, это случается лишь в отчаянные минуты, при большом напряжении души.
Галька прикрыл глаза. В них мелькали темные бабочки. Он услышал:
— Я сказал вам все. Прощайте… господин Галиен Тукк.
— Стойте! — Галька вскинул веки.
Биркенштакк был уже на ногах. Его тень на стене напоминала громадную птицу тукана из учебника зоологии. Тень замерла.
Галька, давя в себе неловкость, сказал:
— Не все ли мне равно теперь… Оставайтесь в городе, если хотите.
Биркенштакк не скрыл радости. Стрельнул птичьими глазами:
— В самом деле? Вы… благородный человек!.. Но ведь фан Ригену нужен документ…
— У вас есть бумага?
Биркенштакк суетливо достал из кармана сюртука блокнот и вечную ручку с золотым пером — толстую, как палец пекаря Клауса. Вырвал листок.
Галька написал:
«Пусть советник Биркенштакк остается. Галиен Тукк».
— Вы благородный человек, — опять сказал Биркенштакк. Он протянул руку за документом.
Галька придержал бумагу.
— Одна только просьба, — хмуро проговорил он. — Никогда больше не выгоняйте ребят из дому… Пусть они хоть какие будут — не выгоняйте…
Тень закивала клювом. Потом Биркенштакк виновато сообщил:
— Но от меня уже ничего не будет зависеть. На днях меня переизберут…
Галька отдал бумагу и встал:
— Прощайте.
— До свидания… Галь.
— Прощайте.
В город Галька так и не вернулся. Еще три дня прожил в форте. Прибегали Вьюшка и Лотик, приносили от мадам Валентины разноцветные леденцы. Галька спросил у Лотика:
— Так и живешь у мадам Валентины?
— Ага… Тетки зовут назад, но я пока не иду… хотя она меня вчера нашлепала. — Он забавно сморщил нос.
— За что? — засмеялся Галька.
— А я из желтой бумаги окошко сделал, нарисованное. И на кристалл налепил. Ну, помнишь, тот, что в горшке растет… Она же сама говорила: это Вселенная, дом всего человечества. А если дом, почему без окошка?.. Она потом сама засмеялась и говорит: «Ладно, пусть так и будет…» Галька, а ты скоро домой вернешься?
Вьюшка тоже спрашивала:
— Ты скоро домой?
Галька рассеянно улыбался и лохматил Вьюшке и Лотику волосы.
Форт-майор Дрейк предлагал Гальке стать барабанщиком. Обещал ему через полгода чин капрала, а к пятнадцати годам офицерское звание форт-прапорщика.
— Я подумаю, — кивнул Галька.
Вечером на верхней площадке бастиона к нему подошел барабанщик Ведди.
— Галь… я спросить хочу… Если не так, ты не сердись.
Галька улыбнулся: чего, мол, сердиться-то?
— Там, на мониторе… — неловко сказал Ведди, — Когда расстрелять хотели… очень страшно было?
Галька подумал. Даже зажмурился, чтобы лучше вспомнить.
— Тогда… нет, казалось, что не страшно. А сейчас, когда вспоминаю, кажется, что было страшно… Понимаешь, я будто в двух человек превратился. Будто один стоит у мачты… и ему наплевать, гордый такой… — Галька усмехнулся. — А другой в сторонке и боится. Страх — он как бы отодвинулся… Ну, как в школе, на математике, множитель за скобки выносят…
Ведди серьезно вздохнул:
— Кажется, я понимаю… Видишь ли, для меня это очень важно. Ты уже испытал такое, а я еще нет… А ведь придется, наверно. Мы люди военные.
Галька опять улыбнулся:
— Это ты военный. А я пока не решил.
…Наутро Галька ушел из форта. Рано, до побудки. Оставил на кровати форму барабанщика, надел старые штаны и голландку и ушел.
Никто не знает куда. Следы его в этой истории теряются. Одни говорят, что он отправился в столицу, где учился старший брат. Другие — что просто пошел бродить по дорогам, искать…»
— Что искать? — слегка недовольно спросил мальчик.
Кто его знает? Может, приюта… желтое окошко, вроде того, которое наклеил на кристалл Лотик. А то ведь как получается: Вселенная — она, конечно, общий дом, но у каждого ли есть в этом доме свой угол и окошко с огоньком?.. Впрочем, слышал я еще одну версию. Будто Галька ушел из форта с капитаном-командором Крассом.
— Значит, Красс бежал?
— Нет, здесь проще. Он и Бенецкий дали подписку не участвовать больше в этой войне, и фан Риген их освободил. Бенецкий отправился к семье, а Красс… Кто его знает.
— Может, он стал опять командовать клипером? А Галька сделался юнгой?
— Ты знаешь, это тоже вариант. Хотя, пожалуй, излишне романтический… А точно ничего не известно. Зато известно другое…
«Жители Реттерхальма, благодарные Гальке за спасение города, воздвигли ему памятник.
Местный скульптор вылепил Гальку из глины в натуральный рост. Потом отлил из бронзы. И поставили Гальку на низком, почти незаметном постаменте на краю обрыва. Впереди бастиона. Хорошо получилось. Галька стоял в своей старой голландке с закинутым на плечо галстуком, в мятых штанах с пуговицами у колен, босой, с неровно подстриженными, упавшими на уши волосами. Чуть исподлобья смотрел на реку, где за островом ржавел на сваях монитор со своей чудовищной мортирой.
Всем памятник нравился. Только Вьюшка говорила, что осенью и зимой Гальке холодно. Когда она приходила в форт, обязательно набрасывала бронзовому Гальке на плечи белую куртку. Вернее, китель. Его забыл в камере капитан-командор Красс.
У кителя были тяжелые медные пуговицы, их любил разглядывать Лотик. А потом одну даже оторвал украдкой. Дотику нравилась эмблема на пуговице: якорь, за ним скрещенные шпаги, а сверху — не то корона с острыми зубцами, не то встающее из-за горизонта солнце.
Лотик вместе с Вьюшкой часто бывал в форте. Форт майор Дрейк уговаривал Лотика, когда он подрастет, записаться в барабанщики, и тот обещал подумать. Но скоро форт разоружили, а гарнизон перевели в крепость Ной-Турм; город стало не от кого охранять.
Да и незачем.
Реттерхальм начал стремительно пустеть, а затем его не стало и вовсе…»
— Почему? — спросил мальчик.
— Много причин… После сильных дождей в ту осень пошли на холме сильные оползни, дома стали разрушаться… Молодежь не хотела оставаться в Реттерхальме, считала его глушью. Население старело и таяло. Мосты и замки рушились…
А главная причина, пожалуй, в том, что города, которые предали своих детей, долго не живут.
— Даже если одного?..
— Даже если одного, — тихо, но строго сказал Пассажир.
— А Углич? — будто самому себе прошептал мальчик.
Пассажир не удивился.
— Углич не предавал царевича. Его предали бояре, кучкй негодяев. Город здесь ни при чем.
— А от Реттерхальма ничего не осталось? Даже развалин?
— Может быть, камни да фундаменты. Но все поросло лесом.
— Но вот вы говорите: город предал Гальку…
А они ведь потом… Ну, исправились. Даже памятник поставили.
— Памятником разве откупишься?.. Впрочем, он-то как раз сохранился.
— Печальный какой-то конец, — вздохнул мальчик. Пассажир развел руками — в одной тетрадка, в другой очки.
— И это, значит, вся история? — с какой-то еще надеждой спросил мальчик.
— Вся… По крайней мере, на сегодня. Давай-ка, голубчик, спать. Середина ночи.
Пока Пассажир читал рукопись, пароход один раз отходил от пристани. Но сейчас опять стоял с заглохшей машиной.
— Когда же я попаду домой?.. — шепотом сказал мальчик.
3
Пассажир выключил свет. Мальчик повозился, устраиваясь под одеялом. Он повернулся к стенке и стал уходить в зыбкий мир полусна, когда знаешь, что не спишь, но видения уже ярки и осязаемы.
Мальчик умел быть хозяином в этом мире. Он перенес себя на солнечный пустырь, где росли подорожники, дикая ромашка и одуванчики. В траве валялись разбитые фанерные ящики. Прыгали воробьи, неподалеку резвились малыши. Мальчик сел на ящик, подозвал к себе Майку.
Это была не нынешняя Майка, а поменьше, пятилетния. Мальчик посадил ее к себе на колено. Почти машинально и незаметно для сестренки ладонью скользнул вдоль ее позвоночника (он похож был на крупные, проступавшие под платьицем бусы). Не толкнется ли в ладонь упругий тревожный комочек? Еще не боль, а предвестие боли, о которой пока Майка и сама не ведает?
Нет, сегодня все хорошо. Мальчик взял светлую косу с пушистой кисточкой на конце. Пощекотал Майкин нос. Она сморщилась, чихнула. Шутливо ткнула брата кулачком. Засмеялась — теплая, живая, легонькая. А потом насупилась:
«Ты почему уехал?»
" Куда? "
«В Лисьи Норы! «Куда»… Не притворяйся»
«Но ведь я еще не уехал. Это будет потом. Пока еще все в порядке», — хотел объяснить мальчик. Однако он понимал, что ничего не в порядке. Эта Майка, прибежавшая к нему в ласковом и тревожном полусне, все знает и понимает. Вот она, кстати, сделалась уже старше. Как нынешняя, семилетняя.
Мальчик растерянно взялся за нижнюю губу. Майка хлопнула его по руке:
«Оставь эту дурную привычку! Сию же минуту!»
Это были ее любимые слова. Если рассердится, то к месту и не к мёсту: «Сию же минуту!»
Но сейчас она только притворялась, что сердится. Она просто за него беспокоилась.
«Почему ты сбежал в Лисьи Норы? А?»
Сейчас не было ни смысла, ни сил обманывать. И мальчик с прихлынувшей горечью прошептал:
«А ты… только все время с ней. Все «мама» да «мама»… Конечно, ты нашу маму не помнишь…»
Она смотрела внимательно и по-взрослому. И так же по-взрослому сказала:
«Глупенький… А что же мне делать?»
Он потянулся к губе, спохватился, закусил ее. Потом шепотом спросил:
«А мне?»
А глаза у Майки были… ну в точности мамины. Майка опустила ресницы и вполголоса проговорила: «Сперва отсюда сбежал, потом из Лисьих Нор. Знаю почему».
Настоящая Майка ничего знать не могла. Но мальчик не заспорил. Покорно спросил:
«Почему?»
«Сам знаешь… Она вовсе не вредная. И не строгая. Анна Яковлевна… Наоборот… Ты просто испугался, что привыкнешь к ней, как я к ма… к тете Зое… Ну, ты что? Ну йерестань… Сию же минуту!»
«Дура…» — всхлипнул мальчик. Но не прогнал Майку,! а прижал покрепче. И стал ее косой вытирать себе щеки. Здесь, сейчас это было можно…
Потом сделалось холодно, потому что вместо солнца оказалась луна, и ее часто закрывали бегущие облака. Пахло речной водой, сырым песком, камышами. Мальчик передернул плечами. Майка соскочила у него с колен и накрыла его большой парусиновой курткой.
«А Галька не продрогнет?» — хотел спросить мальчик, но сон уже уносил его в темную глубину. Там, как сорван ные листья, летели другие мысли, тревоги, лица…
Билет на среду 1
Пассажир проснулся поздно. Пароход бодро шлепал колесами. Было солнечно, змеились на белом потолке блики. Мальчик сидел на стуле в привычной позе — задом наперед. Кулаками упирался в коленки, подбородком — в спинку стула. Неотрывно и слегка насупленно смотрел на Пассажира.
Пассажир улыбнулся, не шевелясь:
— Доброе утро… Или уже день?
— Ни то ни се. Одиннадцать часов.
— Ого! Вот это я поспал! А ты давно поднялся?
— Не… Но уже позавтракал. И по берегу по гулял.
— По берегу? Мы вроде бы плывем…
— Недавно поплыли. А то стояли, стояли… В буфете схема речного пути висит, я посмотрел, мы от мыса Город всего километров на двадцать отошли… — Мальчик не отводил глаз. Он будто говорил про одно, а в уме держал что-то более важное. И беспокойное.
— Ну… а что хорошего в буфете? — спросил Пасса жир. — Кроме схемы.
— Я чай да вафли взял. Остальное все какое то… — Мальчик поморщился. И вдруг раскачал стул с боку на бок и подъехал к постели. Как на лошадке. Разжал кулак. — Вот… Мне буфетчица это на сдачу дала.
На ладони лежала белая монетка размером с пятнадцатикопеечную. Виден был маленький мальчишечий профиль, а вокруг головы — крошечные буквы.
— Так и написано: «Фрее стаат Лехтенстарн», — неловко сказал мальчик. — И вот… Он перевернул монетку. На другой стороне было число десять, а под ним колосок.
Пассажир смотрел, приподняв голову от подушки.
— По-нятно… Говоришь, на сдачу?
— Я ей положил несколько пятнадчиков, а она два обратно отдала. Говорит: «Мне лишнего не надо». Я сперва и не посмотрел. А потом гляжу: один — простой пятнадчик, а второй — вот…
— По-нятно…
Мальчик досадливо сдвинул брови:
— Я так и думал, что вы не удивитесь.
— Почему?
— Догадался… Это ваша, да? Возьмите. — Он положил монетку на одеяло. — Вы вчера уронили, а буфетчица подхватила. Нахальная такая… А сегодня отдала, не разглядела, что не простая пятнашка…
Пассажир приподнялся, оперся локтями. На небритом подбородке блестели седые волоски.
— Господи, с чего ты взял, что это моя? Ничего я не ронял! Честное слово! — Он будто даже испугался. Потом сказал медленнее: — Не ронял и не бросал…
— Значит, буфетчица? Пойти отдать ей?
— Не вздумай! Это… твоя. Бери и храни. Все получилось как надо.
— Ничего я не понимаю…
— Потом поймешь, — буркнул Пассажир и сел.
И вдруг, несмотря на морщины и седину, лицо его обрело мальчишечье выражение. Заискрились глаза. Он очень похоже на мальчика оттянул нижнюю губу и щелкнул ею. И коротко засмеялся.
Тогда засмеялся и мальчик:
— Вы все придумываете. Это ваша монетка. Вы поэтому и написали про нее в повести.
— Да клянусь тебе…
— Но не бывает же таких совпадений!
— Бывают, — важно сказал Пассажир. — На совпадениях, друг мой, много чего держится в этом мире… Совпадения, падения, попадания… иногда в десятку. А такие монеты в этом краю встречаются не столь уж редко. Начеканено их было немало.
Мальчик нерешительно взял монетку с одеяла. Подышал на нее, вытер о рубашку, рассеянно поцарапал ребром тыльную сторону ладони. Тонкая заусеница оставила на смуглой коже волосяной белый след. Мальчик подумал, нарисовал таким же способом якорь и скрещенные шпаги, словно татуировку наметил. Потом стер рисунок помусоленным мизинцем. Потянулся к губе, взглянул на Пассажира, быстро опустил руку…
«Кобург» опять причалил и затих.
Пассажир сказал:
— Давай-ка я поднимусь. А потом, если хочешь, поговорим еще на эти наши темы…
На пароходе вдруг проснулось радио. Динамик на верхней палубе поскрипел и объявил, что «в силу технических причин пароход задержится у пристани Веха до четырнадцати ноль-ноль. Экипаж приносит пассажирам свои извинения». Потом динамик покашлял и добавил неофициально:
«Машина-то, сами понимаете, товарищи, времен Фультона…»
Пассажир глянул в окно и предложил:
— А пойдем-ка, друг мой, прогуляемся. А?.. Что за Веха, на каком пути веха?..
Мальчик взял с крючка свою синюю кепчонку с над писью «Речфлот». Сердито усмехнулся:
— Не «Речфлот», а «Речстой». Когда я домой попаду? Там уже, наверно, всесоюзный розыск объявлен.
Они сошли на пологий берег. Дорога с песчаной колеей между редких сосен вывела их на сельскую улицу с бревенчатыми домами и палисадниками. Было безлюдно. В конце улицы белела обшарпанная церковь с голым каркасом на месте купола. Там суетились вороны.
Среди этой деревенской старины нелепо и вызывающе торчала квадратная постройка с витринами до самой земли. С трубчатыми стеклянными буквами «Парикмахерская». На прозрачной двери висел допотопный амбарный замок.
Пассажир и мальчик остановились перед стеклом, как перед зеркалом. Мальчик встретился глазами с отражением Пассажира. Тот улыбнулся:
— Ну и как? Нравимся мы себе?
Мальчик повел плечами: чему тут нравиться или йё нравиться? Обыкновенный пацан, обыкновенный старый дядька… Впрочем, Пассажир сейчас не казался очень старым. Он побрился, расчесал свой старомодный пробор, держался подчеркнуто прямо. И морщин будто стало меньше, и глаза сделались как-то острее, прицельнее. Несовременная парусиновая куртка — длинная, с обтянутыми той же материей пуговицами — сидела на Пассажире ладно, словно китель отставного флотского офицера…
— Ты все о чем-то о своем думаешь, — заметил Пассажир. — Тревожишься, что домой опаздываешь. Да?
— Ага. Это само собой… А еще я о другом…
— О чем же?
— О вчерашнем. О Гальке.
— Ну… и что же тебя беспокоит?! — тихо спросил Пассажир.
— А он… может, правда ушел с капитан-командором?
— Возможно, — охотно сказал Пассажир.
— Но… они же были враги… Ну, старинная была война, враги могли уважать друг друга, только все-таки…
— Они были не враги, а лишь противники. Волею обстоятельств. Потом обстоятельства изменились…
— Ладно. А что этот командор в нем такого нашел? В Гальке-то… — неловко сказал мальчик. И стал чесать левым кедом правую ногу. — Чего такого, чтобы вместе идти?
— Видишь ли… — Пассажир взял мальчика за плечо, и они медленно пошли вдоль улицы. — Если принять ту версию, что Галька ушел из форта с командиром монитора… а тебе ведь этого хочется, верно?
Мальчик кивнул. Точнее, опустил голову и не поднял.
— Тогда логично предположить и другое: Красс не был тем, за кого себя выдавал…
Мальчик по-птичьи, сбоку быстро глянул на Пассажира.
Тот сказал:
— Тогда вся история повернется по-иному… если он был Командором.
— Как это?.. Ну да, был. Ну и…
— Подожди. Я не о его офицерском звании… Бытовала легенда о Командоре. О человеке, который ходит по свету и собирает неприкаянных детей. И не просто детей, а таких, как Галька, со странностями…
— Койво?
— Да… Именно им чаще других неуютно и одинока в нашей жизни. Потому что они опередили время… Так говорил Командор. Говорил, что они — дети другой эпохи, когда все станет по-иному. Тогда, в будущем, каждый сможет летать, причем стремительно — на миллионы километров за миг. Люди смогут разговаривать друг с другом на любом расстоянии и, значит, всегда быть вместе. Не будет одиноких. Никто не сможет лишить другого свободы, потому что человек станет легко разрывать все оковы — и природные, и сделанные руками… И у каждого будет добрый дом во Вселенной, куда можно возвратиться с дороги… Это не мечта, а просто будущее. Ведь все на свете меняется, развивается, появляются и у людей новые способности… Только способность к одиночеству не появится никогда, потому что одиночество и вражда противны человеческой сути… Но до тех времен еще далеко, а мальчики и девочки со странными свойствами своей природы и души нет-нет да и появляются среди людей. Как первые ростки. Их надо сохранить… Это длинная легенда, не меньше, чем о Реттерхальме. А я рассказываю очень коротко…
Мальчик серьезно сказал:
— Если все было так, то это хороший конец. Для Гальки… Но ведь это уже совсем сказка.
— Как знать… Может быть, такие ребята — ничуть не странные, а самые нормальные. Может быть, наоборот, мир нынешних людей — странный, уродливый и не дает каждому открыть свойства своей души… Это не я говорю, это опять же мысли Командора…
Мальчик вдруг насупился:
— Это не только Командор говорит, а многие. У нас знакомый есть, дядя Валера, папин друг, дак он тоже… А папа отвечает, что это… как это? А, «философия для субботних вечеров». А в другое время, говорит, работать надо.
— Что ж, папа тоже прав.
— Беспокоится, наверно, — вздохнул мальчик. — Куда я подевался…
Пассажир опять взял его за плечо:
— Смотри-ка! Здесь автостанция.
Они только что обошли церковь. Позади нее была площадка с навесом, на площадке урчали два автобуса. В алтарном закруглении церкви желтела новая некрашеная дверь с табличкой «Кассы».
Пассажир и мальчик вошли. По-церковному светились узкие решетчатые окна. Было пусто. «Кассами» оказалось одно окошечко, к тому же закрытое. Рядом с ним висело расписание рейсов и схема путей. Мальчик остановился, закинув голову.
— Поглядите! Отсюда автобус ходит до Черемховска! Только три часа идет! И билет всего рубль тридцать!.. Я поеду!
— Ну что ж… — Пассажир, кажется, обрадовался за мальчика. — Так, наверно, и в самом деле правильно… Но смотри: отходит он в восемь вечера. Приедешь ты совсем поздно.
— А пароходом? Вообще неизвестно когда!.. Тут хоть точно.
— А денег на билет хватит?
— У меня же мелочи полный карман! Да еще бумажный рубль где-то… Вот он!
— А что будешь делать до вечера? Развлечений никаких, место незнакомое…
— Ну и хорошо, что незнакомое. Поброжу вокруг. Может, никогда бы в жизни в эту Веху не попал, а тут… интересно же. Я люблю новые места.
Пассажир сам купил мальчику билет. Постучал в окошко, сказал сонной девице:
— Один до Черемховска, пожалуйста… Позвольте, а почему рубль шестьдесят, когда в прейскуранте рубль тридцать?.. Какая еще предварительная продажа, если…
— Да ладно, — быстрым шепотом перебил его мальчик. — Пусть… — Он боялся остаться без билета.
— Ну и порядки… — проворчал Пассажир.
Мальчик сунул билет в нагрудный карман рубашки.
— Спасибо.
2
Спешить было некуда. Недалеко от автостанции они увидели столовую — такую же квадратно-стеклянную, как парикмахерская, но открытую. Пообедали в пустом зале. Неторопливо и сытно. Когда вышли, мальчик сказал:
— Ну и Веха! Как на забытой планете… Да понятно, люди в поле.
Он заметно повеселел. Дурашливо поглаживая живот, остановился перед зеркальным стеклом. И вдруг опять свел брови.
Пассажир как-то по-мальчишечьи, с подковыркой проговорил:
— А спорим, знаю, о чем думаешь! Только не обижайся, что лезу в мысли.
Мальчик вопросительно обернулся.
— Ты думаешь: «А взял бы меня Командор?»
Мальчик опустил глаза, слегка набычился.
Пассажир мягко сказал:
— Тебе незачем было бы уходить с ним. У тебя… ну, пусть не все ладно в жизни, но дом все-таки есть. Никто тебя не прогонял, а, наоборот, ждут… Не правда ли?
Мальчик ответил нехотя:
— Не в этом дело. Я же не койво…
— Ну, тут-то как раз… Вспомни, как ты меня лечил. И, кстати, спина до сих пор не болит.
— Подумаешь! Это многие умеют. Тут никаких чудес.
— Я не о том… — Пассажир легонько подтолкнул мальчика, и они пошли в сторону пристани. — Я про умение чувствовать чужую боль. Ты ведь не просто меня вылечил, ты сперва почуял, что мне больно. Без моих жалоб, сам. Это дано далеко не каждому… И в этом твое преимущество перед Галькой.
— Преимущество?
— Да… Он был честный и смелый, но…
— Он в тыщу раз смелее, чем я, — насупленно перебил мальчик.
— Возможно. Но твоей струнки у него не было. Он чувствовал лишь свою боль, свою обиду… Может быть, в этом была его вина перед городом. Не исключено, что он понял эту вину в конце концов, поэтому и ушел насовсем.
Мальчик долго шагал молча. Держал перед собой на ладони монетку. Иногда подбрасывал.
— Не… это неправда, — наконец сказал он.
— Что неправда?
— То, что он не чувствовал чужой боли. Зачем он тогда остановил трамвай? Он не хотел, чтобы колесами по лицу… Вот у этого мальчишки, на денежке… Ему показалось, что он живой!
— Да… Я как-то упустил это из виду.
— Вы же сами про это написали!
— Я?.. Я, голубчик, не написал. Я, скорее, записал…
Мальчик сказал с оттенком досады:
— Я не понимаю разницы. Все равно ведь это ваша повесть. Вы ее сочинили.
— Сочинил?
Тогда мальчик улыбнулся чуть снисходительно и сожалеюще:
— Но ведь это же все-таки сказка. Не было же здесь никакого Реттерхальма… И кристалл мадам Валентины — он тоже фантастика… Это даже хорошо.
— Почему же? — уязвленно спросил Пассажир.
Но мальчик не заметил обиды.
— Потому что, если сказка, значит, вы в ней хозяин. Можете переделать конец по-другому!
— Нет, голубчик! Быль это или фантазия, но изменить я ничего не могу. Галька ушел из города…
— Ну… пусть! — Мальчик сжал монетку в кулаке, на ходу заглянул Пассажиру в лицо. Требовательными коричневыми глазами. — Ладно, ушел. Но напишите, что Лотик и Майка… ой, Вьюшка то есть… его догнали. И они пошли вместе. А? Это можно?
— Это можно лишь в одном случае, — очень серьезно сказал Пассажир. — Если у них хватит времени. Но мадам Валентина давно умерла, кто перевернет часы? Надо, чтобы замкнулось во времени колечко. А это зависит не от меня…
— А от кого?
— Ну-у, дорогой мой… Опять скажешь «фантазия»… Перестал бы ты кидать монетку, потеряешь раньше времени…
— Какого времени?
— То есть вообще потеряешь. Жаль будет.
Мальчик сунул монетку в карман.
За разговором они незаметно подошли к пристани. С палубы их заторопил пассажирский помощник:
— Давайте, давайте, граждане! Сейчас отходим.
— Что? Раньше срока? — засуетился Пассажир. — Подождите, мальчик должен сойти, он только вещи возьмет.
…Потом они попрощались у трапа.
— До свиданья, — неловко сказал мальчик.
«Может, еще встретимся», — хотел он добавить, но постеснялся.
Пассажир вежливо наклонил голову с пробором. Бежали серые облачка, стало прохладно. Мальчик передернул плечами.
— Вот что, голубчик, возьми мою куртку, — вдруг решил Пассажир. — Смотри, холодает.
— Да что вы! У меня же безрукавка…
— Безрукавка вязаная, продувается. Да и руки все равно голые. — Он расстегнул куртку. — А это, смотри, целая плащ-палатка для тебя.
— Ну да, — неуверенно возразил мальчик. — Смеяться будут, скажут: во балахон…
— Да кто же тебя увидит в темноте?
— В темноте?
— Ох, я хотел сказать «в тесноте». На станции и в автобусе… Ну, скажешь, что папина или дедушкина куртка… Я же не говорю: надевай сейчас. Это на всякий случай. Возьми, я прошу.
Мальчик молчал. Возиться с большой и ненужной курткой не было охоты. Но не хотел он и обидеть Пассажира.
— А как же вы?
— У меня есть другая, в чемодане… А тебе… пусть будет на память о нашей дороге.
— Ну… тогда вытащите все из карманов.
— Всенепременно! — Пассажир тщательно очистил карманы. — Очки, блокнот, бумажник… все! — Он отдал куртку, подержал мальчика за плечи и шагнул на трап.
Через минуту пароход отошел. Мальчик помахал с дебаркадера. Но Пассажира на палубе не было, он скрылся в каюте. Мальчик затолкал куртку в сумку. Та разбухла, как боксерская груша. «Подарок», — вздохнул мальчик. И вдруг очень пожалел, что не спросил у Пассажира, как его зовут.
3
Время до вечера мальчик провел без скуки.
Он побродил в ближнем лесу. Почти час просидел над муравейником, размышлял: есть ли у муравьев развитая цивилизация или они все-таки бестолковые? Из леса вышел к реке — на пустой песчаный пляжик. Солнце то выскакивало, то пряталось, было совсем не жарко, но мальчик искупался. Не для удовольствия, а из принципа (Гальке-то еще холоднее было ночью, под ветром). После купания напала такая дрожь, что пришлось надеть безрукавку. Согрелся.
Скоро совсем распогодилось, теплее стало. Мальчик сел на лужайке у расщепленной березы, на солнышке. Достал книгу «Человек, который смеется». Стал наугад перечитывать страницы…
Раздались голоса, это пришли мальчишки с мячом. Разбились на две команды, разметили ворота. Береза сделалась штангой. Мальчик отодвинулся, чтобы не мешать. На него не обратили внимания. Или сделали вид, что не обратили. С полчаса он следил за игрой — робкий незваный зритель. А когда один из ребят захромал и ушел с поля, мальчик нерешительно спросил:
— Можно мне вместо него?
Тонкий мальчишка в полинялом трикотажном костюме и с белыми длинными волосами (ну прямо Галька!) прошелся по мальчику светло-синими глазами:
— Ты откуда? Дачник, что ли?
— Не… я проездом. С парохода.
— Ну, валяй…
Мальчик играл не лучше и не хуже других. Разгорячился, заработал пару синяков, удачно подал мяч беловолосому, а тот впаял красивый гол… А время летело. И скоро видно стало, что солнце катится к вечеру.
— Я пошел. Пока… — сказал мальчик.
Беловолосый рассеянно кивнул, остальные не обратили внимания.
Мальчик успел еще перекусить в столовой, и когда пришел на автостанцию, пыльные часы над окошечком кассы показывали без четверти восемь.
Мальчик удивился, что на станции пусто. Неужели никто не едет в сторону Черемховска?
Он побродил, постоял, изучая красочную схему маршрутов рядом с расписанием. Шоссе тянулось вдоль реки, соединяя пристанские поселки. Нашел мальчик и мыс Город. Около него река разделялась на два русла, обтекая длинный остров. Китовый!
Правее мыса была обозначена станция Белые Камни. Мальчик машинально прикинул, что от нее до мыса километра три… Потом он перевел глаза на часы.
Две минуты девятого!
Что же это такое? Он потерянно оглянулся. Церковные окна желтели вечерним светом. Из открытой двери тянуло сквозняком, шелестел на бетонном полу старый билет.
Мальчик постучал в окошко кассы. Выглянула кассирша — не прежняя девушка, а старуха:
— Что тебе, молодой человек?
— А почему автобуса нету?
— Какого тебе сегодня автобуса?
— В Черемховск! В двадцать ноль-ноль…
— Ишь ты, «ноль-ноль» ему! Ты глянь в расписание: он по понедельникам-средам-пятницам ходит.
— А сегодня-то что?!
— А сегодня с утра вторник… Ох вы дачник?! Живете, время не помните.
— Да какой же вторник… — беспомощно сказал мальчик. Это была явная чушь. — Среда. У меня билет, вот смотрите.
— Ну, смотрю… Билет. На завтра и есть. Вот и квитанция за предварительность. Куда же ты торопишься, голубок?.. Ты, никак, один едешь? Откуда ты?
Не хватало только ее вопросов! Мальчик едва не всхлипнул. Сидеть еще целые сутки в этой Вехе! На пароходе-то он бы к утру домой добрался! Хоть с какими остановками… Ох и паника будет дома, когда узнают, что пароход пришел, а его нет!..
— Ты что, на даче тут живешь? — опять начала допрос кассирша.
— На даче, — буркнул мальчик. Не объяснять же ей…
Он отошел, снова уставился рассеянно на схему маршрутов… А может, есть другие автобусы в нужном направлении? Ну, пускай с пересадкой… Нет, ничего подходящего. Только в двадцать тридцать пять пойдет «икарус» из Кохты. Но это в другую сторону.
В другую? Или…
На миг показалось мальчику, что вокруг все стало зыбким и таинственным. Эти окна, сводчатый гулкий потолок… И часы стучат громко и многозначительно… И сам он — будто во сне, когда видишь себя на незнакомом и запутанном пути. Ох, домой бы, не поддаться бы жутковатому соблазну неизвестной дороги… Но оказывается, ничего от тебя не зависит.
А может, так и надо? Может, все не случайно?
Старая кассирша смотрела из окошка, и на лице ее было теперь сочувствие. Добрая, наверно, бабка. Попросить, объяснить все — и устроит ночевать…
Мальчик, пугаясь собственного решения, спросил:
— А можно билет до Белых Камней? — И соврал, хотя старуха ни о чем больше не спрашивала: — У меня там бабушка, я у нее переночую…
Парусиновая куртка 1
Автостанция Белые Камни оказалась небольшой постройкой из силикатного кирпича — будка диспетчера и навес со скамейками для пассажиров. И — никого, лишь в будке играло радио. Направо, через поле, уходила к недалекому поселку дорога. Солнце было уже над самыми крышами поселка.
Слева от шоссе подымался почти черный еловый лес. В него убегала тропинка. И мальчик понял, что она ведет к реке, к мысу. А куда ей еще вести?
Мальчик посмотрел вслед укатившему автобусу, пересек шоссе. Постоял у заросшего кювета и перешел его с ощущением, будто переходит границу. Колючие шарики на сухих стеблях предупреждающе куснули за ноги: одумайся, мол. Куда тебя несет?
Ох, а куда его несет? Зачем? Убедиться, что на мысу есть остатки города и форта? Тронуть за плечо бронзового Гальку? И… может быть, оставить на его плечах парусиновую куртку?
Но это все — зачем?
Хочется поверить, что сказка — не сказка? Или как-то оправдать для себя все отставания и опоздания? Или тянет, тянет к себе неведомое?.. Мальчик оглянулся на солнце, поежился и вошел во тьму леса.
После ясного вечера и в самом деле показалось — тьма. Небо вверху светилось, а среди стволов и веток — первобытный мрак. Тропинка еле виднелась. Она, эта тропинка, была твердая, натоптанная, но порой пряталась в кустах и травах, путалась между корней. То можжевельник, то какие-то листья с бритвенными краями царапали и резали мальчишку. Ветки щелкали по щекам и кепке. Мелкие сучья цеплялись за безрукавку.
И мальчик достал куртку.
Она оказалась ему ниже, колен. Вот хорошо-то… А рукава можно подвернуть вот так… Для неласковых зарослей такой балахон в самый раз. Мальчик нервно усмехнулся: сбылось! «Кто тебя увидит в темноте»…
А если увидят, решат, что привидение… Но от мысли о привидениях стало совсем неуютно в этом сумрачном одиночестве.
Впрочем, сумрак был уже не таким густым, глаза привыкли. Из полумглы выступили громадные валуны, на них светился белый мох. Светились и березы — после черных елей пошел смешанный лес. Ярко выделялись пожелтевшие листья кленов. И тропинка стала хорошо различимой.
Это здорово, что есть тропинка. Без нее было бы совсем жутко, а так… Ох… Мальчик присел. Словно темный лоскут, бесшумно проплыла над ним громадная птица. Филин, сова? Откуда знать название городскому мальчишке, впервые оказавшемуся в ночном лесу?
Да, но какой же он ночной? Внизу темно, а небо еще совсем светлое. Вон едва-едва засветилась первая звезда… А куртка прямо как палатка: натянул на голову, запахнулся — и отгорожен от всего… Ну и пусть кто-то стучит за деревьями по сухому стволу… Пусть кто-то кричит печально и протяжно. Можепу это вовсе не лесные жители, а катер на реке за мысом…
Тропинка сперва шла в гору, а потом побежала под уклон. И мальчик с радостью понял, что перевалил через вершину холма. И вот уже опять вверх — по кустам и мелколесью. Это значит, скоро обрыв, где стоял когда-то форт. Забрало!
Сделалось совсем не страшно, и сердце стучало просто от нетерпения. От быстрой ходьбы на подъеме…
Сосновый молодняк расступился, тропинка оборвалась у гранитных двухметровых зубцов. Сразу стало светло.
Широкие изгибы реки отражали ясное небо. В освещенных закатом лугах горстями были рассыпаны игрушечные деревушки. Желтели колокольни. Бежал по дороге-ниточке крошечный грузовик… А остров и в самом деле был похож на кита…
Мальчик отдышался. Торопливо расстегнул куртку. Одна пуговица оторвалась, он сунул ее в карман на шортах. Пальцы наткнулись на металлические денежки. Он вспомнил! Вытащил горсть мелочи, отыскал монетку «десять колосков», глянул на профиль мальчишки: «Принеси удачу!» И затем окинул взглядом кромку обрыва: где ты, Галька?
Скульптуры не было.
Камни, деревца, скальные зубцы…
Вот на этом месте (ну точно же на этом!) стоял вчера мальчишка.
Или здесь?
Или на этом уступе?
Какая разница! Нигде нет! А он-то, дурак, поверил…
И никаких следов форта, конечно, тоже не было. Даже остатков фундамента! Уж они-то должны были сохраниться…
С ощущением полной потери и обмана мальчик встал на краю обрыва. Понурый, неподвижный…
А куда теперь спешить? Обратно в темный лес?
Из лиловой дымки северного неба выступила круглая луна. Неяркая, темно-розовая. Было отчетливо видно, что это шар, планета. В другое время мальчик с удовольствием поразглядывал бы ее, такую неожиданно большую и близкую. Но теперь он смотрел на луну, как на свидетельницу своей глупости.
Поверил, как дошкольник, небылице… Что его закрутило, понесло по этим берегам и лесам? Ехал бы сейчас в теплой каюте… Вон как нормальные люди на том пароходе…
Пароходик, светясь ходовыми огнями, появился из-за поворота. В точности как «Кобург». Наверно, «Кулибин» или «Декабрист». Он подходил ближе, ближе и скоро стал виден уже не со стороны, а сверху. Звонко хлопали колеса. Из черного зева трубы тянулся жидкий дымок. Негромко играло радио. Там были люди, там было хорошо…
От толчка досады и зависти мальчик вздрогнул и сжал зубы. Размахнулся! Монетка «десять колосков» полетела с обрыва.
…Что-то звякнуло о палубу. Светлое небо отразилось в серебряном кружочке. Старый Пассажир вздрогнул. Сидевший рядом мальчик быстро спустил со скамейки ноги и нагнулся. Но проходившая мимо буфетчица оказалась проворнее: присела, накрыла монетку ладонью:
— Это моя…
Мальчик стоял на обрыве, пока пароход не ушел за мыс. Просто так стоял. Потому что больше нечего было делать.
Луна стала ярче.
Мальчик с удивлением ощутил, что досада его уходит. Словно ее, как чернильную кляксу, вытягивала и сушила промокашка.
Над горизонтом, пониже луны, заиграли рубиновые искорки: где-то в страшной дали шел реактивный самолет. И от этого стало еще спокойнее. Не было уже обиды, осталось лишь сонливое утомление. Гудели от усталости все мышцы. Чесались и горели изжаленные травой и колючками щиколотки. Мальчик провел по ним ладонями, чтобы унять боль и зуд. Не вышло. С другими всегда получалось, а с собой — редко…
Надо было идти. Он поправил на плече сумку, поднял куртку. В кармане у нее что-то сухо брякнуло. Спички? Раньше он их не замечал. Старик вроде бы все вынул iipn прощании.
Мальчик сунул руку, нащупал коробок. А под ним… монетка?
Он достал, вздрогнул. Даже оглянулся растерянно.
«Десять колосков».
Значит, он перепутал? Швырнул в реку обычную пятнашку? Но он же ясно видел!..
А может, это другая? Наверно, у старика их было две…
Нет, она самая. Вот и заусеница на ободке!
Что это? Чудо? Совпадение? Продолжение странной игры, которая привела его на этот обрыв?
К мальчику возвращалась осторожная радость. Памятника нет, но что-то все-таки есть. Что-то такое, от чего загадочными кажутся камни, а луна смотрит лукаво и понимающе, как живая… И обратный путь представляется не таким уж длинным и почти не пугает.
Мальчик решительно поправил на затылке козырек, запахнул на себе куртку. Вперед!
2
Первую половину обратного пути он прошел легко и бесстрашно, хотя в лесу совсем потемнело. А когда перевалил холм, ноги ослабели от усталости. И снова стали чудиться опасности. Но сильнее боязни было все-таки утомление. И хотелось спать.
Вот сейчас он придет на станцию, под навес, где твердые скамейки и зябкий ветер. А что дальше? Когда-то еще будет автобус до Вехи. И что делать в Вехе ночью?
И зря, что ли, в кармане оказались спички?
Конечно, при этих мыслях страхи поднялись со дна души, как взбаламученный ил. Но и желание испытать то, чего с ним не бывало раньше, тоже поднялось. Ведь никогда не ночевал он один у лесного костра!
Раз уж так все закрутилось — пусть крутится дальше. Он опять подчинился жутковатой сказке. С замиранием и притаенной радостью.
Шагах в двадцати от тропинки отыскал мальчик полянку. Там судьба сделала еще один подарок: наткнулся на кучу валежника. После этого разве можно было колебаться?
Плохо только, что ни ножа, ни топора. Мальчик поотшибал сквозь кеды пятки, ломая толстые сучья. Потом зубами расщепил несколько сухих веток — для растопки. Набрал прошлогодней хвои. Чиркнул…
Все-таки кое-какой навык у мальчика был: костры он разжигал и раньше, в лагере. Огонек желтой бабочкой сел на рыжие иголки, зацепил один прутик, другой. Охватил ветку… Пламя выросло, застреляло, дохнуло теплом. Мальчик сел, закутал себя курткой — ноги от жара, а спину от липкой зябкости, которая подступила вместе с сумраком. Сумрак этот окружил icocxep ж мальчика непроницаемо и недружелюбно.
Страшно ли было теперь? Мальчик признался себе, что да. Но страх жил как бы отдельно. «Я вынес его за скобки…» Страх не мешал размышлять, вспоминать обо всем, что случилось за последние сутки. Мальчик думал спокойно и улыбчиво. Даже мысли про опоздание домой сейчас не тревожили его. Он принял простое решение: не нужен ему автобус! Утром надо выйти на обочину и поднимать руку перед каждой машиной. Какие-нибудь да пойдут в сторону Черемховска. И в какой-нибудь из них, наверно, найдутся хорошие люди. Он все им без хитрости расскажет, и неужели не помогут мальчишке? Подвезут. Если не сразу, то с пересадками. Всего-то сотня километров.
Он попал в приключение, так и надо на это смотреть. И чувство, что это действительно приключение, сделалось таким же осязаемым, как дыхание костра. А еще — пришло ожидание какой-то разгадки и встречи. Не опасной, хорошей.
И он не удивился и почти не испугался, когда из косматой темноты вышли к свету двое.
Да и чего было пугаться! Это оказались мальчуган лет десяти и девочка — чуть помладше. Костер горел ярко, и мальчик сразу разглядел их.
Девочка была в коричневом, похожем на старенькую школьную форму платье, в желтой косынке на темных кудряшках. В красных резиновых сапожках — низеньких и широких (они блестели, как маленькие пожарные ведра). И ее спутник — в таких же. Эти сапожки, хотя и нарядные сами по себе, никак не подходили к его белому летнему костюмчику с вышитым на груди корабликом.
Вернее, костюм не вязался с сапожками. В нем на прогулку в парк ходить с мамой и папой теплым летним днем, а не в лесу ночью шастать с малой сестренкой… Или с подружкой?
Девочка тихо сказала своему спутнику:
— Вот, Юкки, и огонь… — А мальчику спокойно кивнула: — Здравствуй.
Юкки… Странное имя.
Мальчику казалось, будто он попал в полузабытую, но смутно знакомую игру. Надо лишь вспомнить правила.
— Здравствуйте. Садитесь у огня… Только у меня нет никакой еды.
— Переживем, — буркнул неулыбчивый, лохматый Юкки. Вынул ногу из сапожка, вытряхнул из него сухую хвою и сосновую шишку. Снова обулся, шагнул ближе, сел на корточки.
И девочка съежилась, спрятала под мышки свои ладони.
— Вы прямо как из сказки появились, — проговорил мальчик со странным ожиданием.
Юкки насмешливо улыбнулся большим ртом:
— Гензель и Гретель, да?
— Нет, — серьезно сказал мальчик. — Из другой сказки… А по правде, откуда вы?
Юкки махнул большим пальцем через плечо: оттуда, мол.
Теперь, когда они были близко от огня, видно стало, что костюм у Юкки не такой уж нарядный. Пыльный он и мятый. А сапожки потерты и поцарапаны. И на ногах царапины — и свежие, и давние, засохшие. А у девочки на колготках мелкие дырки.
— Вы что, заблудились?
Юкки поднял неумытое лицо. Глаза его были большущие и темные, даже костер не отражался в них.
— Тебе-то что? — Юкки сказал это спокойно, без всякой сердитости. Но и без улыбки. — Мы ведь не спрашиваем, откуда ты.
— Ну, спросите, — слегка растерялся мальчик. — Это не секрет.
— А зачем? Про такое не спрашивают, если дорога.
— А может, у него нет дороги? — прошептала девочка Юкки. И повернулась к мальчику: — Может, ты сам заблудился?
— Я-то? Нет, я знаю дорогу, — в тон им ответил мальчик.
Л позади всех слов и мыслей звенел, звенел в нем вопрос, на который (мальчик понимал!) никогда не будет ясного ответа: «Кто вы? Кто?»
Но чувство сказочности уже уходило. Еще не понимая, в чем дело, мальчик смотрел на левый сапожок Юкки. И наконец под сердцем толкнулся привычно-тревожный болевой сигнал.
— У тебя нога болит, Юкки. Натер, да?
— Конечно, натер! — встрепенулась девочка. — Говорила я: не надевай на босу ногу…
Мальчик сбросил куртку, обошел костер.
— Ну-ка сними…
Осторожно стянул сапожок. Юкки не спорил. На пятке краснела мякоть лопнувшей пузырчатой мозоли.
— Говорила я, — шептала девочка. — Вот упрямый.
Юкки виновато сопел. Он откинулся назад, уперся локтями в траву.
— Болит?
— Ага…
Мальчик сел, вытянув ноги. Положил ступню Юкки себе на колено. Поднес к пятке ладонь.
— Ой… — сказал Юкки.
— Что?
— Не болит.
— Подожди… Лежи и молчи.
Минут через пять сырая краснота потемнела, закрылась корочкой. Мальчик сказал:
— Ножик бы… Или хоть стекло острое.
Юкки дернулся.
— Да не бойся ты, — засмеялся мальчик.
— У него есть ножик, — сказала девочка. — Дай сюда, трусишка.
Юкки сжал губы, завозил локтями, дотянулся до бокового кармашка, оттопыренного и захватанного. Вынул ножик с плоской перламутровой ручкой.
— Только он туго открывается. Чем-то надо подцепить.
— Ага… Не опускай ногу.
Лежа с задранной ногой, Юкки опасливо наблюдал, как мальчик монеткой давит на зацепку лезвия, пробует пальцами остроту. Мальчик встретился с ним глазами, опять засмеялся:
— Ты что, думаешь, я твою пятку оттяпаю?
Он поднял куртку, зажал зубами нижний угол, полоснул по краю. С натугой стал отрывать полосу. Пришлось еще несколько раз резать швы. И наконец получилась лента, похожая на узкое полотенце. Мальчик разрезал ее пополам. Не туго, но плотно обмотал Юкки ступню и щиколотку. Натянул сапожок.
— Вот так. Давай и другую ногу, на всякий случай.
Теперь сапожки сидели как влитые. Юкки встал, потоптался, благодарно повздыхал:
Спасибо… А за сюртук тебе не влетит?
— За «сюртук» не влетит… Возьми ножик.
— Ага… Смотри, ты денежку уронил… — Юкки поднял из травы монетку. — Ой!
Конечно же, это была та самая, «десять колосков». Именно она попала мальчику под руку среди всей мелочи, когда пришлось раскрыть нож.
Юкки придвинул ладонь ближе к огню. Вместе с девочкой согнулся над монеткой. Девочка сказала:
— Та самая…
— Что? Ваша? — почти испуганно спросил мальчик.
— Нет… Но у меня была такая в точности… Возьми… — Юкки, кажется, с большим сожалением протянул монетку.
Мальчик взял и почувствовал непонятную виноватость. Проговорил скованно:
— А этот вот… портрет на ней… Вы знаете, кто это такой?
— Конечно! — Юкки удивился: — А ты не знаешь? Это Юхан-музыкант. Про него книжка есть… И меня в честь его назвали. — В голосе Юкки скользнула горделивая нотка.
Девочка снисходительно сказала:
— Садись, музыкант… — Опустилась на корточки, потянула за руку Юкки. Он тоже сел. Девочка снизу вверх глянула на мальчика. — Ты позволишь нам еще погреться?
— Сидите хоть всю ночь! Огонь общий. — Мальчик чувствовал, как тепло ему от собственной ласковой заботливости, которую вызвали у него эти ребята. И от грусти близкого прощания. — Вы вот что… Возьмите ее… — Он набросил куртку разом на Юкки и на девочку. Она вам как целая палатка.
Девочка высунула из куртки голову — будто из гнезда:
— А как же ты?
— А… на моей дороге она не нужна. Прощайте, я пошел.
Юкки тоже высунул голову и смотрел молча.
— Будете уходить — не забудьте загасить костер, — сказал ему мальчик как старшему. И повторил: — Я пошел…
Ясное ощущение, что не надо ждать утра, подгоняло его. Машины идут по тракту и сейчас! При удаче он мог бы оказаться дома к полуночи.
И к тому же не хотелось оставаться одному, когда уйдут ребята. Лучше уйти первому…
— Хоот вёкки… — вдруг полушепотом произнес Юкки. И быстро отвернулся.
«Доброй дороги», — без удивления понял мальчик. И сказал сам пришедшие неизвестно откуда слова — старое напутствие тем, кто уходит на дорогу вдвоем:
— Эммер цусам. Флёйк цу флёйк… (Будьте всегда вместе. Крылом к крылу.)
И, не оглядываясь, пошел сквозь темноту, полную хлестких веток и шипастых стеблей…
3
Через четверть часа, запыхавшийся и поцарапанный, он вышел на шоссе. Машин не было. Но через дорогу, наискосок, светилась желтым окошком автостанция. Та самая, Белые Камни. Теплое окошко потянуло мальчика к себе (где он слышал про такое же?). Это был единственный свет в темноте дороги. Даже небо теперь совсем почернело, и не было видно в нем ни единой звезды. Зябкий ветер мел по асфальту пыль.
Мальчик подошел к станции. В помещение диспетчера войти он не посмел и решил спрятаться от ветра за домиком, под навесом. И здесь — вот подарок! — светилось еще одно окошко. В телефонной будке горела похожая на лимон лампочка. Высвечивала на дверном стекле надпись: «Междугородный телефон».
Это было новое чудо. Сказочная удача! Можно позвонить домой, чтобы не волновались! Ведь пятнадчиков-то полный карман… А что, если опустить в автомат «десять колосков»?
Мальчик даже засмеялся от такой мысли. В нем вспыхнула радостная уверенность, что счастливая монетка поможет. Телефон соединится моментально, разговор будет хорошим, все волнения разом улягутся. А потом он нажмет кнопку возврата, и денежка с портретом Юхана-музыканта упадет в ладонь. Вернется, как вернулась там, на мысу!
Но… она где? Она же осталась в кармане куртки!
Это ударило мальчика — будто холодная встречная ладонь. Сразу — ни удачи, ни сказки. Только зябкая ночь, шуршание ветра и тоскливый казенный свет лампочки.
Бежать назад? А найдешь ли в лесу костер? И есть ли он там? И что ты скажешь Юкки? «Отдавай монетку»? Он небось решил уже, что это подарок вместе с курткой…
А может быть, так и надо?
Может быть, так и задумано?
Задумано — кем? Кто его крутит на этой дороге между Лисьими Норами и Черемховском?
Страшно стало до озноба.
Но мальчик тряхнул головой, сердито дернул на плече сумку и усилием воли опять «вынес страх за скобки». «Никто меня не крутит! Сам вляпался в приключения, и нечего ныть! Кто велел уходить с парохода?.. Вот пойду сейчас и позвоню».
Но удача, кажется, в самом деле оставила его. В списке, что висел под треснувшим стеклом рядом с обшарпанным аппаратом, не было Черемховска.
— Ну вот… — прошептал мальчик и опустил руки.
Перечитал еще раз. Нет Черемховска… Зато есть ненужные Лисьи Норы.
Ненужные? А что, если…
Сейчас около одиннадцати. Анна Яковлевна раньше полуночи не ложится. Его-то укладывала в десять, а сама…
Мальчик медленно, будто пудовую, снял трубку. В наушнике по-пчелиному загудело… Ох как неохота звонить… Не то что неохота, а просто стыдно. После всего, что было!
Ну а зачем тогда опускаешь пятнадчик? Лучше иди лови машину!
«Опустив монету, наберите цифру «один» и ждите прерывистого сигнала… Затем наберите код нужного Вам города и номер абонента…»
— Алло? Я слушаю…
Мальчик вздрогнул — голос будто рядом.
— Алло! Кто это?
Тогда он сипло сказал:
— Это я…
— Ты? — Она узнала сразу. — Откуда?.. О господи, что случилось?
— Да ничего такого, — ответил он с неожиданной, противной себе самому развязностью. — Такая штука. Пароход целые сутки полз как черепаха, ну я и сошел в Вехе. Думал, покачу на автобусе. А его нету, и я застрял… Вы не могли бы позвонить домой, чтобы там паники не было?
— Постой… Я могу, да, но… Ничего не понимаю. Какая Веха?
— Ну, деревня такая, пристань… Только сейчас я в Белых Камнях.
— А почему ты говоришь «сутки»? Ты уехал сегодня вечером!
— Я?!
— Господи, что с тобой? Откуда ты звонишь? Ты здоров?
«Стоп! — сказал себе мальчик. — Стоп… Ну-ка держись».
Еще немного, и он — одинокий, затерянный на ночной дороге — отдался бы панике. С плачем бы кинулся в будку диспетчера: «Что со мной? Какой сегодня день?! Я ничего не понимаю!» Но усилием всех своих мальчишечьих нервов он снова скрутил страх. И это было как порог. За порогом он стал спокойнее. Тверже. «Потом разберешься, — приказал он себе. — А пока делай вид».
— Разве сегодня не третье число?
— Пока еще второе… Ты где?!
С деревянным смехом он сказал:
— Я заснул в каюте, и, наверно, мне показалось, что прошли целые сутки… Теперь ясно, почему нет автобуса. Он ходит по средам, а сегодня вторник… Ничего, доберусь.
— С ума сойти… Где ты там? Ты один?
— Да не один я. Здесь большой вокзал, буфет работает. И даже телевизор… И автобус уже скоро…
— Ты говоришь неправду, — устало сказала она.
— Правду… Не в этом дело.
— Боже мой, а в чем еще?
— Анна Яковлевна, вы меня извините, ладно?.. За все, что… ну, в общем, за то, что я такой был…
Она помолчала. Мальчик ясно представил, как левой рукой она держит трубку, а правой трет висок.
— Ох как глупо у нас вышло… — наконец сказала Анна Яковлевна. — Это я сама… Ты не сердись на меня. Ты… славный.
«Вот этого я и боялся…» Мальчик даже зажмурился.
— Нет, это я виноват, — выдавил он.
— Может быть, ты вернешься? А? — жалобно спросила она.
— Нет… Может, потом. А сейчас другая дорога…
— Да какая дорога? Среди ночи!.. Вот что! — Голос Анны Яковлевны обрел знакомую твердость. — Сиди на автовокзале в этих Белых Камнях. Я звоню папе. Он звонит Валерию Матвеевичу, и они на его машине едут за тобой.
— И дают мне нахлобучку.
— Заслуженную.
— Нет уж… Лучше поголосую на обочине.
— Я тебе поголосую! Делай, что велят… Кстати, почему ты сам не позвонил в Черемховск?
— Да нету с ним линии! С вами есть, а…
«Гу-у, гу-у, гу-у», — басовито запели прерывистые сигналы. И вдруг стало очень тихо. И в этой прозрачной тишине голос девушки-телефонистки произнес:
— Кому там нужен Черемховск? Тебе, мальчик?
— Ага… — растерянно сказал он.
— Набери ноль восемьдесят шесть.
— Да его в списке нет!
— Набери, набери.
— У меня и денег больше нет…
Разговаривая с Анной Яковлевной, он сам не заметил, как высадил в щель все пятнадчики.
— Набери без денег…
И «гу-у, гу-у, гу-у…».
Что это? Опять огонек удачи на дороге? Попробовать?
Несмелыми пальцами он покрутил диск. Тонко пело, позванивало, потрескивало в трубке. Потом пошли долгие гудки. Ох, какие долгие… И вдруг щелкнуло, сердитый голосок прокричал:
— Квартира Находкиных! Вам кого?!
— Майка!
— Павлик! Это ты?!
— Май-ка… — выдохнул он с ощущением, будто уже дома. — Это я. Ты чего не спишь? Позови папу.
— А папа и ма… тетя Зоя пошли в кино. На девять часов. И все их нет и нет… — Она всхлипнула.
— Перестань… Ты что, одна?
— Одна…
— Они спятили? Почему одну оставили?!
— Я сама осталась, потому что большая. Обещала спать…
— Ох ты, горюшко, — не сдержался Павлик. — Не спится птахе?
Она заревела.
— Ну-ка, перестань! — Павлик Находкин сразу стал строгим братом. — Ты вот что…
— Я боюсь…
— Я понимаю. Ты вот что: возьми этот страх и прогони. Скажи: «Пошел вон из меня!» Пусть сидит отдельно, где-нибудь на дворе…
— Ты мне зубы не заговаривай, — сказала Майка сквозь слезы, но уже бодрее. — Все куда-то исчезли, а я тут пропадай пропадом…
— А ты не пропадай! Папа и… они скоро придут!
— Лучше ты приходи скорее! Ты с автостанции звонишь? Уже приехал? Тетя Аня сегодня днем звонила, что ты на пароходе уплыл домой!
— Сегодня звонила?
— Ну да! Ты где?
— Майка! Пароход — это ведь долго! Я еще еду!
— Не морочь мне голову, — сказала она упрямо — Павлик знал этот капризно-твердый тон, тут уж Майку не переубедишь. — Ты приехал и по телефону валяешь дурака. Немедленно домой!
— Да Майка же…
— Сию же минуту! — опять заплакала она. — Сию же минуту чтобы ты был дома!
Он увидел, как она, растрепанная, с расплетенными косами, в мятой рубашонке, стоит у телефона и, глотая слезы, топает голой пяткой: «Сию же минуту!»
И желание немедленно оказаться дома резануло Павлика Находкина нестерпимо. Ворваться в комнату, прижать Майку, вытереть ей, глупой, мокрые щеки… Закостенев с прижатой к щеке трубкой, он в то же время всеми нервами, всей душой метнулся к себе — на Онежскую улицу, к трехэтажному угловому дому.
…И на миг показалось даже, что он в Черемховске.
Телефонная будка — такая же, как рядом с городским автовокзалом. Все такое же — аппарат, лампочка, даже извилистая щель на боковом стекле. И так же красные искры дрожат на изломах трещины — будто от горящей рекламы: «Пользуйтесь услугами Межгоравтотранспорта». А на самом деле откуда? Хвостовые сигналы машин? Так много? Колонна идет, что ли?
Вывернув шею, Павлик глянул через стеклянную дверь…
«Пользуйтесь услугами… ежгоравтотранспорта!» Буква «М», как всегда, не горит…
— Сию же минуту марш домой! — плакала в трубке Майка.
Павлик, обмерев, постоял секунду. Медленно повесил трубку. Вскрикнул и двумя ладонями толкнул дверь.
Тепло было в городе Черемховске. Безветренно. Пахло нагретым за день асфальтом, подсыхающими тополями, бензином и садовым шиповником с ближнего газона…
Этого не может быть!
Но сознание Павлика, защищаясь от непосильного чуда, уже подбросило спасительную выдумку. Будто была попутная «Волга» с добрым пожилым пассажиром и молчаливым водителем. И она, эта машина, в шуршании колес и свисте встречного воздуха стремительно донесла полусонного мальчишку от Белых Камней до Черемховска. Павлик даже ясно представил эту «Волгу» — с ковровым сиденьем, с мурлыкающим магнитофоном и пляшущим игрушечным лягушонком на ветровом стекле…
Павлик метнулся глазами к часам на вокзальной башне. Если он ехал на машине, то времени сейчас не меньше полуночи. Но ветки растущего за дорогой тополя заслоняли циферблат.
А под тополем, в круге света от ближнего фонаря, сидели на рюкзаках студенты. Негромко звенела гитара, напомнив песню об Угличе.
Павлик шагнул в сторону, чтобы все-таки взглянуть на часы. Но тут же стало не до них: шурша и приседая на рессорах, подкатил к остановке — рядом с будкой! — желтый городской автобус. И Павлик понял, что через десять минут он может оказаться у себя на Онежской!
Он бросился через тротуар, вскочил в заднюю дверь.
Часто дыша, встал он у тумбочки со стеклянной кассой, зашарил по карманам. И вспомнил — все деньги опустил в телефон. В кармане лишь пуговица от парусиновой куртки… Ну и пусть. Пассажиров мало, никто не смотрит на мальчишку. А контролеры в такую пору не ходят…
Плафоны мигнули, автобус поехал. Павлик опустился на заднее сиденье, положил на колени сумку. Привалился к упругой спинке. Спокойствие сошло на него, словно кто-то провел по лицу и плечам прохладными ладонями.
Пуговицу он все еще держал в ладони. Обтянутая парусиной, она была тяжелая, — наверно, металлическая внутри.
С левой стороны, у железной петельки, парусина была стянута нитками. Нитки разошлись. Кромки материи лохматились и распускались. Павлик потянул кончик. Нитка выдернулась, и края парусины раскрылись, как бутон. Павлик увидел черную изнанку пуговицы с мелкими буквами по кругу. Он не стал разбирать их, стряхнул клочок материи, перевернул пуговицу.
Чистая свежая медь заблестела под плафоном. Искорка скакнула на витой ободок. На маленький якорь. На рукоятки скрещенных шпаг. На половинку солнца, увенчанного острыми лучами…
Разом не стало спокойствия. Медленно, гулко заударялось сердце. И все вернулось к Павлику — пароход, Пассажир, мыс Город, ночной лес, Юкки с девочкой… И не только это. Еще и ожидание чего-то нового — тревожного и зовущего. Такого, от чего не уйдешь, не спрячешься.
Да он и не хотел уходить! Не хотел прятаться! Только сначала чтобы не плакала Майка!..
— Мальчик на заднем сиденье! У тебя есть билет?
Усатый шофер вышел из кабины и встал у открывшейся передней двери. А заднюю не открыл.
— Конечно, есть. Вот… — Павлик надел сумку и очень спокойно пошел через автобус. В протянутом кулаке он сжимал пуговицу. В шаге от водителя Павлик присел, нырнул под шоферскую руку и оказался на свободе. Помчался, слыша за спиной басовитую ругань и обещания.
Дом был уже недалеко. И путь под уклон! Сейчас будет поворот — и дом сразу виден! А в нем — светлое окно на втором этаже. Майка наверняка не спит, ждет.
Еще немного!
Павлик не бежал — летел. Сумка не успевала за ним, летела на ремешке сзади. Козырек перевернутой кепки вибрировал на затылке, как трещотка воздушного змея.
И в то же время странное, не похожее на бег ощущение не оставляло Павлика. Будто он не только мчится. Будто в то же время он сидит на скамье нижней палубы рядом со старым Пассажиром. И смотрит, как плывет в небе край обрыва с тонким силуэтом мальчишки.
…Монетка звякнула.
— Это моя! — Буфетчица накрыла ее пухлой ладонью.
Пассажир быстро нагнулся. Деликатно, но решительно взял тетушку за перетянутое браслетом запястье.
— Оч-чень прошу прощения, но это не ваша. Таких у вас быть не могло, смотрите сами… Убедились? Вот так-то…
Он проводил глазами смущенную буфетчицу и повернулся к мальчику. Мальчик дернул себя за губу и решился, спросил:
— Значит, они догонят Гальку?
— Будем надеяться. Только это все равно не конец истории… У нее, наверно, до сих пор нет конца.
— Как у дороги?
Павлик по диагонали проскочил перекресток с одиноким фонарем. Асфальт сквозь истертые резиновые подошвы крепко бил по ступням. Угловой дом в конце квартала накатывался навстречу, как пароход. И окно на втором этаже светилось!
Павлик, хватая ртом воздух, смеялся на бегу. И сжимал в кулаке тяжелую пуговицу. И чувствовал, как впечатывается в горячую ладонь командорский знак. Якорь — символ надежды, скрещенные шпаги — эмблема чести и встающее солнце — душа всего живого на нашей планете.
ГУСИ-ГУСИ, ГА-ГА-ГА… ПЕРВАЯ ЧАСТЬ КАЗЕННЫЙ ДОМ Белая черта
Клавдия выпросила машину и укатила на Побережье. На целый месяц… То есть это Корнелий так объяснил у себя в бюро: выпросила. И все, кажется, верили. Кроме Рибалтера, конечно. Рибалтер же зацвел ехидной улыбочкой:
— Ну-ну… Похлопала тебя по животику и решила: «Лапочка, тебе полезно немножко поездить на монорельсе и походить пешком. А то смотри, котик, где твоя талия…» А?
Привычная проницательность Рибалтера на сей раз почему-то всерьез разозлила Корнелия. Он бросил в коллегу пластиковым стаканом с карандашами.
— Когда-нибудь доиграешься со своим языком… Безында лысая…
Рибалтер, естественно, ржал, но в глазах мелькнула растерянность. Ругательство «безында» ему, кажется, было незнакомо. А Корнелий и сам не понял, с чего вдруг пришло на ум это бранное словечко школьных времен. Свои ученические годы старший консультант рекламного бюро «Общая радость» Корнелий Глас вспоминал крайне редко. Тоски по розовому детству никогда не испытывал. Особенно сейчас, на сорок втором году бренного существования и почти через четверть века после окончания славного мужского государственного колледжа в благословенном городе Руте.
А монорельс и пешие прогулки — это и в самом деле оказалось неплохо. Через неделю Корнелий стал себя чувствовать моложе и веселее. Потолкаться среди пассажиров, поболтать с попутчиками, пока вагон свистит от Центра до Южного Вала, — одно удовольствие. И дорога от станции к дому — тоже. Ходьбы всего десять минут. Путь идет вдоль заросших остатков древнего крепостного вала, мимо садов и коттеджей (обилие и веселый вид которых свидетельствуют, без сомненья, о стабильности и процветании общества).
В пятницу работу закончили к обеду, и в три часа Корнелий уже вышел из вагона.
День стоял чудесный. Безветренный, ласково-жаркий, настоянный на запахах клумбовых растений. Сады дремали. На плитах тротуара лениво шевелились круглые солнечные пятна. За изгородями журчали влагораспылители. Все было хорошо. И даже когда из боковой аллеи на тротуар выкатились трое растрепанных загорелых пацанят, Корнелий глянул на них без обычного раздражения. Усмехнулся: «У, безынды…»
Самый маленький и тощий мальчишка, расставив руки и ноги, держался внутри широкого голубого обруча (видимо, среза пластиковой бочки), двое других толкали это колесо. Все трое весело вопили. Они проскочили рядом с Корнелием — пришлось посторониться. Он заметил, что один мальчишка — рыжий и щербатый. Но и это не испортило Корнелию настроения, хотя известно, что встретить щербатого и рыжего — не к добру.
Никаких, даже мелких неприятностей не ожидалось. Наоборот! Впереди два выходных. И то, что Клавдия далеко и будет далеко еще три недели, скажем прямо, тоже неплохо. Сейчас Корнелий придет, поплещется под душем, приготовит земляничный коктейль с иголочками льда, потом поваляется в гамаке на террасе и полистает «Всемирную панораму» и «Голос народа», которые достал из ящика утром, но посмотреть не успел. Затем, специально утомившись от послеобеденной жары, он опустит на окнах фильтры «лунный вечер зимой», нагонит кондиционером зябкого воздуха, закутается в плед, включит камин, откупорит бутылочку солоноватого и жгучего «Флибустьера» и сядет смотреть одиннадцатый выпуск сериала «Виль-изгнанник». Показывать будут, видимо, как Виль Горнер после своих приключений на море проник неузнанный в родной город, куда ему было запрещено возвращаться под страхом виселицы…
Конечно, чепуха, коммерческая лента. Но ведь смотрится, черт возьми! Как выпуск — так улицы пустеют. Видимо, недостает чего-то нашему благополучному бытию, если так тянет к экранному риску и приключениям… Впрочем, потому и тянет, что они экранные (Корнелий позволял себе иногда этакое ироническое философствование). Едва ли кто-то из восхищенных зрителей пожелал бы оказаться сам в лапах святейшего инквизитора или в компании зловеще-галантного пиратского адмирала Луи Тубрандера… И однако же, что-то шевелится в душе, когда снова несется из ящика песенка неунывающего Виля и герой очередной раз неутомимо скрещивает звенящую рапиру с дюжиной вражеских клинков.
Может, в каждом из нас в самой глубине существа все-таки тайно живет вот такой Виль Горнер? Может, это остатки наследственной памяти, еле слышный голос предков, для которых шпага была привычна, как фломастер для нынешних специалистов рекламного творчества? Или просто хочется чего попроще, позанятнее? Рибалтер как-то хихикнул: «Все мы не прочь потрепаться о Гамлете, а кино предпочитаем про Робин Гуда…»
Ну и что? Чем он плох, Робин Гуд-то?
Все знают, как делается «видяшка», и все же, когда смотришь, начинаешь верить понемногу, что были славные времена. Такие, когда честное слово было нерушимым, друзья — железными, любовь — горячей и вечной, а смысл жизни состоял в риске и поисках приключений.
Особенно хорошо смотреть и верить, когда сидишь у камина с «Флибустьером» и знаешь — никто не закричит из соседней комнаты: «Лапочка, ты не хочешь помочь мне наладить соковыжималку?!» Никто не усядется напротив и не станет допытываться: «Котик, это и есть Виль Горнер? Но ведь в прошлой серии его играл, кажется, Рене Хмель, а это Рэм Соната…» (И сдерживаешь себя до такой степени, что цветная голограмма экрана делается плоской и черно-белой.)
Но сегодня Корнелию ничто не помешает насладиться двухчасовой серией «Изгнанника». Погонями, дуэлями и прочими элементами зрелища, достойного мужчин.
Господа, мы пришли не на танцы! Будем краткими — время бежит. Секунданты, разметьте дистанцию И покрепче забейте пыжи! Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля! Ля! Ля! Ля!С этой бодрой и, безусловно, достойной мужчины киномелодией Корнелий и приблизился к дому.
В двадцати шагах от решетчато-бетонной зеленой изгороди он вскинул над плечом ладонь. Со стороны могло показаться, что это какой-то ритуальный жест. Словно хозяин приветствует свое жилище (и вправду — полностью свое: полтора месяца назад господин Глас выплатил последний взнос за коттедж, участок и гараж). Но на самом деле Корнелий просто освобождал из манжета и поворачивал к калитке запястье — чтобы уловитель-привратник издалека поймал излучение индекса.
Электроника сработала, как всегда, без отказа, глухая калитка с шорохом отошла. И Корнелий Глас неторопливо ступил на свою суверенную территорию. Ласково голубели среди плюща идеально чистые стекла. Цвел шиповник. Над подстриженным газоном искрился миниатюрный фонтан.
Корнелий мельком, через плечо, глянул на почтовый ящик. Просто так, зная, что там пусто. Газеты и журналы пришли утром, а писем ждать было не от кого. Клавдия, если и вспомнит, писать не станет, позвонит. Дочь Алла тоже предпочитает телефон: регулярно раз в месяц дает о себе знать…
Тем не менее за решетчатым оконцем ящика светлела бумага. Корнелий остановился. Тупым, несильным коготком царапнуло беспокойство. Бумага была желтовато-серая, казенная. На такой печатались квитанции, счета, извещения. На таком же листке была оттиснута повестка на сборы муниципальной милиции, которые Корнелий Глас оттрубил последний раз два года назад.
Что? Неужели опять? Полтора месяца казармы под начальством какого-нибудь кретина из корпуса уланов!
Вроде старшего штатт-капрала Дуго Лобмана. Как он, скотина, тешил свою солдафонскую душу, измываясь над «господами интеллигентами»!
Да ну, чепуха! После сорока уже не призывают… Небось какой-нибудь бюллетень муниципалитета…
Успокоив себя, Корнелий дернул дверцу. Дернул все-таки нервно. Листок скользнул мимо пальцев, упал на серую замшу башмака. Бумага была склеена вдвое. Еще не нагнувшись, Корнелий прочитал единственное жирное слово:
ПРЕДПИСАНИЕ.
Присев, он разорвал ленточку. И, медленно выпрямляясь, стал читать…
«Г-ну Корнелию Гласу из Руты… № 43-тр… С прискорбием извещаем Вас, что в связи с нарушением общественного порядка (неправильный переход улицы 12 марта с. г.) Вы были внесены в штрафной список по графе 1/1 ООО ООО, и 8 августа с. г. Машина юридической службы «ЮМ-3» при розыгрыше номеров данного списка указала Ваш индекс УМФ-Х 111344…»
Господи, что за чушь!
Такого не бывает…
Но ведь написано!
Слабея, он прислонился к бетонному столбу калитки.
Да нет, ерунда… Здесь что-то не то. Путаница чья-то…
Листок трепыхался в пальцах, как от ветра. В казенных бумагах не бывает ошибок… Но почему это именно с ним?! С какой стати?!
«…На основании данного выбора Машины Вы являетесь виновным в совершенном нарушении и подлежите смертной казни, производимой в административном порядке…»
Святые Хранители, да что это такое!..
Ну, в самом деле был случай. Он торопился на вечеринку к Рибалтеру и перебежал улицу Короля Наттона (абсолютно пустую!) чуть в стороне от светофора. И какой-то постовой улан-новобранец, коротышка с надутой от важности рожей, засвистел, замахал светящейся палкой. Нацелил, идиот, уловитель индекса.
— Господин, задержитесь, вы нарушили!.. Ага, вот ваш индекс, зафиксируем… Получаете, сударь, шансик из миллиона. Немного на первый раз, но советую впредь быть осторожнее. Честь имею…
Корнелий с деланным сокрушением развел руками. И он, и улан прекрасно понимали, что такое на практике миллионный шанс. Не в пример вероятнее казалась гибель от прямого попадания метеорита или от редчайшей болезни «африканский волос». О происшествии на перекрестке Корнелий весело рассказал на вечеринке, и все посмеялись. У некоторых было по нескольку включений в штрафные списки, и не только в миллионные. Специалист по торговому дизайну Виктор Буга, например, недавно влетел в «сотку» — за то, что на своем «флюгшифе» наехал на цоколь памятника премьеру Крону. Ну и что? Один шанс из ста! Пронесло, разумеется…
Кто-то, зевнув, сказал:
— Все это чепуха. Миллионные списки вообще не рассматриваются. Сколько времени надо, чтобы набрать миллион нарушителей, составить программу…
Знатоки юридических тонкостей возразили, что делается это не так. Просто на диск с миллионом пустых ячеек вносятся врассыпную индексы тех, кто попал в нарушители за последние полгода. А потом лазерный искатель бежит по диску и наугад останавливается на одной из ячеек. Чаще всего, разумеется, на пустой. Лишь несносный Рибалтер похлопал Корнелия по плечу и сказал, что теперь тому будет сниться этот искатель в виде костлявого пальца, который шарит по списку, выискивая индекс человека по фамилии Глас. Корнелия на миг пробрало холодком. Он обругал Рибалтера, выпил полстакана коньяка и больше о «костлявом искателе» никогда не вспоминал…
И вот…
Да нет же, нет! Наверно, он что-то не понял! Тут не так написано, не про то! И вообще это сон…
«Для вышеупомянутой процедуры Вам надлежит 14 августа с. г. к 10 часам утра явиться в муниципальную тюрьму г. Реттерберга. Перед явкой необходимо принять ванну, побриться, надеть чистое белье. Провожающим Вас лицам не следует пересекать белую черту, нанесенную на дорожном покрытии в 100 метрах от тюремной зоны.
Урна с Вашим прахом будет доставлена членам Вашей семьи или другим лицам (по указанию) на дом в трехдневный после акции срок. Если Вы одиноки, погребение будет осуществлено в городском колумбарии общего типа за счет муниципалитета…»
Я! Не! Хо-чу!
Корнелий, раздирая тонкий тетраклон пиджака, спиной сполз по столбу калитки. Сел в траву. Ноги остро согнулись. На обтянутое брючиной колено села желтая бабочка.
— Я не хочу, — убедительно сказал ей Корнелий. Потом заорал: — Пошла!
Дернулся, чтобы вскочить, но опять мгновенно ослаб. Затем вспыхнула ослепительная надежда (почти уверенность!), что на листке — совсем не то! Весь этот ужас ему просто показался!
Он вскинул бумагу к лицу.
«…Право наследования автоматически передается ближайшим родственникам, причем распределение имущества между ними производится юридической Машиной в соответствии с существующим законодательством. Если Вы не имеете родственников, можете распорядиться имуществом при Вашей регистрации по прибытии в муниципальную тюрьму.
Муниципалитет предупреждает Вас, что при неявке в тюрьму и попытке уклониться от предписанной акции Вы будете доставлены под конвоем и подвергнуты казни по уголовному разряду в соответствии со статьей 100/3 действующего законодательства. В этом случае Ваше имущество подлежит конфискации и родственники лишаются права наследования».
И все. Больше ни слова. Ни лазейки, ни крошечной щелочки для надежды. Никакой зацепочки… Фиолетовая печать юридического отдела муниципалитета, витиеватый росчерк делопроизводителя…
Но не может же быть, чтобы все это вправду… А, вот в чем дело! Это не ему! Почта перепутала ящик!
Корнелий метнулся глазами к началу предписания.
«Г-ну Корнелию Гласу из Руты… N 43-тр… с прискорбием извещаем Вас, что…»
Желтая бабочка все кружилась неподалеку, и Корнелий всем нутром своим ощутил, насколько же она счастливее его… В школе учили, кажется, что бабочки живут совсем недолго. И все-таки эта будет, наверно, еще летать, когда его, Корнелия, уже…
«О-о-о-о…» Тяжкий, выматывающий, все заглушающий страх рухнул вязким грузом. Корнелий упал ничком. Тут же стал на четвереньки, и его стошнило.
С минуту он стоял так, поматывая головой и чувствуя, что становится легче. Спокойнее как-то.
Опасливо прислушиваясь к себе, Корнелий медленно встал. Страх и правда ослабел. Но Корнелий был уже совсем другой. И другими глазами смотрел на все вокруг…
Загребая башмаками траву, он пошел в дом. Двери из рифленого стекла, как всегда, предупредительно разошлись. Корнелий удивленно и горестно замер на крыльце. Как? Разве он еще хозяин здесь? И этот светло-серый дом с террасой, с высокой финской крышей под искусственной оранжевой черепицей — его? И электроника по-прежнему послушна ему?
Ах да! Ведь в тюрьму для «вышеупомянутой процедуры» ему надо идти только завтра. А сегодня… Да! Сегодня (ха-ха-ха!) он, Корнелий Глас, еще полноценный и полноправный член общества. Индекс его не заблокиро ван. Можно собрать сослуживцев с Рибалтером во главе и, не заботясь о сбережениях (на последний вечер хватит!), устроить в шикарном подвале «Под зеленой башней» прощальный пир. Или, наоборот, в одиночку отправиться бродить по улицам, заходя в кафе, в киноавтоматы, присаживаясь у стоек открытых баров и вообще срывая цветы удовольствия вечернего города…
Корнелий, медленно переставляя ноги, вошел в прихожую и упал вниз лицом на диван, который глубоко подался под ним ласковой пушистой мякотью. Как любил Корнелий бухаться на этот диван, приходя с работы! Раньше…
Он лежал, зарываясь лицом в шелковистую шкуру обшивки, а мысли бежали без перерыва, сами по себе.
Да, сегодня он все может. Будто и нет на нем смертного клейма! Может развлекаться, шуметь, смотреть «Виля-изгнанника», трепаться по телефону, делать коктейли, взять напрокат машину и поехать на пляжи Лунного озера… Одного не может «г-н Корнелий Глас из Руты» — сбежать, исчезнуть, спзстись. Если завтра в десять часов утра он не отдаст себя в руки исполнителей закона, по всей стране включатся могучие «уши». Вездесущие локаторы юридической службы. У них уловители индексов не то что у калитки или, скажем, кассовых автоматов. «Уши» чуют излучение за много миль. И корпус уланов постоянно на страже — эти ребята свое дело знают…
Да и куда бежать? За границу? Но пограничным постам наверняка известны заранее индексы тех, кого не следует выпускать из самого счастливого на Планете государства.
…О, индексы! Величайшее изобретение, положившее начало эре стабильности!
Сперва были просто браслеты с излучателями. Хочешь — носи, хочешь — сними и спрячь. Потом браслеты стали обязательными. И никто не возражал, кроме небольших групп экстремистов, привычно вопящих о свободе личности (такие находятся во все времена во всякой стране, когда речь заходит о всеобщем благе). А лет за тридцать до рождения Корнелия Гласа вместо браслетов была введена всеобщая индексикация. Новорожденному в левое запястье безболезненно вводили раствор стимулятора. Эта чудесная жидкость (о ней первое время даже поэмы писали!) вступала в контакт с организмом и вызывала постоянное биоизлучение. Причем характеристика излучения у каждого человека была неповторима, как рисунок на коже пальцев.
Борцы за свободу личности опять подняли крик, и, уступая им, демократическое правительство объявило, что каждая семья сама вправе решать, делать ребенку индексикацию или снабдить его браслетом. Но вскоре об этом решении просто-напросто забыли. Родителей, не согласных с индексикацией, было столь ничтожное число, что не стоило их принимать во внимание. А со временем они перевелись вообще.
Да и какой нормальный человек станет спорить с собственным счастьем и счастьем детей. Индекс — это основа жизни. Это сумма изначального обеспечения и государственной страховки, положенная тебе от рождения. Это постоянный медицинский контроль. Это отсутствие всяких документов. У каждого носителя индекса есть в центральном государственном информатории персональный диск, на котором записано об этом человеке абсолютно все — от группы крови и оценок за каждый класс школы до любимого блюда и уровня контактности с окружающими.
Ты поступаешь на службу, и электронный контролер кадров за доли секунды набирает о тебе сумму сведении и сообщает, годишься или нет. И если не годишься, дает совет, куда с твоими способностями лучше пойти. Если, не дай бог, ты попадаешь в больницу из-за простуды, автокатастрофы или неумеренного возлияния, врач в мгновение ока узнает всю твою медицинскую подноготную и во всеоружии принимается за бесплатный квалифицированный ремонт. Если заказываешь в баре «У тетушки» фужер «Калейдоскопа» с мятным трюфелем, кассовый автомат сам вычитает из записанной на диске твоей наличности нужную сумму — без всяких пошлых чаевых и возни с бумажками и медяками…
А могучие нейроэлектронные мозги Всеобщего Административного Контроля и Управления по наблюдению за лояльностью неусыпно варят свои государственные мысли, чтобы каждый гражданин Западной Федерации мог занять в жизни место, достойное своих знаний, трудолюбия и склонностей. Ибо нет ничего важнее устройства счастливых человеческих судеб…
К нынешнему времени без живых индексов, со старомодными браслетами-излучателями, остались лишь старцы, помнившие эпоху так называемой «космической революции и всеобщего прогресса».
В детские годы Корнелия понятие «прогресс» все чаще заменялось термином «стабильность». Стабильность во всем — в экономике, в семейной жизни, в технике, в характерах, в науке, в деловито-бодрой работе и в неизменно веселом разнообразии отдыха. Человек рождается на свет единожды и вправе прожить свой век без потрясений и с минимальным числом печальных дней…
Стабильность становилась основой бытия. О ней писали как о средстве от всех несчастий. Это слово дети слышали намного раньше, чем начинали понимать во всей полноте. И однажды четвероклассник Корнелий спросил:
— Папа, а все-таки что такое стабильность?
— Это очень просто. Это значит — твердое постоянство, — с готовностью откликнулся отец. — Вот возьмем пример из аптечно-медицинской практики. Если проявить неточность, то…
Шеф-наладчик строгих провизорских автоматов, он во время работы вынужден был молчать, чтобы не отвлекаться, и потому любил порассуждать в семейном кругу.
Корнелий — мальчик покладистый и терпеливый — выслушал пространные объяснения с должным выражением внимания. И под конец узнал, что недавно в журнале «Орбита быта» группа каких-то явных шизофреников из Национальной Академии выступила с открытым письмом, где утверждала, что стабильность в нашем обществе противопоставляется идеям научного развития и ведет к всеобщей энтропии…
Этого сообщения папы — тридцатидвухлетнего провизора-электронщика и прирожденного интеллигента — Корнелий не понял совершенно.
А тут еще вмешалась мама:
— Да провались оно, это научное развитие! Мало нам еще, да? Едва не довели Планету до цепной реакции…
Что такое цепная реакция, Корнелий, конечно, знал. Но в тот момент слова эти вызвали у него не картину всепланетного взрыва, а воспоминание о недавнем горестном событии в школе.
Перед уроками, когда многие уже собрались в классе, Пальчик сказал:
— Дыня, давай проверим твою реакцию. С цепочкой. Хочешь?
Дыня — была кличка Корнелия. Никакого испытания реакции Дыня, разумеется, не хотел. За ласково-уменьшительным прозвищем Пальчика крылась зловещая сущность. Как и за его обманчивой внешностью. У Пальчика было чистенькое лицо, кукольные голубые глазки и крошечный, похожий на сосок рот. Этим ртом, красным и мокрым, он часто причмокивал, будто целовал воздух. Причмокивал перед тем, как сделать кому-нибудь гадость. А сделав ее, он как-то не по-мальчишечьи хихикал — будто выталкивал выдохами из губок шарики липкого, нечистого воздуха: «Х-хё, х-хё, х-хё…»
Но Пальчик был не только гад. Он был еще и самый главный в классе. Можно сказать, полный хозяин. Потому что его боялись.
А Корнелий, по кличке Дыня, был муля.
Муля — это личность, которую все шпыняют и презирают. Это самый затюканный человек в классе, козел отпущения. Становились мулями обычно те, кто при стычках с одноклассниками не умел дать сдачи. Боязливость не прощалась. Так же как не прощались и некоторые другие качества: чрезмерная начитанность, излишнее послушание и неумение прыгать через гимнастического «верблюда». Традиции и нравы в государственном мужском колледже города Руты оставались незыблемыми в течение десятилетий.
Корнелий Глас, на свою беду, был не только боязлив, но и кругловат (недаром «Дыня»). Впрочем, ни боязливость его, ни упитанность, ни мешковатость на уроках гимнастики не были чрезмерными. При каких-то иных колебаниях судьбы Корнелий вполне мог остаться в классе равным среди равных. Но во втором классе, после потасовки с Эдиком Кабанчиком, он не выдержал и, хлюпая расквашенным носом, разревелся, да еще (хватило же ума!) пообещал сквозь слезы «рассказать мадам Каролине, как ты, Кабан вонючий, первым ко всем лезешь». Немедленно был он лишен всякого сочувствия и удостоился позорной песенки:
Муля-дуля, паровоз, В голове один навоз…И началась для Корнелия жизнь изгоя. Особенно тяжко стало в четвертом классе, когда там появился и взял в крепкие руки власть безжалостный Пальчик…
Сейчас Пальчик в упор глядел на Дыню фаянсово-голубыми глазками и наматывал на мизинец тонкую цепочку с амулетом — отлитым из желтого сплава кулачком с вытянутым указательным пальцем. Согласия на эксперимент он и не ждал, все решил сам.
Зрители стали кружком. Пальчик сел на пол, раскинул ноги, напустил перед собой из баллончика детской клизмы лужицу (кто-то захихикал).
— Ш-ша, дети, — сказал Пальчик. — Дайте губку. Дыня будет вытирать ею воду, а я — щелкать его цепочкой по руке. Если с пяти раз вытрет — меняемся местами. Такая игра, на быстроту.
Дыне куда деваться? Криво улыбаясь, взял губку, которой с доски стирали надписи. Сел на корточки. Лужица была всего размером с блюдце. А губка большая. Дыня примерился, все затихли. Дыня сделал обманное движение, цепочка свистнула, ударила об пол, а Дыня одним махом размазал воду в длинную полосу.
— Молодец, — сказал Пальчик. — Жми дальше.
При второй попытке цепочка скользнула по обшлагу. Через двойную ткань — почти не больно. Дыня осмелел и в третий раз прозевал: стальные колечки рассекли на запястье кожу. Корнелий взвизгнул, бросил губку, прижал ссадину к губам.
— А ты как думал? — серьезно произнес Пальчик. — Риск есть риск. Все по-честному.
Корнелий стиснул зубы, сощурил мокрые глаза и двумя рывками крепко растер воду по паркету. И прижал руку к животу, потому что на тыльной стороне ладони алели еще две полоски.
— Не вышло! — вопили послушные Пальчику болельщики. — Не насухо вытер!
— Ш-ша, — оборвал Пальчик. — Вытер нормально. Надо по справедливости. Теперь я…
Они поменялись местами. Снова появилась лужица.
— Лейте больше, — распорядился Пальчик. — Мне все равно. А ты, Дыня, лупи от души, не бойся, я злиться не буду. Я одним движением затру. Не верите? Спорим. Если не получится, дарю тебе, Дыня, цепочку с кулаком!
Корнелий сидел, раскинув ноги, вода блестела у него между развернутых коленей. Рука болела так, что Дыня забыл про осторожность и готовился врезать цепочкой по кисти Пальчика от души. Крепко сжимал в ладони металлический кулачок.
— Э, постой, — добродушно сказал Пальчик. — Ноги-то сделай пошире. Вот так… — Он деловито взял Корнелия за щиколотки и вдруг сильно рванул на себя.
Дыня, запрокинувшись, проехал по паркету и размазал воду собственным задом. Стукнулся об пол затылком.
Пальчик встал над ним, отряхивая ладони.
— Видели? Вытер одним движением. Скажете, не честно?
Все радостно завопили, что честно. Ура Пальчику!
Из последних сил давя в себе слезы, Корнелий встал. Не сдержал злости, швырнул цепочку с амулетом в грудь Пальчику. Но тот не стал его бить за это, сказал великодушно:
— Ничего, Дыня, не переживай. Лучше иди посуши штанишки.
На Корнелии были новенькие, первый раз надетые брюки — в точности как у Джимми Макферсона из кинофильма «Стрелкй желтой прерии». Из толстого, с бронзовым отливом, вельвета, с витым поясом и чеканными пряжками на широких кожаных помочах. Корнелий наивно надеялся, что этот мужественный наряд в какой-то степени повысит его авторитет. А что получилось! Толстая ткань будет сырой целый день, а сосед по парте Юлька Сачок на каждом уроке станет поднимать руку:
— Господин учитель, пусть Корнелий Глас выйдет, а то под ним почему-то мокро…
Представив это, Корнелий не выдержал и все-таки заплакал…
Господи, почему опять вспоминается школьное время? Какой теперь в этом смысл?.. И в бюро сегодня отчего-то вспомнилось ругательство детских времен… Может, неспроста? Может, был в этом какой-то зловещий намек?.. И эти трое мальчишек на дороге, причем один — рыжий и щербатый!
Не все ли равно теперь?
Теперь вообще ничто не имеет значения.
«Святые Хранители, за что же это мне? Чем я хуже других?»
Корнелий всхлипнул, оторвал от душного дивана лицо. Понял, что в свесившейся с дивана руке все еще держит листок-предписание. Дернулся от новой нелепой надежды, что все приснилось, и опять кинулся читать.
«Г-ну Корнелию Гласу из Руты… С прискорбием сообщаем…»
«С прискорбием»! Сволочи! Они будут жить, жрать, пить, гоготать над анекдотами, а он…
По какому праву?!
Корнелий сел, уперся кулаками в диван. В зеркале напротив увидел свое дикое, мокрое лицо. Зажмурился.
Под зеркалом затрещал телефон. С какой-то надеждой Корнелий бросился к аппарату, схватил трубку.
— Ну, как настроение? — спросил хихикающий голос Рибалтера. — Успокоился? Или снова будешь бросаться стак…
— Пошел к черту, гадина! — взревел Корнелий и рванул из стены шнур. И обмер, осознав, что порвал первую нить из тех, которые связывают его с жизнью.
Но он не хотел рвать!
Это его жизнь! Кто имеет право ее отобрать?!
А может, попробовать на прокатной машине с разгона прорваться через пограничный кордон? Как в кино «Резидент уходит навсегда»!..
Но в сопредельном Юр-Тогосе та же система индексов. И кроме того, Корнелий Глас никак не тянет на роль политэмигранта. А что касается простых беженцев и уголовных преступников, то есть международная конвенция о выдаче…
Вот именно, «уголовных преступников»… Если он попытается бежать, в этот разряд его и занесут. То, что конфискуют имущество и дом, — наплевать. И у Клавдии, и у дочери есть свои накопления, они женщины многомудрые. Но если его схватят (а все равно схватят!) — казнь по уголовному разряду.
Эту жуткую процедуру Корнелий видел на экране. В гулком бетонном зале осужденного со скованными руками и завязанными глазами ставят на колени у края квадратной ямы, в глубине которой ворчит лента транспортера. Из динамика раскатисто звучат слова приговора, а затем — назидание всем видящим эту сцену и краткая молитва. Выстраивается шеренга улан — в масках и с черными траурными повязками на рукавах парадных малиновых мундиров. Звучит оглушительный и дымный залп карабинов. И то, что секунду назад было человеком, валится в яму, транспортер уносит останки в адский зев крематория (зев этот был показан во весь экран)…
Правда, передача была не документальная, а серия фильма «Дороги неправых», но знатоки утверждали, что все показано с полнейшей точностью…
А с «административными» как? Говорят, что безболезненно и почти незаметно. Пилюля там какая-то или еще что-то подобное. Потому что «административный» — он ведь, в общем-то, и не виноват. Он по жребию расплачивается за крошечные нарушения и недосмотры многих тысяч беззаботных сограждан. Один — в поучительный пример многим…
Но почему этот один — именно он, Корнелий Глаг которому так славно жилось на Планете до недавнего часа? Который никому не хотел зла?
Корнелий замычал и опять почувствовал тяжелую тошноту. Кинулся в туалет. Оттуда вышел через несколько минут измученный и почти примирившийся с неизбежным Он так ослабел, будто от него осталась одна оболочка. Хватаясь за косяки, побрел в гостиную, где, как алтарь, возвышалась «Регина» — могучая установка со стереоэкраном высшего класса — предмет открытой зависти ехидного Рибалтера. Опустился в кресло — такое же ласково-податливое, как диван. Тихонько заплакал — такое родное было кресло, будто живое существо. Сколько вечеров он провел в нем перед экраном… А сегодня — последний…
А если разобраться — какая разница: сегодня или потом? Все равно какой-нибудь вечер был бы последним. Может, оно и лучше, что вот так, сразу, без всяких затяжных болезней и притворного сочувствия Клавдии, дочери и сослуживцев?
А почему притворного?.. «Ладно, не валяй дурака, — сумрачно сказал себе Корнелий, — хотя бы сейчас…»
Любил ли он Клавдию? Ну, наверно, вначале — да… Хотя, по правде говоря, женитьба была не столько из-за пылких чувств, сколько из-за желания иметь уютный угол с хозяйкой… Ну и что? Жили не хуже других. Как положено, появилось дитя, Клавдия назвала дочку Аллой. Корнелий некоторое время умилялся, таскал на руках мокророзового младенца, подавляя порой крепкую досаду от излишней крикливости чада. Но потом вдруг поймал себя на мысли, что так до конца и не проникся ощущением, что эта девочка — его дочь. Он, конечно, тревожился во время ее младенческих хворей, случалось, проверял оценки, когда пошла в школу. Но Алла, очень скоро ставшая маленькой копией мамы, относилась к отцу с той же ноткой снисходительности, что и Клавдия к мужу. В семь лет она впервые, следом за матерью, назвала Корнелия Котиком. Корнелий пожал плечами и с минутной грустью подумал, что его отцовские обязанности, пожалуй, окончены.
Далее все пошло очень быстро. Алла стремительно превратилась в неотличимую от других современно-стандарт ных красоток девицу (на улице он ее и не узнал бы), окон чила курсы младших сотрудников при газетном концерне «Либериум» и с первым мужем укатила в приморский Нейгафен. Там скоропалительно вышла замуж второй раз, — кажется, за органиста из какого-то оркестра.
Клавдия все это восприняла как должное, Корнелий следом за ней — тоже.
— Теперь, в конце концов, мы можем пожить и для себя, — сказала ему Клавдия.
Корнелий кивнул. Он никогда не спорил с женой. И не повышал голоса, даже если к горлу подкатывало тяжкое раздражение. Не потому, что щадил тонкую натуру супруги (какая холера с ней сделается?), а интуитивно берег собственный спокойный настрой. Психанешь на две минуты, а потом входишь в мирное русло целый час. Это ведь не на службе, где полаялся с Рибалтером, а через пять минут с ним же травишь анекдоты или сговариваешься заглянуть вечером в приятное заведение «мадам Лизы».
Что касается «жизни для себя», то Корнелий и так был занят этим на сто процентов. Не для Клавдии же, в конце концов, и не для преподобной красавицы Аллы вкалывал он в своем рекламбюро над сверхурочными заказами, копил валюту для взносов за этот дом. Клавдии говорил:
— К черту эти поездки на юг… То есть отправляйся, если хочется, а я закончу комплекс витрин для «Музыкальных джунглей».
Клавдия чмокала его ниже уха:
— Ты у меня умница. Ты у меня добрый…
А он был не умница и не добрый, а просто домосед по натуре. И свободное, без Клавдии, бытие в своем доме почитал за лучший отдых. А мир, который многие любят наблюдать из окна туристского автобуса, ничуть не хуже выглядел на стереоэкране…
Но скоро — совсем скоро — ничего не будет! Ни экрана, ни мира, ни даже Клавдии!..
Однако эта мысль, толкнувшись в сознании, не вызвала прежнего отчаяния. Видно, мозг был так вымотан недавней тоской и ужасом, что уже не отзывался эхом на неотвратимое и страшное.
Корнелий устало подивился собственному равнодушию и глянул на часы.
Что? С момента, как он увидел в ящике предписание, прошло всего сорок минут?
Целый век прошел! Потому что сейчас в кресле сидел совсем иной Корнелий. Передумавший гору непосильных мыслей, прошедший через отчаяние, изнуряющий страх, горькое отречение от жизни и примирившийся с безжалостной судьбой…
Солнце по-прежнему палило сквозь окна. Свесившейся с подлокотника рукой Корнелий повел по краю низкого пульта. Двинул рычажок. Голубые фильтры «лунный вечер зимой» послушно заслонили Корнелия от знойного августа. Еще движение пальца — и загудел кондиционер. Все было под рукой, все было послушно. «Можно жить, не вставая из кресла», — говорил иногда Корнелий и с удовольствием нащупывал кнопку включения «Регины».
…Только чтобы отменить, отключить завтрашнее, никакой кнопки не найдешь…
Боясь, что эта мысль вернет прежний ужас, Корнелий зашарил пальцами с другой стороны кресла. Опустилась крышка низкого бара. Под руку попала тяжелая квадратная бутылка. «Дракон». Жгучий концентрат для «мужских» коктейлей. Прекрасно!
Крепкими зубами (Корнелий так гордился ими! Где они будут завтра?) он вырвал высокую пробку, сплюнул сургуч. Приложил горлышко к губам. Нёбо, язык и миндалины обожгло. Горячий ток пошел до пяток. Вот так! Еще… И пусть все катится в преисподнюю. Как там говорил шутник-проповедник из фильма «Береговое братство»? «Крематорий хорош хотя бы тем, что это не самое холодное место на Планете…» Ха-ха…
Ощущение ожога прошло, а бодрость (хотя и слабенькая, нервная) осталась.
Ставя бутылку, Корнелий тыльной стороной ладони задел твердый переплет какой-то книги. Клавдия вечно сует в бар что попало!.. Ба, да это семейный альбом! Тут наверняка очередная проделка судьбы. Символическое совпадение: вспомни, мол, Корнелий Глас, напоследок всю свою жизнь. Простись…
А он не будет! Черта с два! Не будет, вот и все!..
Хотя почему? Это даже любопытно. И вообще… «Кончать надо достойно», — кажется, именно так говорил в прошлой серии капитан Буйтешлер, храбрый соперник Виля-изгнанника?
Да. И Корнелий тоже… достойно… В последние часы надо… это самое… оставаться личностью…
Черт, а внутри в самом деле настоящее пекло. Никогда он не глотал чистого «Дракона». «Х-хё, х-хё, х-хё», — как любил смеяться симпатичный Пальчик… Тьфу, опять лезут в башку воспоминания. Впрочем, это естественно. «Вся жизнь пронеслась перед его внутренним взором…» В альбоме тоже вся жизнь. Благодаря стараниям Клавдии…
Вот родители… Они ушли в лучший мир почти одновременно десять лет назад… («А может, он в самом деле есть, лучший мир? Скоро узнаем… Х-хё, х-хё, х-хё».) Корнелий погоревал об отце и матери, но, по правде говоря, он даже в детские годы не был привязан к ним слишком сильно. По странностям своего характера Корнелий напоминал кошку, которая, говорят, привязывается не столько к людям, сколько к месту, где живет. По родному своему дому (трехкомнатной квартире в двухэтажном казенном коттедже на Старолужской улице) он отчаянно тосковал, если его отправляли на школьную загородную дачу или в летний пансионат («Мадам Каролина, а муля, то есть Корнелий Глас, вечером опять ревел в подушку!»). Но почти не скучал по родителям, когда те уезжали куда-нибудь, оставляя сына с покладистой, добродушной соседкой…
Может, с той поры и завелась у Корнелия мечта о собственном удобном доме, как о главной цели жизни? Может, потому для него это кресло роднее, чем Клавдия? (Х-хё, х-хё, х-хё…)
А вот он сам на карточке, четвероклассник Корнелий Глас. В тех самых злополучных штанах с медными пряжками в виде скрещенных револьверов. Штаны только что купленные, еще не оскверненные подлой шуткой гнусного Пальчика…
А может, это и не Корнелий? В самом деле, какое-то круглолицее, лупоглазое существо ростом чуть выше старого резного стула, у которого оно стоит!.. Где тот стул? И где тот четвероклассник? В нынешнем Корнелии от этого пухлого, приоткрывшего рот мальчика не осталось ни одного атома — в силу известного круговорота веществ.
А если так, то какой смысл в таких снимках и воспоминаниях?
Он никогда не понимал тех, кто умилялся школьными годами. Что в них, в этих годах? Обиды, унижения, страх перед плохой отметкой, трясучка перед экзаменами, полное бесправие в жизни. И смутная, полустертая, но не исчезающая насовсем память о предательстве из-за вечной своей трусости…
Господи, да что он, хуже других был? Хуже этой сволочи Пальчика или его вечного адъютанта Гуки Клапана? Оба давно уже прошли по уголовному разряду за грабежи с утонченным зверством. Оба кончили век в бетонном под вале (Трах! — синий дым, стук тел amp;, кряхтенье поднатужившегося транспортера). Не спас цх «последний шанс» (кажется, один из двадцати четырех), который после при говора суда милостиво назначает осужденным юридичес кая Машина.
Она, Машина-то, не лишена гуманности: в нее специальный блок вставлен. Даже самому отпетому злодею, приговоренному людским судом к высшей каре, дает проблеск надежды. Хоть крошечный, но дает. И говорят в этом случае осужденный сам перед казнью последний раз испытывает судьбу: тянет из назначенного числа билетиков один. Трясущейся рукой (Корнелий видел это на экране) человек шарит среди бумажных трубочек в уланской фуражке — с отчаянным упованием на спасительное чудо…
Увы, такая надежда — лишь для уголовников. У «административного» Корнелия не будет ее. У него и без того было огромное число счастливых шансов — целый миллион без одного. Кто же виноват, что лазерный искатель уперся именно в ячейку с индексом Корнелия Гласа?
Да, а кто вообще во всем этом виноват?
Кто придумал идиотскую штрафную систему, когда за • нарушение любых правил и законов наказание одно — смерть?
Придумал, говорят, Административный Кибернетичес кий Центр — мозг всего государства, хранитель стабильности и общего благополучия. Четко все разработал, стервец! За мелкие проступки вероятность казни совсем крошечная, символическая. За крупные — и шанс побольше пусть виновный попереживает. А с уголовниками чего церемониться? Им по закону обычно припаивали такой приговор, что даже для мелких жуликов дело пахло крематорием всерьез: один смертный шанс из десяти. У матерых преступников шансов на спасение меньше половины. А у самых отпетых — всего ничего…
Мудрая система! Комментаторы вещали с экранов, что народ принял ее с восторгом — так же, как в свое время всеобщую индексикацию! Во-первых, гарантия полной справедливости и объективности — Машина не ошибается. Во-вторых, страх сурового возмездия (пусть даже при самой малой вероятности) сразу укрепил общественную нравственность и снизил преступность — так, по крайней мере, утверждал с экрана Заместитель Министра национального правопорядка. (Правда, через месяц после этого он был обвинен во взяточничестве и приговорен, по уголовному разряду с шансами пятьдесят на пятьдесят, но это лишь подтвердило беспристрастность Машины; Министру, впрочем, повезло, он вытянул «счастливый билетик» и мирно ушел в отставку.)
А какая экономия общественных денег! Расходы на содержание тюрем и стражи упали в десятки раз! Ведь сейчас тюрьмы нужны только для того, чтобы держать там редких осужденных самый короткий срок — от приговора до казни…
А сколько времени там проведет Корнелий! Наверно, это — сразу. Чего там возиться-то? И скорее всего, завтрашнего вечера он уже не увидит…
Давя в себе вновь колыхнувшийся тоскливый ужас, Корнелий сделал еще глоток. И вспомнил, что хотел прожить последние часы достойно. И спокойно. Сейчас он включит экран и посмотрит одиннадцатую серию «Виля-изгнанника». А потом… он… Нет, сперва это… выключить кондиционер… А то, не ровен час, и простуду схватишь… Простуду?.. Х-хё, х-хё, х-хё…
Очнулся он утром. С отчаянной головной болью и тошнотой. И сразу вспомнил все. Все, что сегодня его ждет!
Но мука была такая, что гибель не казалась страшной.
В самом деле! Чем терпеть такое, лучше уж… ничего не терпеть! Чем скорее все кончится, тем лучше!
Но ведь надо еще добрести… туда.
Он разлепил веки, которые были словно из жидкого асфальта. От фильтров «лунный вечер зимой» в комнате стоял синий тоскливый полусвет. Белый листок с предписанием (он валялся на ковре) казался голубым.
Корнелий застонал и поднялся. От резкого головокружения стал на четвереньки. Поднялся опять. Согнулся, засеменил в туалет. Его долго и вхолостую выворачивало над раковиной.
Он думал обо всем механически. Ни о чем не надо заботиться. Электроника сама отключит все приборы и поставит дом на режим «хозяева в отъезде». Муниципалитет сообщит Клавдии о случившемся (она бурно возрыдает и быстренько успокоится; Алла — та и рыдать не будет, она современно-сдержанна). Бюро перечислит жене старшего консультанта Гласа зарплату за последнюю неделю… Что еще? Все, пожалуй. Ничто его не держит в этом мире. Позвонить кому-нибудь, попрощаться? Телефон оборван. Да и тошно звонить. Было бы мучительно стыдно признаваться кому-то в случившемся. Хотя, казалось бы, не все ли равно? И в чем он виноват?
Стыд, что кто-то узнает о его скорой казии, был не менее тошнотворным, чем похмелье. Именно поэтому Корнелий заставил себя побриться: чтобы люди на улице по его виду не догадались, что с ним случилось и куда он идет. (Впрочем, и в предписании велено побриться.)
Бритва ласково мурлыкала в ладони, и Корнелий ощутил сентиментальную жалость расставания с этой похожей на доверчивого котенка машинкой. Потом он вспомнил: в бумаге велено быть помытым и в чистом белье. Открыл в ванной краны.
Ванну он сделал чересчур горячей, а потом — от ненависти к себе — открыл холодный душ. И принудил себя стоять под ним, стоять, обмирая…
Это была ошибка. Ледяные струи (и, наверно, подспудная, неистребимая мысль о близком конце) почти прогнали похмелье. Осталась лишь слабость с дрожью в ногах. Иногда она вырастала так, что делалась похожей на обморок. И непонятно уже было, или это обмирание от алкогольной отравы, или очередной наплыв изнурительного страха.
Постанывая, поматывая головой, Корнелий кое-как вытерся, оделся. Взял в шкафу летний бежевый костюм, выбрал свежую рубашку и даже галстук. Тут опять навалилось обморочное бессилие. Он лег животом на спинку кресла, перегнулся. Кое-как достал на полу бутылку с остатками «Дракона». Задавив тошноту, глотнул. Внутри словно распустился горячий бутон. Голову продрало колючей щеткой. Корнелий резко выпрямился и, не глядя по сторонам, вышел.
— Удачи тебе, Корнелий, — добродушно сказал ему в спину автомат-привратник.
С шорохом задвинулась калитка.
Было около девяти утра. Жара еще не наступила, от газонов и кустов пахло свежестью. Посвистывали птицы. Корнелий никогда не знал их названия.
«И никогда не узнаю», — подумал он. Однако без нового страха, просто с горечью. Впрочем, и горечи большой не было. В Корнелии словно что-то отключилось. Остатки отравления выветрились, хотя голова еще немного кружилась. Сильнее других чувств была боязнь встретить знакомых. Станут здороваться, спрашивать, куда так рано собрался в выходной. И придется отвечать, сочинять что-то…
Но никто не встретился по дороге до станции. Вагон монорельса был тоже почти пуст. Отрешенно глядя за окно, Корнелий доехал до станции Девять Щитов. Серебристо-голубой купол храма со слегка выгнутой ладонью на вершине поднимался над холмом, над лестницами и гущей деревьев.
Не помогут Корнелию Хранители со своими щитами.
Он спустился на улицу, ведущую от холма.
Улица была почти без деревьев, с пыльными двухэтажными домами третьеразрядных контор, лавок, прачечных и похоронных бюро. Потом с двух сторон потянулись глухие бетонные стены складов. Этот непроницаемый бетон будто начал стискивать мозг и сердце. Но Корнелий не сбивал мерного шага. Он чувствовал: если запнется, остановится, страх стремительно вырастет и толкнет в паническое, бессмысленное бегство. И тогда что? Свистки, крики мегафонов, уланы на своих черных одноколесных мотоциклах…
Его, растрепанного, исцарапанного, вытаскивают из кустов… Наручники… Толпа любопытных, в ней знакомые. И стыд, стыд…
Впрочем, это думала как бы одна половина мозга, а вторая равномерно отмечала шаги.
Зажатая складами улица сделала резкий поворот, и Корнелий с размаху остановился перед белой чертой — словно грудью грянулся в стену.
Вот она!..
Белая, шириной в ладонь линия пересекала от края до края пыльный асфальт. Перед ней, белилами же, была сделана по трафарету надпись:
СТОП! ДАЛЬШЕ ПРОХОД ТОЛЬКО С ПРЕДПИСАНИЕМ.
Сердце опять ушло в тошнотворную пропасть, задергалось редко и с разной силой (кажется, у врачей это называется «сердечная недостаточность»?). Тем не менее Корнелий машинально потрогал карман с предписанием — так перед посадкой в аэролайнер проверяют, на месте ли билет.
Ух! Ух-ух-ух… ух… — толкалось сердце. Корнелий глотнул. Постоял. Зажмурился и шагнул через черту, отделившую его от живых.
Муниципальная тюрьма
Ничего, конечно, не случилось. Да и что могло случиться сейчас? Это ведь пока не тюрьма. Как ни странно, сердце почти успокоилось. Корнелий глянул вперед. Улица опять поворачивала. Корнелий механически зашагал и, достигнув поворота, увидел аллею с жидкими деревцами. В сотне шагов аллея упиралась в невысокую белую стену с зелеными воротами. У ворот будка с приоткрытой дверью и окошечком. Над стеной верхушки тополей и крыши под искусственной черепицей — такой же, как на доме Корнелия.
Совсем не страшно. Тюрьма выглядела провинциально, даже уютно, как в мексиканском городке из фильма «Любимый конь капитана Диего Лас Пальмаса».
Ни мирный вид тюрьмы, ни добродушная внешность палача не дают, конечно, осужденному надежды на спасение, но как-то успокаивают. Это Корнелий давно еще вычитал в какой-то детективной книжке. И сейчас он, правда, почувствовал себя спокойнее. Страх опять поулегся. Вместо него нарастало другое скверное чувство — ощущение казенной зависимости, стыдливой неволи. Вроде той унизительной беспомощности, с которой он принужден был являться по призыву на милицейские казарменные сборы.
Именно с этим поганым чувством Корнелий шагнул в дверь проходной будки.
За старомодным, с точеными деревянными балясинами барьером сидел на табурете караульный. В самой вольной позе — привалившись к стене и взгромоздив казенные уланские ботинки с крагами на высокий ящик из-под пива. Берет на нем был тоже уланский — со значком и номером, а штаны и клетчатая рубашка — штатские. С широкого ремня спускался и висел почти у пола десятизарядный длинный «дум-дум» в кобуре без крышки. Рожа у этого привратника ада была круглая и вполне тупая. Выражение на ней, однако, было глубокомысленное, ибо этот человек предавался одному из самых философских и древних занятий. Следил за мухой на потолке.
Услышав шаги, он перевел глаза с мухи на вошедшего, убрал с ящика ботинки. Подумал, поправил берет. С чисто уланской смесью фамильярности и сухости осведомился:
— Куда направляемся?
— К вам, наверно, дружище… — В развязности Корнелий постарался спрятать стыд за свою обреченность и опять подскочивший в груди страх. — К вам, больше некуда. Вот, прислали бумажку…
Стражник неторопливо взял двумя пальцами предписание. Зашевелил мокрыми, как у слюнявого мальчика, губами. Глянул из-за листка на Корнелия. Опять в листок. И снова из-за листка. Рот у него приоткрылся, в глазах появилось что-то вроде сочувствия. Большим пальцем он сдвинул берет далеко на затылок. Краем бумаги почесал подбородок.
— Да-а, братец. «Повезло» тебе… Держи. — Он сунул предписание в мелко дрожащую руку Корнелия, дотянулся до телефона, снятой трубкой поколотил по контакту. — Господин старший инспектор! Тут такое дело, не поверите… «Миллионер» явился!.. Да честное слово!.. Не-е, улицу не там перешел… А я-то при чем, господин старший инспектор? Не я же его сюда притащил!.. Ну да, «гони в шею»! А потом меня в шею? Да еще «двадцатку» вляпают за нарушение устава!.. Я понимаю, но что делать-то?.. Слушаюсь, господин старший инспектор… — Он положил трубку, со смесью жалости и задумчивого любопытства глянул на Корнелия. Лицо у парня стало даже слегка симпатичным. — Ты вот что… Двигай через двор по главной дорожке, потом первый поворот налево. Упрешься в контору. Там в комнате номер один сидит старший инспектор господин Мук. Он все оформит…
Привстав, парень вздохнул и толкнул внутреннюю дверь.
Старшему инспектору на вид было лет тридцать пять. Белобрысый, с невзрачным лицом и узкими плечами, он сидел за широченным конторским столом — совершенно пустым. Вертел в пальцах куцый карандаш. Поднял на Корнелия белесые ресницы.
— Это ты, значит, «миллионер»? Давай документ, бедолага… Да не стой, вон скамейка.
С ощущением, что все это жутковатый сон, Корнелий сел у белой стены. К страху он притерпелся настолько, что теперь испытывал даже что-то вроде болезненного интереса: а что дальше?.. Или это правда сон? Какая-то чужая комната с пустыми стенами, бесшумно качаются листья за решетками открытых окон… Какой-то бесцветный тип за облезлым столом читает бумагу. Про него, про Корнелия. Карандашом что-то нацарапал на столе (кажется, его, Корнелия, индекс). Прочитал, бросил бумагу в ящик. Сказал с искренней досадой:
— А какого черта они присылают в субботу? Что я с тобой буду делать? Исполнитель-то бывает по понедельникам.
В глубине души Корнелий поразился обыденности разговора. И огрызнулся так же буднично:
— А я при чем? Я сюда не просился.
Старший инспектор на это не рассердился. Покивал:
— Понимаю, тебе тоже кисло… Ах ты дьявольщина! Что же делать? Теперь будет волокита… Ладно, обожди… — Развернувшись, он взял с подоконника желтый аппарат с клавиатурой междугородной связи. Вскинул трубку, защелкал кнопками.
— Алло! Узел?.. По шифру «Лист», восьмая строка. Благодарю… Сектор наблюдения? Добрый день, на связи муниципальная тюрьма номер четыре, старший инспектор Альбин Мук… Виноват, не понял… Да, Альбин Мук из Летова… Кто-о? Ваккер?! Ста-ри-ик! Откуда ты всплыл?.. Значит, ты сейчас шеф сектора? Помощник? Ну, все равно растешь! Я стою навытяжку… Слушаюсь стоять вольно, ха-ха… Да помаленьку, какие тут у нас перспективы! И мороки полно. Конечно, не ваши столичные масштабы, но все равно… Ага, по делу, разумеется. Снять с учета индекс… Нет, по административному. Вляпался тут один по миллионному шансу… Да, я и то говорю: не повезло мужику. За переход на красный свет, кажется. Вот-вот. Живешь, не тужишь, и вдруг — трах! Одно слово — Машина. Все под ей, под родимой, ходим… Ага, даю: У, Эм, Эф… Тире, Икс… сто одиннадцать, триста сорок четыре… Что? Да нет еще, послезавтра, наверно… Боже мой, ну какая разница? Куда он денется? В понедельник могу не успеть, исполнитель иногда под вечер является, во вторник у нас аппаратный день, потом я закручусь, не дозвонюсь — и будет на мне висеть… Вак, по старой дружбе, а? Вот спасибо… А эт® еще зачем? Ох и бюрократы вы, господа наблюдатели! Шучу, шучу… — Он отодвинул трубку и глянул на Корнелия. — Слушай, тебя как звали? Индекса им, крохоборам, недостаточно…
От этого мимолетного и добродушного «звали» Корнелия опять ударило упругой подушкой ужаса.
— К… кха… Кор… нелий…
— Полностью, полностью.
— Корнелий Глас… Из Руты…
— Ишь ты! У меня теща из Руты…
И старший инспектор снова заговорил в трубку, а Корнелий, утопая в серой полуобморочной мути, исходил теперь мысленным беспомощным криком: «Почему «звали»? Я не хочу! Я вот он, я есть! Меня зовут Корнелий Глас из Руты, я хочу жить! Не надо меня…»
Потом его опять отпустило, и он как сквозь вату услышал голос инспектора Альбина:
— Ладушки, Вак… Оч-хорошо. Спасибо. Занесет в наши края — заходи, раздавим жбанчик по-старому, вспомним уланскую молодость. Естес-но. Супруге привет… Да? Ну, извини, не знал. Ясно. Как поется: «Неизвестно, кому повезло…» О чем разговор! Обижаете, начальник… Ха-ха… Ладно, будь…
Альбин опустил трубку. Перевел взгляд на Корнелия. Улыбка сходила с лица старшего инспектора, будто стираемая медленной ладоныо. Глаза поскучнели. Старший инспектор Мук от воспоминаний, вызванных беседою со старым приятелем, возвращался к будням тюремной службы. Но надо отдать справедливость: даже и сейчас в его глазах Корнелий не заметил раздражения. Скорее, опять намек па сочувствие. И даже капельку виноватости.
— Вот же ж кретины, присылают в субботу… Дак что мне с тобой делать-то?
Корнелий пожал плечами. На него в эту минуту накатило ленивое безразличие. Снова ощутимо подташнивало. Инспектор побарабанил пальцами, повернулся к окну и неожиданно сильным тенором крикнул сквозь решетку:
— Гаргуш! А ну, зайди ко мне!
Через полминуты возник в дверях нескладный, длинный парень с унылым носом и печальными коричневыми глазами. Расстегнутая уланская форма висела на нем, как на палке. Парень медленно начал:
— Я вас слушаю, господин ста…
— Слушай, слушай. И делай… Прислали вот человека, надо ему перекантоваться до понедельника, ты устрой…
Гаргуш неожиданно осклабился — зубы желтые, большущие.
— Ну а чего… Номера-то все свободные, как на Побережье в пустой сезон…
— Понятно, что свободные. Ты устрой как надо: постель там и все прочее. Чтобы по-людски. Человек-то не виноват, не уголовник ведь, просто залетел по миллионному делу…
«Миллионное дело» — звучит-то как!» — отрешенно подумал Корнелий. Гаргуш глянул на него — в печальном взоре что-то вроде доброжелательного любопытства.
— Дак пойдемте, что ли…
Корнелий встал.
— Как-нибудь перекрутишься пару суток, — вздохнул инспектор. — Не курорт, но что поделаешь…
— Господин инспектор, а кормить-то чем? — вдруг обеспокоился Гаргуш. — Это что, значит, из-за одного человека мне кухонную линию доставки налаживать? Она ведь, сами знаете…
— Не надо. Возьмешь еду за стеной, у ребятишек. У них, конечно, не ресторан, да что поделаешь. Не отощает гость до понедельника…
Корнелий на вялых ногах шагнул к порогу. И там замер, настигнутый новым приступом страха. Не сдержался, слабо хмыкнул, спросил:
— Ну а в понедельник-то что? Как оно тут вообще у вас… делается?
Он сознавал, какая ненатуральная, жалкая его развязность, и знал, что инспектор видит его насквозь. Но тот отозвался без насмешки, с бодрым пониманием:
— А, ты про это! Да брось, не думай. Чепуха, шприц-пистолетик, безболезненный. Ляжешь на диванчик и не заметишь, как бай-бай… Все там будем — не завтра, так послезавтра…
Этой нехитрой мыслью — «не завтра, так послезавтра» — Корнелий и успокаивал себя, двигаясь за надзирателем Гаргушем. Пришли в одноэтажный белый дом. В коридоре — с десяток дверей, на каждой зарешеченное окошко и засов. Все как полагается.
Камера оказалась просторная. Белая. Окно большое, решетка с завитками, как в старинном замке. Гаргуш вышел, скоро вернулся, начал расстилать на узком матрасе простыни и одеяло.
— А вон там, на полке, значит, электробритва. Только втыкать надо в коридоре, тут дырок нету… И гальюн тоже в коридоре, в конце…
— Запирать-то, выходит, не будешь?
— А на кой? — удивился Гаргуш. — Гуляйте хоть по всей территории, радуйтесь белому свету. Только за проходную не суйтесь, а то там на контроле Кизя Лук сидит, крик подымет…
Наконец он ушел, и Корнелий обессиленно свалился на жесткую койку. Лицом в подушку. Обдало запахом стерильного казенного полотна — как в казарме на сборах. Это был запах тоски и безнадежности. Но подняться не хватило сил.
Вот она какая — камера смертников. Чистая, просторная, незапертая. Солнышко сквозь окно печет затылок.
Тюремные чиновники добродушны и снисходительны… Лучше бы уж кандалы, сырой подвал, пытки… А эта пытка — лежать, утыкаясь в казенную подушку, и ждать двое бесконечных суток… Или, наоборот, очень коротких? Несчастье или благо эта отсрочка? А если бы это прямо сейчас — лучше было бы или хуже?
Сегодня, завтра или послезавтра — какая разница?
Зачем ему эти два дня и две ночи? Может, чтобы подвести итоги, подумать о смысле прожитой жизни?
А в чем он, смысл-то?
Много лет учили Корнелия Гласа, как и других школяров, что главный смысл — внести свой посильный вклад в упрочение цивилизации. В укрепление стабильности общества. Какой вклад он внес? Самая главная работа — это, пожалуй, рекламное оформление Готического квартала. Да, ничего получилось, все оценили. И была премия, и было повышение, и даже в ехидстве Рибалтера звучала еле прикрытая зависть… Но ведь Эдик Ружский сделал бы эту работу не хуже. Даже лучше сделал бы, если говорить честно (а когда говорить с самим собой честно, если не сейчас?). Корнелий тогда выхватил заявку на проект у Эдика из-под носа, и все говорили, что сделано было чисто. Но при чем здесь польза для цивилизации? И вообще, нужно ли цивилизации рекламное дело?
Реклама служит радостям. Может, смысл бытия в радостях? Что ж, их, радостей, кажется, хватало. Но… если опять же честно разбираться, разве были они полными, без оглядки? За каждой прятался страх. Страх, что эта радость может оказаться непрочной, что завтра станет хуже, чем сегодня, что шеф верцет его эскизы и предпочтет эскизы Рибалтера или Ружского; что не хватит гонорара для очередного взноса за дом; что опять вызовут в уланские казармы; что на обязательном медосмотре обнаружат что-нибудь такое (после веселого отпуска на Островах, вдали от Клавдии); что вот уже и за сорок, и время летит все быстрее, и почему-то стало невпопад, незнакомо перестукивать порой сердце…
Ну а с другой стороны, кто живет без страха? Без него — никуда. Страх — регулятор всей жизни. Везде и всегда. Недаром же мудрая Машина заменила все наказания прошлых эпох на одно: на штрафную электронную лотерею, где главное — страх смерти. Иногда крошечный. Иногда оглушающий, доводящий до паралича — если шанс гибели велик… Но вот ведь и самый крошечный шанс привел Корнелия сюда… И теперь Корнелий сполна пьет чашу наказания страхом. Именно страхом, потому что сама смерть что? Тьфу. «Ляжешь на диванчик — и бай-бай…» Так вроде бы выразился этот инспектор? Альбин его, кажется, зовут. Подходящее имя для такого альбиноса… Но подожди, Корнелий, не вертись, не прячь морду под мышку. Ты же знаешь, что это имя застряло в памяти по другой причине…
Может быть, здесь знак судьбы? Знак отмщения? В том, что этого человека, призванного отнять у Корнелия жизнь, тоже зовут Альбин?
Господи, чушь какая! Слюнявое «розовое» детство, тридцать лет прошло. И нисколько не похож этот Альбин на того… Скорее, он похож на Клапана, который был преданным адъютантом Пальчика, — с такими же белесыми ресницами и стертым лицом… И не будет этот нынешний Альбин лишать Корнелия жизни, на то есть специальный исполнитель, который должен появиться в понедельник — и бай-бай…
И Корнелий обессиленно провалился в глубокий, как черная шахта, сон.
Видимо, измученный мозг спасительно выключился на несколько часов. Когда Корнелий очнулся, по цвету неба и освещению листьев за окном он понял, что день перевалил за половину.
На столе поблескивали судки, — значит, Гаргуш принес обед, но будить Корнелия не стал.
Корнелий сел, поматывая головой. Прислушался к себе. Внутри сидела тупая несильная тоска. Почти без боязни.
«Психика примиряется с неизбежным», — с кислой усмешкой сказал себе Корнелий. Шагнул к столу, приподнял на судке крышку. Пахнуло теплым варевом, он вздрогнул: противно. В большой никелированной кружке оказался холодный компот. Корнелий поглотал его, чтобы забить во рту запах наволочного полотна. Компот был хорош, но тут же опять замутило.
Корнелий сбросил на кровать мятый пиджак и галстук.
Вышел в коридор, отыскал туалет. Потом прошел на тюремный двор.
Двор был патриархальный. Трава, песочные дорожки, тополя, клены с разлапистыми листьями. Высокие сорняки у каменного, с облезшей побелкой забора. Там же груда пустых дощатых ящиков. Словно приглашение: взбирайся, прыгай через забор — и на волю.
Корнелий сел прямо в траву, вытянул ноги, прислонился к нижнему ящику. Голова была ясная, но сил — никаких. Не хотелось двигаться. Корнелий запрокинул лицо. Небо в зените светилось чистой голубизной, не чувствовалось в нем вчерашнего зноя. Медленно меняя форму, двигались облака — светло-желтые, легкие, с пушистыми краями. Была в них такая отрешенность, несвязанность с земной человеческой жизнью, что на Корнелия снизошло спокойствие. Этакое понимание истины, что все суета сует. И сидел он так долго-долго, почти бездумно. Желал только, чтобы никогда это не кончалось.
Изредка пролетали над ним желтые и белые бабочки, а выше носились ласточки.
Через бесконечное время раздались шаги, и сбоку откуда-то появился, навис Гаргуш…
Тут такое дело… господин Глас. Господин старший инспектор спрашивали: если надо священника, то можно сделать заявку. Только скажите, по какой вере и когда. Можно на завтра или на послезавтра утром…
Возвращаясь с беззаботных небес на тюремный двор, Корнелий опять ощутил упругие толчки тошнотворного ужаса. И, надеясь, что это кончится с уходом Гаргуша, быстро сказал:
— Нет, не надо, спасибо.
Тот переступил громадными ботинками, от которых пахло натуральной кислой кожей.
— Не верите, выходит, в царствие небесное?
— А ты веришь? — с раздражением бросил Корнелий (странно: оказывается, он еще может чувствовать раздражение) .
— А кто его знает… — Гаргуш медленно отошел.
Корнелий опять запрокинул голову… Он не верил в царствие небесное. И рад был бы сейчас, да поздно утешать себя сказками. К религии он относился… да, пожалуй, никак не относился. Отец был, кажется, полностью неверующий. Мать причисляла себя к какой-то общине. Кажется, Братство евангелиста Марка. Лет до десяти водила Корнелия по праздникам в сумрачный собор, где мерцали россыпи свечек. У Корнелия осталось в памяти ощущение зябкости и страха, что вот опять придется по команде священника вставать на колени. Мелкий узор очень холодных чугунных плит больно впечатывался в пухлые коленки, а мать шепотом говорила: «Не егози…» Потом она в своем братстве поссорилась с другими дамами из-за толкования каких-то апокрифических евангелий и перестала посещать храм. На этом и кончилось приобщение юного Корнелия Гласа к основам вероучения. Далее он жил, не размышляя всерьез, что было сперва: идея или материя? Есть где-нибудь во Вселенной Бог или нет? Ибо решение этой проблемы никак практически не влияло на жизненные интересы Корнелия — ни в детстве, ни в зрелом возрасте.
И уж тем более не могло оно повлиять сейчас — в оставшиеся часы земного бытия Корнелия Гласа из Руты.
Корнелий сидел в траве у ящиков, пока солнце не ушло за тюремный забор. Потом встал, подержался за окаменевшую поясницу и побрел в камеру. Просто так, ни за чем. Скорее всего, машинально подчиняясь заведенному в жизни порядку: ночь надо проводить в постели.
В окне было еще светло, но под потолком горела яркая лампочка. Блестели на столе судки — уже другие. Видимо, исполнительный Гаргуш (или кто другой) убрал несъеденный обед и принес ужин. Сервис…
Корнелий хотел упасть лицом в подушку, но память о запахе казенного полотна удержала его. Он сел, низко опустил голову и охватил затылок. И сидел опять долгодолго. Мысли были отрывочны. Какие-то клочки на темносером фоне уже привычной тоски и обреченности. Почему-то вспоминался то и дело старший штатт-капрал Дуго Лобман. «Гос-спода интеллигенты, р-равняйсь!.. Муниципальная милиция — это почти что армия! Здесь не ваши балдежные штатские правила, а у… что?., став! У-став! Смир-р-ны! Десять кругов бегом по плацу… Подтянули животики… марш!»
Корнелий помотал головой. Надежда, что придет усталость и забытье, оказалась напрасной. Он выспался днем.. И теперь, судя по всему, предстояла бессонная ночь. Корнелий содрогнулся. Резко встал. Опять вышел во двор. В небе таял неяркий послезакатный свет. Одиноко торчал месяц, голый и беспомощный, как мальчишка-новобранец перед призывной комиссией. Где-то за стеной раздались и смолкли детские голоса. Пахло остывающей травой. Далеко-далеко, в другом мире, монотонно шумел город…
Стукнула дверь конторы, кто-то сошел с крыльца. А, инспектор… Неровными шагами он побрел через двор. Остановился недалеко от Корнелия.
— Что? Не спится, видать?
Корнелий промолчал.
— Оно понятно…
Старший инспектор Мук был явно под хмельком. И уходить, кажется, не собирался. Вот скотина…
Вздохнув и потоптавшись, инспектор Мук вдруг попросил:
— Слышь, может, пойдем посидим, а?
— Куда? — устало удивился Корнелий.
— Ну. .. ко мне… Я сейчас один тут. Всех распустил к чертовой матери, даже внешний пост. Совмещаю должности, так сказать, у нас разрешается. Деньги-то нужны, жена поедом ест, что до сих пор в долгах, с самой свадьбы… Вот и торчу здесь круглыми сутками, тоска… А тебе тоже… чего одному-то?
Несмотря на всю дикость положения, Корнелий на миг ощутил какое-то превосходство над инспектором. Даже ухмыльнулся:
— А что ты можешь… предложить для веселья?
— Две бутылки «Изумруда», — с готовностью отозвался инспектор. — И банка морской капусты, чтобы зажевать… Посидим, а? Понимаешь, муторно одному…
Это было все-таки лучше, чем бессонная ночь в камере. И… забавно даже. Кроме того, с помощью «Изумруда» нетрудно отшибить себе надолго память. Что и требуется…
— Пойдем… верный страж мой, — опять ухмыльнулся Корнелий.
Теперь стол инспектора не был пуст. На нем светилась совершенно нелепая здесь бронзовая лампа с завитками и желтым фарфоровым абажуром ретро. Поблескивали зеленью две трехгранные бутылки (одна уже початая), раскупоренная консервная банка, два тонких стакана. Инспектор подтащил из угла тяжелый конторский стул с вертящимся сиденьем — для Корнелия.
— Ты садись… Я понимаю, тебе, конечно, пакостно, да что делать-то… Все едино… Я… мне вот тоже… Давай… — Он сковырнул со стакана соринку, торопливо налил себе и Корнелию. — Ну, будем…
Он резко вылил в себя зеленую жидкость. Корнелий помедлил секунду, сделал то же. Горячая волна прошла по пищеводу.
Инспектор хватал пальцами лиловую лапшу морской капусты. Чавкая, сказал Корнелию:
— Ты давай дергай руками, вилок-то нет… — Потом он размягченно отвалился к спинке стула. — Ну вот, полегчало малость… Тебя вроде бы Корнелием звать?.. А меня — Альбин.
— Слышал, — хмуро сказал Корнелий. — Знаю…
И подумал опять: «А может, знак судьбы?»
Они выпили еще. Альбин, крепко хмелея, начал говорить, что кантуется он здесь не только из-за денег, но и потому, что дома хоть в петлю лезь, баба взбеленилась, поедом ест, и жизни никакой…
Корнелий ощущал теплую успокоенность. Соблюдая этикет, он глядел в белесое лицо Альбина и время от времени кивал. И кажется, даже улавливал смысл. Но это работала лишь частица его мозга. А главное сознание Корнелия было не здесь. Все глубже и глубже уходил он памятью в давнюю пору. Вернее, что-то властно уводило его. Туда, где было Корнелию Гласу одиннадцать лет…
…Того мальчишку тоже звали Альбин.
Стекло и стебелек
Новичок появился в четвертом классе незадолго до летних каникул. Его привел директор, по прозвищу Гугенот. Мальчишка был коротко стриженный, с ушами, похожими на ручки фарфоровой сахарницы. Гугенот ласково придерживал его за погон суконной курточки. Эти форменные курточки, как и береты со школьными эмблемами, были объявлены необязательными два года назад. Теперь в них приходили на занятия лишь немногие. Считалось, что форму любят отличники, подлизы и прочий недостойный уважения народ. А чтобы явиться на уроки в такой «мундерюге» теплым летним утром, надо быть «вообще без шарика в обойме». Но мальчик и его родители, видимо, не знали здешних нравов. Решили, наверно, что в день знакомства с новой школой надо соответствовать правилам этой школы во всем. Вот мама и обрядила новичка в купленную накануне форменку здешнего колледжа.
Расчетливые мамы все покупают детям на вырост. Слишком широкая и длинная куртка выглядела на щуплом новичке достаточно нелепо сама по себе. И тем более в сочетании с куцыми «штатскими» штанишками, косо и беспомощно торчащими из-под суконного подола. И с белыми девчоночьими башмачками и канареечными носочками. И с аккуратной сумкой для книг, какие носят только первоклассники. Нормальные люди толкали учебники и тетради в пакеты с портретами киношных суперзвезд или в холщовые мешки с эмблемами знаменитых фирм и авиакомпаний. А это чучело…
Мальчик мигнул и тихо, но отчетливо сказал:
— Здравствуйте.
— Му-уля! — радостно выдохнули сразу несколько человек.
И Корнелий понял, что пришел срок его избавления. Ибо по неписаным законам в классе мог быть только один муля.
А мальчик пока ничего не подозревал. Уши доверчиво топорщились, серые глаза безбоязненно смотрели из-под круто загнутых ресниц, верхняя губа была чуть вздернута под маленьким носом утиной формы. Два передних зуба молочно блестели, придавая лицу выражение постоянной полуулыбки — доброй и слегка удивленной.
— Я уверен, Альбин, ты подружишься с новыми товарищами, — ровно сказал директор, и все знали, что уверенности в этом у Гугенота нет. Все, кроме новичка.
Альбин глянул вверх на директора, потом на класс, простодушно шмыгнул утиным носиком и улыбнулся пошире. Ответил:
— Я тоже.
В том смысле, что он тоже уверен, что подружится.
Класс развеселился еще заметнее. Но Пальчик с задней парты приказал:
— ш-ша, дети. — Видно, не хотел раньше времени настораживать новичка.
И урок живой природы у вечно испуганной и слезливой мадам Каролины прошел на сей раз удивительно мирно.
На перемене мальчишки обступили Альбина.
Нет, он оказался не такой уж простофиля. Хотя все вели себя сперва сдержанно, Альбин почти сразу понял, что дело иечисто. По глазам, видно, понял, по первым, со скрытой ехидцей заданным вопросам. Отвечал коротко и настороженно. Поглядывал, как пойманный бельчонок.
Кто-то уже с деланной заботливостью поправил на нем курточку, сдувал невидимую пыль, кто-то пригладил макушку.
— А это что у тебя такое красивое? — Пальчик с приторной улыбочкой потянулся к значку на куртке Альбина.
Значок и правда был хорош: выпуклая хрустальная линза размером с трехгрошовую монетку, в тонкой серебряной оправе, а под стеклом, на темно-васильковом фоне — золотая буква «С» и крошечная звездочка. Похоже на старинную мусульманскую эмблему.
— Не тронь, это о л о, — быстро и насупленно сказал новичок.
Рука Пальчика замерла в дюйме от значка. Что бы там ни случалось между мальчишками, как бы ни враждовали они, но был один закон, который никто нарушать не смел: то, что объявлено оло, трогать нельзя. Это как табу у древних туземцев. Конечно, если какой-нибудь дурень объявит оло дрянную игрушку, модную обновку (чтобы не лапали!) или собственную персону, чтобы защитить себя от насмешек и тумаков, — этот номер не пройдет. Мальчишечий народ чутко определял, где подлинное оло. Например, были оло разные талисманы, крестики у ребят из христианской общины, штурманский планшет у Владика Руцкого — память об умершем дяде… И сейчас все чутьем поняли, что значок у новичка — настоящее оло. В настороженном молчании появилось что-то вроде уважения. А секундная нерешительность Пальчика еле-еле, но поколебала его авторитет. Опытный Пальчик это ощутил тут же. И среагировал:
— Ах, извини, я не знал… А это что у тебя? Надеюсь, не оло? — Он ткнул в подол куртки.
Альбин нагнулся. И Пальчик ловко ухватил нос новичка, сжал крепкими костяшками.
Конечно, Альбин замычал, запищал, закричал гнусаво, задергался. Затопал новенькими туфельками. При общем веселье. А Пальчик водил его голову за нос туда-сюда и тонким, «дошколячьим» голоском напевал только что придуманное:
Оло — не оло, Муку намололо, Оло — не оло, Башку раскололо…Альбин сильно дернулся, освободился и, не разгибаясь, ударил Пальчика головой в грудь. Тот отлетел. Но на ногах удержался. И не взъярился, не врезал тут же нахалу. Подышал, покачал головой и сказал тоном огорченного директора колледжа:
— Вы видели, дети? Только переступил порог класса — и уже так себя ведет. Допустимо ли такое? А?
Все обрадованно завопили, что недопустимо. И выжидающе уставились на Пальчика. Тот сокрушенно вздохнул:
— Ступай на свое место, новичок. Я подумаю, как поступить с тобой.
Пальчик не торопил события. Главное, что начало было положено. Выражаясь по-научному, создан «казус белли» — повод для начала военных действий. Хотя едва ли можно считать военными действиями, когда три десятка человек безнаказанно изводят одного.
Все с того дня пошло по обычной программе. Новый ученик получил персональное прозвище — Утя — и в первую неделю полностью испытал, что значит быть мулей в четвертом классе государственного мужского колледжа города Руты.
Его редко били всерьез, хотя на серьезный отпор он был не способен (разве что доведут до отчаяния). Интереснее было изматывать мулю понемногу. Щипками, дразнилками, «случайными» тычками, подложенными в портфель химическими «вонючками»… На мулю разрешалось даже ябедничать, тем более что считалось это «просто шуткой». Например:
— Мадам Кларисса, ученик Ксото хочет выйти, но стесняется попроситься!
— Ксото, в чем дело? Правда? Ну, ступай тогда…
— Да врет он! Никуда мне не надо!
— Я не вру! Если не надо, тогда почему тут…
И сосед Альбина картинно зажимает нос. И все хохочут.
И Корнелий хохочет.
Первое время Утя ловился на обманное сочувствие. Стоит он на переменке в уголке, зыркает боязливо, и тут подходит кто-нибудь с заботливым, серьезным лицом:
— Утя… Ой, извини, Альбин… Я смотрю, этот гнида Клапан опять к тебе приставал? Что ему надо?
Утя вскидывает глаза — в них радостная искорка надежды: неужели нашлась хоть одна добрая душа?
— Ты его не бойся, — ласково учит «доброжелатель». — Если он делает вот так… — Следует рассчитанный удар «под чашечку», и Утя стукается коленками о паркет. — То ты его вот так! — И «наставник» помусоленным пальцем ввинчивает в Утино темя болезненную «грушу».
— У, гад! — Утя вскакивает, левой рукой держится за ногу, правой беспомощно замахивается на обидчика.
Тот отскакивает, сокрушенно ищет справедливости у собравшихся:
— Вы видели? Я ему помочь хотел, а он…
— Нехорошо, Утя, — говорит Пальчик. — Почему ты такой агрессивный?.. Ну-ка, встань прямо, когда с тобой разговаривают…
Он берет Утю за ухо, заставляет отпустить ногу и распрямиться. На ноге Ути — синячище, в глазах — жидкие бусины. Он опять безнадежно замахивается…
— Что здесь происходит? — Этот строгий голос будто откуда-то с высоты.
Но Пальчика с катушек не собьешь.
— Господин дежурный учитель, мы сами не понимаем: он сперва на всех замахивается, а потом сам же плачет! Он, наверно, нервный…
— Разойтись немедленно! И чтобы больше такого не было!
— Хорошо, господин учитель…
Утя смотрит на недругов с бессильной ненавистью. Нет, он ничего не скажет дежурному наставнику, не будет объяснять правду. И не потому, что опасается прослыть не только слабаком, а еще и ябедой, терять ему все равно нечего. И уж конечно, не потому, что жалеет своих мучителей или боится мести. Тут что-то другое… Что?
Внешне Корнелий относился к Уте, как все. Щипал и подтыкал, хохотал над его беспомощными попытками защититься. И над наивными вопросами: «Что я вам сделал? Ну объясните же, наконец, по-человечески, что вам от меня надо?» Как ни верти, а все-таки приятно было, что не ты теперь самый безответный и слабый. Что есть в классе личность, которую можно обхихикать и пнуть и не получить сдачи. И Корнелий порой делал это. Не только ради удовольствия, но и для того, чтобы видели, что он уже не муля.
Впрочем, инстинкт подсказывал, что перегибать палку по отношению к Уте Корнелий не должен. А то найдутся умные люди и заметят: «Во, как завыступал Дыня! Давно ли на четвереньках бегал, а теперь осмеле-ел… С чего бы?» Возьмут да и отступятся от Ути, решив, что прежний муля удобнее нового.
Поэтому случалось, что Корнелий порой незаметно уходил из толпы, веселившейся вокруг несчастного Ути. Уходил еще и потому, что за желанием насладиться своей (какой-никакой) властью и силой шевелилось сочувствие к этому неприкаянному Альбину. Ведь сам досыта нахлебался такой жизни! И бывало, что, встречаясь с Утей взглядом, Корнелий отводил глаза.
Свою форменную курточку Альбин больше не надевал, приходил на уроки в обычной клетчатой рубашке. Но значок носил по-прежнему. Правда, прицеплен был значок так, что его прикрывала лямка штанов. Над этими лямками (на спине крест-накрест, на груди перекладинка, на животе — пуговицы, как у первоклассника) тоже хихикали. Но не сильно. Все понимали, что надень Утя хоть самый взрослый и мужественный костюм, все равно он останется мулей. Даже еще больше будут дразнить. И сам Альбин это, конечно, понимал.
И все же (Корнелий смутно это чувствовал) был в Альбине какой-то стерженек. Скрытое упрямство или гордость. Он никогда не прятался от тех, кто над ним издевался. Притиснется спиной к стенке, сожмется и ждет…
Наверное, из-за этого неумения убегать от опасности он и не отказался от должности котельщика.
В конце учебного года четвертый класс готовился к традиционному походу по окрестным лесам. Конечно, то, что ожидалось, трудно было назвать настоящим походом, просто двухдневная экскурсия с ночевкой в благоустроенном пансионате «Оранжевые скалы». Но предполагалось несколько привалов сделать в лесу и готовить еду из собственных припасов. Учитель гимнастики, который занимался подготовкой экспедиции, сказал:
— Ну а кто будет котельщиком? Дело ответственное. Выбирайте надежного человека.
Все понимали, что дело не только ответственное, но и муторное: отвечать за продукты и посуду, следить за варевом, а главное — таскать на себе гулкий котел, хотя и не тяжелый, из желтого ретросплава, но громоздкий и неудобный. Да еще и чистить его после каждого привала.
Все притихли, упрашивая судьбу обойти сторонкой. И в этой тишине Пальчик солидно предложил:
— У нас Альбин Ксото самый добросовестный. Выберем его.
Все возликовали. Все вскинули руки, голосуя за самого добросовестного. Альбин заметно побледнел. Он сразу понял, чего ему будет стоить это «доверие». И все же, когда учитель спросил, согласен ли Альбин, тот встал и молча кивнул, глядя поверх голов. Класс опять весело загудел, предвидя массу развлечений. Но смолк при грозном «ш-ша» умного Пальчика.
Наверно, учитель о чем-то догадывался. Но скорее всего, придерживался привычной мысли: в своих ребячьих делах дети разберутся сами, взрослым лишний раз вмешиваться не стоит. Однако он заметил:
— Должность эта нелегкая. По-моему, нужен помощник. А?
Опять четвертый класс притих. А Корнелия словно толкнуло: или страх, что сейчас назовут его — и лучше уж самому, или шевельнувшееся сочувствие к Альбину. А может, и злость какая-то — на судьбу, на злыдней одноклассников, на свою затюканность… Он встал:
— Давайте буду я…
Все, конечно, опять злорадно загоготали, послышалось даже: «Муля на муле, мулей погоняет…» И снова остановил их Пальчик. А Корнелий поймал на себе благодарный взгляд Альбина. И сердчто отвел глаза. По правде сказать, он жалел уже о своем секундном благородстве.
И оказалось, не зря жалел!
Альбин в поход не пошел. В школу сообщили, что он заболел, лежит с температурой. И Пальчик хмыкнул:
— Температура… Ладно, Дыня и один справится, он у нас старательный…
Что вынес Корнелий за те два дня, можно догадаться… Но вынес, черт возьми! Глотая слезы, огрызаясь и даже нарываясь на драки с удивленными таким Дыниным психозом одноклассниками, он зло и упрямо тянул свою лямку до конца. Не бросил проклятый котел и не пожаловался учителю. А в конце похода, когда подлый Клапан стал опять привязываться к Корнелию, Пальчик вдруг дал своему адъютанту хлесткую, как выстрел, плюху.
— Ты небось только жрал, а Дыня за всех посуду драил! Убью, бактерия… — А Корнелию сказал: — Мы Уте потом ноги повыдергаем. Слинял от похода, мамина курочка, на тебя все взвалил… А ты ничего, жильный…
От такого признания внутри у Корнелия растеклось радостное тепло. Даже в глазах защипало. И он сказал с хрипотцой:
— Я с ним сам разберусь, с дезертиром.
Но никакой злости на Утю у Корнелия не было. Вроде бы кипел от яростной досады, а в глубине души понимал: вовсе Альбин не дезертир. Если не пришел, значит, в самом деле не мог…
После похода начались каникулы. Сперва Корнелий поехал с родителями в пансионат на Птичий остров, а затем они сняли дачу на окраине Руты.
Здесь была своя ребячья компания, раньше Корнелий никого не знал. Никого… кроме Альбина. Семейство Ксото жило на даче в соседнем квартале.
Увидев здесь Альбина первый раз, Корнелий испытал тяжкое смущение, даже испуг. А Утя обрадовался.
Впрочем, он был здесь никакой не Утя. Его звали Алька, а чаще Халька или Хальк. И он был равный среди равных.
В этой дачной вольнице и не пахло нравами государственного мужского колледжа. И не было никого, похожего на Пальчика. Случалось, что ссорились и даже дрались, но главные мальчишечьи законы были прочны: двое на одного не нападают, слабого не дразнят. Конечно, над боязливостью и неловкостью смеялись, но посмеются и забудут. Здешний ребячий мир снисходительно прощал недостатки своим питомцам. Наверно, потому, что в каждом жило ощущение свободы и беззаботности. Лето теплое, небо чистое, лес и озеро ласковые, игры веселые. И нельзя идти против природы, травить жизнь страхом и обидами.
…Увидев ребят и Альбина среди них, Корнелий растерянно встал посреди аллеи. Но Альбин глянул ясно, беззлобно и сказал мальчишкам:
— Это Корнелий, мы в одном классе были. — Потом спросил: — Ты, значит, тоже здесь поселился?
— Ага… — неловко сказал Корнелий.
— Ну, пошли! — Альбин стукнул о землю красно-желтым мячом. — Мы в пиратбол на берегу играть будем. Знаешь такую игру?
Вечером они шли домой вдвоем, и Альбин, глядя под ноги, вдруг сказал, негромко так:
— Ты, может, думаешь, будто я нарочно тогда в поход не пошел, с испугу?
Корнелий изо всех сил замотал головой:
— Не, я знаю, что ты болел!
— Тебе, наверно, досталось там…
— Ну и черт с ними! — Корнелий мужественно прищурился.
— Дикие какие-то, — почти шепотом проговорил Альбин. — Я так и не понял: что им надо? Все на одного…
— Это Пальчик всех заставляет… — пробормотал Корнелий. И тоже стал смотреть под ноги.
— Нет, — вздохнул Альбин. — Все какие-то… Если бы Пальчик подевался куда-нибудь, они бы другого нашли…
Альбин говорил «они», как бы отделяя Корнелия от остальных, от класса. И Корнелий радовался этому, хотя от стыда покалывало щеки.
Значит, Альбин понимал, что он, Корнелий, зла ему не хотел? Может, и не помнил даже, как Дыня вместе с другими потешался над новичком? Нет, помнил, конечно, только чувствовал, что Корнелий тянется за другими от собственной беспомощности.
Альбин вдруг запрыгал на одной ноге, а другую поджал, отколупывая от босой ступни вдавившийся камешек. Потом быстро глянул на Корнелия из-за голого коричневого плеча.
Корнелий насупленно сказал:
— Ты теперь уже не вернешься в колледж, да?
— Почему же? — Альбин встал на обе ноги, наклонил голову набок. — Я вернусь. Только… я теперь так им не дам с собой… Я тогда не знал, а теперь знаю…
— Что знаешь? — Корнелий опять почему-то смутился.
— Как жить, знаю, — просто ответил Альбин. — Я решил…
Он был вроде бы и прежний Альбин и в то же время другой. Без вечного ожидания опасности в глазах. Веселый. Открытый…
Он бегал босиком, все в тех же штанах с пуговицами на животе и без карманов, но рубашку не надевал, лямки на голом теле. А на лямке — все тот же синий значок. Откуда и зачем этот значок, Альбина не спрашивали — оло есть оло. Желтые волосы у Альбина отросли, сам он стал выше и еще тоньше, ловкий, быстрый, загорелый.
Когда первый раз пошли вместе купаться и Альбин, дернув плечами, сбросил лямки, Корнелий засмеялся:
— У тебя буквы на спине и на пузе…
Незагорелые следы от матерчатых полосок и в самом деле были как буквы: на спине «X», спереди — «Н».
Засмеялся и Альбин:
— Ну да! Я их нарочно загаром не закрашиваю! Потому что это мои инициалы.
— Как это?
— Ну, первые буквы имени и фамилии. Если латинским шрифтом…
— Но у тебя же первая «А»…
— Не-е… Произносится будто «А», но пишется… вот так! — Он присел и пальцем на сыром песке у воды вывел:
HALBIEN ХОТО.
«Вот почему — Хальк», — запоздало догадался Корнелий.
А коричневый Альбин (Алька, Халька, Хальк) отступил в озеро и, выгнувшись, нырнул спиной. Только ноги мелькнули…
…Старший инспектор Альбин Мук все говорил, говорил. Про жену рассказывал, про службу в линейном уланском корпусе («Ну а далыпе-то что? Торчи вот тут теперь… А зачем все?»). Корнелий кивал иногда, перебивал, отвечал шумно, пытался рассказать про Клавдию: она каждый год развлекается на Побережье, а он света белого не видит, вкалывает, чтобы дом был как у людей… Вот пускай теперь покрутится одна…
Они подливали друг другу, звякали заляпанными стаканами, плакались, а позади этой пьяной мути, позади притихшего, но неусыпного страха в памяти Корнелия разворачивались ясные и подробные воспоминания.
…Был потом еще один разговор о латинских буквах… Вообще-то книг с латинским и славянским написанием выходило мало, обучение в школе шло на основе современной линейной печати. Но старые шрифты знать полагалось, их учили на уроках истории и чтения. А у Альбина, видно, была какая-то особенная привязанность к старине…
Однажды они сидели вдвоем на недостроенных дощатых мостках лодочного пирса. День стоял нежаркий, был уже конец августа. Стеклянно шелестели стрекозы, искрились крыльями. Пахло свежими стружками, они желтели среди примятой травы. Пирс тянулся от прибрежной улицы, через пляж и кончался над водой. Корнелий и Альбин сидели ближе к улице, где песка еще не было, а росли подорожники, кашка и одуванчики.
Просто так сидели. Ласково, без прежней жгучести солнце грело плечи. Альбин дотянулся ногой до крупного, как электролампочка, пушистого одуванчика, уцепил пальцами и дернул стебель. Взял в руку, подержал перед лицом. Корнелий не удержался — сунулся и дунул. Альбин засмеялся, щелкнул его стеблем по носу. «Парашютики» медленно плыли в безветрии. Альбин оторвал облетевшую головку, растянул стебель в прямую линию, глянул сквозь него, как сквозь тонкий-тонкий телескоп, вверх.
— Неужели что-то видно? — лениво спросил Корнелий.
— He-а… Соку внутри много… А вообще-то говорят, если в очень тонкую трубку смотреть, можно увидеть в дневном небе звезду.
— Ты видел?
— Нет, — вздохнул Альбин. — Я пробовал. Взял макаронину, совсем прямую, и глядел, глядел в небо. Оно там, в маленьком кружочке, совсем темно-синее, потому что солнечный свет в трубку не попадает… И наверно, звезду можно было увидеть, просто она не попалась…
— А зачем это?.. — сказал Корнелий. Получилось глупо, со скучным зевком.
Альбин глянул удивленно и даже чуть обиженно. Повел шоколадным плечом:
— Ну… интересно же.
Они были к тому времени крепко дружны. Корнелий ревниво и чутко переживал, если случалась хотя бы чуть заметная размолвка или даже просто намек на непонимание. До той поры не дарила судьба Корнелию настоящего друга, с которым всегда можно быть равным и откровенным. А тут — такая вот радость: Альбин, Алька, Хальк… По вечерам, в постели, Корнелий порой утыкался в подушку, замирая от теплой радости, что завтра опять увидит Альбина… На пластмассовой ручке складного ножа (подарок отца) Корнелий выцарапал иероглиф — сплетенные инициалы Альбина Ксото:
Он сделал это украдкой, томясь непонятным смущением, и потому ножик никому не показывал…
Сейчас Корнелий вмиг встревожился, что Альбин заподозрит его в равнодушии к звездам. Что появится в их дружбе трещинка. Он поспешно сказал:
— Это, конечно, интересно. Только в трубку ведь можно всего одну звездочку увидеть, а это… ну, она будто потерянная, оторванная от остальных. И не знаешь, чья она… По-моему, когда ночью на созвездия смотришь, как-то интереснее. Я тогда еще всякие опыты делаю…
Капельки обиды растаяли в глазах Альбина.
— А что за опыты?
Стараясь откровенностью совсем загладить свой промах, Корнелий признался:
— Я иногда ночью на подоконник сяду и смотрю… И всякие знакомые созвездия, Медведицу там и другие, будто разбираю на части и новые строю. Например, старинный Паровоз или Дон Кихот и Мельница…
Боже мой, ведь в самом деле было такое! И на звезды смотрел, и строил созвездия, и рассказывал об этом лучшему на свете другу. И стояло доброе ко всем людям лето, искрилось озеро, звенели стрекозы… Где это все? Почему вокруг грязно-белые стены тюремной конторы и мутно глядящий, слезливо потрошащий свое бытие старший инспектор Мук? Он, икнув, говорит:
— Я тогда и плюнул. «А пошла ты, — говорю, — знаешь куда…» Слышь, дружище, давай еще по вот столько…
Альбин (не этот, с бесцветной физиономией и прилипшей к подбородку морской капустой, а настоящий) слушал про созвездия, не мигая. И Корнелий, радостный от его внимания, торопился рассказать дальше (теперь ему вспоминается, что на губах даже лопались пузырьки):
— Я, когда придумаю новое созвездие, сразу между звездами как бы струны натягиваю. Ну, чтобы контур получился, рисунок. И они будто на самом деле есть, эти струны. Натянутые в космосе. Черные, невидимые, и дрожат все время. И по ним от звезды к звезде можно путешествовать на звездолете. Он будто надевается на эту струну, и в нем от ее дрожания — энергия. И можно скользить, как по проволоке… Ну, если на тугую нитку бусину наденешь, она ведь тоже двигается, когда нитка вибрирует… Видел? — Корнелий облизал губы и передохнул.
В глазах Альбина светилось понимание. И нетерпеливое желание что-то добавить. Пока Корнелий говорил, Альбин кивал, щелкал себя стебельком по коленке и приоткрывал рот, словно собирался перебить. А сейчас быстро сказал:
— Я знаю, я тоже про это думал: про линии между звездами. Только у меня это не струны, а грани зеркал…
Корнелий заморгал, стараясь понять.
Альбин проговорил уже спокойнее, но непонятно — будто не Корнелию, а себе одному:
— Черные зеркала пространств… — Потом опять быстро глянул на Корнелия: — Ну, вот представь. Каждое созвездие — это будто рамка для громадного зеркала.
И они — эти созвездия и зеркала — в космосе по-всякому пересекаются… — Он поднял прямые твердые ладошки, так и этак стыкуя их ребрами. — Понял?.. А линия между звездами — это как раз стык таких зеркал…
Корнелий ужа начал ухватывать суть, но Альбин постарался объяснить еще нагляднее. Он прыгнул с мостика и поднял из травы два крупных осколка оконного стекла (наверное, этими стеклами строители зачищали для пущей гладкости деревянную мачту у края пирса).
— Вот смотри… — Ровный край одного осколка Альбин приставил к плоскости другого. — Так они пересекаются. А здесь, на стыке, как бы ребро кристалла… Мне это первый раз еще давно придумалось, когда папа рассказывал про теорию Космического Кристалла…
— А что это такое?
— Это… есть ученые, которые считают, будто вся Вселенная — громадный кристалл. Очень сложный. В нем бесконечное число граней…
— Зеркал?
— Ну… вроде бы. Только с этими учеными мало кто соглашается, их даже запрещают…
— Почему?
Альбин пожал плечами, подхватил соскользнувшую лямку, сказал со взрослой ноткой:
— Это труднообъяснимо. Сейчас ведь многое запрещают…
Тень какой-то неведомой Корнелию тревоги коснулась Альбина. Чтобы прогнать ее, Корнелий быстро проговорил:
— Мне как-то непонятно… — К тому же ему и в самом деле было непонятно. — Вот эти зеркала… Они что такое? Они по правде есть? Такие громадные?
— Ага, — выдохнул Альбин. — Бесконечные.
— Но тогда как?.. Вот если звездолет полетит… Он же разобьется! Или из них осколков наделает. И пробоины!.. А в пробоинах что?
Корнелию представилось ясно, как стремительное веретено звездолета врезается в звенящие исполинские стекла и вспыхивает белым огнем катастрофы. Вспышка отражается в медленно падающих (куда?!) гигантских осколках черных зеркал. А в пробитых дырах — еще более черная, беззвездная пустота… Может, это и есть черные дыры?.. Загадочным холодком Вселенной дохнуло на Корнелия. Будто и впрямь из черной дыры космоса.
Альбин, стоя в траве, животом лег на мостки, уткнулся в доски локтями, подпер щеки ладонями. И, глядя перед собой, сказал:
— Это же не стеклянные зеркала, не плоские. Мне папа объяснял… Каждое такое зеркало — оно целое пространство, объемное. Ну, такое же, в каком мы живем. И Космический Кристалл — он весь из таких пространств, он очень сложный. Самая большая сложность — как научиться из одного пространства в другие попадать… А если бы простое зеркало, тогда и думать цечего. Это запросто…
Корнелий опять представил космический крейсер, врезающийся в черные зеркала пространств.
— Ну уж, запросто… Все поразбивалось бы.
— Да нисколько… Вот, смотри…
Альбин подпрыгнул, опять сел рядом с Корнелием. Взял с досок стеклянный осколок и стебель одуванчика. Поднял их на уровень лица (на осколке зажглась искра). Стал медленно и ровно сближать их — стебель перпендикулярно стеклу. И…
Тонкий трубчатый стебелек тихо, но без задержки прошел насквозь через пластинку стекла!
Это было по правде! Это случилось в полуметре от изумленных глаз Корнелия. И Корнелий онемел, перестал дышать.
Но главное изумление (Корнелий помнил это и сейчас!) было не от самого чуда. Главной была мысль: как же Альбин, который умеет такое, позволил сделать себя мулей? Да если бы он показал мальчишкам такой фокус, те отвесили бы челюсти! Ходили бы за Альбином по пятам! Потому что в колледже ничто не вызывало такого почтения, как способность творить чудеса.
— Как ты это делаешь? — выдохнул наконец Корнелий.
Альбин пожал плечами. Протянул стебелек полностью. Осторожно положил на колено. А через стекло вдруг весело глянул на Корнелия. Золотисто-серым глазом.
— И даже дырки нет, — сказал Корнелий с каким-то жалобным удивлением.
— Ага, — улыбнулся Альбин.
— А как это… получается? Научишь?
— Ну… я попробую… — Альбин перестал улыбаться. — Вообще-то этому трудно научить. Надо, чтобы человек сам… Надо чувствовать, как дрожат молекулы. И осторожно так двигать, чтобы одни молекулы проходили между другими… Я сам научился… Смотри, даже сок никуда не девался! — Он повернул стебелек. На месте обрыва белело колечко молочной жидкости.
Альбин ткнул стеблем коричневую кожу на левом запястье — отпечаталось крошечное белое полукольцо. Как буква «С». Альбин сосредоточенно ткнул еще два раза — две буквы «О». А потом — снова «С».
— Смотри, что получилось. Если, латинскими буквами, то…
— Коок, — сказал Корнелий.
— Пишется «Коок», а читается «Кук». По-английски… Правда, там на конце буква «ка» другая…
— Был такой мореплаватель, да?
— Был… — Альбин смотрел в сторону озера. На горизонт. — А потом его именем назвали суперкрейсер. Космический… «Джеймс Кук».
— Их же запретили строить!
— Ну да… Но сперва-то строили. Тогда и назвали… Мой папа там на строительстве работал. В группе навигационных систем… Ты думаешь, он всегда пивоваром был? — Горькая нотка проскользнула у Альбина.
Корнелий иногда встречал отца Альбина, инженера Ксото, который работал на местном пивоваренном заводе, налаживал там какие-то автоматы. Старший Ксото был молчаливый, сутулый, седоватый… Вот откуда его угрюмость! Сперва строил космолеты, а теперь…
— Хальк, а почему их запретили?
— Говорят, мешают стабильности. Многое ведь позапрещали…
— И их совсем разломали?
— Нет, огородили верфь, сказали: надо отложить до удобного времени…
— А! Значит, зонг?
Альбин кивнул.
Что такое зонг, знали все мальчишки. «Законсервированные объекты научных групп». Зонги встречались повсюду: обнесенные забором с проволокой площадки и целые поля. За оградами прятались недостроенные лаборатории, буровые установки, ненужные теперь испытательные полигоны и прочие бесполезные объекты, из-за которых наука чуть не двинулась по ошибочному пути. Хорошо, что люди вовремя спохватились, им подсказала верную дорогу главная Машина: цель общества — благополучие каждого человека, а не бесполезное рысканье среди отвлеченных проблем и загадок Вселенной.
Но мальчишек мало занимала расшифровка этого названия. Само по себе оно -зонг! -звучало загадочно, как слова из фильмов о старинных путешествиях и тайнах: «Нью-Тесонг, Гонконг, бизон, муссон, бумеранг…» Ребячьи легенды разносили слухи о чудесах, которые происходят за глухими заборами зонгов. Там, говорят, можно было увидеть что угодно (даже планеты величиной с яблоко, летающие вокруг забытого фонаря) и встретить кого угодно: привидения, одичалых роботов, космических пришельцев.
Проникновение в зоиг считалось одним из самых тяжких преступлений. За это самое меньшее выгоняли из школы. Но магнетизм тайны — штука посильнее страха, К тому же охранялись зонги так себе. И с некоторых пор для всякого пацана от девяти лет и старше побывать внутри ограды зонга считалось мерой высокой доблести.
…Был свой, местный зонг и недалеко от южной окраины Руты. Совсем близко от дачного поселка. Юркий Росик Натальский, блестя глазами-смородинами, рассказывал, что забор огораживает скважину, которую просверлили чуть не до центра Земли, а потом оставили. Если заглянуть в круглый бездонный колодец, можно увидеть звезды. Не наши, не знакомые, а других миров. Почему так, никто не знает. Из-за того, наверно, и прекратили бурить, испугались… А еще, если крикнуть в колодец, отзываются голоса. Не эхо, а настоящие, живые…
Без ночной вылазки в зонг не могло, конечно, завершиться то дачное лето. К такому приключению толкала вся логика мальчишечьей жизни. Спорили, обсуждали и наконец сговорились. («Да там и бояться-то нечего! В прошлом году Кропа и Антошка Рыжий лазили — говорят, запросто!» «Сторожа только у входа, а в заборе две щели и подкоп, я покажу…» «Если застукают — драпать в разные стороны и выбираться поодиночке. В темноте шиш кого поймают!»).
Тощий Эрик Спица, что был в компании вроде старшего (не как Пальчик, а по справедливости и с головой), подошел к делу серьезнее. Сказал, что надо провести разведку. Надо взять фонарики, но светить ими только под самые ноги и сквозь тонкий лоскуток. Поесть побольше сахару, чтобы лучше видеть в темноте. В зонге держаться друг за дружкой, не шептаться, убегать (если придется) врассыпную, но каждому заранее знать путь отступления. А уж если не повезет кому, сцапают — говорить, что был один, про других молчать каменно. Насчет этого даже поклялись — сцепили руки над маленьким костром и сосчитали до десяти, хотя припекало нестерпимо.
И Корнелий, конечно, поклялся. И готовился к вылазке так же, как другие. Но в душе у него нарастало, нарастало предчувствие беды. Изнуряющее, лишающее сил.
Это вернулся страх, с которым Корнелий жил все школьные годы. Природная подлая боязливость, которая сделала его в классе мулей.
Здесь, этим летом, Корнелию казалось, что он стал другим. Не хуже остальных лазил на деревья, нырял с мостков, смело совался в общие споры, перестал ежеминутно ждать насмешек. Спасибо Альбину, он ввел его в ребячью компанию как равного. Хальке ребята верили, он был, можно сказать, любимцем. Видно, здешние пацаны разглядели его истинную суть. Она ведь не в нахрапистости и не в кулаках, которые только и уважались Пальчиком и его подлипалами…
Халька был настоящий. Он был на все готов ради других. Он горячее остальных поддержал планы вылазки и готовился к ней весело и бесстрашно. И Корнелий делал вид, что готовится с той же радостью. Но внутри у него копилась злая досада на Альбина. Дурак! А если поймают? Не понимает, что ли, чем это грозит? Ну, дома врежут — это еще можно вытерпеть. А если колония?
Чем дальше, тем яснее Корнелий представлял, как это будет. Крики, свистки, крепкие пальцы на воротнике (кричи, плачь, вырывайся — без толку!), кабинет Комиссии попечителей детства, белый лист приговора, вылезающий из щели черной Машины… Белые одноэтажные бараки исправительной школы (тогда еще были такие)…
Они, мальчишки, просто не понимают, чем рискуют.
И Альбин вроде бы умный, а тоже… Им всё игрушки! А Корнелий-то видит, чем ото кончится! И заранее — страх до тошноты, до слабости в ногах…
Но ведь не объяснишь никому! Если поймут, что боишься, скажут: «Ну и сиди дома под кроватью, мамочкин герой!» И Альбин… Он, может, так и не скажет. Он, может, и пожалеет даже. Но прежним Халькой он для Корнелия больше не будет. И это, пожалуй, не менее страшно, чем колония…
Впрочем, Корнелий боялся уже не только результата. Он боялся самой вылазки, того расслабляющего ужаса, который овладеет им (Корнелий знал!) перед забором зонга. Скорее всего, уже там, у лазейки, он от боязни прижмется к земле и не двинется дальше…
Святые Хранители, что же делать-то?
Двое суток жил Корнелий в липком, расслабляющем страхе. И с трудом скрывал этот страх. Наступил день приключения. Утром Корнелий вышел в сад. У крыльца валялась деревянная рейка с торчащим гвоздем. Корнелий зажмурился…
…Потом он говорил себе, что на это нужна была тоже смелость. Пускай дезертирская, пускай такая смелость, с которой трусливый солдат отрубает себе палец, чтобы не идти в бой, но все-таки… Попробуйте вот так, с размаху, ударить босой ногой, чтобы гвоздь распорол ступню…
— А-а-а!.. Ма-ма!.. Ну кто здесь раскидал эти проклятые палки!
Он корчился на крыльце, обливаясь слезами боли и облегчения. Он ненавидел сейчас ребят, Альбина, себя и белый свет. И все же радовался, что ему так больно. В этом чудилось Корнелию искупление…
Под вечер, ковыляя с самодельным костылем, он пришел во двор к Эрику. С белой толстой муфтой на ступне. Жалобно кряхтя, рассказал про случайный злополучный гвоздь, про прививки, про то, как «режет, будто пилой, до сих пор».
Все его от души пожалели. В кои веки ожидается настоящее приключение — и тут такое невезение у человека.
Альбин тихо погладил его по плечу. Сказал чуть виновато:
— Ничего, ты не горюй так сильно… Я тебе завтра все подробно расскажу…
Другие мальчишки деликатно отвернулись, а Халька отворачиваться не стал, когда у Корнелия потекло из глаз.
— Ну брось, будут ведь еще в жизни всякие интересные дела…
Корнелий плакал, не скрываясь. Что это были за слезы? От стыда? От запоздалого сожаленья, что не попадет в таинственный зонг? От жалости к себе — из-за того, что вот такой он скверный и трусливый? От сознания своей ничтожности перед Альбином? От злости на всех и на всё?.. Кто его знает…
Назавтра нога распухла, и Корнелия оставили в постели. Перед обедом пришел Альбин. Поцарапанный, со сбитыми локтями. Серьезный. Рассказал, что сторожа заметили ребят. Может, какая-то сигнализация в зонге была… Кто-то закричал, засвистел в темноте, замахал фонарями. Мальчишки, как договаривались, — во все стороны! И никто, слава Хранителям, не попался!
Корнелий слушал, млея от ужаса. И от тайной радости («Я же предвидел! Значит, не зря я…»). Он поморщился, чтобы напомнить, как болит нога, и спросил с хмурой сосредоточенностью:
— Но это точно, что никого не сцапали?
— Конечно! Мы потом все у Эрика собрались… Я самый последний пришел.
— Почему?
Альбин (он сидел на табурете у кровати) потрогал локоть, исподлобья глянул на Корнелия и признался:
— А я не сразу убежал… Я сперва в кустах замер, дождался тишины…
— Это ты правильно. Потом легче ускользнуть, да?
— Да я не для того, чтобы ускользнуть… — Альбин стесненно вздохнул. — Я хотел все же заглянуть в колодец.
— И заглянул?!
— Ага… Все стихло, а я пробрался… Там такой бетонный край, я лег животом… В глубине чернота, и будто кто-то дышит холодом… — Он передернул плечами.
— А… звезды?
— Там не звезды… Там что-то такое… вроде отражения месяца в воде, когда она колеблется…
— Но ведь месяца-то не было!
— В том-то и дело… Да это и не месяц. Потом вода будто успокоилась, и это, желтое… то, что светилось… оно вроде сделалось как окошко. Ну, будто маленькое, домашнее такое окно в глубине горит. И рама как буква «Т»…
— А почему? Откуда оно?
Неулыбчивый Альбин опять пожал плечом, поймал упавшую лямку, сказал, будто оглядываясь назад, в ночь:
— Я и сам думаю: почему?.. Никто не скажет. Это же зонг… А долго я не смог смотреть, опять засвистели, я к забору. Туда, где подкоп…
— Главное, что спасся, — утешил Корнелий.
Альбин сказал тихо:
— Все равно это для меня плохо кончилось. Видишь? — Он оттянул на груди мятую лямку. — Значка-то нет. Зацепился где-то в кустах…
— Тю-у… — шепотом протянул Корнелий.
Он понимал: для Альбина значок — что-то очень важное. Недаром — оло. Про оло не расспрашивают, но теперь Корнелий вспомнил золотую букву «С» со звездочкой и, догадавшись, не выдержал:
— Ой, а он у тебя… оттуда? От «Джеймса Кука»?
— Ну да… Это папа подарил, когда со строительства приехал. Там такие значки только главным инженерам давали. Их мало было, они редкость… Да не в том дело, он у меня талисманом был. А если потерял — это к несчастью.
— Ну уж… — беспомощно сказал Корнелий. — Ты не верь в такое…
— А тут хоть верь, хоть не верь, все равно, — сумрачно отозвался Альбин.
…Он оказался прав: потеря значка принесла беду. И приметы были тут ни при чем.
«Я же не виноват, — говорил себе Корнелий. — Если бы я пошел с ним, еще хуже могло быть, могли поймать. Я все еще вон какой неуклюжий…»
Но ощущение, что Альбин потерял талисман из-за его, Корнелия, предательства, не проходило.
Приближались школьные дни.
«Я буду теперь защищать его, — говорил себе Корнелий. — Пусть только кто-нибудь полезет! Самого Пальчика не побоюсь, в морду ему дам!»
И он был почти уверен, что сделает это, чтобы искупить свою недавнюю измену.
Но защищать Альбина не пришлось. В суете первых двух дней никто на Утю не обращал внимания… А на третий день, перед уроками, пришел в пятый класс директор Гугенот. Велел всем сесть и сказал речь:
— В последние дни каникул в охранной зоне у Южного дачного поселка случилось безобразное происшествие. Группа малолетних нарушителей проникла на запретную территорию и вызвала там тревогу… Конечно, никто из вас не мог быть в числе злоумышленников, я совершенно уверен в этом… — Гугенот вздохнул, потому что уверен не был. — Но может быть, вы поможете расследованию этого возмутительного случая?.. На месте происшествия нашли вот это… — Гугенот раскрыл и поднял ладонь.
И Корнелий узнал это даже издалека. И другие узнали. И у сидевшего на передней парте Альбина побледнела тоненькая шея.
Все мертво молчали. Никто не пискнул: «Это мулин значок», потому что есть же предел человеческой подлости. Да признание было и не нужно. Наоборот, нужно было непризнание. Директор не хуже других знал, чья это хрустальная линза с золотой буквой «С». Но он был не злой человек, директор Гугенот, и не хотел беды неразумному пятикласснику Ксото. И неприятностей для себя не хотел тоже. Он сказал:
— Эту улику показывали уже в нескольких школах, но там хозяина не нашлось. Может быть, кто-то из вас вспомнит: не видел ли он этот значок на ком-нибудь из учащихся?
Идиотизм вопроса был ясен Гугеноту до конца. И он изумился не меньше ребят, когда прозвучал тонкий вскрик Альбина:
— Это мой1
— Ну, му-уля, — сказал кто-то в упавшей опять тишине. И было здесь и уважение, и недоверие: неужели сунулся в зонг? И жалость к дурачку: зачем признался-то?
Гугенот помигал.
— А… я понял. Ты кому-то подарил его? Кому?
Альбин встал и молчал.
— Или где-то потерял, а потом его кто-то из ребят, видимо, нашел? И ты не знаешь кто? — решил откровенно выручить бестолкового Утю Гугенот.
— Ага… — выдохнул Альбин.
— Я так и подумал… Но это, к сожалению, не решает вопроса…
— А можно мне взять значок? — тихо попросил Альбин.
— Увы, нельзя. Это вещественное доказательство. Пока виновник не найден…
— А если… будет найден? — еле слышно спросил Альбин.
— Тогда, конечно, значок тебе вернут.
И стало тихо-тихо. Корнелий все понял. «Не надо!» — хотел крикнуть он Альбину. И не крикнул. Казалось, что в тишине нарастает звон: Вдруг представилось Корнелию, что это звенят разбитые! тонкие стекла — черные зеркала пространств. Словно Альбин сорвался с высоты и летит вниз, пробивая их своим телом… И сквозь этот звон Корнелий не услышал, а скорее угадал, что Альбин говорит директору:
— Это я был в зонге… Теперь отдайте, пожалуйста.
…В школе и в Комиссии попечителей детства Альбин упрямо твердил, что был в зонге один. Если был кто-то еще, то он этого не знает. Несмотря на такое явное запирательство, Машина добросовестно учла прежнее примерное поведение Альбина Ксото и ограничилась исключением из колледжа. Правда, родители заплатили крупный штраф. Тогда еще не было единой системы наказаний, которая определяла бы шансы на смертную казнь (сейчас, если виноваты дети, шанс падает на родителей).
Вскоре Альбин с отцом и матерью уехал из Руты. Корнелий опять лежал с разболевшейся ногой, когда Альбин зашел попрощатьсй. Расставание получилось скомканным. Корнелию казалось, что Альбин догадывается о его трусости. И еще о трусости в классе. Тогда ведь вспыхнула мысль — вскочить и крикнуть: «Я тоже хотел с Альбином в зонг, только из-за ноги не смог!»
После этого легче было бы жить.
Но не посмел. И успокаивал себя здравой мыслью: это же ничем ему не поможет.
— Может, будущим летом приедем на старую дачу, — неловко сказал Альбин.
— Ага… приезжай, — выдавил Корнелий. Он смотрел не в глаза Альбину, а на значок. Маленькая линза с буквой «С» блестела на дорожной курточке.
— Надо ехать… Пока… — сказал Альбин.
…Почему это помнится больше всего? Разве и до той поры и потом не трусил Корнелий, не юлил? Разве (если совсем честно говорить) не предавал? Этот случай с Готическим кварталом — разве порядочный поступок? Да и других «эпизодов» хватало в биографии.
Так почему же помнится Альбин?
«Потому что других я никого не любил», — подумал Корнелий. А Хальку он любил по-настоящему. Так, как, наверно, любят брата в тех редких семьях, где бывает двое, а то и больше детей… «Потому что, когда я предал его, я предал себя…»
После этого школьная жизнь вспоминалась смутно и одинаково. Мулей он больше не был. Но страх все равно жил в нем — страх перед одноклассниками, учителями, экзаменами… Потом страх перед начальством. Страх плохо сделать работу. Страх потерять благоустроенное бытие…
Ну и что теперь?
…А инспектор Мук, ныряя к столу слюнявым лицом, подвел итог какой-то своей исповеди:
— Ну и что? Все едино… Проблевали мы свою жизнь, просопливели. Что была, что не была…
Волна холодной, ровной злости прошла вдруг по Корнелию, обдала голову. Он откинулся к спинке стула.
— Послушай, инспектор… Ты латинский шрифт когда-нибудь учил?
— М-м… че-во?
— Латинским шрифтом твое имя с какой буквы пишется?
Слегка трезвея от необычности вопроса, Альбин Мук произнес:
— С… какой… Конечно, с «А». По-всякому с «А». — И добавил с ноткой самодовольства: — Да. А ты думал что?
— Вот и хорошо…
То, что имя этого Альбина пишется не так, как у того, у Халька, доставило Корнелию хотя и короткую, но ощутимую радость.
Почему? Какое значение это имело теперь? Корнелий, шатнувшись, встал.
— Пойду я. Ну тебя…
И через минуту упал в камере на казенное одеяло.
Стена
Проснулся Корнелий поздно. Вопреки вчерашним ожиданиям, голова была ясная. Никаких последствий ночного «сидения». И все четко помнилось — что было позавчера и вчера и что будет дальше. Очень ркоро — завтра!
Но в этой мысли не было паники! Была тяжкая притерпелость.
Корнелий спал ничком, а теперь повернулся на спину. Стеклянные створки окна за решеткой были открыты. Сквозь железные завитушки доносился шелест клена и птичье чвирканье. И воздух был свежий, хороший. Идиллия…
«Так он встретил свой последний день жизни», — с неожиданной язвительностью подумал Корнелий.
Впрочем, завтра будет еще день. Но уже не полный, без вечера. Придет этот… как его… исполнитель (ох ты, дипломатия тюремных терминов), и — кранты…
Корнелий поймал себя, что в мыслях его проскакивают интонации и выражения Рибалтера. И сразу вспомнил его длинное лицо, язвительный рот, желтые глазки и голый череп. И неповторимые уши Рибалтера. Они большие, плотно прижатые к голове, но с отогнутыми, торчащими, будто крылышки, верхними краями.
С чего он вспомнился? Больше некому, что ли?.. А кому еще? Разве были друзья? Кто?
С Рибалтером они хотя и ругались и громко обвиняли друг друга во всяких грехах (часто всерьез), но какой-то ниточкой были вроде бы связаны. Или это сейчас так кажется?
«Надеешься найти в том, что прожил, хоть что-то этакое светленькое?»
Да, не было в мыслях страха. Наверно, страх позже, придет, навалится опять глыбами, но сейчас Корнелий ощущал лишь печаль, разбавленную, как слабеньким уксусом, раздражением…
Забухали шаги, вошел незнакомый пожилой улан с висячими усами и унылым лицом. Поставил два судка.
— Вот, велено принести. Завтрак…
— А как поживают их благородие старший инспектор господин Мук? — неожиданно спросил его в спину Корнелий. — Не маются ли с похмелья-с?
Улан без удивления воспринял тон вопроса. Обернувшись, ответил так же:
— Маются. Домой поехали. Сказали, к обеду будут…
— Чудная простота нравов. Пастораль…
Несмотря на ясность в голове, тело болело, как после маневров на милицейских сборах. И было ощущение противной липкости оттого, что спал в одежде.
— Служивый, ванна есть в вашем заведении? Или душ хотя бы?
— Во дворе за конторой душевая, — буркнул улан. И удалился.
«А я ничего, я держусь. Я вполне…» — слегка самодовольно подумал Корнелий.
Постанывая, он поднялся, вышел во двор. Ох какое солнечное и ласково-прохладное было утро! Как в давние времена в дачном поселке на южной окраине Руты. В ту пору Корнелий, выскакивая из дома, замечал всякую мелочь. Как переливается радуга в капельке росы: чуть поведешь головой — и солнечная искра делается то алой, то лимонной, то фиолетовой… Как золотятся свежие щепки у недостроенной беседки. Как торопится в щель на крыльце черно-зеленый жук (и на спине у него тоже точка солнца)…
Может, в этой нехитрой радости созерцания как раз и есть смысл жизни?
Корнелий решил прожить последний день именно так. Он будет наблюдать за листьями, летучими семенами, облаками, букашками на травинках. За тем, как блестит консервная крышка в мусоре у забора. Как скачут воробьи… От всего этого он получит удовольствие — тихое и спокойное, какого не знал раньше.
Вот только надо принять душ да соскоблить с физиономии идиотскую щетину…
Однако по дороге к душевой Корнелия качнула мягкая, но сильная усталость. Не сопротивляясь ей, он сел в траву. Как раз там, где сидел вчера, у ящиков. От слабости он словно поплыл вместе с землей. Но это было без тошноты, без головокружения. Даже приятно. Потом Корнелий зацепился глазами за высокие облака, движение прекратилось, и он оказался как бы на крошечном травянистом островке, повисшем внутри голубой небесной сферы.
Облака неуловимо для глаза меняли форму, передвигались. От их желто-белых кудлатых боков отслаивались полупрозрачные пряди и таяли. Превращались в ничто.
«Как и мы…» — отрешенно подумал Корнелий. На миг опять мелькнуло лицо Рибалтера, но Корнелий не дал ему поиронизировать. Усилием воли прогнал из памяти.
Не хотелось уже думать ни о душе, ни о бритве. Хотелось просто сидеть вот так. И он будет сидеть. Куда ему спешить? Зачем?
«А ведь я почти счастлив, — подумал Корнелий. — Потому что, ежели разобраться, что такое счастье? Это жизнь без страха…»
Теперь ему нечего было бояться. По крайней мере, до того часа. Но это будет завтра. А сейчас ему абсолютно ничто не грозило: ни крах карьеры, ни болезни, ни вечная спешка, ни придирки Клавдии…
Последний раз сунулся в мысли Рибалтер. С пошлой своей шуткой: «Пока я чувствую себя прекрасно, лишь бы это подольше не кончалось», — заметил мистер Джонс, падая с телебашни…»
«Пошел вон», — поморщился Корнелий. И Рибалтер исчез, — видимо, навсегда. А Корнелий остался в голубой полудреме, где мысли таяли, как пряди облаков. И провел так, судя по всему, часа два или три.
И с большим неудовольствием, даже с болезненной отдачей услышал чьи-то шаги. И увидел над собою старшего инспектора Альбина Мука.
— Слышь, Корнелий… ты… это… давай пойдем… — Белесое лицо Альбина было деловитым и виноватым.
— Куда? — двинул губами Корнелий.
— Ну. .. это самое… Я привел его… Зашел в управление, в дежурную часть, а там кореш, старый знакомый. Я про тебя говорю ему: оставили, говорю, мужика маяться до понедельника… А то ведь я понимаю, как оно тебе. Да и у меня завтра отгул… А он говорит: есть дежурный практикант, он может…
Небо стало густо-синим, потом темно-фиолетовым, затем черным и хлынуло на Корнелия, словно жидкий асфальт. Залепило уши, глаза, гортань…
— Ну, ты чего? Ты уж держись… Все о’кей будет, это же быстро… Слышь? — Альбин дергал его за плечо, тянул за рукав.
— А я чего?! — Корнелий открыл глаза. Черной тяжести не стало. Его тряхнула, пружиной поставила на ноги нервная легкость. — Айда! Какого черта… — И опять обморочная слабость («Значит, в самом деле конец? Сейчас?»). Он прислонился к ящикам. — Слушай, Альбин… А пускай он лучше здесь… это делает… Неохота туда…
— Да нельзя. Не полагается… Ты уж соберись. Ты же молодцом был.
«Ну да! У них там, говорят, люк. Только отдашь концы — и тебя туда. Вспышка в миллион вольт — и одна пыль от тебя. Эту пыль в коробочку — и жене… Сволочи…»
Он оттолкнулся локтями. Выдавил:
— Пойдем…
И пошли.
Ужас гудел в ушах, трава путалась под ногами. И все же Корнелий слышал Альбина.
— …Пацан совсем, практикант… Но что хорошо: он и сделает все, и за врача распишется, потому как медик…
Несмотря на весь кошмар, у Корнелия хватило силы на хмуро-ехидную реплику:
— Медик… А как же клятва Гиппократа? Как насчет «не убий»?
— Ну, спецмедик же, из уланской школы… Мальчишка еще, бледный. Видать, первый раз. Я ему там дал глотнуть для храбрости…
Шли долго (ох как долго!) и наконец оказались в конторе. Но не в комнате Альбина, а в другой — с зелеными стенами и зеленой же раздвижной ширмой.
На полированном столе с полукруглыми липкими следами от стаканов лежала раскрытая конторская книга. Альбин сунул в пальцы Корнелию скользкий карандаш.
— Ты… это… распишись, зиачит, что не имеешь никаких претензий, что все по правилам. Не имеешь ведь?
Странно хмелея от предсмертного страха, но держась на ногах, Корнелий хрипло сказал:
— Ни малейших, шеф. Сервис на уровне… — И не глядя царапнул в книге.
— Ну и ладушки… Айда… Эй, эскулап, ты где там? — Альбин подтолкнул Корнелия за ширму.
Там стояла медицинская белая кушетка. А у окна — белый столик. Уронив голову на столик, сидел тощий рыжий парень в лиловом халате. Длинная шея его была неестественно вывернута, глаза прикрыты пленочными веками. На губах пузырьки. Рядом с рыжей башкой стояла пустая бутылка «Изумруда».
— Да ты что?! — гаркнул Альбин. Отпустил Корнелия, тряхнул «эскулапа» за плечи. Тот замычал, голова приподнялась и стукнулась. — Надрался, подлюга! — Альбин повернул к Корнелию плачущее лицо. — Вот скотина, смотри, что наделал! Всю бутылку… Это он с перепугу, сопляк… Трус поганый! Кого там берут в вашу школу!.. Вставай, с-с-с… — Шипя от ярости, Альбин затряс практиканта снова, мотнул в сторону.
Тот открыл глаза, глотнул и сказал разборчиво и убедительно:
— Не могу я… Боюся… Не… ик… могу. — И опять деревянно стукнулся о белый пластик.
— Га-а-ад, — с панической ноткой выдохнул Альбин. Рванул снова «спецмедика» за плечи.
Что-то блестящее слетело со столика, зазвенело о кафельный пол. Корнелий увидел на плитках никелированную штучку, похожую на пистолет-зажигалку. Рядом искрились осколки стекла и растекалась прозрачная лужица. Резко запахло черемухой.
Альбин приподнял и бросил практиканта мимо табурета.
— Не-е… — печально сказал тот.
Альбин сел на корточки, взял двумя пальцами «пистолет». Снова положил. Глянул снизу вверх на Корнелия. Сообщил горько:
— Шприц раскокал, паразит. И главное — ампулу… Что теперь делать?
Без всякой боязни и отвращения Корнелий сел на белую лежанку — ту, на которую полминуты назад смотрел со смертной тоской. Видимо, в таких случаях перепады чувств у человека непредсказуемы. Корнелий опять был почти спокоен. Мало того, каким-то краешком сознания он даже уловил что-то смешное в идиотизме этого положения.
— Дерьмовые у вас специалисты, инспектор… Кончайте как-нибудь эту волынку.
Ему и правда хотелось закончить поскорее. Сильно потянуло в сон. Лечь вот сейчас — и больше ничего не надо.
— Да как кончать? — плакался на корточках Альбин. — Посмотри на эту дохлую курицу!
— Сам-то не умеешь, что ли? — пренебрежительно сказал Корнелий. Й от души, без притворства, зевнул.
— Ты что, офонарел? Чтоб я грех на душу брал! Мое это дело, что ли?.. У, рыжая… И ведь, алкоголик проклятый, заранее расписался в протоколе, будто все сделано.
— Вы что-то все тут торопитесь. Ты индекс снял с учета, этот дурак расписался…
— И не говори… — вздохнул Альбин вполне самокритично.
Спать хотелось неудержимо. И надоело все до чертиков.
— Давай, я сам… — Корнелий опять широко зевнул. — Покажи только, куда и как…
— «Как»! Ампулу-то, мерзавец, грохнул! Слышь, воняет!.. А ему, практиканту, лишь одну выдали, на раз. Это у штатных запас бывает, а не у салаг…
Альбин медленно распрямился и, поглядывая на шприц, старательно вытер пальцы грязным платком. Потом поднял практиканта, усадил на табурет, дал ему оплеуху и положил головой на столик.
— М-м… — сказал тот. — Не буду…
— Что ты не будешь, портянка? Зарезал без ножа… Видал гада? — Альбин опять с мольбой о сочувствии обратил взор к Корнелию.
— Видал… А мне-то что прикажешь делать? Имей в виду: вешаться я не буду… И в ваш электроящик прыгать живым тоже…
Мгновенный удар страха сорвал Корнелия с лежанки: мелькнула мысль, что Альбин вдруг нажмет кнопку — и под кушеткой разверзнется люк мгновенно действующего крематория.
Альбин не обратил на этот страх внимания. Сумрачно разъяснил:
— Теперь дело долгое… Если доложить все как есть — меня с работы коленом под зад и нащелкают на Машине столько шансиков, что вперед тебя отправлюсь в рай… Скажут: зачем индекс раньше срока снял, зачем практиканта брал на это дело?.. А если не докладывать, исполнителя не дадут… пока новый клиент не появится. А когда это будет? Может, завтра, а может, через год…
Сонливости у Корнелия как не бывало. Зато от ярости зазвенело в голове. Корнелий вспомнил все отборные ругательства, уложил их в обойму и выпалил в белесую рожу старшего инспектора. А после этого залпа проорал:
— О своей шкуре заботишься! А мне так и гнить здесь?! Делай свое дело, а издеваться не смей! Не имеете права!
Инспектор Альбин по-настоящему испугался:
— Ну, ты чего?.. Обожди орать-то. Тебе хуже, что ли? Куда торопишься? Живи…
— Это — жизнь?! — рявкнул Корнелий.
— А что?.. — Альбин виновато ухмыльнулся. — Ни забот, ни работ. Поят-кормят… Цвети, как георгин в палисаднике…
— Ты сейчас у меня расцветешь… — Корнелий прикинул, как удобнее вляпать по белесой морде.
— Ну-ну… — Альбин отступил. — Я при исполнении…
— Ага, я вижу… Исполняй дальше, а я, пожалуй, пойду домой, — вдруг устало решил Корнелий. — Я не виноват, что у вас тут шарашкина кухня…
— Иди, иди, — в тон ему отозвался Альбин. — А дальше что? Индекс твой аннулирован, сразу и загремишь, как уголовник. За побег… И в федеральную тюрьму. А там в течение суток…
— Испугал!
— Просто объясняю… Здесь ты можешь теперь неизвестно сколько тянуть, а на воле — сразу каюк.
— А на кой черт мне тянуть! Каждый день ждать, что приведешь нового «специалиста»?
Корнелий кричал, но в душе уже поднялась невольная, непослушная ему радость, что это отодвинулось на какой-то срок. Что еще не сейчас… Глупая была радость, животная. Дальнейшее бытие не несло с собой ничего, кроме уныния и страха. И все-таки…
Тем не менее Корнелий сказал:
— Я сразу увидел, что ты дебил. К этому тебя должность обязывает. Но не думал, что до такой степени…
— Хватит лаяться-то, — попросил инспектор Альбин. — Без того тошно. Шел бы ты, погулял… Я тут с этим кретином разберусь, а потом помозгуем, что делать…
Корнелий плюнул и вышел. Его сильно мутило — то ли от всего происшедшего, то ли просто от слабости и голода, ведь с позавчерашнего дня, кроме двух глотков компота, ничего во рту не было (если не считать «Изумруда»).
В камере он лицом вверх лег на койку и поплыл, поплыл…
И уснул.
Его разбудил Альбин. Сидел на краю постели, дергал за плечо.
— Что надо? — Корнелий проснулся сразу.
— Слышь, какое дело… Давай я пока приставлю тебя к ребятишкам. Тут, за стеной…
Голова была ясная, легкая. Корнелий вспомнил, что слышал не раз приглушенные ребячьи голоса. Только раньше это проскакивало мимо сознания. А теперь и фраза вспомнилась насчет обеда: «Возьмешь за стеной, у ребятишек…» Неужели сейчас есть детские тюрьмы?
Но эта мысль была не главной. Главная — вокруг «пока приставлю».
— Что значит «пока»? До той поры, когда с опытным доктором сговоришься?
Альбин отвел глаза.
— «Доктор» — это когда еще… А чего ты хотел? Все мы на этом свете пока…
— Да ты философ.
— Станешь тут…
— А за стеной что? Колония для несовершеннолетних?
— Опомнись! В наше-то время… Просто заведение такое, вроде как интернат. Маленький…
— А почему при вашей фирме?
— Дак безындексные же ребятишки-то. Они все по нашему ведомству проходят.
— Как это… безындексные? Разве сейчас бывают такие?
— А ты думал! Эх, вы… население. Живете на воле, а как в аквариуме, дальше своих стенок ни фига про жизнь не знаете.
— Ну так просвети. Хотя бы напоследок… — с ленивой язвительностью попросил Корнелий. — Откуда берутся безындексные младенцы в нашем стабильном и полностью благополучном обществе?
— Кабы оно полностью благополучным было, зачем корпус улан и наши заведения?.. А пацаны эти… Скажем, завела себе некая вольная девица случайное дитя, и что дальше? Думаешь, она сразу тащит его на регистрацию? Она, стерва, или прячет, или сплавить старается в казенный детприемник. Причем день рождения не всегда сообщает. А месяц прошел — и прививать индекс уже нельзя… А пока не снесли «Деревянный пояс», трущобы эти, сколько там безындексных ребятишек болталось! Прямо в семьях! Им, жулью да алкоголикам, до лампочки всякие правила индексикации. Вот и вылавливаем этих пацанов. В спецшколы…
— А зачем вылавливать-то? Какой от них вред?
— Святые Хранители! Ты совсем идиот? Они же не все время детишки! Потом-то большими делаются! Как с ними быть? Они же бесконтрольные, машинная юриспруденция на них не распространяется! По закону для безындексных нужен свой суд, свои органы надзора!.. А опасности от каждого, кто без индекса, в сто раз больше, чем от обычного человека. Это статистика. Они, как правило, уголовники. Вот и есть инструкция: всех безындексных ребятишек — в закрытые заведения, чтобы, значит, контроль с малолетства… Да у нас-то здесь школа крошечная, чуть больше десятка пацанят. Просто чтобы наша контора здесь совсем не закисла от безделья. И для отчетности — воспитательная работа, мол…
В этой длинной речи Альбина звучала какая-то виноватость. Но конечно, не оттого, что ребятишек держат при тюрьме, а оттого, что хочет он приставить к ним Корнелия. Видимо, был у Альбина здесь какой-то свой интерес. Но Корнелий подумал об этом вскользь. Мысли вертелись около слова «безында». Ни в детстве, ни в зрелые годы он ни разу не задумался об изначальном смысле этого ребячьего ругательства. Лишь сейчас дошло: «Безында — безындексный. Отверженный, чужой, вне закона…»
Он и сам сейчас был такой же. Даже хуже. Безынду не поймают с помощью локаторов. А биополе Корнелия Гласа еще посылало в пространство микроволны его индекса. Это был шифр мертвеца. Он стерт с магнитных карт во всех конторах, банках, казенных присутствиях. И, уловив излучение аннулированного индекса, электронный штаб уланского корпуса поднимет тарарам на всю страну. И свора затянутых в кожу улан помчится на своих черных дисках, отрезая пути, убивая надежду…
А здесь… как ни странно, какая-то надежда была. Шевельнулась… Надежда на что? Корнелий не знал. Но чувствовал, что именно в стенах муниципальной тюрьмы номер четыре для него сейчас наиболее безопасное убежище.
Скорее всего, это было глупое и обманчивое чувство. Но жить-то хотелось. Что ни говори, а хотелось. Хоть за решеткой, хоть немного…
— А что мне у них там делать-то? — хмуро спросил Корнелий.
«БЕЗЫНДЫ»
Старшего звали Антоном. Был он выше всех, тонкий, с темной челкой над сумрачными, словно из большой глубины глядящими глазами. Говорил негромко, но его слушались. Если какой-то спор, перепалка, подойдет он, обронит два слова, и капризные голоса стихают.
Впрочем, спорили и капризничали редко. Спокойные и даже робкие оказались ребятишки. Вот и сейчас, на дворе, когда играли в «гусей», криков и шума почти не было. Только звонкая считалка, которую быстро проговаривали то беленькая, бледная Анна, то коренастый, рыжеватый Ножик:
Гуси-гуси, га-га-га! Улетайте на луга! Там волшебная трава, Там не кружит голова…Говорили считалку без веселья, с какой-то нервностью и словно боязнью, что кто-то может перебить, помешать игре. А она словно и не игра, а какое-то важное действо. Ритуал. С напряженными лицами одна шеренга бросалась через площадку. Так же, без смеха, другая шеренга, сцепив руки, старалась задержать «гусей».
Гус и-гуси, га-га-га! Персгитеся врага! До лугои далеким пуп,, По садитесь отдохнуть…Удивительно, что этой малышовой игрой увлекались не только младшие. Даже Антон играл всерьез. Несколько раз он встречался с Корнелием глазами и тут же отводил их. Но кажется, успевало мелькнуть во взгляде: «А вам-то какое дело?»
А Корнелию и правда что за дело? Пусть бегают. Он сидел в раскладном кресле под пыльной яблоней (без единого яблочка — все оборваны) и следил за ребятишками бездумно и отрешенно.
Третий день он жил здесь — в странной роли временного и, видимо, совершенно незаконного воспитателя безындексных детей. Прежняя воспитательница — дородная тетка с каменными скулами самодовольной вахтерши и тонким иезуитским ртом — в присутствии старшего инспектора Мука передала Корнелию по списку имущество и детей. Узнав, что Корнелий намерен быть здесь неотлучно и не нуждается в смене, она расцвела и тут же отпросилась у Альбина в двухнедельный отпуск.
— Валяйте, — разрешил тот. — Господин Глас пока потянет лямку, ему нужно подзаработать.
Для тетки это прозвучало вполне правдоподобно. А у Корнелия скользнула догадка, что подзаработать решил сам Альбин. Дежурить будет день и ночь Корнелий, а жалованье пойдет старшему инспектору. Ибо он, инспектор Мук, по совместительству еще и начальник дома призрения безындексных детей и сам начисляет зарплату его сотрудникам…
Другая мысль была важнее и отчетливее: значит, у него, у Корнелия, теперь есть по меньшей мере две недели. И опять мелькнула какая-то тень надежды. Глупо, конечно, а все-таки. Поживем — увидим. Главное, по-жи-вем…
— Но я же так не могу, — сказал Корнелий Альбину со сварливой ноткой. — Без бритвы, без чистого белья, без…
— Все будет!
Видать, Альбин крепко был заинтересован в «воспитательской работе» Корнелия. Вскоре он принес новенькую бритву «Луна», две сорочки, стопку белья. Наверно, из своего хозяйства: рубашка и пижама оказались тесноваты. Впрочем, плевать. А немнущийся костюм Корнелия всегда выглядел прилично, хоть ты что с ним делай…
Альбин заглядывал каждый день, спрашивал с бодростью, за которой пряталась некоторая опаска:
— Ну, как ты? Осваиваешься?
— Как видишь, — хмыкал Корнелий.
К Альбину он испытывал сложное чувство. Злости не было — была смесь брезгливости и любопытства. Словно к белой крысе, которую он видел в детстве у соседа на даче. Хотелось дотронуться, и было противно, и в то же время постоянно тянуло смотреть на нее. На ее розовый голый хвост и семенящие когтистые лапки, на хитрую мордашку с белыми усами. Что за существо? Что она чувствует, зачем живет?..
Гуси-гуси, га-га-га! Улетайте на луга…Странно, как они могут столько времени одно и то же?
Вообще-то по распорядку им полагалось после обеда сидеть в спальне и заниматься чтением или тихими играми. Но спальня тесная, низкая, на верхнем этаже двухэтажного кирпичного дома. В ней застоявшийся воздух детской казармы — с несильными, но неистребимыми запахами хлорки, потного белья, мочи и старой масляной краски стен… И вот Антон, вернувшись из столовой, подошел и, глядя в пол, заговорил:
— Господин воспитатель, вы…
— Я же объяснил: меня зовут Корнелий…
— Господин Корнелий, вы позволите нам поиграть на дворе?
— Валяйте…
Гуси-гуси, га-га-га! Затопило берега…Маленькая Тышка — рыжеватая, как Ножик, но худенькая, молчаливая и верткая — ловко проскользнула под руками у мешковатого Дюки, помчалась к низкой кривой яблоне, вскочила на изгиб ствола.
— Я долетела!..
«Тышка» — от прозвища «Мартышка». А «Мартышка» — от имени Марта. Марта Лохито, шесть с половиной лет…
В первый вечер, после молитвы (странной молитвы, когда все встали в кружок и зашептали что-то похожее на считалку про гусей), Антон тихо спросил:
— Господин воспитатель, вы позволите перед сном Тышке полежать с Ножиком?
— А… зачем? — слегка испугался Корнелий.
— Ну… они пошепчутся. Негромко…
— Как… пошепчутся? Про что?
— Про всякое… Может, сказку ей расскажет. Сестренка же…
— A-а! Ну, пускай шепчутся…
Вдруг шевельнулся интерес: как же случилось, что брат и сестренка без индекса? Кто отец и мать? Что с ними?.. Но тут же интерес угас — под тяжестью тревоги за самого себя, под гнетом страха. Тревога эта и страх были уже привычные, приглушенные, но неизбывные. А от них — равнодушие ко всему.
По крайней мере, так было в первый вечер.
Скоро ребята — семеро мальчишек и шесть девчонок — послушно улеглись, Тышка убежала в свою постель, Антон выключил свет (остались лишь зеленоватые ночники). Корнелий лег в каморке, встроенной, как ящик, в перегородку, которая разделяла девчоночью и мальчишечью спальни. Боковые стены каморки от середины до верха были стеклянные и смотрели в оба помещения. Чтобы воспитатель мог неусыпно наблюдать за порядком.
Корнелий наблюдать не стал. Лег на широкой, довольно комфортабельной постели, прикрыл глаза. Навалилась тишина, из нее постепенно выступили звуки: дыхание, скрип кроватных сеток, жужжание лампочки-ночника.
Кто-то всхлипнул. Кто-то пробормотал: «Гуси-гуси…» Все слышно через тонкие стеклянные перегородки: как спят под тюремной крышей тринадцать безынд, какие сны видят. Живые ведь. И каждый хочет не просто жить, а получше, посчастливее.
А какое их может ждать счастье, когда они отмечены проклятьем с рождения? А почему отмечены? Разве есть на них вина?
И впервые мысль — даже не мысль, а ощущение — скользнула по краю сознания Корнелия: «Почему ты считаешь, что именно твоя жизнь — самая главная? Вон их сколько, неприкаянных, так по-свински обманутых судьбой…»
Скользнуло это и растаяло. Уснул Корнелий. И приснилось, что он мальчишка, живет в летнем лагере, скучает по дому и тихо всхлипывает в подушку. А потом, когда тоска делается выше сил, он выбирается из дачной палаты в дремучий черный сад, почти на ощупь находит в мокрой чаще бетонный край заброшенного колодца и с тайной надеждой смотрит в глубину. И там тихо полощется желтое светящееся окошко. И становится легче…
Проснулся он тогда рано. Привычно, закостенело сидел глубоко внутри страх за себя. И понимание непрочности, нелепости своего положения. Жизнь на ниточке. Да и что за жизнь-то?
Но в то же время появился уже и какой-то интерес. Прежде всего по-настоящему хотелось есть, впервые за эти дни. А еще хотелось не просто существовать, но и что-то делать. Странно…
На торцовой стене каморки висело зеркало. И Корнелий первый раз за трое суток (а казалось — три года прошло) глянул на себя. С опаской, как глядят на мертвеца… И поразился!
Он был худым. Исчезла добропорядочная округлость щек, выступили скулы. Из глубины, из впадин, смотрели незнакомые рыже-коричиевые глаза. Подбородок затвердел. В щетине на нем заметно проклевывались седые волоски. Пижамная куртка была расстегнута, среди темных кудряшек на груди и упругом животике тоже светились белые колечки. Хотя насчет животика — это зря, по-привычке. Его уже не было. Мышцы поджались. А на груди проступили ребра.
«Эк ведь подтянуло тебя», — с капелькой иронии, но и с сочувствием сказал себе Корнелий. И лишь тогда пригляделся к прическе. Точнее, к разлохмаченным после сна волосам. Шевелюра и ранее была не густая, с залысинами, по до сей поры без намека на седину. А сейчас в ней поблескивали седые пряди.
«Немудрено», — хмуро подумал Корнелий. Но без досады. В глубине души опять шевельнулась надежда.
Сквозь стекла боковых стен Корнелий глянул на спящих ребят. За окнами было уже светло, ночники побледнели. Ребята в этом смешанном свете| казались зеленоватобледными и похожими. Они и спали рохоже: на спине или на правом боку, с руками в полосатых пижамных рукавах поверх черно-синих клетчатых одеял. Только один мальчишка на крайней койке — светленький, курчавый — лежал съежившись и натянув одеяло до подбородка.
Корнелий задержал на курчавой голове взгляд. Мальчик вдруг напрягся, вздрогнул. Выпрямился, лег на спину, выкинул руки на одеяло. Распахнув синие перепуганные глаза, глянул сквозь стекло на Корнелия. Зажмурился. И замер так. Словно даже дышать перестал. Чего это он?
Корнелий неловко отвел глаза, сел на тахту. Потрогал подбородок, усмехнулся, вспомнив седину. Усмехнулся вообще — той неестественной ситуации, в которой сейчас пребывал. Потянулся за бритвой…
Через полчаса забарабанили нехитрую бодрую мелодию музыкальные кулачки. Подъем! Корнелий стоял посреди каморки и видел, как вскакивают ребята, встряхивают простыни и одеяла, умело заправляют постели. Был в их движениях автоматизм солдатиков. И опять вспомнился штатт-капрал Дуго Лобман: «Двигаемся, двигаемся, господа интеллигенты! Ни жена, ни теща помогать вам здесь не будут!..»
Впрочем, здесь штатт-капрала не было… Или был? А, так ведь это он, Корнелий Глас, теперь командир в здешней казарме!
Мальчики и девочки уже стояли навытяжку — каждый у спинки своей кровати. Пижамы на них были разномастные, но одинаково полинялые и, видимо, одного размера: на маленьких они висели мешком, на старших выглядели тесными и короткими… Разглядывая ребят, Корнелий спохватился: а ведь они от него чего-то ждут!
— Господин воспитатель, у нас все готово! — Это Антон. Говорил он громко, но на Корнелия не смотрел, смотрел в пол. Голос его казался ненатурально звонким. Наверно, потому, что из-за стекла.
Корнелий шагнул в спальню мальчиков.
— Ну… и что я должен делать?
Антон глянул быстро, удивленно и опять уперся глазами в половицы.
— Проверить, как заправлены постели, господин воспитатель.
Кровати были застелены образцово, Корнелий так не сумел бы. И лишь у коротко стриженного мальчишки с болячкой на ухе одеяло было накинуто небрежно, поверх подушки. И стоял он съеженно, теребя край пижамной курточки. Корнелий машинально шагнул к нему. Однако на пути оказался другой — тот беленький и курчавый, с крайней койки. Он быстро и печально глянул Корнелию в зрачки. «Откуда он такой, кто родители? Что за гены в этом безындексном существе?» — машинально подумал Корнелий. Тонкое, с аквамариновыми глазищами лицо было как у мальчиков на старинных фресках Перужского собора…
Мальчик медленно опустил голову и протянул вперед руки — ладонями вверх.
— Ты что? — растерялся Корнелий.
— Десять горячих, господин воспитатель, — полушепотом сказал мальчик. — За то, что во время сна держал руки под одеялом.
Корнелий озадаченно посмотрел на Антона. Тот, глядя в сторону, механически шагнул, протянул широкую лаковую линейку (откуда она появилась?). Корнелий взял ее — тяжелую и странно липкую. Опять взглянул на провинившегося — на его темя и затылок в крупных кольцах волос.
— Тебя как зовут?
— Илья, господин воспитатель, — проговорил он с полувыдохом. Розоватые ладони с очень тонкими пальцами вздрогнули.
Странное чувство испытал Корнелий. Недоумение, что он — приговоренный к смерти арестант — может кого-то наказать или помиловать. И… по правде говоря, какое-то удовольствие от этой мысли. И — тут же! — брезгливую неловкость: вспомнился Пальчик — он тоже любил казнить или миловать послушных одноклассников. И холодновато-любопытный вопрос к себе: ты что, в самом деле сумел бы ударить линейкой вот по этим дрожащим ладошкам, по тонкому запястью с голубой жилкой, по этим почти прозрачным пальцам?
Какой скрипач, наверно, мог бы получиться из мальчишки…
— Илья… А почему нельзя спать с руками под одеялом?
— Не знаю, господин воспитатель. Запрещено…
Корнелия тряхнуло — как током. От внезапной злости.
Не на мальчишку злость, а на все вокруг. На бессмысленность. На себя — часть этой бессмысленности.
— А если бы ты спал укрывшись с головой? По голове бить?
Линейку он швырнул через плечо, назад. И повернулся к Антону — самому старшему. Чтобы спросить: здесь всегда такие порядки? А тот, видать, сразу уловил момент. Смотрел с надеждой.
— Господин воспитатель! А можно Гурика тоже не наказывать?
— Что?!
Прозвучало это резко, почти яростно, и Антон отнес воспитательский гнев на свой счет. Потускнел, свел плечи. Но сказал с обреченно-упрямой ноткой:
— Он же не виноват…
— Кто?
— Гурик… — И посмотрел на того, у незаправленной постели.
— А что он сделал?
— Ну, он… в постель. У него бывает… Не нарочно же он, господин воспитатель, а так получилось…
У стриженого Гурика розовели уши. Корнелий задавленно молчал.
— Господин воспитатель, ну, тогда хоть не шприцем, ладно? — быстро сказал Антон, — От этого он еще хуже. Еще чаще… Лучше накажите по-старинному…
— Это как? — деревянно спросил Корнелий.
— Госпожа Эмма всегда говорила: выбирай сам, шприц или по-старинному…
— Как это по-старинному?
— Ну… жгутом или ремнем… Только не при девчонках, господин воспитатель, ладно?
«И значит, так они живут? Годами? А кто-нибудь там, на воле, это знает? В мире стабильности и всеобщего благополучия?..»
«А интересно, что стал бы делать ты, если бы знал? Не сейчас, а тогда, раньше?»
«Я бы… не поверил».
«Может, и сейчас не веришь?»
«А что я могу сделать сейчас?»
«Ничего… И какое тебе дело? Ты же всегда терпеть не мог детей…»
«Да. Многие не терпят…»
«Ты — не многие… Ты не терпел потому, что не хотел вспоминать собственное детство. Ты его предал».
«Ох, какая философия! Монолог под виселицей…»
Он понял, что долго молчит. Спросил с хмурой деловитостью:
— Значит, шприц — это больнее?
— Да… господин воспитатель, — выдавил Антон.
Илья, не поднимая головы, вдруг прошептал:
— Там человек сам себя забывает… Особенно когда желтым шприцем…
— И где же этот шприц? — спросил Корнелий у Антона. Тот закаменел со сжатыми губами.
— Ну? — резко сказал Корнелий.
— У вас в комнате… в аптечке, господин воспитатель.
Корнепий пошел в стеклянную каморку. Белый шкафчик висел у двери над тумбочкой. В нем среди пузырьков и пачек с пластырем Корнелий сразу увидел «пистолетик». Такой же, как там! Сквозь дырочки в никелированной крышке затвора виден был стеклянный орех ампулы с лимонной жидкостью.
«Особенно если желтым…»
Корнелий забыл, что на него смотрят сквозь стеклянные стенки. Со смесью брезгливости, страха и озлобления он взял шприц-пистолет. Тупорылый ствол оканчивался овальным резиновым колечком. Корнелий был без пиджака, в белой майке Альбина. Он ребром ладони потер кожу у локтевого сгиба, приставил пистолет и нажал спуск.
Он думал, придется давить, чтобы жидкость проникла в поры. Но когда хрустнула ампула, резиновое колечко присосалось к коже, и Корнелий ощутил несильный, приятный холодок…
«Пока я чувствую себя вполне сносно, лишь бы это подольше не…»
О боже, что это?!
Резиновая тугая боль скрутила, натянула все жилы! Боль, смешанная с тоской, со стыдом, с ощущением полной уничтоженности. Корнелий превратился в один-единственный нерв, который кто-то мучительно тянул и наматывал на раскаленную катушку. Замычав, Корнелий подрубленно сел, грудью упал на подушку, вцепился в спинку тахты. Зная, что сейчас умрет, он отчаянно желал этого избавления. И лишь последним усилием самолюбия зажимал в себе хриплый животный крик.
…Сколько это длилось? Наверно, не долго. Потому что долго такое не вынести никому. Боль уходила, возвращаясь иногда тупыми, уже несильными толчками. Корнелий сел прямо, потом опять согнулся. Большие капли падали со лба на колени, расплывались на штанинах темными пятнами…
Когда Корнелий снова поднял голову, перед ним стояли ребята. Все тринадцать. Тихие, молчаливые. Илья держал фаянсовую кружку.
— Выпейте горячей воды, господин воспитатель. Тогда скорее пройдет.
«Боже мой, а они-то как выдерживают такое?» Корнелий закусил край кружки. Потом, обжигаясь, глотнул. Выпил все, отдышался. Ребята по-прежнему молчали. Только маленькая Тышка задела у Корнелия кожу на локтевом сгибе, рядом с пунцовым овальным бугорком, и серьезно сказала:
— Теперь это долго будет…
Тупо болела голова. Корнелий сцепил зубы, взял с пола шприц. Скрутив стон, поднялся, вынул из аптечки все лимонные ампулы.
— Антон…
— Да, господин воспитатель…
— Здесь есть где-нибудь мусоропровод?
— Да, господин воспитатель…
— Выбрось это к… чертовой матери… Ты слышал?
Антон сгреб шприц и ампулы, кинулся к двери.
— Сволочи… — выдохнул в пространство Корнелий.
Ребята поняли: это не им. Ножик сказал без обычного «господин воспитатель»:
— Вы наберите воздуха и считайте до ста. Тогда легче станет.
— Хорошо, — сказал Корнелий.
Они завтракали в небольшой и чистой кухне-столовой с окном автоматической раздачи. Две старших, лет по двенадцати, девочки — кругленькая ловкая Лючка и молчаливая, похожая на Антона Дина — привычно и быстро ставили перед ребятами тарелки и стаканы, уносили пустую посуду к люку автоматической мойки. Ребята почти не разговаривали. Если скажут слово, то вполголоса. В динамике тренькала веселенькая мелодия.
Корнелий сидел в конце стола.
— Вам двойную порцию, господин воспитатель? — Это Лючка неслышно подскочила сбоку.
— Меня зовут Корнелий… Хватит одной порции.
— Хорошо, господин Корнелий…
Он почти с удовольствием съел кашу с прожилками консервированной говядины, хотя это блюдо весьма напоминало завтрак в милицейской казарме. Проглотил жидкий, сладковатый кофе. Голова уже не болела, но была пустая и гулкая, мысли в ней проскакивали, как отдельные горошины.
«Почему они не удивились, когда я сделал себе инъекцию? Или удивились, но смолчали?.. Робкие… Или себе на уме? Почему я почти не вспоминаю дом и Клавдию?.. А что будет дальше?»
Ребятишки встали и дружно, отчетливо сказали в пространство:
— Бла-го-да-рим страну за хлеб наш!
Затем Антон посмотрел на Корнелия:
— Господин воспитатель, вы будете проверять, как мы собрались в школу?
В спальне и на дворе они ходили кто в чем и выглядели довольно замызганно. А к школе оделись вполне аккуратно и одинаково: мальчики — в черные штанишки, голубые рубашки и синие жилетики с блестящими застежками-крючками; девочки — в клетчатые платьица с белыми откидными воротниками. И все это оказалось чистое, глаженое и по размеру. Лишь Антон выглядел в детском костюмчике слишком длинным и угловатым.
Они выстроились в коридоре рядом со спальней. Все хотя и смирные, но с повеселевшими лицами. Лишь Гурик по-прежнему стоял понурый и с розовыми ушами.
Антон обошел каждого — и мальчиков, и девочек. Одному одернул жилетик, другому поправил воротник. Головастому, тонкошеему коротышке полушепотом сказал:
— Подтяни штаны, Чижик.
Тот старательно и торопливо подтянул. И на худенькой ноге малыша, над колючей коленкой, Корнелий увидел темно-розовый овальный бугорок. Уже старый, потускневший.
«Сволочи», — опять сказал он. Только одними губами.
…Школа была на первом этаже. Просторная комната с пластиковыми кабинками для каждого ученика. В кабинках обычные ОМИПы — обучающие машины индивидуального пользования. Не очень новые и не очень старые модели. Длинный, с кадыком и плохо сбритой щетиной учитель обошел всех, включил каждому программу и позвал Корнелия в преподавательскую комнатушку.
— Выпить хочешь?
Корнелий помотал головой:
— Все-таки на работе…
Учитель не настаивал. Спросил сочувственно:
— Недавно поступил?
— Подзаработать надо… — неохотно сказал Корнелий. — Куча оттяжек по платежам, нанялся на время отпуска… Я здесь пока ни черта не понимаю, работа новая…
— Разберешься. Дело унылое, зато деньга…
«Видать, платят и правда прилично», — с усмешкой подумал Корнелий. Вспомнил Альбина.
А учитель тем временем рассказывал — многословно и с монотонной доверительностью, — что попал сюда волей случая. Преподавал биологию в Рельском колледже и, будучи в дурном расположении духа, вляпал по физиономии одному пятикласснику. Родители оказались принципиальные, подняли вой. Штрафная Машина отсчитала неудачливому наставнику полутысячный шанс («Холера с ним, пронесло, конечно»), а из колледжа пришлось убраться…
— Думаешь, жалею? Да провались они!.. Пускай обзывают уланом, зато сам себе хозяин… Слышь, ты как хочешь, а я все-таки глотну…
Чем-то он похож был на инспектора Мука. Интонациями, что ли? Может, здешняя система на всех кладет отпечаток?
Когда наставник юношества, дернув кадыком, глотнул, Корнелий спросил:
— Ну а как пацанята эти? Правда говорят, что недоразвитые?
— А откуда мне знать? Машина учит, машина проверяет… Если на оценки глядеть, то вроде все нормально, как в колледже… Тем более что учатся без каникул, сам видишь…
— А почему?
— Ну, посуди, что им еще делать-то? Взаперти живут. Знай учись… Хотя, конечно, без толку это. Академические мужи говорят, что машинная педагогика, без живого учителя, ни фига не стоит… Глотнуть еще, что ли?
— Постой… Скажи, а тебе их не бывает жалко? Ты же все-таки как раз и есть учитель. Живой вроде…
— А какой прок от моей жалости? Они все равно безнадежные.
— Как это?
— Ну, как с неизлечимой болезнью… Ты правда, будто с Луны… Хотя я такой же был сперва… Что у них впереди-то? На работу их почти не берут, значит, рано или поздно все равно уголовная статья. А девчонкам куда? Замуж кто возьмет безындексную? Одна дорога…
— И никакого выхода?
— А какой выход? Машинное законодательство просто не предусматривает бичей…
— Кого?
— Бичей! Бич — без-индексный человек. Официальный термин уланских канцелярий. Не слыхал, что ли?
— Я слыхал проще: безында…
— Один черт… Обожди, я сейчас… Вот так… По правде говоря, их, по-моему, лучше сразу было бы… безболезненно… Да ты так на меня не гляди, я не зверь какой-нибудь. Только если уж мы себе машинную стабильность выбрали, то чего уж изображать гнилой гуманизм, как в кино… Ты ведь на старинном клавесине компьютерные задачки решать не будешь…
Корнелий сел у стены в глубокое пыльное кресло. Закинул ногу на ногу. Сказал раздумчиво:
— Я эту машинную стабильность не выбирал, туда ее… и туда… Меня взяли за шиворот и поставили перед ней навытяжку, я не просился…
— Ну и что? Недоволен?
— Иди глотни… — вздохнул Корнелий.
— Ага… Послушай, ты через полчаса перемени им программу на грамматический курс… А младшим — на чтение. Красную кнопку на зеленую. А я пока… посижу тут…
…После обеда заглянул в каморку Корнелия Альбин. Ребята в спальне мальчиков играли на полу в электронное лото. И слышно было иногда негромкое: «Гуси-гуси, га-га-га…»
— Ну как? — бодро спросил Альбин.
Корнелий лежал навзничь на тахте.
— Шеф, — сказал он медленно. — А чего это вы так паршиво содержите ребятишек-то? Они в родительских грехах не виноваты.
— Почему паршиво? В соответствии с инструкциями Управления по…
— Иди ты с Управлением. В доме даже экрана нет.
— Они смотрят кино на учебных машинах. Сколько положено…
— Их отсюда хоть куда-нибудь выпускают? В парк, в город…
— Должны быть прогулки… От тебя зависит.
— Да?.. Я смотрю, тут многое зависит от любого… А что, шприц — это узаконенный метод воспитания?
— Какой еще шприц?
Корнелий, морщась, рассказал.
— Ну, это свинство, — поморщился и Альбин. — Это Эмма. Она, конечно, стерва. Давай я ее совсем прогоню, а? И никого больше брать не буду. Ты же все равно здесь безвылазно. .
— Надолго ли… — усмехнулся Корнелий. И почуял, что страха нет. Устал он бояться.
— А чего тебе. Живи… — Альбин тоже заусмехался. — Пока я тут на должности, все в ажуре… Только ты это… Ты не обижайся на это дело…
— Какое?
— Да, понимаешь… Предписание-то надо выполнять. Я, значит, поднагреб там золы, в банку запечатал и послал на адрес супруги твоей. Как положено…
Интересно, что Корнелий почти ничего не почувствовал. Он лишь с любопытством ощупал стоявшего над ним Альбина взглядом.
— Ты чего? — Альбин вроде бы смутился.
— Да так… Думаю: ты человек? Может, биоробот? Говорят, были такие. В эпоху неконтролируемых экспериментов…
Инспектор Мук не обиделся. Сказал примирительно:
— Тебя бы в мою шкуру… Бытие определяет сознание. Не слыхал про такое?
— Слыхал… Кстати о бытии. У меня-то ведь нет учебной машины с экраном. Не добудешь ли хотя бы портативный ящичек? А то я однажды вечером свихнусь.
— О чем речь! Сегодня же! Свой принесу, автомобильный!
К удивлению Корнелия, ребята не очень обрадовались экрану. Правда, первый вечер они провели у ящика неотрывно. И все же, как показалось Корнелию, смотрели передачи скорее из вежливости, чтобы не обидеть взрослого воспитателя. Настоящий интерес у них появлялся, лишь когда показывали новости или видовые фильмы. Корнелий понял: им, живущим в клетке, нравится смотреть на обыкновенную жизнь — на разных людей, на суету городских улиц…
На следующий день Антон попросил:
— Господин воспитатель… господин Корнелий, можно мы не будем смотреть кино, а лучше погуляем?
— Как хотите, — слегка уязвленно откликнулся Корнелий.
Маленький Чижик, видимо, почуял его обиду. Тронул за рукав и тихонько объяснил. Доверчиво так:
— Мы кино-то часто глядим. Когда учитель спит, Антон — чик — и переключит сразу с учебы на передачу. Он умеет…
— Болтушка, — поспешно сказала Дина. — Вы его не слушайте, господин Корнелий, он всегда сочиняет…
Прошло три дня. И казалось Корнелию, он здесь давно-давно. И ребят уже всех знает по именам, и даже втянулся в нехитрые воспитательские заботы. Очень нехитрые. Потому что ребятишки жили тихо, самостоятельно и послушно под началом Антона и Дины. И он жил — с привычной уже пустотой внутри, с бездумностью. С глубоко затаенным страхом. Со смутным намеком на какую-то надежду…
— Гуси-гуси, га-га-га! Улетайте на луга!
И вдруг — вскрик. Суета… Тышкина ровесница и подружка Тата проколола ногу. Острый сучок воткнулся в ступню сквозь истершийся пластик подошвы.
Сидит, держится за ногу, кровь между пальцами. Всхлипывает, но негромко. От дома уже мчится Лючка с бинтом и пузырьками.
— Ну-ка, дай промою…
— Не-е…
— Кому говорят!
Тата улыбается сквозь слезы:
— Лючка-злючка, не кричи. Пусть Антон лечит, у тебя пальцы щекотливые…
— Пустите-ка меня…
Корнелий сел, прислонился к стволу яблони, рядом усадил девочку. Ногу ее положил себе на колено… Кровь закапала брючину. Так уже было когда-то, с Ал кой. Та, правда, громко ревела.,. А как это больно — раненая нога, — он помнит…
— Ничего, маленькая, потерпи, это быстро…
— Ага, я терплю…
— Умница.
Обезболивающий раствор… Тампон… Бинт…
— Не туго?
— Не-е…
Какая крошечная теплая ножонка… А ведь и в самом деле, была когда-то у него маленькая дочь, Алка…
— Давай отнесу в спальню. Надо полежать…
— Давайте я ее отнесу, господин… Корнелий. — Это Антон протянул руки. — Давайте. А к вам… вон, идут…
Это шагал через двор Альбин. Старший инспектор Мук. Нехорошо засосало под сердцем. «Он — за мной?» Вот тебе и не осталось страха!
Альбин Мук подошел с озабоченным лицом:
— Слышь, Корнелий, тут такое дело…
«Понял… — тоскливо подумал Корнелий. — Что ж, пойду… Надо встать… А может, в драку? Почему я должен как теленок на убой?..»
Но инспектор Мук сказал насупленно:
— Скоро привезут одного… Пацанчик лет десяти. Странная история… Ты подготовь, что надо.
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЧЕРНЫЕ ЗЕРКАЛА ПРОСТРАНСТВ Цезарь
Новичка привезли за час до ужина. Два человека. Явно не уланы: пожилые, упитанные, в дорогих костюмах. Видимо, штатские чины Управления. Говорили негромко, бархатно.
— Ну вот, пока ты поживешь здесь, — сообщил мальчику один, лысоватый, в блестящих очках.
— Здесь? — Мальчик оглядел койки под черно-синими одеялами, тесные проемы окон в толще старинных стен. Лицо его дернулось испуганно и брезгливо.
Ребята тесной группой стояли поодаль, в углу спальни. Мальчик скользнул по ним глазами так же, как по койкам и стенам.
— Почему здесь?!
Он был некрасив. Очень большой рот и треугольный маленький подбородок, твердые скулы, сильно вздернутый нос. Лишь волосы хороши — светлые, почти белые и, видимо, жесткие, они были подстрижены ровным шаром. Как густой громадный одуванчик. И только на темени из ровной стрижки торчал непослушный, увернувшийся от ножниц клочок. Но лицо — без привычной и ласкающей глаз детской округлости. Ничего общего с теми славными мордашками, которые Корнелий на работе привык впечатывать в рекламные проспекты для счастливых семейств…
И все же ярлык безынды никак не клеился к новичку. Мальчишка был явно из хорошей семьи. Из такой, где истинная воспитанность и твердое ощущение своего «я» — наследие нескольких поколений. Порода видна всегда, инфанта узнают, несмотря на лохмотья (как в фильме «Шпага принца Филиппа»). А этот был отнюдь не в лохмотьях. В шелковистой рубашке стального цвета со всякими клапанами и пряжками, в модных светлых брючках чуть пониже колен, в длинных серых носках с вытканными по бокам серебристыми крылышками, в лаковых сандалетах. На плече он держал расшитую курточку-гусарку.
Эта гусарка взметнулась, когда мальчик обернулся к своему очкастому спутнику:
— Почему здесь?! Разве это клиника?
— Это школа, — мягко сказал очкастый. — Закрытая спецшкола для обследуемых детей. В клинике сейчас не все готово к твоему приезду, и…
— Вы говорили, что отвезете меня к профессору Горскому! Вы солгали!
— Я не солгал, голубчик. Просто изменились обстоятельства. Некоторое время тебе следует побыть в этой школе. А для того, чтобы… Эй! Что такое!
Мальчик метнулся к двери, и уже через две секунды Корнелий увидел в окно, как он, бросив курточку, мчится к проходной будке у высокой побеленной стены.
Очкастый и его товарищ сшиблись в дверях, потом друг за другом резво выскочили во двор. Корнелий — следом.
Постовой улан уже нес мальчишку от проходной. Тот молча и яростно рвался из уланских лап. Но в двух шагах от чиновников перестал биться. Наверно, чтобы не унижаться.
— Вы уж глядите за ним покрепче, господа хорошие, — сумрачно сказал улан. — А то он мне головой в под-дых…
— Ты ведешь себя крайне неразумно, — сказал очкастый. — Куда ты собрался бежать?
— Домой!
— Это нельзя. Я же объяснил.
— Разве я арестант?
— Нет, но так сложились обстоятельства…
— Я понял, это тюрьма! — Новичок яростно оглянулся. Словно искал щель в грязно-белых стенах. — Почему? Что я вам сделал?! Какое вы имеете право?! Я хочу домой!!
— Я же объяснял…
— Вы всё врете! Вы бесчестный человек! Вас самого надо в тюрьму! Вы…
Он стоял прямо, со сжатыми кулаками, со вскинутым на очкастого чиновника лицом. Слезы не бежали, а брызгами летели из блестящих гневной зеленью глаз.
Второй чиновник — с розовой шеей и ровным пробором на гладкой, круглой голове — сказал со злым пришептыванием Корнелию:
— Вы, кажется, воспитатель? Успокойте же мальчика…
Корнелий не успел сказать: «Как успокоить, черт возьми?» Неслышно и быстро подошел Антон. Взял новичка за локоть.
— Послушай. Слезами здесь не поможешь. Надо сперва успокоиться, передохнуть, а потом…
— Отстань! — Мальчик вырвал руку.
Антон сказал терпеливо:
— Это зря. Мы хотим тебе помочь.
Но он, видимо, не был уверен, когда говорил «мы». Мальчишки и девчонки, стоявшие у крыльца, прижимались друг к другу плечами и смотрели насупленно. Корнелий понимал, что в новом мальчике они чувствуют чужака.
За эти дни Корнелий научился кое в чем понимать их. Наверно, помог случай со шприцем. Ребята увидели, что Корнелий — не обычный штатный воспитатель. Не надзиратель… Нельзя сказать, что между ним и детьми возникло особое доверие или какая-то привязанность. Но по крайней мере, они его не боялись. Или почти не боялись. И жили с новым воспитателем по молчаливому уговору: не мешать друг другу. Корнелий имел возможность часами сидеть в своей стеклянной каморке, лениво перебирая воспоминания, и без особой уже тревоги притупленно размышлять о смысле бытия и о будущем (сколько его еще осталось?).
Ребятам для радостной жизни вполне хватало тех послаблений в режиме, которые допустил Корнелий. Лишнего они себе не позволяли.
Это была довольно дружная и спокойная ребячья компания. Судя по всему, они жили вместе уже долго, привыкли и привязались друг к другу. Антон был признанный командир, даже диктатор, но без всяких намеков на жестокость или на удовольствие от собственной власти. На нем лежала нелегкая роль посредника между ребятами и школьным (точнее, тюремным) начальством. Неглупый был парнишка и, видимо, с годами крепко понял, что послушание — это единственный спрсоб защиты для безындексных пацанов. Куда деваться-то?
И спокойствие у ребят было, конечно, не от природных характеров, а от въевшегося в душу сознания: мы незаконные, лучше не спорить…
Но разумеется, не были они одинаковыми. И Корнелий догадывался, что внутренняя жизнь этой маленькой общины сложнее и беспокойнее, чем видится ему со стороны. Их глубинный мир оставался для него скрытым. Лишь непонятное заклинание — «Гуси-гуси, га-га-га…» — то в игре, то в молитве пробивалось иногда, словно ключик из глубины. Да ненароком замеченные сценки порой говорили: не все здесь мирно и монотонно.
Иногда замечал Корнелий тревожные перешептывания и боязливые взгляды девочек. Один раз услышал, как Антон вполголоса, но жестко отчитывал курчавого Илью: «Еще раз увижу — не обрадуешься. Я Корнелию не скажу, мы сами… Но запомнишь…» Илья — с головой ниже плеч, с красной шеей и свекольными ушами — неловко топтался и теребил подол своей мятой бумазейной курточки…
Корнелий не стал допытываться, в чем вина мальчишки. Не все ли равно? Ни у ребят, ни у воспитателя-арестанта впереди не было ничего. Немудрено, что понимание этой истины глушило всякий интерес. Странно было другое: несмотря на всю свою апатию и тупую унылость, Корнелий иногда замечал в себе проблески любопытства к ребячьей жизни.
Может быть, любопытство — один из признаков надежды? А надежда, как известно, не исчезает, пока человек дышит…
Так или иначе, но общее настроение ребят Корнелий чувствовал. Ясно было, что новичок для них чужой на сто процентов. Они отторгали его, как один биологический вид отторгает другой. Не по злости, а просто в силу природной несовместимости. Даже Антон отошел, словно говоря: «А что я могу поделать?»
— Ты должен слушаться. Ты же разумный человек, Цезарь, — сказал очкастый.
«Ого, имечко… — мелькнуло у Корнелия. — В самом деле аристократ».
У мальчишки и выговор-то был особый: словно под языком перекатывался стеклянный шарик, небрежно и чуть заметно перепутывая звуки «р» и «л»:
— Это несправедливо! Почему я должен? Вы меня просто украли! Даже родители не знают, где я! Они думают, что меня увезли в клинику Горского!
— Ты не прав. Родители извещены. А сюда тебя направили по указанию муниципалитета…
— Неправда! Я хочу видеть папу и маму!
— Папа сейчас в длинном рейсе, а мама… в санатории на Побережье.
— Какие нелепости вы говорите! — стеклянно сказал Цезарь. — Неужели папа и мама уедут, не повидавшись со мной! Вы просто… неумный человек! Я все равно уйду отсюда!
— Если ты будешь дерзить и сопротивляться, тебя накажут, — предупредил чиновник с пробором.
О, как Цезарь повел плечом! Какое великолепное презрение брызнуло из зеленых глаз мальчишки!
— Думаете, я боюсь? Я все равно не буду подчиняться. Хоть убейте.
— Да кто тебя собирается убивать? Ты что, парень? — Это подошел наконец старший инспектор Альбин Мук. — Поживешь здесь, все определится. Тут ведь тоже люди живут…
Цезарь быстро обернулся: новый человек — новая надежда.
— Могу я хотя бы позвонить домой?
— Видишь ли… Здесь только внутренняя связь, тюр… служебная. Чтобы звонить в город, надо с территории выходить, а с этим лучше обождать…
— Служебная связь без выхода на общую систему? Ну и смешные вещи вы говорите… — В голосе его прозвучали утомление и безнадежность.
— Пойдем в дом, — сказал Альбин. Хотел взять новичка за плечо.
Тот с отвращением дернулся. И… пошел. Наверно, чтобы не повели силой. Корнелий почти физически ощутил, как боится мальчик прикосновения чужих, казенных лап.
Чиновники незаметно «слиняли» к проходной: видно, свое дело они сделали.
Цезарь медленно, как приговоренный к смерти принц, шел к своей тюрьме. Ребята молча раздвинулись у дверей. Антон подобрал с земли его гус amp;рку.
— Ну, теперь у тебя будет хлопот, — сумрачно посочувствовал Корнелию Альбин. — Пока птенчик не привыкнет…
— Откуда он такой? Что случилось? Ты же говорил, безындексные в семьях не живут…
— А он был нормальный. В том-то и дело. А месяц назад индекс у него пропал. Дикая история…
— То есть как это — индекс пропал?
— Ты меня спрашиваешь! Я же говорю: дикая история! Невозможно, чтобы живой человек перестал излучать! А у этого — глухо! Сто профессоров мозги вывихнули, месяц его исследовали в разных клиниках. Нет индекса, хоть расшибись…
— Бред какой-то… Так не бывает.
— Бред не бред, а факт.
— Ну… а сюда-то мальчишку зачем? Разве он виноват?
— А другие, кто здесь, разве виноваты? Закон…
— Но у других-то родителей нет. А у этого…
— Ты чего с меня-то спрашиваешь? — плаксиво сказал Альбин. — Я, что ли, решаю? Машина решает! У нее в электронной башке сидит четко: безындексных детей — в закрытые спецшколы. Всех. Как убедились, что индекс у парня больше не появляется, — привет…
— Какая глупость! А почему не дать ему хотя бы с родителями повидаться? Или позвонить…
— Ну, ты чудо… — вздохнул Альбин. — Что, по-твоему, его родители дома прохлаждаются?
— А где они?
— Где-где… В… том самом месте… Думаешь, Управление оставит их в покое? Засадили в какую-нибудь лабораторию, исследуют, как кроликов: роль наследственности, генетический код предков, степень виновности…
— Разве это по закону? Машина не может назначить такое…
— Деточка… Машина — это машина, а Управление — это Управление. Кто ею командует, Машиной-то? Особенно когда нестандартная ситуация и в электронных потрохах летят предохранители… Ты лучше скажи, койка там и все прочее для пацана готово?.. Ну и лады! Ты уж распоряжайся тут сам, а я побёг, в конторе куча дел…
Кровать и тумбочку для Цезаря поставили в удобном, даже уютном месте, в простенке между окнами. Под плетью комнатного ползучего вьюнка, что скупо украшал мальчишечью спальню.
— Вот здесь будешь спать, — не глядя на новичка, сказал Антон. И повесил на кроватную спинку его курточку.
Цезарь молча сел на койку. Аккуратно расстегнул и поставил сандалеты. Потом быстро лег ничком. Так же быстро поднялся, — видимо, вдохнул тоскливый запах казенной постели. Дернул к себе гусарку, положил ее на подушку и снова лег лицом вниз.
— Послушай… — нерешительно проговорил Антон. — Лежать на кровати до отбоя не полагается.
— Оставь его, — сказал Корнелий. — Идите, ребята, на ужин…
Когда все ушли, он тронул спину Цезаря:
— А ты? Ужинать будешь?
— Пожалуйста, не трогайте меня, — глухо отозвался мальчик.
Так, не двигаясь, лежал он весь вечер.
Спальни мальчиков и девочек разделялись перегородкой без двери, с широкой аркой и портьерой. После ужина ребята собрались на девчоночьей половине, у портативного экранчика, где прыгали и весело картавили мультипликационные зверята и клоуны.
Занавесь в арке была отдернута, Корнелий видел, что новичок лежит в той же позе. Лишь голову накрыл подолом гусарки.
Когда электронные молоточки прозвенели медленную музыку отхода ко сну, ребята тут же разошлись, не просили посидеть еще.
Антон посмотрел на лежащего Цезаря, потом на Корнелия. Неловко и будто через силу заговорил:
— Мальчик… Надо раздеться и лечь на ночь как полагается…
К удивлению Корнелия, Цезарь быстро поднялся, сел. Глядя прямо перед собой, торопливо разделся, бросая вещи на пластмассовый скользкий табурет.
Мальчишки без суеты и разговоров переодевались у своих коек в пижамы. Молчание стояло такое, словно в спальне тяжелобольного.
Антон достал из тумбочки клетчатую пижаму для новичка.
— Надень вот это…
— Это?
Цезаря тряхнула брезгливая дрожь. Он отвернулся и залез под одеяло в своих синих с вышитым якорем трусиках и белой шелковой майке. Сразу вытянулся и крепко закрыл глаза.
Корнелий проснулся за час до общей побудки. Поднялся с неожиданной тревогой, даже страхом. Сразу увидел Цезаря. Тот, уже одетый, сидел на краю заправленной постели. Встретился сквозь стекло взглядом с Корнелием. Встал, двинулся между кроватей, остановился на пороге каморки. Не опуская головы, но глядя мимо Корнелия, деревянно спросил:
— Не могли бы вы сказать, где можно умыться?
— В конце коридора туалет, рядом умывальная. Там на полке номер четырнадцать твоя зубная щетка, паста, мыло. На крючке полотенце.
— Я не понимаю, почему не привезли мой чемодан с вещами…
— Наверно, решили, что здесь ты получишь все, что надо.
Лицо у мальчишки опять брезгливо дрогнуло. Он быстро ушел. Минут через десять вернулся в спальню и до побудки неподвижно сидел на кровати. Спиной к стеклянной конуре воспитателя.
Не пошевелился он и после подъема, и когда все пошли в столовую.
— Ты что же, не будешь завтракать? — спросил Корнелий.
— Ни завтракать, ни обедать, — глядя в окно, ровно произнес Цезарь. — Ни ужинать. Никогда.
Маленький Чижик нарушил общее молчание ребят. Со смесью интереса, жалости и удивления предсказал:
— Тогда обязательно помрешь, без еды-то.
Цезарь глянул на него с неожиданной искрой симпатии:
— Думаешь, это самое плохое?
Корнелий сел с ним рядом:
— Объясни тогда, будь добр. Ты объявляешь голодовку?
— Я… не знаю. Я не думал об этом. Но здешнюю пищу есть я не буду…
— Подумаешь, — буркнул Ножик.
— Тихо, — шепотом сказал Антон. — Господин Корнелий можно идти в столовую?
Ребята ушли, а Корнелий по внутреннему телефону позвонил Альбину. К счастью, старший инспектор был на месте.
— Альбин, он ничего не ест. Отказывается намертво.
Тот понял сразу:
Можно было ожидать… Но что делать-то? Проголодается сильнее — попросит.
— Боюсь, что нет. Это кремешок, — сказал Корнелий. И вдруг подумал: «Не нам с тобой чета».
— Да, пожалуй… Есть в кого. Папаша-то у него знаешь кем был? Штурман интерлайнера «Магеллан» Максим Лот. На круговой линии через полюс. Помнишь аварию и посадку на лед? Лет семь назад. Это он лайнер сажал. Чудо века… Сейчас ему, конечно, не до полетов…
— Ты мне зубы не заговаривай! — неожиданно для себя взъярился Корнелий. — Как с мальчишкой-то быть?!
— Ладно, придумаем. Не паникуй…
На занятия Цезарь тоже не пошел. Даже не отозвался на слова Антона о школе. И Корнелий опять сказал:
— Оставьте его.
Сам он тоже остался в своей стеклянной клетке. Поглядывал на неподвижно сидевшего Цезаря и с удивлением заметил, что беспокоится о мальчишке, кажется, по-настоящему. В данный момент, пожалуй, больше, чем о себе.
Через час пришел знакомый улан Гаргуш. Принес пакет. В нем — свежая булка и молоко в пластиковой, в виде пузатой коровы, фляжке.
— Вот, для пацана, значит…
Корнелий сел рядом с Цезарем.
— Ешь, это не здешнее, а… с воли.
Тот вскинул глаза, подумал секунду.
— Благодарю вас…
Видно, все-таки голод не тетка.
Из своей воспитательской кабины Корнелий видел, как изголодавшийся мальчишка рвет зубами булку и прямо из фляжки, отвинтив коровью голову, глотает молоко.
Потом позвонил Альбин:
— Как дела?
— Поел.
— Слава Хранителям… А то, не дай бог, что случится, мне башку оторвут. Это же не обычный бичёнок, а под особым контролем… Кстати, имей в виду: ни одна душа не должна знать, что он у нас…
— Это ты мне говоришь! Вот поеду после работы на дачу и всем раззвоню…
Альбин хихикнул:
— Это я на всякий случай… В ближайшую неделю придется воздержаться от врачебного осмотра. Врач-то, он ведь со стороны. Тоже лишний язык…
— Толку от этих осмотров… Гурик в постель как пускал сырость, так и пускает. Можно бы за три дня вылечить мальчишку, а тут…
— А, это ушастый такой! Помню… Эмма говорила… Для лечения надо в больницу отправлять, а с бичатами столько возни, кучу разрешений нужно требовать… Да он и сам не хотел, боялся, что потом в другую школу отошлют. Они тут уже все привыкшие друг к другу, не хотят расставаться…
«Любопытно, что иногда он вполне человек», — подумал Корнелий про Альбина. И вспомнил:
— Кстати! Ребята на прогулку просятся. Они уже полмесяца со двора ни шагу. Как мне быть?
— Ч-черт! Лучше бы обождать. А то этот… юный Цезарь смоется — и не догонишь.
— Да я не о нем! Мне-то что делать? Я же не могу за проходную сунуться?
— Верно, я и не сообразил… Опять дорогу не там перейдешь или кого знакомого встретишь. Вот задачка… Не Эмму же снова звать, я ее прогнал. Этот алкоголик из школы гулять с ними не захочет. «Не мое дело», — скажет… Слушай, я тебе темные очки принесу, чтобы не узнали! И улан обходи стороной. Погуляете где-нибудь в старом парке, там пусто. Но не в эти дни, позже…
От неожиданного приступа тоски у Корнелия перехватило горло. Он бросил в развилку наушник. Сел, обхватил затылок. «Кто я, что я? Я — живу?.. Это — жизнь?»
Миллионы людей, беззаботные, веселые, ходят на службу, ездят на пляж, смотрят фильмы, устраивают вечеринки и свидания, засыпают и встают без страха…
«Без всякого страха?»
«Ну, все-таки… Не в таком же кошмаре!»
«А разве ты в кошмаре? Ты вроде бы уже привык…»
«Ага! Как повешенный, — вспомнил Корнелий одну из шуточек Рибалтера. — Он тоже привыкает: сперва дергается, а потом висит спокойно…»
Вспомнилось (крупным планом!) лицо Рибалтера — с ехидным ртом и круглыми глазами. Повисшие краешки ушей. Без раздражения и злости вспомнилось. Наоборот. Отчаянно захотелось на работу, домой, на улицу. Хоть куда, лишь бы из тюрьмы!
«Господи, за что меня так!»
«А разве совсем не за что?» — словно спросил кто-то со стороны, спокойно и холодно.
«Что я сделал плохого?»
«А что хорошего?.. Ел, ходил в туалет, смотрел на экран, клепал на компьютере композиции из чужих картинок… Исполнял, как службу, супружеские обязанности, пил коктейли… и боялся. Боялся, что в этой жизни может что-то поломаться… Не случись «миллионного шанса», сколько бутербродов еще ты съел бы и сколько бутылок выпил бы, Корнелий Глас из Руты?»
«Все так живут!»
«Все?.. Штурман Максим Лот, посадивший на лед лайнер с тысячей пассажиров, жил так же?..»
Почему он вспомнил про отца этого мальчишки Цезаря? Что за странное завихрение мысли… Кстати, что сейчас с ними стало, со штурманом и его женой, матерью Цезаря? Альбин объяснил что-то невнятно… И каково им теперь, что они чувствуют, ничего не зная о сыне!
«Это ты сейчас почти не думаешь о своей дочери, Корнелий Глас. Она взрослая и чужая. А если бы исчезла, когда ей было десять лет? Пускай вредная девчонка, пускай мамина копия, не признававшая отца! Все равно извелся бы от тоски и горя!»
Корнелий встал. Увидел сквозь стекло, что Цезарь сидит согнувшись и обняв затылок — в той же позе отчаяния, как сидел недавно сам Корнелий.
Горе и тоска этого мальчишки были ничуть не меньше, чем у него, у Корнелия. Даже больше!
Корнелий вышел из каморки. Неожиданно захотелось провести ладонью по голове Цезаря. По этим светлым, подстриженным шаром волосам, по торчащему хохолку. Корнелий не посмел, только сел рядом на заскрипевшую койку.
— Тебя, кажется, зовут Цезарем?
На миг мальчишка поднял мокрое лицо. Отвернулся и сказал устало:
— Да… И я вас ненавижу.
— А за что? Разве ребята обидели тебя? Они же… наоборот. Твои товарищи…
— Товарищи? — сказал он очень удивленно. — Я к ним не просился…
— Я имею в виду — товарищи по несчастью. За что их ненавидеть?
— Вы не поняли. Я ненавижу вас.
— А меня за что? Я такой же арестант. Даже приговоренный к смерти…
Он сказал это неожиданно для себя. Спокойно и просто. И стал смотреть в окно, за которым качались ветки клена, суетились, прыгали (жили!) воробьи. И щекой, плечом ощутил он недоверчивый взгляд Цезаря.
Тогда, все так же глядя на воробьев и листья, Корнелий монотонно, без интонаций, поведал десятилетнему Цезарю Лоту свою историю.
Зачем? Сочувствия искал? Или успокаивал мальчишку: не ты, мол, один такой несчастный? Или просто вылилось? Кто его знает…
Цезарь далеко отодвинулся и смотрел на Корнелия. На острых скулах высыхали полоски слез. В серо-зеленых глазах что-то непонятное: и жалость, и недоверие, и… чуть ли не пренебрежение. Он спросил, кривя большие губы:
— Извините, я не понимаю. Почему вы не сопротивлялись?
— Как?
— Ну хоть как-нибудь! Нельзя же так… будто овечка на веревочке. Извините…
— Я думал… Видишь, глубоко это в нас сидит, гражданское послушание. Да и смысла не было. Попал бы в уголовники, это еще хуже…
Цезарь опять скривил губы:
— Хуже — чем?
Корнелий тоскливо усмехнулся:
— Так уж нас воспитали. Хочется не только жить комфортабельно, но и умереть с удобствами.
— Все равно я не понимаю, — тихо и упрямо сказал Цезарь. — А почему вы говорите «нас»? Разве все… такие?
Да, это он прямо. В лоб. Так меня, мальчик!
— Ты прав. Наверно, не все… — И подумал: «Твой отец, конечно, не такой».
Цезарь сказал, будто сам с собой советовался:
— Нет, все равно… Можно же было что-то сделать. Ну хотя бы убежать в храм Девяти Щитов. Там не выдадут,..
— Что? В какой храм?
— Вы не знаете?
— Я знаю храм Девяти Щитов. Но… так что из этого? Там, по-твоему, укрывают преступников?
— Разве вы преступник? Они укрывают тех, кто не виноват.
Корнелий усмехнулся:
— Это ребячьи легенды. В детстве я и сам верил таким сказкам… Ну, в старину, возможно, был такой обычай, про Хранителей много легенд рассказывают. Но сейчас-то, в эпоху всеобщей электроники…
Цезарь сердито перебил:
— Те, кто служат Хранителям, не подчиняются эпохам. И Машине тоже не подчиняются. Это вечный закон такой. Мне папа рассказывал.
То, что рассказывал папа, было, видимо, для Цезаря незыблемо. Даже если это старая сказка. И Корнелий не стал спорить. Лишь сказал:
— Ну, убежал бы я туда, а что дальше? Та же тюрьма. Куда денешься?
Цезарь пренебрежительно повел плечом. Видно было, что ему противна такая покорность. Корнелий не удержался, спросил:
— А ты… в тот раз, когда хотел убежать… думал добраться до этого храма?
— Нет. Они же прячут только тех, кому грозит смерть…
«А тебе, ты думаешь, не грозит?» — вдруг резануло Корнелия. В этот миг раздался топот: ребята возвращались с уроков. Цезарь быстро лег и закрыл голову курткой.
Сказка о Лугах
Ни обедать, ни ужинать Цезарь не пошел. Весь день лежал на койке — бессловесный и почти неподвижный. Лишь голову то закрывал своей гусаркой, то откидывал дурточку на табурет.
Или это было полное отчаяние, или что-то зрело в мальчишке?..
После ужина две девочки — десятилетние Анна и Мушка — подошли к Корнелию.
— Господин воспитатель…
— Господин Корнелий, можно мы сегодня попозже ляжем?..
— Всего на полчасика. Можно?
Сунулся тут же тихий, улыбчивый малыш по прозвищу Кот, приятель Чижика:
— А то Антон давно сказку не рассказывал…
Сказка так сказка. Корнелию-то что? И все же он поставил условие:
— Только в спальне у мальчиков соберитесь. Чтобы новичок тоже привыкал. Может, хоть немного оттает.
Никто не спорил. Но уселись в самом дальнем от койки Цезаря углу. Цезарь не двигался. Возможно, уснул.
Сейчас Корнелий не испытывал к нему никакого сочувствия. Даже наоборот, раздражение появилось. И какая-то уязвленность. Что ни говори, а мальчишка-то был крепче его. Сильнее душой. Честнее. «Почему же вы не сопротивлялись?..»
«Тебе легко рассуждать, — хмыкнул Корнелий, — В твоем возрасте все просто…»
И хотя Цезарь лежал с укрытой головой, Корнелий ясно представил его лицо. Вот пренебрежительно шевельнулся угол большого рта: «Вы и в моем возрасте были такой же, как сейчас, Корнелий Глас. Вот Альбин Ксото — другое дело…»
Ох, идите вы все… Тошно и пусто вокруг. Хорошо, что в аптечке нашлось снотворное (видать, Эмма и ее коллеги страдали бессонницей). Сейчас две таблетки, глоток воды — и пускай ребятишки рассказывают сказки хоть до утра.
Корнелий потянулся к шкафчику и машинально глянул в сторону, сквозь стеклянную стенку. Мальчики и девочки сидели тесно. Кто на койке Антона, кто на придвинутых табуретах, а Чижик и Кот даже на тумбочке (что, конечно, было вопиющим нарушением порядка). Цезарь откинул куртку. Вдавился щекой в подушку, смотрел издалека на ребят. Голосов не было слышно.
Корнелий отложил таблетки. Тихо шагнул в спальню. Чижик и Кот вздрогнули. Кот неловко спрыгнул с тумбочки, шлепнулся, перепуганно заморгал. Корнелий посадил его обратно. Все одобрительно молчали.
— Можно я с вами? — Корнелий сел рядом с Татой, ладонью провел по забинтованной ноге: — Ну что, не болит?
— Не-е…
— Эх ты, кроха…
Она закаменела на секунду, потом дернулась, притиснулась к нему, прижалась к локтю. А с другой стороны — Тышка. Со спины придвинулся, часто задышал в затылок, засопел вечно сырым носом неуклюжий Дюка. И остальные шевельнулись разом, сели теснее. Лишь Антон смотрел на это и не двигался. Но и у него лицо потеплело.
— О чем сказка-то? — спросил Корнелий.
— Да та… про гусей… — Антон смутился. — Я уж сто раз ее рассказывал, а они опять: расскажи да расскажи…
— Ну и давай, раз просят. Я тоже послушаю, можно?
— Ага, — торопливо сказала Тышка. — Антон, давай дальше.
— Ладно… — Глядя поверх голов, Антон заговорил вполголоса и ровно, привычно: — «Тогда он стал забираться на эту самую высокую гору… Сперва был на склонах дремучий лес, заросли, колючки, травы ядовитые. Всю одежду маленький рыбак изорвал, сам исцарапался, изжалился, но добрался до голых скал, до каменных осыпей… Вот он дальше карабкается. А там еще страшнее: не туда ногу поставишь — камень срывается, а за ним целая тысяча. Все башмаки маленький рыбак изодрал, все ноги изранил, но боли даже не чувствует, лезет все выше… И наконец уже такая высота началась, где лед между скал и ветер такой, что вот-вот сдует в пропасть. Жестокий ветер, как тысяча стальных щеток. Он весь лед и даже все камни вычистил до блеска. Все кругом сверкает, и небо над маленьким рыбаком синее-синее, но холод просто нестерпимый. Тут и в шубе закоченеешь, а маленький рыбак-то в лохмотьях… И остановиться нельзя, потому что, как остановишься да спрячешься от ветра, теплее делается, а это опасное тепло, в сон уводит, уснешь и не проснешься…»
— Я один раз зимой так тоже. Давно… — вдруг тихо сказал Ножик.
На него посмотрели без досады, но с просьбой: помолчи, дай послушать. Видно, это воспоминание Ножика слышали не впервые. Впрочем, и сказку тоже…
— …«И вот наконец вершина. Острая, ледяная, еле-еле можно удержаться… Но тут ветер будто пожалел маленького рыбака, поутих. А тот смотрит: с юга летит стая, двенадцать белых гусей. Успел, значит!..»
Кот и Чижик на тумбочке дружно вздохнули.
— «Тогда маленький рыбак вытянул руки и закричал: «Гуси-гуси, не летите мимо, опуститесь ко мне! Я вас очень прошу!» Он громко-громко закричал это над горами. И гуси повернули к нему. И стали кружиться. А маленький рыбак встал коленями на лед и просит: «Гуси-гуси, не бросайте меня, возьмите с собой на луга!»
Старый гусь с серебряным кольцом на лапе гогочет: «Не возьмем на луга! Зачем ты запутал наши волшебные сети? Зачем дразнил старую гусыню?»
А маленький рыбак: «Я же не знал, что это ваши сети! Не знал, что волшебные!.. А гусыня меня первая клюнула, вот я и рассердился. Я больше не буду… Гуси-гуси, ну простите меня, пожалуйста!»
«Ладно, — говорит старый гусь, — мы тебя прощаем. Но взять с собой не можем…»
Тут маленький рыбак заплакал: «Тогда сбросьте меня крыльями с этой самой высокой горы, чтобы я разбился. Пускай уж если я умру, то хотя бы там, где тепло, на траве умру… Сбросьте, а то я прыгнуть боюсь».
Гуси зашумели, загоготали, а самый младший, первогодок, говорит: «Гуси-гуси, давайте пожалеем мальчика. Он ведь все равно что гусенок без стаи, пропадет один. Давайте возьмем его на луга».
Опять они зашумели, заспорили, наконец старый гусь сказал: «Мы тебя можем взять, но только если будешь кормить нас в полете. Ты наши сети перепутал, мы рыбы не поели, нам без пищи до лугов тебя не донести, сил не хватит…»
Маленький рыбак говорит: «Буду кормить!»
А сам думает: «Как-нибудь долетим».
Гуси слетали в лес, нащипали веток, сплели клювами не то корзину, не то гнездо большущее, посадили в него маленького рыбака и понесли. Над горами, над лесами… Час летят, два летят. Шестеро корзину несут, шестеро — просто так, рядом. А потом меняются… Вот сменились десятый раз, и один гусь вдруг закричал: «Есть хочу, сейчас упаду!»
Испугался маленький рыбак, не знает, что делать. А гусь опять кричит: «Падаю!..»
Маленький рыбак заплакал, собрал силы, оторвал от ноги кусок мяса, бросил гусю в клюв… Не бойтесь, это не так уж больно было, ноги-то все равно отмороженные… Ну, больно, конечно, да терпеть можно… А тут другой гусь кричит: «Есть хочу!»
Оторвал маленький рыбак кусок от другой ноги… А в это время третий гусь закричал…
Вот так летят они, кормит маленький рыбак гусей своим телом, плачет и думает: «Скорее бы долететь, хоть одним глазком на луга поглядеть, а то ведь умру и не увижу…»
И вот опустились они на берегу синего озера, в котором белые облака плавают, отражаются. Обступили гуси корзину, загоготали испуганно, крыльями захлопали: почему маленький рыбак голову уронил, почему в крови? А как поняли — всполошились еще пуще! Выплюнули мясо, приложили к ранам на ногах, на руках, а старый гусь раны заклеил волшебной слюной. Потом окунули они в озеро крылья, обрызгали маленького рыбака, тот и очнулся…
Смотрит — слева синяя вода, справа, до самого края земли, высокая трава с цветами и густые рощи среди лугов, будто острова. А между рощ, над травою, там и тут белые дома с красными крышами стоят. А от домов идут люди. Мужчина идет, и женщина, и девочка с мальчиком. Волосы у них желтые, глаза синие, а лица добрые. А впереди рыжая собака бежит, хвостом машет. Глаза у собаки золотистые, язык розовый, и она будто смеется.
Гуси тут как закричат: «Люди-люди, га-га-га! Мы вам мальчика принесли с дальней стороны!» И улетели.
Маленький рыбак стоит и не знает, что делать. Собака подбежала, стала теплым языком последние ранки на нем зализывать.
А девочка спрашивает: «Ты чей?»
Он говорит: «Ничей, сам по себе. Меня гуси принесли…»
Женщина говорит: «Хочешь с нами жить? Я буду твоя мама…»
Он как побежит, как обнимет ее…
Мужчина говорит: «Я буду твой отец».
Мальчик говорит: «Я буду твой брат».
А девочка: «Я буду твоя сестра».
А собака ничего не говорит, только хвостом машет, но и так все понятно…
Вот и вся сказка…»
Они с минуту сидели неслышно, не возились, не шептались. Потом потихоньку завздыхали, зашевелились.
Чижик осторожно сказал с тумбочки:
— Нет, это не все. Еще сказка про луга, как там люди живут… Антон, расскажи.
— Про луга — это уже не сказка, — строго возразил за спиной Корнелия Илья.
А неуклюжий Дюка завозился и вздохнул:
— Про гусей — это сочинительство, а про луга — по правде.
Они все опять зашептались, запереглядывались. Старшие девочки — Дина и Лючка — встретились глазами с Корнелием и отчужденно потупились. Он почувствовал себя гостем, которому деликатно намекают, что пора заканчивать визит.
Конечно, у них свой мир, свои тайны, своя сказка, которая, кажется, стала чуть ли не религией. Сказка-надежда про волшебную страну, куда можно бежать из постылой тюрьмы…
Он хотел встать, но Тата вцепилась в локоть. Надо же!..
Антон вдруг сказал, глядя прямо в лицо Корнелию:
— Чего ж рассказывать сказки про луга. Вот если бы найти человека… — Он словно принимал Корнелия в равноправные собеседники. — Гусей, конечно, по правде не бывает, а вот люди, которые умеют уводить, они есть…
— Уводить на Луга? -прямо спросил Корнелий.
— Ага… — выдохнул Антон.
А Лючка, обнявшись с Диной, мечтательно объяснила:
— Это дальняя земля такая. Может, даже другая планета… Там все без индексов живут, и если кто-то сирота, ему сразу говорят: «Иди жить к нам». И луга кругом зеленые-зеленые… Только бы знать, как уйти…
— Антон, расскажи про Вика, — попросил Ножик.
— Сколько можно про одно и то же…
— А ты Корнелию… господину Корнелию расскажи.
— Ну, ладно. — Антон опять быстро глянул Корнелию в зрачки. — В той школе, где я раньше жил, в Суме, три года назад… там привезли одного. Вик его звали. Он был тогда такой, как я сейчас… Он говорил, что может уйти. На Л у г а… Через зеркала… Мы сперва не верили, а он вот что делал. Два зеркала берет и ставит их вот так… — Антон сдвинул прямые ладони под углом. — Примеряет, примеряет… А потом берет железный шарик и между зеркальцами — раз! С размаху! Мы думаем, осколки будут. А ничего, даже звону нет. И шарика нет. Нигде… Вик говорит: «Он уже там». — «Где?» А он: «В дальнем краю, на зеленых Лугах…» Тогда я про Луга и услыхал первый раз… Вы не слыхали… господин Корнелий?
Корнелий молча покачал головой. Антон опустил глаза — недоверчиво и недовольно.
— А дальше что? — нетерпеливо сказал Ножик.
— А дальше… Он говорит: «Уйдем вместе». Хотел нас научить, да не успел. Кто-то настучал, за ним пришли… Он тогда встал в коридоре, там с одной стороны зеркало такое, от пола до потолка, а с другой — стеклянная дверь. Он дверь-то дернул, она встала к зеркалу углом. Он в эту щель отшатнулся — и все. Нет его… Бегали, искали, всех допрашивали. Потом школу расформировали, она большая была… Неужели вы про такое дело не слышали, господин Корнелий?
— Откуда же…
— Но вы же воспитатель.
— Я не настоящий воспитатель. Я просто вам еще не рассказывал…
— А мы догадались, — прошептал робкий, вечно виноватый Гурик.
— О чем? — вздрогнул Корнелий.
— Что не настоящий… !
«Мне бы, как вам, бежать на Луга, да тоже не знаю дороги», — чуть не сказал Корнелий. Но очередной приступ изнуряющего уныния накрыл его. Корнелий с трудом встал.
— Спать, ребята.
— Давайте молитву, — шепотом сказал Илья. — Потихоньку.
Оглядываясь на лежащего ничком Цезаря, все тесным кружком встали между коек. Слов теперь слышно не было, но Корнелий знал: это «Гуси-гуси…» — молитва ребячьей горькой мечты.
Стало чуть легче… А что же Цезарь-то? Корнелий обернулся.
Цезарь… встал. Одернул свои скомканные брючки, опустил руки, низко наклонил голову. И стоял так, пока ребята не разошлись к своим постелям.
Что же это он? Из-за молитвы? Он ее наверняка даже и не слышал.
Теперь Цезарь отрешенно сидел на постели. Корнелий подошел.
— Значит, ты верующий?
— Я?.. Почему вы решили?
— Ну вот встал же…
— Ну и что? Раз люди молятся, нехорошо лежать… Это и х дом.
Просто чтобы не кончать разговор (может, хоть немного оживет мальчишка), Корнелий сказал:
— Ты молодец… А что, в вашей семье не признают никакой религии?
«Вот балда-то! Не надо про семью…»
— Нет… Папа говорит, что любая религия — это наивность. Мы признаем только Юхана-Хранителя. Но это не святой, он жил на самом деле…
— Да?
— Он был мальчик, трубач в крепости. Враги напали, хотели его убить, но он не испугался, заиграл тревогу и спас город. За это его объявили Хранителем…
— Я что-то слышал в детстве… Значит, этот Юхан у вас дома заменяет Бога?
Цезарь глянул недоуменно и строго:
— Бога никто не может заменить. При чем тут это?
Антон спросил:
— Господин Корнелий, можно выключить верхний свет?
— Можно…
Большая лампа погасла, ровно, почти уютно зазеленели в простенках ночные фонарики. В свете ближнего ночника лицо у Цезаря стало еще более резким.
Снова заговорил Антон:
— Спокойной ночи, ребята. Спокойной ночи, господин Корнелий. Спокойной ночи… Цезарь…
— Спокойной… ночи… — прошептал тот растерянно.
— Ложись, постарайся уснуть, — сказал Корнелий.
— Хорошо…
— Послушай… Цезарь. Тебя так и надо звать этим именем? Или можно как-то… поуменьшительнее? — Корнелий и сам не знал, почему это спросил.
Цезарь медленно поднял лицо.
— Да… Папа зовет по-южному: Чезаре… А мама… иногда просто Чек… — Губы у него шевельнулись в намеке на улыбку.
И Корнелий понял мгновенно, что, улыбнись мальчишка — и лицо его преобразилось бы. Появилась бы та самая детская округлость щек, заблестели бы глаза, забавно растянулся бы веселый белозубый рот. И стал бы Цезарь удивительно славным Чезаре, озорным Чеком.
Но он вдруг опять закаменел.
— Если позволите, я лягу… И называйте меня, пожалуйста, Цезарь.
Корнелий быстро встал. В своей каморке бросил в рот две таблетки. Потом еще одну, последнюю. Запил из стакана противной теплой водой. Упал на кровать.
«Гуси-гуси, га-га-га…»
«Железный шарик — сквозь зеркало… Стебелек сквозь стекло… Почему?..»
«Все-таки как может исчезнуть у живого человека индекс?.. А, Цезарь?..»
Сигнал побудки Корнелий проспал. Поднялся он, когда ребята вернулись с завтрака и начали переодеваться для школы. Цезарь, помятый, босой, сидел на койке и морщась разглядывал свои носки. Потом взглянул на вошедшего в спальню Корнелия.
— Извините, но я так не могу. Без чистого… Почему не привезли мои вещи?
«В самом деле, почему? Идиоты…» — подумал Корнелий. Но сказал хмуро:
— На дворе, у очистного блока, люк прачечной. Сложи все в пакет, брось туда. Через полдня будет готово.
— А полдня мне ходить голым?
— Оденься как все. Уж как-нибудь выдержишь несколько-то часов, — с раздражением сказал Корнелий.
Голова тоскливо гудела, подташнивало.
Цезарь заколебался. Увидев его нерешительность, Антон кивнул девочкам. Лючка слетала в кладовую и принесла стопку одежды. И пластиковый жесткий пакет Цезарь что-то буркнул, взял это имущество и удалился в умывальную. Через несколько минут появился переодетым.
Школьный костюм не сделал его похожим на остальных. Во-первых, форменный жилетик он так и не надел, а по-прежнему держал на плечах свою гусарку. Во-вторых, и походка, и взгляд, и поворот головы — все говорило, что мальчишка не отсюда и здешнюю жизнь отталкивает всем своим существом. Несмотря на то что бледен и покачивается.
— Ты завтракал? — спросил Корнелий.
Цезарь двинул уголком рта.
— Он не завтракал, — сунулся Чижик. — Мы звали, а он…
— Антон, веди ребят на уроки. Мы с Цезарем придем позднее.
Цезарь глянул удивленно и пренебрежительно.
Когда ребята ушли, Корнелий тяжело сказал:
— Ты ведешь себя глупо, ни то ни сё. Надо было или сразу ложиться и помирать в знак протеста, или принимать здешние правила до конца…
— Как вы? — тихо, но дерзко спросил Цезарь.
Корнелий ощутил быстрое желание дать ему крепкого шлепка (и почему-то обрадовался этому). Но ответил медленно и сдержанно:
— Неудачное сравнение. У меня… нет родителей, которые тревожатся и ждут. И возможно, ищут… Ты ведь, наверно, надеешься еще увидеть отца м маму?
Это было, кажется, в точку. Цезарь закусил губу,,уронил голову. Шепотом сказал:
— Извините.
— Идем.
В пустой столовой Корнелий глянул на табло с меню БДСБ — блока доставки стандартных блюд. Расположенная в старом доме, неказистая с виду школа-казарма для бичат была тем не менее подключена ко всем коммуникациям. Ну и понятно! Не держать же поваров, прачек и прочий хозяйственный люд для нескольких безындексных пацанят. С уборкой ребятишки справляются сами, а остальное — автоматика…
Корнелий взял из окошка две тарелки с непонятной серой кашей, две чашки кофе и хлеб. Цезарь съел все быстро, не морщась.
— Ну, как? — спросил Корнелий. Потому что каша была похожа на сладкий клей.
Цезарь пожал плечами:
— Не все ли равно?.. Благодарю вас.
Он понес в мойку свою и Корнелия посуду, ухитряясь не уронить едва держащуюся на плече гусарку.
— В школу-то пойдешь? — спросил Корнелий.
— Я закончил четвертый класс высшего частного колледжа профессора Горна. Вы думаете, здесь похожие программы?
— Не думаю… Значит, опять будешь весь день сидеть в спальне?
Цезарь поправил гусарку, помолчал.
— Хорошо, я пойду…
От кадыкастого, длинного учителя уже попахивало. Корнелий кратко объяснил ему положение дел с Цезарем и ушел. В гулкой после снотворного голове стучала мысль: «Что же дальше-то?»
Около часа он лежал у себя в каморке, потом позвонил Альбину, чтобы сказать: «Инспектор, кончай эту волынку как хочешь! Я так больше не могу…» К счастью или на беду, инспектор Мук не ответил. Корнелий выждал несколько минут, опять схватил наушник, нацелился на кнопки… и ослабел от липкого страха: а что, если и правда сейчас придет момент «кончать волынку»?
Он полежал еще, обмякший, с разбежавшимися мыслями. Затем, боясь нового приступа безнадежности, встал. Вынудил себя снова стать воспитателем. Пошел в класс.
Учитель в своем закутке был уже хорош. Ребятишки, кажется, добросовестно решали задачки электронного наставника, чье мудро-очкастое лицо маячило на стереоэкранах. Лишь Цезарь в своей кабине был занят явно не тем. На его экране возникали и распадались какие-то абстрактные композиции.
Цезарь оглянулся на Корнелия:
— Программы чудовищно примитивные. Я отключился.
— Вижу.
— А машина хорошая. Даже не ожидал.
— Что хорошего? Обычная школьная персоналка.
— Сама по себе да. Но она подключена к сети.
— К какой сети?
— К ВОТЭКСу.
— Не может быть…
«А собственно, почему не может быть? Раз школа подключена к общей системе коммуникаций… И поскольку в школе почти нет учителей, подсоединение к Всеобщей Телеэлектронной Кабельной Сети вполне логично: для информации, для смены программ… Ребятишки могут этого и не знать… Хотя Аптон, видимо, догадывается, научился же смотреть здесь телепередачи… Но пользоваться ВОТЭКСом — это надо уметь…»
Цезарь, видимо, умел.
— Я связался с информатором Центрального аэропорта, я знаю шифр. Информатор ответил, что штурман Лот в рейс не уходил, он в отпуске. Значит, эти люди из управления врут, я так и знал… А Бим ответил, что мамы и папы нет дома уже третий день. Что они, если я позвоню, просили не волноваться… — В голосе Цезаря задрожала слезинка. Он сглотнул ее. Опять затвердел.
Корнелий быстро спросил:
— А кто такой Бим?
— Наша домашняя машина.
— У вас есть компьютер полного профиля?
Цезарь удивленно глянул через плечо:
— Естественно…
«Ах, да! Штурман Лот. Член экипажа кругового лайнера, да еще такой известный…»
Разрешения на машины с нейроблоками большого объема давались далеко не всем. Рибалтер, например, выбил себе. Поднял крик, что иначе не может, что он часто работает дома. Корнелию тоже могли бы дать, но он не просил, ибо дома никогда не работал. Дом — это для покоя, для радости… Странно, что Корнелий почти не вспоминает дом. Или боится вспоминать? Потому что знает: это никогда не вернется…
Но Цезарь-то надеется вернуться! И каждой жилкой, каждым нервом рвется домой!
— Ты наверняка продиктовал Биму, где находишься, — заметил Корнелий, — чтобы родители, когда вернутся, узнали…
Цезарь опять посмотрел через плечо. Холодно и дерзко.
— Ну и что? Хотите выдать меня?
— Ты с ума сошел, — искренне сказал Корнелий.
Цезарь опустил плечи.
— Я не понимаю… Почему меня сюда засадили и прячут?
— Мог бы и понять. Ты же умный человек. У тебя исчез индекс. Это случай небывалый. Управление правоохраны хватается за голову: почему это произошло, где причина?
— Меня и так полтора месяца возили по институтам и клиникам, выясняли…
— И не выяснили. А непонятное всегда пугает. Кто-то подумал: а вдруг люди узнают об этом? Начнется паника, пересуды. Если, мол, у одного индекс пропал, может и с другими случиться такое же…
«А что, если и в самом деле?» — подумал он.
— Это значит, меня могут и убить… — отвернувшись, проговорил Цезарь. Медленно, раздумчиво.
— Да ты что, малыш! Никто не может лишить жизни человека без приговора юридической Машины! А ребенок вообще неприкосновенен.
— Я и вижу… что неприкосновенен, — по-взрослому усмехнулся Цезарь. — Папа говорит, Машину придумали те, кому удобно за ней прятаться… И говорит, что всеобщая система индексов — это всеобщая глупость!.. — В голосе Цезаря прозвенел вызов.
— Согласен с папой, — вздохнул Корнелий. — Да что поделаешь…
Цезарь опять сидел отвернувшись. Курточка лежала на полу. Плечи под казенной рубашкой были съеженные, острые. Стриженная шаром голова на тоненькой шее казалась чересчур большой по сравнению с плечами. Корнелий поймал себя на том, что ему опять хочется провести ладонью по этой щетке густых желтовато-белых волос. И задеть пальцем одиноко торчащий хохолок. И снова не решился. Представил, как обернется Цезарь, как затвердеет его останавливающий взгляд…
Цезарь вдруг бросил пальцы на клавиатуру. Играючи, как настоящий оператор, выстроил в глубине стереоэкрана картинку: две полупрозрачных пластины и черный шарик. Квадраты пластин сошлись под углом, отразились друг в друге, создав что-то вроде размытой по краям кристаллической решетки. Шарик, набирая скорость, ринулся в гущу этих переплетенных плоскостей, и они вдруг вытянулись в одну широкую ленту, которая замкнулась в кольцо. Шарик метался внутри кольца. Корнелию вдруг вспомнилось, как в широком синем обруче вертелся худой коричневый мальчишка — в тот последний нормальный час жизни, когда он, Корнелий Глас, беззаботно шагал домой со станции (сто лет назад!).
— Что это? — сумрачно спросил Корнелий.
Небрежно и почти весело, словно не было прежнего разговора, Цезарь объяснил:
— Я тут хотел решить задачку о шарике: куда он девается между двух зеркал? Помните, вчера мальчик рассказывал? Антон, кажется…
— Ну… и что? — по-настоящему удивился Корнелий. — Зачем это тебе?
— Так. Любопытно.
— И… решил?
— Видите, что получается.
— Вижу. Шарик в кольце, и никуда он не исчез.
— А если вот так…
Широкая лента порвалась, перекрутилась и сомкнулась опять, изобразив нечто вроде восьмерки. Шарик выскочил на ее внешнюю сторону…
— Кольцо Мёбиуса, — сказал Корнелий. — Соединение двух плоскостей в одну…
— Ага, — откликнулся Цезарь, и впервые прозвучала у него озорная ребячья интонация. — А теперь… опять!
Ленточная восьмерка порвалась вновь и соединилась в обычное кольцо. Только шарик бегал уже не внутри, а снаружи кольца.
— Видите? Он ушел на другую плоскость!
— Вижу… Только понять не могу.
— А если представить вместо плоскостей трехмерные пространства? Они тоже на миг разорвались и соединились в одно, а шарик в это время перескочил…
— Ты мудрец, — без капли иронии сказал Корнелий. — Откуда это у тебя?
— Мы с папой часто играли в пространственные игры. Когда он дома бывал… Я один раз построил семимерный субкристалл с переходом в межпространственный вакуум. Папа не поверил, начал перезапись… А Бим не выдержал, отключился…
Последние слова Цезарь сказал уже вяло, угасающим голосом. И опять обмяк.
Чтобы он совсем не сник (хотя не все ли равно?), Корнелий торопливо спросил:
— Ну а за счет чего происходит разрыв и соединение пространств? Или это «уже другая задача»? Как в анекдоте про студента и профессора?
Цезарь приподнял и уронил плечи.
— Не знаю… Извините, у меня голова разболелась. Отсюда можно уйти до конца занятий? Я хочу лечь.
— Иди… — угас и Корнелий. — Я скажу учителю.
Оставшись в кабинете, Корнелий устало сел на хлипкий вертящийся табурет. И вдруг почувствовал: пальцы запросились к пульту. Рефлекс, наверно…
Экран был маленький, но пульт стандартный. Правда, большой ряд символов и микрофон для звуковых команд были заблокированы, однако Цезарь (ловкий парнишка все-таки!) умело обошел блокировку, подключившись к ВОТЭКСу через канал общешкольного информатория (видимо, подбросил такой хитрый вопрос, что Центральная Учебная Машина сама сомкнула контакты с большой сетью).
Корнелий привычно бросил пальцы на клавиши. В глубине стереоэкрана возникло желто-красное паутинное кружево остроугольной композиции. И неожиданно сложилось в узор, напоминающий фигурную решетку на тюремном окне…
И тогда Корнелий, обмерев от мгновенной слабости, от неожиданной надежды, послал вызов: «Информация юридической службы. Логические задачи…»
А в самом же деле! Юридическая Машина должна учитывать прецеденты! В старину, если человека расстреливали и не могли убить первым залпом, его потом лечили и миловали. Если у повешенного рвалась веревка, его тоже щадили!
«Субъект А, будучи приговорен к административной казни по штрафному миллионному шансу, не смог быть подвергнут акции по вине исполнителя (субъект В), оказавшегося не готовым к выполнению данной служебной обязанности. В то же время должностным лицом (субъект С) индекс осужденного был заранее снят с контроля, а субъект В — тоже заранее — подписал протокол о состоявшейся акции… Может ли в данном случае субъект А рассчитывать на помилование — с учетом прецедента, который условно назовем «лопнувшая веревка»?..»
Дальше Корнелий, судорожно давя податливые кнопки, подробно изложил ситуацию с неудавшимися казнями (в том числе и случай с героем фильма «Дочь контрабандиста») и факты отмены судебных приговоров. Потом загнал текст в шифровальный блок.
Алгоритм получился на три с половиной строки. Почему-то не доверившись транслятору, Корнелий сам отстучал цепочку цифр, букв и знаков. И, потеряв дыхание от тоскливого страха и жалобной надежды, стал ждать.
Сероватая пустота экрана мерцала голубыми искрами помех: машина была не экранирована. Оно и понятно: безындексные ребятишки не излучают. Но Корнелий-то излучал! Его лишенный юридической силы индекс по-прежнему посылал в эфир свои микроимпульсы. Кричал: «Я живой!»
Экран был пустым странно долго (или так показалось?). Потом повисли в пустоте светящиеся строчки: «Прошу подождать. Изложенные условия на грани нестандартной ситуации».
И Корнелий, изнемогая, ждал еще целую вечность… Наконец строчки мигнули, пропали, и на их месте возникли другие:
«Ссылка на прецедент несостоятельна. Помилование субъекта А могло иметь место в том случае, если бы субъектом В ему был введен раствор и этот раствор не оказал бы запрограммированного действия (аналогия с лопнувшей веревкой). В условиях задачи субъект А не подвергался воздействию со стороны субъекта В (исполнителя) и потому по-прежнему подлежит штрафной акции. Субъект В, виновный в неисполнении и досрочном подписании протокола, и субъект С, заранее снявший индекс с общего контроля, в данном случае считаются несоответствующими служебному положению, подлежат ведомственному суду (первый по административной, второй по уголовной части) с передачей приговора на санкционирование и штрафную жеребьевку штрафной Машине муниципального уровня…»
Корнелий не ощутил нового приступа страха или уныния. Наоборот, даже какое-то облегчение почувствовал. Наверно, оттого, что не надо больше ждать и мучиться… Он посидел еще, тупо глядя в искрящуюся глубь опустевшего экрана.
Потом щелкнул динамик. Негромкий голос инспектора Мука сказал с усмешкой, но тревожно:
— Это Альбин… То есть «субъект С»… Корнелий, дружище, не играй в такие игры, а то зацепят на контроле, копать начнут. Все обращения в юридическую сеть фиксируются автоматически, ты же не дитя, должен понимать… Я тебе говорил: сиди тихо, не шебуршись.
— Тебя бы на мое место, — выдохнул Корнелий.
— Понимаю… А я что? Я и так все, что могу… Мы с тобой, можно сказать, одной веревкой повязаны. Проникнись…
Булочки с изюмом
После обеда Цезарь сходил к люку прачечной и торопливо переоделся в свое — чистое и отглаженное. И опять словно отгородился от всех крепкой стенкой. Но когда ребята пошли играть во двор, в спальне сидеть не стал, вышел за остальными. Сел на скамейку у забора и смотрел, как мальчишки и девчонки в зарослях желтой акации сооружают «балаган».
Корнелий разрешил ребятам взять в кладовых старые листы пластика, пустые контейнеры, остатки рулонной пленки, и обрадованные бичата стали сооружать себе «летнюю дачу». Хоть какое-то развлечение в жизни. Тем более что завтра воскресенье. (Господи, значит, Корнелий здесь всего неделю! А кажется — год!)
В «балагане» ребята хотели устроить что-то вроде пикника. Ножик сказал, что у них с Тышкой общие именины (вроде бы оба родились в августе), и они будут сегодня праздновать.
— Можно, господин Корнелий? Мы шуметь не будем… А потом мы «балаган» разберем и все сложим на место…
— Валяйте…
И старшие, и малыши работали старательно, без лишней суеты. Спокойно и почти весело. Но видно было, что сумрачный Цезарь, молчаливо сидящий в отдалении, им в тягость. То ли виноватыми себя чувствовали, то ли стеснялись новичка. И злились про себя, наверно. Нет-нет да и бросят неловкий взгляд.
Видимо, Цезарь понял, что дальше так нельзя. Что ни говори, воспитание — великая вещь. Если мальчишку десять лет учили быть человеком, он не позволит себе долго смотреть волчонком на тех, кто не виноват в его беде. Корнелий увидел, как Цезарь встал и, словно пересиливая себя, подошел к Илье.
Илья сидел поодаль от остальных и старался содрать крышку с большого пластмассового контейнера от какого-то прибора. Крышка не поддавалась.
— Извини, но так ничего не получится, — негромко и отчетливо сказал Цезарь. — Надо чем-то подцепить…
Тут же возник рядом Чижик — с железкой, похожей на стамеску:
— Вот! Годится?
Илья сидя зажал скользкий ящик пыльными побитыми ногами, а Цезарь железной полоской подколупнул крышку. Она с чавкающим звуком отошла. Илья засмеялся. Они взглянули друг другу в лицо. Корнелий, устроившись под яблоней, смотрел с пяти шагов. На миг ему показалось, что Цезарь тоже наконец вот-вот улыбнется.
«Ну! — с неожиданным нетерпением нагнулся вперед Корнелий. — Давай…»
Цезарь не улыбнулся. Но кажется, лицо его чуть потеплело. И может быть, какая-то ниточка — намек на симпатию — появилась между мальчишками. Возможно, Илья, смахивающий на юного скрипача (хотя и с синяками на ногах, нечесаный, в порванной рубашке), казался Цезарю ближе и симпатичнее других безынд. Более похожим на одноклассников из частного колледжа профессора Горна.
…Кто знает, как стали бы развиваться события с этой секунды. Может, Цезарь подружился бы с Ильей и подбил бы его на побег. Может, наоборот, привык бы к этой компании бичат и зажил их жизнью. Или его разыскали бы и отбили через суд родители (хотя едва ли). Или… Можно гадать. А сколько дней, месяцев или даже лет прожил бы здесь исчезнувший для всего мира Корнелий Глас? Если бы не крошечный случай — один из тех, которые порой полностью меняют ход событий. А именно: маленький Чижик сунул нос в контейнер.
Сунул, сморщился:
— Фу, там грязища, смазка какая-то… Давайте вымою!
Обхватил его руками и потащил к садовому крану, стукая по гулкой пластмассе коленками. Споткнулся, перелетел через свою ношу, расцарапал нос. Подскочил его приятель Кот. Подбежала Дина:
— Ой, кувыркалыцик… Пошли, смажу бактерицидной.
— Не, она щиплется!
— Не сочиняй.
— Иди, Чижик, иди, — посоветовал Кот. — Я в прошлом году нос расковырял и не помазал, дак помнишь — он раздулся, будто булка.
— «Булка»… — фыркнули рядом Тата и Тышка.
Потом Тышка весело округлила глаза:
— Ой, я придумала!
Она отбежала к Антону, встала на цыпочки, что-то зашептала ему в ухо.
Корнелий словно собственным ухом ощутил теплый этот шепот. В точности так же когда-то шептала ему свои секреты маленькая Ал ка (и торопливые, неразборчивые слова щекотали кожу и шевелили волосы на виске).
Ведь это же было так, было…
Антон кивнул, осторожно отодвинул Тышку и зашагал к Корнелию.
— Господин Корнелий, можно вас попросить?.. Разрешите мне на десять минут выйти за ограду. Там на углу есть лавка, в ней булочки продают, всегда горячие, с изюмом. В доставке таких не бывает даже по воскресеньям. Изюму там густо-густо… Ребята говорят: мы бы в «балагане» именинный чай устроили…
Корнелий озадаченно молчал.
— Эмма… То есть госпожа Эмма и господин Валентин иногда разрешали… У нас мелкие деньги есть, нам выдают карманные…
Не зная, что решить, Корнелий машинально прошелся глазами по Антону: по серой фланелевой курточке, по мешковатым, перемазанным землей брюкам. Встретился с просящим взглядом.
— Я переоденусь в школьное, господин Корнелий. Я быстро…
— Да не в том дело. Инспектор Мук запретил всякие выходы на этой неделе. Нам всем влетит.
Антон сник. Потом опять глянул просительно:
— А тогда… извините… не могли бы вы сами купить? Это совсем рядом.
— Я?!
Ох, да они же ничего не знают! Никто, кроме Цезаря. Он, Корнелий, для них сотрудник школы, вольный человек. Наверно, меж собой удивляются: что это он безвылазно торчит здесь несколько суток?
А… почему бы не купить ребятам булочек? Кто помешает? Улан в проходной? Но в его глазах Корнелий просто дежурный воспитатель. А до лавочки квартал…
Ох как вдруг захотелось наружу, за эту грязно-белую стену!
Разве это что-то изменит? Ничего… Но все равно!
Сердце забухало, сбивая дыхание.
— Ну… хорошо. Только у меня ни гроша, давайте вашу мелочь.
Они сбежались стайкой. Лишь Цезарь в стороне. Антон собрал горсточку алюминиевых, почти невесомых монеток. Жалкие грошики, которые муниципальная служба призрения выдавала для радости жизни безындексным детишкам. Наличные! Потому что перечислять-то было некуда: не имеешь индекса — нет и счета в банке…
— Вот, господин Корнелий. Пожалуйста, если можно, купите на все…
— Хорошо. Но условимся: чтобы здесь все было в порядке, пока я хожу.
Антон встал навытяжку, словно кадет:
— Честное слово, я отвечаю. Все будет тихо, сколько бы вы ни ходили…
«А сколько тут ходить-то?..»
Корнелий пошел к проходной. Сердце все еще колотилось. И словно эхо от него, прозвучали сзади торопливые шаги. Догонял Цезарь.
— Господин Корнелий… Вот… — Он смотрел без прежней жестокости, почти умоляюще. Протягивал серебристую монетку. Она оказалась странно тяжелой.
— Что это?
— У меня другой нет, господин Корнелий. Это старинная. «Десять колосков»… Видите, на ней Юхан-Хранитель. Это денежка из древнего Звездограда…
На монетке в окружении мелких полустертых букв Корнелий увидел мальчишечий профиль. Обычный пацаненок — со вздернутым носом, с растрепанными волосами…
— Но… она же у тебя, наверно, не просто так… — догадался Корнелий.
— Не просто… — У Цезаря повлажнели глаза.
— Наверно, вроде талисмана?
— Да! Но сейчас можно. Пусть…
«Значит, для него это так важно — внести свой вклад в ребячий праздник! Почему? Из-за одной переглядки с Ильей? Или просто измучился в своем одиночестве?»
Но Цезарь торопливо выговорил:
— Я очень прошу… Я понимаю, из индексной будки вам нельзя звонить, но есть автоматы, которые от монеток работают. Эта подойдет, я знаю…
— Подожди. Куда я должен звонить?
— К нам домой бесполезно. Надо папиным друзьям. Простой номер: сорок два, сто одиннадцать, двести двадцать два. Вы только спросите: «Дом штурмана Картеша?» А потом: «Цезарь там-то…» И все!
— Ну… ладно. А монетка-то эта зачем? Тут и так хватает мелочи…
— Нет! Пусть эта! Я знаю, она обязательно поможет…
В детстве Корнелий читал о страхе птицы, которую после неволи выпускают из окна. Открывшийся мир кажется ей жутко громадным и полным угроз. Она рвется назад — в комнату, в привычную клетку!..
Что-то похожее испытал и Корнелий, когда шагнул из проходной (улан глянул равнодушно и ничего не сказал).
Страх был подсознательный, вне всякой логики. Потому что окраинная, заросшая подорожником и диким укропом улица была столь же тихой, как и школьнотюремный двор. С одной стороны — обшарпанно-белая стена, с другой — заборы, запертые мастерские и угол кирпичного склада. Не то что постовых, даже и обычных прохожих не было.
Корнелий часто подышал, загоняя страх в глубину. Сердце застучало ровнее… А чего он, собственно говоря, дрожит? Что может быть хуже смерти? Действительно одичал за стеной…
Корнелий опустил горстку мелочи в пиджачный карман. Оглянулся. Лавочка, судя по всему, вон там, на перекрестке. Висит под карнизом одноэтажного дома старинная вывеска с фигурным кренделем. Ну, пошли…
День был теплый, солнечный, стрекотали кузнечики. Корнелий шел не спеша, ровно. Страх исчез, сонное умиротворение обволакивало его, он рассеянно улыбался. Лавочка оказалась заперта, но это его почти не огорчило. Можно найти какой-нибудь магазинчик в соседнем квартале. А заодно и телефонную будку. В самом деле, отчего бы не помочь несчастному мальчишке Цезарю Лоту? Чем Корнелий рискует? Ничем…
Он свернул за угол. Улица полого шла вверх. Слева оказалась длинная стена с широкими окнами, из них пахло пекарней. Справа тянулась витая решетка густого сада. У решетки стояла телефонная будка, но явно индексная, не для монеток. Плутовато улыбаясь, Корнелий обошел ее.
Лавочек со сластями пока не было видно. Корнелий шЪгал дальше. Он чувствовал себя маленьким мальчиком, который впервые ушел из дома один, без спросу. Из травы у садовой решетки вышла серая кошка. Лениво пошла через дорогу. Не черпая, но все-таки…
— Кыш… — сказал Корнелий.
Кошка поглядела на него желтым прищуренным глазом, подумала и снисходительно пошла обратно. Хорошо…
Улица поднималась, поднималась и наконец привела на верх пологого холма. Здесь пролегала узкая бетонная дорога, за ней лежали сады с красными крышами коттеджей. За садами блестела река, а по берегам поднимался город. Пестрый, с путаницей современных кварталов и разномастной старины.
Как прозрачные кристаллы переливались многоэтажные стеклянные офисы, торчали перевернутыми сосульками башни Готического квартала, подобно римским акведукам шагали со склона на склон арочные мосты монорельса. Сумрачно рисовался среди маленьких облаков на древней Горе зубчатый контур Цитадели. Над ним шилом втыкалась в небо вышка-антенна Всеобщего Вещания…
Корнелий подумал почти с нежностью, что он, по сути дела, всегда любил этот город. Несмотря на разницу стилей, безвкусицу архитектуры, запутанность кварталов и бетонно-стеклянную стандартность Нового центра. Выросший в тихой классической Руте, он приехал сюда уже взрослым и вначале ужаснулся чудовищным зданиям, бешеному ритму, вечному шуму, бестолковщине и многолюдью. Как-никак первый после столицы город в Западной Федерации. А точнее — столпотворение разных поселков и городков вокруг двух центров — старой Горы и нового Дневного квартала…
Корнелий неторопливо и даже умиленно водил глазами, когда прежний птичий страх вдруг опять встрепенулся в нем. Почему?!
А, вот что!.. Корнелий отступил в тень желтых акаций на обочине. По бетонке катил дорожный патруль. С десяток улан на своих мотодисках.
Эти диски были постоянным предметом зависти мальчишек и загадкой для всех гражданских лиц. Плоское черное колесо с торчащими из оси педалями и маленькое седло на обтянутом тонкой шиной ободе. И все! Где двигатель, как держится и остается неподвижным седло на стремительно вертящемся колесе, почему оставленный улан## диск не падает, если даже наклонен под углом сорок пять градусов? Эффект спрятанного внутри могучего гироскопа?
Диски были тайной. Нет, не военной (ибо известно, армии как таковой в Вест-Федерации нет), но достаточно крепкой государственной. Управлению диском учили в специальных уланских школах. Оно и понятно — попробуй-ка удержись на этом чертовом колесе, лишенном даже руля! Зато все выученные уланы были наездниками-виртуозами. А маневренность дисков — необыкновенная. Они стремительно разворачивались на месте, перелетали через ямы и небольшие овраги, могли на несколько секунд зависать в воздухе и какое-то время даже мчаться по вертикальной стене…
Патруль пронесся мимо. Уланы в своей черной коже, в лакированных бутылочных крагах на согнутых ногах катили, сильно склонившись вперед, растопырив локти и уперев ладони в пояс. На угольных дисках белели крупные латинские буквы UL(Управление по обеспечению всеобщей лояльности). Неподвижные, хотя и чуть размытые буквы на бешено вертящихся колесах! Тоже загадка. Может быть, эффект стробоскопа?
Промчались, улеглась на бетонке легкая пыль. Улегся и страх Корнелия. Не нужен Корнелий этим стражам безопасности и порядка. «Никому ты не нужен, не дрожи…» Усмехаясь, он оглядел ближние окрестности. Наискосок через дорогу поднималась из лопухов стеклянная будка с телефоном. С буквами «МА» на стекле. Монетный автомат.
Вот и хорошо. Корнелий с мальчишечьим припрыгиванием двинулся через бетонку. И здесь, на самой середине, его прошила, просверлила, проткнула раскаленной вибрирующей иглой трель свистка.
Корнелий закостенел. Неизвестно откуда возник постовой — весь в черном, с желтыми ремнями, шел он по краю бетона. Небрежно помахивал жезлом и в то же время нашупывал на поясе уловитель индекса — блестящую коробочку с раструбом.
— Эй, сударь! Здесь переходить не полагается…
Корнелий стоял, оплывая новым липким ужасом.
— Я возьму ваш индекс… Эй, куда вы!
Корнелий побежал — сперва слабо, через силу, потом скорей, скорей. По-заячьи петляя, прорываясь сквозь кусты. Длинная трель словно вонзилась в затылок…
Он бежал, обмирая и ни о чем не думая. Думал словно кто-то другой. Короткими пунктирными мыслями:
«Успел ли взять индекс?»
«Если успел, сколько минут уйдет на проверку?»
«Индекс с общего контроля снят…»
«Скоро ли догадаются проверить электронный архив штрафных дел?»
«Если узнают — нить в тюрьму… Альбина — за шиворот…»
«Так и так меня поймают. И тогда — всё… Сразу!»
«Нет, индекс он взять не успел. Приемник берет с пяти шагов, я отскочил…»
«Куда я бегу? В тюрьму нельзя, да и путь отрезан…»
Ясно было, что через минуту постовой улан поднимет тревогу. Потому что нормальные граждане от улан не убегают, только преступники. А преступников следует изолировать немедленно… Если индекс взят, пойдет сигнал на все локаторы общей сети наблюдения. И возможно, на спутник…
Нет, не взят! Иначе не ломились бы следом, не свистели бы. Не орали бы «стой».
А куда он бежит? Сейчас оцепят район — мышь не проскочит…
Кусты какие-то, изгороди, улицы с изумленными прохожими, опять заросли. Крутой склон с дубняком. Гранитная лестница с проросшими в щелях одуванчиками… «Стебель сквозь стекло…» Откуда силы, чтобы столько времени бежать?.. Страх не спрашивает, страх кричит: «Беги!»
А свист и крики не прекращаются. Святые Хранители, да что же это?!
Хранители!
Над склоном, над холмом — круглый купол с темной ладонью на позолоченной маковке… Ладонь под облаками… Четыре пальца сжаты, большой чуть отведен. Ладонь сильно выгнута — словно подставлена ветру или лучам. Или заслоняет кого-то… .0
Серо-зеленые глаза мальчишки, голос: «В храм Девяти Щитов! Там не выдадут».
«Это чушь. Старая сказка…»
Гранитные ступени бьют сквозь подошвы. Скорее!.. Скорее — зачем? И нет уже дыханья, чтобы бежать вверх. И там, в храме, все равно ловушка, тупик.
А внизу — опять свист и топот.
Странно, он все еще бежит, не упал…
А старый храм опрокидывается сверху, как серый падающий айсберг… Нелепое сооружение, дикая смесь архитектур. Похожие на минареты угловые башни, готический портал с розеткой над входом, тяжелый романский купол. Чудовищная эклектика… Откуда силы думать об этом?.. Откуда вообще силы?
Опять свистят…
Стрельчатая арка входа надвинулась, сумрак и пустота храма обдали каменным холодом. Замерцали огоньки. Корнелий с ходу уперся руками в резной деревянный столб. Все… Теперь пусть берут… Он со всхлипом дышал.
Странный, посвистывающий звук послышался в полумраке. Кто-то невысокий, стройный, в длинной одежде шел из мерцающей мглы. Это его одежда шелковисто посвистывала при быстрых шагах. Негромким высоким голосом человек спросил:
— Вас преследуют?
— Да… — всхлипнул Корнелий. И хрипло выдохнул: — Да!
— Вам грозит гибель?
— Да!
Корнелий все еще держался за столб.
Человек подошел, коснулся на столбе выпуклого завитка. За спиной Корнелия возник нарастающий скрежет. Корнелий, приседая, оглянулся. В светлом проеме входа быстро опускалась решетка. Брусья были толщиной в руку. Они казались очень черными на фоне яркого дня.
Храм девяти щитов
Корнелий снова повернулся к обитателю храма. От черной решетки и солнца в глазах плыли зеленые квадраты. Он лишь смутно различал фигуру священника. Тот был в сутане с короткой крылаткой и этой одеждой напоминал кардинала Ришелье из многочисленных серий о мушкетерах. Только без бородки и шапочки.
Судя но голосу и движениям, священник был молод.
— Успокойтесь, — произнес он с той же чистой и спокойной интонацией. — Здесь вам ничто не грозит.
«Значит, это правда! Слава Хранителям!»
Но тут же, разбивая надежду, грянули у входа голоса:
— Эй вы! Святые отцы! Выпустите этого!.. Который к вам прибежал! Живо!
Корнелий сжался, как пацаненок, застигнутый в чужом саду. Черные фигуры мельтешили за решеткой.
Священник, не меняя тона, сказал:
— Люди! Храм Девяти Щитов не выдает тех, кто ищет спасения от гибели. Это древний и незыблемый обычай.
— Иди ты знаешь куда! Не в игрушки играем!..
— Вы правы. Человек не игрушка. Особенно на пределе жизни.
Другой голос резче, но вежливее остальных произнес:
— Откуда вы взяли, что ему грозит смерть, святой отец? Это просто нарушитель уличного режима. Мы должны выяснить, почему он бежал.
— Человек теперь в храме, — возразил священник, — и все, что с ним случилось, должен сначала выяснить я. Таковы законы нашего учения.
— Эй ты, архангел в юбке! — заорали опять наперебой черные. — У нас свои законы! Сломаем решетку!
— Не советую к ней прикасаться. Может автоматически включиться напряжение… Идите за мной, друг мой. — Священник шагнул в сторону, за каменный выступ. Корнелий — со скомканными мыслями и на слабых ногах — следом.
Солнечная арка с решеткой и уланами сразу исчезла, отдалилась, голоса затерялись позади. Высокое, похожее на громадный грот с размытыми в сумраке стенами помещение обступило Корнелия сухой прохладой и дрожанием крошечных огоньков, которые, кажется, слегка потрескивали. На подступающих временами арочных сводах и квадратных колоннах виднелись неразборчивые фрески. Сквозь тонкие подошвы давил на ступни выпуклый узор чугунных плит.
А священник шел впереди, словно не касаясь пола, — легкий, в шелестящем шелке.
«Прелат», — подумал Корнелий. Это слово было из старых книжек о рыцарях, монахах и трубадурах. И в то же в{)емя чудилось в нем что-то летящее. Как чудно: всякая случайная мелочь лезет в голову в такой момент. Насколько же многослойны человеческие мысли…
Сутана священника полыхнула у близкого светильника вишневым отливом.
— Входите… — Священник открыл маленькую полукруглую дверь, закрашенную неясной картиной.
Корнелий оказался в сводчатой келье без окон.
Это была самая настоящая келья — со стенами из тесаных камней, с витой решеткой в небольшой квадратной нише, в глубине которой горела ярко-белая лампа. С узкой черной постелью и дощатым столом. Предельно чужими казались тут большой стереоэкран ц пульт великолепного суперкомпьютера «Интер-генерал ". Откуда-то тянуло ветерком с полынным запахом.
Священник показал на постель:
— Сядьте или прилягте. Вам надо прийти в себя.
Корнелий сел. «А ведь я спокоен», — подумал он. То ли от этой прохлады и горьковатого запаха, то ли просто от резкого упадка сил он в самом деле чувствовал, что страх его растаял. Пришло усталое ощущение безопасности и покоя. Казалось, что по храму он шел долго-долго, словно это была целая страна гротов и пещер, выбитых в глубине исполинской горы. Зарешеченный вход и преследователи остались далеко-далеко.
Священник протянул тонкий стакан с мутноватой жидкостью. Питье было в меру холодным, кисловатым, со вкусом каких-то полузнакомых ягод. От него сделалось еще лучше, перестала кружиться голова.
— Благодарю вас, святой отец.
Священник улыбнулся:
— У нас не приняты такие обращения, мы не претендуем на святость. Меня зовут настоятель Петр… Вашего имени я не спрашиваю пока…
Сутана отбрасывала вишневые блики. Лицо настоятеля Петра было теперь хорошо различимо. Он оказался не таким уж молодым. Скорее всего, ровесник Корнелия. Но что-то мальчишечье проскальзывало в лице. Оно мало вязалось с одеждой и чином священнослужителя — вздернутый нос, редкие бледные веснушки, короткая светлая прическа, большие подвижные губы… Корнелий встретился с настоятелем глазами и поежился от неожиданного стыда.
— Я, наверно, похож на растрепанного петуха, который еле удрал от кухарки с ножом…
Настоятель Петр подвинул себе деревянный табурет, сел в трех шагах. Сказал мягко:
— Вы похожи на человека, спасшегося от гибели… Я не спрашиваю вашего имени, — повторил он. — Однако должен спросить: что же с вами произошло? Служители храма Девяти Щитов обязаны знать, кому помогают. Нет ли на человеке такого зла, когда он не заслуживает спасения… Должен сказать сразу, что в этом случае я тайно выведу вас в город и предоставлю собственной судьбе. Учение Хранителей зовет к добру и защите, но не признает всепрощения…
Корнелий сидел, упираясь ладонями в край постели. Смотрел то в лицо священника (приятное и словно бы слегка знакомое), то на свои колени — к немнущейся ткани брюк пристали частые колючки. Ему было хорошо и спокойно.
— Нет, настоятель Петр. Не думайте, что я злодей. И грешник я не больше других. По крайней мере, последний мой грех ничтожен — не там я перешел дорогу… Я расскажу…
Он рассказал все. Оставил только в стороне историю своей воспитательской должности. Не потому, что его что-то смущало, а для краткости. Сказал, что просто безнадежно томился в тюрьме после неудавшейся казни. По сути дела, это была правда…
— А как вы оказались на улице?
— Я… Да просто вышел. До ближней лавки. Уланы привыкли ко мне, видимо, считали за служащего… И тут опять этот свисток. Задумался, перешел не там… Что-то сорвалось во мне, я побежал…
Настоятель Петр встал, сжал в ладонях курносое лицо, помолчал. Сказал совершенно неподходящее для священника:
— Черт знает что! С этой машинной цивилизацией мы дошли до полного идиотизма. Но оказывается, сам этот идиотизм обретает свойства закономерности. Аномалия в главном русле развития. Словно в формуле, где поменялись числитель и знаменатель…
Корнелий, не понимая, молчал.
— Что же я могу для вас сделать?.. — Настоятель Петр задумчиво смотрел на Корнелия.
— Не знаю… — Страха у Корнелия все еще не было, но быстро возвращалось уныние. — Как ни смешно, а тюрьма была самым безопасным местом. Теперь деваться некуда. Не могу же я поселиться у вас навечно.
— Случалось и такое, — рассеянно отозвался настоятель Петр. — Правда, в старину… Однако это не выход. Сменить одну тюрьму на другую, только с более долгим сроком… К тому же нет уверенности, что нынешние власти долго и всерьез будут соблюдать закон об убежище…
— Вы сказали, что можно тайно вывести меня в город. Я вернулся бы… на старое место.
— Вам этого хочется?
— А что делать?
Настоятель Петр взглянул быстро .и пристально:
— Есть один способ. Мы пользуемся им редко, но он есть. Хотите уйти совсем?
— Я… не понимаю.
— К другим людям, в другую… страну. Там нет закона о выдаче. Это совершенно иной мир… Вижу, что не разумеете. Попытаюсь объяснить. Возможно, это прозвучит неправдоподобно, однако… Вы слышали о теории многомерности миров?
Корнелий понял и поверил сразу. То, что с ним случилось в последние дни, было само по себе нереально, лишено логики, так почему же не прийти наконец и фантастическому спасению?
— Вы говорите о Лугах? — тихо спросил Корнелий.
— О чем?
— Простите. Я вспомнил сказку. Слышал недавно от… знакомых детей. — Корнелий внезапно ощутил тяжкое смущение.
Настоятель вроде бы не заметил этого.
— Любопытно. О чем же сказка?
Мрачнея и сбиваясь, Корнелий в двух словах изложил сказочный сюжет. Несмотря на мягкость священника, он вдруг почувствовал себя мальчишкой на экзамене. Не говорить или ответить резкостью он не мог, от настоятеля зависело его спасение. Чтобы подавить в себе эту смесь раздражения и стыда, Корнелий добавил с фальшивой небрежностью:
— Видимо, это не только сказка, а… что-то вроде ребячьего поверья. Дети убеждены, что на Луга в самом деле можно уйти, если знаешь способ…
Тьфу ты, как все это глупо, не к месту…
Настоятель Петр наконец опустил свои пристальные серые глаза. Побарабанил очень тонкими пальцами по обтянутому вишневым шелком колену.
— Да… Луга… Что ж, название не хуже других. И луга там, видимо, действительно есть. Но есть, конечно, и города, и деревни, и сложность жизни человеческой… Нет лишь, к счастью, одного…
— Чего же? — спросил Корнелий, с облегчением уходя от мальчишечьей темы.
— Индексов. Этой гнусной системы, которая обесценивает смысл человеческого бытия… И там никто никогда не посягает на жизнь другого человека. Ни при каких обстоятельствах.
— Трудно представить… все это.
— Почему же! Когда-нибудь и мы, слава Хранителям, добьемся того же. В конце концов сгинет система индексов и тотальной слежки. Зачем жить, если не верить в это?
«Фанатик? — мелькнуло у Корнелия. — Или знает то, чего не знаю я, не знает большинство?» На фанатика настоятель не был похож. Даже последнюю фразу он произнес без гнева, в привычной мягкой манере. Только пальцы на колене закаменели.
— Возможно, вы правы, — осторожно заметил Корнелий. — Но я сказал «трудно представить» о другом. О том, что есть какой-то другой мир. Я верю вам, но…
— Это как раз не трудно. — В голосе настоятеля появились профессионально-менторские нотки. — Если взять в рассуждение гипотезу о кристаллическом строении Вселенной и том, что каждая из граней бесконечного кристалла есть отдельное многомерное пространство… Кстати, модель выстроена, вычислена и никак не противоречит общим законам всемирной реальности. А то, что гипотеза эта мало известна…
— Я где-то слышал о ней, — быстро сказал Корнелий. И вгляделся в лицо Петра.
Тот быстро встал и, невысокий, гибкий, отошел к стене. Шаровая лампа из ниши бросала на него резкий свет. Лицо изменилось от контрастных теневых пятен. Но голос остался прежний: чистый и спокойный.
— Немудрено, что слышали… Гипотеза давняя. В свое время, лет двести назад, ее усиленно проповедовала наша знаменитая землячка Валентина фан Зеехафен. Кстати, именно за это она причислена к когорте Святых Хранителей…
— За гипотезу? — вежливо поддержал беседу Корнелий. («Господи, о чем мы говорим! В такое время! Он меня будет спасать или нет?.. Кто он?.. Чушь какая! Показалось…»)
— Не просто за гипотезу, — слегка улыбнулся настоятель Петр. — За практическое применение ее законов. Легенда говорит, что нашему городу грозило запустение. Судьба разгневалась на жителей Реттерхальма (такое тогда было название) за то, что они прогнали ребенка, мальчика… Город стал гибнуть, и, чтобы спасти его, эта ученая женщина каким-то небывалым усилием перенесла его… в Зазеркалье, как тогда говорили. Сомкнула на миг два пространства, и вот… А на старом месте осталась лишь пустошь… Естественно, сказка, но есть в ней намек на истину… Простите, я заговорил вас. Вы, наверно, голодны, а я…
— Я не голоден. Но…
— Понимаю. Вы не должны тревожиться. Вам ничего не грозит. Скоро вы уйдете туда. Это произойдет быстро и легко… Будем надеяться, что вы найдете там новую судьбу и сделаетесь счастливым, если…
— Что?
— Если нет ничего, — что вас держит здесь.
— Ничего! — почти крикнул Корнелий.
— Слава Хранителям…
«А что меня может держать? Алка? Но нет прежней Алки, она выросла и давно стала чужой. Да и свою любовь к той маленькой Алке я, кажется, придумал в последние дни, в тюрьме…»
Нет, ничто не держало его здесь. Машина вычеркнула Корнелия Гласа из списка живых. Люди стремятся довести это дело до конца. Ему нечего делать на этой земле. Он уйдет за черту… Скоро! Будет спасен!
Судорожная радость, перемешанная с тревогой, тряхнула Корнелия крупной дрожью.
— А… как все это… случится?
— Вам повезло. И в этом я вижу добрый знак для вас и для нас. Благосклонность Хранителей… Сегодня через два часа произойдет то, что мы называем «отпирание врат». Такое случается примерно раз в полгода (это зависит от Луны и положения некоторых планет). В одном из притворов храма в стене появляется щель… Светлый проход. Можно видеть небо, облака, густую траву… Вы, пожалуй, верно сказали: луга… Надо шагнуть туда… И то, что связывало вас с прежней жизнью, все опасности и угрозы — всё обрывается… Загадка перехода наукой не решена, конечно. Вообще это самая слабая часть гипотезы о Кристалле — способ перехода с грани на грань. Но тем не менее он существует. Судя по всему, храм наш выстроен на каком-то особом меридиане Вселенной, на стыке двух граней этого Кристалла. И временами по неизвестной причине пространства сливаются… Это как если бы в настоящем кристалле вдруг сгладилось острое ребро и две плоскости плавно соединились бы в одну. Только здесь — пространства…
— Черные зеркала пространств… — глядя в каменный пол, тихо сказал Корнелий. Не священнику, а скорее себе. Потом быстро вскинул и опустил глаза.
Резкие тени по-прежнему заштриховывали у настоятеля Петра лицо. Он ответил спокойно, почти небрежно:
— Можно сказать и так… Учение о Кристалле вообще богатая почва для поэтических образов… Там, куда вы уйдете, люди тоже заняты этой гипотезой. Вы при желании сможете изучить ее.
— А вы… не смогли бы хоть немного рассказать о том мире? Вы там бывали?
Настоятель Петр покачал головой:
— Не бывал. Устав не позволяет нам уходить на ту сторону. Мы лишь открываем дверь для тех, кого надо спасти… Но я встречался с людьми оттуда.
— Значит, оттуда можно вернуться?!
— Разумеется. Это же не загробное царство… Но есть ли смысл?
— А у вас… даже не было желания побывать там?
— У меня не было возможности. Мое место здесь… — Еле заметная нотка снисходительности прозвучала в мягком голосе настоятеля. — И так уж получилось: это место я не хотел бы поменять ни на какое другое. Я сам его выбрал…
— Значит… вы счастливы? — не удержался Корнелий («Ну кто меня за язык дергает? Какое мне дело?»).
— Ну, понятие счастья — вопрос трудный… Если счастливый человек — тот, кто живет в согласии с требованиями души, то, пожалуй, да. Я живу, как хотел… — просто сказал настоятель. — Слуги Хранителей сделали смыслом своей жизни помощь гонимым, защиту добра от зла. Я один из таких слуг…
— Посильная ли это задача для людей? — невольно попадая в тон священнику, спросил Корнелий. — Разве всегда человеку дано отличить добро от зла?
— Задача тяжела, но посильна… Добро в мире — изначально. Оно родилось вместе со Вселенной. Зло возникло просто как отрицание добра и всего мира. Беда в том, что злу живется гораздо легче. У него ведь одна цель: уничтожить добро. А у добра целей две: во-первых, творить, строить, созидать мир, а во-вторых, защищать то, что уже сделано, от зла. Значит, и энергии нужно вдвое. А ее у добра и зла, увы, поровну… Если же добро забудет о творчестве и направит усилия только на войну со злом, то погубит себя. Станет двойником зла…
— Где же выход… настоятель Петр? — Корнелий спросил это уже с искренним интересом.
— В силе духа, друг мой. Боюсь показаться банальным, но именно в ней. Сила эта неизмерима. Просто она еще дремлет, почти не разбужена в людях. А зло бездуховно по сути своей. И потому, верим мы, в итоге обречено…
— Жаль, что я не был знаком с вашей религией раньше, — сумрачно, с нарастающим беспокойством произнес Корнелий. И отчетливо вспомнил взгляд Цезаря. — Я считал, что все религии — это нечто устаревшее…
— Вы разделяете заблуждения многих, — вздохнул настоятель Петр. — Дело в том, что учение о Хранителях (по крайней мере, в его чистом виде) вовсе не религия. В корнях учения нет ни капли мистицизма. И мы не обещаем прихожанам царствия небесного. Хотя, конечно, не препятствуем и помыслам о нем, если есть на то у человека воля и надежда… Наши храмы, друг мой, вне религий. Об этом говорит хотя бы то, что к Хранителям приходят с молитвами люди разных верований, а порой и совсем не верующие во Вседержителя…
— Однако же приходят с молитвами, — слабо усмехнулся Корнелий.
Вовсе не хотелось ему спорить, особенно по столь отвлеченному вопросу. При чем тут богословская тема, когда решается его, Корнелия, судьба? Но капля интереса все же была. Кроме того, интуиция подсказывала, что надо поддержать разговор, чтобы зажать в себе растущее тоскливое беспокойство, страх, что кто-то может помешать уходу. Нет, не уланы… А еще хотелось не показать этот страх Петру, вызвать хоть искорку уважения — и у священника и у себя самого. Без этого он просто не достоин надежды…
Петр чуть нагнулся, быстро и с любопытством глянул на Корнелия.
— Молитва — тоже еще не признак религии. Кто из людей не молился хотя бы раз в жизни? В детстве — придуманным героям, любимой игрушке. Матери… А потом — судьбе, случаю. И тому еще, кого любишь… И когда молятся Хранителям, это не столько вера в высшие силы, сколько просто ритуал, при котором дух наш становится тверже, ибо обретает надежду… А дает надежду как раз пример Хранителей — пример их жизни, а порой и смерти.
— Разве смерть может дать надежду? — боязливо вскинулся Корнелий. И с болью ощутил опять, как жалобно, по-ребячьи, хочется ему жить. Просто жить: смотреть на небо и деревья, есть хлеб и пить воду, щуриться от солнца и мокнуть под дождем. И ощущать великое счастье оттого, что за плечами не стоит близкая, неумолимая, как чиновник, гибель.
— Я понимаю вас, — без улыбки сказал настоятель Петр. — Однако поступками своими Хранители не раз доказали, что зачастую смерть — продолжение жизни. Прежде всего это Девять Хранителей Главного Круга, во имя которых отчеканены священные щиты, сохраняемые в нашем храме. А также и множество других людей, кто причислен к Хранителям за подвиги во имя защиты своих ближних от всякого зла… Это не красивые слова, а логика их бытия.
— Их бытия, — вздохнул Корнелий. — В их время… А где уж нам, грешным обывателям…
— Но ведь и Хранители были в свое время простыми смертными. Со всеми слабостями и сомнениями. Они реальные люди своих веков, это нам известно еще из школьных уроков…
При словах о школьных уроках беспокойство снова тяжело колыхнулось в Корнелии. Но все это было неважно («Да, неважно!»). Главное — удастся ли спастись. Главное — надежда.
Настоятель Петр, однако, продолжал ровным своим тоном:
— Жития Хранителей, кстати, еще неисследованная тема. Целый пласт нашей цивилизации. Масса бродячих, меняющихся сюжетов, сказок, легенд. Не переходят ли они из пространства в пространство?.. Взять хотя бы легенды о трубачах. Может быть, это кочующий сюжет об одном герое? Смотрите, как можно проследить трансформацию имени: Иту Дэн, Итудан, Итан, Ютан, Юханл. Впрочем, извините. Я начал развлекать вас темою, которая интересна лишь мне…
Корнелий сидел все так же, упираясь ладонями в край топчана. От напряжения болели мышцы предплечий. Особенная, горячая боль ощущалась в точке локтевого сгиба. Корнелий вдруг понял, что разболелся под пиджачным рукавом след от шприца. И сразу вспомнился такой же бурый бугорок на ноге у малыша Чижика… «Сволочи…»
— Я слышал о трубаче Юхане, — медленно, через силу сказал Корнелий. И с натугой поднялся. В брючном кармане нащупал среди легких, как лепестки, алюминиевых монеток одну — тяжелую. Взял на ладонь. Монетка показалась очень теплой, почти горячей. — Настоятель Петр, я должен сказать… я солгал вам…
Тот сделал от стены два легких шага. Наклонил набок голову:
— В чем же?
— Когда сказал, что ничто не держит меня здесь… Помните, я говорил о ребячьей сказке? Вот эти дети…
Подземный ход был как в кино из рыцарских времен: каменный, извилистый. Лишь вместо факелов — редкие электрические огоньки в желтых плафонах.
Настоятель Петр легко и с шелестом шагал впереди. «Прелат…» Шли молча, и в такт шагам вспоминался Корнелию недавний разговор…
— А чем вы поможете им, если останетесь? Скрасите им несколько дней или недель? Соразмерна ли цена — собственная жизнь?
— Я не говорил — остаться. Я подумал: а если взять их с собой? На Луга… Это можно?
— Это… наверно, можно… Больше дюжины, крупный переход, решать должен Круг Настоятелей, но нет времени… Я обязан рискнуть. В конце концов, наша общая вина, что безындексные дети до сих пор были почти вне нашего внимания… Эта проклятая беспомощность, мы можем так мало…
— У вас будут неприятности?..
Петр коротко засмеялся:
— Не в этом дело… Нарушение Устава всегда несет опасность непредсказуемых последствий. Но это я возьму на себя… В конце концов, мы все в служении своему делу достаточно эгоистичны. Знать, что сделал больше, чем был обязан, и лишний раз прославил Хранителей, — это ли не награда? — Петр опять усмехнулся.
«А ведь я тоже эгоистичен в том, что делаю, — подумал Корнелий. — Так ли уж близки и важны для меня эти ребята? Я боюсь за себя — что не смогу потом жить спокойно, если предам их…»
— Я знаю, о чем вы думаете, — осторожно проговорил Петр.
— Не трудно догадаться, — буркнул Корнелий. И не почувствовал смущения.
— Детям не так уж важны ваши побуждения. Главное, что они увидят Луга…
— Вы уверены, что им там будет хорошо?
— Я знаю… Я несколько раз встречал мальчика, он приходит оттуда. Он обычный ребенок того мира. Удивительная отвага и ясность души. Если все они такие, можно верить, что дети там не знают обид…
— Да помогут нам Хранители… — шепотом сказал Корнелий и сжал в кулаке монетку.
— Да будет так.
…Теперь они шли и шли к тайному выходу, о котором, по уверению Петра, не ведали уланы. Петр оглянулся.
— Это маленькая дверца под аркой каменного моста через овраг, сверху идет монорельс. Дверцу все принимают за вход в каналы коммуникаций, она заперта. Я дам вам ключ… Детей старайтесь подвести незаметно. Для меня это, кстати, главная тревога. Если власти узнают про тайный ход, нашему делу будет нанесен большой урон…
— Я понял. Нельзя ли будет дождаться темноты?
— Нет. «Открытие врат» происходит лишь в течение нескольких минут. До этого момента осталось не более двух часов.
— Я успею.
Он успеет. Он все сделает как надо. Корнелий ощущал нервную решимость, и не было ни капли страха. Была цель. Вот, оказывается, что нужно для жизни, черт возьми! Знать, чего ты хочешь! Тогда возможен любой риск. Тогда удача — твой сторонник.
«Это не твоя мысль. Это говорил бородатый шкипер Галс из фильма «Красный огонь маяка Санта-Клара».
«Не все ли равно! Значит, не зря я смотрел эту ленту. Значит, хоть что-то в моей жизни было не зря…»
Он пробьется! У него талисман — монетка Цезаря… Уланы не успели тогда, на улице, уловить его индекс, а храм крепко экранирован, Петр сказал… Главное, переулками и садами проскользнуть к тюрьме. А на обратном пути вряд ли кто заподозрит воспитателя с ребятишками в школьных костюмах…
Коридор уперся в каменную кладку с железной дверью. Настоятель Петр из складок сутаны вынул тяжелый ключ, вставил в скважину. Замок сработал неожиданно мягко.
— Возьмите…
Ключ оттянул брючный карман. Звякнул о монетки.
— Можно идти?
— Постойте… — Петр прислушался, еле заметно отвел дверь. В сумрак вошел зеленый травянистый свет. — Сейчас пойдет поезд. Как зашумит — шагайте.
Послышался нарастающий свист и гул монорельсовые вагонов. Дверь приоткрылась пошире.
— Ну… давай. Будь осторожен… — Петр неожиданно обратился к нему на «ты».
Корнелий коротко вздохнул, кивнул. И когда поезд был уже над головой, шагнул в лопухи.
Сначала тропинкой по дну оврага, затем через большой заросший парк, а дальше глухими переулками — такой был путь Корнелия до тюрьмы. Хвала городу, где высотные районы со стеклянными офисами то и дело перемежаются путаницей старых кварталов с домами, церквями и бастионами прошлых веков.
Корнелий шел быстро, но с большой оглядкой. Конечно, он понимал, что уланы если и не махнули рукой на беглеца, то караулят его у храма. Но во-первых, можно было опять напороться на какую-то случайность. А во-вторых, трезвые мысли — одно, а нервы — другое. Они натянуты были так, что порою в ушах начинался обморочный звон.
«А ведь это мой первый в жизни настоящий риск, — скользнула позади лихорадочной тревоги самодовольная мысль. — Мое первое приключение».
«Дурак! — тут же оборвал он себя. — Это тебе не кино».
«А что делать, если кино въелось в мозг и печенку? — с трезвой насмешкой рассудил он о себе. — Поневоле примеряешь штаны и шпоры киногероя…»
В какое-то мгновение и вправду показалось, что перенесся в глубь стереоэкрана, в середину фильма, где режиссер умело перемешал фантастику, смертельные опасности и надежду на счастливый исход.
«Зато я живу! Черт побери, не гнию, как в последние дни, а живу!»
Возможно, это мысленное соединение с хладнокровным, решительным героем кино и помогло Корнелию Гласу в следующие полчаса.
В квартале от школьной проходной Корнелий увидел, что навстречу ему бежит старший инспектор Альбин Мук.
— Ты где?.. Ты… куда… — Альбин задыхался. Капли усеивали лоб и скулы. И паника металась в глазах. — Господи, куда ты девался?
Четко понимая, что произошло страшное, Корнелий упруго зажал в себе отчаяние. Не дал растечься по мускулам тошнотворной слабости. Сказал с изумительным хладнокровием:
— Чего ты бесишься? В соседнюю лавку ходил, ребятишки попросили.
— Пойдем… Ну пойдем же! — Альбин ухватился за рукав. — Скорее…
— Да что случилось?
— Комиссия… Будет через сорок минут! Кто-то им капнул. Или про тебя, или что-то другое… не знаю. Но надо это… Ты извини… Все равно когда-то надо. Если тебя обнаружат, мне хана…
Он трясся. Была в нем смесь жалкой виноватости, отчаянного страха и какой-то хорьковой агрессивности. В рукав он вцепился намертво.
«А ведь что-то такое должно было случиться, — сказал себе Корнелий. — Ты это знал. Ты этого ждал. Ну-ка, не теряй головы, мальчик…»
— Нашел, что ли, исполнителя? — спокойно, даже с каплей насмешки спросил он.
— Нет… Я сам. Ампулу раздобыл… Или ты сам? А… Ты извини…
— Ну, пойдем, пойдем… Да не цепляйся так, никуда я не денусь. Мужик ты или истеричная девица?
— Да? Вот хорошо… Ты извини. Ты же знаешь, я к тебе всей душой. Все, что мог. А теперь — никак…
— Ладно… — Корнелий изобразил зевок. И в эти секунды сотни (нет, тысячи!) планов рождались и рушились в нем. — Мне самому осточертела эта волынка. Мышиная жизнь. Пошли…
— Ты только не обижайся…
Корнелий освободил рукав. Спросил небрежно:
— Бутылка-то есть? Дашь хлебнуть на дорожку?
— Ага… Это мы с милой душой. Ты только… В общем, ты понимаешь…
Мимо сонного улана они прошли в тюремный двор. Корнелий шагал теперь чуть впереди. Руки держал в брючных карманах. В правом кармане — массивный ключ от двери под мостом. Все заледенело в Корнелии.
Дорожка вела мимо одноэтажного дома с камерами.
— Вот что, старший инспектор, — снисходительно и даже ласково произнес Корнелий. — Ты только не трепыхайся так. Сорок минут — это масса времени. Сорок человек, а не одного можно отправить в мир иной. Давай все делать благопристойно и по порядку…
Альбин улыбнулся искательно и недоверчиво.
— Я хочу отдать тебе одну вещь… — раздумчиво объяснил Корнелий. — Берег ее до конца, она вроде талисмана. А теперь уж зачем она мне. Возьмешь на память… Давай зайдем, я спрятал ее в камере. Хорошая штука, будешь доволен…
Он опередил Альбина, вошел в коридор, затем в камеру, где жил первые тюремные дни. Не оглядываясь, лег животом поперек постели, зашарил в промежутке между койкой и стеной.
— Ч-черт, не найду… Помоги-ка, отодвинуть эту бандуру. — Он взялся за край тяжелой казенной кровати.
Инспектор Мук, нерешительно дыша, нагнулся и ухватился рядом, справа.
— Раз-два… — сказал Корнелий.
Альбин послушно потянул. Корнелий выпрямился и кулаком с зажатым ключом ударил его по затылку. Со всей силой своего скрученного отчаяния.
Инспектор Мук молча упал лицом на одеяло.
Корнелий вышел в коридор, старательно задвинул на кованой двери старинный засов. Ровным шагом прошел через двор. Сердце не Колотилось, а как-то всхлипывало. Но он неторопливо шагнул в проходную. Сказал молодому, с круглыми щеками улану:
— Ну как служба?
Тот криво зевнул: скучища, мол.
— Альбин, то есть инспектор Мук, велел пока не тревожить его никакими звонками. А как приедет комиссия, позволите.
— Понял, — опять зевнул улан.
Корнелий взял со стола стакан, отколупнул крошку. Из обшарпанного сифона плеснул на дно шипучей струйкой, пополоскал, вытряхнул брызги в открытую дверь. Налил полстакана, выпил.
— Да, кстати. Там привезли заключенного, сидит в третьей камере. Он буйный. Если услышите, что орет и барабанит, не обращайте внимания.
Улан проявил некоторый интерес:
— А откуда он взялся? Вроде никого не проводили тут…
— Через школу провели, по внутреннему… Случай особый, он симулирует шизика. Запомни…
— Лады…
— Да не «лады», а «слушаюсь», — лениво сказал Корнелий. — Все-таки с муниципальным советником говоришь, а не с тещей… Ну, черт с тобой, сиди…
Он вышел на улицу, неспешно дошагал до угла, а там, огибая территорию тюрьмы, почти бегом — к школьной проходной. Улан здесь был пожилой, усатый. Снисходительно-почтительный.
— Инспектор Мук не появлялся? — бросил Корнелий.
— Появлялись. Вас искали. Очень они взъерошенные какие-то…
— Будешь взъерошенным! Всех детей зачем-то срочно вызывают в школьный сектор муниципалитета. Сейчас поведу… Только в отпуск собрался, а тут… Чиновники чертовы…
Улан сочувственно покивал.
Ребята во дворе стояли у достроенного «балагана» Видимо, они давно и с тревогой ждали Корнелия.
— Антон! Бегом ко мне!
И откуда только такое командирство в тоне? Прямо штатт-капрал Дуго Лобман.
Антон подлетел, встал прямо. В глазах: «Что случи лось?»
— Всем ребятам переодеться в школьное. Сейчас идем на прогулку. Без вопросов. Это важно и срочно. По дороге объясню.
— Хорошо, господин Корнелий… Только Цезарь наверно, не захочет переодеваться.
— Пусть. Лишь бы все выглядели прилично…
Ребята убежали в дом. Кроме Цезаря. Цезарь подошел и сказал тихо, но со скрытым вызовом:
— Вы, конечно, не позвонили.
— Не было возможности. И не было смысла. Я объясню… Возьми с собой курточку, мы уходим надолго.
Цезарь молча ушел к «балагану», поднял с земли гусарку. Издалека бросал взгляды на Корнелия. Маленький, обиженный. Упрямый…
А время шло. Корнелий смотрел на часы, плотно сидя щие на запястье пониже белых точек следов индексной прививки. Крупные зеленые цифры менялись, отмеряя секунды и минуты. А ребят все не было…
«Что они возятся, как старые паралитики!..»
«Не трепыхайся, всего три минуты прошло…»
«Интересно, когда очнется и примется орать и колотить в железо Альбин?.. Надеюсь, я не угробил его…»
«Боже ж ты мой, а до появления той самой щели в храме уже меньше часа…»
— Цезарь, будь добр, сбегай, поторопи ребят… А, вот они!
Мальчики и девочки стали шеренгой — аккуратные, молчаливые. Корнелий вереницей вывел их через проходную (Цезарь — позади всех). Небрежно сказал улану:
— Вернемся, вероятно, к ужину…
Пока видна была проходная, шли неторопливо, парами. Когда свернули в переулок у запертой лавки, Корнелий не выдержал:
— Живей, ребята, живей! Нас могут догнать!
— Быстро… — вполголоса скомандовал Антон, и все ускорили шаг. Почти побежали.
Никто ничего не спросил, только Цезарь глянул сердито и недоуменно.
Тата с забинтованной ногой захромала, Корнелий подхватил ее на руки.
Справа потянулась решетка глухого парка. В одном месте кованые узоры были выломаны. Корнелий сообразил, что, если не огибать парк, а пересечь его, можно сэкономить минут пять и выйти прямо на улицу, что ведет к оврагу.
— Антон, давай туда, в сад!..
В тени векового ясеня они остановились, чтобы передохнуть. И тогда звонко и враждебно Цезарь спросил:
— Куда мы идем?! Почему вы не говорите?!
— На Луга… — выдохнул Корнелий.
Они сбились кучкой. Приоткрытые рты, распахнутые глаза. Тата замерла у него на руках.
— На Луга… Есть способ. Есть дорога. Это будет скоро. Надо спешить… Это не сказка, ребята…
Видимо, они поверили. Сразу. А если кто-то и не поверил, привычка к послушанию сделала свое. Молчали, ждали. И вдруг Тышка сказала протяжно и тонко:
— Ой, а я синее платье не взяла. И куклу Анну…
«Они ничего не взяли в дорогу! Я дурак… А что надо было взять? Как их там встретят, кто нас примет? Ничего не знаю… Теперь не до того…»
— Там все есть, ребята! Там же — Луга. Там все люди живут без индексов и никто никого не обижает!
«Ты уверен?.. Ладно, хуже не будет…»
Цезарь мягко отступил на несколько шагов, к зарослям бузины. И сказал оттуда:
— Тогда прощайте. Я пошел…
— Куда? — метнулся Корнелий. Хотел опустить Тату, но замер. Понял: при лишнем его движении Цезарь рванется прочь без слов.
— Как это куда? Искать маму и папу, — ответил Цезарь. Чуть удивленно и без враждебности. — Не могу же я их оставить.
«Я действительно идиот! Даже не подумал об этом…»
— Но где ты их найдешь? Тебя схватят, вот и все!
— Не такой уж я глупый!
— Куда ты пойдешь?
— Сначала домой. А если там никого нет к папиным друзьям…
— Ты пойми, что с минуты на минуту в тюрьме подымут тревогу! Тебя, как зайчонка…
— Без индекса-то? Фиг им! — У Цезаря прозвучала сердито-озорная, истинно мальчишечья интонация.
— Ты мог бы уйти с нами, а потом вернуться… — неуверенно сказал Корнелий.
Цезарь глянул печально и снисходительно:
— Зачем? Вы спасаете себя, у вас здесь никого нет. А у меня мама и папа. Вы идите…
Корнелий поймал на себе пристальный взгляд Антона: «А ведь Цезарь прав…»
«Да, но как я могу оставить мальчишку?»
— Чезаре… — осторожно проговорил Корнелий.
Цезарь ответил почти ласково, по-взрослому:
— Если меня поймают, хуже не будет. Посадят опять. А я опять убегу. А если вас поймают — убьют.
— Чек…
Он спиной вдавился в заросли, ветки закачались и сом кнулись. Прошелестел и замер звук стремительного бега. Ребята подавленно"молчали. Потом Антон глуховато сказал:
— Не надо его ловить.
«И бесполезно. И нет лишней минуты. Он один, а этих — тринадцать. И я отвечаю за каждого…»
«И боишься за себя…»
«Да! Да! Но прежде всего я боюсь за них! Это правда…»
— Вперед…
С девочкой на руках, прикрывая ее пиджаком, он ломился через кусты. За ним остальные. Антон замыкал…
Потом — улица с тесно стоящими кирпичными домами. Кажется, не та, что в прошлый раз. Но все равно к оврагу. Крутая тропинка вниз. Кто-то из малышей пискнул, ободравшись в чаще стрелолиста. Кот и Чижик — кубарем. Лючка разорвала подол… Ничего…
Теперь глухая дорожка на дне оврага, среди сырых, пахнущих болотом ольховых зарослей. Под ногами чавкает…
— Ой, я сандаль потерял…
— Неважно. Быстрее, ребята… Давайте друг за дружкой гуськом.
«Гуськом… Гуси-гуси, га-га-га…»
«Неужели это правда? Неужели скоро свобода?»
«А Цезарь?»
«А что я мог сделать?»
Стоп… Присели! Головы в кусты!
Черт, откуда взялся этот мост? Не с монорельсом, а другой, небольшой. В тот раз не было! Значит, сошли в овраге не там, где следовало… А по мосту — ж-жик, ж-жик, ж-жик — один за другим пролетают на дисках уланы… Издалека уланы похожи на черные перевернутые запятые с большими круглыми точками и короткими хвостиками. Кто-то выпустил бесконечную строчку этих запятых, они мчатся, мчатся…
Кого-то ищут? Его, Корнелия? Ребят? Или у них совсем другие дела?.. Все равно, пока они катятся через овраг, путь к храму закрыт!.. Да когда же это кончится? До того моста, с дверью, еще идти да идти. А время летит…
Ну наконец-то! Мост опустел!
— Ребята, бежим…
…Вот он, каменный свод моста, вот она, неприметная железная дверь! Ключ — теплый и очень тяжелый. «Бедняга Альбин… Сам виноват…»
— Антон, возьми Тату, я отопру дверь…
Полумрак, желтые плафоны. Железная плита двери как бы отрезала за спиной весь враждебный мир. Сразу ощущение покоя и безопасности. Почти финиш… Тихо шелестят шаги, настоятель Петр идет навстречу. «Прелат…»
Вот, мы здесь… Мы не опоздали, мы точно…
К сожалению, опоздали… Вы не виноваты, «врата» закрылись раньше. Компьютер ошибся в расчетах, точные сроки трудно предсказать… Пойдемте в келью.
Младшие, видимо, ничего не поняли. Скорее всего, и не расслышали слова. Но Антон, Илья, Дина, Лючка уставились на Петра, потом на Корнелия так, будто вот-вот заплачут. «Все пропало?»
— Пойдемте в келью, — повторил настоятель Петр. И зашагал впереди молчаливой вереницы — легкий, шелестящий.
В келье малыши тесно уселись на топчане, старшие — на табуретах и скамье под фонарной нишей.
— Что же теперь? — тихо спросил Корнелий.
— Думаю…
— Обратно нельзя, — глухо и с нарастающим тоскливым раздражением сказал Корнелий. Нервно хмыкнул: — По крайней мере, мне… При уходе я уложил инспектора. Возможно, насовсем. Не было выхода…
— Расскажите, — сухо велел Петр.
Морщась от непонятного стыда, Корнелий рассказал.
Настоятель Петр по-мальчишечьи присвистнул. И это вдруг сняло с Корнелия и досаду, и тяжелую неловкость.
— Да не во мне дело! — отчаянно выдохнул он. — Ты же понимаешь: дело в них… Вместо сказки — опять тюрьма…
— Но им только тюрьма, а тебе крышка. Если попадешься… Это большой риск.
— Риск — в чем? Значит, все же есть выход?!
— Подожди… — Петр шагнул к стене, распахнул створки висячего резного шкафчика, достал узкий кувшин и стакан. Безошибочно угадав старшего в Антоне, велел ему: — Напои детей, это их немного поддержит… Даже накормить некогда, нет лишней минуты… — Повернулся к Корнелию: — Иди сюда…
Они оказались у экрана «Интер-генерала».
— Смотри… — На экране возник рельефный план Реттерберга. В храм уперлась плоская красная стрелка. Вокруг храма затанцевали черные звездочки-кляксы. — Они обложили нас. Почему ты так обеспокоил улан, не знаю. А может, просто сводят счеты с нами. Так или иначе, оставаться вам здесь нельзя. Если даже уланы не посмеют нарушить закон и не ворвутся, они перекроют линию доставки, отключат энергию и уморят нас. До следующего «открытия врат» — полгода. Тайный ход — это не спасение, при блокаде его обнаружат быстро… Теперь слушай… — Петр говорил мягко, но в четкости и быстроте фраз были нотки приказа. — Теперь слушай, запоминай. Уходить надо быстро… Даже некогда смазать ребятам царапины. Ладно, потом… Сейчас войдете в том же месте, подниметесь из оврага. В ста метрах к югу от моста — станция монорельса…
План в экране стремительно придвинулся, Корнелий увидел знакомый мост, стрелка от него метнулась к открытой платформе окраинной станции.
— Здесь сядете в вагон. Через двадцать минут приедете на станцию Старая Башня. Там за развалинами башни есть небольшой, но густой и запущенный сад. Укроетесь в кустах до темноты. В темноте выведешь детей к рельсовой насыпи. Вот… — Стрелка уперлась в серебристую двойную нитку железнодорожного пути. — Это Окружная Пищевая. Бывал?
Корнелий покачал головой. Кварталы вдоль Пищевой считались прибежищем всякого сброда. Что там делать приличному человеку? Попадать в историю?
— Ничего, разберешься. Смотри. Вдоль насыпи шагов триста, сюда. Здесь под путями бетонный тоннель, раньше ручей протекал. Детей оставишь в тоннеле. Сам выйдешь на другую сторону, окажешься на улице. Правее, через дорогу, увидишь дощатый дом со старинным фонарем над крыльцом. Это таверна. Понял?
— Да. Но почему такая спешка? И зачем ждать темноты в сквере?
— Святые Хранители! Посчитай! Комиссия наверняка уже в тюрьме. Хватились инспектора. Скорее всего, уже нашли, привели в себя. Сколько он будет молчать и отпираться? Максимум минут пятнадцать. Потом кинутся в школу: там — ни тебя, ни ребят. По всей связи — розыск воспитателя с группой школьников. Приметы, твой изъятый из архива индекс… Группы перехвата на всех линиях, сигнал на спутник спецнаблюдения… Пока не заварилась каша, у вас полчаса. До Старой Башни доехать успеете, а дальше рисковать нельзя, у насыпи место открытое, ждите в саду до темноты.
— Но по индексу нас накроют там очень скоро. Сад — не спасение…
— Там над деревьями старая воздушная линия электропередачи, а по насыпи — двойная рельсовая нить. Они создают помехи для локаторов. В этом единственный шанс, будем надеяться… Итак, зайдешь в таверну…
— А не накроют в таверне?
— Не накроют, это уже не твоя забота. — В голосе Петра скользнуло раздражение. — Спросишь хозяина, скажешь ему… А, черт, он не поверит… И сквозь блокировку теперь ни сообщить, ни вызвать проводника. И сам я не могу оставить храм, я здесь один и должен дежурить еще трое суток… Ладно. Отдашь хозяину вот это… — Настоятель Петр сунул руку под крылатку, затем вложил в ладонь Корнелия что-то похожее на пуговицу.
Кожу кольнуло булавкой. Корнелий глянул, перестал дышать.
«Значит, правда?»
На ладони блестел выпуклый синий значок с золотой буквой «С» и звездочкой…
— Настоятель Петр! Вы… Скажите, вы не…
— Да, Корнелий, да, — ответил он с ласковым нетерпением. — Я тоже узнал тебя, сразу. Принимая обет, мы меняем имя, и наш устав не разрешает говорить о прошлом, поэтому я молчал. Но раз ты сам понял… Я рад. Я всегда тебя помнил, потому что помнил детство. Нам с тобой было хорошо…
— Но я же…
— Я очень рад, — перебил Петр. — Но я буду рад в сто раз больше, когда узнаю, что ты с ребятишками ушел благополучно. Хозяин таверны сделает все, завтра окажетесь там… Дети, вставайте, вам с Корнелием надо спешить. Зато потом… Потом будут Луга.
В подземном коридоре Корнелий и Петр шли рядом, впереди ребят Страх не страх, но ощущение большого риска натягивало нервы. И все же главной для Корнелия была радость, что рядом вот он — настоящий Альбин. Радость и ощущение вины…
— Петр… Хальк… Ты сказал о том времени. О детстве… Но я же… Я хочу признаться. Понимаешь, это для меня важно…
— Корнелий, самое важное сейчас — они… — Петр кивнул назад, на ребят. — Смотри, чтобы перед таверной не высовывались из тоннеля. Пока не разрешит хозяин… Ты должен сберечь их всех…
«Всех… Святые Хранители, но это же не все!.. А я ему и монетку отдать не успел…»
— Хальк! Это не все! От нас откололся еще один! Его зовут Цезарь Лот…
Они были уже у двери.
— Хальк! Этот мальчишка… не такой! Индекс у него исчез недавно, его забрали у родителей, он кинулся теперь искать их… Хальк, помоги ему…
— Как это — индекс исчез недавно? У большого мальчика?
— Да. Никто не знает как… Никто не понимает…
— Я тоже… В таком случае это задача для командоров…
— Для кого?
— Корнелий, пора. О мальчике расскажешь в таверне, они передадут мне, посмотрим, что можно сделать… Скорей…
Маслянисто прошелестел механизм замка. Петр улыбнулся, глянул пристально и… хорошо так, совсем как маленький Альбин Ксото. Доверчиво и ясно.
Корнелий с запинкой спросил.
— Мы больше… не увидимся?
— Кто знает… На всякий случай прощай. — Петр взял Корнелия за локти, быстро придвинул лицо, своим лбом коснулся лба Корнелия. — Иди… Значок не забудь отдать хозяину таверны, он вернет мне. Это мой талисман, помнишь?
«И если у тебя его нет, случается несчастье», — резануло Корнелия.
Но Петр улыбнулся опять:
— Иди, иди… Да помогут вам Хранители.
Таверна у насыпи
Хранители помогли. В гулком вагоне старого монорельса никто не обратил внимания на стайку послушных школьников с воспитателем. Потом было долгое ожидание сумерек в чаще глухого сада за развалинами крепостной башни. Томительное, но почти лишенное нервного страха. Заросли сирени и желтой акации плотно укрывали ребят и Корнелия, создавая чувство безопасности. Страх, конечно, жил, но где-то позади остальных ощущений и мыслей. А главные мысли были об Альбине Ксото. О Хальке…
Ласковое тепло, сладкую печаль и виноватость — вот что испытывая Корнелий. И несмотря ни на что — радость! От того, что встретились… Может, это не случайно? Судьба?
Но почему тогда судьба не дала ему времени признаться в том давнем предательстве, полностью очистить душу?.. А может, правильно не дала? Пусть у Петра останется незамутненная память о друге детства… Но тогда откуда это чувство вины?
«А если бы я и признался, что изменилось бы? Петр наверняка бы сказал: «Чего не бывает в детстве! Мы все порой трусили…» Нет, он не трусил, потому и стал таким, спасает обреченных… А может, он сказал бы: «Что было, то было, зато сейчас ты, Корнелий, поступаешь как надо…»
Корнелий скривил рот. «Опять ты думаешь о себе. И примеряешь костюм киногероя… Думай о ребятах…»
Лючка что-то тихонько рассказывала остальным. Ребятишки сидели среди веток очень тесно — близко сдвинутые разлохмаченные головы, порванные и мятые платья и рубашки, путаница голых ног — изжаленных и расчесанных. Тата сняла растоптанный башмак с забинтованной ступни. Бинт был грязный…
И впервые мысль: «А какое я имею право?» — ужаснула Корнелия.
Как бы то ни было, а они жили, учились, играли, каждый день ели досыта. Порой были даже по-своему счастливы.
«А я сорвал детей неизвестно куда!.. Хотел для них сбывшейся сказки о Лугах?»
«Не ври! Ты испугался снова стать предателем… Опять думал о себе».
«Но и о них я думал! И вообще… Что я теперь без них?»
«Вот именно: что ты? Снова о себе. А что будет с ними, если все сорвется? Какая кара их ждет за самовольный уход из школы?»
«Я все возьму на себя. Мне все равно жизнью отвечать…»
«Ты-то ответишь. А им как жить, если последняя сказка окажется обманом?»
«Ну, тем более! — сказал он себе со злостью. — Обратного пути нет!»
И ребята, вйдимо, это знали. Они поверили ему сразу, без оглядки. Пошли за ним без всяких слов. Почему? Потому что он однажды почти случайно испытал и понял их боль? Или просто он самый добрый из тех, кого они видели в жизни?
«Господи, это я-то самый добрый?»
Откуда у них это доверие? Или все та же привычка к послушанию? За все время ни жалоб, ни вопросов. Лишь Тата один раз шепотом сказала, что опять больно наступать на землю…
— Ребята… Я понимаю, вы устали… Но я… я сам не ожидал, что так…
Лючка перестала шептать. Все помолчали, а потом Антон сказал спокойно:
Корнелий, все в порядке. Никто не хнычет.
А Гурик, всегда самый тихий и виноватый, вдруг добавил негромко, но ясно:
— Маленькому рыбаку было в сто раз труднее…
Даже в глазах защипало. «Э, да ты стал сентиментальным, дружище». Корнелий проморгался и увидел, что день темнеет.
…В густых сумерках неслышной вереницей прокрались они вдоль насыпи и собрались в широкой бетонной трубе. Здесь было пыльно, зябко и скверно пахло.
— Уже недалеко, — прошептал Корнелий. — Я пойду узнаю. А вы… Вы пока вспоминайте вашу… молитву.
Ребята сдвинулись. Остановившись у бетонного края, Корнелий услышал за спиной шелестящий говорок:
Гуси-гуси, га-га-га..Вспомнилась полутемная спальня, мальчишки и девчонки, вставшие кружком. А поодаль — поднявшийся с койки Цезарь…
«Где он теперь?.. А я и монетку не успел вернуть…»
Окружная Пищевая (или Южная Окружная, или Южная Пищевая) получила свои названия в начале прошлого века, в эпоху последнего военного конфликта Западной Федерации с Юр-Тогосом. В те времена здесь располагались продовольственные склады интендантского ведомства. Сейчас эти длинные низкие здания из серого кирпича были частью разрушены, а частью перестроены. Их обступали бараки и лачуги всевозможных размеров и степеней капитальности.
Рельсовый путь остался тоже с незапамятных военных времен. По нему и сейчас еще таскали грузы для ближайших строек допотопные локомотивы на нефтяном горючем Была поблизости и небольшая станция музейного вида. В детстве Корнелий слыхал, что на ней сохранились и даже работали два настоящих паровоза… Кто знает может, работают и сейчас?
Локомотивы посвистывали в отдалении. Было сумрачно, глухо и душно. Близкая гроза пропитала воздух ощутимым электричеством… Когда Корнелий шагнул из тоннеля, в небе зажглась бесшумная зарница. На низких облаках вздрагивал свет станционных прожекторов.
Желтый фонарь Корнелий увидел сразу. Большой, четырехгранный, с силуэтами старинных автомобилей на мутных стеклах. Он висел на торце длинного, кажется деревянного, дома, над дверью без навеса и ступеней. Это была, безусловно, таверна «Проколотое колесо».
Пригибаясь, Корнелий пересек дорогу и толкнул незапертую дверь.
Навстречу пахнуло сухим теплом, запахом жареного теста. Обдало светом лампы и оранжевого огня.
Напротив двери, у дальней стены, в каменной нише очага металось пламя. Живой огонь! Это могло быть или признаком первобытного убожества, или символом роскоши. В городских квартирах и коттеджах иметь камины с настоящим огнем разрешалось немногим (Корнелий так и не добился)… Впрочем, здесь, на Пищевой, едва ли спрашивали разрешения. А о роскоши ничто, кроме горящего очага, не напоминало. Разве что колесо от великолепного «дракона-супер», висевшее в простенке между маленькими окнами.
Колеса от новых и старых автомобилей (и даже от телег!) были развешаны на серой и бугристой штукатурке. У некрашеного дощатого потолка поблескивали с десяток автомобильных фар. Горела, впрочем, только одна лампа — матовый белый шар.
У стен были расставлены разнокалиберные табуреты и три некрашеных стола — из тех же щелястых досок, что и потолок.
Казалось бы, типичное питейное заведение для окраинных бродяг (как в фильме «Торговцы розовым дымом»). И тем не менее возникало впечатление не таверны, а скорее жилой комнаты — Корнелий ощутил это в первую секунду. Может, потому, что не было традиционной стойки, а блестел стеклами простой старый шкаф с посудой. А еще потому, что у очага по-домашнему сидела на корточках и что-то жарила на железном листе крупная девушка в тугом куцем платье без рукавов. Блики дрожали на ее налитых икрах и полных руках.
Девушка обернулась, мотнув короткой бронзовой косой. Она была круглолицая, некрасивая и добрая.
— Входи, — сказала она. — Чего стоишь…
Тут же выкатился из-за украшенной колесами ширмы маленький, тоже круглолицый человек с редкими черными волосами и глазами-щелками.
— Заходи, пожалуйста! — Он говорил тонко и, кажется, обрадованно. — Садись, сейчас кушать будешь!
— Да я по делу… — начал Корнелий.
Человек ухватил его за локти, и, подчиняясь мягкому напору, Корнелий оказался за столом.
Девушка ловко поставила на доски стола глиняную миску с пухлыми, как мячи, оладьями (на них еще лопались пузырьки масла). Улыбнулась толстыми губами. Корнелий ощутил, как голодная судорога прошла у него от желудка к горлу. Сказал с усилием:
— Да мне и платить нечем…
— Зачем платить! — Хозяин таверны взмахнул ручками. — Платят, когда много еды, когда вино пьют, а если немножко, чтобы не быть голодным, платить не надо!.. Анда, принеси молока!
Толстогубая, добрая (а глаза непростые) Аида сту кнула о стол глазированным кувшином. И Корнелий вдруг понял, что смотрит на нее… с интересом. На ее круглые икры и локти, на плавные переливы тела под шелковистой тканью… Что это? Он возвращается к жизни? За все время тюремного бытия он ни разу не подумал о женщинах был равнодушен к еде, не вспоминал веселые, пирушки и утехи в компании приятелей (чаще всего у Рибалтера). И вот этот зверский голод при виде шкворчащих оладий эта Анда.
А ребята?.
Он злым коротким глотком загнал голод в глубину и будто случайно положил на стол раскрытую ладонь со значком.
Хозяин..
Тот глянул, глазки округлились:
Ва, ты от Петра… Он заговорил вполголоса, но отчетливо: Я тебя слушаю. Что надо делать?
В тоннеле под насыпью тринадцать ребятишек. Безынды. Надо увести… туда.
Ва… Хозяин оглянулся на Анду. Почесал согну тым пальцем темя. В глазах появилась честная озабочен ность. И тебя?
Естественно… буркнул Корнелий излишне сердито. Потому что ощутил непонятную пристыженность.
— Ва… так много. Такого еще не было. Один-два было… Надо думать. Надо спросить Алексеича.
Витька сделает, подала голос от очага Анда. Своей дорогой, поездом. Чего там…
Ай, Витка!.. Где он, Витка? Когда еще хотел прийти! Дурная голова его носит, Алексеич нервничает!..
В непонятных и недовольных восклицаниях хозяина Корнелий уловил, однако, скрытое облегчение.
Будем думать. Ты сперва кушай. Ай нет сперва дети. Веди сюда…
А… ничего? Здесь безопасно?
Ва! Зачем боишься? Это не твое дело!.. Не оби жайся, пожалуйста, веди. На улице надо осторожно, а здесь бояться не надо уланы к нам не ходят.
…Ребята ждали Корнелия молчаливо и доверчиво. Нес лышно, цепочкой они пересекли улицу и скользнули в таверну.
— Ва, какие маленькие, какие поцарапанные! Садитесь, не бойтесь, будем кушать…
— Да подожди, отец, со своим «кушать», — прикрикнула Анда, — ребятишкам умыться надо, передохнуть… Я их в круглую комнату возьму, там вода, полотенца…?
— Ай, правильно… Какая дочка! — Хозяин глянул на Корнелия.
И тот затеплел щеками, как мальчишка, ибо пойман был за явным разглядыванием Анды.
— Теперь садись, можно. Анда все сделает. Кушай, потом пойдем к Алексеичу… Меня зовут Кир. А тебя?
Корнелий сказал и воткнул зубы во вздутое тесто.
Загадочный Алексеич оказался очень костлявым и пожилым человеком с гладкими седыми волосами. Он встал навстречу, слегка церемонно протянул руку:
— Мохов Михаил Алексеевич…
Узкая ладонь была твердой. Но за крепким рукопожатием и подчеркнутой вежливостью Корнелию почудилось какая-то отрешенность. Корнелий тоже назвал себя полностью и, не зная, что еще сказать, спросил:
— Вы, наверно, из Восточной Федерации? Такое имя…
— Нет, я из-за грани, — с будничной ноткой ответил Мохов. — Из тех мест, куда, судя по всему, собираетесь вы… Кир мне рассказал. Может быть, вы изложите мне ваши обстоятельства подробнее? Сядем…
Мохов обитал в узкой и низкой комнате с примитивной мебелью и самодельными книжными полками. Но торцовую стену занимали панель и экраны супермашины ч‹ Нейрон», разрешенной для пользования лишь в учреждениях правительственного ранга. Сам по себе факт, вызывающий изумление и уважение. Уважение вызывала и ненавязчивая, скучноватая решительность Мохова. Они присели рядом на узкую кровать, и Корнелий ровно, невольно поддаваясь тону Мохова, рассказал, что случилось с ним и с ребятами. У него было ощущение пациента, который попал к суховатому, но умному врачу и должен, отодвинув неловкость, рассказать все, чтобы получить надежду на излечение.
Мохов, однако, не выдержал роли бесстрастного медика. Неожиданно присвистнул и покачал головой:
— Ну, Петр… Заварил похлебку…
— Значит, все это очень трудно? — сумрачно спросил Корнелий.
— Технически, пожалуй, не очень… Но у Петра будет куча сложностей и объяснений с настоятельским кругом… Впрочем, выхода действительно не было, он это докажет… А вот я ничего доказать не смогу, когда на той стороне ученая братия снова начнет костерить почем зря Михаила Алексеича Мохова…
— Извините. Если бы я знал, что…
— И что бы вы сделали? — с великолепным ехидством поинтересовался Мохов. И вдруг улыбнулся с обезоруживающей детскостью: — А, да чего там… Это же исключительно мои проблемы! Можно сказать, этические. Сам шумно декларировал невмешательство сторон, а теперь… Ладно, за себя и за ребят не волнуйтесь, сделаем…
Это «за себя», поставленное перед «ребятами», уязвило Корнелия.
— И все-таки я волнуюсь. За ребят. Как они там, куда…
— «Ва», как говорит любезнейший наш Кир. Вы окажетесь в зоне обсерватории «Сфера». Там обратитесь к сотруднику Михаилу Скицыну. Кстати, крайне оригинальная личность, мой заклятый противник. Он всегда преисполнен энтузиазма и все заботы возьмет на себя… Ребят, скорее всего, разберут по семьям. Уж чего-чего, а гуманизма там у них не занимать… Порой излишек его оборачивается неожиданной стороной, но это, к счастью, лишь против старых дурней вроде меня.
Корнелий смотрел с нерешительным вопросом.
— Дабы не оставлять вас в недоумении, изложу суть. — Мохов опять по-новому, нервно усмехнулся. — Я был сотрудником обсерваторской спецгруппы «Кристалл-два», крепко разругался с руководством и, сильно опередив других в эксперименте — честно это говорю, — ушел через грань, сюда… Были и другие причины… Длинная история. А для меня вдвойне сложная, ибо я был резким противником практических контактов разных пространств. Как говорится, сторонником «невмешательства во внутренние дела», во имя осторожности. Чтобы не вызвать непредсказуемых последствий… А пришлось не только вмешаться, но даже связаться со здешним подпольем… Поскольку нынешние служители храма Девяти Щитов есть не что иное, как часть системы сопротивления государству. Борьбы с нынешней машинной властью. Пришлось выбирать: или работать на эту власть, или быть с ее отрицателями…
— Я обыватель… — скованно сказал Корнелий. — г Никогда не думал, что в стране есть организованное сопротивление.
— К сожалению, не очень организованное, разношерстное… И… — Он словно спохватился. — Я к нему имею лишь косвенное отношение. Поскольку все, кто занят теорией Кристалла, увы, не могут остаться вне кипения человечес ких страстей и споров… Впрочем, ну их к черту… — Мохов неожиданно сник.
Корнелий деликатно сказал:
— Последнее время я то и дело слышу об этой теории. О кристаллическом строении Вселенной. Значит, это очень серьезно?
Мохов словно обрадовался вопросу:
— Это одна из древнейших теорий. До последних лет она считалась невероятными бреднями, вроде алхимии или астрологии. Факты взаимопроникновения пространств замалчивались или отрицались. Впрочем, как и сейчас… Но отрицать их полностью уже невозможно. Вот и были созданы научные группы из сторонников этой теории… Впрочем, вам это не интересно. К тому же я чувствую, что вы тревожитесь за детей. Не бойтесь, Анда о них позаботится, она золотой человек.
То, что Мохов увидел его беспокойство, было Почему-то приятно Корнелию. А еще приятнее, что он сказал про Анду «золотой человек».
«Ой, Корнелий, Корнелий…»
Впрочем, большого беспокойства за ребят он не чувствовал. Ощущение безопасности и доверчивости пришло к нему в таверне «Проколотое колесо» сразу. Даже вопрос, когда и как случится переход, не очень волновал. И Корнелий сказал искренне:
— Почему же! Теория Кристалла меня очень интересует. Я слышал о ней еще в детстве. — Он едва не добавил, что в те годы был дружен с Петром, но опять шевельну лось чувство вины. И он только произнес: — Тогда мне даже казалось, будто я в ней что-то понимаю…
Мохов кивнул:
— Начала теории довольно просты. В них разбирается даже мой сын, он пятый класс окончил… Вот смотрите..
Мохов шагнул к панели. В черной глубине большого экрана повис зеленоватый, реальный — хоть пощупай — кристалл. Он был похож на полупрозрачный, заостренный с обеих сторон карандаш.
— Представим, что у Вселенной именно такое строение…
Корнелий кивнул:
— Я представил… Но тогда вопрос: почему мы не видим этой стройности в натуре? Галактики — это лохматые спиральные образования…
— Ну, голубчик мой! Вы рассуждаете, как мой давний оппонент доктор д’Эспозито. Он хотя и доктор, но полный… простите… Нельзя же представлять модели так буквально. На самом деле данные здесь плоскости кристалла — это многомерные пространства…
— Да, я понимаю…
— Материальные субстанции возникают именно внутри этих пространств. Это во-первых… А кроме того, даже такая наука, как кристаллография, утверждает, что в местах нарушения кристаллических структур часто появляются спиральные образования. Как аномалии…
— Следовательно, мы — крупицы одной из аномалий, — усмехнулся Корнелий.
— Мы — не знаю, — в тон ему ответил Мохов. — Но здешняя система якобы машинной власти — явно социальная аномалия.
— Почему «якобы»?
— Не будьте наивны. Вы всерьез полагаете, что йыпади миллионный шанс на премьер-министра, этот господин оказался бы на вашем месте? Машинная объективность — это сказки для оболванивания обывателя… Простите.
— Не за что. Я действительно обыватель до мозга костей, за что и плачу теперь по всем векселям… Однако вам не кажется, что данная модель Кристалла чересчур уж… простовата? Как быть, например, с бесконечностью мироздания?
— Очень просто! — У Мохова появились нотки азартного лектора, он кинул пальцы на клавиши компьютера.
Кристалл вытянулся, изогнулся, сомкнул концы и превратился в этакий граненый бублик.
Корнелий засмеялся.
— Ничего смешного, — слегка обиделся Мохов. — Классическое решение проблемы конечного и бесконечного… Гораздо сложнее другое. Никто не может обосновать теоретически принцип перехода через грань. Точнее, с грани на грань. Почему вдруг соединяются пространства? Как?
— А если так? — Корнелий коснулся клавишей. Уж что-что, а играть на этих штуках он умел. Граненое кольцо послушно разорвалось, Кристалл слегка перекрутился и соединил концы опять. — Если грань А мы соединим с гранью Б, грань Б с гранью Ц и так далее, все плоскости сольются в одну, как в кольце Мёбиуса. И тогда…
— Хм… — Светло-синими своими глазами Мохов глянул со снисходительной иронией. — Это ваше объяснение делает вам честь, однако идея не нова. Мы со Скицыным независимо друг от друга рассчитали этот вариант еще четыре года назад. Я даже дал термин: «Мёбиус-вектор» Но…
Но Корнелию было уже не до того. Мысли кинулись назад, к тревоге. Кольцо Мёбиуса, школа, Цезарь…
— Михаил… Алексеевич. А что все-таки можно сделать для того мальчика? Для Цезаря Лота?..
Мохов досадливо слегка пожал плечами:
— Петр же обещал. Соберем все сведения, он даст задание своим людям. Их, людей этих, конечно, мало. Но постараются найти, помочь… А вы свое дело сделали, ваша совесть может быть спокойна.
Совершенно искренне Корнелий вспылил:
— Меня в данном случае интересуют не терзания собственной совести, а судьба мальчишки!
— Господи, да я не хотел вас обидеть! Будут искать его… Возможно, Хранители свяжутся с командорской группой, задача-то прямо для них… Если эта полумифическая группа действительно все еще существует.
— Как вы сказали? Командорская?
— Не слышали старую легенду о Командоре? Он при числен к Хранителям, хотя не все это признают… Жил ког да-то человек, командор флота, капитан каперского фрегата, он сделал целью своей жизни спасать и хранить от бед детей с особыми, порой необъяснимыми талантами и свойствами… Командор считал, что дети эти — люди будущего, когда каждый человек овладеет множеством чудесных способностей. Вплоть до полета без крыльев и чтения мыслей… Сказка, не лишенная, видимо, реальной основы. И логики…
— Сказка, — вздохнул Корнелий. — Впрочем, кто знает… Вы считаете, что Цезарь — один из таких детей?
— А его странная история с исчезновением индекса — не чудо ли?
«Где-то он теперь?» — подумал Корнелий. Но разговор продолжать не стал. Мохов мог заподозрить его в нытье и недоверии.
— Так вот, о Мёбиус-векторе… — неожиданно громко вдруг сказал Мохов и отвернулся к панели. И без паузы, не глядя назад, ровным голосом произнес: — Иди сюда, паршивец, уши надеру…
Корнелий изумился, а у двери несмело хихикнули.
Прислонившись к косяку, стоял гибкий, русоголовый, взлохмаченный мальчишка. В белой майке — перемазанной, порванной, выпущенной на мятые шорты из пятнистой, похожей на маскировочную ткани. Он мотал на палец оттянутый подол и переступал длинными, кофейного цвета ногами. На курносом лице была независимо-дурашливая улыбка, а в оветло-синих глазах — нерешительность. Он встретился этими глазами с Корнелием и мельком сказал:
— Здрасте.
— Иди, иди, — повторил Мохов. — Люди тут изводятся, а он…
Мальчишка потер ногу об ногу, шагнул к машине. Крутнул головой, спасая уши от пальцев Мохова. Пальцы неуверенно зашевелились в воздухе. Видимо, на словах Михаил Алексеевич был решительнее, нежели в практике воспитания.
Мальчишка расставил ноги циркулем, поддернул на боках майку, сунул руки в тесные карманы. Склонил набок лохматую голову и сказал:
— А трактовка граней здесь принципиально не та. Число их бесконечно, значит, они должны быть вплотную друг к дружке… — Он выдернул руку, профессионально пробежался пальцами по рядам клавишей.
Граненое кольцо в глубине экрана потеряло свою ребристость, превратилось в круглую баранку. Лишь приглядевшись, можно было рассмотреть на нем частые, как на трикотажной материи, рубчики.
Мальчик продолжил со скромной назидательностью:
— Во… Грани вплотную, рядышком, значит, их соединение может случиться совсем легко, от одного маленького чиха. Только надо выяснить точно, от какого. Может, просто от желания…
— Великолепный научный термин — «чих»! — взвинтился Мохов. — Небось опять с Мишенькой Скицыным занимались несусветным трепом!..
Только сейчас Корнелий понял, что за сердитостью Мохов прячет громадное облегчение. Что во время всех прежних разговоров этот седой, костлявый человек с бледно-синими глазами испытывал беспрерывную томительную тревогу вот за этого растрепанного пацана. За сына. За негодного бродягу Витьку.
— Не, это я сам придумал, — скромно похвастался Витька. — Скицын, наоборот, спорит. Как, говорит, тогда быть с Мёбиус-вектором?.. Видишь, он признал твой вектор… Говорит, ребро-то все равно по прямой не пересечешь, получается расстояние, равное для перехода одному витку плюс-минус линия между точками. А виток, говорят, равен бесконечности…
— Наконец-то он сказал умную вещь…
Витька опять хихикнул:
— А в масштабах Кристалла что бесконечность, что ноль — все одинаково. Они сливаются…
— Неучи! — гаркнул Мохов. — Ты — понятно! Но этот твой Скицын!.. А еще кричал, что я дилетант!..
— He-а… Не кричал он такого. Он…
— Ты мне зубы не заговаривай! Где тебя носило?!
— Я же сказал: может, приду, а может, нет…
— Все знают, что если ты сказал «может», значит, придешь! А ты шастаешь! Опять куда-то влип?
— Да не-е… Я вышел в парке у обрыва, а там театр… Ну, знаешь, простая эстрада, и на ней играет кто хочет. Так интересно! Начинается будто спектакль, а потом все как по правде… Они «Короля Артура» ставили, я загляделся. А на них вдруг уланы! И на зрителей! И за мной: «Безында!» Ух, я драпал…
— Чтоб ты больше не смел никогда…
— Ну, па-а…
Витька незаметно стрельнул глазами в сторону Корнелия. А тот поймал себя, что смотрит на перепалку отца и сына, весело и глуповато приоткрыв рот. Но не почувствовал смущения, засмеялся.
В дверь просунулась голова хозяина:
— Ва! Витка. Что, папа давал немножко по шее?
— Потом получит, — буркнул Мохов. — Сперва накорми обормота.
— Это хорошо. Пошли, Витка, кушать. Анда оладьи сделала, прямо апельсины.
Витька весело ускакал.
— Пойду посмотрю, как ребята, — сказал Мохову Корнелий.
Но к ребятам он сразу не попал. В главной комнате Кир сказал жующему у очага Витьке:
— Вот человек от Петра. Витка, надо увести к вам группу. Тринадцать человек. Девочки-мальчики, как ты.
Витька торопливо проглотил остаток оладьи, встал прямо. Тоненький, серьезный. Внимательно, почти строго спросил Корнелия:
— Что с ними?
— Безындексные ребята из тюремной школы. Здесь они обречены.
Кажется, он нашел верный, лаконичный тон.
Витька понятливо наклонил голову:
— Надо, — значит, надо. Если не испугаются на товарном поезде, на открытой платформе… Вы с ними?
Корнелий кивнул, опять подавив стыдливую досаду.
— А тебе не попадет? — участливо спросила Витьку Анда.
Он сказал с готовностью:
— Попадет. Мне всегда попадает и там, и здесь, я привык… И сейчас тоже попадет, вот сию минуту. Приготовьтесь…
Он распахнул входную дверь и пропал в темноте. С улицы дохнуло душным предгрозовым воздухом, электрической тревогой.
— Куда тебя, злой дух!.. — тонко завопил вслед Кир.
Но Витька уже возвращался. И тащил за собой уланский мотодиск с седлом.
— Ва… — сказал Кир.
— Мама! — сказала Анда. — Витька, сумасшедший! Ты на нем прикатил?
— А на чем же еще? Один там зазевался, я в седло — и тикать. А то бы и не ушел…
— Вот папа тебе покажет седло… — задумчиво пообещал Кир. — Ай, что за мальчик!
— Пфи, — фыркнул Витька. — Кир, прибей его на стену. Самое лучшее колесо в коллекции будет. — Он бросил трофей у двери.
Диск мягко упал, потом приподнялся одним краем и упруго завис в наклонном положении. Чудеса, да и только! Витька решительно иридавил его к полу ступней в ременчатой сандалии.
Корнелий шагнул к мотодиску. Он впервые видел его так близко. На бархатисто-черном фоне графитным блеском выделялись узкие полоски-спицы. Блестела хромированная ось с педалями. Велосипедное седло казалось плотно посаженным на резиновый обод.
— Витька, ты разве умеешь на нем? — уважительно спросила Анда.
Он великолепно оттопырил губу:
— Делов-то… Никакой науки не надо. Только он такой подлый: от оси вверх горячим воздухом лупит. Им-то, паразитам, хорошо в крагах, а мне все ноги испекло. — Он опять потер ногу об ногу, потом ладонью провел по щиколотке. Глянул на Кира. — Ва! Еще и плямбу старую ссадил. Кровищи-то!.. Придется доктора вызывать, погода самая подходящая…
— Витька, не смей, — быстро сказала Анда.
Кир покачал головой.
Витька по-турецки сел на табурет — русоголовый, синеглазый йог. Со значительным видом поднял мизинец. Тут же над пальцем возник тускло-желтый огонек. Еще две секунды — и огонек превратился в светящийся шарик размером с теннисный мяч. Он стремительно вращался и потому казался размытым.
«Шаровая молния!» — ахнул про себя Корнелий.
— Витька, перестань, я боюсь! — Анда за дурашливым тоном прятала настоящий страх.
Молния держалась на мизинце, как на оси. Витька медленно провел краем светящегося шарика по измазанной кровью щиколотке. Кровь исчезла. На месте сорванной коросты появилась розовая кожа.
— Вот и все… — Улыбаясь, Витька посадил шарик на колено.
— Неужели не горячо? — осторожно спросил Корнелий.
Витька задумчиво покачал головой. Двинул ногой, послал шарик на другое колено. Потом на плечо…
— Ты когда-нибудь взорвешься, — печально предрекла Анда.
Витька покосился на молнию, словно она была присевшей на плечо птахой.
— Она никогда не взорвется. Она живая. Кто из живых сам захочет взорваться? Надо только не обижать ее…
Аида насупленно сказала:
— Раз уж фокусничаешь, залечи у девочки ногу. Такой порез, никак не затягивается.
Витька быстро встал.
— Где?
Ребята сидели в круглой, как внутренность громадной дощатой бочки, комнате. На брошенных у стены резиновых матрацах. Они были сытые и умиротворенные. На Корнелия глянули с сонными улыбками и без вопроса. Никуда им больше не хотелось.
— Гуси-гуси, га-га-га, — неожиданно для себя сказал Корнелий.
Кажется, получилось неуклюже. Но нет, ничего. Глаза у ребят хорошо заблестели. Только Чижик, видимо, решил, что опять куда-то надо идти.
— А нам Анда обещала, что тут будем ночевать…
— Раз обещала, так и будет, — успокоил Корнелий.
И здесь шагнул вперед Витька:
— Здравствуйте.
Надо было слышать это «здравствуйте»!
До сих пор Витька был обыкновенный мальчишка — славный, смелый, озорной, но в общем-то понятный (несмотря даже на фокусы с молнией). А теперь мгновенно вспомнилось Корнелию слышанное от Петра: «Я несколько раз встречал мальчика оттуда. Удивительная отвага и ясность души».
В Витькином «здравствуйте» не было ни детской скованности, ни хозяйского превосходства, ни настороженности мальчишки, который знакомится с чужими ребятами. Ни единой темной нотки. А было это как самый доверчивый и спокойный шаг вперед: «Вот он я. Я такой же, как вы. Хорошо, что мы встретились».
Корнелий вдруг подумал, что, наверно, в свои счастливые дни так здоровался с людьми Цезарь.
«Опять Цезарь. Святые Хранители…»
Ребята вроде бы не двинулись, но Корнелий ощутил, как они потянулись к Витьке. Безоглядно. Даже умный и осторожный Антон.
А Витька сказал деловито и ласково:
— У кого нога больная? У тебя? — Он сел на корточки перед Татой. — Давай-ка разбинтуем. Не бойся.
Шарик молнии неотрывно держался у него над плечом.
Тата слегка насупилась, но дала размотать бинт. Витька поморщился и тихо присвистнул.
— Ну, ничего… — Он посадил светящийся шарик на указательный палец.
Тата насупилась покрепче и отодвинулась.
— Я его боюсь…
Со снисходительностью старшего брата Витька разъяснил:
— Он не горячий. Даже не щекочет. Вот, смотри… — Он провел шариком по локтю с засохшей царапиной. Царапина исчезла, оставив на коричневой коже розовый след. — Веришь?
Тата вздохнула и откинулась к стене.
— Ладно. Только я закрою глаза.
— Закрой, пожалуйста. И сосчитай до тридцати…
За полминуты в полном и внимательном молчании все было закончено. Глубокий, сочившийся сукровицей разрез плотно затянулся, превратился в красноватый рубчик.
— Вот и все. И бинтовать не надо… Кто еще пораненный? — В голосе Витьки опять звучали обычные озорные нотки.
— Ничего, — сказал Ножик. — Царапины и так засохнут. На безындах все заживает без лекарств.
— Не все, — возразил Витька. — По себе знаю…
— Ты же не безында!
— Я такой же, как вы.
— Зачем ты говоришь неправду? — с мягким упреком сказал Илья. — Чтобы сильнее понравиться нам?
— Я правду говорю!
Витька вздернул на животе майку. На пояске его мятых шортиков блестела черно-лаковая коробочка co шкалой — миниатюрный уловитель индексов. Витька оттянул ее на эластичном поводке, повел сетчатым глазком по ребятам, потом повернул к себе. Уловитель молчал и не светился. И лишь когда глазок скользнул по Корнелию, в коробочке ожил мягкий зуммер. Выпрыгнули на шкале зеленые циферки. Все разом посмотрели на Корнелия. И он почувствовал себя, словно его в чем-то уличили.
Антон быстро сказал Витьке:
— Вот пол:ечи-ка ты руку у господина Корнелия…
Только сейчас Корнелий вспомнил, что в сумерках зацепился часами за сучок и рассадил на запястье кожу. Он приподнял обшлаг пиджака. Припухшие, налитые кровью царапины были похожи на след когтистой лапы. Они шли через белые бугорки индексной прививки.
— Снимите часы, — попросил Витька. — А то испортятся.
Желто-огненный, стремительно вертящийся шарик сидел на Витькином мизинце послушно и бесшумно. Зато направленный на Корнелия уловитель аж заходился зум мером.
— Выключи ты его, — стягивая браслет, попросил Корнелий шепотом.
— Да не выключается, — так же тихо ответил Витька. — Заело кнопку. Ничего, я быстро…
Корнелий с растущей опаской смотрел, как шаровая молния приближается к руке. Но ничего не случилось. Не было почти никакого ощущения. Ни тепла, ни покалывания. Лишь на миг будто коснулась кожи мохнатая лапка. И Корнелию стало легко оттого, что исчезла надоедливая саднящая боль.
И еще оттого, что стих зуммер.
Корнелий благодарно улыбнулся Витьке. Но у того было растерянно-перепуганное лицо. Как у мальчишки, который расшалился в гостях и нечаянно грохнул дорогую вазу.
— Простите… — пробормотал Витька.
— Да что ты! Все в порядке…
— Но я же… Кажется, я… смазнул ваш индекс.
Зуммер молчал.
— Да он просто выключился. Кнопка сработала.
— Индикатор-то горит. А индекса… нету.
Витька вплотную придвинул глазок уловителя к заросшим ссадинам на запястье Корнелия. Оранжевый индикатор светился равнодушно и неподвижно. Сигнала не было. Цифр на шкале тоже…
Корнелий медленно осознавал, что случилось. Первая четкая мысль была: «Может, и Цезарь имел дело с шаровыми молниями?» Вторая: «Витька-то, бедняга, перепугался…»
— Ну и что! — бодро сказал ему Корнелий. — На кой шут мне индекс? Наоборот, спасибо. Тем более что все равно ухожу… Когда ты нас уведешь?
— На рассвете, — все еще виновато выдохнул Витька.
Корнелий опять сидел в комнате Мохова. Тот стоял у выключенной машины, смотрел мимо Корнелия и говорил негромко, но жестко:
— Нет и нет. Вы что предлагаете? Чтобы двенадцатилетний мальчишка, рискуя головой, сунулся в такую авантюру? Снимать индексы у тысяч людей… Я и так трясусь за него, когда он появляется здесь. Я тысячу раз запрещал ему это, а он…
— Да разве я говорю о вашем сыне? Я о том, что если существует способ, то в принципе возможен такой вариант, когда…
— Один случай — это еще не способ. Мало ли какие фокусы получаются у нынешних мальчишек! А вы хотите на этой основе изменить государственный строй целой Федерации.
— Святые Хранители! Этого хочет Петр и другие ваши друзья. Мне казалось, что и вы… А я высказался только теоретически.
— Петр — другое дело. Это его программа, его задача. А я изучаю проблемы Кристалла, вот и все… В конце концов, есть этическая и правовая сторона, я уже говорил. Какое право я и мой сын имеем вмешиваться в дела чужой страны? И чужого пространства к тому же…
«Однако вмешиваетесь», — подумал Корнелий.
Мохов угадал эту мысль.
— Я стараюсь никак не влиять на события. Помогаю Петру, да, но лишь постольку, поскольку он помог мне… Когда я впервые попал сюда, меня взяли как бродячего бича, узнали, кто я по профессии, и держали на положении арестанта в Институте многомерных полей при Управлении национальной обороны…
Разве есть такое?
— О боже! Кто из нас живет в этой стране?
— Странно. Армии нет, а управление…
— Армия нужна для войны с внешним противником. А нынешняя оборона — проблемы внутренней безопасности… Защита от… Хотя бы от таких, как вы… Кстати, вы представляете, что случится в стране, если исчезнут индексы? Ведь на основе всеобщей индексикации построено все руководство жизнью страны, планирование, государственный контроль, экономика, в конце концов. Хорошо или плохо, но это система. А без индексов будет полная анархия… Я не раз об этом говорил, споря с Петром…
— Для планирования и учета сгодились бы ветхозаветные браслеты. Так называемые магнитные паспорта. А что касается прав личности и этой идиотской электронносудейской системы…
— Ах, идиотской! — Мохов не скрыл сарказма. — Вы поняли ее несостоятельность, потому что оказались в таком положении. До того момента она вас вполне устраивала.
— Не отрицаю. Но уж поскольку оказался…
— Но вы — один из миллиона. А остальные жители этого благословенного мира вполне довольны своим существованием.
— Не все.
— Подавляющее большинство. И если вы начнете по своей воле лишать граждан Западной Федерации их возлюбленных индексов, не будет ли это насилием? И как тогда быть с теми же правами личности?
— Я никого не собираюсь лишать индексов. Во-первых, я не умею. Во-вторых, судя по всему, на рассвете меня здесь не будет.
— И слава богу, — вырвалось у Мохова. — Ох, извините… Я переволновался за этого сорванца. Я хотел сказать, что вам там будет хорошо. При ваших данных программиста и дизайнера…
— Компилятора…
— Ну, нс скромничайте… Вы сможете найти себе занятие прямо в обсерватории. А Мишенька Скицын станет наверняка вашим добрым приятелем. Вы схожи с ним по своему экстремизму.
— Это я-то экстремист? Перепуганный кролик…
— По-моему, вы просто не знаете себя до конца…
— Да… Ну… может быть. Тогда позвольте дерзкий вопрос, простительный именно экстремисту… Почему вы, Михаил Алексеевич Мохов, не живете там, вместе с сыном, а обитаете здесь?
Мохов как-то обмяк, поцарапал щетинистый подбородок.
— Это не секрет, — сказал сУн неохотно. — Однако долго объяснять. Комплекс причин. Например, большие нелады с коллегами по изучению Кристалла… Если интересно, Скицын вас просветит… Кроме того, здесь идеальные условия для проверки ряда моих гипотез. Кир приютил меня. Таверна, как и храм, стоит на меридиане…
— А опасность? Уланы?
— Таверна экранирована… Это трудно объяснить, но уланы обходят ее. К тому же хозяин считается их старым и опытным осведомителем. А данные для информации сочиняет вот эта машина.
— Извините, если я обидел вас вопросом.
— Да что вы! Идите-ка спать… господин Корнелий. Вставать придется до свету.
Поднялись, когда за окнами еле брезжило. Но ребятишки выспались и держались бодро. Анда каждому дала по вчерашней лепешке и кружке молока.
Мохов тоже уже не спал. Корнелий зашел к нему. Попрощались они сдержанно, почти без слов. Осталась между ними неловкая недоговоренность. «Впрочем, не все ли равно теперь?» — подумал Корнелий.
Когда он уходил, в комнату к отцу скользнул озабоченный Витька.
Скоро все, кроме Мохова и Анды, собрались в комнате с очагом (теперь не горевшим). Витька пришел последним. Он был по-прежнему озабочен или даже опечален. Однако увидел, что на него смотрят, и сделал веселое лицо.
— Кир! А где мое колесо?
— Спрятал. Скоро поезд, идти надо, зачем тебе колесо?
— Мне ни за чем. Я же говорил, прибей его на стену.
— Ва! Прибей! Уланы увидят в окошко, тогда что? Никакие экраны не помогут.
— Ну уж, не помогут, — мрачнея, буркнул Витька. — Ладно, сбереги тогда для меня. Пригодится…
— Ты когда опять приедешь?
— Скоро школа, трудно будет. И папа говорит: не ходи. Но приду…
— Папа правильно говорит, — вздохнул Кир. — Вечно голову суешь, куда не надо…
— А ты уговори его, чтобы вернулся, — тихо попросил Витька.
— Ва… Ты не можешь, а я как уговорю?
— Вот видишь… — все так же тихо отозвался Витька. — А мне все твердят: «Не ходи, не ходи…» Ладно, пора…
Вдоль насыпи стояли мокрые от ночного дождя сорняки. У Корнелия намокли до колен брюки. Ребята тихонько ойкали. Наконец остановились. В синеватом рассветном воздухе насыпь казалась крепостным валом. Пахло сырым железом и горькими листьями. Было тревожно, словно сейчас этот вал придется брать приступом. Вот-вот заиграет горнист, проснутся в крепости вражеские солдаты…
Кажется, в самом деле где-то пропел рожок. И стал нарастать глухой гул.
— Состав, — сказал вполголоса Витька. — Сейчас подойдет… Кир, а где Анда?
— Анда пошла в Козью слободку, дело с Яковом…
Где Козья слободка, Корнелий не знал, и кто такой Яков, и что за дело к нему у Анды, сейчас не имело никакого значения. Но ему было грустно и даже обидно, что Анды нет здесь…
Товарный состав медленно и с лязгом надвигался. На фоне мутного неба пошли силуэты вагонов и цистерн. Потом потянулись открытые платформы.
Среди ребят возникло беспокойное движение.
— Подождите, — перекрывая лязг, звонко сказал Витька. — Он сейчас остановится.
В самом деле, подергавшись и погремев, состав замер.
Витька первый полез через сорняки наверх. Ребята вереницей за ним. Потом — Корнелий и Кир. .
Витька по железной лесенке забрался на платформу, лег животом на барьер, протянул руки.
Корнелию вдруг очень захотелось, чтобы ребята на прощанье встали в круг и сказали свое «Гуси-гуси…». Но конечно, это было нелепое и сентиментальное желание. Времени в обрез, да и как станешь на крутом откосе?
Без суеты, молчаливо и быстро ребята поднимались к Витьке. Сперва маленькие, потом старшие. Последним — Антон. Он встал рядом с Витькой, протянул вниз руку:
— Подымайтесь… Корнелий.
— Скорее. Сейчас тронемся, — с,казал Витька.
Корнелий взял узкую и мокрую (хватался за траву) ладонь Антона. Подержал секунду, отпустил.
— Прощай… Прощайте, ребята. Витька позаботится о вас. Правда, Витька?
Теперь ему казалось, что это решение жило в нем давно. Еще до того, как исчез индекс. До того, как он увидел Анду. Даже до того, когда Петр дал ему значок…
— Господин Корнелий! — тонко, будто обиженный малыш, вскрикнул Антон. — Как мы одни?!
— Вы не одни. А вот Цезарь — один… Витька, береги ребят!
— Ага… — довольно беззаботно отозвался он.
Состав дернулся.
— Ай, что делаешь? — быстро сказал Кир. — Зачем остался?
— Ва… — усмехнулся Корнелий. — А кому я там нужен? Поздно заново жить, не мальчик. Попробую здесь, насколько хватит…
Платформа уходила. Тонкие силуэты рук взметнулись вдруг над краем, закачались, замельтешили, как стебли на ветру. И Корнелий вскинул руку. Не удержался, сказал шепотом:
Гуси-гуси, га-га-га, Улетайте на луга…Уж такое-то прощание он мог себе позволить.
Платформы скрылись, прокатили мимо хвостовые цистерны.
Эта железная дорога, так же как и улица вдоль нее, называлась Окружная, но не потому, что опоясывала город кольцом Просто раньше она принадлежала Южному армейскому округу. Она огибала окраину по дуге и уходила в поля. Там, через несколько миль, когда встающее солнце бросит от кустов на рельсовый путь длинные тени, состав чиркнет на ходу по невидимой грани соседнего про странства и остановится на минуту. Тогда ребята спрыгнут. И от этого места до обсерватории «Сфера» совсем недалеко… Так объяснял Витька, и Корнелий знал: так и будет…
— А что теперь станешь делать? спросил Кир.
— Не знаю… То есть одно дело знаю точно: надо найти мальчишку, Цезаря. А дальше поглядим… Спрошу у Петра…
— Лучше сразу спроси у Петра. Иди к нему. Только очень осторожно…
— Я осторожно… Хотя чего бояться? Я же безында, бич. Ни одна судейская машина не докажет, что я — Корнелий Глас. — Он хмуро посмеялся. — Корнелий Глас из Руты казнен восемь дней назад в муниципальной тюрьме номер четыре. Это зафиксировано везде и всюду…
Кир покачал головой:
— Неправильно думаешь. Никто не будет доказывать. Пристрелят в глухом углу, вот и все дела.
— Ну… это как получится. Двум смертям не бывать, а… одна вроде была уже.
Мудрый Кир опять покачал головой. Но больше не спорил.
— Пойдешь к Петру, смотри, чтобы не выследили ту дверь, в овраге…
— Да я и не пойду через дверь! У меня и ключа нет.
— Пойдешь. Другие пути все закрыты… Скажешь Петру: если шибко прижали, пусть уходит сюда… А ключ тебе Алексеич даст.
— Наверно, он рассердится, что я не ушел с ребятами, — скованно сказал Корнелий.
— Зачем рассердится? Нет… Он и сам не уходит. А у тебя, ты говоришь, здесь мальчик…
Обратный путь
Раннее солнце не проникало в овраг, там с ночи застоялась дождевая сырость. Горько и влажно пахло от высокого белоцвета. Его стебли, обычно сухие и ломкие, сейчас податливо мялись под башмаками. Седые головки, которые жарким полднем то и дело выбрасывают стаи пушистых семян, теперь съежились, как мокрые котята. Семена белыми волокнами липли к старому рыжему свитеру и холщовым брюкам Корнелия.
…Брюки и свитер дал Кир. А вернувшаяся откуда-то веселая Анда с усмешкой протянула квадратные темные очки:
— Вот. Чтоб совсем никто не узнал…
Корнелий усмехнулся в ответ. Спрятал очки в карман. Все это напоминало кино про агентов из эпохи последней конфронтации. Впрочем, Корнелий подумал про кино мельком. Больше он думал об Анде. Она отвела глаза.
— Вас Алексеич просил зайти.
Мохов дал Корнелию ключ — такой же в точности, какой давал Петр.
— Раз уж вы решили остаться… Но ради всех святых, будьте осторожны.
— Буду, — очень серьезно пообещал Корнелий.
— Кстати, почему вы так спешите? Логичнее было бы дождаться сумерек. Меньше риска для вас и для Петра.
— Я беспокоюсь за мальчика…
Но это была лишь одна из причин. Корнелий испытывал беспокойство вообще. И какое-то детское нетерпение. Как мальчишка, которого ждет дальнее путешествие. Хотелось поскорее начать новую, неведомую жизнь. Жизнь человека без индекса. И возможно, жизнь подпольщика.
Он не ощущал никакого сожаления о прошлом. По крайней мере, сейчас. Он тихо гордился, что спас от горькой, безнадежной судьбы тринадцать ребятишек, — хоть одно полезное дело за сорок с лишним лет проживания на матушке-планете. И дальше он хотел существовать с той же пользой и с тем же смыслом.
У него были цели. Ближняя цель: разыскать Цезаря и помочь ему. Дальняя цель: выяснить, как электростатическое (или какое-то другое) поле прирученной шаровой молнии уничтожает излучение индекса. А там посмотрим. Главное, что это возможно. Что в принципе есть оружие против машинной системы. Против этой всепоглощающей тупости и страха («Ох, как заговорил!.. А что, не правда?»). Мохов здесь не помощник. Кир, наверно, тоже не помощник. Но Петр, конечно, схватится за это открытие. Он-то ненавидит систему всей душой…
То, что встретился ему Петр (маленький Альбин Ксото, Халька!), согревало Корнелия больше всего на свете. Те три десятка лет, которые он, Корнелий, прожил после прощания с Халькой до повестки в тюрьму, казались теперь неважными, какой-то ошибкой. И милый сердцу обихоженный дом, и Клавдия, и рекламное бюро, и веселые вечера с приятелями — все теперь было вычеркнуто, как вычеркнут был из списка живых сам Корнелий Глас… Лишь про Алку вспоминалось с нежностью и иечалыо, да и то не очень. В конце концов, жива, счастлива, а про отца небось и не думает…
Мысли о Петре давали уверенность и прочность настроению. Петр поможет во всем. Научит, как быть дальше. И наверно, сделает своим помощником, введет в круг людей, которые знают, для чего живут и воюют…
Да, помимо ближней и дальней целей, была у Корнелия цель общая: жить. Жить вот так, с риском, с неожиданными событиями, со смыслом. Со вкусом. Ощущать эту жизнь каждым нервом. Замечать каждую мелочь, радоваться каждой искре солнца после дождя, каждому глотку во время жажды («Каждой улыбке Анды, а?»). После полуобморочных дней и ночей тюрьмы он очнулся и теперь испытывал ребячье любопытство ко всему сущему и к будущим дням. Оно было похоже на радостный озноб… Однако в самой глубине души у Корнелия жило опасливое понимание, что эта бодрость, этот счастливый настрой могут оказаться недолгими. И опять придет уныние, неуверенность. Страх… Постоянную твердость можно было обрести, лишь увидев Петра. Поэтому так нетерпеливо и стремился Корнелий в храм Девяти Щитов. Конечно, в этом тоже был эгоизм: при свете дня он рисковал привести к потайной двери «хвоста». Но Корнелия успокаивало то, что ни Мохов, ни Кир его особо не отговаривали.
Кир сказал:
— Если что, возвращайся сюда.
Естественно, — серьезно кивнул Корнелий. Если что, деваться ему больше некуда.
…И вот теперь он шагал оврагом по еле заметной тропинке в кустах и сырых сорняках. Высоко над ним, среди заросших откосов, была ясная синева и белые клочья облаков. Не верилось, что совсем рядом гудит, суетится, сверкает стеклянными этажами, шуршит миллионами шин громадный Реттерберг. Тот сверхблагоустроенный человеческий муравейник, в котором десять дней назад (или сто лет назад?!) преуспевающий рекламщик-компилятор Корнелий Глас вел привычное существование благонамеренного гражданина Западной Федерации.
И вот уже несколько суток он живет в другом городе. Совсем в другом. Теперь это город старых переулков, оврагов, запущенных садов, развалин и лачуг. Воистину многолик ты, Реттерберг, самый древний по возрасту и первый после столицы город страны… А может, в самом деле произошел какой-то перехлест пространств — и теперь здесь уже не Реттерберг, а иной, неведомый мир? В это трудно моверить, но еще труднее представить, что совсем недалеко ©тсюда аллея Трех Садоводов и дом под красной крышей, где электронный привратник все еще помнит индекс своего хозяина… И где в специальном контейнере для почтовых посылок, рядом с крыльцом, лежит упакованная в казенную бумагу пластиковая урна с горсткой золы — все, что якобы осталось от Корнелия Гласа из Руты…
А почему «якобы»?
Наверно, следует придумать другое имя…
Впрочем, это потом. Сначала — увидеть Петра. Вот уже и каменный мост показался за чащей кустов. Подождать, когда помчится со свистом поезд, выскочить из кустов, нырнуть под арку…
Корнелий притаился среди влажных листьев черемухи. Нащупал в кармане ключ. Там же два маленьких круглых предмета, значок и монетка. Значок он отдаст Петру. Монетку — Цезарю, когда найдет его. Людям трудно жить без талисманов…
Про монетку, кстати, Корнелий сказал Киру: «Если кто придет и покажет эту денежку, значит — от меня. Приюти…» Зачем так сказал? На всякий случай. Мало ли что…
Ну, все, пора…
Блестящая сигара головного вагона с воем вылетела на мост.
Ключ повернулся легко, дверь отошла и закрылась мягко. Едва ли кто видел Корнелия. Л если и заметил, то что? Рабочий в старом свитере полез проверять трубы…
В подземном коридоре по-прежнему горели неяркие светильники, пахло сухим камнем. И тишина была необычайная. Никто, конечно, не встретил Корнелия.
Он вышел из тоннеля в боковом приделе храма, за мраморной пирамидой с латинскими надписями. Все так же мерцали огоньки, а высоко вверху синело в узких окнах утро. Строгие глаза Хранителей смотрели из полумрака с мозаичных стен.
С нарастающей тревогой Корнелий пересек придел и за украшенным тускло-серебряными щитами алтарем отыскал дверь в келью Петра.
Келья была пуста.
Это, конечно, ничего не значило. Петр мог быть сейчас в любом из помещений храма, громадного, как город. Скорее всего, он вышел ненадолго: лампа в нише горела. Следовало сесть и терпеливо дождаться его — это самое разумное. Но растущее беспокойство не дало Корнелию усидеть на месте. Нервно потоптавшись посреди кельи, он вышел.
Шагал Корнелий крадучись, хотя чувствовал: никого под исполинскими сводами нет. Держась у стены, он добрался до центральной части храма. Здесь было светлее. Лучи косо били в широкое узорчатое окно слева от главного алтаря. От этого окна к закрытому тяжелой решеткой входу тянулись по каменному полу солнечные полосы. В их свете вишнево пламенела сутана лежащего на плитах человека.
Настоятель Петр упал в пяти шагах от решетки. Правая рука протянулась вперед, и в тонких пальцах сжат был длинный автоматический пистолет.
Корнелий, цепенея, стоял несколько секунд над Петром. Потом стремительно присел — сработал инстинкт самосохранения. Сжавшись, Корнелий глянул вдоль руки с пистолетом — за решетку.
Но на лестнице перед храмом было, пусто. И на всем пространстве, видимом за скрещенными брусьями, было пусто. Так пусто и тихо, словно обезлюдел весь город…
Кто же тогда стрелял в Петра? Зачем? Хотели взломать решетку, а он не подпускал? Или убили просто в отместку?
Корнелий встал на колени. Разжал на пистолетной рукояти пальцы Петра. Они были остывшие. Желтые и твердые, как слоновая кость.
Пистолет оказался обычный армейский С-2, но с длинной граненой муфтой глушителя на стволе. От ствола тянуло порохом. Корнелий вынул обойму. Израсходовано было четыре патрона. В магазине осталось семь да один в казеннике. Корнелий поставил спуск на предохранитель (учили на сборах), неловко затолкал С-2 в левый карман, мельком подумав, что могут разбиться очки. Он двигался механически. Он опять словно раздвоился. Один Корнелий мычал от тоски и отчаяния, от безнадежности и жалости к Хальку, второй действовал сухо и методично.
Взяв за плечо, Корнелий перевернул Петра на спину. Вишневый шелк сутаны с легким треском отклеился от густого пятна полуспекшейся крови, которая натекла, видимо, из раны в груди. Волосы у Петра были растрепаны, губы сжаты с мальчишечьим упрямством. Корнелий вспомнил, как маленький Альбин Ксото прижимался к стене, но не отступал, когда приближались одноклассники-мучители…
Ясным взглядом, почти по-живому осмысленно Петр смотрел на Корнелия. Корнелий сделал усилие, протянул пальцы к векам Петра, зажмурился и закрыл ему глаза. Теперь Петр словно заснул. Стало чуть легче.
Корнелий поднял Петра на руки. Что-то тяжелое, железное упало из складок сутаны. Обойма. Запасная… Что же, спасибо, Петр. Спасибо, Хальк… Корнелий опустил Петра, поднял обойму. И снова взял Петра на руки. Он смутно помнил, что в боковом приделе храма есть возвышение, похожее не то на широкое надгробие, не то на старинный мраморный стол. Надо положить Петра туда. Через два дня придет смена. Служители храма похоронят своего товарища по обряду, который полагается для слуги Святых Хранителей, выполнившего свой долг…
«Не для слуги — для солдата…»
Петр был легкий, как мальчишка. И Корнелию представилось, что несет не настоятеля Петра, а маленького Альбина, который повредил ногу, прыгая с расщепленной ветлы на берегу озера. Так было однажды…
Корнелий медленно и долго шел по солнечным полосам, а решетка входа была у него за спиной. Опять показалось, что могут выстрелить. В затылок. Но он не решился ускорить шаги, словно это могло отозваться болыо в подвернутой ноге мальчика Халька…
«Пусть стреляют. Все равно…»
«А Цезарь?..»
Он свернул в темный придел. В нише, окаймленной мигающими звездочками, смутно светился беломраморный монолит. Корнелий положил Петра на холодную плоскость. Закрыл длинной сутаной носки побитых, старых туфель. Крылатую накидку на груди поправил так, чтобы не видно было крови. Хотел сложить на груди руки, но они не сгибались и легли вдоль тела.
Возвышение было чуть меньше метра от пола. По краю шел резной каменный карниз. Корнелий стал на колени, лбом лег на мраморные листья и цветы. Раздвоенность исчезла. Но не было в душе и прежнего отчаяния. Печаль была большая, да. Но без прежней черной безнадежности.
«Прости, — сказал Корнелий. — Если это из-за меня, прости… Но ты ведь сам выбрал такую судьбу и не зря носил пистолет… А я спасал не себя, я ребят спасал… То есть сначала себя, но потом — их… Они ушли, а я остался, я вот он. Я не знал, что уже поздно…»
Теперь поздно было жалеть, каяться и оправдываться. И никогда он не расскажет Петру о том детском страхе, об измене.
«А может, ты знал?.. Ты, наверное, знал, Хальк. И наверно, простил… Да?..»
Казалось, мраморный монолит еле ощутимо шевельнулся. В самом деле… Камень тихо, почти незаметно опускался, и Корнелий понял, что склоняется все ниже… И пришла откуда-то тихая, как дыхание, медленная музыка.
Вот, значит, что. Сам того не ведая, он положил Петра в погребальную нишу и заработали в толщах старого храма механизмы.
Теперь камень с лежащим Петром уходил вниз уже быстрее. Корнелий поднял голову, уперся ладонями в пол. Желтая лампада вспыхнула в нише, осветила лицо настоятеля Петра…
Надо было что-то сказать. Или подумать. Может быть, молитву какую-то?
«Петр… Альбин… Хальк… Если в том мире, куда мы уходим после нашей жизни на земле, люди что-то помнят и чувствуют, не держи на меня обиды… Пусть тебе будет хорошо и спокойно…»
Краем сознания он отметил, что это не его слова, а из какого-то старого фильма, где показан был печальный обряд горного древнего племени. Но что же теперь, если нет ничего своего и вся жизнь была только глядением на экран? Пусть кино, пусть сентиментальные слова, но теперь они были искренними и нужными…
Мраморная плоскость, на которой лежал Петр, поравнялась с полом.. И тогда Корнелий спохватился.
— Подожди, — прошептал он суетливо. Зашарил в кармане, выхватил значок, положил Петру на грудь. — Вот…
И подумал: «Не надо было тебе, Хальк, расставаться с талисманом… Но кто же знал…»
Он едва успел убрать руку. Камень с Петром быстро ушел в глубину, и открывшийся прямоугольный провал тяжело задвинула чугунная плита (зажужжали в невидимых пазах ролики).
В свете желтой лампады на плите виднелись старинные выпуклые буквы. Корнелий прочитал и быстро встал. Вот что было написано:
«Оставьте скорбь. Он исполнил меру своих дел. Пока живы, стремитесь к тому же».
Корнелий поддернул брюки: они обвисли от тяжести пистолета, ключа и обоймы. Он поменял содержимое карманов местами: ключ, монетку положил в левый карман, а пистолет в правый (и опять подумал: не раздавить бы очки, подарок Анды).
Пусто было вокруг и тихо, как в широком безлюдном поле. Только словно далеко-далеко играла печальная свирель. Корнелий испытывал странное чувство свободы. Впервые не было в нем никакого страха. По крайней мере, за себя.
Свитер на груди оказался в мазках и сгустках бурой крови. Корнелий стянул его и, пройдя подальше от моста, затолкал в гущу белоцвета. Остался в белой майке с рукавами.
Солнце светило вдоль оврага и уже высушило траву. Но запах стеблей и листьев был по-прежнему густым и горьким, как сама печаль. Корнелий глотал его, как в детстве глотают застрявшие в горле слезы. Но, кроме горечи, было в нем еще одно чувство, необъяснимое и спорящее с утратой. Словно сбоку и чуть позади шагает, не отставая, светлоголовый худой мальчишка с вельветовыми лямками на коричневых плечах. Путается тонкими ногами в траве, стирает с губ прилипшие семена белоцвета и поглядывает на Корнелия с непонятным вопросом.
Иллюзия была так велика, что Корнелий оглянулся — не отстал ли Хальк?
Не было Халька… Был другой мальчишка, но не этот и не здесь. Найти его и помочь ему оставалось теперь единственной целью. Последним смыслом существования. О прирученных молниях Корнелий уже не думал.
Цезарь жил в районе Малого Кронверка, на Второй Садовой линии. В доме номер одиннадцать. Этот адрес (а точнее, адрес штурмана Лота) выдала Корнелию супермашина в таверне у Мохова, связавшись в течение нескольких секунд со справочной службой.
Ничего, кроме адреса, у Корнелия не было. Ни уверенности, что Цезарь дома, ни планов. Ни точных мыслей. Только глубоко сидящая боязливая догадка, что Цезарь нужен ему, Корнелию, пожалуй, больше, чем он Цезарю…
Корнелий надел очки, выбрался из оврага и пошел к станции монорельса. На него не смотрели. Подумаешь, вырядился помятым бичом! Все равно не настоящий. Люди привыкли, что у некоторых мужчин есть такая мода — в отпуск или на выходные одеваться, как безындексные бродяги…
Вторая Садовая линия была обычной улицей одноквартирных особнячков средней цены. Вроде аллеи Трех Садоводов, где когда-то жил Корнелий.
Выйдя на линию, Корнелий впервые подумал с большой тревогой: «А если не найду его здесь, тогда что?»
Но среди долгих бед и горестей судьба дарит иногда вспышки необыкновенных удач. Цезарь шел навстречу.
Он шел издалека, по середине горячей плиточной мостовой. Время близилось к полудню, улица в своем дремотном зное была безлюдна. Только мальчик шагал по неласковому солнцу одиноко и беззащитно.
Корнелий узнал его сразу, хотя одет был Цезарь совсем не так, как раньше… В синих блестящих трусиках, окантованных белым галуном, в бело-голубой безрукавке, наде той на рубашку со шнуровкой ворота, в сандалиях .. Но нельзя было не узнать этот серебрящийся на солнце шар волос.
Со стороны показалось бы: благополучный мальчик вышел из благополучного дома погулять и беззаботно топает по солнцепеку. Но Корнелий настороженными нервами сразу ощутил скрытливость и ощетиненность мальчишки. Корнелия Цезарь не замечал тот шел по краю улицы, в тени. Пора было выйти на дорогу. Чтобы Цезарь узнал его, Корнелий сдернул очки. В тот же миг его толчком остановило предчувствие стремительной беды.
И беда не замедлила случиться.
С другой стороны улицы, из-за ствола большого вяза, вышел навстречу Цезарю плечистый мужчина с крепким затылком. В черных штанах и крагах, в песочной рубашке с погонами и летней унтер-офицерской пилотке.
Цезарь замер, дернулся, словно побежать хотел. Не побежал. Стоял, расставив ноги-прутики, согнув локти. Корнелий был уже близко и увидел на лице его упрямство и отчаяние.
Улан что-то сказал вполголоса, взял Цезаря за локоть. Мальчик выгнулся, рванулся, вскрикнул — негромко и неразборчиво. Метнулся взглядом по улице, словно спасителя ждал. И тогда увидел Корнелия — тот подходил со спины улана широкими неслышными шагами. Вскинул к губам снятые очки.
Чек — вот умница! — ничем не выдал Корнелия. Только радость метнулась в глазах. Тут же он дернулся опять, старательно закричал:
— Пустите, что я вам сделал!
Улан ухватил его . двумя руками, прогнул спину…
На последнем шаге Корнелий вырвал из кармана пистолет и впечатал граненый глушитель под левую лопатку улана.
— Стоять. Руки в стороны…
Сержант оказался опытный: вмиг понял, что трепыхаться себе дороже. Выпрямился, закаменел с раскинутыми и обвисшими, как перебитые крылья, руками (Цезарь отпрыгнул, шлепнулся, вскочил).
Не делая попытки оглянуться, сержант негромко сказал:
— Что такое?
— Не шевелиться… — Корнелий расстегнул висевшую на черном уланском заду кобуру и выдернул увесистый «дум-дум». Очень мягко попросил Цезаря: — Чезаре, малыш, отойди в сторону, подальше… — Потому что сержант мог выбрать мгновение, схватить мальчишку и закрыться им. Цезарь, не отрывая веселеющих глаз от Корнелия, быстро отбежал.
— Что такое? — уже резче спросил сержант.
— Молчать. Пять шагов вперед по прямой. — Корнелий слегка надавил пистолетом.
Сержант, как на строевой подготовке, твердо и широко шагнул пять раз. Сердито поинтересовался:
— Теперь могу я оглянуться?
— Можете… Ва! Да это штатт-капрал Дуго Лобман! Виноват, сержант. С повышением вас… Очевидно, за доблестные схватки с детьми?
— Что вам нужно? Я вас не знаю, — набыченно и без боязни сказал Дуго Лобман. — Вы рехнулись? Нападение на улана, занятого особой службой… Вы хоть соображаете? Дайте сюда пистолеты.
— Стоять… — Корнелий качнул стволами. — Особая служба — это охота за детишками?
— Вас не касается!.. А, я вас вспомнил! Вы один из тех хлюпиков на сборах! Га-аспада интеллигенты… Корнелий Глас! Верно? Я сейчас уточню ваш индекс…
— Стоять!
— Не вякайте… — Дуго был явно не трус. — И не махайте оружием. Вы и в мишень-то не могли попасть, а в человека… Чтобы выстрелить в живого человека, нужно иметь твердость, а не интеллигентскую жижицу… Выстрелите, да еще, не дай бог, попадете — и будете всю жизнь терзаться угрызениями… — С этими словами Дуго направил на Корнелия висевший на поясе уловитель индексов.
Цезарь вдруг метнулся, встал рядом с Корнелием, выбросил вперед изогнутую ладонь со сжатыми пальцами, словно хотел защитить Корнелия от прибора.
Лицо у Дуго стало озабоченным.
Не действует? — участливо спросил Корнелий.
— Черт!.. Где я его грохнул?.. А вы не радуйтесь, я уточню ваш индекс по спискам в штабе… господин Корнелий Глас… из Руты, кажется?
— Именно кажется. Уловитель ваш в порядке, а я не Корнелий Глас из Руты. Глас казнен. А я человек без индекса по имени Петр Ксото. — Это он сказал неожиданно для себя. И мгновенно вспомнил желтые пальцы Петра на пистолете.
— Не валяйте дурака! Отдайте пистолеты — и руки на затылок!.. Или стреляй, черт возьми, скотина!.. — Лицо Дуго искривилось, как резиновая маска.
— Ни то ни другое, сержант. Пистолеты вы не полу чите, пойдете сейчас прочь… Не советую рассказывать про меня. Лучше сообщите командиру, что потеряли оружие при пьянке. Это принесет вам крупные неприятности, но меньше, чем если узнают правду: сдать пистолет при выполнении задания… Тогда шансов меньше половины, а?
— А у тебя какие шансы? И зачем тебе мальчишка? Или ты… — Он вдруг заухмылялся, и Корнелий резко двинул вниз предохранитель С 2.
— Марш вдоль улицы — и не оглядываться! Или я стреляю на счете «три». Можете думать, что это от интеллигентской нервности… Корнелия вдруг мелко затрясло. — Пистолет с глушителем, никто не услышит… Ну… Раз…
Дуго, нагнувшись, посмотрел ему в лицо, повернулся и тяжело пошел по плитам.
Корнелий сунул в карман уланский «дум-дум», свободной рукой взял Цезаря за плечо, потянул его в тень. Оттуда в заросший садовыми джунглями переулок — проход между заборами. Потом под откос, к дощатому, совсем деревенскому мосту через ручей… Оказалось вдруг, что уже не он ведет Цезаря, а Цезарь тащит его за руку по темной, непробиваемой для солнца аллее.
— Скорей… Тут близко дорога, по ней ходят частные таксокары.
— У меня нет денег, — выдохнул Корнелий.
Цезарь на бегу выдернул из кармана на трусиках желтую бумажку.
— У меня есть десять марок… Спрячьте пистолет…
…Похожий на громадную божью коровку «пилигрим» послушно остановился у травянистой обочины. Цезарь влез в машину первым, весело сказал таксисту:
— Нам на перешеек, Артиллерийская улица… — Повернулся к Корнелию: — Дядя Петр, мы заедем за моими удочками, а потом, как договорились, на вокзал… Ох, да не бойся ты, пожалуйста, мы успеем… — Резвый, слегка избалованный мальчик, собравшийся, видимо, со своим пожилым неряшливым дядюшкой за город…
Через полчаса они шагали по перешейку, соединявшему город с широким скалистым мысом. На мысу был неухоженный и нелюбимый горожанами парк. На перешейке росли сосны, душно пахло разогретой смолой. Пистолеты оттягивали карманы, царапали сквозь подкладку ноги. Корнелий взмок от духоты. Но послушно и молча шел за Цезарем.
Цезарь заговорил первым:
— А где ребята?
— Наверно, уже там. — Корнелий сам удивился сухости своего тона.
— А вы?
— Что я?
— Не ушли с ними?
— Как видишь…
— Почему? — Глаза у него были зеленые, скулы не по-детски заостренные, рот после каждого слова сжимался твердо.
Можно было ответить: «Я обещал увести на Луга всех ребят, а увел не всех, ты остался…» Можно было проще: «А кто тебя, дурака, выцарапал бы из лап Дуго Л обмана?»
Корнелий сказал с досадой:
— А чего мне там… Ты вот тоже не пошел.
— Сравнили… — дернул плечом Цезарь. И вдруг словно опомнился, глянул, как обычный провинившийся мальчишка. Сказал тихо и торопливо: — Извините меня, пожалуйста…
— Пожалуйста, — усмехнулся Корнелий, моментально оттаивая.
Они встретились глазами. И Корнелий опять поймал себя на желании провести ладонью по щетинистому шару прически Цезаря. И на уверенности, что Цезарь тогда улыбнется и станет славным, добрым мальчуганом… Но не решился, только рукой качнул. А Цезарь, потупясь, проговорил:
— Если бы не вы, сержант скрутил бы меня…
— Видимо, за тобой следили…
— Видимо… Я вчера пробрался домой, там никого. Бим наглухо отключен. Включил — а он меня даже не узнал… Позвонил папиным друзьям, они говорят: «Кажется, папа и мама уехали в столицу, хлопотать за тебя». А еще говорят: «Вернись в школу…» Но я остался, переночевал…
— Может быть, эти.,, знакомые т?ои и сообщили уланам, что ты дома?
— Не хотелось бы так думать, — очень серьезно отозвался Цезарь. — Скорее, уланы догадались сами, это нетрудно… Не надо было оставаться на ночь, но я все ждал: вдруг мама и папа вернутся?..
— А потом?
— Утром решил ехать в столицу, искать их…
Жалость резанула Корнелия: совсем малыш.
— Один? Почти раздетый, с десятью марками?
— Я больше не нашел дома денег. Думал, проскользну без билета. А вещи в дорогу я взял… Не считайте, что я такой уж глупый… Сложил в туристский ранец, перекинул через забор в переулок, а сам вышел через калитку. Хотел сперва осмотреться, а потом подобрать…
— Значит, боялся, что следят?
— Конечно…
— Боялся, а топал посреди улицы, — с мягким упреком сказал Корнелий.
Цезарь честно шмыгнул носом:
— Когда прячешься, еще страшнее…
— Пропал твой багаж. Теперь туда возвращаться нельзя.
— Разумеется… Разве что ночью.
«И ночью нельзя. И вообще нельзя тебе в городе, Чек… Путь один — в таверну «Проколотое колесо».
Но интуиция говорила Корнелию, что в таверну следует идти лишь в сумерках.
— Чек… Чезаре… А куда ты сейчас меня ведешь?
— В парк. Я в нем все места знаю, мы с папой любили там гулять…
— Но… сейчас-то нам не до гулянья, а?
— Там есть остатки старого форта. С подземельем. Про него мало кто знает, а мы с папой лазили… Там глубоко, уловители не возьмут, можно отсидеться… А я буду приносить вам еду.
Лишь сейчас Корнелий понял: Цезарь спасает его! А тот насупленно сказал взрослую фразу:
— Я не могу допустить, чтобы вы снова рисковали ради меня.
— Господи, Чек… Но при чем здесь подземелье? Ты же видел: уловитель меня не берет.
Они миновали седловину перешейка, и начался подъем. Сухая хвоя скользила под ногами. Цезарь слегка обогнал Корнелия и теперь оглянулся. Спросил — и виновато, и снисходительно:
— Вы думаете, я могу обезвредить все уловители? Даже локаторы?
Видимо, изумление отчетливо изобразилось на лице Корнелия. Цезарь остановился.
— Или… вы думаете, что у вас по правде исчез индекс? Я просто отключил у сержанта уловитель.
Да!.. Выброшенная вперед ладонь (похожая на ту, что венчает храм Девяти Щитов, только маленькая), выгнутая в защищающем порыве… Неужели правда? Он это может? Или фантазия мальчишки?
Корнелий пальцами собрал складки на лбу. Зажмурился. Сто вопросов, путаница догадок… Постой, не испугай мальчика…
— Что с вами… господин Корнелий?
Он выдавил улыбку:
— Ничего… господин Цезарь. Просто удивился. И давно ты научился так шутить с уловителями?
— Да я и не шутил… Сперва я просто открыл, что могу издалека зажигать и выключать лампочки. Потом электронные часы остановил. Протянул руку и… Мне от мамы тогда попало… А уловитель был папин, служебный. Я не вытерпел, попробовал. Он — крак… Папа не сердился, только велел молчать про это… Ох, а я проболтался вам…
— Я клянусь молчать.
— Да, пожалуйста, — вздохнул Цезарь.
Духота измучила Корнелия. На подъеме противно заперестукивало сердце, майка прилипла к спине. К счастью, скоро они вышли на край мыса. На стометровый, покрытый кустарником обрыв. Отсюда видно было Заречье, Славянский и Пристанской кварталы с невысокими домами и редкими стеклянными коробками офисов. Затем — зелень дачного пояса, а потом поля с гребенкой отдаленной лесополосы… И летел из-за реки живой, прогоняющий удушье ветерок. Корнелий сладко и старательно отдышался. Цезарь терпеливо стоял рядом. Но кажется, слегка нервничал. Корнелий глянул на него, потом по сторонам… И вздрогнул: в кустах заметил человека. Но через секунду понял: скульптура. Это была небольшая, в натуральный рост, фигура мальчика из чррно-зеленой бронзы. Мальчик — босой, длинноволосый, в мятых штанах до колен и широкой матроске — стоял на низком, затерянном в траве постаменте. Смотрел за реку. Скульптор сделал его изумительно живо. Волосы были отброшены ветром, воротник и галстук матроски словно трепыхались.
Кто же это? Откуда он? Сколько лет стоит здесь, что высматривает в заречных далях?
Казалось, до скульптуры ли? Но Корнелий не устоял перед любопытством. Тронул Цезаря за плечо и пошел ближе к бронзовому мальчику. Цезарь — следом.
Лицо мальчика оказалось задумчиво-сосредоточенным и славным. Корнелий подумал, что при жизни этот парнишка был, наверно, светловолосым и голубоглазым…
Цезарь нетерпеливо вздохнул рядом.
— Подожди, — попросил Корнелий. Было в этой скульптуре что-то напоминающее, неслучайное. Намек какой-то? Может, мальчик похож на маленького Альбина Ксото? Нет, пожалуй. Но…
— Извините, но нам лучше пойти, — насупленно сказал Цезарь. — Локаторы…
— Сейчас… Цезарь, это кто? Ты не знаешь?
— Папа рассказывал, что это памятник. Будто давным-давно этот мальчик спас город, посадил на мель вражескую канонерку. Его хотели даже записать в Хранители, но кто-то заспорил…
— И не записали?
— Одни считают, что он Хранитель, другие и сейчас не согласны… Его звали Галиен Тукк… Разве вы не слыхали?
— Представь себе, нет… А почему кто-то не согласен?
— Говорят: разве один мальчик может спасти целый город? Говорят, неправда…
«Один мальчик может спасти целую страну. Если получится… Нет, пока рано об этом…»
— Наверно, может все-таки. Ведь Юхана-трубача причислили к Хранителям… Кстати, возьми свою монетку. Это же оло, да? Когда теряется такой талисман, человеку бывает плохо, я видел…
Они посмотрели друг на друга, в глаза. Цезарь прочно зажал монетку в ладони. И сказал очень-очень серьезно:
— Спасибо. Но все-таки пойдемте в подземелье. От локаторов не спасет никакое оло.
«Зачем я мучаю мальчишку?» — спохватился Корнелий.
— Пойдем… Чезаре.
От форта остались фундаменты. Засыпанные, заросшие татарником. На скате плоского бугра, между каменным выступом и косо вросшей в землю гранитной плитой, Цезарь раздвинул могучие сорняки и показал черную щель…
Подземелье оказалось чем-то вроде сводчатого кирпичного погреба. Довольно сухого. Сверху, в пробоину свода, падал очень яркий луч. От него расходился отраженный рассеянный свет.
Первыми ощущениями были сладкая прохлада и защищенность. Корнелий оглянулся, присел на груду битого кирпича у стены. Цезарь стоял посреди погреба. Деловито поджимал то одну, то другую изжаленную ногу, дышал на ладони, проводил ими по волдырям и царапинам. Те исчезали, как смытые…
«И никаких шаровых молний… Однажды, наверно, у него зачесались бугорки — следы прививки, в детстве бывает такое. Он дохнул на ладонь и провел по ним…»
Цезарь посмотрел на Корнелия. Встал прямо. Серьезный и почему-то слегка виноватый. Некрасивый: с длинными руками, с большой головой, с чересчур крупными коленками на тонких ногах, с этой неисчезающей твердостью на скулах. Вот если бы одна улыбка! Чтобы снять заколдованную угловатость и каменность… Но Цезарь смотрел без малейшей теплой искорки.
И Корнелий проговорил тоже с холодной ноткой:
— И что же ты думаешь делать дальше?
Цезарь знал, что делать дальше.
— Ночью я проберусь к дому. Возьму ранец с вещами и едой. Вам надо прожить здесь около недели. Тогда бросят искать, выключат локаторы. И вы уйдете туда… где ребята.
— А ты?
Он шевельнул плечом.
— Конечно, я буду с вами, пока вы здесь.
— Зачем?
Пищу приносить и воду… Охранять… А как же еще?
«Малыш ты мой…» — подумал Корнелий, но сказал сухо:
— Это же не кино с приключениями…
— Да. Но вы меня спасли. Я тоже должен…
— Ну… ладно. А потом?
— Потом поеду в столицу. Искать маму и папу.
— Господи! Где ты их найдешь?
— Я… не знаю. — Цезарь вдруг глотнул, словно загонял в себя слезы. Дернулось тоненькое горло. — Но… надо же что-то делать! Я без них не могу…
Корнелий быстро подошел, взял Цезаря за маленькие, холодные ладони. Тот не сопротивлялся. Только от пальцев словно шел слабый покалывающий ток.
— Чезаре… Чек… А если мы поедем в столицу вместе?
— Но вас же моментально схватят! — Цезарь выдернул ладони.
— Извини, я не сказал тебе… У меня нет индекса. Не стало. Как у тебя.
У Цезаря по-ребячьи мягко округлился рот. И в глазах — изумление, недоверие. А потом понимание: «Да, правда…» Он сказал с жалобной усмешкой:
— Значит, я зря отключил уловитель у сержанта.
— А ты уверен, что отключил его?
— Да, — вздохнул Цезарь. Помолчал и вдруг спросил еле слышно, словно преодолевая себя: — А вы… сами его сняли?.. Индекс…
— Нет… Впрочем, это особый разговор… — Корнелий посмотрел на щетинистую прическу Цезаря и проговорил осторожно: — Ведь если я спрошу, как ты убрал индекс у себя, ты, наверно, тоже не скажешь.
Дезарь опустил голову, прошептал:
— Я не имею права.
«И не надо, малыш. Пока не надо…»
Корнелий уже поднял руку, чтобы провести ладонью по его торчащим волосам. Но тут поехали вниз брюки — под тяжестью пистолетов. Корнелий чертыхнулся, подхватил слабый пояс. Выложил на кирпичи С-2, «дум-дум», запасную обойму, ключ… Столько железа…
Цезарь вдруг попросил:
— Можно я посмотрю пистолет?
«Ребенок все-таки», — обрадованно подумал Корнелий.
Он вынул из С-2 обойму, рывком затвора выбросил на пол патрон из ствола. Цезарь взял пистолет двумя руками. Покачал.
— Тяжелый… У папы тоже был, но не такой, а маленький.
Он сел на корточки, положил пистолет на колени. Вскинул глаза.
— Сколько всего люди напридумывали, чтобы убивать друг друга… Да? Смотрите, даже красиво… — Он провел пальцем по пластмассовому узору на рукоятке.
— Что поделаешь… — сказал Корнелий.
— А вы… правда выстрелили бы в того сержанта? Если бы он сопротивлялся?
Глядя поверх головы Цезаря, Корнелий сказал тихо и честно:
— Да.
— Я понимаю… Вас ведь тоже хотели недавно убить…
— Ты будто стараешься оправдать меня. Дело не во мне, Чек.
— Простите… Я понимаю, что вы меня спасали.
— Уланы убили моего… лучшего друга. За то, что он помогал таким, как ты и я… — Корнелию очень захотелось, чтобы Чек понял его тоску и бесстрашие.
Цезарь медленно встал. Но пистолет не отдал, держал у груди. В мальчишечьих руках длинный С-2 казался большим, как автомат. После долгого и скованного молчания Цезарь проговорил:
— Раз мы оба безындексные… может быть, пойдем отсюда на солнышко? В кустах нас все равно не увидят… А здесь как-то… — Он зябко повел плечами.
Измученный недавней жарой, Корнелий не пошел опять на солнце. Устроился в проеме входа, ведущего в подземный каземат. А Цезарь — в пяти шагах, на крошечной лужайке среди желтой акации и татарника. Сел на валун, уперся пистолетным стволом в колено, ладони и подбородок положил на рукоять. Покосился на Корнелия, объяснил смущенно:
— С оружием спокойнее, хоть и с пустым…
«Все-таки еще совсем дитя…»
Корнелий сказал:
— Мы тут как на необитаемом острове.
— Да… Только у Робинзона была пища и вода, а нам придется пожить здесь до ночи без ricero…
— Хотя бы до сумерек. Потом я знаю, куда идти. Там покормят и помогут.
— Ваши друзья?
Корнелий промолчал. Друзья ли? Не будет ли он с Цезарем обузой? И в гибели Петра не сочтут ли виновным его, Корнелия?
Цезарь это молчание понял по-своему:
— Вы, наверно, обижаетесь на меня…
— За что, Чек?!
— Я не сказал, как у меня пропал индекс…
— Ну и не говори… Мы многого еще не сказали друг другу. Придет время — скажем.
— Нет, я никогда не смогу… Если папа не разрешит. Я дал ему слово никому ни за что не говорить, как это случилось…
— И поэтому молчал на всех допросах?
— Да…
— Правильно. Если люди узнают, что ты сумел это сделать с собой, они поймут, что ты можешь убирать индексы и у других…
— Папа так и говорил… Но я все равно ни с кем такого не сделал бы! Это же все равно что убить человека!
— Ну, не совсем, — улыбнулся Корнелий и выбрался из щели. — Мы-то с тобой еще живы и помирать не собираемся.
«Штурман Лот понимал, какую взрывчатую силу несет в себе его сын. Какую опасность для Системы. И чем рискует мальчишка. Ведь уничтожат, не дрогнув, если узнают, что он может… Да, но с другой стороны, едва ли штурман Лот считает Систему справедливой. Человек такой отваги и ума — не обыватель, который жизнь проводит у стереоэкрана… Ох, как ты стал мыслить, Корнелий Глас… Не во мне дело… Штурман Лот сейчас, когда Система отобрала у него сына, может ее только ненавидеть…»
Корнелий сел на корточки рядом с Цезарем. У того по плечам бегали пятнистые тени от листьев. Цезарь выпрямился, посмотрел на Корнелия, отложил пистолет. На ноге, над коленом, от шестигранного глушителя остался красный след, похожий на отпечаток большой гайки. Цезарь дохнул на ладонь, провел ею по отпечатку, след мгновенно исчез.
«Цезарь -не Витька, не мальчик из другого мира. Вопроса о вмешательстве в дела другой страны не встанет… Но отец? Как повернутся его ярость и боль за несчастья с сыном? Если встретятся, не схватит ли он Цезаря в охапку, чтобы только спасти, укрыть, спрятать от всех?.. И если он это сделает, разве не будет прав?»
«Но надо еще, чтобы сперва они встретились!»
«А может, не надо? Не лучше ли ради высшей цели, чтобы Цезарь убедился в гибели родителей? Тогда-то он будет свободным от слова, которое дал отцу. И вся ненависть мальчишки обратится против машинной Системы…»
Пролетел над кустами ветерок. Случайность, конечно. Однако шуршание листьев напоминало шелест вишневой сутаны. Словно Петр прошел мимо, шепнув на ходу: «Опомнись, Корнелий…»
«Не бойся, Хальк, я все равно не способен служить великим целям… такой ценой. Чек сказал про отца с матерью: «Я без них не могу…» К тому же на беде ребенка не построишь счастливый мир…»
«Это опять не твои слова. Это говорил старый Вессалин Грах из фильма «Путь черного центуриона»…»
«Не все ли равно, кто говорил, если правда…»
— Цезарь… А надо ли спешить в столицу? Может быть, родители скоро вернутся? Лучше понаблюдать за домом…
— Вернутся? — Он горько покачал головой. — Я уверен, что их там арестовали.
— Да за что же?! Если они хотели только…
Цезарь! Эй, мальчик! Цезарь Лот!..
Этот высокий мужской голос раздался рядом с кустами. Цезарь стремительно побледнел.
— Ложись! — Корнелий толкнул его в плечо.
Цезарь мягко упал, завалился в чащу и лег плашмя, беспомощно выставив перед собой ствол пустого С-2.
Но был другой пистолет, полный патронов. Качнув его в ладони, Корнелий выпрямился. Медленно и тяжело ухало сердце. Тошнило. Круша сорняки, Корнелий шагнул навстречу голосу.
Вверх по склону ломился инспектор Альбин Мук.
— Стоять! — сказал Корнелий, отводя предохранитель.
— Стоять! — сказал он и подумал: «Лишь бы Цезарь не лежал, удирал скорее… А куда?», — Не двигайтесь, господин инспектор. И скажите вашим помощникам, чтобы тоже не двигались.
— Корнелий! Господи, вот удача-то!.. Да один я, один, убери пушку!
— Я подожду убирать… Зачем вы нас преследуете? (Глупый вопрос.)
— Да не вас, а мальчишку!.. Тебя я и не чаял увидеть! Пацана искали! Сперва послали этого идиота Дуго, а через час его нашли в пивной. Лыка не вяжет кретин, оружие посеял… Я пошел сам… И вдруг — ты! — Альбин Мук почему-то сиял.
— Ты что-то врешь, инспектор, — тяжело сказал Корнелий и прошелся взглядом по кустам: нет ли улан? — Нельзя так быстро выследить человека без индекса.
— Да по «пятнашкам» же! Пыль такая излучающая. Вчера насыпали вокруг дома, пацан и наследил… Да черт с ним, главное, что ты нашелся! Это же просто счастье!
— Я не уверен, что это счастье для меня. Да и для тебя тоже… — Корнелий опять качнул пистолетом. — Иди-ка обратно, инспектор Мук…
— Да ты же ничего не знаешь! Послушай! Ты оправдан! Ты ни в чем не виноват, это все твой дружок подстроил! С бумагой-то! Рибалтер!..
Поворот над обрыврм
— Кто? — слабея переспросил Корнелий.
— Рибалтер! Пошутить решил, сукин кот! Изготовил бланк, нарисовал печать, подсунул бумажку в ящик!.. Весельчак, а? Ну, сейчас он не веселится…
Интересно, что Корнелий поверил сразу. Почти без удивления. Только усталость наваливалась все тяжелее. К счастью, рядом торчал из травы горбатый камень, Корнелий сел на него. Положил «дум-дум» на колено, однако так, чтобы ствол смотрел на Альбина.
— Расскажи, — тихо приказал он.
— Да что долго рассказывать! — ликовал Альбин. — Решил разыграть тебя, дурак!.. Хлебнул ты страху-то, а? Вот счастье, что я тебя не это… не того… А?! Думаешь, я в обиде, что ты меня по башке? Правильно ты меня! Зато я теперь в героях! Начальство определило: «Противился исполнению акции ин-ту-и-тивно! Спас человека. Во!.. А дружок-то твой каков, а?!
«Что ж, это в духе Рибалтера. Но…»
— Тут что-то не так, инспектор… — Корнелий говорил, отгоняя липучую сонливость. — Рибалтер мог, да… но не хотел же он, чтобы меня по правде кокнули. Почему он молчал столько дней?
— А сколько дней? Сперва он думал, что ты все разгадал и злишься на него. В понедельник тебя нет на службе — он затрепыхался: где Корнелий? А ваше начальство говорит: мы его в столицу отправили на три дня. Это потому, чтобы панику в вашей фирме не сеять. Оно уже знало, начальство-то, что ты приговоренный, мы сообщили… А через три дня тебя опять нету, он — к тебе домой. А там в приемном контейнере… урна с прахом, ха-ха… Дружок твой — с катушек… Потом отлежался, протрясся, побил себя кулаками по лысине и побежал каяться…
— Не смешно, — сказал Корнелий.
— Ну… не смешно. А все равно смешно, как он прыгал, когда узнал, что ты еще… не того. Даже во время приговора улыбался, скотина…
— Какого приговора?
— А ты что думал? Комиссия-то, от которой ты убег, она же была полная судебная коллегия. Тут же и вынесла на месте. В назидание всем. Такой же, говорят, миллионный шанс, как Корнелию Гласу из Руты. Только наоборот… Сидит сейчас под домашним арестом, ждет, когда Машина сыграет. Песенка его спета.
— Почему? Миллионный шанс…
— Да миллионный наоборот! Я же говорю! Один шанс из миллиона на спасение, остальные — кранты!.. Это же коллегия показательная, она не шутит!.. Да ты чего? Он же сам, дурак, виноват, заработал…
— Да я ничего, — вздохнул Корнелий. И прислушался к себе: нет ли жалости к Рибалтеру? Потом сказал: — Поздно…
— Что поздно?
— Все… Мне теперь много другого пришьют. Детей отпустил, инспектора при исполнении чуть не пришил, штатт-сержанта Дуго Лобмана обезоружил…
Альбин Мук весело присвистнул:
— Дак это ты его? Чистенько… Да ни фига, все будет списано! Это же нестандартная ситуация. Ты спасал себе жизнь. Сказано же, что несправедливо приговоренный имеет право защищаться любыми способами. Только вот что: пистолет, конечно, надо сдать…
— Подожду.
— Да не дури ты! Сдашь оружие — и топай домой. Ты же чист… а я к тебе вечером забегу, вспомним все, а? Мне теперь повышение в звании светит за твое спасение…
Боже мой, неужели правда? Можно прийти домой. Смыть грязь и пыль, бухнуться в кресло, включить кондиционер, дотянуться до пульта… одна кнопка — дверца бара, другая — включение экрана, третья — фильтры на окнах. И все страшное позади. Можно опять жить, как люди. Был нелепый сон. Тяжкий, путаный, глупый. И вспоминать эти дни можно будет именно как сон. Или кино… А из урны с золой сделать (х-хё, х-хё) пепельницу для вечно дымящего Рибалтера.
Ах да, Рибалтера уже не будет…
А Петра тоже можно вспоминать, как кино?..
А ребят?..
А Цезаря? Тоже только вспоминать?
— Слушай, Альбин… И никто с меня не спросит за ребят?
— А чего? Ну, разбежались… Поймают. А не поймают, так меньше забот. Вот только с этим сложнее… с Цезарем Лотом.
— Да! Я могу взять его к себе? Домой?
— Ты что?.. — угас Альбин. — Это никак… Ну, тут я не решаю. Мальчишку велено вернуть… Он здесь?
Корнелий знал, что здесь. Он ощущал за спиной незаметное колыхание кустов и понимал, что Цезарь притаился рядом.
— Тебе виднее, — хмуро усмехнулся Корнелий. — «Пятнашки»… Через уловитель берешь сигналы или особым прибором?
— Вот приемник. — Альбин шагнул ближе, протянул правую руку. На запястье мигал красным огоньком приборчик, похожий на часы. — Искрит, стерва. Значит, пацан где-то недалеко…
Корнелий встретился с Альбином глазами, потом оба посмотрели на пистолет.
Еще на что-то надеясь и оттягивая время, Корнелий спросил:
— Как же ты шел по «пятнашкам»? След наверняка прерывался. Автомобиль…
— Прерывался. Взяли сигнал через спутник.
— Сколько возни из-за бездомного пацана. Герои уланы…
Альбин тихо сказал:
— Корнелий, зачем тебе этот мальчишка? Всем рискуешь…
— Зачем — тебе не понять.
— Объясни.
— Постараюсь доступнее… Он ребенок. А вы его в тюрьму. А он хочет жить с родителями. Вот я и пытаюсь помочь. Не ясно разве?
Альбии грустно хихикнул:
— Ты дитя, хуже этого Цезаря. Его родителей сам черт не выцарапает на волю. Они же в Лебене.
— Где?
— В Лебене! Институт генной техники и нейроинженерии. Там спецотдел закрытого типа. Наверняка выкачивают у мамы с папой, не по их ли вине исчез у сыночка индекс. Не в наследственности ли дело.
— Не в наследственности! — вырвалось у Корнелия.
— Там узнают, в чем именно. Специалисты…
— Сволочи вы, — сказал Корнелий.
— Я-то при чем? Ну, посуди сам. Я же… — Альбин вдруг метнулся, упал на Корнелия, оба мертво вцепились в пистолет. Покатились. Альбин Мук был сильнее. Сопя, он выкручивал скользкий «дум-дум» из пальцев Корнелия, и пальцы слабели, и надежды уже не было. И вдруг Альбин выпустил пистолет, молча откатился в сторону. Сел, нелепо вскинув руки…
Корнелий быстро поднялся на колени. И увидел Цезаря. Тот стоял рядом, костлявый, маленький, беспощадный. Расставил ноги и держал наперевес, как ружье, свой С-2. Пустой. Альбин Мук не знал, что |пустой…
Цезарь ничего не говорил. Видимс), во время схватки он молча подошел и толкнул Альбина ногой…
— Встань, — сипло сказал Корнелий и встал сам. — Руки на затылок.
Альбин повиновался. Проговорил спокойно:
— Славно вы сработались, мальчики. Аж завидно… Только зачем тебе это, Корнелий? Ведь скоро найдут по индексу. Тогда не выкрутишься.
— Ищите… — выдохнул Корнелий. — Искать вам не переискать…
И вдруг понял: «А ведь электронный привратник даже не пустил бы меня домой! Не открыл бы калитку безынде!»
Он испытал сладкое, совсем неподходящее моменту чувство: смесь теплой печали, облегчения и благодарности судьбе, которая в лице шалопута Витьки лишила его индекса. Лишила обратного пути. Избавила от малодушных терзаний, от возможного дезертирства.
«Но ведь я решил раньше, когда еще не понял, что вернуться нельзя», — отметил он с ребячливым тщеславием. И опять посмотрел на инспектора Мука. Тот озадаченно мигал белыми ресницами.
— Идите… — проговорил Корнелий уже чисто, без хрипоты. — И запомните, инспектор: Корнелий Глас умер… Сними приемник, Альбин. И брось мне.
Альбин, темнея лицом, стянул с запястья браслет кинул под ноги Корнелию. Тихо попросил:
— Можно я пойду? Я не скажу, где вы…
— Который раз говорю: иди…
Альбин повернулся, сделал два шага. И, оглянувшись, вдруг произнес, будто через силу:
— Такие приемники есть и у других. Пусть мальчишка бросит башмаки да вымоет ноги, на них тоже «пятнашки»…
Корнелий больше не встречал Альбина Мука. И не понял, почему он предупредил беглецов. Не хотел, чтобы Цезаря поймал кто-то другой, не инспектор Мук? Или шевельнулось в нем что-то человеческое? Поди разберись…
Сандалии Цезарь сбросил в кустах, ноги сполоснул в бассейне тихого, еле журчащего фонтана. И теперь послушно, резво и молчаливо топал рядом с Корнелием. У того опять. от пистолетной тяжести обвисли брюки.
По древней парковой лестнице спустились к пристани для прогулочных катеров. Переехали через реку. За рекой монорельса не было. Сели на пузатый, шипящий, как старый пылесос, автобус. Редкие пассажиры косились на потрепанного дядьку и босого мальчика с репьями в торчащих волосах. Старый и малый, два обормота. Ну и времена, ну и воспитание… Впрочем, никто ничего не сказал.
Доехали до Серебряной рощи, пошли окраинными аллеями. Цезарь спросил наконец:
— Простите, куда мы идем?
— А? — откликнулся Корнелий.
Он думал о Рибалтере. Точнее, о Петре и Рибалтере. О людях, не похожих (ну совершенно не похожих) друг на друга. Ничем. Кроме одного: первый недавно умер, а второму тоже скоро предстоит умереть — от одних и тех же людей. Точнее — от людей Системы. Казалось бы, все логично: Петр сопротивлялся Системе и погиб с оружием в руках. Рибалтер нарушил закон и едва не погубил человека. Горько, но вроде бы объяснимо. Однако именно объяснимости Корнелий не чувствовал. Логика вставала на дыбы… О Петре Корнелий думал со спекшейся горечью, похожей на засохшую кровь. О Рибалтере — с едкой усмешкой и примесью печального злорадства. Потому что он знал, что будет делать дальше.
— А? — отозвался Корнелий (кажется, Цезарь снова о чем-то спросил). — Ты молодчина. Как ты его осадил… этого инспектора…
Цезарь жалобно поморщился:
— Это противно… Я пнул, а он… такой мягкй… И сразу откатился…
— Потому что увидел пистолет.
— Конечно… Простите, но куда мы все-таки идем?
— Идем туда, где нас никто не будет искать. К моему старому, доброму приятелю… Для начала я набыо ему морду.
Цезарь глянул сбоку — изумленно, тревожно и, кажется, чуть брезгливо.
— Это из-за его дурацкой шутки я оказался в тюрьме.
И чуть не отправился на тот свет… Ты ведь слышал разговор с инспектором.
— Я мало что понял… Только то, что мама и папа в Лебене. Это далеко?
— Это мы выясним. Подробно и по порядку… Но сначала…
— Сначала вы побьете того человека? — тихо спросил Цезарь. И словно отодвинулся.
— Только за то, что он такой идиот… А за то, что он сотворил со мной… Черт его знает, может быть, это и к лучшему…
«Но не будь этой шутки, не погиб бы Петр…»
«Но и тринадцать ребят я не увел бы на Луга-"
«Тринадцать… А сколько осталось?..»
«Но и Петр мог погибнуть не в этой, так в другой схватке!»
«А тебе легче от этой мысли?»
Цезарь опять сказал тихо и нерешительно:
— Я вот что подумал… Значит, я должен быть благодарен вашему приятелю.
— За что?!
— Если бы не он, мы бы не встретились. И вы не спасли бы меня…
— Возможно… И все же один раз я его тресну…
Но желание «треснуть» Рибалтера исчезло напрочь, когда Корнелий увидел его.
Казалось, Рибалтер постарел лет на двадцать. Лысина его сморщилась, как печеное яблоко. Отросшие букли на висках поседели. Крылышки больших ушей повисли сильнее обычного. Даже улыбка стала впалой, старческой.
И все же в улыбке была радость. Нерешительная и без удивления.
— А… Хорошо, что ты пришел. Я ждал… А как это ты без сигнала?
— Через щель в заднем заборе. Раньше я в ней застревал, а теперь, видишь… За калиткой, я думаю, следят.
— Чего за ней следить? Куда я денусь?.. Хотели сперва в тюрьму, а потом разрешили домашний арест. Теперь уже не долго… Корнелий, ты на меня не очень злишься?
— Какой же ты все-таки дурак, — сумрачно сказал Корнелий.
— Само собой… Ты ругайся, правильно. Я все-таки ужасно рад, что ты пришел… Я вообще безумно рад.
— Чему, сокровище мое?
— Ну… что ты живой. Пока я не узнал это, я вообще… Прихожу к тебе, а там урна… О, господи… — Поблекшие глазки Рибалтера заслезились.
— Да это был, безусловно, драматический момент.
— Ты смеешься, а тогда… Ну, ладно. Это что за мальчик?
— Здравствуйте, — прошептал Цезарь.
Они стояли в полукруглой гостиной Рибалтера. Цезарь рассеянно и неловко поглядывал на экзотическое барахло, раскиданное и развешанное по комнате: пестрые туземные маски с островов, оскаленный медвежий череп в углу, громадную модель римской галеры, старинные стоячие часы (подделка) ростом с великана… Но, глянув по сторонам, он снова устремлял взгляд на Рибалтера. И теперь они встретились глазами. Рибалтер часто закивал: «Здравствуй!»
— Славный мальчик. Откуда он?
— Мы вместе бежали из тюрьмы, — в упор сказал Корнелий.
— Как… бежали? Но тебя же…
— Подробности потом… Покорми мальчика, он с ног валится… И в дальнейшем своем поведении исходи из того факта, что укрываешь у себя беглых государственных преступников. Я говорю это без юмора. — Корнелий демонстративно выложил на колченогий (в стиле ампир) столик звякнувшие пистолеты.
— Да?.. Мне, собственно, уже безразлично, — тускло сказал Рибалтер. — А тебя тоже покормить?
— Позже. Я пока побеседую с дружищем Капусом.
— Хорошо… — Рибалтер взял вздрогнувшего Цезаря за плечи. — Пойдем. Как тебя зовут, мальчик?
— Это Цезарь, — сказал Корнелий. — Цезарь, это… дядя Рибалтер. Славный дядя, только излишне легкомысленный. К тому же сейчас он слегка расстроен. Ему не хочется помирать… Что, не хочется помирать, Рибалтер?
Тот откликнулся без обиды:
— Как тебе сказать… Конечно! Хотя… как вспомнишь, так и пожалеть-то нечего. Вот если бы все сначала…
— Ну, ты не вешай нос, старина, — усмехнулся.Корнелий. — У тебя же есть Шанс…
— Один из миллиона… Что ж, смейся, ты имеешь право. Ты через это через все прошел, а у меня все еще впереди.
— У нас много чего впереди, — сказал Корнелий. И увидел в поблекших глазах Рибалтера удивление. И капельку надежды. — Иди, иди. Покорми мальчика…
Оставшись один, Корнелий сел к панели. Она занимала правую часть плоской стены у двери. Тронул носком башмака педаль включения. Капус ожил, замерцал, в двух экранах открылась темно-серая глубина. По засветившемуся кругу сенсорного приемника сигналов пробежала цепочка нервных огоньков.
— Ну, чего надо? — с хрипотцой спросил Капур динамиком слева. Машина знала себе цену и вела себя фамильярно. Тем более что Рибалтеру это нравилось.
— Капус, дружище, это я, Корнелий. Ты меня помнишь?
— Я помню Корнелия… Но я не слышу индекса.
— Ты посмотри на меня… — Корнелий поднял лицо к линзе визуальной связи.
— Лицо похоже на физиономию Корнелия, только худое… Но где индекс?
— Индекс у меня исчез.
— Даже паршивые ржавые калькуляторы знают, что такого не бывает.
— Так не бывало, Капус. А теперь случилось.
— Не верю.
— Ну… вот тебе моя дактилоскопия! — Корнелий положил правую ладонь на сенсорный круг. — Читай. Чья это рука?
— Да… Вы действительно Корнелий… Чудеса.
— Бывают чудеса и похлеще… Не говори мне «вы», мы же старые знакомые.
— Хорошо. Чего ты хочешь? Просто поболтать со старым Капусом?
— Не просто, дружище. Ты мне поможешь решить одну задачку… Но прежде всего: ты не на контроле у службы безопасности?
— Я? С какой стати?
— У старины Рибалтера неприятности, за ним следят. Ну и тебя могут подключить к системе наблюдения.
— Н-нет… Я бы почувствовал. Ц не дырявая жестянка вроде «Альфы» или «Сириуса», у меня дублирующие нейронные схемы плюс независимый блок эмоций…
— Эмоции пока оставим, дружище… Что ты знаешь о Лебене? Городок такой…
— Абсолютно ничего не знаю. Связаться с информаторием Географического института?
— Свяжись, если уверен, что ты не на контроле.
— Корнелий! Я всегда говорю только то, в чем уверен, — назидательно сообщил Капус. — В отличие от трепача Рибалтера. Я его предупреждал, что он достукается до неприятностей…
— Я тоже. Но давай о Лебене… Постой. Меня, интересует Институт генной техники и нейроинженерии, есть там такой. А в нем закрытый спецотдел…
— По спецотделу мне никто не даст информацию…
— Ка-апус! Ты же не паршивая серийная машина, а супер индивидуальной настройки! Супер из суперов! — льстиво взвыл Корнелий. — Мне ли тебя учить! Вспомни, как ты добыл нам сведения о проекте застройки Нью-Селены и мы в рекламбюро вставили фитиль старому халтурщику Драблю!
— Да, это было… — В хрипловатом голосе Капуса скользнуло явное самодовольство. — Это называется «извлечение косвенных данных путем построения окружных и посторонних схем». Пришлось делать вид, что я интересуюсь историей мировой клоунады, а для этого якобы необходимо…
— Ясно, ясно. Вот и сейчас исхитрись…
— . Тогда помолчи, дружище Корнелий, я поработаю.
Корнелий положил на панель сжатые кулаки, лег на них лбом и стал думать ни о чем. Но сквозь рассеянные с)брывки мыслей пробивалось, как он нес Петра, Альбина Ксото, Халька…
— Готово, — чисто и официально произнес Капус. — Спрашивай.
— Содержатся ли в спецотделе люди против их воли?
— Такого вопроса, ты не ставил… Но, судя по работе данного отдела, могут содержаться.
— Какая там охрана?
— Обычная ведомственная охрана. Бежать все. равно невозможно.
— Конкретная тактическая задача: могут ли два человека проникнуть в институт и, угрожая оружием, потребовать вывести к ним двух заключенных, чтобы затем увезти их в машине?
— Это абсурд. Будет включе.на сигнализация, охранный отряд прибудет через… четыре минуты. Раньше, чем заключенных приведут.
— Тогда так: два человека предъявят документ, что они уполномочены забрать арестованных для сопровождения в столицу.
— Документ есть?
— Рибалтер состряпает. У него опыт, а у тебя отличный блок печати…
— Да, дружище Рибалтер это умеет… Все равно не выйдет. В институте потребуют подтверждения полномочий по прямой связи.
— В документе можно указать, что прямая связь исключается, дело сверхсекретное.
— Тогда возьмут индексы этих двух людей, проверят в информатории управления, и люди эти будут обречены.
— У этих людей не будет индексов.
— Как так?
— Капус, милый, не отвлекайся.
— Государственные служащие не могут не иметь индексов. Номер не пройдет.
— А если эти двое… попросят лишь о свидании с заключенными. Скажем так: по приказу управления привезли на свидание их маленького сына. Предъявят соответствующую бумагу… Будет тогда охрана проверять индексы?
— Тогда… скорее всего, нет. Вероятность девяносто четыре и семь десятых… Но что дальше?
— Дальше двое прибывших, используя момент внезапности, отбирают оружие у охраны… Это возможно?
— Допустим…
— Все пятеро — взрослые и мальчик — садятся в машину. Задача: домчаться сюда, в Реттерберг. Получится?
— Сесть в машину — получится. Но тут же разоруженная охрана даст сигнал — и машину запеленгуют по индексам похищенных заключенных. И перекроют дороги.
— У заключенных… тоже не станет индексов.
— И у мальчика?
— Да.
— Тогда просто дадут сигнал трёвоги. Даже если нападающие перестреляют охрану, кто-то один успеет нажать кнопку…
«Не хочется мне стрелять охрану, — подумал Корнелий. — До чертиков не хочется…»
— И будет погоня?
— Сзади — погоня, впереди — заслон.
— От погони можно уйти…
— До заслона.
— Капус, дружище, посмотрим дорогу. Есть у тебя?
Капус включил экран. Изображение было идеальным, без мерцания от помех, которые неизбежно вызывает излучение индекса. Сначала показался фасад института — старое здание с полуколоннами, потом побежала невзрачная улица с пыльными липами, перешла в загородное шоссе. Оно пересекло поле, вошло в крутые, поросшие дубняком холмы… Корнелий видел это словно сквозь лобовое стекло стремительного автомобиля.
Шоссе вильнуло, обходя группу пирамидальных тополей, справа под обрывом засинело море. Опять поворот — тоннель в скале…
— Здесь будет первый заслон, — сухо сказал Капус.
— Хорошо. Вернемся немного…
Опять тополя, обрыв, море…
— Стоп… Капус, прикинь. Погоня достанет нас до этого места?
— Вас?
— Капус…
— Не достанет, если вы не замешкаетесь при посадке.
— Хорошо… Если мы сделаем так: выскочим здесь, пустим автомобиль под обрыв, а сами скроемся в лесу! Поверят уланы, что мы погибли?
— На какое-то время… Пока не достанут машину.
— Как скоро достанут?
— Глубина большая… Вызов спасателей… Обычная склока между моряками и уланами, согласование. Сутки уйдут…
— Чтобы дойти от Лебена до Реттерберга лесами, надо около трех суток. Поймают?
— Я посчитаю…
— Давай, дружище.
Капус молчал с четверть минуты. Наконец сообщил с ноткой удовольствия:
— Вероятность, что поймают, ничтожна. В институте известно, что заключенные имели индекс. Будут искать по индексам. Никто не заподозрит, что индексы исчезли и пятеро беглецов идут пешком по лесу в Реттерберг. С точки зрения уланской логики — это идиотизм.
— Значит, дойдем?
— Если будете осторожны…
— Будем, дружище… а ты сотри наш разговор. Тоже из осторожности.
— Стираю…
Корнелий посидел, откинувшись на спинку нелепого музейного (в духе Рибалтера) стула. Состояние было такое, словно не в мыслях, не в расчетах, а по правде он прошел всю эту дорогу — до Лебена и обратно…
— Дружище Корнелий, не выключай меня, — вдруг тихо, с хрипотцой попросил Капус.
— Что?
— Не выключай, — повторил Капус. — Почему-то страшно. Раньше было ничего, а теперь боюсь: вдруг больше не включат… Это, наверно, как у человека, которого заставляют умереть…
— Ну… да что ты такое мелешь… — Корнелий неожиданно и тяжело смутился. — Это уж, скорее, будто спать ложишься.
— Человек спать ложится сам. И просыпается сам. А от меня ничего не зависит…
— Ладно. Я не выключу.
— Я хотел попросить дружище Рибалтера, чтобы он поставил мне блок самостоятельного включения и выключения. Но он последние дни что-то не в себе.
— Я не выключу, — повторил Корнелий. И прикрыл глаза. «Надо бы подремать полчаса. Впереди столько всего…»
В закрытых глазах плавали зеленоватые пятна — следы светлого экрана. Постепенно они стали желтыми, превратились в прямоугольники, сложились так, что граница между ними образовала букву «Т». И теперь в похожей на глубину колодца темноте словно колыхалось отражение неяркого, уютного окошка…
Гуси-гуси, га-га-га, Унесите на Луга, Там мальчишку ждут давно, В доме светится окно…— Корнелий, — вдруг сказал Капус…
«Корнелий», — осторожно так сказал Капус, и сразу толкнулась тревога. Вот что значит натянутые нервы!
— Что, дружище? — Спокойным тоном Корнелий постарался тревогу эту приглушить.
— Я хочу спросить… — Капус говорил вполголоса. — Вы поедете в автомобиле Рибалтера?
— Да… А что?
— Тогда плохо. — В недрах Капуса явно ощутился человеческий вздох. — Тогда задача не решается…
— Почему?
— Дружище Рибалтер загонял машину. Он водит ее как черт, я это чувствовал, когда он брал с собой мой переносный нейроблок. В моторе барахлит левый насос. Машина не даст больше девяноста миль в час. А я считал стандартно — сто двадцать…
— Посчитай еще! Должен быть какой-то выход!
— Нет выхода.
— Никакого?
Капус молчал.
— Послушай, Капус, я…
— Есть выход. Но решение некорректно.
— Неважно. Давай.
— Но это даже не решение…
— Капуе!
— Один человек должен соскочить на полпути до поворота. Стреляя по уланам, он задержит их на несколько минут. Но…
— Что ж… — помолчав, сказал Корнелий. Он сидел все так же, откинувшись к спинке. — Это выход. — Он прислушался к себе. Нет, все нормально. Спокойно.
— Это не выход, — возразил Капуе. — У того, кто соскочит, нет шансов спастись.
— Никаких?
— Практически никаких.
— Ну что ж…
— Я могу.посчитать…
— Не надо, дружище. Это не имеет значения.
Но Капуе все-таки сказал:
— Один шанс из миллиона.
«Да?.. Что же, это все-таки шанс. В точности как у Рибалтера».
— Корнелий?
— А?
— Я, конечно, машина. Но все-таки я люблю старину Рибалтера. Привязался…
— Я понял. Не бойся, Капуе, выскакивать на дорогу будет не Рибалтер. Он отлично водит автомобиль, но стреляет паршиво. Я был с ним в электронном тире, видел..» А разговор наш ты все-таки сотри, не тяни…
В эту минуту вошли Рибалтер и Цезарь.
Глянув на Корнелия, Цезарь медленно пошел вдоль стен. Он смотрел на туземные маски и ржавые ятаганы. Но видно было, что ни капельки не интересны ему эти заморские диковины. В его тощенькой, напружиненной фигурке ощущалось тоскливое нетерпение. Чтобы не мучить его, Корнелий громко сказал:
— Чезаре, скоро мы едем в Лебен!
Тот радостно обернулся. Но не улыбнулся, нет. Лишь зеленые глаза стали большущими, в пол-лица. Он раскрыл рот для вопроса. Но тут подковылял к стулу Корнелия Рибалтер.
— Славный мальчик, — полушепотом сказал он. — Удивительно славный. Где ты его нашел.?
Я же сказал: в тюрьме…
— Да, но…
— Потом вопросы, старик.
— Ну да, ну да… Славный… Я, по правде говоря, всегда хотел мальчишку, сына…
— О господи! Ты?!
— Представь… А Марта никак. Мы, собственно, поэтому и разошлись… Корнелий, а что, если я завещаю мальчику свой дом? Кажется, я имею право…
Корнелий вздохнул и сказал без насмешки:
— Это невозможно по двум причинам, старина. Во-первых, нужен ему твой дом, как… Ну, ладно. А во-вторых, он же безында. Безындексный ребенок. Таким не передают наследство… Впрочем, кое-какое имущество ему нужно. Линию доставки у тебя нб отключили?
— У меня ничего не отключили. До решения штрафной Машины я пользуюсь всеми правами. Кроме выхода из дома… Я ведь пока все же гражданин Федерации. — В голосе Рибалтера скользнуло смешное детское самодовольство.
— Отлично, гражданин Рибалтер. Свяжись с магазином «Все для детей» и закажи то, что нужно мальчику для трехдневной пешей прогулки по лесам. Снаряжение, костюм… Чезаре!
Цезарь быстро подошел. Переступил. Было видно, что, несмотря на всё беспокойные мысли, мальчишке приятно стоять босыми нотами на мягком, ворсистом ковре.
— Чек, у тебя какой номер костюма?
— Я… Извините, я не знаю. Мне всегда шили по заказу.
— Ну, ладно. Рибалтер, объяснишь: мальчику десять лет.
— Мне уже почти одиннадцать, — насупленно возразил Цезарь.
— Скажешь: почти одиннадцать, но невысокий, худенький…
Корнелий прошелся глазами по Цезарю, зацепился взглядом за обшитый галуном карман на трусиках. Вспомнил…
— Ты не потерял монетку?
Цезарь прижал к карману ладонь:
— Здесь.
— Когда будет нужно, покажешь ее в таверне… Запомни: Пищевая Окружная, таверна «Проколотое колесо». Хозяина зовут Кир…
Цезарь стоял, съежив плечи и опустив руки. Неловкий, напряженный. Пятки врозь, а большие пальцы ног — вместе. Он шевелил этими пальцами и внимательно смотрел на них. Сказал виновато и упрямо:
— Но я не хочу ни в какую таверну. Вы же говорили, что едем в Лебен.
— Из Лебена придется вернуться. И вот тогда… Впрочем, об этом позже. Рибалтер, телега твоя на ходу? Положи туда побольше еды, я голодный как волк…
— Поешь здесь. Пока я заказываю вещи для мальчика.
— Не. надо заказывать. Я подумал: вдруг все-таки следят? Могут догадаться, что Цезарь здесь… Мы все купим по дороге. Собирайся.
— Я? Куда?
— Да в Лебен же, черт возьми!
— Мне же нельзя…
— До Лебена машину поведу я. А ты будешь сидеть рядом и запоминать все, что я скажу.
— Я не про то. Мне запрещено покидать дом. Индекс на контроле, запеленгуют сразу.
— Не запеленгуют, я обещаю. К тому же что тебе терять?
— Как знаешь, — покорно сказал Рибалтер.
— У тебя есть наличные? Возьми с собой. Мы купим одежду Цезарю где-нибудь по пути.
— Зачем наличные? Мой индекс еще не исключен из банковской системы. — Корнелию опять показалось, что у Рибалтера скользнула наивно-самодовольная нотка…
— Святые Хранители, — вздохнул Корнелий. — Как туго ты соображаешь. Впрочем, естественно… Скоро у тебя не будет индекса.
Цезарь вскинул голову.
— Рибалтер, сядь! — рявкнул Корнелий.
И тот послушно рухнул костлявым телом в кресло у экзотического чугунного камина с Электроуглями.
Корнелий взял Цезаря за колючие, холодные локти и придвинул к себе.
— Чек, я знаю… Ты честный и твердый, ты прямо стальной. И ты дал слово отцу… Но он же не знал, что случится такое. Он тебя поймет. И это как раз нужно для того, чтобы спасти его. И маму…
Цезарь закусил губу, и голова его наклонялась и наклонялась. Пугаясь своего давнего желания провести рукой по светлому, ершистому шару волос, Корнелий говорил все быстрее:
— Л Рибалтсру ты не повредишь. Наоборот. Для него это лишняя надежда уцелеть… Цезарь, тебя все поймут и простят. И мама, и папа. И все Хранители, и Юхан-трубач…
— Хорошо, — прошептал Цезарь.
— Я даже не буду смотреть, как ты это делаешь. Я отвернусь…
— Это неважно. Я ведь и сам не знаю, как…
Цезарь остановился перед Рибалтером. Потом сел перед ним на корточки. Рибалтер молчал. Цезарь, глядя ему в лицо, взял его за левое запястье. Корнелий отвернулся.
— Капуе, дружище, возьми на экран индекс Рибалтера.
— Беру…
В глубине маленького пустого экрана повисли розовые буквы и цифры: ВТ-21131182. Они почему-то слегка дрожали.
— Не могу дать четкость, — озабоченно сказал Капуе.
Индекс бледнел, знаки становились размытыми.
— Не могу, — хрипло повторил Капуе.
Цифры и буквы стали вдруг зеленоватыми, дернулись, превратились в блеклые пятнышки и растаяли без следа.
— Не понимаю, — чисто по-человечески вздохнул Капуе. — Я не виноват…
Корнелий вместе со стулом развернулся к Рибалтеру и Цезарю. Те сидели в прежней позе, неподвижные. Корнелий видел их в профиль. Они смотрели друг на друга. Потом Рибалтер шевельнулся и сделал то, на что никак не решался Корнелий. Ладонью провел по волосам Цезаря.
И Чек улыбнулся Рибалтеру.
ЭПИЛОГ
Из письма директора обсерватории «Сфера» А. И. Даренского своему коллеге профессору д'Эспозито
«…Что касается темы под кодовым названием «Командор», которую с упорством, достойным лучшего применения, навязывает нам Центр, то я уже неоднократно излагал свою точку зрения. Данная проблема, даже если принимать ее всерьез, должна рассматриваться в социальноисторическом и этическом планах и никоим образом не может входить в круг вопросов, решаемых обсерваторией. Смешно же, честное слово, навязывать ее нам лишь потому, что события имели место в нащупанном нами сопредельном пространстве «Бэта».
Кстати, личность, которую нам преподносят в качестве основного примера, не имеет к истинному командорству (если и признать это явление существующим) никакого отношения. Это некий Корнелий Гуле (или Голе), типичный обыватель из Реттерберга, лишь волею случая оказавшийся замешанным в события, которые привели к развалу машинной Системы в так называемой Западной Федерации и соседнем с нею Юр-Тупосе (или Тагосе). По официальным данным, он был казнен в муниципальной тюрьме Реттерберга из-за ошибочного обвинения, по другой версии (более романтичной) — погиб в перестрелке, прикрывая от полицейской погони какой-то автомобиль с беглецами.
Объективности ради следует упомянуть мнение нашего младшего Научного сотрудника Михаила Скицына, который утверждает, что Корнелий Голе (или Галс) после упомянутой стычки на шоссе был схвачен живым, бежал, стал одним из функционеров командорской общины «Элиот Красс», но затем вышел из нее, мотивируя свой поступок тем, что охранять следует не только детей с необычайными свойствами, а детство вообще… Якобы он создал группу «Белые гуси». Но это утверждает Скицын, а вы ведь знаете нашего Мишеньку.
Недовольство и тревогу Центра по поводу так называемого «перехода тринадцати» я вполне разделяю, но не отправлять же было их назад. И главное — как? Я не меньше, чем в Центре, чту принципы невмешательства и потому просто-напросто оскорблен Предположением, что переход был результатом нашего эксперимента. Это всего-навсего дерзкая инициатива некой безответственной личности, которой, учитывая возраст, следовало натуральным образом надрать уши. Я и собирался сделать это, основываясь на правах родного деда. Но «личность» снова ушла туда.
Впрочем, все это события годичной давности, а Центр, как всегда, бьет в колокола с чудовищным опозданием.
Во всей этой ситуации меня, честно говоря, более всего волнует судьба внука. Его челночные переходы контролировать невозможно. Запретить я тоже не в состоянии, мальчик уходит к отцу. К тому же появилась там у него еще одна привязанность, некий приятель, по имени не то Гай, не то Юлий. Видимо, такой же сорванец, как он сам.
Вчера внук, пошептавшись со Скицыным, ушел снова. Эти мальчишки отправят меня на тот свет значительно раньше, чем я закончу предисловие к нашему сборнику статей о предпосылках общей теории Перехода…»
ЗАСТАВА НА ЯКОРНОМ ПОЛЕ
Обсерватория «Сфера». Расширенное заседание комиссии по итогам квартальной деятельности спецгруппы «Кристалл-2». Стенограмма. Фрагмент
Научный сотрудник Михаил Скицын:…Таким образом, после очередного возмущения четырехмерных полей типа «VITA» и «Gloria» в наблюдаемом секторе мы можем видеть четко зафиксированное явление класса «Туннель» между гипотетическими гранями D и Е. Причем туннель этот имеет…
Профессор Карло д'Эспозито: А собственно, почему «гипотетическими», молодой человек?
М. С.: Это, увы, не моя терминология. На ней настаивает Центр.
К. д'Э.: «Доколе же ты, о Катилина…»
М. С.: Согласен с вами.
Голос из аудитории: Туннель стабилен?
М. С.: В том-то и дело! Как никогда!.. С одной стороны, это противоречит привычной схеме с Мёбиус-вектором, поскольку направление обратно течению темпорального кольца…
Голос: Не обратно, а поперек!..
М. С.: Вы правы. А с другой стороны, этот факт — увесистая гиря на чашу весов общей теории «Кристалла»…
Профессор Ян Таурин (лаборатория «Грин»): Однако, коллега, здесь противоречие…
М. С.: В чем, елки-палки, противоречие?! Мы пока подбираемся к исходным данным о Переходе робко и на пузе, как мыши к миске спящего кота. Не знаем еще, простите, ни фига! А вы малейшее отклонение объявляете противоречием! Нельзя же судить о «Кристалле» с позиции учебника формальной логики для пятиклассников!..
Шум в аудитории.
Председатель: Михаил Петрович… Ваш тон…
М. С.: Виноват. Прошу извинения за тон. Но не за туннель. Он — факт, извиняться за него бессмысленно, если даже он кому-то не нравится.
К. д'Э.: Синьор Скицын, а справедливо ли утверждение, что вы как-то увязываете возникновение туннеля со вспышкой сверхновой на меридиане… гм… «гипотетической» грани D?
М. С.: Увязываю лишь во времени, но не вижу причинной связи…
Я. Т.: Однако ходят разговоры, что вы заявляли: «Эта штука, братцы, загорелась неспроста». И… странно как-то… именовали новую звезду весьма фамильярно: не то Гришкой, не то Степкой.
М. С.: Мало ли какие ходят обо мне разговоры…
Голос (обрадованно): Это верно!
М. С.:…А что касается «фамильярного» наименования сверхновой, то идея эта не моя, а Якова Матвеича Скицына, автора трудов по аналогии кристаллических структур, почетного академика и…
Я. Т.: Вашего прадеда? Но он ведь… э-э, так сказать…
М. С.: Вы, так сказать, заблуждаетесь. Яков Матвеич вполне здравствует, несмотря на преклонные годы… Кстати, позвольте встречный вопрос: что вас так волнует эта сверхновая? Вы же недавно утверждали, что ее не существует!
Я. Т.: Естественно, коллега! Я не могу поверить в звезду, которая объявлена сверхъяркой, но не видна ни в один телескоп.
М. С.: Ни в один из обычных телескопов грани А…
К. д'Э. (язвительно): Гипотетической.
Смешки в аудитории.
Голос (детский): Доколе же ты, о Микаэлло, будешь настаивать на нашем грешном существовании?!
М. С.:…А если взглянете на экран межпространственных пересекающихся радаров…
Я. Т.: Я астроном, а не… алхимик.
М. С.: Ваша твердость сама по себе вызывает восхищение. Но она похожа на твердость святых отцов, не желавших смотреть в телескоп Галилея.
Я. Т.: Вы, я полагаю, еще не Галилей.
М. С.: Да и вы… прямо скажем, если и отец, то не святой. Ваша статья в «Астрономическом вестнике»…
Шум в аудитории.
Председатель: Товарищи! Господа! Михаил Петрович…
Голос: А как быть с эффектом «поперек»?
Второй голос (детский): Миш, расскажи про обратную спираль! Как хвост у Жучки!..
Оживление. Смех.
Председатель: В чем дело? Откуда здесь дети?
Секретарь: Это Витька… То есть Виктор Мохов, внук директора обсерватории, который, как вы знаете, сейчас в Центре и…
Председатель: Ну и… тем не менее. Здесь не кружок юных физиков.
М. С.: Он же пограничник.
Я. Т.: Что? Детей уже берут на военную службу?
М. С.: Великие Хранители!
* * *
— …Я так намучилась за эту смену! Вожатые все девчонки-первокурсницы, толку никакого, всё на нас, на воспитателях. А нынешние дети — сама знаешь…
— Иди ты с этой работы. Пока не поздно.
— Ох, не говори! Хоть в вахтеры ушла бы. Да ведь стаж… В этой смене триста человек — и дебил на дебиле. Из-за одного чуть не кончилась, был такой Ромка Рогулин в пятом отряде. По прозвищу Ро-ро. В родительский день гляжу, он несется по коридору и через две стеклянные двери — навылет! Я и села мимо скамейки. «Врача!» — ору. Сама думаю: «Его в реанимацию, меня к прокурору». А он — хоть бы хны, только щека поцарапалась. Не остановился даже. Я ему вслед: «Вернись, паразит, ты куда?!» А он: «К ма-а-аме!..»
(Из разговора в автобусе)
1. Кольцо. Голос
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Малый ипподром…
На Большом Кольце поезда с перрона А идут по часовой стрелке, с перрона Б — наоборот. И никогда не меняют направлений — кольцо есть кольцо. Поэтому хвостовых моторных вагонов у них нет. Задний вагон такого поезда — с закругленной кормовой стенкой. Узкий диван изгибается вместе с ней подковою. А над упругой спинкой — сплошное, тоже выгнутое, стекло.
Если встать коленками на прохладную искусственную замшу сиденья и положить подбородок на нижнюю планку окна, видно, как убегает назад черный, с бледными огоньками туннель, как быстро уменьшается светящийся полукруг — выезд со станции. Потом этот желтый ноготок исчезает за поворотом, туннель делается светлее. Бегут, не отставая, по гладкой полосе антиграва отблески хвостовых сигналов, ярче становятся фонари. При замедлении хода можно различить пористую кладку стен, замурованные арки, а кое-где — черные провалы и в них смутно белеющие мраморные колонны. Поезд прошивает известковые и бутовые толщи древнего Полуострова с его катакомбами, подземными храмами, пещерными городами, подвалами крепостей и тайными библиотеками.
Тысячи лет в этих каменных пластах гнездились тайны. Великое множество. Тысячи лет, наверно, нужно, чтобы все разгадать. Если будет на то у людей охота… Еще недавно рассказы о кладах и подземельях волновали до замирания души. А сейчас все равно. Лучше не смотреть, закрыть глаза. Тогда голос делается будто не из стереодинамиков, а совершенно живой. Будто совсем рядышком, за спиной:
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Магазин «Радуга»…
В хвостовом вагоне пассажиров всегда немного. А сейчас, в послеобеденную пору, совсем пусто. Лишь в другом конце сидят двое-трое. Никто не заворчит на мальчишку, забравшегося с ногами на сиденье. Впрочем, сандалии он оставил на полу.
В скрытые щели вентиляции тянет сквознячок, щекочет голые пятки, пушистыми зверьками пробегает по ногам, прыгает под светло-серую капитанку с закатанными рукавами. Между лопаток — словно мохнатой лапой провели. На спине шелковистая аэроткань надувается пузырем.
…Несколько раз он задумывался: почему эти полукурточки-полурубашки со множеством застежек и хлястиков, с пряжками и погонами называются капитанками. Никто из взрослых не ходит в такой форме: ни моряки, ни офицеры Космофлота, ни Патрульная служба, ни дежурные Дорожной сети. Это чисто ребячья одежда — на все случаи неспокойного мальчишечьего бытия. Не рвется, не мнется, не льнет к репейникам, за минуту отстирывается от любых пятен в холодной воде. Отталкивает жгучие лучи и хранит тепло в зябкую погоду. А больших карманов и потайных карманчиков столько, что и сам хозяин не всегда помнит. В холодную погоду у капитанки раскатываются рукава, подол заправляется под ремень длинных брюк (обычно с узорно-чеканной пряжкой), пристегивается откидной воротник-капюшон — и ходи хоть среди метели.
Хотя какая тут метель! Конечно, Полуостров — не настоящий Юг, но снег выпадает лишь на Рождество, да и то если очень постарается Служба погоды. Говорят, лет пятнадцать назад случилась такая зима, что пролив у Грюн-Капа на полмесяца затянуло льдом. Но нынешние мальчишки ничего подобного не помнят. Лето здесь тянется до конца октября. А сейчас лишь сентябрь, и в вагоне прохладнее, чем на улице. Там, наверху, не просто жара, а влажная духота. И небо — желто-серое, низкое, солнце вязнет в липком воздухе. Ничего не поделаешь — парниковый эффект. «Погодники» воюют с ним как могут, да пока могут не очень.
Хорош бы он оказался, если бы поехал в лицейской форме. Встречные пялились бы на пацана в казенных, с лампасами, штанах до пят, в галстуке и тесной черной курточке с галунами. Нет, в таком костюме не жарко, специальная «мундирная» синтетика даже холодит тело. Но что хорошего, когда на тебя все таращат глаза, как на сбежавшего из заповедника павлина, а мальчишки радостно орут вслед: «Ослы — на тот свет послы!»
«Ослы» — это из-за нарукавного шеврона. На нем концы золотого лаврового венка торчат, как ослиные уши, и тут же — буквы: О С Л. Особый суперлицей. Супер — потому что учит человека от «нулевки» до высшего диплома. Особый — потому что для всяких сверхталантов («Господи, а у меня-то какой талант?»). Многие считают, что одаренные сверх меры дети на этом свете не заживаются. Вот и «послы на тот свет».
Кантор вроде бы с шутливой ноткой, но в общем-то серьезно любит напоминать, поднявши пухлый палец:
— Господа лицеисты, понятие «честь мундира» есть понятие не устаревшее, а вечное. Будьте выше праздного любопытства и насмешек обывателей и гордитесь принадлежностью к славной когорте. Вы соль будущего интеллекта общества…
В переводе на нормальный язык — на занятия в мундире, в город в мундире.
Есть, конечно, такие, кому нравится изображать гвардейцев и аристократов позапрошлого века. Дело их. Пускай берегут мундирную честь. А он сюда, в «ослы», не просился.
…Час назад он вышел из лицейского парка, пешком добрался до Южного вокзала, в электронной камере хранения взял сверток с тем, что привык носить раньше, в прежние, домашние времена. Бесшумно переоделся в кабинке туалета. Все казенное затолкал в прежнюю бронированную ячейку, придавил тяжелой дверцей. И все. И превратился в обычного пацана, затерялся среди миллионного ребячьего народа Полуострова…
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Дом Капитанов.
«Да, я знаю… Помнишь, мы там выходили, чтобы посмотреть на этот дом? Это когда я еще маленький был и мы гуляли вдвоем… Он длинный, белый, с круглыми окнами и корабельной вышкой. На вышке мачта со всякими висячими знаками — шарами, треугольниками. А выше знаков — флаг. Синий, с золотыми полосами и вензелем, как на капитанском рукаве. А может, «капитанка» — потому, что на нее тоже пришивают всякие шевроны и знаки?»
Да, на погоны обычно шьют полоски разного цвета, на рукав — эмблему своего отряда или общества. А иногда и просто всякие значки и надписи. Но он ничего не пришил. Если просто так, картинки, — это неинтересно. А по званию ничего не полагается. В прежней школе, весной, он записался в клуб «Морские орлята» и уже почти прошел кандидатский срок, и должны были скоро дать синие лычки на погоны и нарукавный знак с крылатым корабликом. Но инструктор неожиданно уехал на стажировку в летное училище.
«Ты тогда утешала: «Не горюй, в сентябре получишь все, что полагается. Может, еще и медаль дадут…»
«За что медаль-то?»
«За терпение… Не шмыгай носом, время быстро бежит».
Бежит-то оно быстро. Только если бы знать заранее — куда.
— Станция Дом Капитанов. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Отель «Кочевники».
Все здесь известно. Все расписание он знает наизусть, каждую станцию, каждую нотку в голосе. Сколько витков он сделал по Кольцу за свою жизнь!
…«Святые Хранители, это что же такое! Ночь на дворе! Где тебя носило?»
Он в дверях — коленки вместе, пятки врозь, пальцы дергают подол капитанки. Так стоят люди виноватые и упрямые. Голова ниже плеч, волосы упали вперед. Чтобы глянуть исподлобья, надо их раздуть. Но для этого необходимо оттопырить нижнюю губу, а губы сжаты. Пока…
— Я тебя спрашиваю, несчастье мое! Где ты был? Только не вздумай сочинять!
«Несчастье мое» — это хорошо. Это трещина в суровой сердитости. Только вот не вовремя намокли ресницы… А сочинять он не имеет привычки. Или молчит, или уж правду говорит.
— Скажешь ты, наконец, или решил меня уморить?
— По Кольцу ездил… — Это сипло и тихо.
— Новое дело! Зачем?
Дело совсем не новое. Не первый раз. И ей это, конечно, известно. Но… у таких разговоров есть свои правила.
— За-чем, я спрашиваю.
Он отдувает наконец волосы. Похожие на волокно растрепанного ногтями льняного троса (натурального, конечно), они взлетают легко и опускаются не сразу. Он успевает посмотреть. Глаза в глаза. Потом — опять в пол. Носом втягивает воздух и говорит с легким вызовом:
— Тебя слушал… Как ты объявляешь.
Она опускается на кухонный стул, руки ложатся на хрустящий новый передник (он сине-зеленый, блестящий, с белыми и желтыми морскими коньками).
— Еще одна новость. — А в голосе уже что-то вроде просьбы. — Тебе что, дома меня не хватает?
Он вскидывает лицо. Волосы ладонью — в сторону (будто комара скользящим ударом бьет по лбу). Смотрит ей в лицо опять и тут же — в дверной косяк. Говорит сквозь предательскую хрипотцу, но уже с затаенной (очень затаенной) дурашливой ноткой. Со спрятанной надеждой на прощение:
— Да-а… Там у тебя голос хороший, ты не сердишься, не ругаешь.
— На-адо же… — Она склоняет набок голову (капелька-сережка над плечом). — Значит, там я лучше, чем дома. Очень большое спасибо.
«Очень большое пожалуйста», — едва шевелит он губами. Так, для себя. И совсем неискренне, из остатков вредности.
— Но там я говорю свои слова для тысяч людей. И ни один из них не сделал ничего плохого. Ни один, я уверена, не доводит свою мать до нервной икоты…
— Ох уж, до икоты… — Это он косяку. — Чего уж я такого сделал-то…
— Не бубни! Ни один нормальный человек не лазает со своими приятелями по всяким подвалам и катакомбам, рискуя свернуть себе шею или оказаться в завале.
— Ох уж, в завале! Там все безопасно, туда еще наш учитель истории спускался, когда такой же был… как мы.
— Вот и лазил бы туда с учителем. А не с этим шалопаем Яриком.
— Это Ярик-то шалопай?! Сама говорила, чтобы пример с него брал!
— Я ошибалась. И очень горько. Два сапога пара, и обоих следует вздуть одинаково. Я вот позвоню его маме.
— Да знает она, знает. Тебе звонить обещала.
— Какое приятное известие! Археологи липовые…
Но это уже так. Это почти игра.
— Марш в ванную. Чучело, а не сын.
Ванная — это потом. А сперва… сперва потоптаться, посопеть у двери, потом побрести с опущенной головой, постоять, ткнуться носом в теплое плечо рядом с клеенчатой лямкой передника. Вздохнуть, получив невесомый хлопок по затылку. Снова посопеть, потереться о ее плечо лицом.
— Нечего об меня нос вытирать. Я тут чуть с ума не сошла: то днем исчез, то вечером…
— М-м…
— Подлиза.
— М-м…
— Не мычи, а говори, если хочешь что-то сказать.
Она знает, что он хочет сказать. Вечное, как мир, и самое непрочное мальчишечье обещание: «Больше не буду…» Но даже в полную ласки и раскаяния минуту он не может выдавить из себя эти слова. Такой характер.
Теплая ладонь с растопыренными пальцами ложится на его заросший затылок. Пальцы треплют, теребят пряди. Вроде бы сердито.
— До чего упрямый…
Он стыдливо хихикает:
— Сама придумала, что Ежики.
…Прозвище, казалось бы, ну совсем не для него. Вот у Ярика на темени две спиралью завитых макушки с жесткими хохолками — и правда как ежики. Но Ярик — человек покладистый, «не то что эта колючка».
Да какая он колючка! Просто повелось так с дошкольных еще времен. «Ты долго будешь с книжкой сидеть?» — «Счас…» — «Не «счас», а спать. Кому сказала!» — «Ну, маленько еще…» — «Брысь в постель!» Хвать его в охапку. «Следующая станция — Нос-в-подушку!»
Он, конечно, верещит и ногами дергает.
«Не ребенок, а ежики…»
«Ха-ха-ха, почему?»
«Потому! Чуть что — иголки наружу: не хочу-у…»
«Ха-ха-ха! Тогда уж один ежик!»
«Один — это мало. У одного хоть живот пушистый, а у тебя всюду колючки торчат. Куча ежат, все упрямо визжат…»
«Я никогда не визжу. Даже от щекотки. Ай, не надо! И-и-и!..»
«Вот так-то, Ежики… Спать».
Ежики так Ежики. И прожил с этим именем до одиннадцати с половиной лет.
И вот сейчас тоже:
— Эх ты, Ежики, колючки непутевые. Ладно, не сопи, иди мыться. Шагом марш!
Это уже совсем прощение. Он дурашливо марширует в холл, потом в кафельную кабину с ванной-бассейном. Весело командует, задвигая дверь:
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Океанский пляж!
— Я покажу тебе пляж! Не смей устраивать наводнение!
А за дверью уже: ш-ш-ш, буль-буль-буль, плюх-плюх!
— Ну, только выйди, будет тебе «плюх»!
Он выходит, важно кутаясь в длиннополый мохнатый халат, как в шкуру-плащ туземного вождя. Слипшиеся волосы торчат длинными сосульками.
— Хоть бы вытерся как следует. Чучело и есть чучело. Не ежики, а дикобраз…
Он шествует к похожему на присевшего бегемота креслу и погружается в его податливую мякоть. Говорит оттуда:
— А я знаю, почему твой голос записали… У вас там специальные дикторы есть, а ты вовсе и не диктор, а консультант, а для Кольца записали не их, а тебя. Потому что…
— Любопытно. Почему же?
Он вдруг теряется, прячет нос в махровый рукав.
— Ну, потому что он такой голос…
— Какой же? А? — Ей и правда интересно.
— Ну… как ты сама.
Голос и в самом деле вовсе не дикторский. Он слишком… домашний, что ли. И в словах, если очень прислушаться, есть неправильность — крошечная такая шепелявость. «Р» звучит мягко, «ж» похоже на «ш». И постоянное «осторожно» произносится с еле заметным ласковым пришептыванием — «осторёшно»… Нет, не так, разумеется, но с намеком на «ё» и «ш»…
Ежики сам видел не раз, как люди, услыхав этот голос, поднимают глаза к динамику и чуть улыбаются.
…И «Ежики» она тоже говорила мягко. Почти как «Ешики»…
«Ешики, опять с ногами на сиденье? Ну-ка брысь!» («Бр-ись…»)
Он вздыхает, сползает коленками с сиденья, садится, опустив ноги. На полу при стремительных поворотах вагона елозят туда-сюда расстегнутые и брошенные сандалии. Ежики сует в одну из них ногу, нагибается, чтобы прижать к металлическому язычку магнитную пряжку. На ноге сбоку, выше косточки, белый рубец с точками по краям — след шва… Конечно, можно было бы убрать его за два дня специальной мазью (называется «ре-ге-не-ра-ци-онная»). Да и без мази он сумел бы сгладить шрам за неделю. Но не хочет. Пусть. Хорошо он все-таки врезал тогда Кантору, жаль, что нога срикошетила…
Ремешок с пряжкой — будто живой: дергается, хитрит, выскальзывает из пальцев. А тут еще опять поворот, и мягкая сила валит Ежики на бок. Он сердито покоряется ей и так, лежа, дожидается шелестящего торможения и затем — знакомых слов:
— Станция Восточные ворота… Осторожно, двери закрываются. Следующая станция…
«Знаю. Эстакада…»
Он придвигается к боковому окну. Поезд, набрав ход, вырывается из туннельного сумрака в громадное дымчато-желтое пространство. Неяркое, похожее на грейпфрут солнце невысоко висит во влажном воздухе, высвечивает море, обрывы Грюн-Капа и бесконечные кварталы мегаполиса, что раскинулся почти на треть Полуострова. Кварталы эти — белые, стеклянные, разноцветные, убегающие в необозримые края по холмам и равнине — медленно поворачиваются за окном, словно за бортом аэробуса. А под полом, под тугой упругостью антигравитационной подушки, мягко гудит стальная эстакада. Она соединяет Крепостной холм, где стоят остатки тысячелетней Цитадели, со склоном горы Эдуарда. А глубоко внизу курчавятся верхушки парковых массивов Посейдоновой балки.
Посреди эстакады стеклянный павильон станции. Последние два пассажира вышли здесь из вагона. Поедут, наверно, на лифте вниз, в парковые дебри. А может, застрянут на смотровой площадке.
Ежики лбом прижимается к окну. Сквозь стекла вагона и станции виден склон горы Эдуарда, а левее — гребешок дальнего пологого холма, на котором щетинятся кипарисы — черные на желтом небе. За теми кипарисами есть скользкий от ракушек спуск садовых тропинок, а дальше — дом. Его дом. Родной до каждой щелки на дереве старых перил, до последней царапинки на облицовочном пластике. Родной и… чужой. Нет, не надо сейчас о доме. А то не поможет и аутотренинг иттов.
Вон там, где торчит самый высокий кипарис, есть очень старая ракушечная лестница, она ведет к школе. На ней почему-то всегда любят играть первоклассники. Такую игру знают, наверно, только в этой школе: вроде классиков, но прыгать надо не по ровному месту, а по ступеням.
Две ступеньки, Три ступеньки, Жил-был рыжий кот у Сеньки…«Сестра Анна, где вы? К вам опять очередь с разбитыми коленками!»
«Святая Дева, я не напасусь бактерицидки! Когда сроют эту окаянную лестницу!»
Попробуй срой! Все ребята крик подымут… Там не только замечательные ступени, там еще широкий парапет сверху донизу, а по нему тянется желоб. Такой лоток, отполированный штанами школьников многих поколений. Садишься наверху, пятки вскидываешь — и пошел! Многие перед уроками специально забираются на верхнюю площадку, чтобы подкатить к школьному крыльцу с таким шиком. Но нельзя зевать в конце спуска: там есть выступ вроде трамплинчика. Если расслабишься, так хряпнет, что на первом уроке не сидишь, а страдаешь. Но Ежики никогда не зевал. И Ярик не зевал.
Поезд уже ушел с эстакады, вонзился в толщу горы Эдуарда, а в глазах у Ежики по-прежнему желтый свет. И небо, и зелень. И, вскинув темно-ореховые ноги в красных кроссовках, летит вниз по каменному желобу хохочущий Ярик…
…Точно говорят, что беда не приходит одна. Точно и горько. Ведь всего за две недели до черного дня Ярик с матерью и ее новым мужем улетели на другой край Земли. Туда, где пояс городов Золотого Рога. Насовсем. Конечно, в наши дни это не так уж далеко. Подумаешь, Золотой Рог, если даже с Марсом прямая связь (только без видео). Но ведь за руку теперь Ярика не возьмешь, не схватишься — кто кого повалит — на траве Замковой лужайки, не полезешь с ним искать ржавые наконечники стрел в подвалах Цитадели. Осталось только глядеть друг на друга на экране да говорить со странной неловкостью: «У вас как там? Нормально? У нас тоже нормально…»
Он как раз набирал на пульте код Золотого Рога, чтобы вызвать Ярика к экрану, когда пришли эти двое: мужчина в форме летчика Внутреннего флота и тетка из Опекунской комиссии…
Не надо про это. Лучше про школу… Как он забавно боялся, что его не возьмут в первый класс, потому что болел и опоздал на два дня. Но все же пошел один, без мамы. Сам отыскал учительницу.
«Очень хорошо, что ты пришел, мы тебя ждали… Полное имя твое у меня записано, а как тебя зовут дома?»
Он сказал чуть насупленно:
«Ежики».
«Ежик?»
«Е-жи-ки».
«А… ну, замечательно. Скажи, Ежики, кто твоя мама?»
«Она… как это? Где работает, что ли?.. Ну, она в Управлении Дорожной сети. Консультант в инженерной группе…»
«Умница».
Кто папа, спрашивать не принято. С папами в наши дни сложно. Многие пацаны ничего про них и не знают. У Ежики в этом отношении положение, пожалуй, лучше, чем у других. По крайней мере, он точно, без выдумок и сказок, знает, кто был отец. Несколько раз они с мамой летали в Парк памяти. Там громадная стена из желтого пористого камня, а в ней ячейки, ячейки, закрытые мраморными плитками (чем-то похоже на вокзальную камеру хранения). И на одной плитке, в третьем снизу ряду, надпись:
Он был дирижер и автор музыки фильмов, которые идут иногда и сейчас. А еще чемпион Полуострова по теннису и фехтованию. Мама говорила, что он был высокий, черноусый, гибкий, как храбрый капитан д'Эбервиль из фильма «Третья эскадра». А Ежики — светлый, круглолицый, нос сапожком.
«Как у Петрушки, — и пальцем нажимает ему на кончик носа. — Был в старинном кукольном театре такой персонаж, Петрушка-растрепа».
«Какой же Петрушка, если сама говоришь: Ежики…»
«Ежики — по характеру, а растрепа по наружности. И в кого такой?»
«А говорила, что похож на отца».
«Ну… не носом же. Прыгучестью да замашками похож… когда вы с Яриком друг друга вашими пластмассовыми шпагами тыкаете…»
Наверно, он и характером похож на Виктора Юлиуса Радомира. Хоть немного. Недаром столько времени продержался тогда в доме.
Ох нет! Он же обещал себе не думать сейчас про это…
А все же недаром, видимо, перешло к нему второе имя отца — Юлиус. А полностью — Матвей Юлиус Радомир. Так его именуют в лицее. Лишь Кантор говорит иногда мягче: «Матиуш». Но и Кантор, скорее всего, не знает, что лицеист Радомир — Ежики. Никто здесь не знает. А в школе про него, наверно, уже не вспоминают. И Ярик далеко. А мамы нет, нет, нет.
Разве так бывает, что был человек, и теперь нет его совсем? Значит, бывает.
Сколько времени прошло? Чуть больше года. А кажется — сто лет.
А тоска не уходит. И когда совсем уже невмочь, остается одно: бежать из лицея, садиться в хвостовой вагон и слушать Голос.
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция…
«Знаю, мама, знаю. Площадь Карнавалов». Голос настоящий, знакомый до последней крошечной нотки. Но он не скажет ничего нового.
…— Следующая станция — Якорное поле.
2. Игра в шары. Росток
Его тряхнуло — нервно и жестко. Словно голой рукой задел открытые контакты блока питания в домашнем комбайне «Уют». (Уют уютом, а трахнет так, что озноб в каждой клеточке тела и волосы торчком.)
Он коротко вздохнул, замер. Не от испуга, от неожиданности. Но… и от испуга тоже. Хотя чего бояться?
Да, не было на Кольце такой станции. Ну и что? Значит, построили. Чего вздрагивать-то? А когда построили? И разве сумели бы так незаметно? Прошлый раз он ехал здесь неделю назад… А может, это какой-то временный объезд? Но такой станции никогда не было нигде… Какое там наверху может быть поле? Между станцией Солнечные часы и площадью Карнавалов? А может, это какое-нибудь незаметное кафе с таким названием или кинотеатр? Ну да, разве стали бы называть их именем станцию!
И все-таки что ты так подскочил, Ежики? Аж сердце колотится. Будто ночью, когда снится падение с Соборной башни и просыпаешься, хватая губами воздух. Так нельзя, не надо.
Нужно выйти и посмотреть, что это за новое явление на Большом кольце. На дороге, к которой он привык настолько, что чувствовал себя почти хозяином. Все было так знакомо, и вдруг…
Ну ладно, он успокоился. По крайней мере, почти успокоился. Ехал и ждал. Не только станции. Вообще ждал.
Казалось, поезд увяз во времени. Ежики вскинул глаза на вагонные часы. Желтые цифры на круглом уґгольном табло менялись очень медленно, секунды как бы застревали в черном безвременье. Можно было не спеша сосчитать до десяти, пока одна сменит другую… Наконец заторможенное время лопнуло, как тугая пленка. Желтые секунды замелькали, пневмотормоза плавно зашипели, мамин голос (будто не в динамике, а рядом, у плеча) сказал:
— Станция Якорное… поле…
Ощутимым, как теплое дыхание, живым было ее ласковое пришептывание. А после слова «Якорное» мама чуть запнулась, сделала маленький вдох.
Ежики метнулся с дивана, дверь отошла. Он шагнул на перрон… и остановился — будто носом о стенку.
Нет, стенки рядом не было, но теснота станции поражала. Не зал, не привычный яркий вестибюль, а небольшой подвал. Серая бетонная комната, голые, без плафонов, трубки ламп. Ежики быстро оглянулся. Поезду не хватило места, он ушел головой в туннель, и только два последних вагона оказались у платформы.
«А как же выходят из остальных? А где же…» Мысли отсек резкий шелест и стук задвинувшихся дверей — без объявления! Поезд взял с места сразу, так быстро, что воздух взвихрился, рванул капитанку, щекочуще закрутился у ног и задергал так и не застегнутые ремешки сандалий.
Ежики сел на корточки, машинально сцепил пряжки и, не вставая, осмотрелся опять. Вот что еще удивляло (и странно пугало даже): не было противоположного перрона, не было полотна для встречных поездов. В пяти шагах от Ежики плиточный пол смыкался со стеной. На ней — ни указателей, ни привычных стеклянных букв названий. Лишь белой краской — аккуратно, однако явно ручной кистью, даже без трафарета — на бетоне крупно выведено:
ЯКОРНОЕ ПОЛЕ
Яркость букв и сама необычность названия спорили с унылостью бетона. А кроме того, гнетущую придавленность и тесноту разбивало желтое окно. Большое, с переплетом в виде буквы «Т», как в старых домах, оно неярко, но празднично светилось в левой торцовой стене.
Ежики, привыкая к странности случившегося, тихо подошел. За окном была ниша с грубой облицовкой из песчаника. Там, за стеклами, под светом скрытых наверху ламп стояла метровая модель парусного корабля.
Судя по всему, это был старинный галион — с высокой узорчатой кормой, с фигуркой морской девы под крутым бушпритом, на котором подымалась тонкая вспомогательная мачта. А основных мачт было четыре — все в переплетении сеток и снастей, увешанных тяжелыми горошинами блоков.
Ежики когда-то любил рассматривать такие модели в музеях. И при этом он думал не столько о приключениях и дальних плаваниях, сколько о мастерах. О тех живших в прошлые века людях, которые строили эти маленькие корабли. Как они в комнатах, заваленных толстыми кожаными книгами, с медным звездным глобусом в углу, при свете масляного фонаря плели хитроумный такелаж, резали из коричневого дуба узоры, клеили слюдяные окна кормовых надстроек. В песочных часах шуршала сухая струйка, за стенами, у близкого мола, вздыхало море, и стекла подрагивали в частых переплетах.
Люди эти были, конечно, старые капитаны — мудрые, много повидавшие на своем веку. Жаль, что их уже нет.
И эта модель, без сомнения, была очень старая. Тоже, наверно, из какого-то музея. Дерево от древности стало все одного, почти черного цвета. И снасти такие же. Материя туго скатанных, привязанных к реям парусов сделалась кофейно-бежевой. Лишь точеные столбики подставки светились новой лаковой древесиной. Нижними концами они уходили в толстый слой песка и мелких ракушек. Под этим слоем угадывалось тело небольшого якоря, а перед моделью, у самого стекла, торчала из песка треугольная красно-ржавая лапа.
Ежики смотрел на это, рассеянно отмечая, что на снастях кое-где серая пыль, что пушечные люки закрыты, в слюдяных фонарях на корме белеют крошечные, но, кажется, настоящие — наполовину сгоревшие — свечки, а в закрепленном на палубе баркасе лежит бочонок величиной с наперсток.
А среди мелких ракушек валяется сухая крабья клешня.
От якорной лапы Ежики опять скользнул взглядом по мачтам и вантам, вздохнул, слегка потянулся. Положил сцепленные пальцами ладони на темя — была у него такая привычка.
…Когда-нибудь Матвей Юлиус Радомир станет взрослым и, возможно, прочитает старинное сочинение под названием «Книга кораблей». И там ему попадутся слова капитан-командора Космофлота Элиота Красса д'Эспинозы — командира знаменитой «Терры»: «В тяжкие времена безотчетного страха и неясности судьбы я нашел простое и доступное всякому лекарство от душевной смуты: в Доме Капитанов я неспешно разглядывал судовые модели. Созерцание крошечных каравелл и фрегатов, где сочеталась неторопливая мудрость, кропотливость мастеров с воспоминаниями о плаваниях вокруг неоткрытого мира, успокаивает человека, возвращая ему равновесие духа, ясное сознание и надежду…»
Сейчас ничего этого Ежики не знал. Но успокоенность уже пришла к нему. Он с ровным, неторопливым любопытством разглядывал галион, покачивая разведенными в стороны локтями и трогая коленом холодную цепь ограждения.
Провисшая цепь была натянута у окна между низкими чугунными столбиками. Приглядевшись, Ежики понял, что это старые корабельные пушки. Они были врыты в пол вниз дульными срезами. Цепь, несомненно, тоже была с корабля: якорная, массивная, с поперечинками в каждом звене. Ежики еще раз толкнул тяжелые кольца коленом, сел на цепь боком к окну, покачался.
Осмотрелся опять.
Теперь тесный бетонный подвал не был унылым и гнетущим. Окно с моделью сделало его каким-то домашним. Уютно щелкали часы над темной аркой туннеля. Они показывали, что прошло уже семь с половиной минут, а следующего поезда все не было. Странно… Эта странность, однако, не тревожила Ежики. Даже тихо радовала. Так же, как и то, что не было на станции ни одного человека. Громадный город, казалось, остался далеко-далеко — с его колоссальными коробками домов, вокзалами, миллионами людей, с лицеем, с Кантором, с несчастьями. Сидеть бы здесь, качаться бы вот так долго-долго…
Но все-таки надо было узнать: что за Якорное поле там наверху?
Ежики встал. И только сейчас понял: со станции нет выхода.
Ой нет, выход, кажется, был. Только тоже очень странный. В противоположной торцовой стене, слева от туннеля, чернел узкий пустой прямоугольник.
Оглянувшись еще на окно с галионом, Ежики протопал через подвал и шагнул в темноту.
Темнота была лишь несколько шагов. Потом за плавным поворотом коридора засветилась под потолком лампочка. За ней еще, еще. Закругляясь, коридор пошел вверх, началась крутая лестница. Никаких тебе эскалаторов. Стертые ступени, стены из бугристого камня. Скорее всего, это был остаток древнего крепостного подземелья, к которому прилепилась станция.
Ежики поднимался не спеша. Раскинув руки, трогал неровности теплых стен. Лестница тоже не торопилась, делая округлые повороты. Но в конце концов забрезжил впереди уличный свет. И тогда — в смешанном свете лампочки и дня — Ежики увидел на лестнице шар.
Он лежал в выемке ступени, темный, блестящий, размером с небольшое яблоко. Ежики поднял его. Шар оказался тяжелый, из литого вишневого стекла. Ежики глянул сквозь него на лампочку — в стекле забрезжил рубиновый огонек.
Перекладывая находку из ладони в ладонь, Ежики поднялся к выходу…
Если бы он однажды утром вышел из своего дома и вместо привычного садика с кафельным бассейном и фонтаном увидел незнакомый двор, то, наверно, испытал бы такое же чувство.
Сейчас он был уверен, что окажется где-то неподалеку от площади Карнавалов, увидит башню старой ратуши с курантами и гигантский стеклянный карандаш отеля «Трамонтана». Но увидел он обширный бугристый пустырь. С пологими холмами и купами деревьев по краям. За деревьями не было и намека на город. Только в двух сотнях шагов раскинулось угловатой подковой приземистое здание красного кирпича. Длинное, с тремя рядами узких черных окон. Посреди его стояла широкая квадратная башня с зубцами и покосившимся флагштоком.
Ежики растерянно глянул назад. Оказалось, он вышел из каменного домика, похожего на старинную трансформаторную будку, какие иногда попадаются еще на окраинных улицах. Но города не было и здесь. Позади будки тянулся прямой и неширокий канал, облицованный серым гранитом. Справа и слева, далеко, он уходил в нависшие деревья. Ежики вышел на берег. Здесь на низких каменных постаментах лежали два адмиралтейских якоря. Ржавые, трехметровые. Они были положены наклонно, упирались в плиты деревянными поперечинами-штоками. Дубовые штоки были изъедены морским червем, их железные оковки кое-где лопнули.
Ежики задумчиво потрогал якорную лапу. Он почти не удивлялся. Так не удивляются странностям во сне. Он глянул вниз. У берега к вделанному в гранит кольцу была привязана лодка. В ней тоже лежал якорь, но маленький и новый. Лодка была неподвижна, потому что не двигалась и темная гладкая вода. «Холодная», — понял Ежики и даже передернул плечами.
Впрочем, зябкости в воздухе не ощущалось. Но не было и духоты, как в городе. Все здесь оказалось не так. Воздух стоял ясным, в нем растворялась прохлада с еле заметным запахом северных тополей. В небе исчезла желтизна. Часть его укрывали серовато-белые, с пасмурным налетом облака, и солнце пряталось за ними. Но половина неба оставалась чистой и светилась бледной голубизной, в которой был уже намек на вечер.
Ежики опять взглянул на кирпичное, похожее на крепость здание. И пошел к нему по траве. Среди тишины и безлюдья.
Невысокая трава казалась седой от множества отцветших и опушенных семенами одуванчиков. Они были крупные, с кулак Ежики. Он старался не задевать пушистые эти шары, но их было очень много, и семена-парашютики то и дело стаями взлетали до коленей. Тогда он перестал смотреть под ноги и снова глянул кругом.
И увидел то, что раньше не бросилось в глаза. Всюду были якоря.
Заросшие, ушедшие в землю почти целиком, наполовину или совсем немного, они лежали и торчали там и тут. Маленькие, как в лодке, и крупные, и громадные, как на камнях у канала. Большей частью ржавые, но были и такие, что темнели чистым железом. Чаще всего попадались якоря старых, знакомых по картинкам форм, но встречались и современные — с поворотными и выдвижными лапами, хитрыми скобами, изогнутыми и составными штоками… В общем, куда ни глянешь — якоря. Видимо, сюда их свозили отовсюду — и те, что снимали со старых кораблей, и те, что находили на дне моря, на местах давних битв и крушений. Как в музей под открытым небом. Свозили, свозили и забывали…
Несколько больших якорей стояли на пригорках, как памятники. Один из них — четырехпалый, со странно выгнутым туловищем-веретеном — показался Ежики особенно интересным. Он пошел к этому якорю, а навстречу, из-за бугра, вышли трое ребят.
Девочка и двое мальчишек.
Старшему было лет четырнадцать, девочка — наверно, ровесница Ежики, а младший — совсем пацаненок, лет восьми. Подходили медленно, и Ежики успел разглядеть каждого.
Малыш — босиком, в голубой полинялой майке и серых, похожих на юбочку штанах: они забавно болтались вокруг бедер. Большеголовый он был и чумазый или такой чернявый, что просто казался неумытым. Девочка — в бледно-желтом клетчатом платьице, а поверх него замшевая курточка без рукавов и со шнурками вместо пуговиц. Старший — в зеленой рубашке и в пятнистых, как у десантников из кино, брюках-комбинезоне. Он и девочка — светлоголовые, с тонкими, даже острыми лицами и спокойными глазами. Они шли шеренгой (малыш посредине) и смотрели на Ежики. По-хорошему смотрели, он сразу понял, что от них не будет ни обиды, ни насмешки.
— Здравствуй, — сказал старший, когда все остановились.
И Ежики поймал себя, что ответил лицейским коротким наклоном головы (вот ведь, въелось все-таки!). И торопливо сказал:
— Здрасте… — Замигал от неловкости.
Старший мальчик спросил с ноткой тревожной заботы:
— Скажи, ты кого-то ищешь?
— Я… нет. Не знаю. Я ехал, и тут эта станция. Раньше не было. Я пошел… посмотреть.
Девочка слегка улыбнулась и сказала участливо:
— Ты, наверно, пришел поиграть?
— Не знаю. Поиграть… как?
— Ну, у тебя же вот… — Она острым подбородком указала на шар в руке у Ежики.
— А… Я нашел его там, на лестнице. Иду, а он лежит.
— Тогда это, значит, мой! — подпрыгнул чумазый пацаненок. — Он вчера укатился, а мы не нашли!..
— Филипп! — строго сказала девочка.
Мальчишка со странным взрослым именем Филипп дернулся, отвернулся. Глянул из-за плеча, как сердитый вороненок из-за приподнятого крылышка.
Было немного жаль находку, но как препираться с маленьким? Да к тому же это и в самом деле его шар, наверно…
— Возьми, раз твой.
Филипп обрадованно протянул руку, а старший сказал мягко, но решительно:
— Так ведь нельзя. Кто нашел — того и шар. А хочешь, чтобы снова твой был, надо выиграть.
— Ну, тогда давайте играть, — потребовал Филипп громко и со слезинкой.
— А правда, — примирительно проговорила девочка. — Пошли играть в шары.
— А… как это? — Ежики никогда не слышал про такую игру.
— Да просто это. Любой сразу поймет, — сказал старший мальчик. — Пошли, площадка тут рядом…
Пока шагали, Ежики спросил наконец:
— А что здесь такое? Ну, вокруг, вот это…
Старший мальчик (он шел впереди) ответил сразу, но со спрятанной неохотой:
— Так, заповедник. Старый…
— Музей?
— Ну… вроде…
— А еще застава, — сунулся сбоку Филипп. — Видишь кронверк? — Он махнул в сторону красного дома. — Там раньше пушки стояли, а теперь…
— Фи-ли-пп, — сказала девочка. А старший быстро спросил у Ежики:
— Но скажи: ты правда никого не ищешь?
— Да нет же… Кого мне искать?
В душе уже появилось чувство, что он и правда хочет найти кого-то или что-то. Но как скажешь о неясном?
— А может, ты тоже пограничник? — опять ввинтился в разговор малыш.
— Фи-ли-пп…
Он снова превратился в сердитого вороненка:
— Ну чего?.. Спросить нельзя.
Ежики сказал, чтобы замять неловкость:
— Это, что ли, игра такая — пограничники?
— Вроде… — отозвался старший и быстро глянул на Филиппа. — Вот, пришли…
Среди мелких горок открылась хотя и заросшая, тоже в одуванчиках, но ровная поляна.
Игра в шары оказалась похожей сразу на крокет, бильярд, гольф и кегельбан. Но правила и правда были нехитрые. Нужно было пустить по земле свой шар, попасть им по другому и тот, другой, загнать в лунку или воротца из проволоки. Лунка — три очка, воротца — пять, а через воротца в лунку — сразу пятнадцать. Кто сто очков набрал, тот и победитель.
Тяжелые, из небьющегося сплошного стекла шары без задержки летели сквозь траву, отряхивали одуванчики. И рикошетно стукались друг о друга — чак, чак… Все одного размера, блестящие, но такого красивого, как у Ежики, вишневого, больше не было. Были белые, прозрачные, или бутылочно-зеленые, да еще два лимонных…
Ежики увлекся игрой. Он купался в веселой беззаботности: как птаха, удравшая из клетки. Все вокруг было так не похоже на недавнюю жизнь, на лицей, на громады и многолюдье мегаполиса. И дышалось так… ну, будто долго-долго сидел он в духоте липкой желтой палатки и вдруг кто-то с размаху распорол тканевый полог. И оказалось, что снаружи — чистота и свежесть… Ежики сбросил капитанку. Он смеялся, отдувал от лица семена-парашютики и пускал сквозь траву скользкий шар. Научился он быстро…
Где-то позади азарта и радости в памяти у него сидело: «Надо все-таки выяснить до конца, откуда станция и что за Якорное поле…» Но шары притягивали к себе, и порой казалось даже, что это не совсем игра, а еще и задача. Словно у Кая в сказке про Снежную королеву, когда он должен был сложить из льдин заветное слово. Если Ежики выиграет, может случиться что-то хорошее. Или раскроется какая-то загадка. «Какая?» — облачком набегала секундная тревога. И улетала…
Никто пока не выигрывал. У всех почти поровну очков, даже Филипп отстал не намного.
…— Филипп, у тебя совесть-то есть? Опять шар пяткой подталкиваешь!
— Я?! Подталкиваю?! Рэм, ну чего она!.. Мне камушек под пятку попал, нога и дернулась! А шар и не двинулся…
— Не ходил бы босиком, не попадались бы камешки, — снисходительно сказал старший мальчик.
В ребячьих компаниях, когда собираются для игры, не принято знакомиться специально. Имена узнают между делом, в считалках, в перекличках… Итак, Филипп и Рэм. Девочку же окликали коротко: «Лис!» А полное имя Ежики узнал, когда поспорил. Она сказала:
— Постой… Твой шар сдвинул воротца.
— Где же сдвинул! — Ссориться не хотелось, но «ежики» в характере ощетинили колючки. К тому же сдвинутые воротца — это минус десять очков. — Их просто стеблем качнуло. А стебель ведь не шар!
— Но все равно же сдвинулись, — спокойно сказала она.
— Но я-то при чем?
— Но они же даже чуть не опрокинулись…
— Елизавета, — насупленно сказал Рэм.
«Лис» лучше, чем «Елизавета», — подумал Ежики и быстро глянул ей в лицо. И встретился с ее глазами: светлыми, серовато-синими и чуть обиженными. И неожиданно затеплели уши.
— Правда… сдвинулись, — пробормотал он. И тихо выдохнул: — Извини.
Елизавета-Лис прикусила губу, дернула себя за светлый, почти белый локон у щеки.
— Да нет… наверно, в самом деле травой качнуло…
— Чтоб не спорить, пусть перебьет, — решил Рэм.
— Ага, как же! — обиженно взвыл Филипп. — Как для моего шара подставка, так сразу «пусть перебьет»!
Шар Ежики лежал в метре от лунки на ровной накатанной полосе — прямо сам просился в ямку. Бить должен был Филипп и, конечно, не хотел упускать момент.
— Ладно уж, бей, — сказала Лис, неловко отвернувшись от Ежики. — Пусть он бьет, мальчики…
— Пусть… — прошептал Ежики.
Филипп деловито подтянул штаны и пустил свой белый шар. Он ударился о вишневый, тот подкатился к лунке. Но нехотя. И сантиметрах в десяти замер.
Стало понятно, что Филипп вот-вот заревет.
— Он очень метко бьет, — утешительно заметил Рэм. — Только силы немного не хватает. Тяжелые все-таки шары-то…
А вишневый шар полежал, качнулся вдруг, почуяв неприметный уклон, и скатился в лунку.
— Ура-а!! — Филипп выхватил его, перекинул из ладони в ладонь. — Теперь он мой насовсем! Я его три раза подряд загнал! Вчера два раза и сейчас! Если третий раз подряд, значит, насовсем…
— Филипп, ты что! Вчера же другая игра была! — как-то беспомощно возмутился Рэм. — Вчера же мы без… ну, не вчетвером же играли! Если бы ты вчера трижды загнал…
— А я виноват, что он потерялся?! — Филипп опять стал рассерженным птенцом ворона.
— Да пусть берет… Бери насовсем, — сказал Ежики. И снова быстро глянул на Лис.
Филипп засопел победно, затолкал шар в карман штанов-юбочки. Карман отдулся, штаны сразу поехали вниз. Он подхватил их, подозрительно глянул: не смеются ли? Никто не смеялся. Тогда он засмеялся сам, вытащил опять шар. Поморщился:
— Царапается… — Затолкал в карман полруки и достал что-то спрятанное в кулаке. Протянул кулачок Ежики, разжал: — На… Это тебе за шар…
На ладони лежал черный якорек. Такой маленький, что можно было бы спрятать в грецкий орех. Славный такой.
Ежики оглянулся на Лис и Рэма: «Можно взять?» Лис кивнула, якорек упал к Ежики на ладонь, и все склонились над ним.
— Кроха какая, — ласково усмехнулась Лис. — Где взял, Филипп?
— Утром, под лопухами…
— Ишь какой пророс, — заметил Рэм.
«Пророс?.. Что они, растут здесь разве?.. А ведь и правда — Якорное поле…»
Якорь-росток был в точности как настоящий — адмиралтейской формы, с деревянным, набранным из крошечных реек штоком, с ювелирно тонкими скобками-бугелями на них, с кусочком якорной цепи… Зацарапался у Ежики какой-то намек на догадку…
— Спасибо, Филипп…
— Ага… А тебя как звать-то? — Филипп, он без лишних церемоний. Взял да и спросил.
Как ответить? «Ежики»? Но это не для случайных знакомых. Пускай они хорошие, но ведь не мама, не Ярик… Сказать «Матвей»? Но он не терпит, когда так зовут его, это отдает лицеем… И он растерянно сказал свое второе имя, которое раньше лишь писалось в документах:
— Юлиус… Юлеш…
— Или Юлек? — спросила Лис.
— Ага…
Пускай он будет для них Юлеком. Не все ли равно? И все-таки он чувствовал неловкость, как от обмана. И поэтому слишком пристально смотрел на якорек.
Такой крошечный… Конечно, это шутка, что он вырос здесь. Наверно, от какой-то модели. От маленькой… Если прикинуть к тому галиону, то годится он там лишь для палубного баркаса…
Галион в желтом окне вспомнился отчетливо. Как-то сразу. И так же сразу, резким толчком вернулась тревога: «Где я? Что же все это?»
Он дернул на бедре клапан бокового кармана, сунул туда якорек, суетливо, почти испуганно оглянулся.
— Ребята. А… какой это заповедник? Откуда он тут взялся?
— Всегда здесь был, — сказала Лис. — Он старый… Видишь, кронверк. — Она махнула белым хвостиком волос. — Это остатки крепости. Сейчас там ничего нет…
— А почему не видно города?
— Холмы же, — быстро сказал Рэм. — И деревья. Если забраться на башню, все видно. И город…
— А станция… Откуда она взялась?
— Ну, откуда берутся станции… — чуть улыбнулась Лис.
— Но ее же никогда не было! Она где? На Кольце? Или это радиус? Может, тупик какой-то?
Филипп, который был занят шаром, вдруг поднял голову и сказал солидно:
— Скорее уж не тупик, а тамбур…
Рэм посмотрел на него.
— Наверно, она на Кольце, Юлеш… Ты ведь ехал по Кольцу? Ну вот…
Обращение «Юлеш» царапнуло Ежики, но это была мелочь.
— Почему же я раньше здесь не проезжал? Я знаю все Кольцо.
— А раньше станции и не было, — как-то нарочито легко отозвалась Лис. — То есть была, но… не станция. А теперь приспособили. Поезда-то пошли три дня назад… Да, Рэм?
— Да, — нахмуренно согласился он. — Первый поезд пустили позавчера. А до того никто и не пытался.
— Да, но как же… — И Ежики замолчал. Все вопросы стали неважными. Кроме одного. Того, что беспокойно и неосознанно зрел в нем и теперь взорвался — короткими слезами и вскриком. И нестерпимой, как боль, надеждой!
Он бросился с поляны — к будке, где вход на станцию! Кажется, ребята что-то кричали вслед. Он мчался, рвались под ногами стебли, сквозь подкладку кармана больно царапал кожу якорек. Липли к мокрым щекам седые семена… Вход, лестница… Вниз, вниз! На стремительном повороте он чиркнул плечом о камень, вырвал клок из короткого рукава майки… Вот и подвал, желтое окно с черным кораблем! Не до него сейчас! У перрона блестит стеклами хвостовой вагон.
Пусто в вагоне…
Ежики боком повалился на замшевый диван. Дернул из-за пояса подол майки, отер лицо… Отдышаться бы…
— Осторожно, двери закрываются…
«Мама!»
— …Следующая станция — Площадь Карнавалов.
Значит, все-таки Кольцо!
За площадью Карнавалов — станция Большой Маяк. На ней главный диспетчерский пункт Кольца. Там, конечно, знают всё! Должны знать…
3. Паутина. Кантор
— …А теперь давайте про все еще раз, по порядку. Хорошо? — Заботливый голос, внимательные глаза под седыми бровями, спокойное морщинистое лицо…
Сперва-то на мальчишку прикрикнули: ворвался, мешает работать, что за дети пошли! Потом примолкли, позвали вот этого. Судя по широким шевронам Дорожной сети — главного диспетчера. Он сразу попросил выйти из дежурной комнаты всех, кроме мальчика. Усадил его. Обратился на «вы», хотя нескладно притулившийся на краешке кресла посетитель — в перемазанной, порванной майке, с грязными полосками на лице, с каким-то мусором в волосах — явно не тянул на роль серьезного собеседника.
— …Все, как говорится, разложим по полочкам… Вы — лицеист шестого класса Матвей Радомир…
— Да… («Господи, какая разница! При чем тут это?»)
— Вы говорите, что ваша мама погибла год назад, когда возвращалась на аэротакси-автомате из Бельта. Взорвался двигатель-антиграв…
Да, так ему сказали. Эти двое, которые пришли тогда… Летчик и тетка из опекунской конторы. Когда взрывается антиграв, остается облачко атомной пыли. И никакого следа от человека. Разве что эмалевый медальон на серой стене в Парке памяти. Зачем он, медальон… Взрыв этот — редчайший случай. И вот же, ударила злая судьба. И не кого-нибудь, а маму. И его, Ежики…
Он закричал тогда этим двоим, что они врут и пусть убираются. Летчик стоял молча, закусив белые губы, а опекунская чиновница деловито совала Ежики под нос какую-то пахучую дрянь и говорила, что он должен куда-то пойти. Вместе с ней, с этой теткой… Он оттолкнул ее плечом, заперся в своей комнате, залился слезами. Случившемуся он поверил сразу, хотя и кричал, что это неправда… Не раз он видел в жутких снах, что с мамой случилось непоправимое. И просыпался с мокрым лицом, перепуганный и благодарный за вернувшееся счастье. А теперь не проснешься, не стряхнешь эту страшную черноту… А может, опять сон?! Нет… Нет, хоть голову расколи о глухую дверь.
Из-за двери кричали, уговаривали, чтобы вышел.
Они что? Мало им, что нет мамы, они хотят, чтобы он оставил дом! Его дом! Где все его и мамино!
Он прижался к полукруглому цоколю кондиционера. Пластик был холодный… Как труба в том бункере… Как песок в красной пустыне, когда лежишь навзничь и смотришь в лиловое небо, где звезды и маленькое колючее солнце… Не надо об этом, так нечестно защищаться от горя. Это будет измена маме!.. Но как иначе выдержать, как отстоять дом?.. Всадники-итты подъезжают, смотрят с высоты боевых седел на упавшего мальчишку. Они не ведают ни боли, ни горечи, ни страха. Они — как марсианский лед…
Нет, горе не стало тогда слабее, но сжалось в тугой черный ком. Слезы остановились. Мысли стали четкими, и в руках появилась сила. Через окно он выскочил в сад, ухватил из травы шланг, подключил к вентилю большого давления. Протянул резиновую змею к себе в комнату, с медным наконечником наперевес вышел в холл.
«Уходите…»
«Мальчик! Мы понимаем, что…»
«Уходите. Это наш с мамой дом».
«Но…»
Тугая струя вымела из крытого стеклом холла чужих людей. Тогда он сорвал на щитке пломбу и включил силовое поле…
— Да, мне сказали… — прошептал он. — Что она…
— Я понимаю, вам тяжело, хотя и время прошло… Вы говорите, что ваша мама работала у нас в системе консультантом и что это ее голос записан для объявлений на Кольце… Да, замечательный голос… И сейчас ты услышал его на какой-то новой станции?
— Да! — Ежики дернулся вперед.
— Но послушай, мальчик… — Диспетчер мягко перешел на «ты». — Я понимаю, тебе хочется такого вот… чуда, одним словом. И ты решил, что ее записали недавно, да? Господи Боже ты мой… По-твоему, значит, тебя обманули и мама где-то прячется? Но зачем это? Подумай…
Он думал! Пока бежал и ехал, столько было горячечных мыслей, что болью и звоном отдавались в голове… Может, она попала в аварию и стала калекой, и хирурги бессильны, и она не захотела жить с сыном, чтобы не пугать его уродством… Или встретила какого-то человека, полюбила его, и они решили пожениться, а человек этот не хочет, чтобы у нее был сын… Дико думать такое про маму, но все же это было бы в миллион раз лучше, чем ее совсем нет на свете… Ну, пусть она не хочет его видеть, лишь бы она была!..
— Малыш, — неуверенно сказал диспетчер. — Ну как тебе объяснить? Ты ведь уже не маленький…
Ежики не заметил этой нелепицы — «малыш не маленький». Он сказал тихо и отчаянно:
— Голос-то ведь есть. Откуда он взялся?
— Голос… Да акустический компьютер смоделирует по образцу любую речь. Чтобы не отличалась от других объявлений.
— Нет… — Ежики упрямо махнул волосами (и полетели семена-парашютики). — Так не смоделирует, это живой голос. Ну зачем компьютер станет делать вдох между словами? Сперва «Якорное», потом… такое короткое дыхание и тогда уж — «поле»…
— А… что это за слова?
— Ну, название станции! Я же объясняю…
— Постой, мальчик… — Диспетчер нагнулся к нему так быстро, что Ежики, словно защищаясь, вскинул коленки, вдавился в кресло. — Послушай, малыш… такой станции нет.
— Как это нет?!
— «Якорное поле»?
— Да!
— Нет. Ты что-то… путаешь, наверно…
— Но я был там только что! Она перед Площадью Карнавалов! Маленькая такая станция, с окном и кораблем! А наверху поле и якоря!..
Ежики хотел уклониться, но диспетчер все же дотянулся, большой холодной ладонью потрогал ему лоб.
— Вы что, думаете, я больной?
Диспетчер вздохнул:
— Думаю — зачем ты морочишь мне голову?
— Вы сами морочите мне голову! — Ежики крикнул это с дерзостью отчаяния. Вскочил. Диспетчер смотрел внимательно и печально. Ежики обмяк, прошептал: — Можно же убедиться, тут ехать три минуты. Сразу за Площадью Карнавалов… Ой нет, надо сперва назад, до Солнечных часов, а потом обратно…
— Почему? — спросил диспетчер строго и чуть насмешливо.
— Ну… там же, на Якорном поле, только один путь, линия Б… Там маленькая станция, даже поезд весь не влазит… — Под взглядом диспетчера Ежики совсем сник. Но тут же сердито вскинулся: — Вы сами должны знать, вы главный!..
— Угу… — неопределенно отозвался тот. — Посиди минутку, я кое-что выясню… — И вышел.
«Зачем он скрывает? Военная тайна? Но в нынешнее время уже не бывает военных тайн… Никакой компьютер так не сделает мамин голос…»
Но надежда становилась все меньше, а тоска была большая. И пусто было, тяжело и тихо. Лишь еле слышно гудели за могучими стенами поезда.
Диспетчер вошел. Ежики опять сказал ему сквозь подобравшиеся слезы:
— Можно же поехать и проверить…
— Да зачем же ездить-то? Смотри… — Во всю стену диспетчерского пункта засветилась схема путей. Желтая паутина — Внутреннее, Среднее и Большое Кольцо, ломаные линии частых радиусов. И в этой паутине, как разноцветные мухи, бьются огоньки станций. С красными буквами названий. — Иди сюда.
Ежики через силу подошел.
— Смотри: вот Площадь Карнавалов, вот Солнечные часы… Где здесь Якорное поле?
Не было Поля.
— А может, в другом месте? — сказал диспетчер. — Пожалуйста. Набери название сам.
Светящиеся клавиши пульта плохо были видны сквозь мокро-липкие ресницы. Ежики проморгался, без всякой надежды набрал по буквам: Я-К-О-Р-Н-О-Е П-О-Л-Е. Пискнуло в динамике, зажглось на экране: «Извините, такой станции нет…»
— Но она же совсем новая… — прошептал Ежики.
— Надеюсь, ты не думаешь, что новую станцию могут не подключить к сигнальной сети?
Именно так он и думал! Но ничего не сказал. Светящаяся схема путей нависала над ним и словно придвигалась. Будто хотела опутать клейкой паутиной… Она была лживая, эта схема! Ежики так и хотел крикнуть. Но горло распухло от подступивших слез. Он закашлялся. Поплыло в глазах. Ежики шагнул назад, опять сел. Уперся лбом в ладони, локтями в колени. Жалким клочком мотнулся у плеча полуоторванный рукав.
Ведь именно там, на станции, он порвал майку! На лестнице! Значит, лестница — есть! Станция — есть! Он поедет сейчас туда опять, увидит, докажет себе и другим!
Он хотел это яростно бросить диспетчеру, вскинул на него мокрые глаза. Но диспетчер смотрел мимо Ежики, на дверь. Сказал торопливо:
— Да-да, прошу вас…
Ежики сел пружинисто и прямо. В дверях стоял Кантор.
Оказалось, что на улице уже лиловый вечер. Такой же липкий и душный, как день. Но под прозрачный колпак автомобиля тут же накачало свежего воздуха. Даже с запахом сосны. Кантор сказал в микрофонный раструб автоводителя:
— Сектор «Зэт», четвертая линия, на тройном желтом два отрезка налево…
Он всегда точен и спокоен, Кантор…
Поехали… За прозрачным пластиком исказилась, уплыла назад светящаяся башня «Трамонтаны», по мягким изгибам стекла побежали отблески рекламы. Ежики вдавился в пухлые подушки заднего сиденья.
Кантор сидел впереди. Видны были крупные покатые плечи, лысина, маленькие круглые уши и край очков. На тонкой никелевой оправе загорались искорки.
Зачем он носит очки с оптическими стеклами — такую дикую старомодность? Хочет показать, что весь в заботах и нет у него времени на возню с контактными линзами или на операцию с гибким хрусталиком?.. И лысина. Не больше недели надо, чтобы в парикмахерской вырастили человеку шевелюру любой пышности, а он… Или считает, что такая внешность самая подходящая для педагога-профессора и ректора?
Кантор, без сомнения, чувствовал взгляд лицеиста Радомира. Но не оборачивался и молчал. В молчании была деликатная укоризна и в то же время как бы понимание и уважение странностей своего ученика. «Что делать, господа, в лицее каждый ученик — тысяча загадок и проблем…»
«Однако долго вы не промолчите, господин ректор, я вас знаю…»
— Право же, Матиуш, такого я не ожидал… — Кантор слегка обернулся.
— А что случилось-то? — сказал Ежики из уютных подушек. — Разве я не имею права гулять по городу, когда нет занятий?
— Имеете, конечно… Однако ваши приключения, ваш вид…
— А что — вид? Просто забыл капитанку на поле… А потешать прохожих вицмундиром я все равно не буду! Пацаны вслед орут…
— Ну и речь у вас… Понимаю, это способ самоутверждения. Хорошо, хорошо, не носите «вицмундир», это ваше дело. Мы живем в свободном обществе… Но ваше поведение в диспетчерской, ваши фантазии…
Ежики отвернулся и каменно замолчал.
— Понимаю, вы не хотите снисходить до спора… И прекрасно вижу, что вы искренне верите в это ваше… э… Якорное поле. Но оно же не более чем результат ваших… так сказать, прогулок. Я от души вам сочувствую, Матиуш… Но все хорошо в меру…
— Что в меру? Сочувствие? — не сдержал ехидства Ежики.
— Я имею в виду ваши путешествия. Нервы, переутомление — и вот результат…
— Значит, по-вашему, мне все это привиделось…
— Не совсем точный термин, но… Мати, мальчик мой, при ваших способностях, если их не держать под контролем, и не такое может случиться. Я не удивлюсь, если вы однажды силою мысли из ничего создадите реальные предметы… Это шутка, разумеется, но… и не совсем шутка. Вы же знаете, индекс вашего воображения выше всех известных нормативов… И вам следует беречь себя, Матиуш, ради всех нас, ради общества, которое…
Речь Кантора стала клейкой, обволакивающей. Как паутина. Ежики тряхнул головой…
Кантор… По-испански это слово означает «певец». Но у Ежики в сознании оно складывается из двух других: «ментор» — занудный учитель и «катэр», что по-немецки означает «кот» (сытый и невозмутимый). Самодовольно-ласковый, уверенный в себе. Эта уверенность и ласковость просто как наваждение какое-то, не устоять. Ежики уступает, становится послушным (надо, в конце концов, порой к кому-то и прислониться, отдохнуть душой). Но потом опять — хмурая осторожность и скрытая обида.
Если бы не Кантор, черта с два кто-то выцарапал бы Ежики из его дома!
…Дом тогда взяли в настоящую осаду. Набежали, конечно, и просто любопытные: мальчишка, говорят, заперся наглухо, не пускает взрослых, видать, натворил что-то. Но прежде всего были тут дядьки и тетки из Опекунской комиссии, директорша школы, чины Охраны правопорядка и всякие другие чины. Уговаривали через мегафоны — то поодиночке, то наперебой. Ежики не слушал. Скорчился в своей комнате на диване, притиснул к себе мамину фотографию, и его скручивало от рыданий. Один раз даже показалось, что сейчас умрет, и он обрадовался. Но наступила только черная усталость, уже без слез. И тогда он опять услыхал приглушенные силовой защитой мегафоны.
Вышел в стеклянный холл. Люди в трех шагах от низкой садовой изгороди с распахнутой калиткой тыкались руками и грудью в невидимую силовую стенку. Заметили его, опять зашумели, замахали. Кажется, даже угрожающе.
Ежики не боялся. Чем они могли его напугать? Самое страшное, что могло случиться в жизни, уже случилось: мамы нет… Он долго смотрел на них, потом сказал:
— Уходите…
Защитное поле работало лишь в одну сторону, наружу. И звуковые волны, и любой брошенный предмет оно выталкивало из себя с утроенной силой. Мальчишечий голос резанул столпившихся. И все затихли на минуту. Потом круглая дама выплыла вперед и почти запела в мегафон, пряча в сладком голосе раздраженные нотки:
— Милый мальчик! Мы все тебя понимаем и как раз поэтому считаем, что тебе не следует оставаться одному. Это очень тяжело для тебя. Совет опекунов решил, что…
Ежики (милый воспитанный Ежики!) вспомнил язык «садовых троликов» из бункера и отчетливо сказал даме, чтобы шла… вместе с советом опекунов. Даму в полуобмороке оттащили в задние ряды. Ежики засмеялся, закашлялся слезами, опять засмеялся. Беспощадно. Он ненавидел всех, кто там собрался. Они пришли, чтобы вырвать его из родного дома. Из жизни, которая связывала его с мамой. Конечно, он все равно скоро умрет, но умрет здесь. А их не пустит на порог. Ни за что!
Уже потом он понял, что эта война, эта ненависть помогла ему пережить горе. Но сейчас он просто смотрел на толпу со спокойной яростью смертника.
— Матвей! Ежики… — Это директорша школы.
Ей он не хотел плохого. Он сказал сумрачно:
— Идите домой, пожалуйста…
Вышел вперед грузный майор Охраны правопорядка в парадной фуражке и витых погонах.
— Матвей Юлиус Радомир! Поговорим по-мужски! Вы изучали в школе основы законов и должны знать, что бывает за сопротивление властям. Вы нарушаете…
Пятиклассник Радомир изучал основы законов.
— Я ничего не нарушаю! Вы сами нарушаете! Дом неприкосновенен!
— Никто не посягает на дом! Он останется как есть! Но гражданин, не достигший совершеннолетия, не может жить и воспитываться один!
— У меня есть родственники!
В самом деле! Ведь есть же тетя Аса! Старшая сестра отца. И ее муж! Не очень-то знакомая родня, виделись всего несколько раз, но к Ежики она всегда хорошо относилась, по голове гладила. Пожилая, добрая такая тетенька, почти старушка. Разве она откажется пожить здесь, пока племянник не подрастет?
— Чтобы оформить опекунство родственников, необходимо время, а пока…
Ежики бросился к экрану видеосвязи. Тетя Аса жила в Лесном поясе, связаться можно за полминуты! Но индикатор не светился.
— Мерзавцы! Зачем вы отключили связь?!
— Мы отключим все!.. Даже линию доставки!.. Останешься без еды! — восклицала из-за голов дама-опекунша.
Ежики опять зло засмеялся. Он хотя и маленький, а понимает, какой крик поднимут газеты всего мира: «Власти Полуострова уморили мальчишку в его собственном доме!» Есть, в конце концов, Комитет защиты детства!
— …Есть, в конце концов, специнтернаты, куда направляют детей, злостно не подчиняющихся законам страны! — Это опять майор.
— А куда направляют взрослых, которые врываются в чужие дома?!
— Мы не врываемся, мы просим выйти тебя!
— Я никуда не поеду! Это мой дом!
Этоего дом. И мамин. Мама стала жить здесь давным-давно, когда вышла за отца. Это старый дом Радомиров, его строил дед Ежики, папин отец, архитектор Дан Цезарь Радомир, когда не было на Полуострове никакого мегаполиса… А мама все тут отладила, настроила своими руками: каждый светильник, каждую полочку, каждую штору на окне. Даже сигналы кухонного автомата наиграла и записала сама… Здесь все — мама. А его, Ежики, хотят вырвать отсюда, увезти куда-то, оборвать все ниточки, все корни… Он будет защищаться до смерти. Потому что здесь он защищает и дом, и себя, и маму…
Известие о маминой гибели принесли утром, а сейчас был уже вечер, густой, синий (а казалось, что прошло уже много дней и вечеров, потому что в один день такое горе вместиться просто не могло!). Люди, окружившие дом, казались черными. Ежики включил в доме свет. Плафоны засветились ярко, почти празднично, мигнули и пожелтели. Словно вырубилась электролиния и включились аварийные энергонакопители. Ударил по стеклам прожектор подъехавшей машины. Толпа качнулась вперед, будто общим напором решила преодолеть поле. Остановилась.
— Уходите! — звеняще сказал Ежики.
Они суетливо махали руками, переговаривались и, кажется, чему-то очень удивлялись.
— Мальчик, мы последний раз тебе…
Он расставил ноги, вскинул медный наконечник шланга. Усиленная полем струя хлестнула по темным ненавистным людям без лиц. А, побежали!.. Но тут же напор ослаб, струйка тонко полилась на паркет. Выключили воду в саду… Ну и черт с вами! Все равно не возьмете! Поле непробиваемо, хоть стреляйте!
Он встал посреди холла, скрестил руки — упрямый, как камень. Неудержимый излучатель злой силы и решимости… Он видел, как два сержанта на мотоциклах с разгона попытались пробить силовой барьер и проскочить в широкую калитку. Упругая защита вышвырнула их, как мячики, в разбежавшуюся толпу. Ежики засмеялся, не разжимая губ: идиоты… И почти сразу увидел небывалое.
Оборачиваясь к людям, что-то говоря им, подошел большой лысый мужчина в очках. Люди послушали его, отошли. Он вынул белый платок и, вскинув его (парламентер!), зашагал к калитке, потом к стеклянному входу. Он двигался с натугой, как бы расталкивая плечом плотность защитного поля, но без остановки. Ежики обмер. Потом кинулся к двери, чтобы включить запоры. Но человек уже вошел. Он печально и ласково смотрел сквозь блестящие очки.
— Матвей… Матиуш, мальчик… Я не с ними, — он кивнул за стекла, — я сам. К тебе… Давай поговорим… — Он тихо подходил.
Ежики попятился, наткнулся на твердый диван у камина, упал на него, судорожно сел.
— Я ректор Особого суперлицея Командорской общины. Профессор Кантор. Я делаю тебе дружеское, честное предложение…
Он приближался к Ежики, нагибался — большой, серый, как слон. Вроде бы добродушный. Тянулся пухлой пятерней. Чтобы погладить по голове? Или схватить?
Ежики извернулся, отчаянно ударил Кантора пяткой в колено. Ступня рикошетом ушла вбок. Чугунный узор боковой стенки камина горячо резанул по ноге. Ежики скатился на пол, сел, сцепив зубы, пружинисто приготовился к прыжку…
Профессор стоял, опять вскинув над головой платок: сдаюсь, мол. Белая манжета съехала вниз, над ней блеснула квадратная пластинка. Ежики рванулся в сторону. Но вязкая чернота властно легла на мальчишку…
Потом Кантор не раз клялся, что не было у него парализатора. Просто Матиуш потерял сознание, не выдержал организм. Немудрено! Сколько всего разом свалилось на мальчишку. И страшная весть, и тот бой, который он вел целый день… Нет, он, Кантор, не осуждает Матиуша за сопротивление. Тот был по-своему прав. И мужествен… И все-таки истинное мужество («ты уж поверь, мой мальчик») не в слепом сопротивлении, а в четком анализе обстоятельств и в умении где-то спорить с ними, а где-то в силу необходимости подчиниться («чтобы потом эти же обстоятельства подчинить себе…»).
Ежики почти верил Кантору. А иногда совсем верил. Тот был терпелив и добр. Ни разу не повысил голоса ни на кого из лицеистов. И для каждого находил время.
Пока Ежики лежал в лицейской клинике у молчаливого доктора Клана, Кантор появлялся там ежедневно. Разговаривал недолго и без навязчивости, но своего добивался… Он говорил, что, конечно, мальчик может жить где хочет, но обязательно со взрослыми. А оформление опекунства — дело хлопотное. И что не лучше ли Матиушу временно пожить здесь и стать воспитанником одного из лучших в стране учебных заведений? Тысячи ребят мечтают об этом… А с домом — ничего не сделается, служба Охраны правопорядка, пока суд да дело, возьмет его под свой контроль. А Матвей сможет с кем-нибудь из старших бывать там, когда соскучится, брать нужные вещи, игрушки, одежду (так потом и было)…
Ежики был слаб, как после долгой болезни. Часто плакал — не только от мыслей о маме, но и от ласкового слова. Кантор уговорил его.
…Все это случилось в июне. Две недели Ежики провел в клинике, потом жил в лицейском интернате под заботливым надзором Кантора и молодого воспитателя Янца. Янц был высок, худ, излишне суетлив, предан Кантору и малость глуповат. Но в общем-то ничего, не очень докучал. Они водили Ежики с несколькими другими ребятами по музеям, возили на Львиные острова. Порой было даже интересно. И все-таки Ежики смотрел на жизнь отрешенно, как сквозь дымчатую пленку.
В конце августа начались вводные занятия. Многое оказалось не как в школе: сравнительная история древних мифов, начала общего языкознания, классическая литература, основы нейрокомпьютерной техники. Лицеист-новичок Радомир учился без охоты, но и без лени. Случалось даже, что на какое-то время и увлекался. Вернее — отвлекался. От мыслей о маме, о доме. Казалось иногда, что прошло много-много времени и он давно уже не прежний Ежики. Но порой его словно обдавало зябким ветром, горе опять подступало вплотную. И тоска… Правда, уже не такая резкая. И он прятал ее от других…
Конечно, Ежики разговаривал по видеосвязи с Яриком. Не раз даже. Но разговоры были стесненные, скомканные. Ярик мучился, будто виноват был, что у него все в порядке, когда Ежики — сирота. Он сказал один раз, что его мама справлялась, можно ли им взять Ежики к себе. Но в Опекунской комиссии ответили, что все не так просто: нужна масса решений, обследований, постановлений. Ежики только вздохнул. Хорошо, конечно, было бы жить вместе с Яриком, но уезжать в такую даль от дома, совсем отрываться… Да и так ли всерьез предлагала это мать Ярика? Она недавно вышла замуж, хватало забот и без чужого мальчишки.
Осенью приезжала тетя Аса. Сказала, что они с мужем готовы переехать в мегаполис, чтобы жить с мальчиком, но Опекунская комиссия отложила решение до зимы. Пусть, мол, мальчик успокоится, придет в себя и сам примет здравое решение. А пока нет смысла вырывать ребенка из такого замечательного учебного заведения — Особого суперлицея.
Зимой, однако, тоже ничего не решилось. И Кантор наконец объяснил ему откровенно: дамы в Опекунской комиссии злы на Матвея Радомира за тот бой, который он дал им тогда, в своем доме… Нет, он-то, Кантор, все понимает, но что поделаешь с оскорбленными чиновницами? Они говорили даже, что мальчишку следует поставить на спецучет в службе Охраны правопорядка. А тогда чуть что — и в штрафную школу. Есть ли смысл рисковать? А в лицее Матиуш как за каменной стеной. Лицей, слава Богу, не подчинен этой идиотской системе Просвещения и Общественного Воспитания, у него свое ведомство.
Ежики сказал, что плевать ему на угрозы глупых теток и он согласен рисковать. И Кантор обещал честно похлопотать о его возвращении домой. Но хлопоты затягивались. И прошел уже год. Иногда казалось, что это был один, растянутый в чудовищной бесконечности день с заведенным распорядком: завтрак, занятия, обед, какие-то ненужные развлечения и пустые игры, ужин, вечернее сидение у экрана — и спать… Во сне приходила мама. Такая живая, настоящая, что не было и мысли, будто это сон… Тем горше было просыпаться.
Но он жил. Как все. Порой улыбался, гонял мяч с другими ребятами в лицейском парке. Играл Задумчивого Кролика в спектакле на рождественской елке. Но ни с кем не подружился.
Лицеисты были самые разные — от малышей-приготовишек до взрослых дядек — выпускников высшего курса. А всего — не больше полутора сотен. Каждый класс или курс — десять человек. И ровесников Ежики тоже не больше десятка. Причем все какие-то… ну, каждый в своей скорлупе. Со своими заботами и мыслями. Как и сам Ежики. Наверно, это и объяснимо: почти все лицеисты были сиротами…
Летом Ежики летал к Ярику. Было там неплохо. Отчим Ярика оказался добрый дядька, возил ребят на катере вдоль океанского побережья и на Птичьи скалы с великанскими гротами… Но все же что-то не ладилось в семье у Ярика, и полной радости не было. Потом Ярик перекупался, схватил резкую простуду, пришлось даже в клинику отправить. И Ежики уехал, не дождавшись конца каникул. Навестил в Лесном поясе тетю Асу. Она сказала, что теперь Опекунская комиссия упирается из-за того, что у нее, у тети Асы, «преклонный возраст».
— Намекают: вы, мол, помрете, а мальчик опять останется один. — Она сухо засмеялась. — Ладно, племянничек. Стукнет четырнадцать лет, сможешь сам решать…
Но до четырнадцати лет столько еще ждать!
У тети Асы было скучно. Ежики вернулся на Полуостров. Дом стоял запертый, с пломбой на дверях. Но можно было уговорить Кантора или Янца взять в Управлении Охраны правопорядка ключ, побыть в доме хоть часик. Дважды Ежики так и делал. А потом не стал: слишком грустно было уходить из дома.
Мама теперь снилась реже. И оставалась одна горькая отрада — Кольцо. Мамин голос…
У каждого лицеиста была своя комната. У Ежики — угловая, на втором этаже, окнами в парк.
…Кантор включил свет.
— Вы прилягте, Матиуш. Я позову доктора.
— Зачем? Ничего со мной не случилось.
— Ну, все-таки…
Ежики лег на узкую тахту. Она была твердая (мальчикам не следует нежиться в мягких постелях). Кантор присел на краешек. «Сейчас начнется: будет нагонять дремоту». Мягкие ладони легли на лоб.
— Ох как ты устал, мальчик…
«Знаем мы эти трюки». Ежики запросто мог бы не подчиниться усыпляющему воркованию, но не все ли равно?
Дрема накатывалась. Ладони прошлись по щекам, по плечам, по рукам, по телу, задержались на бедрах. Скользнули по ногам, смывая с них саднящую усталость. Осторожно сняли сандалии (Ежики сквозь вязкое забытье уловил укоризненный вздох: ох, мальчик, в обуви на тахту…).
Потом Кантор, кажется, вышел. Лежать было хорошо, но остатки колючего беспокойства — последние такие иголочки — мешали полному покою. И Ежики резким толчком нервов разорвал сон.
Он лежал теперь по-прежнему неподвижный, с прикрытыми глазами, но с ясной головой. Сквозь сомкнутые ресницы видел на потолке рельефный узор с темными глазкаґми в завитках орнамента. Каждый лицеист знал, что в одном из глазков — широкоугольный объектив ректорского экрана. Дабы ведомо было ректору, чем заняты подопечные чада наедине. И ректор знал, что лицеисты это знают и заклеивают глазки. И был поэтому еще один объектив — укрытый за решетками зимнего обогревателя. Знали и про такой, закрывали, если надо. Но были, говорят, и еще — совсем хитрые и, скорее всего, с инфракрасным приемником, чтобы темнота не укрывала воспитанников от наставнического ока. Ну и наплевать! Ежики скрывать нечего. Разве что Яшку. Но поди разбери на экране, что там делает мальчишка с маленьким школьным компьютером типа «Собеседник»…
Однако сейчас Ежики хитрил, притворялся дремлющим. Увидел из-под опущенных век вошедшего опять Кантора и доктора Клана — высокого, со щетинкой седых волос и лицом старого гусарского полковника из кино про наполеоновские войны. Без халата, в старомодном парусиновом пиджаке.
— Эк ведь умаялся, бедняга… — Доктор мягко взял Ежики за локоть.
Ежики неразборчиво бормотнул, как положено человеку в липкой дремоте полугипноза. Выше локтя ткнулся холодный пятачок безболезненного шприца (наверно, с бактерицидкой на всякий случай). Датчики докторской машинки — тоже холодные и влажные — присосались у пульсирующих жилок: на шее, у ключицы, на запястье, под коленкой… Ежики дернулся от щекотки (это можно и во сне).
— Ничего, ничего, вояка… сейчас… По-моему, профессор, все в порядке. — Доктор говорил громко. Не только ректору, но так, чтобы и мальчик слышал сквозь дрему. — По-моему, все в пределах нормы. А то, что вы сказали… Эта станция, поезд… Такое бывает в начале переходного возраста. Особенно у этих ребят. Своего рода сон наяву. И твердая уверенность в реальности этого сна…
«Неужели и в самом деле сон? Доктор не Кантор, он вроде бы никогда не хитрит…»
— Значит, никакого лечения? — так же громко спросил Кантор.
— Никакого… Стоит понаблюдать немного. А вообще это объяснимо и даже естественно у мальчика с таким индексом воображения.
…Ох уж этот индекс воображения! Как его измерили, откуда взяли, что он у Матвея Радомира выше всех в лицее? Люди с воображением стихи пишут, картины рисуют, в артисты стремятся. Или музыку сочиняют. А он в музыке ну совсем ни бум-бум, хоть и сын композитора и дирижера… Он даже Задумчивого Кролика-то сыграл благополучно лишь потому, что там одно требовалось: быть задумчивым. Но Кантор говорит, что раннее проявление таланта не обязательно. Все в свое время. Главное пока — постигать программу лицея. Ведь недаром же Матиуш попал сюда. В Особый суперлицей берут лишь тех, у кого какие-то сверхспособности. В самых разных проявлениях…
Однажды Ежики спросил: как это Кантор сумел разглядеть его «индекс воображения» там, во время осады, сквозь силовое поле и стекла. Кантор сказал, что в тот вечер, проходя мимо, он просто увидел в стеклянном холле мальчишку, которому грозила толпа не очень умных людей. И бросился на защиту. Конечно, задача Командорской общины, которой принадлежит лицей, — прежде всего забота о детях с особой одаренностью, ибо за ними будущее. Но если плохо любому ребенку, какой командор пройдет мимо?.. Однако уже там, в доме, он, Кантор, увидел, что мальчик действительно с большими способностями…
«Наверно, когда я вас трахнул ногой», — не раз порывался сказать Ежики. Но молчал, конечно. Хотелось ему и спросить: «Как вы прошли сквозь поле?» Но он понимал, что Кантор отвертится: когда, мол, ребенок в беде, у меня появляются сверхсилы, должность такая. Или еще что-нибудь в этом роде…
Доктор Клан ушел. Ежики расслабленно пошевелился, открыл глаза. Кантор стоял спиной к нему у растворенного окна. Почуяв движение и взгляд, вздрогнул, неловко дернул рукой. Обернулся. За ним, в окне, был черный парк, клейкая, без прохлады, ночь… Сдвинуть бы стекла и включить кондиционер…
Ежики медленно сел.
Кантор сказал добродушно:
— Доктор уверен, что все в порядке. Вам надо просто отдохнуть. Стелите постель и ложитесь… Или хотите ужинать?
— Лягу…
— Вам помочь?
— Что я, умирающий?
— Ну, не ершись, мальчик… Я прошу, не выключай ночник, чтобы дежурный мог понаблюдать, как ты спишь. Доктор велел… Глазок не заткнут?
— А что, инфракрасный не работает? — мстительно спросил Ежики. Откровенность за откровенность.
— Ох, Матиуш… Ну откуда эти выдумки?
— Индекс воображения…
Ежики чувствовал себя вполне бодро. Не было усталости. Лишь на бедре царапалась маленькая, но надоедливая боль. Ежики украдкой поддернул коротенькую штанину. На коже припухли царапины — словно след кошачьей лапы.
Но ведь это… Ладно, про порванную майку ничего не докажешь, но здесь-то — след от якорька!
Ежики торопливо зашарил в кармане. Якорька не было. Не было якорька-малыша, выросшего под лопухом на холмистом заброшенном поле.
Но ведь раньше-то он был! Вот царапины от колючей лапки. И вишневый стеклянный шар — был. И Филипп, и Рэм, и Лис!.. Идите вы к черту с вашим индексом воображения!
Кантор смотрел пристально и шевелил пальцами сложенных на груди рук. Пальцы — пухлые, большие, но — ловкие. Прошлись по майке, по карманам…
Они встретились глазами. Кантор встал странно, левым плечом вперед. Словно против сильного ветра. Или против силового поля, когда он шел от калитки к дому.
«А все-таки, все-таки как он сумел пройти сквозь силовой барьер, который не может преодолеть никто?.. Кто вы, господин Кантор? И зачем вы мне врете?.. Или не только мне?»
Мальчик Ежики опустил глаза. Не от робости. От боязни, что Кантор догадается, о чем думает Матиуш. Надо быть хитрым. Матвей Юлиус Радомир ступил на тропу войны. Неизвестно с кем, с каким злом. Но это — зло. Это — война. И сдержанность нужна сейчас, как маскировочный комбинезон десантнику.
Ежики зевнул:
— Все-таки голова гудит. Лягу…
— Конечно, конечно…
— Значит, доктор считает, что все мне приснилось?
— Ну, Матиуш, посуди сам…
— Ладно…
— У меня к тебе просьба, мальчик. Не уходи несколько дней из лицея. Сам понимаешь…
— А форменный костюм? Он же в камере хранения.
— Пустяки, я скажу, утром принесут новый… Хотя, по-моему, он тебе и не нужен. Мне кажется, у тебя на лицейскую форму просто аллергия какая-то.
Ежики повел плечом: что, мол, поделаешь…
— Не понимаю, мальчик, почему ты до сих пор не полюбил наш лицей. К тебе здесь всей душой… Не понимаю…
— А я не понимаю, почему меня не пускают домой! Давно мог бы жить там с тетей Асой…
— Ты же знаешь: я искренне хлопочу…
«Ага, хлопочешь ты…»
— Кстати, Матиуш, завтра вам лучше не ходить на занятия. Почитайте, посмотрите кино, отдохните. Доктор зайдет.
— Ну да, целый день в комнате сидеть! Пойду в школу.
4. Хранители. Яшка
Утром Ежики увидел в шкафу новый форменный костюм — со всеми позументами и лампасами. Но сделал вид, что не заметил его. Назло лицейским нравам выбрал пеструю рубашку — с черными и белыми чертенятами на малиновой материи. Конечно, не следовало слишком дразнить Кантора и воспитателей, но и притворяться чересчур послушным не стоило — это ведь тоже подозрительно.
К тому же сегодня был «гуманитарный» день, лекции по истории и литературе читались не во внутренних классах, а в здании старой Классической гимназии, на них сходились ребята из разных школ и училищ, где не было никакой формы. И Ежики знал, что, отличаясь от лицеистов, он зато не будет выделяться из основной разноцветной толпы.
Гимназия стояла в трех кварталах от лицейского парка, на маленькой площади Наук с памятником Копернику. Серый камень, узкие окна, колонны, широкая лестница ведет к входу. Обычно перед занятиями на лестнице пестрым-пестро: и сидят, и скачут, и по-всякому играют… Но сейчас было еще рано. Ежики ушел из лицея задолго до начала лекций, на ходу ухватил в столовой стакан сока и кекс. Не хотелось никого встречать, ни с кем говорить. Вчерашнее помнилось четко, однако уже без тоскливой тревоги. Была у Ежики надежда. И ожидание. Что-то должно было случиться. Непонятно, что именно, однако — все к лучшему. Он теперь не надеялся на какое-то особенное чудо: утро приносит мыслям ясность и прогоняет сказки. И все-таки… Якорное поле есть. И те ребята есть. И значит, что-то еще будет … Грустно было, но дрожала в этой грусти капелька радости…
По краям гимназической лестницы на невысоких гранитных пьедесталах в давние времена были поставлены бронзовые скульптуры. Справа — задумчивая тетенька в широком и длинном, со складками, платье, в венке на волосах. Она сидела и чертила веткой у своих ног букву «А». Скульптура называлась «Знание». У складчатого подола приткнулись два голых пухлощеких пацаненка с приоткрытыми ртами: постигали азы премудрости. На тетеньку и ее учеников никто не обращал внимания.
Зато вторую скульптуру любили. Это была «Наука». Вздыбился бронзовый конь, а на него пытается вскочить гибкий мальчишка с длинным шарфом за плечами. Хочет оседлать и покорить Науку. Вцепился в гриву, закинул ногу, а другая нога свесилась. Она совсем не высоко. И голая пятка мальчика блестит свежей бронзой. Сильно стерта. Потому что многие школьники, когда бегут на уроки, подскакивают и щекочут пятку. Считается, что, если пощекочешь мальчишку, он поможет тебе не нахватать плохих отметок…
Ежики никогда не подпрыгивал и не тянулся к бронзовой пятке. Потому что не хотел верить приметам, в которые верили другие лицеисты. Но мальчик на коне ему нравился. Иногда казалось даже, что он чуть-чуть похож на Ярика. И Ежики взглядывал на маленького наездника с симпатией. Взглянул и сейчас…
А внизу, у гранитного постамента, Ежики увидел другого мальчика — настоящего. В белой блузе с красным откидным воротником. Небольшого — лет восьми-девяти. Он сидел на ступенях, раскинув ноги в разлапистых сандалиях с длинной, выше щиколоток, оплеткой. Сандалии были помидорного цвета. «Гусенок лапчатый», — с неожиданной ласковостью усмехнулся Ежики. И вспомнил опять Филиппа. Хотя нисколько, вот ни капельки не были похожи Филипп и Гусенок. Этот — светло-русый, веселый. Что-то насвистывал и жонглировал темными мохнатыми шариками.
На миг они встретились глазами. Ежики смущенно мигнул, прошел вверх. Хотелось оглянуться и почему-то неловко было. И вдруг он услышал сзади:
— Ежики…
Замер. Обернулся рывком:
— Что?!
Мальчик стоял ниже на пять ступенек. Улыбался. Держал на ладонях два крупных колючих каштана.
— Правда, как ежики? Все ладони мне истыкали.
Ежики молчал, по нему волной прошли досада и облегчение. А у мальчишки в глазах за веселостью мелькнуло беспокойство.
Тогда, чтобы не обидеть, не испугать Гусенка, Ежики шагнул ниже, тронул шипы каштанов.
— Ага… Где нарвал такие?
— Да на бульваре! — Он махнул назад волосами. — Сами нападали, полным-полно…
И замолчали оба. Вдруг потупились.
Чтобы не молчать долго, Ежики спросил:
— А чего ты тут… сидишь один-то?
— А так… сижу… — Гусенок переступил помидорными лапами. Посмотрел на бронзового наездника. — Прыгал, прыгал, чтоб до пятки его достать. Не достал… — И глянул вопросительно.
— Ну, давай, — усмехнулся Ежики.
Мальчишка задрал подол широкой, как платьице, блузы, в карман мятых шортиков безжалостно запихал каштаны, растопырил локти, чуть присел.
— Я сам прыгну, ты только подтолкни.
Ежики метнул его, пружинистого, легкого, над головой. Взлетел красный воротник, волосы. Мальчик мазнул пальцем по блестящей бронзе. Приземлился на корточки, вскочил.
— Теперь хорошо… Спасибо тебе. — И вдруг сморщился, засопел. Снова вздернул блузу. — Царапается там…
— Конечно, дикобразы такие, — сказал Ежики. — Вытащи ты их…
Но Гусенок вытащил не каштаны. Из другого кармашка вынул, положил на ладонь черный якорек.
…Тот самый?
По крайней мере, в точности такой же.
Рука у Ежики сама дернулась к якорьку. И так же дернулась — назад — ладонь мальчика. Сжались пальцы. Ежики смущенно и сердито опустил руку. Гусенок виновато улыбнулся, разжал кулак.
Ежики сказал насупленно:
— Не бойся.
— Я и не боюсь… Смотри, если хочешь.
Ежики тронул пальцем колючую лапку.
— Ты где его взял?
— Вчера нашел в парке, — охотно признался Гусенок.
Сердце у Ежики — бух, бух, бух…
— В каком парке?
— В нашем, лицейском…
«Спокойно, Ежики, спокойно… Кантор тогда стоял у окна, рукой махнул. Выбросил?.. Подожди, надо по порядку. И не надо пугать маленького…»
— Разве ты в лицее учишься? Я тебя не видел.
— Я недавно… А тебя я видел, в столовой…
— А почему ты без формы?
— Ты вот тоже без формы, — с хитринкой заметил мальчик.
— Я ее терпеть не могу.
— А я… не знаю. Может, я тоже… Но пока мне ее просто не дали.
— А якорек… Ты нашел недалеко от угла, где спальное крыло?
— Да… Я играл там. Знаешь, где старый пень от дуба?
— Постой… Темно ведь было! Так поздно играл?
Гусенок слегка смешался:
— Ага… Ты не говори никому. Я там с фонариком бродил. Посветил под ноги, а он лежит в траве.
— Из моего окна вылетел, — не сдержался, вздохнул Ежики.
У мальчика лицо стало огорченным и озабоченным. Набухла нижняя губа, сошлись маленькие светлые брови.
— Не веришь? Я им вчера тоже исцарапался. Вот, смотри… И в кармане от него дырки… — Ежики вывернул подкладку. — Видишь…
— Тогда бери, — печально сказал Гусенок. — Раз он твой…
Ежики протянул было пальцы. Не взял. Зачем? Главное, что якорек есть!
«Есть, есть, есть!» — радостными толчками отдалось в нем. А у кого якорек хранится — неважно. Важно, что Ежики про себя знает: он был вчера на Якорном поле! В самом деле был!
И хороший этот пацаненок в помидорных сандалиях пускай тоже радуется.
Ежики весело сказал известную считалку-поговорку:
Кто гребет — Того и лодка, Кто нашел — Того находка, —и добавил: — Оставь себе.
Гусенок серьезно возразил:
— Находка — это если не знаешь, кто потерял. А я ведь знаю.
— Ну… тогда я его тебе дарю.
Мальчик мигнул, заулыбался.
— Да? Тогда ладно… спасибо. Это будет у меня «йхоло»…
«Йхоло», или просто «холо» — это маленький талисман, амулет для хорошей жизни, для защиты от всего плохого…
— А я тебе тоже… — Гусенок с натугой вытащил из кармана каштаны, потом еще что-то совсем небольшое. Спрятал в кулаке. — Это не в обмен, а тоже… подарок. На…
В ладонь Ежики легла монетка. Он глянул и… не то чтобы вздрогнул, но нервным холодком царапнуло спину.
«Та самая?.. Та, кажется, была сильнее потерта. Но как похожа!»
В какую бы пору ни жил человек — в каменном веке, в средневековье или в эпоху космических полетов, он все равно верит в приметы. Ну, пускай не каждый, но многие верят. Даже капитаны межпланетных десантных лодок и крейсеров. А чего уж говорить о мальчишках… И Ежики порой горько размышлял: уж не наказала ли его судьба за трусость? За то, что отдал тогда монетку этим психам из Садового бункера.
«Но ведь она же не была йхоло! Я только думал сделать ее талисманом, но еще не успел!»
…Этот маленький странный клад они с Яриком нашли, когда лазили в подземный ход под остатками Квадратной башни у Земляного вала. Перебирались там через низкую полуразваленную стенку, Ярик зацепил камень, тот скатился, стукнул Ежики по ноге. Ежики ойкнул, сел на корточки и в метнувшемся луче фонарика увидел монетки. Они кучкой лежали в похожем на блюдце углублении ракушечной плиты, под нависшим каменным блоком.
Кто их здесь положил? В древности или недавно? Чьи монеты, каких народов и времен?
Оказалось, что очень разных. Были — прошлого века, а были — черные, неровные, с полустертыми фигурками кентавров и львов, наверно, тысячелетней давности. Все небольшие, с ноготь взрослого мужчины.
Ежики и Ярик честно разделили находку в отряде Морских орлят. Себе оставили только по одной монетке. Правда, взяли самые красивые. Разыграли их между собой. Ярику досталась денежка с двухмачтовым корабликом. На кораблике — раздутые пузырями паруса и длинные флаги. Ежики выиграл другую — с курносым и лохматым профилем — явно мальчишечьим. Конечно, ему больше хотелось кораблик, но жребий есть жребий. Да и мальчишка на монетке был ничего, славный такой…
Вокруг мальчишечьего портрета (и вокруг кораблика тоже) тянулись латинские полустертые буковки непонятной надписи. А на другой стороне обеих денежек — никакой надписи, только число 10 и под ним отчеканен колосок с крошечными зернами и усиками…
Через день после экспедиции (получив дома нахлобучку и прощение) показал Ежики монетку маме.
— Ма-а, ты как думаешь, это кто?
— «Лехтен… стаарн», — с трудом прочитала мама. — Кажется, город такой, очень старый. А мальчик… Возможно, это связано с легендами о Хранителях…
— О ком? О святых? — Ежики глянул хитровато. — Которых ты поминаешь?
Мама нередко говорила: «Святые Хранители, это что за ребенок!.. Великие Хранители, я опаздываю на работу!..»
Мама растрепала Ежики волосы и сказала, что научилась этим словам у его отца. Виктор Юлиус Радомир много знал о Хранителях. Это были люди, которые в разные времена героически защищали свои народы, свои города, а то и просто попавшего в беду человека. И случалось, отдавали за это жизни… Потом таких людей объявляли святыми и даже строили в их честь храмы. К сожалению, мама не знала подробностей. Историей религий она не интересовалась и просто историей тоже. И видимо, это к лучшему. По крайней мере, она не приходила домой с землей в волосах и драной одежде…
Ежики засопел: было нечестно поворачиваться к старой теме, когда уже все позади. Мама спохватилась, сделала все шуткой, потом взяла монетку на ладонь.
— Славный мальчик… Ты его береги.
Ежики не сберег монетку. До сих пор горько и стыдно вспоминать.
…Когда самодельный бумеранг не вернулся к его ногам и улетел в заросли дрока, Ежики бросился на поиски. Охая и чертыхаясь, продрался он сквозь джунгли и оказался на квадратной, мощенной ракушечными плитками площадке.
Здесь он увидел тех.
Компания из пяти мальчишек сидела кружком, и старший держал бумеранг.
Ежики вырвался из кустов со скоростью, с разгона, и не сразу смог остановиться. Подлетел прямо к сидящим. Все уставились на него. А старший заулыбался — с нехорошим таким, с ненастоящим добродушием:
— Здрасте. Это что за исцарапанное чудо? — У него было длинное, в мелких прыщиках лицо, щетинистая короткая стрижка и мокрые красные губы.
Ежики обомлел. Он был не простачок, знал, что всякие бывают компании. И взрослые, и ребячьи. Не раз объясняли учителя и дикторы детских передач, что «в них объединяются те, кто не хочет нормально жить в обществе прогресса и благоденствия». Одни просто хулиганят от безделья, другие что-то «глотают» или «курят травку», а есть и такие, кто ограбить может. Мало того, ходили среди ребят слухи и о злодеях, которые поймают мальчишку или девчонку и мучают ради своего удовольствия… В прежние времена таких шаек было полным-полно, а сейчас, конечно, Охрана порядка прижала их крепко. И все-таки…
До сих пор Ежики везло, в злые лапы ни разу в жизни он не попадал. Но теперь, увидев компанию, сразу вспомнил все разговоры и слухи.
Было уже не до бумеранга, назад бы без оглядки. Но ослабели ноги, да и все равно поймают в чаще.
А те смотрели с ухмылками. Разные были ребята — и такие, как Ежики, и старше. И лица разные, но чем-то похожие. Выражением. И словно одинаково припудренные серой пыльцой. Старшему было лет пятнадцать — волоски уже над мокрой растянувшейся губой.
Лучась улыбками и прыщиками, предводитель встал:
— Охотишься, значит… А ну-ка, подойди, мой хороший…
Ежики сделал два слабеньких шага. Все равно не убежать.
— Не… я не охочусь. Я просто так бросал. — Голос каким-то противно тоненьким сделался.
Предводитель сказал:
— Охотишься, охотишься… Все охотятся в этой жизни друг за другом. И получается — сперва ты охотник, потом ты же добыча. Судьба — индейка, жизнь — копейка… Копейки есть?
— Не…
— Если есть, отдай сам. А то проверим и… Жижа, что бывает тем, кто говорит неправду?
Тощенький большеухий Жижа сидел по-турецки. Он поднял печальное треугольное личико, сказал пискляво:
— Больно бывает… ой как больно, прямо даже нестерпимо.
Ежики испугался не боли. Испугался бессилия, зловещей неизвестности, чужих грязных пальцев, которые вцепятся в него.
— Ребята, я… у меня только вот… — Он суетливо зашарил в кармане. — Но на нее ведь ничего не купишь, она старая…
— Ну-ка, ну-ка… — Монетка перешла к предводителю. — Глядите, детки.
Мальчишки вскочили, застукались лбами над добычей.
— Фи, — сказал писклявый Жижа. — С голого петушка — ни пера, ни гребешка. Тын, давайте его лучше почешем.
— Дурень, — отозвался предводитель Тын. — Это ан-тик-ва-ри-ат…
«Что же я наделал!» — ахнул наконец Ежики. Чуть не заплакал:
— Ребята, отдайте… Ну пожалуйста! Это же йхоло!
По всем законам отбирать йхоло было нельзя. Но этим оказалось наплевать на честные правила ребячьего мира. Толстый сопящий мальчишка оглянулся на Ежики.
— Нам-то что? Хоть йхоло, хоть… дуля с колом, — сказал он. Даже похлеще сказал.
Но Тын оказался хитрее.
— Йхоло? А поклясться двумя кольцами можешь?
Ничего особенного не было в такой клятве. Надо сцепить правый и левый мизинцы, потом дернуть, разорвать и сказать, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь:
Если лопнут два кольца, Буду гадом без лица.Просто, зато железно. Редко кто мог под такой клятвой схитрить. Это уж если совсем никакой совести и стыда перед собой нет.
Ежики пробормотал:
— Кто по пустякам такие клятвы дает…
— Йхоло разве пустяк? А?
Поймал его Тын! И смотрел, ухмыляясь.
Монетка не была еще йхоло. Чтобы вещь стала таким талисманом, надо ее поносить с собой, привыкнуть. А потом подержать в кулаке над пламенем настоящей свечки — до тех пор, пока терпит рука. Вот тогда — йхоло… А Ежики еще не успел. Он и забормотал про это — умоляюще, с плаксивой ноткой. И безнадежно…
— А обманывать нехорошо, — ласково перебил Тын. — Жижа, что бывает тем, кто обманывает?
— Ой, что бывает!.. — с готовностью запищал Жижа. — Ой, даже совсем ужасно…
Двое ухватили Ежики за локти, один — за плечи и уперся коленом ему в поясницу. А мерзкий Жижа присел, стиснул ему клейкими ладонями щиколотки. Ежики понял, что пришел в жизни миг отчаянной битвы. Насмерть! Он рванулся с такой яростной силой, что все четверо отлетели кто в кусты, кто на камни. Отскочил и Тын. Округлив рот мокрой буквой «О».
Враги полежали, отдохнули и, пригибаясь, начали подбираться. Отчаяние гудело в Ежики…
— Сто-оп, — вдруг сказал Тын. — Мальчик-то не прост…
Ежики метнулся, схватил с камней бумеранг.
— Храбрых мы уважаем, — задумчиво сказал Тын.
Ежики выдохнул:
— Отдавайте монету…
— Ну уж, так сразу… Ты ее сам отдал. Теперь за монету выкуп.
— Какой?
— А такой… Да не маши загогулиной-то. Если надо будет, все равно скрутим и причешем. Лучше слушай. Три дня будешь приносить нам дань. Подарки. Потом отдадим твою деньгу… Идет?
Куда деваться-то? Ярость и сила уже оставили Ежики. Он понуро кивнул.
— Колечками пусть поклянется, — предложил один из мальчишек. Тын возразил:
— А на шишаґ. Если хочет монету, придет без клятвы.
…Три дня подряд платил Ежики дань «садовым троликам» — так называла себя компания Тына («тролик» — это помесь подземного тролля и дикого австралийского кролика, так объяснил Тын). В сводчатом подземелье, под фундаментом срытой усадьбы, у троликов было убежище — они называли его бункером. Ежики, маясь от стыда, носил в бункер то банку натуральных засахаренных вишен, то коробку с большими орехами, где в некоторых не ядрышки, а мелкие игрушки-сюрпризы, то магнитный диск с фильмом-серией про Маугли. Носил, конечно, тайком от мамы, и потому было тошно вдвойне. И никому ничего не говорил.
Можно было признаться во всем Ярику, можно было поднять на ноги Морских орлят. Уж отряду-то шайка троликов была вполне по силам. Но пришлось бы рассказать ребятам, как позорно, без боя отдал монетку. При мысли об этом лицо и уши обдавало горячим паром.
Тролики встречали Ежики добродушно. Говорили спасибо. Усаживали с собой. Угощали сваренным на старой микроволновой печке густым, как смола, чаем. Рассказывали истории, от которых было тошно, будто босыми ногами вляпался в какую-то мерзость. Один раз дали даже глотнуть дыма из старинного черного мундштука с набалдашником — трубка мира, мол. Он закашлялся, поплыло в глазах.
— Хватит! — приказал Тын. — Мальчик нежный, мужские забавы не для него…
Ежики все терпел. Ради монетки. Потому что вернуть ее было для него теперь самым важным делом на свете. Казалось, что тогда искупит он свою трусость, а мальчика — того, чей портрет на денежке, — вызволит из постыдного плена.
И на третий день, уже притерпевшись к компании и осмелев, Ежики потребовал:
— Все! Давайте монету!
Тролики захихикали.
— У вас хоть какая-то совесть есть? — опять чуть не заплакал Ежики.
— Есть, есть, — успокоил Тын. — Только все надо по правилам. Сперва ты должен пройти испытание и вступить в наше общество.
— Не буду я вступать! Мы не договаривались!
— Как хочешь. А испытание все равно пройти обязан. Тебе же на пользу. Научишься аутотренингу иттов.
— Чего?
— Не «чего», а «кого». Иттов… Было такое племя на древнем Марсе. Суровые воины. Им ни жара, ни холод, ни боль не страшны, они как камень. Могли неделями на раскаленных вулканических камнях лежать или, наоборот, на льду, врага поджидать. И не дрогнут, не шелохнутся, будто по правде каменные. Скажут себе: «Я ничего не чувствую, я итт, я неподвижен». И как мертвые…
Тын все врал. Никаких иттов на Марсе никогда не было. Там, правда, найдены остатки длинных стен и строений, но ученые не знают, кто и когда их построил… Странно даже, что Тын говорил так серьезно, будто и сам верил.
— Не хочу я, — сказал Ежики, — никаких иттов…
— Не хочешь — гуляй.
— Сами обещали, а теперь…
— А мы с трусами честных дел не имеем. Труса надуть — себя порадовать!
— Я не трус, я просто не хочу! Вы опять обманете!
Тын сцепил мизинцы:
— Кто сломает два кольца, будет гадом без лица!.. Выдержишь испытание иттов — отдадим деньгу!
В общем, велели ему снять майку. Положили спиной на широкую, как ствол дуба, железную трубу — она проходила по краю подвала. Какая-то подземная фабрика сливала по ней в дальние отстойники свои отходы. Труба иногда была тепловатой, а иногда горячей. Сейчас — нормально, терпеть можно сколько хочешь.
— Ну, и что дальше?
— Подожди…
Привязали его за ноги, за живот, за плечи толстой веревкой. Рядом, на каменный выступ стены, поставили песочные часы.
— Вот! Если выдержишь, пока весь песок не пересыплется, получишь монету и звание итта-оруженосца. Заорешь раньше — сам виноват.
Колбочки часов были с мелкий апельсин. Ежики прикинул, что песка в часах — минут на десять. Ладно, плевать. Металл вовсе не обжигает, приятно даже…
Тын куда-то ушел. Четверо сели в дальнем углу играть в шери-раш на орехи, которые принес вчера Ежики. Играли без шума, ругались шепотом. Стало слышно даже, как шуршит струйка в часах…
А может, в самом деле были на свете марсианские воины-итты? Наверно, на конях, в бронзовых панцирях и шлемах. Лица коричнево-красные, как марсианский песок… Конские копыта мягко ступают по песку. На нем — длинные тени: маленькое солнце в лиловом небе висит низко над дюнами…
Стало припекать. Горячие мухи побежали по лопаткам, по икрам. Ладно, ничего… Лучше не смотреть на часы, смотреть вверх и представлять холодное марсианское небо. А мимо проезжают всадники, поглядывают на лежащего мальчишку… А кусачие мухи — вовсе не горячие. Это, наоборот, уколы холода от песка, заледеневшего на вечной мерзлоте… А всадники едут, едут мимо мальчишки, который, наверно, и не настоящий вовсе, а вырезан из гранита древними мастерами…
— А-а!! Вы что, психи!! — Это ворвался в бункер Тын. Полоснул ножом по веревкам. Рванул Ежики с трубы. Орал и замахивался на троликов, которые с испуга роняли выигранные орехи. — Сволочи! Оставить нельзя одних!.. Он же совсем изжарился!
Ежики недоуменно глянул на часы. Песок пересыпался. Видимо, давно. Болел надавленный железом затылок. Но больше ничего не болело. Мальчишки щупали, оглаживали его спину и ноги.
— Никаких же следов нету, Тын…
Ежики дернулся, чтобы не лапали, коснулся ногой трубы. Ахнул, отскочил. Тронул ладонью. Труба была как раскаленная электропечь.
Он обвел глазами растерянных троликов. Резко сказал:
— Монету!
— Отдай, — велел Тын Жиже. Тот замигал.
— Ну! — грозно произнес Тын. — Я обещал, что без обмана.
— Нету же ее… — Жижа осип с перепугу. — Я… ее…
— Что-о? — Тын взял писклявика за свитер на груди. — Убью, киса…
Жижа тихонько заревел:
— Я думал, он все равно не выдержит… Я ее вчера на излучатель поменял для фотонного самострела… а-а…
— Вот и доверяй таким, — скорбно сказал Тын. — Что я теперь объясню Консулу?.. У, рожа… Гудзик и Лапочка, веревку! И… пшигу.
Услышав про неизвестную Ежики и, видимо, страшную «пшигу», Жижа заорал благим матом:
— Я все отдам! Не надо!! А-а! Я ему Яшку отдам!
И стало тихо.
— Чего-чего? — не поверил Тын.
— Я… Яшку…
— Откуда он у тебя?
— Выиграл у Канючки… На той неделе…
— И молчал, м-морда…
Ежики не верил ушам. Яшка — это было главное богатство среди ребячьих ценностей. По крайней мере, в границах Полуострова. Дороже всяких игрушек и многосерийных дисков. О нем ходили легенды. По слухам, он попадал то к одному, то к другому счастливчику: то как выигрыш в споре, то в обмен на какие-то сокровища… Ни сам Ежики, ни его друзья никогда Яшку не видели. И не надеялись увидеть… И вдруг — у этого писклявого тролика…
— Покажи! — велел Тын. — Да… Черт возьми, это он, хоть кольцами, хоть чем поклянусь… Везет же всяким недоумкам.
— Не надо отдавать, — сказал толстый Куча.
— Дурак! Консул обещал: если обманем, головы снимет. Ну что, берешь Яшку? Монету все равно не вернуть. Бери… И больше у нас носа не кажи. На…
Холодный, синевато-прозрачный, размером с огрызок толстого карандаша кристалл впечатался в ладонь Ежики.
Про Яшку рассказывали всякое. Говорили даже, что он — пришелец с какой-то звездной системы, где кристаллическая жизнь. Мол, скорее всего, летели эти жители в экспедицию к другим звездам, корабль взорвался, а Яшку занесло на Землю. От взрыва Яшка «сдвинулся в уме» и многое забыл. А может, он был просто пацаненок среди взрослых кристаллов-космонавтов и поэтому толком ничего объяснить не может. Как малыш, потерявшийся в центральном супермаркете…
Более рассудительные люди высказывали догадку, что Яшка — осколок кристаллической памяти со станции-спутника «Око». Эту станцию с искусственным мозгом Всемирный институт прогнозов запустил на дальнюю орбиту семь лет назад, чтобы вести наблюдения за всей жизнью планеты и давать предсказания во всех областях человеческой жизни. В общем, был это эксперимент большущего масштаба, и ученые возлагали на всевидящее «Око» массу надежд. Но станция, выйдя на орбиту, рванула белым пламенем и разлетелась на мелкие осколки…
Взрослые, однако, утверждали, что память «Ока» была не кристаллическая, а из биомассы искусственных нейронов. Ну да взрослые всегда спорят с ребятами, а потом выясняется, что все напутали…
Несмотря на кашу в голове (если представить, что у Яшки была голова), знал он ужасно много. Примерно как целая Академия наук. Обладатель Яшки мог не заботиться о школьных письменных заданиях: маленький кристалл выдавал на принтер сочинения по любому вопросу, причем ловко подделывал стиль ученика. Он мог рассказывать сказки и всякие истории о людях из неведомых стран, делал расчеты для электронных моделей, показывал удивительные фильмы, о которых никто раньше и слыхом не слыхивал. Или просто болтал и пел песенки. Но все это — если Яшка был в ударе. В хорошем настроении. А случалось и так, что он показывал на экране большую стереоскопическую фигу и выдавал стихотворную дразнилку, да такую ехидную, что хотелось расшибить дисплей и самого Яшку (но его поди расшиби, он как алмаз).
Бывало (и нередко), что Яшка просто нес околесицу — как справочный робот, у которого перепутались волноводы…
…Это все, конечно, Ежики знал, как и всякий мальчишка Полуострова. Сжал он холодный кристалл во взмокшей от волнения ладони и кинулся из бункера домой. Схватил там свой школьный «Собеседник», свинтил заднюю крышку (что, разумеется, не разрешалось), выдернул блок расшифровки программ, разогнул контакты и вставил между ними Яшку.
Экран мигнул. На нем появился большой знак вопроса — в виде червяка с кукольной головкой: глазки, уши и капризный рот.
— Ну, чего надо? — отозвался Яшка голосом невыспавшегося дошкольника.
— Я… не знаю… Здравствуй, — выдохнул Ежики.
— Чего-чего? — тоненько удивился Яшка.
— Здравствуй, — опять сказал Ежики и почему-то застеснялся.
— Это ты со мной здороваешься? — подозрительно спросил Яшка.
— Ну… да. А что?
— Тогда хорошо, — совсем по-мальчишечьи вздохнул Яшка. Знак вопроса исчез, побежали цветные волны. — Я думал, дразниться будешь.
— Я? Зачем?
— Не знаю… Все дразнятся. По крайней мере, сперва, когда знакомятся.
— Не, я не буду…
Они оба замолчали. На целую минуту. Потом Яшка спросил:
— Тебе что? Сочинение?
— Нет… У нас ведь каникулы.
— Тогда кино?
— Нет. Я просто так. Поговорить…
— Правда? Тогда говори.
— Яшка… Ты кто?
Цветные полосы метнулись, на экране расплылась черная амеба. Яшкин голосок обиженно задребезжал:
— А говорил, не будешь дразниться!
— Да я же… Чего я такого сказал-то?
— Я тыщ-щ-щу раз объяснял: не помню я, кто я такой! Чтоб не приставали! А ты опять!
— Но я же не знал! Я с тобой первый раз!.. Яшка… ну, извини.
Махнуло розовым светом, затем почему-то появились на экране желтые одуванчики, по одному шла божья коровка.
— Ладно… Я же правда не знаю, кто я… У меня на этом месте скол…
— Что?
— Ну, ты же видел! С одного конца я острый, а с другого обломанный. Это я откололся от корня… Там, за этим обломом, осталось такое… ну, не помню… Тебя как зовут?
— М-м… Матвей Юлиус Радомир.
— Покороче-то можно?
— М-м… можно… Ежики.
— Ежики… Ты почему молчишь?
— Не знаю…
— Нет, по-че-му?
— А что говорить?.. Мне тебя жалко. Что ты откололся, — признался Ежики.
Божья коровка улетела, одуванчики стремительно отцвели, опушились, потом на них дунуло, семена унеслись. Только один парашютик повис посреди экрана. Увеличился. Превратился в силуэт человечка. Смешно почесал ножку о ножку. Яшка сказал со снисходительным вздохом:
— Ты ничего парнишка. Я у такого давно не был…
— Можно я тебя с Яриком познакомлю? — неловко спросил Ежики.
— А он хороший? Как ты?
— Да в сто раз лучше! — искренне сказал Ежики.
Но с Яриком он Яшку не познакомил. Не мог решиться. Надо было тогда рассказать Ярику про все. И как струсил, отдал монетку. И как таскал «садовым троликам» постыдную дань… Конечно, потом он выдержал испытание иттов и тролики его даже зауважали. Но ведь монетку он все равно не вернул…
«Это же пустяк, — уговаривал себя Ежики. — Она ведь не была еще йхоло. Зато — Яшка!.. Он же гораздо лучше этой денежки. И я выручил его от тех, кто его дразнил… А Ярику можно просто сказать, что выменял Яшку на монетку. Это почти правда…»
«Почти…»
Ежики знал, что соврать Ярику он не сможет, а сказать правду… надо собраться с духом. Он бы, конечно, сказал… Но скоро случилось то, что поломало жизнь. И стало не до Яшки. Лишь через три месяца Ежики побывал дома, забрал кое-какие вещи. Тогда и Яшку нашел в кармане старой капитанки.
Ночью, сделав шалаш из одеяла, Ежики устроился в нем с дисплеем.
— Яшка…
Экран ответил темной глубиной.
— Яш… — испуганно повторил Ежики.
— Чего? — Голосок был обиженный.
— Ты сердишься?
— Почему ты меня так долго не включал?
— Яшка… у меня… — Капля побежала по выпуклости экрана.
— Да знаю я, что тебе плохо, — насупленно отозвался Яшка.
— Все знаешь?
— Не все. Я ведь был отключен. Просто чувствую… Ну, чего там у тебя, говори…
Ежики, тихонько плача под одеялом, рассказал.
— Ты, значит, тоже откололся от корня… — тихим мальчишечьим шепотом произнес Яшка. Мелькнул на экране блеск стеклянного излома, затем — на полсекунды — возникло лицо растрепанного пацаненка с тоскливыми глазами и мокрыми щеками. Ежики судорожно вздохнул и погладил выпуклость экрана… Яшка сказал: — А все-таки тебе легче…
— Почему?! — горестно возмутился Ежики.
— Ты хотя бы помнишь свою маму… А я…
— А у тебя… разве тоже была?
— Но ведь я живой! Кто-то меня родил на свет.
Тогда Ежики спросил о том, что давно его мучило:
— Яш… Есть на свете Судьба?
Взвихрились на экране спирали, пересеклись белые и черные линии, словно Яшка хотел выстроить схему Судьбы. Потом распались. Появился плоский ребячий рисунок: домик и человечек.
— Не знаю… — сумрачно сказал Яшка. — По-моему, никто во Вселенной не знает.
— А ты знаешь про всю Вселенную?
— Если это не за сколом… Зачем тебе Судьба?
— Яш… А может, это мне… то, что случилось… это мне за то, что отдал монетку? Мама сказала, что на ней Хранитель. А я его… будто предал. И он меня не сохранил…
Человечек на рисунке заложил руки за спину, ушел в дом. На крыльце сердито оглянулся. Яшка отозвался взрослым тоном:
— Что за чушь говоришь. Судьба не может быть такая подлая, а Хранители не мстят. Особенно детям…
— Расскажи про Хранителей.
Рисунок стал цветным — синий вечер. В домике зажглось желтым светом окошко. Яшка сказал неуверенно:
— Про них много легенд. Но я путаюсь… Это как раз на грани скола… Опиши мне монетку. Она какая?
Ежики, вздыхая, рассказал про буквы, про колосок, про мальчика. На экране заметались пятна.
— Вот помнится что-то… а не знаю, — печально признался Яшка. И другим уже голосом твердо пообещал: — Раз эта монетка такая дорогая тебе, то вернется.
— Теперь-то зачем? — горько сказал Ежики. — Чем она мне поможет?
Яшка, погасив экран, прошептал:
— Ну, не тебе, так мне… — И вдруг спохватился. Проговорил, почти как мама: — Спи, Ежики, спи…
Она вернулась, монетка! Может, не та самая, но такая же! В этом было продолжение вчерашних чудес и тревог…
— Хранитель… — тихо сказал Ежики и поглядел на Гусенка. — Откуда?
Тот смотрел доверчиво, без всякой загадочности:
— У меня знакомый есть в Белогорске, у него коллекция… Таких у него много, он говорит, их в древнем городе Лехтенстаарне чеканили…
«Какой-то старый североевропейский язык. Лехтенстаарн — Свет звезды, — отметил про себе Ежики, знакомый теперь с азами сравнительного языкознания. — Из коллекции? Значит, не та… Но все равно…»
— А этот мальчик на ней — он кто?
— Ты же сам сказал — Хранитель!
— Но я не знаю точно…
— Точно и я не знаю, — вздохнул Гусенок. — Его, кажется, звали Итан. Он, говорят, спас город, когда напали враги. Заиграл тревогу, хотя его могли убить.
— Не убили?
— Нет… Его братишка спас: оттолкнул, и копье пролетело мимо… А может, не братишка, а сестренка…
Ежики спрятал монетку в кулаке. Все, что случилось, уже не помещалось в сознании. Надо было выплеснуть, рассказать, выяснить, обсудить! Спросить совета!
У кого? Только у Яшки. У того, кто все (или почти все) на свете знает и с кем Ежики в долгих разговорах много раз отводил душу.
Но Яшка остался в кармане форменных брюк, в камере хранения. Всегда-всегда Ежики носил его с собой, но если убегал на Кольцо — оставлял. Яшка был живой, значит — попутчик. А на Кольце, где Голос, Ежики хотел быть совсем один.
Солнце встало уже высоко. С лестницы видно было, как за платанами бульвара Трех Адмиралов ртутным блеском сияет море. Становилось жарко. Снизу по лестнице бежали стайки учеников. Хорошо, что пока ни одного лицеиста. Не увидят, как Ежики «линяет» от гимназии… Впрочем, Кантор сам разрешил не ходить сегодня на лекции.
Мальчик с якорьком нерешительно переступил рядом помидорными сандалиями. Словно напоминал о себе.
— Спасибо тебе, — шепотом сказал Ежики. И побежал вниз.
5. Реттерхальм. Кристалл
Ежики любил вокзалы. А этот, Южный, — с громадными подземными залами, запутанными переходами, с неожиданно открывающимися закутками кафе, видеокомнат, «зеленых уголков» с фонтанами — любил особенно. Здесь у Ежики возникало ожидание. Странная надежда, что может в его жизни случиться что-то новое. Чувство это смешивалось с другим — с ощущением Дороги.
Загадочная Дорога жила везде — в цветных светящихся указателях, в широких экранах оповещения и мерцающих табло, в шорохе эскалаторов и официальных голосах динамиков. В особом вокзальном запахе и мелькании тысяч людей.
Отсюда уходили за Перешеек дальние поезда, разбегались по всему Полуострову автобусы. Они увозили пассажиров и к взлетным полосам Воздушных линий, и к стартовым полям далекого Новочельского космопорта.
Ежики отсюда никуда не уезжал. Только на Кольцо. Но Кольцо — тоже Дорога. Думаете, замкнутая, без выхода? Но вот же — вывела на Якорное поле! Ожидание не обмануло…
Рассказать про все Яшке, спросить, что он про это думает… Бедный Яшка! Ежики теперь мучила совесть: оставил Яшку в глухой железной камере почти на сутки!
Прыгая по эскалаторам, виляя в толпе, как электронный заяц в старой игре «Ну, погоди!», ныряя под плывущие на спинах туристов рюкзаки, он примчался в зал хранения багажа. Вот и дверца с любимым числом 333, вторая снизу… Чуть присев, Ежики прижал правую ладонь к черной пластине дешифратора. Сейчас, в полсекунды, электронные датчики снимут рисунок кожи, проверят и пересчитают тепловые точки… Ну же!
Бронированная дверца не шевелилась. А над ней, на матовом стекле, зажглось:
«Извините, Вы пользуетесь этой камерой уже десятый раз. Следует заплатить 15 к.».
Новое дело! Вот тебе и любимые цифры! Брал бы каждый раз новую ячейку — никаких забот. А теперь… Конечно, пятнашка — сумма грошовая, да в кармане-то ничего, кроме нескольких мелких дырок. Будь у Ежики, как у взрослого, магнитная чековая плашка, прижал бы к дешифратору, и все дела. Плашка такая есть, с мамиными сбережениями, но она у Кантора. Чтобы получить мелочь на всякие пустяки, надо каждый раз идти, выпрашивать. Противно. А сейчас тем более: «Матиуш, я же просил вас не уходить из лицея…» Да и бежать туда-обратно — полчаса уйдет!
Ежики остервенело почесал затылок сжатым кулаком. А в кулаке-то — монетка…
Размером точно с пятнашку…
Попробовать?
«Не надо, Ежики. Один раз уже отдал…»
«Но тогда я с перепугу! А сейчас — чтобы Яшку выручить!»
«Полчаса-то еще он потерпит…»
Но сам Ежики терпеть столько не мог. И слова кристаллика о том, что монетка, если вернется, поможет ему, Яшке, вспомнились отчетливо. Чего же тут думать!
А все же не по себе. Будто опять он делает что-то не то… Но ничего страшного с ним случиться все равно не может. Оно уже случилось год и три месяца назад…
Жаль монетку? Но из-за этой жалости он мучает Яшку… Один раз уже он получил его за денежку в десять колосков, надо и теперь… А то Яшка, чего доброго, обидится и разговаривать не станет…
Чтобы не мучить больше себя колебаниями, Ежики задержал дыхание, суетливо толкнул монетку в щель. Она звякнула где-то среди электронных потрохов. Надпись погасла.
Дверца не шелохнулась.
Ежики перепуганно, беспомощно дернул ее за рычаг. Потом уронил руки. Вот… Добился, дурак, чего хотел, да? Сразу все повернулось в голове по-другому: второй раз отдал монетку с Хранителем, вместо того чтобы сделать йхоло, сам накликал беду! Ничего страшного не может случиться? А если… если он больше не попадет на Якорное поле?
Показалось, что малыш Гусенок стоит сзади и с печальной укоризной смотрит в затылок. Ежики обернулся рывком. Проходили мимо люди, никто не глядел на мальчишку… А дверца камеры с никелированным рычагом на уровне живота была стальная, ей все равно… Ежики всхлипнул, еще раз дернул рычаг. И чтобы отомстить уже не дверце, а себе, трахнул по нижнему краю коленом!
Съежился, присел, переглатывая боль. Зажмурился… А когда разлепил ресницы, на матовом стекле горело крупно и ярко:
ВОЗВРАТ!
Звякнуло, выдвинулся рядом с дверцей латунный желобок. В него съехала монетка.
Милая ты моя! Он стиснул ее в кулаке, а кулак прижал к рубашке. Мячик сердца нервно прыгал и колотился под костяшками.
Ежики глянул на дверцу: «А с тобой мы еще поговорим!» И тогда случилось второе чудо: он увидел, что дверца отошла — между ней и стенкой растет щель…
Бить ногой по стали — дело неразумное. Всю дорогу до лицея Ежики хромал. Но не шел — бежал. И жалел даже полминуты, чтобы накрыть ушиб ладонью, унять боль. И про иттов не вспоминал. Дышал часто и нервно. Ох как не терпелось поговорить с Яшкой! Он сжимал его во вспотевшем кулаке, вместе с монеткой (сжимал так, что потом оказалось: грани кристалла поцарапали число 10 и колосок).
В комнате схватил он «Собеседник» — и в парк. Никого вокруг не было, но Ежики, как подраненная птаха, уковылял в самую лопуховую чащу: подальше от дежурных воспитателей, от объективов.
— Яшка… Привет, Яш… Ты не обижайся, ладно?
Медленно, важно и с тихим торжеством Яшка сказал своим мальчишечьим голосом:
— Спасибо тебе, Ежики.
Может, насмехается Яшка? Ежики растерялся, испугался даже:
— За что?
— Ты нес меня вместе с монеткой. Она мне помогла… — В углу экрана спокойно и радостно засветилось желтое окошко с переплетом в виде буквы «Т». Нет, Яшка не шутил.
— А… как помогла?
— Я — вспомнил! Знаю — кто я!
Желтое окно крошечно уменьшилось, вокруг зажглось еще множество таких же окошек. Вокруг них образовались в вечерней синеве дома с крутыми крышами и башни. Старинный город. Все было так неожиданно, что Ежики на минуту забыл о своих тревогах.
— Кто ты, Яшка?
Он сказал с ноткой ребячьего самодовольства:
— Меня вырастила и взлелеяла Валентина фон Зеехафен, самая ученая на свете женщина, бакалавр всяческих наук… Слушай…
Эта история — о городе Реттерхальме и его жителях. («Реттерхальм» — «Рыцарский шлем», — отметил про себя Ежики.) Случилась она давным-давно, однако уже и в те времена город был старинным. И жила там на улице Рыжего кота известная всему Реттерхальму очень мудрая женщина. Знакомые и друзья звали ее, несмотря на почтенный возраст и ученость, просто мадам Валентина. Была она добрая душа, хотя и со странностями. Одна из странностей — та, что среди друзей мадам Валентины водилось множество мальчишек…
Однажды мальчишки принесли и показали мадам Валентине монетку из города Лехтенстаарна… Да-да, в точности такую же: с профилем мальчика, числом «десять» и колоском. Эту монетку разглядел издалека (а вернее, ощутил с помощью нервов-лучей) маленький кристалл, который подрастал у мадам Валентины на подоконнике среди кактусов.
И сейчас он, Яшка, сразу узнал монетку! А узнав ее — вспомнил остальное!
Да-да, он вырос в обычном цветочном горшке. Но вовсе не из обычного зерна, а из редчайшей звездной жемчужины, какие иногда прилетают на Землю из космоса в период густых августовских звездопадов… И растила его мадам Валентина не просто так. Она создавала крошечную модель всеобщего Мироздания. Потому что была уверена: Вселенная имеет форму кристалла…
Обо всем этом кристаллический детеныш узнал впервые из разговора мадам Валентины с мальчишками — как раз в тот день, когда они принесли монетку. Потому так все и запомнилось…
Потом Яшка узнавал и другие подробности: и о мадам Валентине, и о Реттерхальме, и о всей Планете. И о Вселенной. Мадам Валентина учила его, читала ему умные книги, знакомила с науками.
И кажется, любила…
— Потому что она… раз она меня вырастила из капельки… она ведь все равно как мама, да, Ежики?
Ежики торопливо кивнул. Он почти не дышал и не двигался, только машинально тискал пальцами припухшее колено.
Яшка сказал:
— А еще меня любил один мальчик. По имени Лотик, по прозвищу Головастик. Самый младший из всех ребят. Хороший… Он сбежал от своих трех теток и жил у мадам Валентины. И поливал меня самой чистой водой, чтобы я рос быстрее… А потом из желтой бумаги сделал и наклеил на меня вот такое окошко… — На экране, заслонив город, опять выросло светящееся окно. — Мадам Валентина сперва рассердилась, а он говорит: «Это же Вселенная, значит, дом для всех, кто в ней живет…» Она тогда засмеялась…
— А потом? — тихо спросил Ежики. Он видел перед собой другое окно — там, на станции…
— Потом… — В Яшкином голосе послышался вздох. — Начались дожди. Они шли и шли, и совсем даже не стало солнца, на несколько лет. Что-то сделалось с природой. Дома стали сползать со склонов холма, люди начали уезжать… Наш дом тоже однажды пополз и развалился. Подоконник перекосило, на меня упала стена, я откололся от корня… А скоро я увяз под развалинами в жидкой глине. Надолго…
— А мадам Валентина не искала тебя?
— Наверно, искала, да не нашла…
— И долго ты там лежал? — стесненно спросил Ежики.
— Ой долго… Но в общем-то я умею отключаться… Меня разбудили радиоволны. Защекотали так… Это когда вы, люди, придумали радио.
— Значит, ты как детектор сделался?
— Н-не знаю… Тут другое… У меня каждая грань — антенна для всех частот… И я начал впитывать информацию…
— Поэтому ты и знаешь столько всего…
— Ага… — Желтое окошко на экране замигало. — Но много путаницы. К тому же у меня скол, нарушенная структура… Я понимаю, во мне нет системы…
— А кто тебя нашел? — Ежики хотелось отвлечь Яшку от грустных мыслей.
— Мальчишки. Они приехали из школы, из города Черемховска, чтобы делать раскопки на месте Реттерхальма. Хотели найти всякую старину… Только ничего, кроме меня, не нашли…
— Почему?
— Тут у меня путается… Не могу толком объяснить. Но, видимо, потому, что мадам Валентина перенесла город через Грань… Да, конечно! И ушла сама. Поэтому она меня и не отыскала. Так просто она бы меня не бросила… Она же… вырастила.
Желтое окошко разбилось на крупные капли, они скользнули за край дисплея.
— Как это «за Грань»? — спросил Ежики. Под рубашкой скользнул холодок — зябкое касание тревожной и неясной догадки. Намека на догадку…
— Ну, как… Ты разве не учил в школе? Если Вселенная — кристалл, у нее множество граней. Только они — не плоские, как у меня, а каждая — целый мир…
Крупный зеленоватый кристалл возник в глубине стереоэкрана. Потом его плоские грани-зеркальца вспухли пузырями, в них появились деревья, домики. И в каждом пузыре зажглось крошечное солнце.
— Вот, — самодовольно сказал Яшка. — Примитивно, зато наглядно. Конечно, это очень простая модель, на самом деле все во множество раз сложнее…
— И мадам Валентина перенесла город в другой… пузырь?
— Сам ты пузырь… Да, перенесла!
— Тут же сто тысяч машин и экскаваторов надо, — сказал Ежики, притворяясь глупее, чем он есть.
— Ты совсем бестолковый! — взвинтился Яшка и мигнул на розовом экране черными зигзагами. — При чем тут машины! Она создала эффект Мёбиус-вектора, она говорила, что умеет…
— Да ты не злись!.. Что такое Мёбиус-вектор?
— Скручивание и соединение пространств… — Яшкин голосок вдруг потускнел. — Я ведь тоже не все знаю… Я не целый кристалл, не взрослый, а только росток… Да к тому же отколовшийся.
«Яшка — росток. И якорек — росток…» — толкнулось у Ежики. И он сказал примирительно, осторожно:
— Не сердись, Яш… Послушай теперь меня. Как ты думаешь… Можно уехать на другую грань на поезде?
— На каком? — буркнул Яшка (экран не светился).
— На местном… По Кольцу.
— По Кольцу все можно, — отозвался Яшка насупленно. — Если Мёбиус-вектор… Вселенная вся завязана в кольцо…
— Да я не про Вселенную, а про наш город, про местную линию… Ты послушай…
Яшка выслушал историю про Якорное поле, не перебивая, не включая экран. И молчал, когда Ежики закончил.
— Яш… Может быть такое?
— Ты же сам говоришь — было.
— А как объяснить?
Яшка не ответил.
— Яш…
— Я думаю, не мешай…
— Ладно, я подожду.
Яшка молчал долго. Ежики сидел, откинувшись, упираясь ладонями в травянистую землю. Кругом просвечивали зеленью большущие, как слоновые уши, лопухи.
Ежики думал: отчего Яшка сегодня такой? Рассеянный какой-то и раздражительный. Озадачен своим открытием? Или обиделся? Почуял, что в истории про Якорное поле Ежики не сказал всей правды? Ежики умолчал о Голосе. О своем разговоре с диспетчером. Не мог он про это… Даже сам с собой говорить про это боялся. Отчаянная надежда, вспыхнувшая вчера, сегодня была уже крошечной, как еле живой огонек. Но ведь была… Однажды они с Яриком полезли искать старинное оружие в катакомбах под Бастионным сквером и для интереса взяли не фонарики, а свечки, которые зажигают на именинах и новогодних праздниках. Свечки потрескивали, огоньки дрожали. «Не смотри на них, — прошептал Ярик, — они боятся взгляда…» Вот так и надежда Ежики боялась внимательного взгляда, слишком пристальной мысли. Могла мигнуть и погаснуть…
Что-то защекотало тыльную сторону ладони. Ежики скосил глаза. По руке шла крупная черно-зеленая гусеница. Мохнатая, с глазами-точками.
— Куда, глупая… — сказал Ежики.
Гусеница преодолела запястье и стала подниматься к локтю. Ежики повел плечами, но терпел. Мохнатая гостья путалась ножками в незаметных волосках на коже и упрямо шла вверх. Ежики взглядом провел ниже локтя черту: «Дальше не смей». Гусеница остановилась. Подняла переднюю часть туловища с головкой.
— Будешь соваться куда не надо, никогда не станешь бабочкой, — шепотом предупредил Ежики. Гусеница подумала и пошла назад. «Быстрее, — мысленно приказал Ежики. — Ну-ка брысь!» Незваная гостья свернулась калачиком и упала в траву.
— Здорово ты ее! — звонко сказал Яшка. Ежики вздрогнул. «Собеседник» лежал рядом, на лопухе. На экране плясал человечек с головой-картошкой.
Ежики положил компьютер на колени (поморщился — больно еще). Человечек упрыгал, опять появился вечерний городок. Среди домов проскочил крошечный трамвай с огоньками.
— Ну что, Яш? Подумал?
— Здорово ты ее! Сделал черту и — щелк!.. Ты, наверно, койво?
— Кто?
— А, ты не знаешь… Так у нас в Реттерхальме назывались люди, которые умеют всякое необыкновенное. Как мадам Валентина… Или вот он…
Ежики увидел на экране мальчишку. Длинноволосого, босого, в мятой парусиновой рубахе с синим воротником, в узких штанах до колен. Мальчик стоял на каменном уступе, смотрел куда-то. И так четко все было — ну прямо кино!
— Кто это?
— Тот, кто принес монетку… А потом его выгнали из города. Сказали, будто из-за него сошел с рельсов трамвай, когда ребята играли у путей. Но это неправда… А потом он спас город. Остановил в полете бомбу, когда враги выстрелили с корабля.
— Как остановил?
— Посмотрел на нее, и она не долетела.
— Сказки, — вздохнул Ежики.
— Не сказки. Ему поставили памятник.
Мальчик на экране сделался неподвижным, потемнел. И стало видно, что он из бронзы…
— А ты тоже… Гусеницу остановил, — напомнил Яшка.
— Это же пустяк! Сравнил: гусеница и бомба!
— Все равно. В тебе особый талант.
— Ну, тогда здесь, в лицее, каждый — койво. У любого особый талант. Да и не в лицее тоже. Каждый умеет что-нибудь… такое. Ярик, например, может бумажными голубями управлять: запустит, и они летают, летают, всякие петли делают…
— У тебя не только это…
— У меня, говорят, индекс воображения выше нормы… Вот, говорят, и представил себе Якорное поле… Яшка, ты скажи! Ты уже подумал? Разве может быть, чтоб такое просто привиделось? Ведь и якорек есть… и вообще…
— Мне бы твои заботы. — С человеческим вздохом Яшка выключил экран.
— Ты же обещал подумать!
— Я думал не об этом… Про Поле ты можешь решить сам. Поедешь и поглядишь: есть оно или нет.
Ежики опять зябко шевельнул плечами. Проще всего — поехать. Об этом он думает все время. Но… вдруг там ничего нет?
— А если я скажу, что нет, — проницательно заметил Яшка, — ты ведь все равно поедешь искать.
Ежики вздохнул. А Яшка попросил шепотом:
— Ты лучше скажи: мне-то что делать?
— А… что? — не понял и растерялся Ежики.
— Ну, зачем я на свете?.. Вырастили меня… Модель Вселенной… А что дальше? Так и буду болтаться по карманам?
— Я… не знаю. Не думал, — признался Ежики.
— И я не думал, пока себя не помнил… И сейчас ничего не придумывается. Каша в голове… — Это было ничуть не смешно, хотя, казалось бы, какая у Яшки голова.
Ежики виновато молчал.
— Мне нужна система, — хмуро сказал Яшка. — Чтобы все привести в порядок. — На экране возникли белые концентрические кольца. — Чтобы ясность была… Мне нужна какая-то философская кон-цеп-ция… Ты можешь соединить меня с Всеобщим Информаторием?
— Я… нет, наверно, Яш… Через «Собеседник» нельзя, с Информаторием только через главный компьютер соединяются. И надо каждый раз Кантора спрашивать… И как туда тебя затолкаешь?
— Не надо меня толкать! Мне бы только к кабелю Информатория. Прильнуть к нему… Хотя бы на часик!
В лицее жили не очень-то общительные ребята. А Ежики был вообще из тех, кого называют «рак-отшельник». Но не всегда же и он, и другие сидели в своих «раковинах». Случалось играть вместе, шастать по парку и по лицейским старинным подвалам. И Ежики знал, где по бетонному подвальному коридору (кстати, незапертому) тянется разноцветная лента пластиковых проводов и труб — жилы различных служб и связей. А то, что у кабеля Всеобщего Информатория оранжевый цвет, знает каждый первоклассник.
Через дверь он все-таки не пошел. Отодвинул решетку подвального окошка в гранитном цоколе, среди высокого белоцвета, пролез, прыгнул в сухую каменную прохладу (колюче отозвалось в колене). Апельсиновый пластик изоляции светился среди других проводов. Ежики двинулся вдоль линии, запинаясь в сумраке за неровности плит. «Собеседник» болтался на ремешке через плечо. В конце подвала, у самой стены, был бетонный квадратный столб, провода уходили за него.
— Вот, Яшка, здесь тебя спрячу… Никто не увидит.
— Ага… Я чую провод… Ежики, ты на меня не обижайся.
— Я и не думаю…
— Нет, ты обиделся. Но не надо…
— Ладно, — тихо вздохнул Ежики. — Все равно, кроме тебя, у меня здесь друзей нет.
Яшка вдруг спросил:
— Из Опекунской комиссии не было новостей?
— Ректор говорит, пока не было.
— А почему ты сам не выяснишь? Обратился бы во Всемирный Комитет по охране детства.
— Ты скажешь… Будут они слушать пацана!
— А на фига они нужны, если не будут?.. Ну, ладно… Устраивай меня. А завтра заберешь.
Ежики вытащил кристалл из компьютера, прикинул, как его приспособить к пластику.
Кабель был толщиной в два пальца, изоляция скользкая. Прижать соседним проводом? Но он тоже круглый и гладкий… Вот балда, не взял чем привязать. Не идти же обратно…
Морщась, Ежики нагнулся, рванул от сандалии мягкий ремешок искусственной кожи. С магнитной пряжкой и клепками. Обмотал вместе Яшку и кабель, притянул. Прижал пряжку к металлической клепке. Вот так, держись…
В парке он, хлюпая сандалией, добрался до скамейки у мраморной скульптуры «Мальчик с воздушным змеем» (змей символизировал мечту). Мальчик был ничего, славный, но змей тяжелый, тоже мраморный. Никогда он не сможет взлететь. И Ежики не первый раз уже посочувствовал кудрявому пацаненку… Впрочем, он каменный и никогда не был настоящим… А тот мальчишка в матроске — сперва живой, а потом из бронзы… Зачем? Людям, которых уже нет, хоть по тыще памятников поставь, не оживишь… Почему так — сперва есть, а потом нет? И зачем тогда всё? Вот и Яшка, хотя и не человек, задумался — зачем он на свете? А сам Ежики — зачем?
Сверху упал тяжелый каштан, колюче прокатился по ноге.
Каштан… Гусенок в помидорных лапотках… («Что-то все у меня птичьи сравнения: вчера Вороненок, сегодня Гусенок…») Монетка. «Вот она, моя хорошая, в кармашке у пояса. Открыла камеру и сама вернулась… Теперь ты точно будешь моим йхоло. Поможешь мне?»
«В чем?»
«Сам не знаю, в голове каша, как у Яшки… Хоть какой-то кончик найти бы у этого клубка».
Ежики соединил в «Собеседнике» разогнутые контакты дешифратора. Выдвинул на всю длину антенну. На цифровой клавиатуре набрал три ноля и пятерку — вызов общего пункта учебных консультаций. Звякнул сигнал ответа, на экране возникло внимательно-приветливое лицо дежурного учителя.
— Добрый день… Лицеист Матвей Радомир… У меня вопрос по общей теории Космоса.
— Добрый день, рад вам помочь, Радомир… А почему вас нет у меня на экране?
— Я не по общей связи, а через «Собеседник». Я… в парке занимаюсь.
— На лоне природы? Ну что ж… слушаю вас.
— Можно узнать о теории кристаллического строения Вселенной?
— М-м… — Доброе интеллигентное лицо слегка затуманилось. — Зачем вам? Это же далеко за рамками учебных программ.
— Ну и что…
— Видите ли… Это даже не теория. Это одна из устаревших гипотез строения мира. Довольно наивная, давно признанная несостоятельной, исключенная из сферы научных проблем. Ну, скажем, как вечный двигатель… Заниматься ею сейчас — все равно что возвращаться к вопросу: не стоит ли Земля на черепахе и трех слонах…
— Но если в историческом плане…
— В историческом… Но это за пределами нашего консультационного материала. Свяжитесь с отделом научных гипотез в Информатории. Только, разумеется, не через «Собеседник»…
— Благодарю, господин профессор.
Тот дернул бородкой, отключился.
Ежики отнес в комнату бесполезный компьютер. Потом спустился в столовую. Есть еще не хотелось, но потом, когда захочется, здесь будет полно лицеистов. А ему сейчас не до встреч, не до приветствий и бесед…
Пожевав без охоты (даже не заметил что), глотнув какого-то газированного питья, опять пошел в парк. Мраморный мальчик все так же пытался запустить змея. Бедняга… Ежики двинулся дальше, загребая сандалиями песок аллеи…
— Матиуш! Здравствуйте…
Очки Кантора искрились на солнце. Ежики склонил в лицейском поклоне голову.
— Как вы себя чувствуете, Матиуш?
— Вполне… Благодарю вас.
— На занятия, как вижу, не пошли?
«Как вижу»! Наверняка следил с утра… Спокойно, Ежики…»
— Я сперва пошел в гимназию, но раздумал… Сидел в парке, решал задачки с «Собеседником».
— Похвально… А скажи-ка мне, мальчик, почему тебя вдруг заинтересовала теория кристаллической Вселенной?
Надо было оставаться хитрым. Сдержанным. Ежики, однако, не сдержался:
— Настучали уже?
— Ну право же, Матвей, что за термин… Учитель Бельский сообщил о необычном интересе лицеиста Радомира. Это обязанность любого консультанта.
— А что в моем интересе необычного? — Ежики глянул в сторону, усмехнулся. — У меня же индекс воображения, фантазии всякие. Вчера Якорное поле, сегодня Кристалл…
— Но… м-м… Кристалл — не совсем фантазия. Такая гипотеза на самом деле бытовала. Вот мне и стало интересно: где вы про нее узнали?
— Я… — Ежики смешался. Опустил глаза. Сразу-то ничего не придумаешь…
— Ну, секрет так секрет, — добродушно сказал Кантор. — Дело ваше… — И тоже опустил глаза. — О… а что у вас с ногой?
— Оторвался ремешок.
— Я про колено…
— Стукнулся где-то. Прошло уже… — И опять не выдержал: — У меня привычка лупить ногой по неподходящим предметам.
Кантор проглотил и это.
— Сходите к доктору Клану.
— Ну вот, из-за болячки ходить в медпункт.
— Я все-таки прошу вас…
Ежики поглядел в очки. И сказал, что думал (наплевать!):
— Вас интересует не нога моя, а голова. Чтобы доктор Клан проверил, не свихнулся ли я совсем.
— Радомир… Я знаю вашу антипатию ко мне, хотя и не понимаю причин. Однако есть же нормы приличий и лицейской этики…
— А я не соответствую, да? Но я сюда и не просился… Почему я не могу жить дома?
— Вот в чем дело! Понимаю. Но я не виноват… Хорошо, я сегодня же сделаю очередной запрос Комиссии.
«Сделаешь ты…»
— А к доктору все-таки зайдите, Матиуш, не ершитесь. Я вас умоляю.
Не пошел он к доктору Клану. Тот своей врачебной властью (с которой не поспоришь!) уложит, чего доброго, его в тихую палату. У тебя, мол, мальчик, нервное перенапряжение… Пока такого не случилось, подальше от лицея! И вообще, почему он, Матвей Юлиус Радомир, боязливо медлит? Давно уже мог бы оказаться там!
Это «там» все равно есть! Лишь бы неведомые силы не закрыли к нему путь…
Все как в прошлый раз. Хвостовой вагон — сперва почти пустой, потом пустой совершенно. Шуршит вентиляция, воздух шевелит рубашку и волосы. Успокаивает?
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Малый ипподром…
«Скорее же, мама!»…
— Следующая станция — Магазин «Радуга»…
— …Дом капитанов…
— …Отель «Кочевники»…
— …Эстакада…
— …Солнечные часы…
«Не обмани меня! Ну, пожалуйста!!»
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Якорное… поле.
6. Кронверк. Черный телефон
И здесь было все как вчера. Знакомо-знакомо, словно Ежики приехал сюда не второй раз в жизни, а тысячный.
Поезд ушел. Ежики медленно и с облегчением оглянулся еще раз. Страх и напряжение оставили его. Он чувствовал себя как человек, наконец-то укрывшийся от неясных тревог и угроз за стенами прочного дружеского дома.
Светило окно.
Хлопая сандалией с оторванным ремешком, прихрамывая, подошел Ежики к окну. Приласкал глазами старую модель. Ой, здесь была новинка. У точеного столбика подставки лежал на песке стеклянный шар! Зеленый… Из тех, какими играли вчера? Едва ли. Этот был оплетен сеткой из волокнистого троса. Было в нем что-то знакомое, где-то уже виденное. И Ежики вспомнил: в кино про рыбаков! Такие стеклянные шары в сетках служили в старину поплавками для сетей… Но ведь они были пустые, легкие, а этот — литой! Вон, даже пузырек виден в толще стекла… А, понятно! Такие подвешивались к нижнему краю сети. Грузила…
Эта маленькая догадка почему-то обрадовала и еще больше успокоила Ежики. Он постоял, тихо улыбаясь, покачал коленом якорную цепь (касание холодного металла прогнало остатки надоевшей боли). И неторопливо пошел к выходу на лестницу. Там оглянулся, еще раз посмотрел на корабль за Т-образным переплетом…
На лестнице на сей раз не оказалось никаких находок. Ежики без задержки выбрался на свет.
…Неужели он так долго ехал сюда по Кольцу? Из лицея ушел он сразу после полудня, а здесь, похоже, близок был вечер. Как вчера, светило из-за облаков невысокое чистое солнце. И опять — вместо липкой жары — прохлада с запахом воды и травяного сока. Те же седые от одуванчиков пригорки, те же якоря. Пусто. Тихо. Знакомо…
Ежики пошел к площадке, где вчера играл с ребятами. Сандалия болталась. Ежики разулся, оставил сандалии на приметной глыбе ракушечника с врытым в землю метровым якорем-кошкой. Трава под ступнями оказалась мягкой и теплой. А парашютики семян так же, как и накануне, повисали в неподвижном воздухе.
На площадке с лунками никого не было. Ежики огорчился, но только чуть-чуть. В конце концов, никто не знал, что он придет, никто не обязан был ждать.
Может, и лучше, что никого пока нет. Будет время поразмышлять, о чем он спросит ребят и как объяснит свое вчерашнее бегство…
А как объяснить? Разве расскажешь почти незнакомым людям, что на душе? И какая там живет маленькая, но неистребимая тайная надежда…
Но беспокойства у Ежики не было. Неторопливо, почти бездумно сел он у края лужайки, прислонился спиной к упругому кусту сухого репейника… Солнце сквозь стебли мягко светило в затылок. А на северо-востоке висела в бледной синеве большая, но слабо различимая луна. Полная на две трети. «Лицо» ее было похоже на портрет человека с распухшей щекой. Это называется, кажется, флюс. Раньше так распухали щеки у тех, кто не лечил зубы. Ежики смотрел старую кинокомедию про дядьку, от которого ушла невеста, потому что он показался ей трусом: не хотел идти к дантисту, и ему перекосило физиономию… А Ежики пошел бы, если в зуб — не безболезненным лучом, а стальным сверлом? Бр-р — плечи передернуло холодком…
А ведь и в самом деле зябко. Особенно после городской духоты. Рубашка невесомая, на голое тело… Сколько же так ждать? Ежики вытянул шею, глянул вокруг… Вздрогнул. Показалось — за кустами чертополоха человек.
Нет, это на торчащей из травы балке висела его капитанка!
Ежики вскочил, подбежал. Кто-то повесил капитанку на изъеденный червями дубовый шток скрытого в траве якоря. Ежики схватил ее за капюшон. Всегда такая легонькая, капитанка сейчас потянула руку вниз. Что-то увесистое лежало в кармане!
Ежики с натугой вытащил из самого большого, бокового кармана стеклянный шар.
На этот раз шар был бесцветный. Разве что с чуть заметным намеком на зеленоватость. Чей-то подарок? Напоминание? Намек?
Перекладывая шар из ладони в ладонь, Ежики натянул капитанку. Снова стало уютно, тепло на Якорном поле. Ежики вытянул руку, глянул сквозь шар на белый свет. Мир перевернулся, выгнулся в этой большой капле, сделался маленьким. Но остался в шаре целиком: седое от одуванчиков поле с якорями, небо с ватными клочками облаков, красная полоска — кирпичный кронверк. И две искры: поярче — солнышко, побледнее — луна. Ежики смотрел, пока не устала рука. Потом глянул на шар вблизи.
Пальцы сквозь выпуклое стекло казались громадными. Рисунок на коже — как рельефный узор на подошвах кроссовок. Вот это увеличивает! Ежики поразглядывал ноготь, волоски на запястье, ткань капитанки (она превратилась в рогожу). Пуговицу, ставшую громадной, как блюдце… Сорвал травинку с крошечным, не больше песчинки, цветком. Цветок показался орхидеей…
Ежики подумал: что бы еще поразглядывать? И вспомнил — монетка!
И перепугался: не потерял ли?
Нет, она была на месте, в кармашке у пояса. Ежики положил ее на ладонь, под шар. Прижатая к стеклу часть виднелась четко, а края терялись в размытой глубине. Пошевеливая шаром, Ежики видел то большой глаз мальчишки, то вздернутый нос, то ухо — величиной как у настоящего человека. То кольца волос на затылке… Потом вдруг показалось, что маленький Хранитель может обидеться на такое бесцеремонное разглядывание. И Ежики перевел фокус на буквы… «Фрее стаат Лехтенстаарн…» «Свободный город Звездосвет». Где он такой? Сейчас, наверно, и нет его на Земле… А как называлась денежка? Десять — чего? Копеек, грошей, франков, пенсов? Зерен, колосков?..
Зернышки колоска были под стеклом каждое с ноготь. Усики — толщиной с карандаш. А на цифрах — борозды — следы царапин от Яшки… Ежики приставил монетку к шару ребром. Он думал — край гладкий. Но с широкой, как обруч, желто-белой полосы смотрела сквозь стекло выдавленная в металле буква «N»…
— Ан веек нект штеен нект гранц фор фреенд…
Корни старых северных языков потолкались в памяти, подсказали перевод: «Не стой на пути, нет границ для свободных…» Или «для дружных»?.. Или вообще совсем не то?
Как бы ни переводились древние слова, к Ежики они отношения не имели. Может быть, это была поговорка жителей вольного города. Или девиз Хранителей… Но ведь можно понять и так: «Не останавливайся на Дороге, шагай через Границу свободно»!
Что такое Дорога, Ежики знал. Она привела его сюда и теперь снова тонким звоном запела в нем. А Граница?.. Ребята вчера сказали — здесь застава. Именно у границ бывают заставы…
Он бегом отнес шар к ракушечной глыбе, положил рядом с сандалиями. Монетку сунул в нагрудный карман капитанки — легче проверять, на месте ли. И кинулся к тускло-оранжевому кронверку, что дугой раскинулся за пригорками, на краю Поля…
Прежде всего, если никого не встретит, надо подняться на башню. Рэм говорил: с башни виден город. И можно будет наконец сообразить: в каком же квартале мегаполиса это Якорное поле?
Вблизи кирпичные стены с окнами вовсе не казались приземистыми. А башня стала совсем высоченной. В ней был арочный проход с воротами из решетчатого железа. На них висел кованый средневековый замок. Но в левой створке ворот оказалась калитка — тоже из железной решетки с завитками. Ежики осторожно пошатал ее. Петли завизжали, калитка отошла.
Под кирпичными сводами было сумрачно и неуютно, даже мурашки побежали. Шумно отдавалось дыхание. В конце прохода видна была серая, из валунов, стена, из нее торчали ржавые петли (наверное, для факелов). Идти туда не хотелось, да и незачем. Нужно было на башню. Ежики потоптался, зябко поджимая ноги. И увидел справа и слева, в кирпичной толще, узкие двери. Обе они были приоткрыты (железные створки даже в землю вросли).
В таких случаях для Ежики не было вопроса, в какую сторону идти. В любой игре или когда бродил по незнакомому саду или среди запутанных улиц, если приходилось выбирать дорогу, он сворачивал налево. Мама говорила, что это у него с рожденья запрограммировано: всегда поперек, всегда против часовой стрелки. И сейчас он, конечно, шагнул в левую дверь.
Потянулась наверх лестница — почти в полной темноте, среди тесных кирпичных стен. Ежики насчитал сорок две ступени и четыре поворота, когда забрезжил свет. За аркой открылся широкий коридор с окнами на две стороны. Он плавно изгибался.
Коридор явно уводил от башни, но иного пути не было. Не спускаться же обратно. Ежики осторожно пошел по холодному чугуну плит. Их рельефный рисунок впечатывался в босые ступни. Под высоким сводчатым потолком шепталось эхо. Изогнутые балки перекрытий поднимались от пола между окнами и на потолке сходились стрельчатыми арками.
Слева светило в узкие окна совсем уже низкое солнце. И видны были все те же пригорки, деревья вдали и небо. Никакого города. Справа — тоже небольшие холмы, но слабо различимые. Небо стало там совсем вечерним, и луна теперь сделалась гораздо заметнее — розовая, выпуклая.
Странно все это было: слева почти день, справа почти ночь. И этот коридор — будто внутренность дракона с ребрами. И полное безлюдье…
Тревожное замирание стиснуло Ежики. Такое же случалось, когда он забирался в старые подземелья с надеждой отыскать редкости и клады. Но там он был не один и к тому же точно знал, где он.
А здесь? Зачем он сюда попал, куда идет?
Желание повернуть назад, помчаться прочь стало упругим, как силовое поле. Он остановился. Уйти?.. А там, сзади, что? Лицей, прежняя жизнь. Вернуться в нее, ничего не узнав? Но… маленькая надежда, о которой он боится даже думать… она тогда исчезнет совсем.
И кроме того, что написано на ребре монетки! «На Дороге не останавливайся! Через Границу шагай смело!» Ну, пусть не совсем так, но смысл такой!
Ежики ладонью прижал карман с монеткой. То ли ладонь была горячая, то ли сама монетка нагрета — толчок хорошей такой теплоты прошел по сердцу. И Ежики зашагал быстрее. Не бесконечен же путь! Куда-нибудь приведет!
Коридор привел в квадратный зал с потолком-куполом. Там, в высоте, тоже сходились ребра перекрытий. Окна были круглые, небольшие, под верхним карнизом. На тяжелой цепи спускалась черная (наверно, из древней бронзы) громадная люстра без лампочек и свечей. Она висела так низко, что, если подпрыгнуть, достанешь рукой.
Ежики подпрыгнул — сердито, без охоты. Из чащи бронзовых загогулин вылетел воробей! Умчался в разбитое окно.
Ежики присел на корточки. Отдышался. Потом сказал себе: «Не стыдно, а?» Но сердце еще долго колотилось невпопад…
Потом он успокоился. Прислушался… И в него проникло то полное безлюдье, которое наполняло все громадное здание. Мало того, и за окнами — далеко вокруг — не было ни одного человека. Ежики теперь это чувствовал и знал точно. Даже всяких духов и привидений (если допустить, что они водятся на свете) здесь не было.
Нельзя сказать, что это открытие абсолютного одиночества обрадовало Ежики. Но и бояться он почти перестал. Из квадратного зала он вышел в другой коридор, короткий, окнами к солнцу (оно уже висело у самой холмистой кромки, среди длинных облачных волокон)… Потом была на пути небольшая круглая комната с неразборчивой мозаикой на стене и овальным окном в потолке. После нее запутался Ежики в тесных темных переходах и на гулких винтовых лестницах (вверх, вверх!). И снова коридор. Теперь окна — в сторону ночи. Именно ночи, потому что небо там уже зеленое, а луна светит, как фонарь. И на полу (теперь, кажется, деревянном, теплом) — полосы от окон.
Снова стало страшно: как он выберется отсюда, как найдет дорогу в темноте?
«А зачем тебе дорога назад? Тебе нужна просто Дорога…» И монетка опять зазвенела в нем тихонько и обещающе: что-то будет впереди…
Впереди, когда коридор плавно повернул, засветилась острой желтой буквой «Г» приоткрытая дверь. Засветилась, отошла без звука.
В пустой и просторной комнате без окон горел у потолка матовый шар-плафон. А напротив двери висели часы. Старые, музейного вида, в резном деревянном шкафчике, со стрелками и римскими цифрами на белом круге. Они по-домашнему щелкали, качая медным маятником. Но показывали они чепуху: десять минут четвертого.
А который час на самом деле?
Ежики не носил часов. Там, где он жил, гулял, играл, табло и циферблаты были на каждом углу, на каждой стене. Зачем таскать на руке браслет? Но здесь, в кронверке, время перепуталось, как перепутались лестницы и коридоры… А может, уже глубокая ночь?
Ох и переполох в лицее!
Но эта мысль его не испугала. Скользнула и ушла. Хуже было другое. Мало того, что он, как в дремучем лесу, заблудился в пустой крепости. Он заблудился во времени… А может, он вообще уже не на Земле?
Зацепиться бы хоть за что-то привычное, знакомое, прочное… Он зашарил глазами по голой с трещинами штукатурке, по полу… И увидел то, что не замечал до этой секунды.
У стены, прямо на расколотых паркетных плитках, стоял черный переговорный аппарат. Да, телефон. Такая штука с трубкой и дырчатым диском, чтобы крутить его и набирать номера. Похожие аппараты есть в Старом Городе, где всё, как в прошлых веках: кино, кафе, автомобили старых марок. Даже лошади с экипажами. А из будки с телефоном каждый может позвонить домой или знакомым — как из прошлого века! Ежики, когда гулял с мамой в этом городе-музее, сам звонил Ярику!
Ежики сел на корточки у телефона. Зачем-то оглянулся. Взял трубку. По-комариному запищало в наушнике. Действует! Значит, можно хотя бы узнать время!
Диск поворачивался с трудом, срывался, аппарат елозил по паркету. Ежики стиснул трубку между коленями, левой рукой прижал телефонную коробку к полу, палец правой снова сунул в отверстие диска. Повернул с натугой: ноль… ноль… один… Прижал к уху трубку.
Комар в наушнике уже не пищал. Там была большая прозрачная тишина пространства. Вдруг в ней что-то щелкнуло.
— Ежики… — сказал близкий, очень знакомый голос («Ешики»!). — Ешики, это ты?
Он задохнулся. Оглушительно застучали старые часы. Но сквозь этот стук донеслось опять:
— Ешики, это ты, малыш?
— Да… — выдохнул он со всхлипом.
— Ешики… В дверь налево, потом лестница на третий этаж. Там комната триста тридцать три. Беги, малыш, беги, пока светит луна…
Оглушающий звон опустился на него… Нет, это опять звенит в наушнике! Ежики бросил трубку. Метнулся… Дверь налево…
О, как мчался он по лестнице, по коридору, сквозь полосы бьющей в окна луны! Он рвал эти полосы ногами и грудью, рвал воздух, рвал расстояние!.. Но где же хоть одна дверь? Где?!
Наверно, здесь не третий этаж! Надо вверх!.. Какие-то ступени в темноте, круглый поворот стен, пол идет наклонно, все выше, опять поворот… Прогудел под ногами металл невидимого решетчатого трапа над пустотой. Потом — р-раз! — и пустота эта ухнула, раскрылась впереди, сжала грудь.
Нет, он упал не глубоко, с высоты не больше метра. И не на камни, на упругий пластик. Вскочил. Было пусто, темно, гулко. Лишь далеко где-то сочился лунный свет.
Куда бежать?
И тогда Ежики закричал в горе и отчаянье:
— Мама, где я?!
Щелкнуло в темноте. Мягкий мужской голос (явно из динамика) сказал:
— Что случилось?
— Где третий этаж?!
— Здесь третий этаж.
Пустота налилась розоватым светом. Круглый вестибюль и — двери, двери, двери… Над одной бьются, пульсируют стеклянные жилки цифры: 333.
Ежики задохнулся опять, со стремительного разбега ударился о дверь, откинул ее…
В белой комнате за черным столом сидели Кантор, незнакомый человек и доктор Клан.
Темно стало.
Ничего не стало…
7. Аутотренинг иттов
…— и когда они поймут, что секрет в темпоральной направленности кольца…
— Понять — не значит справиться…
— Справятся и с этим, уж коли сделали заставу. И превратят тамбур в туннель. А точнее, в проходной двор…
— Тише, прошу вас…
— Тише или громче, какая разница… Вы говорили, там пустыня, редкие поселки на уровне позапрошлого века и всего несколько сотен людей, нет ни одного инженера. А они вон что отгрохали.
— Всегда можно ошибиться, если имеешь дело с Сопредельем…
— Это верно. А мальчик вот не ошибся. Ухватили в последний миг. И какой ценой! Генеральная блокада ради одного мальчишки…
— Тсс…
— Да бросьте вы!..
— Мне показалось, что он пошевелился.
— Это осела подушка… И потом, что он поймет, если даже услышит?
— Но вы уверены, что все-таки не услышит?
— До утра он будет спать как убитый. Это даже не сон, а кома. Вернее, состояние, близкое к ней… А в потолке к тому же гипноизлучатель…
«Фиг вам, а не излучатель, доктор Клан… Воины-итты не теряют сознания надолго. Они могут лежать, как окоченевшие на песке трупы, но слышат всё, и голова у них ясная…»
— …Сам готов свалиться как мертвый. Я истратил энергии, наверное, не меньше, чем все наши накопители…
— …Которые теперь пусты.
— Теперь это не страшно. По крайней мере, некоторое время. Мы поставили заслон.
— Надолго ли…
— На третьи сутки грань выйдет из меридиана. До следующего цикла у нас полгода.
— И вы уверены, что сумеем накопить энергию?
— Правительство поможет. У нас там свои люди.
— Есть свои, а есть и…
— Ну, ей-богу же, доктор, ваш скепсис хорош, но в разумных дозах.
— Это не скепсис, любезный Кантор. Уже не скепсис… Боюсь, что это общее фундаментальное неверие.
— Вы сошли с ума…
— Благодарю.
— Но в конце концов… капитан-резидент Клан! Вас тем не менее никто не освобождал от выполнения обязанностей.
— А я и не уклоняюсь, как видите, любезный консул…
«Кто? Святые Хранители, кто?!»
— …Не уклоняюсь. Но смысл?.. И вам ни разу в вашу безусловно талантливую голову не приходила мысль, что Идея порочна изначально?
— Нет! Не приходила! Такая мысль несовместима с командорским обетом, который мы все давали и нарушение которого…
— Ну, давали, давали… Обет прекрасен, Идея благородна — Всеобщая Гармония Мира… А почему мы приняли на себя роль носителей абсолютной истины? Почему Гармония в нашем понимании должна быть Гармонией, приемлемой для всех?
— С точки зрения бронтозавра или каннибала с Пальмовых островов, она, безусловно, смотрится иначе…
— Не ящеры и не каннибалы восстают против глобальных экспериментов. Помните идеологов Мыслящей Галактики? Как начался их крах… Кстати, тоже на Полуострове, хотя и не похожем на наш. И… о Господи… раньше-то как-то и не думал: первым поднялся лицей. А уж потом пошло по меридиану…
— Если делать столь наивные сопоставления… Вы устали, доктор.
— Не надо так, мон женераль. Я врач, гуманитарий, штатский человек, но тоже офицер общины и…
— Все мы гуманитарии…
— …и позволяю себе уставать не больше других. Но мое офицерство, надеюсь, не лишает меня права анализировать ситуацию?
— Анализируйте, ради всех святых. Но при чем здесь эти… с Мыслящей Галактикой? Они были даже не люди.
— Ну ладно! А Западная Федерация? Ближайшее Сопределье… Крах машинной системы никому ничего не доказал?
— Работа громадна, доктор. А слепых случайностей масса…
— Это не случайности. По крайней мере, есть одна закономерность: первыми поднимаются дети. Существа с незамутненной психикой и не растерявшие бескорыстных чувств. И как правило, ничего с ними нельзя сделать.
— Но мы ничего и не делаем с ними! Там с ними воевали, а мы — наоборот.
— А мы воюем с их родителями. Вышвыриваем их в сопредельные резервации и… чем это лучше убийства?
— Не говорите глупостей! Убийство несовместимо с постулатами командорства… Тем более что нельзя исключать гипотезу о реальности некротического поля, дающего вспышку в момент гибели. Чуткие нервы наших вундеркиндов могут уловить ее…
— Но мы все равно внушаем детям, что родителей нет…
— Это не одно и то же… И кто виноват, что такова природа?
— При чем здесь природа?
— Я имею в виду, что свойства таких детей активизируются именно при ощущении некомфортности, одиночества. Видимо, это защитная реакция детства… А в привычной жизни, при родительской ласке эти таланты обычно спят.
— Ну да, мутанты на почве сиротства… Господи, и я, врач, оказался соучастником. Да если бы…
— Но это в их же интересах! Выросшие, с окрепшими способностями творить необычайное, они станут вершителями судеб Мира!
— Или рычагами тех, кто хочет этим Миром вертеть?
— Что с вами, доктор? Вы кого имеете в виду?
— Да не вас. Вы все-таки лишь консул…
— Но подозревать высших командоров… И потом, почему вы решили, что наши мальчики, когда вырастут, позволят себе стать чьими-то рычагами? С их-то способностями!
— Несмотря на способности, мальчики ущербны… Да, не удивляйтесь. Мы растим экстрасенсов и гигантов телекинеза, надеемся открыть среди них суперталантов, умеющих шагать через грани и бороться с темпоральным потоком…
— Кажется, уже открыли одного. На свою голову…
— Да… Пичкаем мальчика науками и категориями морали, а сами украли у него главное: дом и маму…
«Мама!»
«Ежики… Тихо, Ежики, тихо, родной. Иначе это просто опасно…»
«Я — тихо… Только давит, наваливается сон. Видно, все-таки это излучатель…»
Итты от колючих лучей космоса закрывались медными плоскими щитами. Жесткое дыхание звездного неба бессильно перед заговоренным металлом… Нет щита? Есть монетка в нагрудном кармане капитанки. Она растет, превращается в тяжелый диск, давит на грудь… Ничего, зато — щит… Хранитель Итан, спаси мальчика Ежики, спаси от врагов, как спас тебя от копья твой братишка… Помоги все услышать и понять…
— …Нарушаем самый естественный закон: привязанность к матери. И природа все равно отомстит нам за нарушение естества.
— Она давно уже мстит. Не нам, а человечеству… Естество, извечный закон! Что же тогда, любезный доктор, тысячи матерей бросают детей, спихивая их в приюты, благотворительным общинам и электронным нянькам? А отцов вообще не сыщешь… Кто ломает установки природы?
— Бросают, да… А дети с этим смириться не могут. Значит, закон все же есть.
— Закон развивается, как и все на свете. Будущим детям нужны не родители, а наставники. И мы призваны нести этот крест. Вы добровольно приняли заповеди Командора и…
— А что общего у этих заповедей с нашими методами? Первый Командор дал сжечь себя, чтобы спасти для детей их матерей-заложниц… Элиот Красс парусником таранил стальной броненосец, чтобы тот не разрушил мирные дома на побережье…
— Красс не был командором в полном смысле. И кроме того, он сам увел мальчишку из семьи, заменив ему отца и мать. Как мы…
— Отнюдь не «как мы». Он хотел вернуть мальчика домой, но Реттерхальма уже не было… А капитан Глас! Его изрешетили на шоссе за то, что он вернул десятилетнему мальчику родителей! Жив он остался чудом…
— Но он авантюрист, а никакой не капитан! Бывший клерк, свихнувшийся на дешевых киносериях! А его «Белые гуси» давно порвали с командорством.
— Сами они так не считают… Тут как смотреть: они порвали или мы?
— Они отрицают генеральный тезис!
— Тезис о том, что главная задача командоров — спасать особо одаренных детей? Глас просто вернул тезису изначальный смысл: надо спасать страдающих. Так и делал Первый Командор… А то, что у обиженных судьбой детей чаще бывают яркие вспышки нервных сил, это уже второй вопрос…
— Гм… Прежний Командорский круг объявил бы ваши взгляды ересью…
— На костер доктора Клана!
— Не те времена… Однако с чего вдруг… такой поворот в ваших взглядах?
— Не вдруг… хотя и на старости лет. Я вечный холостяк, милый Кантор, а в детстве с младенчества жил у чужих людей или в казарме… К тому же я хирург, а милосердие хирурга — штука суровая, не до сантиментов. Тем не менее человеческое когда-нибудь все равно прорастает… Впрочем, не у каждого, наверно…
— Хотите сказать, что я этой опасности лишен?.. А между прочим, вы видели, что я чуть не схватил сердечный приступ из-за мальчишки.
— Из-за страха, что он уйдет…
— Это вы зря. Я искренне привязан к нему.
— Возможно… Возможно, вы к нему привязаны по-своему…
«Кантор-то? Смешно даже…»
И стало в самом деле смешно. Не веселый смех, а так, нервное дерганье губ. А тут еще словно мохнатая муха пошла по босой ступне… Откуда мухи в стерильной палате доктора Клана?.. Опять идет. Сил нет, до чего щекотно!
Ежики дернул губами, дрыгнул ногой. Не то промычал, не то простонал — будто пришел в себя сию секунду. И сразу сквозь ресницы увидел над собой два лица: худое, офицерское — доктора, круглое, очкастое — Кантора.
— Как вы себя чувствуете, Матиуш? — Это Кантор. И он же шепотом доктору: — А вы говорили — до утра…
Доктор — тоже одними губами:
— Уникальное дитя…
Кантор наклонился ниже:
— Матиуш… вы меня слышите?
«Давай, Ежики, держись. Хитри. Это твоя война…»
— Слышу… только плохо… Почему я здесь? Это клиника?
— Вы не совсем здоровы… Вы все помните, что с вами было?
Он все помнил. Правда, сквозь тусклую серую тяжесть — она обволакивала голову. И потому воспоминание было чужим, отстраненным. Словно кто-то другой, не Ежики, слышал в телефоне голос, а потом рвался на зов по темным лестницам и лунным коридорам… Наверно, излучатель все-таки сработал, хотя и не совсем.
Но все равно… держись, Ежики.
— А что… со мной было?
— Вас подобрали в поезде, в пустом вагоне. Вы… не то спали, не то…
«Ага, значит, будет втолковывать: ты поехал по Кольцу и там от своих воображаемых приключений потерял сознание… А капитанку я тоже нашел в поезде?»
— Так, значит, вы ничего не помните?
Ежики медленно (и будто со смущением) пожал плечами.
— Почему?.. Поезд помню… А еще где-то сандалии бросил, в траве. Одна хлюпала без ремешка…
— Это, наверно, в парке. Еще до поезда…
— Может быть…
«Нет, не может! Кто пустит босого пассажира на эскалатор большой станции? Там контролеров понатыкано у каждого входа — и электронных, и живых!»
— Ох, мальчик, мальчик…
— А что такого? Нельзя прокатиться по Кольцу?
— Но я же просил: не надо этого делать хотя бы несколько дней… Впрочем, не будем сейчас… — Он глянул с мягкой укоризной и опустил очки: мол, с больного, с пострадавшего, какой спрос.
Ежики тоже продолжил игру: упрямо поджал губы — ослабевший, но капризный мальчик. Вроде бы и чувствует, что виноват, а признаться не хочет.
— Вы можете подняться?
Ежики уперся в подушку локтем, сел.
— Вам надо принять ванну, переодеться в пижаму… Доктор, позовите сестру, чтобы помогла мальчику.
— Еще чего! — Он быстро встал. Покачнулся вполне натурально. — Я сам…
— Не надо ванну, это лишняя суета, — усмехнулся доктор. — Пусть валится так и спит сколько влезет. Лучшее лекарство…
— Да, но… взгляните на его ноги.
— Ну и что? Ни один мальчишка на свете не помер оттого, что лег спать с немытыми пятками.
Ежики, сердито сопя, переоделся в невесомую голубую пижамку. (Все, голубчик, теперь ты арестант. Одежду Кантор, конечно, заберет.) Незаметно он выхватил из кармана капитанки монетку, спрятал в кулаке. Потом забрался в стерильную прохладу больничной постели. Натянул простыню до глаз. Все тем же больным и капризным тоном сказал доктору:
— Здесь потолок излучает, я чувствую. Выключите. Я и так усну.
Доктор кивнул:
— Чуткий ребенок… Я выключу, не волнуйся.
Они встретились глазами — мальчишка и старый хирург. И Ежики увидел, что доктор его отлично понимает. Знает, что Ежики все помнит.
— Идемте, господин ректор.
Ежики глянул вслед, на седой затылок и прямые военные плечи доктора.
«А вот возьму и спрошу его завтра обо всем прямо! Он такой… наверно, не соврет…»
А пока надо было выгнать из головы серую давящую муть, разобраться, вспомнить все по порядку, ясно… «Ежики… Беги, малыш, беги, пока светит луна…»
Это смоделировать нельзя. Значит… Что значит?..
Но вязкая усталость навалилась тяжело и властно. Или сказалось все недавнее, или кто-то не выключил излучатель. Ежики дернулся, чтобы скатиться с кровати, из-под лучей. И не смог. Последнее, что почувствовал, — муху, которая опять шла по ступне.
Он проснулся около полудня. Вялый и спокойный. Но в глубине души — решительный. Сразу стал ждать доктора Клана. Но сперва пришла сестра Клара — веселая, с веснушками. Прикатила на столике какую-то тертую еду и сок. Щелкнула Ежики пальцем по носу.
— Выспался, бродяга? Встать можешь? Или помочь тебе… во всех делах?
Он сердито вскочил. За окном было пасмурно. Может, осень начинается? Да нет, это серый светофильтр…
— Сестра Клара, уберите там, с окна… Придумали тоже…
— Если больной скандалит, значит, дело идет на поправку…
Сидя на постели, он безучастно сжевал больничный завтрак. Темная и гулкая, как коридоры кронверка, тревога опять нарастала в нем… Пришел врач. Но не Клан, а молодой, с желтой аккуратной бородкой. С ним ассистент — чернявый и молчаливый.
— Ну, юноша, как дела?
— А где доктор Клан?
— Прихворнул.
«Все ясно».
— Нигде ничего не болит?
— Бока болят… Отлежал.
— Эт-то не смертельно…
«Они все добрые. Все ласковые… И вязнешь, как в сладком киселе…»
— Что снилось?
— Не помню… Я не понимаю: зачем меня здесь держат?! Я здоровый…
— Э, голубчик! Мы, врачи, все эгоисты. Мы тоже хотим работать. Ни одного больного в лицее за все лето, и вдруг — такой подарок. Дайте нам попрактиковаться на вас с недельку…
— С недельку?!
— Ну, пару дней… Коллега, сперва датчики, потом инъекция и массаж…
Мягкие пальцы, жужжание массажера… Полудремота… И опять уходит, сглаживается острая зыбь тревоги… Нельзя, чтобы уходила! Воины-итты, на помощь!.. Марсиане сдвигают над мальчиком щиты. Темная изнанка щитов — как сумрак той круглой комнаты, куда он сорвался с трапа. «Мама, где я?!»
— Что с вами? Беспокоит?
Итты не выдают ни мыслей, ни чувств. По крайней мере, истинных…
— Ничего. Ноге почему-то щекотно. Будто муха…
— Это бывает. Коллега, смените частоту…
Под вечер пришел Кантор.
— Как самочувствие, мальчик?
— Они задавили мне голову этим излучением…
— Да не выдумывайте, излучения нет. А голова… что поделаешь, это, Матиуш, видимо, от нервов и перегрузки… Доктор говорит, что вам полезно было бы полежать в клинике Института психотерапии у профессора Карловича.
— Какой доктор? Клан или… этот?
— Оба…
— Никуда я не поеду! Они там постараются… вместе с вами! Вы хотите, чтобы я все забыл!
— О чем вы?
Ох, Ежики! Ты же на тропе войны. Где хитрость, где сдержанность? Где итты, которые не ведают слез?
— Вы знаете о чем! О Якорном поле!.. Вы думаете, я ничего не помню? Как вы… там…
— Вы опять о своем. А я-то надеялся, что все позади… Ну, хорошо, хорошо, в любом случае плакать не следует…
— Не поеду я в клинику! Хоть силой волоките!
Кантор встал. Сказал сухо:
— Я и не настаиваю. Это будут решать ваши родственники… Вашей… э… тетушке разрешено опекунство, и через три дня вы можете отправиться домой.
Ежики откинулся на подушку, рукавом пижамы отер мокрое лицо. Вот это новость!.. Хотя… удивление и радость все равно где-то позади главного. Позади воспоминания о кронверке. О ловушке…
— …Только не делайте вид, что это для вас новость, — с упреком говорил Кантор. — Направляя жалобу во Всемирный Комитет по охране детства, вы ведь ждали именно такого ответа, не так ли?
— Во Всемирный… Я не…
— Боже мой, но зачем вы сейчас-то обманываете? Если не вы, то кто? Я туда не обращался, считал, что бессмысленно, дело увязнет в инстанциях… Тетушка тоже… А тут сообщение: жалоба лицеиста Радомира на якобы вопиющее ущемление его интересов и прав… Когда во Всемирный Комитет жалуется мальчик, они работают молниеносно. Надо же показать всему свету чуткость и оперативность… — Кантор был явно раздосадован.
Ежики молчал, соображая.
— Вы ведете себя так, будто и в самом деле ни при чем, — уязвленно сказал Кантор. — А зачем отпираться? Подавать жалобы — право любого человека, к вам не может быть никаких претензий… Разве что одно: окольный путь, который вы избрали… Надо же додуматься! Так рассчитать схему связи и воспользоваться линией Всеобщего Информатория! Честное слово, я восхищен.
«Яшка… Родной мой Яшка, спасибо тебе!»
— Ну, слава Богу, вы улыбаетесь… Действительно, можно гордиться такой выдумкой. Я давно знал, что вы подключаете «Собеседник» куда не следует, контакты там совершенно разворочены…
— Вы и это выследили, — сказал Ежики с пренебрежительной ноткой.
— Странный упрек, Матиуш. О своих воспитанниках я обязан знать все.
«А знает он, как я его ненавижу? И боюсь… Нет, не боюсь, но…»
Опять вернулось ощущение непонятной опасной игры вокруг него, Матиуша Радомира. Как при вчерашнем подслушанном разговоре. Нет, не игры…
— Господин Кантор, извините, я устал…
— Ну… хорошо, мальчик. Извини и ты, я был резок. Мы потом еще побеседуем, ладно?
Кантор не ушел — выплыл. А Ежики стал думать о Яшке. О замечательном друге Яшке, который пустил в Кантора и в местную Опекунскую комиссию такую торпеду!
«А я про тебя совсем забыл. Прости… Ты мне и снова поможешь, верно? Вдвоем-то мы во всем разберемся…»
Так он думал весь вечер. До позднего, самого подходящего часа.
8. «Я — звезда». Желтое окно
В прихожей больничного блока дежурила опять сестра Клара. Читала книгу у зеленого абажура. От света лампы веснушки Клары казались частыми и темными. Чуткая была сестра, сразу подняла голову:
— Ты что не спишь, Мати? Болит что-то?
— Да не… — Он подошел к столику. — Сестра Клара, можно мне на минутку в парк?
— Мати, ты с ума сошел?
— Ну, мне очень надо… Пожалуйста…
— Доктор говорил, чтобы никуда… И господин Кантор.
— Но они же не знают, как мне надо.
— Ночью… Что за фантазии?
— Да не фантазии… — Он смущенно переступил на теплом пластике. — Понимаете… у меня там йхоло. Зарыто под старым дубом. А сегодня — срок взять его. Так полагается, а то оно силу потеряет…
Сестра Клара не так уж давно была школьницей. Знала, что если речь идет о йхоло, о связанных с ним обрядах и секретах, дело это серьезное.
— Ох, Мати… Господин Кантор очень строго говорил, что…
— Да он боится, что я опять рвану на Кольцо! А куда я вот так-то?! — Ежики дурашливо поддернул пижамные штаны, опять потоптался.
— Говорят, ты уже гулял босиком…
— Но не в этой же арестантской хламиде!
— Ох… я не знаю…
Ежики сцепил два мизинца:
— Вот! Двумя кольцами клянусь — через десять минут приду обратно.
Такими клятвами не шутят, это Клара тоже знала.
— Но… неужели нельзя подождать до утра? Темнотища же в парке…
— А вы дайте ваш фонарик.
— Ох, Мати, — снова сказала Клара. И дала фонарик, с которым дежурные сестры обходят ночные палаты.
Очень старое, построенное в духе классицизма здание лицея левым крылом с маленьким боковым фасадом выходило на тихую улицу Бакалавров. А с трех сторон окружал его парк. Ежики вышел через больничный служебный вход, с тыльной стороны. Окно, ведущее в подвал, было недалеко. Ежики пробрался через лопухи и белоцвет. Потянул решетку…
Влажная ночная зябкость забралась под легонькую пижаму. А может, и не зябкость. В каком бы веке ни жил мальчишка, а средневековый страх старых подвалов просыпается обязательно, если надо вот так, ночью… К тому же после вчерашнего…
Если там, у столба, выступит из темноты Кантор? Если опять ловушка? Он даже остановился на миг. Но пересилил себя.
Все оказалось в порядке. Никто не помешал, и милый Яшка был на месте. Ежики отцепил кристалл от кабеля, подышал на него, как на озябшего птенца. В ответ ласково щекотнуло в ладонях.
Теперь скорее назад…
— Спасибо, сестра Клара. Я быстро, да?
— Ох, я вся перенервничала… Марш в постель, путешественник.
Нет, постель подождет. Сперва — Яшка! А… куда подключать-то?
От великой досады Ежики кулаком с Яшкой треснул себя по лбу. Ведь «Собеседника»-то нет! И скорее всего, нет его и в комнате у Ежики. Кантор его проверял и наверняка отдал чинить контакты. Значит, умолять Клару, чтобы отпустила снова, за компьютером, нет никакого смысла.
А может, у нее есть с собой что-то подходящее? Сейчас, ночью, не даст…
Здесь, в палате, был, конечно, экран. Однако даже если и отколупаешь панель (а как в темноте-то?), поди разберись, где там нужные клеммы… Да и большущий он, как засветится — Клара сразу увидит сквозь стеклянную дверь.
Ежики замычал от беспомощности и сел на пол у кровати… И опять защекотало в кулаке. Словно пойманный кузнечик шевелился… Нет, не кузнечик! Будто тихий приемник-ракушка с внутренней антенной — есть такие: любители их вешают на ухо, как серьгу.
Ежики, не веря еще, прижал кристалл к уху. Бился, жужжал неразборчивый капризный голосок.
— Ой… Яшка, это ты?
Сквозь жужжанье донеслось:
— Не толкай меня в ухо, пожалуйста, я не затычка! Возьми в руку вместе с монетой, она — отражатель.
Ежики из-под матраца выхватил спрятанную там монетку. Стиснул ее вместе с Яшкой в ладони. И отдалось в коже, в нервах, пробежало по жилам, отозвалось в ушных перепонках (а может, просто в голове):
— Ты чего так долго не шел за мной?!
— Яшка, прости… Тут такое было…
— Я тебя звал, звал. Даже луч посылал пятку щекотать… А ты…
— Я все объясню, Яшка… Не сердись.
— «Не сердись…» — В Яшкином голосе появилась снисходительная нотка. Будто у мальчишки, который еще дуется на обидчика, но не всерьез, а для порядка. — Я весь Информаторий переписал в себя за час, а потом лежу, лежу в этой дыре. Думал, насовсем…
«Информаторий!»
— Ой, Яшка! Спасибо тебе! Это ведь ты просигналил во Всемирный Комитет? Как у тебя получилось?
— Делов-то… — буркнул Яшка. — Помогло?
— Еще бы!.. — обрадованно отозвался Ежики. И осекся. Сообразил наконец, что происходит невероятное. — Яш… А как это ты… сейчас-то! Без компьютера… Как у тебя получается?
Яшка ответил серьезно:
— Это у тебя получается… Любой человек чувствительней компьютера, а уж если койво…
— А я, значит, правда койво?
— Я всегда говорю правду… Ты что, все еще на полу? Ложись давай…
Ежики тут же подчинился ворчливому приказу. И уже в постели сказал:
— А ты… в тебе, наверно, целый миллион койво, в одном. Ты вон какие чудеса творишь… — Он слегка подмазывался к Яшке, потому что Яшка, хотя и знает все на свете, разбирается в тысячах вещей, а сейчас еще к тому же вобрал в себя целый Информаторий, но по характеру все равно пацаненок — добрый, но капризный и упрямый… Интересно, как бы он выглядел, если был бы настоящим мальчишкой?
Казалось, Яшка усмехнулся. И стало ясно, что Ежикины мысли он прочитал.
— Глянь на экран…
Ежики посмотрел. Там — не на экране, а перед ним — просветлел воздух. И в воздухе этом обрисовался мальчик — большеголовый, кудлатый, лет девяти. В потрепанной, старинного вида матроске, в залатанных штанах с порванными застежками у колен, с перекрученной лямкой через плечо. Босой…
— Ой, Яшка!.. Это ты?!
— Тише… Можешь не говорить, а просто думать. Только отчетливо.
— Это ты, Яша? — отчетливо подумал и на всякий случай шевельнул губами Ежики.
— Не знаю… Такой был Лотик. Тот, который сделал мне окошко. По-моему, мы похожи… Теперь это я.
Мальчик шагнул от экрана, сел на край пластиковой кадки, из которой росла высоченная, под потолок, пальма. На левое колено положил правую ступню, стал осторожно трогать на косточке подсохшую болячку. Облизнул губы…
Как с таким говорить о серьезном? О самом главном?
Но Лотик-Яшка глянул исподлобья печально и требовательно. Черными глазами. Ежики понял: можно.
— Яшка… Я хочу попросить тебя о помощи.
У мальчика шевельнулись губы.
— Я тоже… — отдалось в Ежики.
— Подожди! У меня очень важное дело! Ну, прямо дело жизни!
— И у меня… — Теперь уже будто не кристалл давал звук, а сам Яшка-Лотик говорил из-под пальмы. — У меня важнее! Я первый!
Что с ним было делать? Заспоришь — обидится.
— Ну, рассказывай, — вздохнул Ежики.
Яшка сел прямо. Взялся за края кадки. Волосы отбросил рывком головы.
— Я — звезда.
Он стал даже чуточку взрослее и красивее. И это «я — звезда» сказал со скромной и настоящей гордостью.
А Ежики растерянно мигал.
Яшка проговорил снисходительно:
— Ты спрашиваешь: какая звезда? Объясняю: еще не вспыхнувшая… Теперь у меня в голове все разложено по полочкам, я знаю смысл.
— Какой… смысл? — почему-то испугался Ежики.
— Слушай. Из меня растили модель Мироздания. Так? Так… Но целой Вселенной я стать не могу, ведь я только модель…
Ежики вспомнил метровый галион в желтом окне.
— Ну да, — кивнул Яшка. — Как модель кораблика не может стать кораблем. Но все равно она немножко корабль… А я… Во мне ведь есть что-то космическое. И одним атомом Вселенной — одной звездой — я сделаться могу! Ведь во мне звездное вещество.
— Ну… а как ты ею сделаешься? Звездой-то… — робко сказал Ежики.
— Я должен вспыхнуть! А ты мне поможешь.
— Ну уж дудки! — Ежики решил, что спятивший Яшка хочет окунуться в какую-то горючку, а потом чтобы его зажигалкой! Причем он забыл в этот миг, что настоящий-то Яшка — кристалл, а не мальчик.
Яшка-Лотик на краю кадки вдруг опрокинулся, привалился к пальме (она, правда, не шелохнулась), задрал коленки и начал хохотать. Звонко так! Будто правдашний мальчишка:
— Да ты что придумал! Это же совсем не так! Ой, не могу!..
— Это что у тебя за веселье?! — За дверью послышались шаги.
Яшка прыгнул с кадки, стремительно уменьшился, кинулся к Ежики под простыню, юркнул в кулак. Повозился там и пропал — видимо, забрался внутрь кристалла.
Сестра Клара с фонариком возникла на пороге.
— Ты что, экран включал?
— А?
— Мне показалось, что у тебя экран работает. Или есть кто-то…
— Кто?
— Вот я и спрашиваю…
Яшка тихо хихикал в кулаке.
— Я спал, — вполне натурально соврал Ежики. — А вы мне про экран… Я не знаю, где его тут включают…
— Извини, Мати. Наверно, я сама задремала… Бывает же…
Она тихо притворила дверь.
Яшка-мальчик всплыл над кроватью и повис у потолка, будто подвешенный за лямку. Несмотря на нелепость позы, он сказал очень веско:
— Я все науки перетряхнул в Информатории. Все узнал и рассчитал. Звезды часто зажигаются от столкновения. Летят в пространстве два камешка или две песчинки, и если скорость световая и если они сталкиваются — трах! — масса возрастает ужасно бесконечно и вспыхивает.
Ежики и сам слышал про такое. Но…
— А как встретишь-то? И как наберешь скорость?
— Наберу, — сказал Яшка, покачивая босыми ступнями (к одной прилипло семечко клена). — Ты поможешь.
— Как?!
— Да тише ты… Слушай и молчи. Ты сам себя не знаешь. А я чувствую — ты сможешь, ты же койво… Ты мне дай только первый толчок. Запусти из чего-нибудь или подбрось. И толкай взглядом! Представь, будто магнитным лучом гонишь меня вперед, вперед, все выше!.. Это для начала, первые секунды. А дальше я полечу сам.
— А энергия?
— В Космосе знаешь сколько энергии! Главное, настроиться на нужную волну.
Ежики поверил. И в то, что Яшка взлетит, и в то, что настроится на нужную волну и наберет скорость. Но грустно стало. И страшно за Яшку.
— Там же пустота… А если ты миллиард лет будешь лететь и не встретишь никакой песчинки? И не вспыхнешь?
— Когда-нибудь все равно встречу. Хоть в бесконечности…
— А если… когда вспыхнешь… Ты не боишься?
Яшка сверху упал на постель. Ежики пискнул и зажмурился, ожидая удара. Но даже простыня не шелохнулась. Яшка — настоящий, с репьем в кудлатой голове, однако совершенно невесомый — сел на край кровати. Зябко взял себя за плечи.
— Страшно маленько… А все равно. Раз я могу стать звездой — я должен. Иначе зачем я на свете? Валяться в чужих карманах?
Ежики тихо сказал:
— Не в чужих, а в моем.
Яшка быстро оглянулся на него через плечо. Отвернулся опять. И ответил так же тихо:
— Я ведь все равно не могу быть твоим йхоло. Я живой…
— Разве я говорил, что йхоло? Я думал… что друг…
— А друзей в клетках не держат…
Что тут можно было возразить?
А Яшка, не оборачиваясь, проговорил:
— И дружба ведь не бывает вечная…
— Почему?
— Ну… ты вырастешь…
— А потом умру, — подсказал Ежики. Ему было не страшно, только горько.
— Я не про то… Но люди, они ведь часто забывают. Я куда-нибудь завалюсь опять… Или ты вдруг потеряешь свою силу, когда взрослым станешь. А кроме тебя, никто меня в полет не отправит.
Ежики сказал медленно и твердо:
— Ну, хорошо. Но сначала ты поможешь мне.
— Как?
— Слушай.
— Ты не говори. Ты просто думай. Только отчетливыми словами.
Но оказалось, что отчетливых слов нет. Не находятся. И фразы все перепутались, и мысли. И было гораздо проще и легче разреветься в подушку, чем начать рассказ о кронверке и о засаде. Потому что чувство загнанности, тревога, тоска по маме все время были рядом. Они лишь чуть-чуть забылись во время Яшкиного рассказа. А теперь…
И это второй раз сегодня! Сперва перед Кантором, а сейчас при Яшке. Вот тебе и воины-итты…
Яшка тронул его за плечо. (Надо же! Невесомый, а чувствуется.)
— Ежики… ты вот что… Сунь меня под подушку вместе с монеткой. И думай, про что хочешь. Я попробую сам разобраться…
Он пропал. Сидел рядом — и нет. Лишь опять шевельнулось в кулаке. Ежики послушно затолкал кристалл и монетку под подушку. Вдавился в нее щекой. И стал думать про все, что недавно было. Вспоминать. Снова загудели коридоры кронверка, снова телефон, голос (Ежики опять всхлипнул). И белая комната, и эти трое!
Зачем?
«Яшка, зачем?»
Потом потемнело все, запуталось. И Ежики увидел во сне маму.
В те дальние и счастливые времена, когда Ежики жил в своем доме, ему нередко случалось оставаться одному. Мама уезжала на день-два то в дачный поселок Пески к знакомым, то куда-то по служебным делам, то на экскурсию вдоль побережья. А бывало и так, что звонила вечером:
— Ежики, меня просили срочно съездить на станцию Черная Балка, у них капризничают диспетчерские схемы. Я вернусь утром. Долго не сиди у экрана — поужинай и ложись…
Ежики понимал, что мама свои поездки не всегда объясняет точно. Может, ничего и не случилось на Черной Балке со схемами… Но он не обижался, зная, что есть у мамы взрослая жизнь, про которую рассказывать ей не хочется… У него тоже была своя жизнь, и порой он тоже хитрил: «Ма-а, я с ребятами на площадку в Школьный сад!» Сперва — на площадку, а потом, глядишь, на развалины башен или в катакомбы… Он считал, что эти хитрости — без обидного обмана. Просто чтобы не волновать друг друга…
Оставлять Ежики одного мама не боялась. Что может случиться с мальчиком в доме, который напичкан предохранительными системами от подвала до чердака? Сыну грозила единственная опасность: мог загрустить в одиночестве.
«Позови ночевать Ярика. Только не переворачивайте дом вверх ногами…»
Однако Ярика отпускали не каждый раз. «Не скучай», — просила мама, уезжая. Но бывало, что Ежики скучал. Особенно по вечерам. Чтобы справиться с печалью, он брал тяжелый альбом со стереоснимками. Там была мама. Разная: и одна, и с отцом, и с ним, с Ежики, и с друзьями…
Теперь этот альбом остался в доме, Ежики не взял его в лицей. Потому что — зачем? Разглядывать карточки хорошо, когда известно, что мама завтра вернется. А так… лишь ком в горле и тоска. Другое дело — Голос. Он живой. Он такой, будто мама есть сейчас, рядом…
Был в альбоме снимок, на котором мама — девочка. Десяти лет. Хитровато-веселая, с пушистой светлой головой и растрепанными на концах косами, в мальчишечьей майке и полукомбинезоне с подвернутыми штанинами. Она сидит в развилке платана и держит на колене самодельный лук и стрелы с перьями из птеропластика. Забавно так: будто Ежикина одноклассница, и в то же время знаешь — мама.
В ту пору ему снилось иногда, что в саду с поваленной решеткой и заросшими беседками они вдвоем играют в индейцев и в пряталки. Пускают стрелы в сделанные из репейников и палок страшилища, укрываются друг от друга за постаментами замшелых статуй, продираются сквозь джунгли дрока и пахучих кустов, на которых синие квадратные цветы со странным названием «кабинетики»… Потом они гоняются друг за дружкой, борются на мягкой лужайке, и силы у них равные. (Они с мамой и наяву иногда дурачились, но взрослая мама в конце концов обязательно заталкивала Ежики в глубокое кресло: «Вот так мы поступаем с пиратами и немытыми хулиганами!» — «Это нечестно, ты щекотишься!.. И вообще я тебе сам поддался!» — «Ох уж, рыцарь какой! Лягался, как сумасшедший кенгуру…»)
Да, силы были равные, но Ежики все-таки не решался всерьез швырять девочку на землю и применять всякие мальчишечьи приемы. И оказывался на лопатках. И смеялся… Она прижимала к земле его руки, вставала твердыми коленками на грудь и тоже смеялась. Наклонялась низко-низко. Пушистые косы щекотали Ежикины голые плечи, а светлая челка девочки падала ему на лицо. И мама-девочка смотрела сквозь нее. А Ежики, чтобы увидеть ее глаза, отдувал эту челку от своего лица…
Потом они опять носились по старому саду, и наконец Ежики нашел у развалившейся беседки длинную доску. Перебросил через поваленный ствол. Качели!
— Давай полетаем!
— Подожди, я запыхалась…
А он ничуть не запыхался! И немного хвастаясь, подпрыгивает, цепляется за горизонтальный дубовый сук, закидывает на него ноги, садится. Потом встает на нем, балансируя. Смотрит на девочку с высоты. У нее на ноге распустилась широкая штанина. Девочка подворачивает ее, стоя на конце доски. И поглядывает вверх.
Злая сила шепчет Ежики: «Она тебя победила, когда боролись, отплати ей! Прыгни на другой конец! Знаешь как полетит!»
Он пугается этой мысли, гонит ее! Никакой обиды нет у него на девочку! К тому же она, хотя и девчонка, и он зовет ее Вешкой (потому что полное мамино имя — Иветта), все равно это мама. И разве он может сделать ей хоть самую капельку плохого?!
Но кто-то коварный толкает Ежики, и он летит вниз — ногами точно на поднятый конец доски. И Вешка, нелепо взмахнув руками, взлетает. На миг она замирает в воздухе, прижимает руки к бокам, вытягивается и стрелой начинает уходить вверх. «Ты этого хотел, да?»
— Я не хотел! Не надо! Вернись!
Но она все меньше, меньше, и вот уже только пустое небо. И пустой сад. И весь белый свет — пуст. И пустота эта начинает наливаться безвыходным отчаянием.
— Ма-ма-а!!
И вдруг — шевеление в кустах. Не то вздох, не то стон… Ежики бросается сквозь чащу. Вешка, болезненно съежившись, лежит на примятых сучьях. Под носом и на подбородке кровь.
Радость захлестывает Ежики — оттого, что мама здесь. И страх за нее! И новое отчаяние: она думает, наверно, что он нарочно!
— Тебе больно? Я же не хотел! Мама, прости! Ну, прости, мама!..
От ее боли он зажмуривается, как от своей. И в наступившей тишине слышит голос:
— Ежики, ты что?
— Мама, я не хотел…
— Да знаю я, знаю… — Теперь мама большая, сидит на краю постели, гладит его плечо. Он хватает ее пальцы двумя руками.
— Ты уже приехала?
— Нет, я приеду утром. А пока я тебе снюсь…
Ну, все равно. Не выпуская ее руки, он опять закрывает глаза, успокоенный, почти счастливый…
Проснулся Ежики, когда за окном среди черных листьев еле наметилось серое утро. Ощущение, что он держит мамины пальцы, было таким настоящим, что несколько секунд Ежики не шевелился и не дышал. Но уже понимал, что это остаток сна. И уходил сон безжалостно и быстро…
А может, и Яшка приснился?
Нет, кристалл и монетка были под подушкой. Нервно и нетерпеливо Ежики сжал их в кулаке. И сразу Яшка зажужжал — торопливо и слегка обиженно:
— Ты же сам виноват. Прежде ты никогда не говорил про мамин Голос. И про Кольцо. Нужно было сразу…
— Я сейчас… Я скажу…
— Теперь не нужно. Знаю и так… — Яшкин голосок стал чище, тише и печальнее. — Только я не отвечу на твои вопросы.
— Почему?
— Не могу построить ответ… Я же ничего не знаю о Сопределье, о его законах. Об этом нигде ни слова. И в Информатории… В нем все — только про здешнее пространство…
— Яшка, я не понимаю!.. Ведь Якорное поле — оно же есть!
— Оно-то, видимо, есть, — невесело отозвался Яшка. — Я не знаю про другое…
— Про что?
— Есть ли там… твоя мама.
Ежики подавленно молчал. Потом сказал через силу:
— А голос… в телефоне…
— Могло показаться. Или приманка… Или вообще не было ничего… Или было.
— А тот разговор… Кантора и доктора… Что они выбрасывают людей куда-то…
— Если бы я сам слышал разговор… А тебе запомнилось перепутанно… А может, и приснилось.
— Да нет же!
Неужели и Яшка не поверит, не поймет?
Яшка ответил виновато:
— Я ведь не говорю, что не было… Я просто не знаю.
— А как узнать?!
— Это можешь только ты. Сам.
— Как?
— Иди опять. Пробивайся. Две попытки уже было, третий раз, может, повезет…
«Как в сказке», — с ознобом подумал Ежики.
— Как в сказке, — серьезно отозвался Яшка. — Поэтому смотри: третий раз не пробьешься — значит, все… Наверно, такой закон.
— Но второй раз была засада. А если и сейчас?
— А ты плюй на все правила! На все Мёбиус-векторы, темпоральные кольца и меридианы. Рвись напропалую! — совершенно непонятно и сердито посоветовал Яшка.
— Знать бы, на что плевать! Я об этих векторах и так ничего не знаю! Я просто ехал, шел, бежал, вот и все…
— Значит, надо снова, — неуверенно сказал Яшка. — Ехать, идти, бежать. Только еще быстрее… прямей. Это же третий раз…
— Яш… А ты будешь со мной? Поможешь?
Неловко крутнулось в ладони. Словно крошечный Яшка-мальчик смущенно помотал косматой головой.
— Я не могу… Ты сначала должен отправить меня.
Вот так… Вот тебе и друг.
— Но ведь это же последний раз! А потом — лети!
— Ну да! — капризно откликнулся Яшка. — А если с тобой что-то случится? Кто отправит меня?
— Боишься…
— Боюсь… Вдруг тебя поймают, засадят в клинику, меня отберут, выбросят… Тогда что? Опять валяться в мусоре сто лет?.. Ежики… я ведь и так сделал для тебя, что умел…
А и в самом деле! Что еще требовалось от Яшки?
— Тебе ведь не выбраться нынче днем на Поле, — опять зажужжал Яшка. — А для меня, для взлета, сегодня последний вечер. Завтра меридиан выйдет из совмещенных плоскостей, и это на полгода. Опять столько ждать… Я потому и рассчитал, я тороплюсь…
— А мне говорил: плюй на все эти законы и векторы…
— Так у тебя же своя дорога. А у меня своя, и законы свои…
Возможно, Яшка хитрил. Просто хотел улететь скорее. Но Ежики уже не спорил. «Своя дорога… — отдалось в нем. — Своя Дорога…»
— Ладно…
Днем все было как полагается: врач, процедуры, возня с диагностическими датчиками. Завтрак и обед, безвкусные, как жеваная бумага. Доктор позволил включить экран, и Ежики включил, чтобы не вызвать подозрений. Чтобы никто не понял, что внутри у него нетерпение, как взведенная пружина. Он говорил, что чувствует себя вполне здоровым, только скучно ему. Врач советовал поскучать пару дней.
После обеда приходил Кантор. Сообщил, что послезавтра приедет тетя Аса.
— Но, Матиуш… у меня к вам просьба. Даже если вы станете жить с родственниками, учиться можно все равно в лицее. При ваших способностях это наилучший вариант. Подумайте, а?
Чтобы он отвязался, Ежики обещал подумать. Но думал о другом. О послезавтрашнем дне. Когда вырвется наконец из лицея и снова — на Кольцо. На Поле! Третья попытка.
Нет, он не будет спешить, кидаться очертя голову в незнакомые коридоры. Он дождется или разыщет Рэма, Лис, Филиппа. Он расспросит их, «пограничников», досконально, подробно. Он терпеливо и обдуманно будет искать нужную Дорогу. Пока есть Дорога — есть надежда…
Но прежде всего надо было отправить Яшку.
Около одиннадцати вечера Ежики украдкой выглянул в прихожую. Дежурила сестра Лотта — пожилая и неприступная. Ладно…
С тех пор как живут на свете мальчишки, существует нехитрый прием: в постель — чучело, а сам — на улицу. Ежики, очень стараясь не шуметь, содрал со столика пластиковое покрытие, свернул трубу, увязал ее скрученной в жгут салфеткой. Добавил к трубе махровый халат. Очень удачно, что среди оставленного врачом лечебного имущества оказалась плоская электрогрелка с терморегулятором. Ежики поставил его на «тридцать шесть и шесть» и сунул грелку тоже под простыню. Теперь инфракрасный шпион, если он есть, зафиксирует спокойно спящего мальчика с нормальной температурой.
Ежики выключил свет. Притих на минутку. Затем на цыпочках подошел к окну. Медицинский блок находился в новой пристройке. Окна — сплошные, овальные, выгнутые. Открывались они редко и с трудом — не следовало нарушать медицинский микроклимат с его кондиционированным и стерильным воздухом. Но Ежики еще днем расшатал и ослабил упоры. Теперь надавил, и прозрачный щит нехотя отодвинулся на шарнирах.
Воздух ночного сада вошел в палату. В нем не было сейчас привычной влажной духоты. Прохладный он был, хороший. Все-таки скоро осень. Словно радуясь долгожданной свежести, особенно бойко стрекотали ночные кузнечики.
Палата была на втором этаже. Ладно, не привыкать. Главное — сгруппироваться правильно… Легкая пижамная курточка вздулась, как парашют…
Ежики с полминуты посидел в траве на четвереньках, потер отбитые пятки, послушал: нет ли там, наверху, тревоги? И, пригибаясь, пошел в парковую глубину.
Впрочем, прятаться было не от кого, да и темнота стояла полная. Мощные стволы, кусты и пространство между ними — все черное. И трава. И небо… Хотя нет — небо черное, но не совсем. Потому что еще чернее листья дубов и платанов над головой. А сквозь них бьют колючими лучами звезды. Те, к которым так хочется Яшке.
Ежики взял в кулак монетку и кристалл.
— Ну вот, Яшка, скоро…
Тот пожужжал щекочуще и неразборчиво. Потом спросил:
— Из окна, что ли, прыгал?
— Ага…
— А как обратно попадешь?
Ох, Ежики об этом и не подумал!
— А, пусть! Пойду мимо сестры.
— Крик будет…
— Пусть кричит. Все равно я здесь последние дни… Это ты постарался, Яш, спасибо.
— Ежики…
— Что?
— Ты не обижайся… что я улетаю…
Ежики теперь и не обижался. Было только грустно. И беспокойно за Яшку: как он там полетит в громадном пустом мраке… Но главный страх — вдруг ничего не выйдет?
— Лишь бы получилось…
— Ты уж постарайся, — виновато попросил Яшка.
— Ладно… Яш, а когда ты столкнешься и вспыхнешь… ты ведь сделаешься совсем другой. И наверно, все забудешь, что было на Земле.
— Я уж думал… Нет, не забуду. Ни за что…
Ежики вышел к мраморному мальчику со змеем (тот еле различимо выступал из темноты). Где-то неподалеку валялась метровая доска от разломанной скамейки. Ежики нашел ее на ощупь. Нашел в траве и несколько кирпичей — из них были сделаны раньше опоры скамейки.
Минут десять он возился, подкладывая кирпичи под середину доски и под один конец: высчитывал угол, чтобы после удара Яшка взлетел точно по вертикали. В зенит…
— Ну все, Яш… Попробуем?
— Пробовать нельзя, надо сразу. Если я упаду, ты не найдешь меня в траве.
Да, это правильно. Надо изо всех сил… С замиранием в груди Ежики сказал:
— Тогда готовься. Давай не будем прощаться долго.
— Не будем… Я тебя не забуду, пускай хоть как вспыхну…
— Счастливой Дороги, Яшка.
На секунду он прижал кристалл к щеке. И положил на конец доски. На самый краешек. Подождал, чтобы от сердца отступила обморочная пустота. Сжал в кулаке монетку, вскрикнул и грянул пяткой сверху вниз по доске! По другому, торчащему концу! И — то ли показалось, то ли в самом деле — мигнувшей чертой ушла вверх белая искра. Отражение звезд в кристалле! И Ежики догнал летящего Яшку глазами, подтолкнул его — взглядом, мыслью, желанием: скорее, скорее! Мчись!
Мало того, он сам помчался следом, выбросив перед собой магнитный луч. И гнал, гнал Яшку этим лучом в раскинувшийся черно-звездный мир. Воздух шумел, обтягивая на нем пижаму. А потом и воздуха не стало, просто звенящая пустота. Выплыл из-за горизонта громадный ноздреватый шар луны и быстро остался внизу. Сдвигали свои контуры, перемещались созвездия… И наконец искрящийся граненый камешек ушел далеко вперед, затерялся в звездной пыли… И Ежики упал обратно в траву.
Нет, в самом деле упал. Будто и правда вернулся из Космоса. Посидел, трогая ушибленную о доску пятку. Он при ударе отбил ее гораздо сильнее, чем при прыжке из окна.
Надо было вставать. Идти. Но страдальчески не хотелось в палату. В белые стены, где в каждом углу чудится подозрительный зрачок ненавистного Кантора… Хотя и ненависти сейчас не было. Только усталость и опустошение какое-то. Яшка улетел. Никого рядом…
Он все-таки встал. С равнодушным злорадством подумал о воплях сестры Лотты, когда она его увидит. Наплевать. Но к больничному крылу все-таки не пошел, а двинулся через траву наугад.
И без удивления, с тихой печалью увидел, как светит среди мохнатой тьмы крошечное желтое окно.
Словно притаился в траве игрушечный домик.
Это и был домик. Размером с коробку от «Собеседника». Крыша — из двух дощечек, стены из кусочков пластика. И окошко с переплетом в виде буквы «Т» было заслонено желтоватым пластиком — тонким, пропускающим свет. А задней стенки не было совсем. Ежики обошел домик, присел.
Внутри горела свечка. Настоящая, с потрескивающим ярким огоньком. А рядом в колючей скорлупе каштана, как в люльке, лежал якорек.
Тот самый…
«Гусенок…» — подумал Ежики. Ласково так подумал. И будто в ответ, шевельнулись за спиной кусты. Глаза Ежики давно уже привыкли к сумраку, а тут еще и свет из домика. И Ежики сразу разглядел мальчика. Это и правда был Гусенок. Только без своих сандалий-лапотков, босой, как и Ежики. В трусиках и майке. Смотрел он спокойно, не удивился и не испугался. Видимо, сразу узнал.
— Играешь? — негромко сказал Ежики и подвинулся.
— Ага… — Мальчик присел рядом. Вплотную. Теплый, остроплечий, доверчивый.
— Сбежал из спальни?
Он чуть улыбнулся:
— Сбежал… И ты?
— И я…
Гусенок поправил свечку, поровнее поставил «люльку» с якорьком. Объяснил шепотом:
— Он для меня как живой. А у всякого живого должен быть дом, верно?
Ежики медленно кивнул.
— И хорошо, если кто-нибудь еще есть в доме, — прошептал Гусенок у щеки Ежики. — Верно?
— А у тебя… — вырвалось у Ежики. Но он замолчал. Хотел спросить: «А кто у тебя есть? Мама есть?» Но какое он имел право трогать чужую печаль?
Гусенок не удивился.
— У меня сестренка. Она, правда, не кровная, у нее другие были мама и папа, но все равно мы родные… А ты? Тоже ищешь кого-то?
— Да… — выдохнул Ежики. И встал, шагнул назад.
Гусенок смотрел на него снизу, через плечо. И вдруг спросил:
— А ты знаешь, почему якорь на пуговицах у моряков?
Это был простой вопрос, хотя и неожиданный. Но Ежики не стал отвечать. Попросил шепотом:
— Скажи.
— Потому что якорь — знак надежды. Раньше, когда моряки уплывали в дальние моря, от якорей зависело их спасение. Во время бури, когда суша недалеко. Чтоб не разбило о скалы… Надежда, что вернутся домой.
«Якорное поле, — вспомнил Ежики. И подумал: — Поле надежды. Какие-то якоря состарились, вросли в землю, их корабли отплавали свое. Но есть ведь и ростки… А чего я жду?.. Яшка советовал — сквозь правила и законы пространства, по прямой! Зачем тогда ждать? Лучше всего — мчаться на Поле сейчас, когда об этом не знает никто! И никто не задержит!»
Одно только держало — Гусенок. Нельзя было уйти и никак не попрощаться. Ежики смотрел на его птичьи, сведенные будто от озноба плечи. Потом дернул с себя пижамную распашонку. Хоть и тонкая, легонькая, но все-таки… Укрыл Гусенка. Тот опять глянул через плечо. И вздохнул:
— Уже который раз…
— Что?
— Куртку дарят. Когда я в дороге… Накинут и уходят…
Не было здесь упрека. И однако Ежики затоптался на месте.
— Понимаешь, я должен идти… Мне обязательно надо…
— Да понимаю я, — снова со вздохом отозвался Гусенок. И добавил деловито: — Переоденься только. А то скажут: «Один едет, да еще голый, в пижамных штанах. Ты куда, мальчик?»
Он… что-то знал? Но не было времени на расспросы. Главное, что Гусенок не обиделся. Не будет лишней тяжести на душе. Хотя… не будет ли?
— Прощай, — прошептал Ежики.
— Счастливой дороги…
Как он сказал? «Счастливой Дороги»?
9. Генератор
Надо было проскользнуть в жилое крыло лицея. Пробраться на второй этаж, к себе в комнату…
Внизу, в вестибюле, светилась дверь дежурной комнаты. В ней беседовали молодой воспитатель Янц и кто-то еще, спиной сидел… Слава маленькому Хранителю Итану — не услышали осторожных шагов мальчишки. А на лестнице совсем хорошо — ковровая дорожка… В коридоре второго этажа мягкий ночной свет. И вот удача — опять никого! Да и кому ходить? Лицеисты — маленькие и большие — видят в своих комнатах полуночные сны. Тишина за шеренгой прикрытых одинаковых дверей…
Комната оказалась заперта. Ежики, отчаянно спеша, набрал на замке любимый код: 333. Замок не сработал. Наверно, Кантор запер его по-своему.
Так, да?.. В старинном лицейском доме и двери старинные — из прочного дерева с резьбой. Но замки хлипкие, просто для порядка. Мол, каждый лицеист — хозяин в своей комнате…
А если разбежаться и грянуть плечом?
О том, что получится опасный шум, Ежики от злости забыл. Разбежался и… влетел в комнату, едва коснувшись двери. Словно дверь сама поспешно распахнулась перед полным сердитой решимости мальчишкой. Автоматически включился дежурный светильник.
Ежики бросился к шкафу. Разворошил, раздергал на вешалке рубашки, куртки, спортивные фуфайки. Он чувствовал, что надо обязательно быть одетым так же, как в первый раз. Чтобы ребята, если встретятся, скорее узнали его. Чтобы само Поле узнало… К счастью, оказались на месте и шорты с продырявленной подкладкой кармана, и капитанка. Только майку искать было некогда, капитанку надел на голое тело. И прежних сандалий нет, остались на Поле. В ящике с обувью отыскал Ежики старые кроссовки. Тесноваты, да ладно… Сел на корточки, приклеивая липкие хлястики застежек. И тут натянутые нервы его уловили, что в дальнем конце коридора — мягкие шаги.
Ну конечно! В комнате когда не положено зажегся свет, на пульте в дежурном помещении — сигнал! И сразу — в три объектива: что там не спится лицеисту? Опять ты дал маху, Ежики… Ничего! Он успеет…
Ежики отпрянул к окну. Локтем нажал на бронзовый рычажок. От такого нажатия оконная рама (с частыми переплетами, под старину) всегда легко разъезжалась в стороны.
Однако сейчас — не шелохнулась.
Ежики отчаянно давил и давил рычаг. А потом перестал. Потому что в двери появился Кантор.
Молчаливый, укоризненный.
Монетка была в нагрудном кармане капитанки. Ежики выхватил ее, прижал большим пальцем к ладони, а ладонью заслонил голову. Со стороны могло показаться, что мальчик приветствует ректора каким-то ритуальным салютом… Конечно, монетка маленькая, но все же металл частично отразит и рассеет луч, если Кантор опять посмеет…
Сорвавшимся голосом Ежики сказал:
— Не вздумайте… парализатором. Это нельзя с детьми. Я пожалуюсь в Охрану детства… вам попадет.
Кантор шагнул в комнату, сел понурившись. В кресло сел. А кресло это было единственным предметом, который любил здесь Ежики. Потому что оно было его. Привезли из дома… А Кантор сел в это кресло, и Ежики разозлился. И злость убавила страх.
Кантор сказал печально:
— Все-таки вы в самом деле серьезно больны.
— С чего вы взяли?
— Сужу по вашему поведению… По вашим нелепым подозрениям. И по тому, как часто вы лжете. Обещали не уходить и вот собрались опять… Нормальный мальчик не может лгать постоянно, это патология.
— А взрослый? Может? — со звонкой ненавистью спросил Ежики.
— Вы имеете в виду меня, Радомир?
— Вас… господин Кантор.
— Боже мой… когда я вам лгал? Хотя бы в мелочах?
— Вы врете все время! Но я не про мелочи, а про главное… Вы даже не Кантор!
— Еще новость, — отозвался он ровно, без удивления. — Кто же я в таком случае?
— Вы — Консул!
Кантор сидел, низко согнувшись, устало вжав голову и подняв лицо. Так, снизу вверх, он смотрел сквозь очки на Ежики.
— Ну… и что? Вы будто пригвоздить меня хотите, Радомир. Я — консул. Это звание в нашем обществе, в Командорской дружине. Чин такой старинный, традиция. Почему это должно мешать мне быть Кантором?
«А в самом деле?» — растерянно подумал Ежики. Но не сдался:
— Тогда почему вы это скрывали? Никто не скрывает свои звания!
Кантор шумно вздохнул, отвалился в глубину кресла, толстыми пальцами похлопал по пухлым подлокотникам.
— Да… Человек порою вынужден кое о чем умалчивать. Это не значит, однако, что он лжет… Хорошо, я буду сегодня откровенен с вами до конца. Судя по всему, вы имеете право на это. И надо же когда-то расставить все точки… Да опустите вы руку, нет у меня ничего. Ни парализатора, ни… даже сердечного стимулятора, который нужен мне все чаще…
Ежики встал свободнее, прислонившись к косяку.
— Дело в том, — устало и доверительно сказал Кантор, — что Командорская дружина работает в очень трудных условиях. Кое-кто нас, правда, поддерживает, есть сторонники в высших сферах, но мало… мало, Матиуш. А главное, все равнодушны к нашей основной Идее.
— К Всеобщей Гармонии Мира? — не сдержался Ежики. Впрочем, теперь было все равно. Напролом так напролом.
Очки у Кантора блеснули и погасли.
— Вам опять или приснилось что-то, или кто-то наговорил эту чушь… Задача наша более проста и насущна: попытаться исправить нынешнее общество. Оно гибнет от сытости, от провозглашенного «всеобщего благоденствия»! Извините, но вы еще ребенок, вы этого просто не видите. Да и большинство взрослых не видит… Людям кажется, что они достигли желанных высот бытия, у них все есть и теперь настала эра удовольствий… И все отдается в жертву удовольствиям: науки, открытия, смысл жизни. Любовь стала развлечением на час (извините, это не детский разговор, но это так). Нормальные семьи настолько редки, что скоро их будут заносить в Красную книгу. И во всем этом кроется пока незаметное начало гибели… И спасение — только в вас.
— Во мне?!
— В вас, в детях! Нынешний взрослый мир обречен. Только те, кто сейчас еще не отравлен этим миром, способны спасти человечество. Установить в мире твердый порядок, в котором каждый человек знает свою роль, свой смысл бытия.
— Так ведь было уже такое… твердый порядок. Сколько раз! Мы учили. И всегда — кровь.
— Вы путаете, Матиуш. Порядок порядку рознь. К власти приходили диктаторы, державшие народ в страхе. А когда придут люди разумные, осознавшие свою великую и ответственную роль… Когда они поймут, что их задача — спасение всей цивилизации, тогда и родится новый мир.
— Были ведь и такие, — сказал Ежики. — Про них тоже есть в Истории. Их убивали…
— Да! Да! Потому что это были честные, но слабые люди! А должны вырасти наконец те, кто сильнее людского недоверия и зла. Те, чьи силы, свойства и дуґши не в пример масштабнее, чем у массы остальных людей. Те, кто будут неуязвимы. Они станут владеть тайнами пространства и времени и, может быть, тайной бессмертия…
— Зачем мне бессмертие, если нету мамы… — шепотом сказал Ежики.
Кантор опять качнулся вперед. Сильно наклонившись и глядя в пол, проговорил глухо:
— Вот здесь я бессилен, малыш…
— Чтобы куда-то отправить маму, силы нашлись!! — Ежики словно с обрыва шагнул, ухнуло сердце.
Но Кантор ответил по-прежнему ровно и устало:
— Я понимаю. Сквозь сон… или как там называет это доктор… вы слышали наш разговор. Наш давний теоретический спор о кризисе современной семьи. Все перепуталось у вас в голове, фантазии с явью…
— И поэтому доктор куда-то исчез! Может… туда же?
— Доктор болен и лежит дома. Если хотите, можем его навестить, он подтвердит мои слова… Поверьте, Матиуш, я не хитрю с вами. Зачем это мне? В конце концов, через несколько дней вы вернетесь домой и, скорее всего, не захотите оставаться лицеистом…
— Не гожусь я во владыки мира, — горько и язвительно сказал Ежики. И подумал: «Если выскочить в дверь и промчаться по коридору? Не перехватят?»
— Мы и не воспитываем владык. У командоров другие цели и другие традиции… Вы ведь, насколько мне известно, до сих пор не знаете нашей теории…
— И знать не хочу… — вырвалось у Ежики.
— А напрасно… Еще в древности Первый Командор учил: людям нужны просветители, те, кто поведет их к добру и всеобщему знанию. На острове Сэйнеш у него была школа. Когда враги осадили город, они взяли в деревнях пятьдесят женщин-заложниц и поставили условие: или жители выдадут им Командора, или они утопят женщин в озере, а город сожгут греческим огнем вместе со всеми жителями, со школой, где было сто талантливейших учеников, от которых зависело будущее народа. И человек этот… — Кантор вскинул голову, заблестел очками. — Человек этот добровольно отдался царю Эгосу, и тот сжег его на холме, на виду у всего города. И ушел…
— Ну и что? — сказал Ежики.
— Как… «ну и что»?
— Он был хороший человек, он всех спас… А вы…
— А что — я?
— А вы все врете… — выдохнул Ежики. Потому что очень хотелось заплакать. Потому что в этот миг опять вспомнился черный телефон, голос в трубке (ну ведь было же это, было!). И как он рвался сквозь лунные полосы, сквозь темноту…
Кантор сдержался. Только сел прямо.
— Я обманул вас лишь в одном. И сделал это в ваших же интересах. Я сейчас, Матиуш, объясню вам все, и это будет чистая правда, и, может быть, вы поймете меня. И станете союзником.
У Ежики криво дернулся рот. Но Кантор сказал ровно и даже с ноткой печальной торжественности:
— Нет у вас чересчур высокого индекса воображения… Точнее говоря, он есть, но не в нем дело. Дело в том, что вы — генератор силового поля… Помните тот вечер, когда я пришел к вам?
— Ну… и что?
— Я случайно проходил мимо вашего дома. В толпе узнал, что происходит. В этот момент Служба охраны отключила от дома энергию… Да-да, свет остался, от аварийного источника, но источник этот слаб, создать силовое поле он не может. Два мотоциклиста рванулись к дому… и вылетели назад, как пробки! Это было замечательно, мальчик! Ты в своей справедливой ярости (я ничуть тебя за это не осуждаю), в своем нежелании расставаться с домом держал поле сам! Силой своей души! И еще какой-то неведомой силой! И тогда я понял — вот находка для лицея! Разве я был не прав?
— Как же вы сами-то прошли через мое поле? — Ежики спросил то, что давно его мучило и тревожило. А то, что он — генератор, его ничуть не взволновало.
— Я… многое умею, мальчик. Но гораздо больше будете уметь вы, когда разовьете свои способности. И мы с вами… и с другими вам подобными… сможем наконец кое-что сделать на планете… Матиуш, это ли не цель жизни? Ну, согласитесь…
— Ладно! Если только вернете маму…
Кантор уронил руки между коленями. И голову опустил. И сидел так в молчании с минуту. Потом сказал в пол:
— Нет, вы в самом деле больны… Я думал, что моя откровенность будет для вас…
Ежики перебил:
— Нет у вас никакой откровенности! Вы опять соврали! Что оказались у дома случайно! — Эти вскрики он выбрасывал горячими толчками. — Вы еще раньше следили за мной, давно! Вы всех мальчишек, наверно, так вылавливаете! С помощью всяких «садовых троликов»! А потом испытания!.. Я слышал в бункере, как они боялись Консула!
— Еще новый бред!
— Да, я понял! Они ловят ребят по приказу Консула, а потом…
— Разве я виноват, что у какого-то предводителя хулиганской шайки такое имя?!
— Вы все тут одна шайка! — выпалил Ежики.
— Радомир, вы сейчас отправитесь в клинику. Пока вы еще лицеист, и я отвечаю за ваше здоровье.
— Не отправлюсь!
— Я буду вынужден настоять.
— Попробуйте! Я… я поставлю поле!..
— Не каждый раз это получается. К то-му же вы видели, что я умею его преодолевать.
— Вы многое умеете… — всхлипнул Ежики. — Даже там, на заставе… ловушка такая… Почему вы не пустили меня к маме?
Кантор взялся за щеки.
— Боже, Боже мой… Ну где, где я тебя к ней не пустил?
— Там, в кронверке!
— Но я же объяснял тебе, что не был в кронверке!
— Да?
— Да!
— Нет, не объясняли, — с ощущением горькой победы сказал Ежики. — Я раньше о нем не говорил. Только о Якорном поле. Откуда же вы знаете про кронверк?
— Я… ничего не знаю! Ты пытаешься поймать меня на слове!
— А я и поймал!
Лицо Кантора пошло красными пятнами. Перекосились очки. Ежики впервые видел ректора таким.
— Ты скверный мальчишка, — сказал Кантор со злым присвистом. — Жаль, что мы живем не в прежние времена. Я приказал бы сейчас подать розги… Или надавал бы тебе пощечин…
Поле не поле, но ярость полыхнула от Ежики, видимо, с ощутимой силой. Кантора вдавило в спинку кресла.
— Но-но… — сказал он.
Ежики, однако, был уже совсем другой. Сейчас перед ректором стоял изнуренный, поникший мальчишка.
— Господин Кантор, ну пожалуйста… Ну, делайте со мной что вздумаете… Хоть насовсем убейте. Только скажите, где моя мама…
10. Поле надежды
Кантор опять низко опустил голову, подхватил упавшие очки. Сквозь редкие волоски блестел зайчик лысины. Кантор произнес безнадежно и очень искренне:
— Ну как… как мне убедить тебя? Как доказать, что все это — лишь твоя фантазия?.. Конечно, я понимаю, тебе не хочется расставаться с надеждой… Но если надежда бессмысленна…
Ежики медленно скручивал в себе нахлынувшую слабость и покорность. Сказал сумрачно и с новой упрямой ноткой:
— Ничего не доказывайте. Просто не мешайте… Не вмешивайтесь больше, когда я буду… искать.
— Ты собираешься туда опять?
— А вы как думали!
— Но…
— Вы что, хотите удержать меня? — спросил Ежики тихо и бесстрашно. — Тогда вам надо меня убить.
— Нет, ты помешался на этом. По-твоему, Командорская община только и думает, как убить двенадцатилетнего Радомира… Есть более безобидный способ разрешения спора.
Ежики вскинул глаза.
— Докажите, в конце концов, что это Якорное поле существует! — Кантор плотно посадил очки и встал. — И на том закончим нашу дискуссию…
— Как я докажу?! Вы это сами знаете, а…
— Доказать проще простого. Мы вместе поедем по Кольцу и убедимся: есть такая станция или нет ее…
— И там увяжетесь за мной!
— Я клянусь: как только услышу «Станция Якорное поле», оставлю вас и не подойду к вам более никогда. Ни как ректор, ни как… человек, который к вам… в достаточной степени привязан.
Тень подозрения мелькнула у Ежики. Но… ведь если станция и застава есть — значит, они есть! И в самом деле, проще всего поехать и выяснить раз и навсегда!
Однако на что рассчитывает Кантор? Ведь он же знает, он там был… Или не был? Может, Ежики привиделась эта белая комната, где сидели Кантор, доктор и незнакомец? Может, он просто потерял сознание от страха и отчаяния, когда заблудился в кронверке?.. А потом сам не помнил, как добрался до станции, сел в поезд…
Или так! Люди в комнате были, но другие, незнакомые, а Ежики показалось, что ректор и доктор Клан… И возможно, эти люди отвели (или отнесли) мальчишку в вагон…
Но зачем?
И почему такой обман? Почему не пустили туда, куда он рвался всей душой? Фальшивый номер засветили над дверью…
А может быть, и телефон приснился? И Голос?
Нет!..
«Ежики… Беги, малыш, беги, пока светит луна…»
Он не добежал… Но луна-то светит и сейчас. По крайней мере, там светит! Сегодня — даже ярче вчерашнего: стала еще круглее…
— Едем, — сказал Ежики, будто камень уронил.
— Сейчас? — начал Кантор. Обжегся мальчишкиным взглядом. — Ну… конечно, такой час, это не в правилах лицея, но… раз такая ситуация… Но у меня одна просьба!
Ежики смотрел сумрачно и нетерпеливо.
— …Даже не просьба, условие: возьмем c собой воспитателя Янца. Клянусь, я ничего не замышляю! Но посудите сами: нам нужен свидетель. Третий человек! Беспристрастный. А господин Янц как раз отличается… гм… бесхитростным нравом и прямотой суждений.
— Как хотите…
С этой минуты в Ежики стало расти горькое понимание, что ничего не выйдет… В машине он скорчился между Кантором и почтительно-безмолвным исполнительным Янцем. За прозрачным колпаком разворачивался, катился назад громадный город — разноцветная карусель огней, струящихся реклам, светящихся стеклянных стен, иллюминаций. Тысячи людей спешили веселиться, смотрели на площади кино, толпились в открытых кафе, шли куда-то карнавальной толпой… Праздничный беззаботный вихрь.
И если в этом вихре плохо и одиноко одной какой-то затерянной песчинке, что с того? А если даже и не одной… Сколько таких песчинок? Мчится в машине сгорбленный тоскливым предчувствием Ежики. Летит где-то в черном пространстве без воздуха и тепла не нашедший себя на Земле Яшка… А может, и не летит. Может, ничего не вышло, и он свалился назад, в травяную гущу лицейского парка… А в траве, у игрушечного домика, один на один со своей печалью съежился маленький Гусенок…
«Так и не узнал, как его зовут… Теперь, наверно, и не узнаю. Потому что не вернусь…»
Откуда это странное чувство, что он не вернется в лицей? Была бы надежда, что все-таки попадет на заставу, — тогда еще понятно. Однако надежды этой все меньше и меньше. А вместо нее ощущение, что увозят его в какой-то пасмурный, совсем безрадостный край.
…Сели в поезд у Южного вокзала. Как полагается, в хвостовой вагон. Но все было не так. И Ежики даже не удивился, когда следующую станцию объявил чужой, незнакомый голос.
— Голос другой… — сказал Ежики, глядя за черное стекло.
Кантор, кажется, пожал круглыми плечами. Тогда Ежики сказал злее:
— Это вы подстроили.
Кантор вздохнул: мол, стерплю и это.
— Я не занимаюсь проблемами Службы движения… Голос, возможно, решили сменить после того случая в диспетчерской. Специально, чтобы не травмировать вас…
Почти без волнения, без ожидания слушал Ежики названия станций. И не удивился, только совсем поник, услыхав после Солнечных часов: «Следующая станция — Площадь Карнавалов»…
…Там, на Площади, они вышли из вагона. Ежики встал у края платформы. Свет плафонов казался серым… Кантор нерешительно, виновато даже переступил рядом своими мягкими башмаками.
— Ну… что? Поедем домой?
Ежики молча помотал головой.
— Ну… а что вы предлагаете, Матиуш?
Ежики молчал. Ничего он не предлагал. Ничего не хотел… Улететь бы, как Яшка, в черноту, чтобы не видеть, не слышать. Никого, ничего…
Воспитатель Янц молчал рядом почтительно и с готовностью делать, что скажет ректор. Судя по всему, он не очень понимал, что происходит.
Кантор сказал опять:
— Матиуш, мальчик мой, я же не виноват…
— Виноваты.
Ежики бросил это просто так, последним толчком упрямства. Но следом за словом толкнулась и догадка — слабенько так, намеком…
— Да в чем же опять вы меня обвиняете? — Это у Кантора получилось театрально. Даже люди на платформе заоглядывались.
— Потому что я ехал с вами… Вот если бы один…
Кантор не стал обвинять его ни в глупости, ни в упрямстве, ни в нелепой вере в потусторонние чудеса. Он сказал кротко и утомленно:
— Господин Янц. Вы с мальчиком вернетесь на станцию Солнечные часы. Там Радомир сядет на встречный поезд и приедет сюда один. Я встречу… Или нет, встретите вы. А отвезу его туда я…
Надежда затеплела в душе у Ежики. Но лишь на полминуты. Когда он услышал опять чужой голос, понял, что все зря. И на перроне Солнечных часов, оставленный Кантором, сел в хвостовой вагон безнадежно, как арестант.
— Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Площадь Карнавалов…
Там он покорно сошел, сразу увидел Янца с вопросительно-заботливым лицом. Длинного, доброго, ничего не понимающего человека. И от этой беспонятливой тупой доброты, оттого, что сейчас надо ехать в лицей, оттого, что на Кольце он никогда уже не услышит маминого голоса, и оттого, что не будет в жизни Якорного поля, Ежики проткнула беспощадная тоскливая боль… Раньше он только в книжках читал, что от горя может болеть сердце. Даже тогда, при страшном известии о маме, оно замирало, колотилось неровно, однако без боли. А теперь у него, у мальчишки, не ведавшего раньше ни одной серьезной хвори, в сердце словно вошла стальная спица.
Ежики согнулся, хватанул губами воздух, понял, что сейчас умрет, и не испугался. Даже наоборот. Только не надо, чтобы так больно. Он прижал к ребрам растопыренную ладонь. Стало легче. Сквозь материю нагрудного кармана в ладонь ласково ткнулось круглое пятнышко теплоты. В ладонь — и обратно в грудь… Возможно, это в ладони пульсировала жилка, но казалось, что монетка в кармане бьется — с колоском и профилем Хранителя-мальчишки. Живет под рукою. И посылает сердцу мягкие толчки спасительной теплоты… И колючая спица тает, и можно вздохнуть…
Спасибо, Хранитель Итан, спасибо, колосок… Спасибо, йхоло…
А ведь там, на ребре монетки, написано: «На Дороге не останавливайся, шагай через Границу смело»… Он сам прочитал эти слова через шар. Прочитал там … Не могло же и это быть бредом! Есть оно, есть Якорное поле!
И Ежики, как наяву, увидел его: ночное, под круглой белой луной. Мохнатые седые одуванчики рассыпались по пригоркам, светятся в голубоватых лучах. Чернеют якоря. И яркой искрой горит отражение луны в оставленном на глыбе ракушечника шаре…
Там же, совсем недалеко, — комната с часами и телефоном. «Ешики… Беги, малыш…» Второй раз он не попался бы в ловушку!
И до всего этого рукой подать! Просто они закрыли путь. Спрятали от Ежики станцию! А она совсем рядом, за толщей камней, в конце короткого туннеля! Может быть, всего в сотне шагов!..
— Радомир, что с вами? Сейчас приедет господин Кантор и отправимся домой, потерпите… Радомир!
Ежики, не разгибаясь, прыгнул с платформы на полотно. Магнитная резина спружинила под кроссовками. Как пластик стадионной дорожки.
— Радоми-и-ир!!
Нет, сердце больше не болело. Оно стучало, как нетерпеливый мотор, а встречный воздух рвал волосы и капитанку. Скорей! Скорей! Наконец-то решена задача, открыт секрет пути! Радостная догадка — нет, не догадка, а знание, что вот-вот откроется слева уходящий к Якорному полю туннель, — несла Ежики со скоростью луча.
Еще секунда! Сейчас…
Мелькали желтые лампы, туннель плавно уходил вправо. И вот, скользя из-за поворота, возник и разгорелся на бетонной стене белый набегающий свет… Что это?!
Это был, конечно, поезд. Он возник в дальнем сужающемся полукружье — две фары, солнечный прожектор наверху, стеклянная выпуклость моторной кабины. Ежики показалось даже, что он видит синие, широко разнесенные оптические «глаза» автомашиниста. Скользя по подушке антиграва, стеклянная сигара летела на Ежики, толкая перед собой упругую толщу воздуха.
«Не успел!»
И не было по сторонам ни спасительной ниши, ни щели. Но Ежики подумал об этом лишь мельком. Ему не нужна была щель!
Он, не сбавляя скорости, рассекал воздух плечом. В нарастании свистящего шума и огней в эти последние секунды к нему пришло ясное понимание: нет бокового туннеля. Есть один путь — прямой! Как у летящего в Космосе Яшки — с его надеждой на столкновение! Удариться — и стать звездой! Тогда пробьешься…
Свистело в ушах, свистело вокруг. Даже не свист, а тысячи голосов. Как на стадионе, когда впереди всех рвешься по дорожке к финишному поперечному лучу… Но среди этого рева — ясно и негромко: «Беги, малыш, беги, пока светит луна…»
Он выхватил из нагрудного кармана монетку, сжал в пульсирующей ладони. Главное — не сбавить скорость, тогда не страшно…
Слепящий свет охватил его со всех сторон, белый, нестерпимый… Но в последний миг свет сжалился, смягчился, из него соткалось желтое окно с переплетом в виде буквы «Т». И мальчика Ежики приняла мягкая милосердная тьма.
…Выйдя из вагона, Кантор стал свидетелем странной суеты, даже паники. Куда-то бежали люди в форме служащих Дорожной сети, неприлично всхлипывал и дергал руками Янц. Его поддерживали несколько пассажиров. Белое, чужое лицо было у Янца. Беспомощный мокрый рот…
— Но почему, почему! — выкрикивал Янц. — Почему не сработала автоматика?! Человек на пути! Так не бывает! Я… нет, он прыгнул, а я… Должен быть сигнал «стоп»!
Человек в малиновой пилотке дежурного подошел, сказал со сдержанным раздражением:
— Такого не может быть. Включились бы все сигналы, поезд бы не прошел.
— А он прошел, да… — Янц обмяк. И вдруг вытаращил глаза. Он и окружающие стояли в самом конце платформы, где Янц только что безуспешно пытался отыскать пульт с ручным аварийным сигналом. Теперь он увидел рядом круглый нос моторного вагона. Стеклянную оконечность громадной сигары, линзы объективов, черную подошву антиграва, неяркий при боковом свечении прожектор…
Янц хлопнул губами, посмотрел на Кантора, заулыбался просительно, облегченно, виновато.
— Значит… да, конечно. Он спрятался там в какой-то нише. Надо сказать, найти…
Кантор обратился к собравшимся мягко, но веско:
— Господа, с ним был мальчик и куда-то убежал. А… господину Янцу показалось, что он прыгнул на полотно. Такое… э… бывает иногда с господином Янцем… Пойдемте, голубчик, я отвезу вас домой.
Людям — что! Удивились и побежали по своим делам. Пожав плечами, отошел дежурный. Он-то уж точно знал: лазерные контролеры остановят поезд наверняка, если кто-то на пути.
— Но ведь надо сказать. Найти… Если он в какой-нибудь нише! — опять вскрикнул Янц.
Кантор тихо приказал:
— Прекратите истерику, болван… И не дергайтесь, там нет никаких ниш.
— А… да! Но…
— Когда это случилось?
— Он вышел из вагона и… Но он же спасся, верно? Ведь на поезде… никаких следов, да?.. Ведь мне сперва показалось… поезд выходит, а на нем, впереди… Это… так страшно…
Кантор снял очки и стал вытирать их очень белым платком.
— Это в самом деле было бы страшно… Боюсь, однако, что случилось более страшное…
Янц дернулся и опять открыл рот. Кантор убрал очки в карман, прикрыл ладонями глаза.
— Боюсь, что он все-таки пробился.
— Я… не понимаю…
— И я не понимаю. Ведь он пошел по часовой… Как же он сумел?.. Хотя, конечно, масса встречного поезда…
— Господин ректор, он жив? Мне… нам не придется отвечать?
— Если жив — придется… Ведь он уведет многих, а главное — приведет тех …
— Кого?
Кантор опустил руки. Выпрямился.
— Да нет, не мог он. Такая блокада… Видимо, легкая вспышка — и все. Будем надеяться, что он ничего не почувствовал… Господин Янц, завтра сообщите в Опекунскую комиссию, что мальчик самовольно покинул лицей и бесследно исчез…
— Да, но…
— Помолчите, Янц. Думаете, мне легко? Такой забавный был малыш. Способный. Я его… почти что любил…
* * *
Видимо, он все-таки пробился.
Потому что, когда тьма посерела и разошлась, он увидел перед собой зеленые размытые пятна. Они пахли горьковатой травой… Это и была трава: пятна отодвинулись, обрели форму круглых и продолговатых листьев. Над листьями — зонтики соцветий и колоски…
Он сел. В ушах все еще гудело, но гул этот угасал и скоро сменился тишиной. Не глухой, не звенящей, а обычной: с шелестом стеблей, с еле слышным чириканьем далекой пичуги. А еще цвиркал где-то рядом одинокий кузнечик, хотя погода была для кузнечиков не самая подходящая. Стоял прохладный, пасмурный, близкий к вечеру день. Впрочем, хотя и пахло дождиком, но трава была суха, а за рябью облаков угадывалось солнце. И было ясно, что скоро оно проглянет в щель чистого неба между облачным краем и горизонтом.
Мальчик сидел, обхватив колени. Туннель и слепящий свет — все это, казалось, было очень давно. А может, и в самом деле давно: ведь сейчас день, а не ночь… Удивления он не чувствовал. И почти не думал, как это все получилось. Возможно, в последний миг само собой сработало силовое поле и швырнуло мальчишку напролом через всякие грани, векторы и меридианы. А может, еще что-то… Это «что-то» все равно должно было случиться: кто же в двенадцать с половиной лет до конца поверит в собственную гибель!
Мысли скользили рассеянно, обрывками, не вызывая тревоги и напряжения. То, что он чувствовал, можно, пожалуй, передать словами: «Вот посижу немного, встану и пойду…» А еще нравилось, как стрекочет кузнечик…
Но вот кузнечик умолк. И мальчик встал (немного болело левое плечо, а так все в порядке). Посмотрел перед собой. Вокруг было поле. Нет, не Якорное, — без пригорков, якорей и кронверка. Ровное. Со всякой травой, островками лопухов. Были и пушистые одуванчики, хотя не так много, как на Якорном поле. Вдали стояли белые и красные домики какого-то поселка с высокими антеннами и широкой решеткой радара. А гораздо ближе, в двух сотнях шагов, поднималась из травы узкая стеклянная будка. Вроде тех, что в Старом Городе, где музейные телефоны-автоматы…
И когда мальчик понял, что это такое, радость, страх и надежда разом хлынули на него. Он вдохнул воздух так, будто не дышал перед этим пять минут. И качнулся вперед, кинуться хотел к будке. Он знал, что теперь надо сделать: схватить в будке трубку, набрать цифры «ноль, ноль, один»… и услышать…
Тугие плети травы запутали ему ноги, остановили. Словно сдержали: «Не спеши, успокойся…» И он остановился. И правда немного успокоился. И увидел, как из будки кто-то вышел. Кажется, паренек. Светловолосый, в синей безрукавке, в серых брюках… Посмотрел издалека в сторону мальчишки, опять ушел в будку. Побыл там с полминуты. Вышел снова, поднял из травы велосипед и, виляя, поехал навстречу мальчику. Видимо, в траве пряталась тропинка.
И мальчик пошел ему навстречу. Нерешительно, без спешки, но и без остановок…
Было между ними шагов пять, когда остановились оба. Паренек — с узким лицом и толстогубым большим ртом, очень похожий на Рэма, только чуть постарше — наклонил к плечу голову. Прошелся по мальчику светлыми глазами:
— Ты — Ежики?
Да! Он Ежики! Кто здесь это может знать?
— Да…
— Наконец-то… Садись давай, поехали…
— Куда? — сдавленно сказал Ежики.
— Хоть куда. На багажник, на раму, как хочешь…
— Куда… ехать?
— Домой, конечно… — усмехнулся паренек.
— А… — начал Ежики. И не смог спросить. Не посмел сказать самое простое и трепетное слово. Только глянул со страхом и умоляюще.
— Поехали, — без усмешки уже отозвался паренек. — Она ждет. Извелась вся…
Нет, не было оглушительного удара счастья, ликования сердца, ослепительной радости. Просто тепло стало, будто выкатилось пушистое солнце… В конце концов, случилось то, чего он ждал. Все как надо…
Но оставался еще страх: вдруг ошибка? Приеду, а там… Нет, не может быть ошибки!
И все же опасение до конца не ушло. Маленькое, но скреблось оно под сердцем. Тогда, чтобы оттянуть миг, который мог стать и радостным, и страшным, чтобы продлить время счастливой надежды, Ежики попросил:
— Пойдем лучше пешком…
И они пошли, путаясь ногами в траве. А велосипед между ними ехал по тропинке, хозяин вел его за руль. Ежики тоже хотел взяться за руль… и охнул от испуга:
— Монетка… В руке была. А сейчас нет… — Он беспомощно оглянулся. Без сомнения, потеря эта грозила непоправимым несчастьем.
Но паренек сказал снисходительно:
— Конечно, нет ее. Отработала свое и ушла к другому…
— Значит… так и надо?
Паренек опять усмехнулся:
— Эх ты… Ежики.
С облегчением, с возвращенной радостью глянул Ежики сбоку на полузнакомое лицо.
— А ты… Рэм?
— Вот еще… — Паренек хмыкнул, надул губы. — Скажи лучше, что тебе вздумалось пудрить людям мозги? Там, на Якорном… Сказал бы сразу, как зовут, не было бы никаких хлопот. А то — «Юлеш»…
Ежики виновато повесил голову. Виновато, но с радостью: значит, все совпадает.
Паренек сказал примирительно:
— Я Рэмкин брат. А он, дурень, ногу вывихнул, сидит дома с припарками.
«А Лис? А Филипп?» — хотел спросить Ежики. Но, подумав о Филиппе, вспомнил и другого мальчишку. И резкое эхо одиночества отозвалось в нем холодком.
— Послушай… Как ты думаешь, нам можно будет взять к себе одного… ну, как братишку?
Это была еще и наивная хитрость, разведка — «нам». То есть ему и…
— А кто это? — Рэмкин брат, кажется, не удивился.
— Ну… — Ежики беспомощно замолчал. Не скажешь ведь «Гусенок». — Просто мальчик… — Он слабо улыбнулся. — Такой… в красных сандалиях…
— А! Да это Юкки! — Рэмкин брат глянул понимающе. — Но у него же сестренка…
— Ну… можно и с ней, — совсем смутился Ежики.
— Можно, конечно… Только он не пойдет, его многие звали, не хочет.
— Почему?
— Ну… так. Своя дорога…
«Своя Дорога?»
— Он ведь не навсегда в пограничниках, — насупленно сказал Рэмкин брат. — Найдет сестренку и отправится дальше…
Ежики хотел спросить: кто такие пограничники. Но Рэмкин брат остановился и придержал велосипед.
— Ну вот… смотри, кто идет.
И Ежики посмотрел.
Крайние дома поселка были уже близко, вдоль них тянулась мощеная дорожка, и там… по ней…
Он оттолкнул велосипед и побежал. Навстречу! Хотел закричать. Но мгновенно и безжалостно вспыхнули, накатили, облили горячим светом огни летящего поезда. И Ежики в тоске понял: все, что сейчас было, — лишь мгновенный сон, последнее видение перед ударом. Позади — туннель, впереди — ничто. И сжался в черный комок…
…Но не было удара. Вспышка сама оказалась мгновенным сном. Последним эхом прежних бед. Ежики открыл глаза.
Бежать он уже не мог. Просто стоял и ждал. Измученный и счастливый. Вытирал с мокрых щек прилипший пух летучих семян.
В траве опять затрещал негромкий кузнечик…

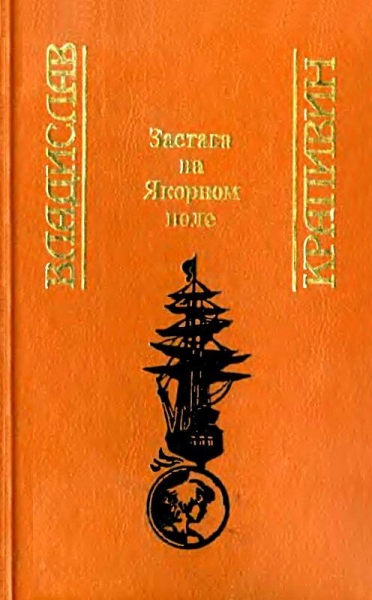








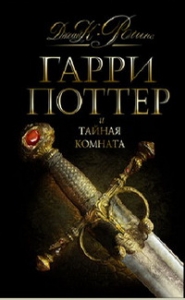
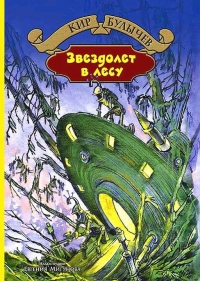
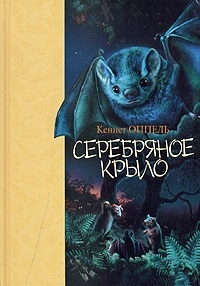
Комментарии к книге «Застава на Якорном поле (Сборник)», Владислав Крапивин
Всего 0 комментариев