Наталья Зоревна Соломко Пожарный кран № 1
-=-
…Аня Елькина пропала за полчаса до начала первой елки. Бесследно. Только пальто, шапка и шарфик остались на вешалке…
Случилось это так: Мотя дал ей графин и скомандовал:
— Анька, сбегай за водой!
И хотя Анька терпеть не могла, чтоб ею командовали, она послушалась: толстый, добродушный Мотя был сегодня дежурным режиссером и командовать, стало быть, имел право. Она взяла графин, выскочила в коридор — и с этой минуты больше никто не видал ни Аньки, ни графина…
То есть графин-то потом нашелся. Если, конечно, это можно было назвать графином…
Пропала! Исчезла! И сколько ни бегали по Дому пионеров, сколько ни кричали, в одиночку и хором: «Анька, Анька, где ты?» — ни ответа, ни привета.
Если бы такое случилось в диких джунглях, ну, тогда понятно: заблудилась, попала в лапы какому-нибудь хищнику… Но в Доме пионеров откуда хищники?
Меж тем в зале уже собрались зрители и изо всех сил хлопали в ладоши, требуя, чтоб артисты поскорее начинали.
А как тут начнешь, если Бабу Ягу играть некому?..
Часть первая ПРОПАЛА ДЕВОЧКА…
Шерлок Холмс нетерпеливо ударил
себя ладонью по колену.
— Ах, если б я сам там был!
воскликнул он. — Это, по-видимому,
чрезвычайно интересное дело…
А. Конан Дойл. «Собака Баскервилей»ЧТО ТАКОЕ ЕЛКИ
Это надо сразу объяснить, чтобы понятно было, кто такие наши герои, чем они занимаются.
Каких только кружков и секций не было в Доме пионеров: туристы, авиамоделисты, юннаты, самбисты, фотографы, шахматисты… И все они с утра до вечера носились по коридорам, спорили, иногда ссорились, шептались, смеялись, толкались в очереди в буфете, сломя голову мчались на занятия… И конечно, каждый считал, что его кружок — самый лучший!
Считали так и наши герои — юные актеры из пионерского театра «Глобус»:
— У нас замечательно! Мы спектакли ставим!
— Па-адумаешь! — отзывались остальные. — А мы…
Остальным, между прочим, тоже было что рассказать.
— У нас ребята отличные! — кричали юные актеры.
— Па-адумаешь! У нас тоже!
— У нас знаете как весело!
— Па-адумаешь! А у нас что, грустно?
И тогда юные актеры говорили самое главное:
— А у нас — елки!
— Па-адумаешь… — вздыхали все остальные и умолкали. Потому что больше сказать им было нечего. Ну, разве что бурчал кто-нибудь:
— Зато у нас каникулы, а вы там вкалываете, как каторжные.
Но это он от зависти, нет сомнения. Потому что было так: наступали зимние каникулы, и весь Дом пионеров отправляли отдыхать: играть в хоккей, кататься на лыжах, бегать в кино. Да мало ли у детей игр и развлечений. А юные актеры оставались работать! Понимаете — как взрослые! Некогда, некогда было им отдыхать! Без них не обойтись. Ведь Новый год — праздник таинственный и волшебный, тут никак нельзя без сказки.
Пусть Добро и Зло сойдутся лицом к лицу. Пусть Зло ворожит, колдует, заманивает. Пусть даже покажется, что оно — сильнее! Но нет — Добро победит. Это необходимо знать всем и каждому, чтобы не бояться, не отчаиваться: Добро сильнее Зла!
И вот, чтоб об этом не забывали, и мчатся ранним утром в Дом пионеров юные актеры. И, пока зрители сдают пальто, носятся по коридорам, шумно рассаживаются в зале, за кулисами происходят интереснейшие превращения.
Анька Елькина, например, превращается в Бабу Ягу, и так просто и ловко это у нее получается, будто всю жизнь она только и делала, что летала на помеле и воевала со всякими хорошими людьми. А задира и троечник Вася Балабанов вдруг становится примерным мальчиком Андрюшей, которому поручено Бабу Ягу перевоспитать. И он ее перевоспитывает. Хотя, в глубине души, очень ей завидует. Балабанчику хочется играть Бабу Ягу — такая роль прекрасная! Он тайком ее выучил и дома репетировал перед зеркалом. Играть примерного Андрюшу Балабанчику скучно.
А вот сидят на диване и мирно беседуют Вова Гусев и Генка Овсянников. Разве можно предположить, что через некоторое время они превратятся в Змея Горыныча и Доброго Молодца и сойдутся в смертном бою? Между прочим, Генка победит, хоть Вова чуть не на голову выше.
А это, знакомьтесь, Айрапетян и Зайцев. Сейчас они превратятся в Робинзона и Пятницу. Чтобы круглый отличник Слава Зайцев стал похож на дикаря, приходится извести целую коробку грима! Верочка, самая красивая девочка в Доме пионеров, конечно же, Снегурочка.
«Приготовиться к началу!» — скомандует дежурный режиссер.
И сказка начнется! Сколько будет приключений и переживаний. Но Добро непременно победит. Юные зрители будут хлопать в ладоши, а потом, съев подарки, побегут домой, довольные. Им и в голову не приходит, что через час все начнется сначала. И опять Добро победит.
А вечером, когда кончится третья елка, режиссер Михаил Павлович Еремушкин соберет своих сказочных героев в репетиционной комнате и достанет общую тетрадь в оранжевой обложке (кто ж не знает, что в эту ужасную тетрадь он записывает замечания по елкам!) и скажет:
— Милые мои, вас что, кормят плохо? Или вы не выспались нынче?
Юные актеры будут виновато смотреть в пол.
— Василий, тебя придется показать врачу, — нахмурится Михаил Павлович. — У тебя не ревматизм ли?
— Почему это? — заморгает Балабанчик.
— А потому, Василий, что в твоем возрасте не шаркают ногами, не плетутся по сцене едва-едва…
— Верочка! — с укором скажет Михаил Павлович. — Все, что ты делаешь на сцене, просто обворожительно. И если к тому же в зале станет слышно, что ты там такое говоришь, я тебе в ноги поклонюсь! Это, кстати, ко всем относится: не бормочите под нос, зритель должен слышать то, что говорят на сцене, иначе ему станет скучно и он примется есть подарок, позабыв о вас… Геннадий, если ты и завтра будешь горбиться и сутулиться, сниму с роли, имей в виду. Добрые молодцы — люди военные, у них выправка, ясно? Владимир, что там с тобой опять произошло?
Вовка Гусев будет молчать: Вовка не ябеда.
— Я спрашиваю, кто привязал хвост Змея Горыныча к роялю?! — сурово повторит Еремушкин. — Анна, а ну погляди мне в глаза!
— Это не я!
— Это не она! — подтвердит дежурный режиссер, которому по службе положено знать все. — Это мальчишки из балета…
— А ты куда глядишь? — рассердится Михаил Павлович, а потом скажет: Что ж, рабочий день закончен. Бегите домой.
Но расходиться не хочется…
— Михал Палыч, посидим немного! — примутся канючить юные актеры.
Михаил Павлович сядет на огромный старый диван, и все кинутся занимать место поближе. И обязательно кто-нибудь попросит:
— Михал Палыч, расскажите про войну!
Но Михаил Павлович только головой покачает — никогда он им про войну не рассказывает. А рассказывает он им о театре, о великом реформаторе сцены Константине Сергеевиче Станиславском, портрет которого висит на стенке напротив… Юные актеры слушают и смотрят на Константина Сергеевича, он уж давно им как старый добрый знакомый. А Константин Сергеевич глядит на них и тоже будто слушает.
Больше всего юным актерам нравится, как Константин Сергеевич, если увидит на сцене неправду, сердится и кричит: «Не верю!» Мол, так в жизни не бывает! Не любит неправду старик!
А потом Михаил Павлович смотрит на часы и охает:
— Живо домой! Поди, родители вас уже с милицией ищут!
И приходится расходиться. А не хочется, ох, не хочется.
— Дай вам волю, вы и ночевать тут будете! — хмурится Михаил Павлович. И он прав.
Теперь ясно, что такое елки? Это когда ты с утра до вечера занят серьезным делом! И с утра до вечера рядом с тобой друзья! И тебя понимают! И не хочется, не хочется расходиться!
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ И КУЗЯ
Мы расскажем только об одном дне елочной поры, о том, когда пропала Анька Елькина.
Видно, такой уж невезучий он выдался: неприятности начали преследовать всех с самого утра.
Михаил Павлович, например, поссорился с Кузей и очень это переживал.
Поскольку повесть наша только-только начинается и вы еще не очень хорошо знакомы с героями, давайте знакомиться.
Сначала с Михаилом Павловичем. Ему пятьдесят семь лет, но он любит ходить сунув руки в карманы — как мальчишка.
Роста Михаил Павлович богатырского. Он вообще похож на Илью Муромца, только без бороды и усов. Зато брови у него, как и положено, седые, мохнатые. Иногда он довольно грозно хмурит их. Тогда юные актеры сразу испуганно втягивают головы в плечи. Незнакомому человеку может показаться, что Михаил Павлович сердится, а юные актеры его ужасно боятся. На самом деле Михаил Павлович только делает вид, что сердится. А юные актеры только делают вид, что боятся.
Ситуация эта довольно занимательна: Михаил Павлович не догадывается, что юные актеры давным-давно его раскусили, а юные актеры не догадываются: он давным-давно понимает, что они только притворяются. Зато директор Дома пионеров Сергей Борисович отлично догадывается и о том и о другом! И весьма и тем и другим недоволен. Он считает, что Михаил Павлович разбаловал своих воспитанников до того, что по ним плачет детская комната милиции. Но о директоре поговорим позже.
Теперь — о Кузе. Это Михал-Палычев внук. Вообще-то его зовут Алешей, а Кузей его прозвала Машенька, Кузина бабушка, да так и пошло.
С тех пор, как Машенька умерла, дед и внук остались на свете одни-одинешеньки.
Когда-то были у Кузи папа и мама, да вдруг исчезли. Давным-давно, когда Кузя был совсем маленьким. Он плакал, требовал, чтоб они вернулись.
— Где они? — топал Кузя ногами на деда и бабушку. — Куда вы их спрятали?
Машенька молчала и уходила на кухню плакать. А дед принимался бродить по квартире и свистеть. Свистел он всегда одно и то же:
Гори, гори, моя звезда…Потом Кузя вырос и спрашивать о родителях перестал. Наверно, забыл о них. Но песню «Гори, гори, моя звезда» он и сейчас терпеть не может.
Кузя высокий, почти догнал в росте своего могучего деда. У него румяное круглое лицо и на верхней губе уже пробиваются усы, которыми Кузя гордится втайне.
Кузя — великий, между прочим, изобретатель. Когда он был малышом, то всем говорил, что станет артистом, как дед. Но однажды, гуляя по бесконечным коридорам Дома пионеров, Кузя заглянул в комнату, где вкусно пахло железом, и замер.
Два человека стояли там у окна. Один был знакомый: он часто встречался Кузе в коридорах и угощал конфетами. А другого он видел впервые: человек тот был железный!
Кузин знакомый едва доставал железному до плеча, но бесстрашно копался у него в животе.
— А кто это? — настороженно поинтересовался Кузя, размышляя, не лучше ли просто дать деру.
— Сейчас узнаешь! — торжественно отвечал Кузин знакомый, захлопывая дверцу у железного на животе и щелкая каким-то рычажком.
Глаза железного вдруг вспыхнули рубиновым огнем, он шагнул к обомлевшему Кузе, протянул железную руку и проскрежетал:
— Я — робот! Рад с тобой познакомиться!
И с этой минуты Кузя потерян был для театра раз и навсегда. Потому что понял: нет на свете ничего интереснее железных людей, которые называются роботами.
То есть просто с самого раннего детства Кузя с утра до вечера пропадал в кружке радиоэлектроники и постоянно что-то изобретал. Электронную кошку для ловли электронных мышей. Дверь, открывающуюся на голоса хозяев. Целое семейство маленьких роботов, которые, гудя, катались по квартире взад-вперед и нервировали кошку Муську. Последним взлетом юной Кузиной фантазии был Федя — говорящий скелет на колесиках. У Феди была обширная программа действий: он открывал дверь, когда приходили гости, здоровался, предлагал чувствовать себя как дома и возил из кухни в комнату пустой поднос (чашек Феде не доверяли, он постоянно все ронял, за что был прозван Михаилом Павловичем «полоруким»).
Главный номер Фединой программы был таков: в летние сумерки он лениво выкатывался на балкон с сигаретой в зубах и в течение десяти минут меланхолически покуривал, светя пустыми глазницами в прозрачной летней тьме.
Поглядеть на Федю приезжали со всего города, пока не явился участковый милиционер и не предложил немедленно прекратить безобразие.
Михаил Павлович не сдерживал Кузиных изобретательских порывов, с интересом относился ко всей электронной нечисти, заполонившей Кузину комнату, и только раз, когда была изобретена дверь, открывающаяся на голоса хозяев, решительно заявил, что предпочитает старый вариант — с ключом под ковриком.
И вдруг, полгода назад, Кузя все забросил… Случилось это в самом конце лета, когда дед и внук вернулись из Москвы. Кузя стал хмурым, дерганым, молча разобрал своих роботов по винтикам, лег на диван и задумался.
Целый месяц он лежал на диване, мрачно глядел в потолок и думал, думал о чем-то…
На вопрос деда, о чем он думает, Кузя отвечал, что думает о Машине, которая будет управлять человечеством.
Из-за этой-то Машины они сегодня и поссорились.
МАШИНА
Если быть точным, ссориться дед и внук начали еще вчера, вечером. Между прочим, Анька Елькина принимала в этой ссоре деятельное участие: бросала в Кузю тапком и обзывала дураком.
Тут надо сразу объяснить и про Аньку: на время каникул она переехала к Еремушкиным. Потому что Анькина мама лежала в больнице.
— А с ним я жить не буду! — сказала Анька Михаилу Павловичу.
Он — это Максим Петрович, мамин муж.
— Он тебя обижает? — расстроился Михаил Павлович.
— Ничего он меня не обижает! — буркнула Анька. — Он добрый. Только я его все равно терпеть не могу!
А почему она Максима Петровича терпеть не может — поди добейся от нее… Сходил Михаил Павлович в больницу к Анькиной маме, но и она ничего не смогла объяснить.
— Злая она растет, упрямая. Максим Петрович ей: «Аня, пойдем в кино», по-доброму. А она: «Подавитесь вы своим кино!» Уйдет в комнату, запрется. Мы уж с ней и так, и эдак, а она молчит и зыркает исподлобья, как волчонок… — И Анькина мама заплакала. — А у меня скоро маленький будет, мне волноваться нельзя…
И стала Анька жить у Еремушкиных. Честно говоря, Кузе это не очень-то нравилось: вредная Анька все делала ему поперек, да еще и вмешивалась в разговоры с дедом!
Вчера вечером у Кузи было прекрасное настроение: наутро он собирался в лес, кататься на лыжах. Он ждал этого дня с самого начала каникул! Ведь кататься в лесу на лыжах Кузя собирался не с кем-нибудь, а с Катей… Так славно, так радостно было у него на душе, и дернул же черт завести разговор о Машине! Давно известно, что дед про Машину спокойно слушать не может. Не понимает он, слушает и сердито барабанит по столу пальцами. А потом высказывает всякие старомодные идеи. Например: «Человек — это звучит гордо»… И мол, разве может какая-то Машина управлять живыми людьми! Обидно ему, видите ли, за людей.
— Люди! — сердится Кузя. — Да что за важность — люди! Какая от них польза? Они же глупые, дед! Они всегда во всем ошибаются! Неужели ты этого никогда не замечал!
А дед заступается за людей, мол, на ошибках они учатся.
— Только выучиться никак не могут! — Кузя хмыкнул сердито. — Наделают глупостей, а потом начинают страдать и плакать: ах, мы думали, что этот человек хороший, а он оказался плохим! Ах, мы думали, что все будет замечательно, а вышло отвратительно! А кто виноват? Нет, чтоб взять и все сосчитать, все учесть! Чтоб не ошибаться! Но именно считать и учитывать они и не умеют, дед. И ты обратил внимание: не хотят! Зато все время что-нибудь чувствуют! А кому нужны эти глупые чувства!
— Глупый ты… — покачал головой Михаил Павлович. — Глупый и маленький…
А это, между прочим, было уже оскорбление! Кузя — не маленький! Он серьезный, взрослый человек, напрасно дед этого не замечает. Нет, Кузя ему докажет!..
И он стал доказывать, что в наше время без умных, точных, надежных машин — никуда! Машины — вот что в жизни главное! Да здравствуют машины, которые не чувствуют, а считают! Великие машины, на которых все можно учесть и запрограммировать!
— Так уж и все? — хмыкнул Михаил Павлович, а Анька сидела посреди комнаты на табуретке и раскачивалась, действуя Кузе на нервы. — И деревья? И небо?
— Романтик ты, дед, — неодобрительно покачал головой Кузя. — Но, если хочешь, можно и деревья…
Анька перестала раскачиваться, уставилась на изобретателя темными настороженными глазами:
— А человека можно?
— Проще пареной репы! Особенно такого примитивного, как ты, Елькина.
Анька не обратила на обидные слова внимания, она долго думала, а потом спросила удивленно:
— А душа?
— Ну и ну! — возмутился Кузя. — Ты, может, и в бога веришь? Нет никакой души. Чему вас в школе учат!
— Есть! — упрямо сказала Анька. — А ты просто дурак!
— Шла бы ты спать, — хмуро посоветовал Кузя, — вместе со своей душой! — И больше не обращал на Аньку внимания. В конце концов, он не с ней разговаривал, он хотел, чтоб дед его понял.
— Пойми ты, — втолковывал он деду, — жизнь сейчас совсем не такая, какая была в твоей молодости!
— Жизнь — она всегда жизнь, — покачал головой Еремушкин.
— Ты хоть бы телевизор глядел изредка! — рассердился Кузя. — Неужели ты не понимаешь, что от человека уже ничего не зависит, все решают машины! Человек без них — ничто! И надо учиться у машин, понимаешь? Надо изжить чувства, они лишние, мешают! Понимаешь?
Еремушкин не понимал. И Кузя ему объяснил на простом примере:
— Вот сейчас изо всех сил охраняют природу, слыхал? Ну, по радио об этом все время говорят и по телевизору, и в газетах пишут. Допустим, с человеческой точки зрения это правильно. Ну, рыба там дохнет, потому что вода в речках грязная, деревья погибают, в городе дышать нечем. Очень людям жалко, просто рыдать готовы из-за природы… А чего жалеть, дед? Лучше взять да сосчитать спокойно, что выгодней. Человек этого не может, у него — чувства! А моя Машина запросто бы сосчитала и выдала бы разумный совет: «Да бросьте вы этот мартышкин труд! Не жалейте ничего, в сто тридцать семь раз выгоднее использовать тут все до конца, а потом быстренько переселиться на другую планету!» И при этом еще и точный прогноз выдаст: планету, годную к переселению, откроют в таком-то году, ракетная техника для осуществления переселения разовьется тогда-то. Вот и все дела, дед!
— А если она не разовьется, тогда что делать будем? — спросил Михаил Павлович и посмотрел на Кузю не сердито, а как-то печально.
— Раз Машина сосчитала — значит, разовьется, не бойся! Машина не ошибается. Она ведь не человек!
— Тьфу на тебя! — сказал тут Михаил Павлович. — Пропади ты пропадом со своей Машиной! А Землю-то нашу тебе не жалко?
Он ушел, даже не пожелав Кузе спокойной ночи, и Анька, конечно, тоже поднялась, глянула на Кузю исподлобья, покрутила пальцем у виска: мол, и дурак же ты! И Кузя обиделся. Не на Аньку, само собой. На деда. И закричал, так, чтобы дед и там, в своей комнате, слышал:
— Ты живешь с закрытыми глазами, дед! Выдумали какую-то душу, которой нет и никогда не было, а вокруг всё из железа! Где она, эта ваша душа? Кому она нужна?!
Тут дверь распахнулась, и Анька запустила в Кузю тапком. А дед не отозвался. И сегодня с утра молчал, делал вид, что вообще не знаком с Кузей…
Ну и ладно. Ну и пожалуйста! Кузя переживет!
Вот они шагают по темным заснеженным улочкам, и Кузя независимо посвистывает… Вообще-то ему обидно, но он старательно прогоняет это ненужное чувство: он еще полгода назад решил, что от чувств надо избавляться. Правда, пока не очень получается…
А Михаил Павлович идет и горюет: ему кажется, что внук и сам скоро станет похож на робота.
ДИРЕКТОР СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Во всех странных и удивительных (а также не очень странных и не очень удивительных) событиях этого дня пришлось принять участие и директору Дома пионеров…
Честно говоря, участвовать в них Сергею Борисовичу вовсе не хотелось. И еще меньше хотелось, чтоб он в них участвовал, всем остальным героям нашей повести.
Дело тут вот в чем. Сергей Борисович был пристрастен к тишине и дисциплине, а многочисленные обитатели Дома пионеров были как раз склонны к нарушению и того, и другого.
Директор делал им замечания, а они не слушались и продолжали нарушать… В общем, отношения не складывались, и Сергей Борисович, пожалуй, уже отчаялся и не верил, что они сложатся когда-нибудь. Весь Дом пионеров знал его любимую поговорку (за день Сергей Борисович произносил ее раз пять, а то и шесть): «Педагогика здесь бессильна — нужно вызывать милицию!»
К милиции Сергей Борисович относился с большим уважением, и это вполне понятно: все прекрасно знали, что в детстве он мечтал стать следователем. Но ему не разрешила мама.
О, это очень, очень печальная история…
— Что за дурацкие мечты? — удивилась мама. — Неужели ты всю жизнь хочешь возиться с бандитами? Они тебя еще зарежут!
— А может, и не зарежут… — возразил Сергей Борисович.
— Немедленно замолчи и не смей спорить с матерью! — рассердилась мама. — Либо ты будешь меня слушаться, либо я сейчас немедленно умру!
И она легла на диван и закрыла глаза. А Сергей Борисович вздохнул и послушно поступил в педагогический институт. Он любил маму и все делал, как она скажет.
Учиться в институте, выбранном мамой, сидеть на лекциях и слушать, что такое дети и как их надо воспитывать, было скучно и тошно, а как раз напротив института находился маленький кинотеатрик, в котором все время показывали детективные фильмы, которые Сергей Борисович очень любил. Но ни разу — вы можете себе такое представить, ни единого разику! — он не сбежал с лекций в кино, вот какая у него была сила воли! Даже странно, что, несмотря на такую силу воли, он боялся детей. Да-да, именно: боялся. Бывает же такое: бандитов не боялся, а вот дети просто в ужас его приводили.
И знаете, хотя Сергей Борисович давным-давно стал взрослым, по ночам ему до сих пор снилось, будто бежит он, твердо сжимая в руке пистолет, по ночным улицам, преследуя очень опасного преступника. «Стой! Стрелять буду!» — командует он, почти его настигнув. Преступник оглядывается, встречается с Сергеем Борисовичем взглядом и сразу понимает: сопротивление бесполезно! «Сереженька, что с тобой?» — встревоженно спрашивает он…
И тут Сергей Борисович вздрагивал и просыпался. Над ним стояла мама.
— Тебе, наверно, страшное снилось, сынок, — говорила она, — ты кричал во сне…
— Ничего, мамочка, — бормотал Сергей Борисович. — Все в порядке, ложись спать.
А сам уснуть уже не мог. Лежал во тьме и думал, почему он такой несчастный. Не повезло ему в жизни. И вот уж скоро утро и опять придется идти на работу…
Не любил Сергей Борисович свою работу. Скучно ему там было. Тяжело.
Вот и этот день начался не очень удачно: идя по коридору Дома пионеров, он услышал за дверью пионерского театра «Глобус» странное шипение, переходящее в гул и свист.
Не приходилось сомневаться, что там, за дверью, происходит очередное безобразие!
ЯША АЙРАПЕТЯН И СКВЕРНАЯ К°
Заглянув в репетиционную комнату, директор увидел ужасное! Сохраним пока в тайне, что именно. Потому что опять же необходимо кое-что разъяснить.
В репетиционной обнаружены были Сергеем Борисовичем Аня Елькина и Вася Балабанов, известные безобразники. Удивляло отсутствие Вовы Гусева эта троица всегда держалась вместе. Со скорбным недоумением директор отметил присутствие в скверной компании примерного мальчика Айрапетяна.
— Впрочем, этого следовало ожидать, — с горечью пробормотал он. Сразу надо было догадаться, чем это кончится…
Дело в том, что раньше примерный Яша Айрапетян занимался в кружке ракетостроения и, между прочим, был там самым способным. Ах, какие замечательные космические корабли он строил! Но месяц назад способный Айрапетян вдруг забросил ракетостроение и перешел в пионерский театр «Глобус». Ни с того ни с сего…
Сергей Борисович тогда долго с ним беседовал, пытаясь вразумить. «Что за странная прихоть! — говорил. — Таким интересным делом ты занят, Айрапетян! И ведь так прекрасно у тебя получается, на ВДНХ собираемся отправить твою последнюю модель! Ну зачем тебе переходить в театр?..» «Надо!» — тихим, но упрямым голосом отвечал Айрапетян.
Вот теперь, пожалуй, пора сказать, что увидел директор, распахнув дверь репетиционной…
Он увидел, как космический корабль Айрапетяна (тот самый, который в ближайшее время собирались отправить на ВДНХ) с гулом и свистом вылетел в настежь распахнутое окно и унесся к звездам…
— Безобразие! — охнул Сергей Борисович. — Вы соображаете, что вы натворили?!
В общем, для Аньки, Балабанчика и Айрапетяна это утро тоже не медом было мазано!
ДОМ НА БЕРЕГУ МОРЯ
Пока возмущенный до глубины души директор влечет безобразников под грозные очи Михаила Павловича, познакомимся поближе со скверной компанией.
Балабанчик, Анька и Вовка дружат с первого класса.
Уже тогда, четыре года назад, они твердо решили, что никогда ни в кого не влюбятся: им и так хорошо!
«А то что ж будет? — волновалась Анька. — Перевлюбляемся, еще и жениться придется… Какие-то ваши жены, какой-то мой муж, да еще и дети потом появятся! Чего хорошего?»
«Ничего! — подтверждал Балабанчик. — Ну ее, любовь эту! Будем всегда втроем!»
А когда они вырастут, у них будет дом на берегу моря. А еще они заведут лошадь и собаку и построят корабль для Балабанчика. Балабанчик будет плавать по морю и сражаться с пиратами, а Вовка и Анька станут артистами — там, на берегу моря, обязательно будет театр… Вечером Вовка и Анька будут в нем выступать, а утром — кататься на лошади по берегу моря и смотреть на горизонт: не появится ли там корабль Балабанчика…
Вот какая прекрасная у них будет жизнь, когда они вырастут.
«Уговор — дороже денег! — строго сказала тогда Анька. — Никакой любви!»
«Никогда! — поклялся будущий капитан. — Якорь мне в глотку и сто акул в бок!»
А Вовка, который сильно заикался и потому в разговорах был краток, взволнованно крикнул, ударив себя в грудь кулаком:
«Мо-мо-могила!»
Это означало, что он не расстанется с друзьями до самой смерти.
И вот теперь некоторые (не будем их называть), кажется, кое о чем жалели и, может быть, даже собирались нарушить ту страшную клятву!
Удивительные, непонятные происходили вещи: днем некоторые с презрительной усмешкой ругали девчонок и утверждали, что никакой любви нет, а по ночам им снилась одна девочка, якорь этим некоторым в глотку и сто акул в бок!
ОБЩИЙ СБОР
Да, именно: в этой маленькой главке все главные герои нашей повести на несколько минут собрались вместе… И никто еще и не подозревает даже, что их ждет впереди. Разве что Константин Сергеевич Станиславский, мудрый старик… Глядит с портрета и печально улыбается, будто все ему известно заранее… Пока ничего не началось, надо рассказать и о нем, он тоже лицо действующее.
Конечно, некоторые могут засмеяться: разве может портрет быть действующим лицом? Он же нарисованный!
Людям, которые так уж хорошо знают, что в жизни может быть, а чего не может, мы скажем с таинственной усмешкой: ах, миленькие, в жизни всяко бывает!..
Так вот: портрет этот был подарен Михаилу Павловичу его друзьями-актерами, о чем и сообщала позеленевшая от времени бронзовая табличка в левом углу рамы: «Милейшему Мише в год ухода из театра от товарищей по Искусству». Портрет был большой, а квартира у Еремушкиных маленькая, и Михаил Павлович украсил им свое новое рабочее место… Случилось это так давно, что ни Аньки, ни Балабанчика, ни Яши Айрапетяна еще и на свете не было… Но были другие, тоже шумные и беспокойные. Стоило им прийти на репетицию, как стены начинали ходить ходуном. Так что портрет не раз и не два срывался и падал, отчего красивая позолоченная рама давно потрескалась и облупилась.
В общем, чего только не довелось увидеть и пережить Константину Сергеевичу за эти годы!
За Константином Сергеевичем — между стеной и пыльной изнанкой холста — все поколения юных актеров хранили свои тетради для ролей… А один мальчик писал записки одной девочке и прятал под бронзовую табличку в углу рамы — как в дупло… Мальчика звали Павлик, а девочку Юля… И хотя они давно выросли, Константин Сергеевич часто о них вспоминал: Юля и сейчас в Доме пионеров — работает библиотекарем, а Павлик… О, Павлик стал артистом! Недавно даже снялся в десятисерийном фильме «Три мушкетера», в главной роли — д'Артаньяна…
Но о Павлике мы сейчас рассказывать не будем: скоро он и сам появится…
Между прочим, Константин Сергеевич знает и это. И что Анька скоро пропадет, знает. Только молчит — так уж положено. Хотя иногда ему очень хочется кое-что сказать. И сегодня — такой уж выдался день — не выдержит и скажет! Но не сейчас. Сейчас все тихо-спокойно: еще ни-че-го не началось…
Михаил Павлович сидит и пролистывает свой рабочий блокнот, а Кузя натирает лыжи, оба молчат. Но — раз! два! три! — начинается!.. И вот дверь распахивается — это директор привел безобразников и с порога сказал:
— Я требую принять меры! Немедленно!
Но принять меры немедленно было никак нельзя, потому что в этот же миг на столе неистово затрезвонил телефон.
— Это говорит мама Вовы Гусева! — сообщил сердитый голос. — Вова сегодня на елку не придет!
— Почему? — удивился Михаил Павлович.
— Потому что он наказан! И вот что я вам скажу: пока он в этот ваш театр не ходил, вел он себя лучше! А теперь совершенно меня не слушается…
— С мальчиками это бывает… — вздохнул Михаил Павлович. — А не приходить ему нельзя. Актер, уважаемая, имеет право не явиться на спектакль только в одном случае: если он умер. А иначе он подведет своих товарищей.
— Все равно не пущу! — ответила мама Вовы Гусева и бросила трубку.
Михаил Павлович вздохнул и повернулся к директору и безобразникам.
— Что случилось?
— Михаил Павлович, это я виновата! — сразу сказала Анька.
— Никто в этом и не сомневается! — Сергей Борисович сердито взглянул на нее: ишь, стоит! Руки в карманах джинсов, выражение лица — дерзкое… Эта девочка и на девочку-то не похожа. — Не девочка, а бандитка!
— Неправда! — крикнул Айрапетян, сверкая черными глазами. — Аня ни в чем не виновата! Я сам! И не смейте так говорить!
Видали его? Еще и не скажи ничего!
А Балабанчик изобразил на круглом конопатом лице раскаяние и пробормотал сладким ангельским голосом:
— Сергей Борисович, мы больше так не будем…
— Артист! — пуще прежнего рассердился директор. — Полюбуйтесь, товарищ Еремушкин, на плоды вашего воспитания!
— А Михаил Павлович при чем?! — спросила Анька и сжала кулаки, будто собиралась с директором драться. Она терпеть не могла, чтоб Михаила Павловича ругали.
Сергей Борисович и сам вспомнил, что нельзя взрослым выяснять отношения при детях, и велел всем выйти в коридор.
Впрочем, в коридоре тоже было отлично слышно.
— С каким бы удовольствием я вас уволил, Михаил Павлович, неожиданно спокойно и даже как-то мечтательно произнес директор. — Вы даже представить себе не можете…
— Ну отчего же, — запротестовал Михаил Павлович. — Могу.
— Чего вы там опять натворили? — спросил Кузя, а Анька ему ответила:
— Не твое дело!
Грубиянка она была, эта Анька.
— Гляди, Елькина, лопнет мое терпение! — нахмурился Кузя. — Плакать будешь!
— Ты сам вперед заплачешь! — отозвалась дерзкая девчонка.
— Поглядим! — пообещал Кузя зловеще и ушел, посвистывая.
ЗНАМЕНИТЫЙ ПАВЛИК
Вот тут-то и позвонил Павлик. Ну, тот самый, который раньше всё записки писал девочке Юле, а потом стал артистом. Ну, д'Артаньян! Теперь-то его вся страна знала: ведь фильм «Три мушкетера» всего неделю назад кончили показывать по телевизору, и, позабросив клюшки, все мальчишки страны торопливо строгали себе шпаги…
— Здравствуйте, Михаил Павлович, это я, — сказал Павлик грустным голосом. — Не узнаёте?
— Простите, нет, — отвечал Михаил Павлович, хотя по выражению его лица было ясно, что узнал.
— Это я, Павлик…
— Ах, это ты, Павлик?! — будто бы изумился Михаил Павлович. Господи, какая честь для нас! Что занесло тебя в наше захолустье?
— Издеваетесь? — догадался знаменитый артист.
— Как можно! Напротив, спешу тебя поздравить! Видел, видел тебя. На коне, знаешь ли, со шпагой! Аж дух захватывает все десять серий… Ну и как, Павлик, приятно быть знаменитым?
Павлик помолчал и спросил:
— Можно, я приду?
— Знаешь, лучше не надо, — сказал Михаил Павлович. — Я по тебе не соскучился.
— И Юлька тоже меня видеть не хочет, — тяжело вздохнул Павлик. — Я прихожу, а она дверь не открывает. Да еще этот ее брат… Обещает милицию вызвать, если я еще приду.
— Молодец! — похвалил Михаил Павлович. — Я и не знал, что он такой решительный человек.
— Я вас очень прошу, — умоляюще заговорил Павлик. — Поговорите с Юлькой… Я же за ней приехал! Скажите ей, чтоб перестала дуться! Ну, я виноват, признаю, ну, уехал, оставил ее одну…
— Не одну, а с сыном, — угрюмо уточнил Михаил Павлович.
— Я понимаю, конечно, ей трудно было. Но я ж не гулять уехал, я в кино снимался! Объясните ей это!
— Не буду, — покачал головой Михаил Павлович, и лицо у него было горестное. — Я тебе не помощник.
— Ну, почему, Михаил Павлович? За что вы все на меня?
Михаил Павлович молчал и становился все угрюмей. Наконец он сказал:
— Потому что ты, Павлик, предатель. И правильно тебя Славик гоняет! И мне на глаза лучше не попадайся, вот что я тебе скажу!
И Михаил Павлович грохнул трубкой.
— Что с вами? — испугался Сергей Борисович. — Вам плохо? Может, валидол дать?
— Спасибо, — отозвался Михаил Павлович. — Не ищите, у меня свой есть.
Он подошел к окну, прижался лбом к ледяному стеклу.
— А какие все добрые, верные… — тоскливо пробормотал он. — Пока не вырастут. И ведь всегда надеешься, что вырастут людьми!
— Ах, Михаил Павлович, ну стоит ли так переживать из-за пустяков! неодобрительно качнул головой директор. — Поссорились — помирятся, чего не бывает! Радоваться надо, что ваш воспитанник стал известным артистом, а вы… Стоит ли принимать все так близко к сердцу. Оно ведь у вас не железное.
— Вы полагаете? — с печальной усмешкой спросил Михаил Павлович.
— Беречь себя надо! — наставительно ответил Сергей Борисович. — Два инфаркта — это не шутки!
ЧТО ТАКОЕ ИНФАРКТ
— Инфаркт — это что? — настороженно спросила Анька. Слово это показалось ей смутно знакомым, и отчего-то тоскливо стало на душе.
— Болезнь такая — трещина в сердце, — объяснил Айрапетян. — У моей бабушки тоже был инфаркт, только один пока…
— А всего их сколько?
— Три.
— А потом?.. — Анька испуганно заглянула Айрапетяну в глаза.
— Потом умирают…
И Анька вспомнила, откуда она знает это слово: папа умер… Лежал с закрытыми глазами на диване и молчал. А мама стояла у окна и плакала…
А Анька не плакала: она ведь сразу догадалась, что это — не папа, это ненастоящий кто-то лежит на диване и молчит… Очень на папу похожий, у него родинка на щеке и морщинки у глаз — совсем как у папы… Но это — не он. Анька папу чувствовала: идет папа с работы, входит во двор, Анька не видит его, но знает: он сейчас придет — потому что на душе у нее вдруг становится радостно и тепло, будто Анька и папа связаны какой-то невидимой ниточкой… А этот, который лежал на диване, никакой не папа, Анька смотрит на него — и внутри у нее никакой радости, пусто…
А в доме ходили на цыпочках и говорили: папа умер…
А как это — умер? Где он?
Но никто не мог объяснить это Аньке, а в комнатах почему-то пахло праздником Новым годом, хотя до Нового года было еще далеко…
Потом пришли люди — много, так, что стало тесно, и того, ненастоящего, положили в длинный деревянный ящик, обитый черной материей, и с музыкой понесли по улицам.
Была осень, серый, скучный день. Небо висело прямо над крышами, из него падал первый снег. Он несся тяжелыми липкими хлопьями — на деревья, на дорогу, на плечи и лица — и сразу таял…
Только у ненастоящего папы все лицо было в снегу.
На кладбище уже выкопали глубокую яму. Анька подошла и заглянула… На дне стояла лужа.
— Девочка, подойди и поцелуй папу! — велел Аньке незнакомый дядька с черной повязкой на рукаве и подтолкнул к черному ящику. Наверное, он был тут начальником: все время командовал, кому что делать.
— Это не папа! — сердито ответила Анька и стояла, смотрела, как ненастоящего заколотили в ящик и стали спускать вниз, в лужу.
А снег все шел…
Откуда-то появились еще три дядьки, с лопатами, и быстро-быстро закидали яму желтой мокрой глиной.
— Родственники, кладите венки! — скомандовал начальник.
Грязный желтый холм пропал под еловыми ветками.
Из веток выглядывал папа…
Мама и соседка бабушка Егорьева плакали, остальные стояли тихо, с печальными лицами, а папа весело улыбался Аньке среди веток…
И больше она никогда, никогда папу не видела.
Вот что такое инфаркт. Нет, не хотела Анька, чтоб и Михаил Павлович пропал вот так же…
ЧУЖИЕ НЕСЧАСТЬЯ
— Всем переодеваться! — скомандовал Мотя, а Анька не пошла спряталась в репетиционной за диваном.
Сидит на полу и думает, как спасать Михаила Павловича.
Мысли у Аньки прыгают, скачут, вовсе пропадают из головы. Так всегда бывает, когда надо додуматься до самого главного.
«Инфаркт — это трещина в сердце, а Вовка на елку все равно придет!.. — скачут Анькины мысли. Анька изо всех сил сжимает голову руками, думать становится легче. — Всего их бывает три, а потом… Нет, про это думать не буду! Отчего они бывают, инфаркты?»
Этого Анька не знает, и спросить не у кого.
«Все уже переодеваться пошли, опоздаю… — это опять мысли скачут. А сердце — не железное… Трещина… Стоп! — Анька замирает. — Как это он сказал?! Что-то такое про „близко к сердцу“?..»
Анька зажмурилась, напряженно морщит лоб: надо вспомнить, как директор сказал Михаилу Павловичу… Ну?!
«Не принимайте все несчастья так близко к сердцу!» — вот как он сказал! В голове у Аньки будто лампочка зажглась — так вдруг все стало понятно. И припомнилось, как в прошлом году одного мальчишку хотели отправить в колонию. За то, что он магнитофоны в школе украл.
А это и не он совсем украл. Это Чапа украл. Но Чапа того мальчишку все время бил и запугал до того, что мальчишка пошел и сказал на себя. Все ребята во дворе это знали, но молчали: кому охота с Чапой связываться, он большой, страшный…
А Анька случайно Михаилу Павловичу проговорилась.
До сих пор она помнит, как он тогда взглянул.
— А ты почему молчала?
— Зачем я буду говорить? — удивилась Анька.
— А если бы такое с кем-нибудь из наших?!
— Другое дело, — ответила Анька. — Тогда бы я обязательно сказала.
— Ясно, — вот тут Михаил Павлович и взглянул на нее так… Будто хотел навсегда раздружить с Анькой. — Чужие, значит, пускай пропадают? спросил.
Анька молчала.
— Знаешь, где этот Чапа живет? Пошли!
И они пошли к Чапе. А когда привели Чапу с магнитофонами в милицию, он заревел. И совсем он был не страшный! Противный, трусливый, носом шмыгал.
А Михаил Павлович кричал на какого-то милиционера:
— Обрадовались, что разбираться не надо, затюкали невиноватого, а этот юный негодяй живет припеваючи и смеется! Для этого вас тут поставили?!
Потом еще к тому мальчишке пошли, к Моте…
Ну, вот какое Михаилу Павловичу до него было дело, он ведь, Мотя-то, еще тогда в театр не записался. Сейчас-то поглядишь на него и не подумаешь даже, какой он год назад был тихий и перепуганный.
Значит, так: было у Моти несчастье, все про это знали, но не принимали близко к сердцу. А Михаил Павлович принял — и не стало у Моти несчастья.
Наверное, Михаилу Павловичу кажется, что чужих несчастий не бывает, все — его?
«Нет, неправильно это!» — сердито думает Анька.
У него же сердце больное, а не железное. Разве можно волноваться из-за каждого! И так в сердце трещина, а тут еще чужие несчастья! Нападают на него, как пиявки! Да, наверняка чужие несчастья похожи на пиявок Анька видела их в аптеке, в банке — черные, противные! Только у них, наверно, еще и зубы есть — такие кривые и огромные, как у саблезубых тигров… Как вцепятся чужие несчастья зубами в сердце!
Анька ежится. Правильно директор сказал, что нельзя их близко к сердцу. Видно, они так устроены: тех, кто идет себе мимо, не обращая на них внимания, они и сами не трогают — понимают, что бесполезно. А как почуют, что у человека доброе сердце, так и кидаются всей кучей…
«Что ж это получается? — тоскливо думает Анька. — Если ты добрый, то у тебя будет болеть сердце, может, ты из-за этого и вовсе помрешь! А если тебе на всех плевать, то живи на здоровье хоть сто лет? Несправедливо!»
— Не хочу я так, — бормочет Анька. — Он не должен…
Только разве Михаил Павлович послушается?
Что же делать?
Анька сидит за диваном, сжавшись в комочек, и думает, думает — изо всей силы…
И додумывается!
А если — напополам?!
Если Анька тоже будет — все несчастья близко к сердцу? Ведь тогда Михаилу Павловичу на половину меньше останется, вот что!
Она представляет себе черные, зубастые чужие несчастья, которые только и ждут, чтоб кинуться… Больно, наверно, будет… А Михаилу Павловичу не больно?!
«Ладно, уж как-нибудь вытерплю! — решает она. — Все, с завтрашнего дня!» — И вылезает из своего убежища.
Надо скорее бежать в переодевалку, Мотя ее, наверно, потерял, ругаться будет.
Мчась по коридору, она передумывает: не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего.
Чего уж тут тянуть…
УМНЫЙ ПЕРВОКЛАССНИК
Анька вбегает в переодевалку. Все давным-давно уже там, но переодеваться еще никто и не думает. Все кричат, волнуются, мальчики — с одной стороны фанерной перегородки, девочки — с другой. Разве они знали, что у Михаила Павловича больное сердце? Он же никому ничего не говорил!
— Он же летом в больнице лежал, помните?!
— А может, у него все-таки не сердце?..
— Я своими ушами слышал! — кричит из-за перегородки Балабанчик. Подтверди, Айрапетян!
Яша подтверждает про трещину в сердце. Юным актерам не по себе. Славу Зайцева отправляют на улицу, в телефон-автомат, звонить маме-врачу. Слава — круглый отличник и зануда: никогда не дерется, не грубит. В общем, образцово-показательный ребенок, за это, честно говоря, в театре его недолюбливают. Но сейчас его ждут с нетерпением, как самого лучшего и необходимого человека.
Вот наконец он возвращается.
— Что она сказала? — кричат все.
— Плохо… — сообщает Слава Зайцев. — Это нельзя вылечить…
Становится тихо-тихо.
— Поэтому — главное: никаких волнений. И побольше положительных эмоций.
— Это как? — спрашивает малыш Валера Овечкин, который таких слов еще не знает.
— Ну, надо побольше радоваться, понимаешь?
— С нами порадуешься… — уныло бормочет Балабанчик, и все с ним соглашаются.
И снова устанавливается тишина, как на самой главной контрольной, когда задачу надо решить во что бы то ни стало, чтоб не остаться на второй год. Все думают, но уж такая трудная попалась задача — никак не решить…
Только первоклассник Овечкин робко тянет руку, но этого никто не замечает.
— Чего тебе? — наконец недовольно спрашивает Мотя.
— Я придумал, — тихо говорит Валерик. — Давайте, пока у Михаила Павловича сердце не зажило, будем хорошо себя вести. Тогда он волноваться и не будет.
Юные актеры потрясенно молчат. Просто удивительно, что никто, кроме тихони первоклассника, до этого не додумался!
— Овечка, — ласково говорит Верочка. — За обедом я отдам тебе свой компот. Из мальчиков ты — самый умный!
— А из девочек ты самая глупая! — доносится из-за перегородки сердитый голос Балабанчика. Потому что, что Верочка ни скажи, Вася Балабанов все принимает на свой счет и злится. Очень уж ему не нравится эта задавака и дура. Иногда, сообщим между прочим, Балабанчик рисует Верочку в своей тетрадке для ролей. На рисунках у Верочки длиннющий нос, рот до ушей и маленькие косые глазки. В общем, только по подписи можно догадаться, что это Верочка — самая красивая девочка в Доме пионеров.
— От глупого и слышу! — обиженно кричит Верочка Балабанчику.
На них шикают: не до ссор, о серьезном разговор.
И вот решено единогласно: с этой самой минуты и до той поры, пока у Михаила Павловича не выздоровеет сердце, юные актеры будут вести себя просто замечательно! Как Слава Зайцев, которому никогда никаких замечаний не делают: ни дома, ни в школе, ни на репетициях, а только хвалят и ставят всем в пример.
«Какая, должно быть, это тоска, — дружно думают юные актеры, — быть как Слава Зайцев. Но ничего уж тут не поделаешь, раз надо».
— А если все-таки что-нибудь такое… Ну, сами понимаете, мало ли что случится… То Михаилу Павловичу ни слова, поняли?
Все согласно кивают.
— А если у кого грустное настроение или дома плохо, — кричит Анька, то все равно пусть улыбается!
Приняв такое героическое решение, юные актеры сидят в переодевалке сосредоточенные и немного торжественные: ведь начинается новая жизнь, в которой они станут прекрасными, благовоспитанными детьми, глядя на которых Михаил Павлович будет только радоваться.
Поскольку в переодевалке тихо, то неуместный, ехидный смешок, раздающийся непонятно откуда (кажется, с потолка), всем отлично слышен. Юные актеры задирают головы.
— Наверно, он нам не верит… — вздыхает Балабанчик.
— Умеет наш Карлуша все испортить! — хмурится Мотя.
Чтобы разговор этот никому не показался странным, надо знать, что в Доме пионеров живет сверчок Карл Иванович. Принято думать, что сверчки существа тихие и застенчивые. Увы, Карл Иванович не таков. Характер у него прескверный! Карлуша сварлив и ехиден до невозможности, слова доброго от него не услышишь.
Просто удивительно, что обитатели Дома пионеров его все-таки любят.
ГДЕ АНЬКА? ГДЕ ГРАФИН?
— Анька, сбегай за водой! — скомандовал Мотя.
Анька взяла графин, выскочила в коридор и, как уже известно, будто сквозь землю провалилась.
И если, ГДЕ ГРАФИН, выяснилось довольно скоро (но как-то так выяснилось, что только еще больше запуталось, и даже всякие жутковатые мысли полезли в голову), то на вопрос, ГДЕ АНЬКА, ответа не было.
Бегали, звали, искали…
А в зале зрители изо всех сил хлопали в ладоши.
В общем, будем говорить прямо: елка срывалась! И главное, ведь только что договорились: все должно быть так хорошо и замечательно, что никаких волнений, одни положительные эмоции! А теперь хоть выходи и объявляй зрителям, чтобы расходились, а потом сразу начинай посыпать голову пеплом — в знак позора и окончательного отчаяния.
Кроме Аньки, роль Бабы Яги играли еще две девочки, Валя и Галя. Но Валя болела, а Галя жила на другом конце города. Конечно, Мотя сразу ей позвонил, велел немедленно приезжать, но и думать нечего, что Галя успеет к началу утренней елки.
Признаться, такое ужасное ЧП в пионерском театре случалось впервые, потому что уж кто-кто, а юные актеры всех поколений твердо помнили: я имею право не явиться на спектакль только в одном случае — если я помер, а иначе я подведу своих товарищей! Потому-то и было сейчас всем не по себе: что с Анькой? Конечно, ясно, что Дом пионеров — не дикие джунгли. Но разве только в джунглях может случиться с человеком несчастье?
— Ну, все! — уныло сказал дежурный режиссер Мотя. — Я пошел сообщать Михаилу Павловичу…
— Никуда ты не пойдешь! — хмуро откликнулся Балабанчик и встал у двери. — Ведь решили же! Хочешь, чтоб он сразу помер? Нельзя, чтоб он узнал!
Будто если елка сорвется, Михаил Павлович не узнает!
Что же делать, что?
Умный первоклассник Овечкин поднял руку. На сей раз это было замечено сразу, все с надеждой уставились на него.
— А пусть за Аню сыграет Вася… Помните, он на репетиции Аню передразнивал? Так похоже получалось, а Аня его еще стукнула за это, помните?..
Все-таки он удивительно был умный, маленький Валера Овечкин!
— Помним! — дружно завопили юные актеры, и через три минуты Балабанчик, одетый Бабой Ягой, стоял в кулисах и трепетал.
— С ума сошли… — бурчал он под нос. — Я ж и не репетировал ни разику!
— Не дрейфь! — скомандовал Мотя и крикнул громовым голосом: — К началу! Все, кто свободен, ищите Аньку! Только чтоб на выход не опаздывали. По местам!
Бедолага Балабанчик последним движением нацепил седые мохнатые брови и большой крючковатый нос и, путаясь в юбке, побрел к ступе.
Мотя зажмурился, будто собирался сигануть вниз головой с десятиметровой вышки, а плавать не умел, и дрожащей рукой нажал красную кнопку.
Занавес медленно поехал в стороны.
— Ни пуха… — начал Мотя, открыв глаза, да так и замер, потрясенный тем, что увидел… Сцена изображала зимний лес. Посреди леса лежали и красиво блестели в свете софитов осколки чего-то стеклянного.
Даже невооруженному взгляду было ясно, что это — бывший графин.
ВАСИЛИЙ БАЛАБАНОВ В РОЛИ БАБЫ ЯГИ
Оркестр заиграл громко и весело, зрители притихли в ожидании.
Меж тем сцена по-прежнему оставалась пустынной.
Наконец из правой кулисы, явно насильственно, выпихнули Бабу Ягу, в которой Михаил Павлович, сидевший на своем обычном месте в последнем ряду, с удивлением, но без труда признал Василия Балабанова.
Некоторое время Баба Яга затравленно озиралась и пятилась в кулисы. Но всемогущая рука дежурного режиссера выпихивала ее обратно… В конце концов, видимо сообразив, что отступать уже поздно да и некуда, злая старуха гикнула по-разбойничьи, лихо поскакала к авансцене и там, не сумев вовремя затормозить, с грохотом свалилась в оркестровую яму. Музыка смешалась и затихла, а юные зрители, думая, что так все и должно быть, восторженно захлопали в ладоши.
«Начало интересное…» — подумал Михаил Павлович и вздохнул: ему было жалко Балабанчика.
Баба Яга, кряхтя, вылезла из оркестровки и потребовала, потирая правую коленку:
— Ступу верните!
В ответ из оркестровки донесся рыдающий стон: музыканты хохотали, побросав инструменты.
Само собой, весело было всем, кроме горемыки Балабанчика. Он был зол и ругал себя последними словами.
«Трус и негодяй! — обзывал себя Балабанчик. — Ты что делаешь?! А ну, возьми себя в руки, балда рыжая! Ты актер или ты просто так?»
Надо сказать, что еще никто и никогда не отваживался разговаривать с Васькой Балабанчиком так решительно и дерзко — это было опасно, Васька был драчун и задира. И вот, услышав такое впервые в жизни, он почувствовал себя настолько оскорбленным, что весь его страх пропал.
Михаил Павлович сидел в последнем ряду и с интересом наблюдал, как Балабанчик превращается в Аню Елькину: вот уже нет походки вразвалочку легко, летяще, ну просто Анька Анькой, носится по сцене Балабанчик. И голос у него — звонкий, Анькин.
«Артист!» — одобрительно усмехается Михаил Павлович.
ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ РЕБЕНОК
А в это время Слава Зайцев бродил по коридорам, искал Аньку Елькину. Вообще-то он Елькину не любил: она была грубая, недисциплинированная. Но ведь Мотя велел ее искать — вот прилежный Зайцев и искал… На нем были валенки и набедренная повязка, он брел по коридорам и время от времени кричал:
— Елькина, выходи!
Но Анька не выходила, и в конце концов Слава о ней позабыл. Ему и своих забот хватало: он думал о старшей сестре Юле и ее знаменитом муже Павлике.
Вот уже две недели Юля плачет, с тех самых пор, как по телевизору начали показывать «Трех мушкетеров» — десять серий. Остальные-то зрители сидели у телевизоров, раскрыв рот от восхищения, и переживали за д'Артаньяна. Они и знать не знали, что это в кино он — храбрец и верный друг, это в кино он — «Один за всех, все за одного!». А на самом деле он совсем не такой!
«Я тебя люблю! — говорил он Юле. — Я без тебя не могу!»
Слава своими собственными ушами это слышал. А как позвали Павлика сниматься в кино, он все бросил и уехал, хоть и знал, что Юле одной будет трудно, потому что у нее скоро должен родиться ребенок… Все позабыл Павлик ради кино: и Юлю, и своего сына (тоже, между прочим, Павлика). Два года о нем ни слуху ни духу, а вчера — здрасьте! — приехал! И лицо у него было такое веселое и довольное, будто его тут ждали — дождаться не могли.
— А раньше где ты был?! — сердито бормочет Слава Зайцев, бредя по коридору. — Когда мы с Юлей Пашкины пеленки стирали! Когда вчетвером на мамину зарплату жили! Когда Пашка болел, плакал, и мы его день и ночь на руках носили по очереди?
Вчера Слава сразу сказал: «Ты к нам не ходи! Юля тебя видеть не хочет».
Вежливо очень сказал. Ведь все-таки Павлик взрослый, а со взрослыми надо разговаривать вежливо.
А Юля все плакала, плакала… Честно говоря, совершенно непонятно, из-за чего! Ведь очевидно, что Павлик — плохой, а плохих надо гнать в шею. Так нет, Юле плохого Павлика было жалко.
— Юля, это глупо! — сказал ей Славик, а Юля ответила:
— Ничего ты не понимаешь! — и залилась пуще прежнего.
В общем, Славик догадался, что надо быть начеку, а то Юля с плохим Павликом помирится. Девочки, они такие глупые, даже когда вырастут! Но Славик знает: если человек поступил плохо, его надо наказать, иначе будет несправедливо.
Слава Зайцев знает, что делать: он напишет на Павлика жалобу! Пусть его разберут на работе и объявят выговор! И премии лишат, вот! Слава не маленький, он понимает, что к чему! Все взрослые боятся, когда на них пишут жалобу.
И ни за что, ни за что Слава Зайцев не допустит, чтоб Юля помирилась с плохим Павликом!
ВОВА ГУСЕВ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЕЛКУ
Да, пора, пожалуй, вспомнить о бедном наказанном Вовке!
Мама заперла его на ключ, а одежду унесла к соседям. Думала — это сына остановит.
Между прочим, зря она так плохо о нем думала: не такой Вовка человек, чтоб подвести своих товарищей.
Вообще-то сегодня не Вовкина очередь играть Змея Горыныча. Но у того Змея, чья сегодня очередь, на час талончик к зубному врачу, вот Вовка и обещал его выручить, сыграть за него вторую елку. Поэтому теперь он с решительным лицом стоит на подоконнике и собирается с духом…
На Вовке — папин тулуп, папины валенки с калошами и огромный рыжий треух. В этой одежде папа ходит на рыбалку.
Вовка смотрит вниз и думает: «Хорошо, что я живу на втором этаже, а не, допустим, на пятом!»
С этим надо согласиться: ведь все-таки с пятого этажа спускаться по водосточной трубе немножко страшно. Да, честно говоря, и со второго тоже. А труба гладкая, скользкая…
«Ничего, — успокаивает себя Вовка. — Внизу вон какой сугроб…»
Дома вечером, конечно, будет скандал, нечего и сомневаться. А что делать? Не может Вовка не явиться на спектакль! И если некоторые этого не понимают, запирают на ключ и одежду прячут, то пусть им будет хуже! Ну, пора. Раз! Два…
— Мальчик! Ты что там делаешь?! — раздалось с улицы. — А ну прекрати хулиганить!
— Ды-ды-дышу свежим во-оздухом! — сердито ответил Вовка.
Беда с этими взрослыми, вечно они вмешиваются не в свое дело. Пришлось пережидать, пока бдительный прохожий скроется. А потом Вовка сосчитал до трех и храбро шагнул к трубе…
Он висел над улицей, обхватив холодное железо руками и коленками. Самое страшное осталось позади, теперь надо было только съехать вниз.
Но съехать Вовке не удалось: труба не выдержала его тяжести и грохнулась в сугроб…
Сугроб был толстый, мягкий — она совсем не пострадала при падении… К сожалению, Вовке повезло меньше: он-то грохнулся не в мягкий сугроб, а на железную трубу — и пребольно ударился коленом…
ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ
— Живо спрячься где-нибудь! — велел Мотя Балабанчику. — Чтоб Михаил Павлович тебя в таком виде не застукал!
Балабанчик ушел в дальние коридоры, где был свален старый реквизит и декорации от давних спектаклей. Он забрался в бутафорскую беседку, увитую плющом, — тоже бутафорским. Там было сумрачно, тихо, пыльные заросли бумажного плюща надежно скрывали Ваську от всего мира. Он сидел и размышлял, куда могла подеваться Анька, и вдруг в коридоре раздались шаги, а потом и голоса. Балабанчик затаился.
Голосов было два, причем один из них Балабанчик просто терпеть не мог, а от другого у него замирало сердце.
— А завтра? — умоляюще спросил голос, который Балабанчик терпеть не мог. — Ну, после елок… Тоже не можешь?
А голос, от которого у Балабанчика замирало сердце, ответил:
— Завтра? Могу. Только я еще не знаю, захочется ли мне идти с тобой на каток…
Балабанчик сидел в свой беседке тихо-тихо, только сердце в груди у него грохотало на весь Дом пионеров. Но те, двое, так были заняты своим разговором, что не слышали Балабанчикова сердца.
— А что будет, если…
— Что если?
— Если… если я тебя сейчас поцелую? — отважился голос, который Балабанчик терпеть не мог.
— Не знаю, — едва слышно отозвался голос, от которого у Балабанчика замирало сердце.
И вот внутри у Васьки Балабанова стало вдруг холодно, пусто и абсолютно тихо. Сердце смолкло. Балабанчик догадался, что сейчас умрет, и выскочил из укрытия. Длинный Вадик Березин из балета и самая красивая девочка в Доме пионеров испуганно уставились на него.
— Только попробуй ее поцеловать! — закричал Балабанчик и изо всех сил треснул влюбленного танцора по уху.
«ЧЕСТНОЕ СЛОВО» БЕЗ КРЕСТИКОВ
— Безобразие! — охнул директор Дома пионеров, возникая на месте побоища как бы из ничего. Он имел скверную привычку появляться именно там, где его меньше всего хотели бы видеть. — Елькина и Березин! Немедленно прекратите!
Увы, его услышала только Верочка и, конечно, сразу убежала, а Баба Яга продолжала яростно тузить Вадика.
— Обалдела?! — растерянно кричал Вадик, закрываясь руками. Он был человек воспитанный и, конечно, не мог себе позволить драться с женщиной.
— Елькина, я кому говорю! — повысил голос директор.
Баба Яга вздрогнула, будто просыпаясь.
— Ненормальная! — пробурчал Вадик. — Жалко, ты девчонка…
— Сам ты! — огрызнулась Баба Яга и, показав Вадику кулак, понеслась вдаль по коридору.
— Елькина, вернитесь! — приказал Сергей Борисович, да где там!
И не успел он выяснить, кто виноват, как из-за поворота вышли Мотя и маленький Овечкин. Они шагали к Сергею Борисовичу с лицами решительными и серьезными.
— Сергей Борисович, — произнес дежурный режиссер. — Нам надо с вами поговорить!
— По секрету! — значительно добавил Овечкин.
Надо напомнить, что в Доме пионеров еще никто никогда не хотел поговорить с директором по секрету. То есть обитатели Дома вообще старались избегать разговоров с Сергеем Борисовичем. Скучно им было с ним разговаривать, неинтересно.
— По секрету? — потрясенно переспросил директор. — Со мной?
— С вами! Только дайте слово, что ничего не скажете Михаилу Павловичу!
— Честное слово, — директор неуверенно кивнул.
— И без крестиков! — уточнил Валера.
— Хорошо, и без крестиков, — согласился Сергей Борисович, с испугом глядя первокласснику в глаза. Он уже догадался, что случилось что-то скверное.
— Пропала Анька Елькина… — Мотя вздохнул виновато. — Мы ее уже полтора часа ищем, а ее нет!
— Глупости! — отозвался Сергей Борисович. — Я видел ее только что…
Мотя и Валера переглянулись.
— А что она делала? — поинтересовались они хором.
— То, что она делает всегда: безобразничала! Дралась с Березиным, а потом сбежала.
— Куда? — грустно спросил Мотя.
Директор махнул рукой в сторону соседнего коридора.
— Эй! — сердито закричал дежурный режиссер. — А ну иди сюда!
Из-за поворота выглянула Баба Яга.
— Ну чего? — сказала она и нехотя побрела на зов.
Мотя содрал с нее нос и парик.
— Балабанов?! — не поверил своим глазам директор.
— Кто ж еще… — уныло подтвердил Мотя. — А Анька еще перед елкой пропала…
— Найдите ее, пожалуйста! — умоляюще попросил Овечкин. — Вы ведь мечтали в детстве следователем быть!
Сергей Борисович грустно взглянул на малыша и покачал головой:
— Мало ли кто о чем мечтал в детстве… Это никогда не сбывается!
Но ему никто не поверил, и каждый подумал: «А у меня обязательно сбудется!»
— Мы вас очень просим! — не отстал Валерик.
— Вся надежда на вас! — вздохнул Мотя. — Надо ее найти, а то, если Михаил Павлович узнает… Ему же волноваться нельзя!
— Вся надежда на меня? — растерянно повторил Сергей Борисович. С ним еще ни разу в жизни такого не было…
— На вас! — кивнули Мотя и Валерик. А Балабанчик и Вадик молчали и пепелили друг друга взглядами.
— Ну, ты у меня получишь сегодня! — шепотом пообещал Балабанчику Вадик.
— Ты у меня тоже!
— Хорошо, — сосредоточенно сказал директор. — Я найду ее! Рассказывайте, как это случилось…
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ НАЧИНАЕТ ВОЛНОВАТЬСЯ
Ах, Кузя, Кузя… Там, в прекрасном, заснеженном лесу, позабыв обо всем, мчишься ты по лыжне рядом с девочкой Катей и знать не знаешь, что дед твой покоя себе не находит…
Вот шагает он по Дому пионеров, ищет Аньку и Балабанчика, чтобы задать им головомойку за самоуправство, а сам думает, думает о тебе… Тревожно ему за тебя…
«Я берег тебя, мальчик, — думает Михаил Павлович. — Мне хотелось, чтоб жил ты радостно… Я скрывал от тебя печали, никогда ничего тебе не говорил о них, о твоих родителях, потому что ты был маленький. Но вот ты вырос… Почему ты сам ни о чем меня не спрашиваешь? Или ты просто забыл их? А Машенька… Ты помнишь нашу Машеньку? Или забыл и ее? Когда ты научился усмехаться так спокойно и равнодушно? Почему ты никогда не плачешь — ни от боли, ни от обиды, ни от жалости? Помнишь, я спросил тебя об этом, а ты усмехнулся: „А зачем? Слезами горю не поможешь“. И глаза у тебя были холодные, чужие. Что случилось с тобой, Кузя? Почему ты презираешь людей и любишь свою Машину?.. И что мне делать, как объяснить тебе?..»
Вот что думает Михаил Павлович, разыскивая Аньку и Балабанчика.
А их нет как нет…
«Попрятались, — догадывается Михаил Павлович. — Понимают, что попадет!»
Он подходит к своему кабинету, пытается открыть дверь, но ключ никак не может попасть в замочную скважину. Потому что в замочную скважину кто-то сунул свернутую в трубочку бумажку. Похоже, это записка.
Михаил Павлович лезет в карман за очками, читает.
«Михаил Павлович, простите меня! Я ужасно виновата, что не пришла и елка чуть не сорвалась. Но я не виновата, потому что так надо. Со мной ничего не случилось, все хорошо. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь, просто я срочно уехала в другой город. Я вам потом все расскажу, если вернусь. Не сердитесь на меня, потому что я по-другому не могла. Я решила, что теперь все пополам, чтоб вы не волновались. Анька».
На другой стороне бумажки уже совсем торопливо и неразборчиво написано было: «Никого не ругайте, никто ничего не зна…» А сквозь летящие Анькины буквы проглядывалась странная надпись, сделанная четким почерком директора Дома пионеров: «РОВЕРЕНО ЖАРНЫЙ КРА № 15 СЕНТЯ…»
Что еще за «жарный кра»? И как же Михаилу Павловичу не волноваться, если Анька ни с того ни с сего срочно уехала куда-то и даже не знает, вернется она оттуда или нет?..
Михаил Павлович заглянул в раздевалку: Анькины пальто, шапка и шарфик висели на вешалке…
Что ж, она неодетая уехала?!
ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МИЛИЦИИ!
— Значит, так! — произнес директор Дома пионеров, сосредоточенно глядя вдаль, словно видел сквозь стены. — Пусть каждый вспомнит все, что он знает о Елькиной. Когда и где видели ее в последний раз? Что она говорила? Какое у нее было настроение? Были у нее враги? И вообще, что она за человек?
Юные актеры, выслушав эти вопросы, переглянулись.
— Это что? — изумленно спросила Верочка. — Мы свидетельские показания давать будем?
Сергей Борисович кивнул и достал записную книжку. Выражение лица у него было странное, незнакомое, что все сразу заметили. Да и как же не заметить? Ведь лицо директора Дома пионеров обыкновенно выражало сердитую скуку и неудовольствие, будто он наперед знал, что ничего хорошего ждать от жизни не приходится… А теперь — никакой такой скуки, губы твердо сжаты, глаза серьезны и внимательны… В общем, в эту минуту директор Дома пионеров был похож не на директора Дома пионеров, а на отважного и проницательного сыщика Шерлока Холмса…
— Может, все-таки лучше милицию с собакой вызвать? — сказала Верочка, но «Шерлок Холмс» отвечал твердо:
— Обойдемся без милиции! Слушайте меня внимательно: в этом деле мелочей нет! И если даже вам и кажется что-то ерундой, мол, к делу не относится, вы все равно расскажите. Вполне возможно, что это-то и есть самое важное, ключ к делу! Все меня поняли? Рассказывайте.
Свидетельские показания Славы Зайцева: «Да ничего с ней не случилось. Сидит где-нибудь и радуется, что все из-за нее переживают. Она невоспитанная, не слушается старших и дерется. А еще девочка! А если некоторые люди не любят драться, потому что понимают, что кулаками справедливость наводить нельзя, то про таких она думает, что они трусы, и дразнится. Мне такие люди не нравятся. Какое у нее утром было настроение, я не знаю. Я вообще стараюсь не обращать на нее внимания».
Свидетельские показания Балабанчика: «Честное слово, я не знаю, где она, она мне ничего не говорила. Утром она была задумчивая, я сразу заметил, но не спрашивал почему. Она все равно бы не сказала, потому что скрытная. Она — настоящий друг, всегда придет на помощь. Она смелая, ничего не боится. И вообще, ей не повезло, потому что она хотела бы родиться мальчишкой».
Свидетельские показания первоклассника Овечкина: «Аня хорошая, за всех заступается. Она никогда просто так не дерется, а всегда по справедливости! Врагов у нее нету, а лицо утром было печальное».
Свидетельские показания Моти: «В последний раз я ее видел, когда дал ей графин. Она странная: то смеется, а то вдруг замолчит и ни с кем не разговаривает. С ней надо по-хорошему, потому что Анька — ужасно упрямая, любит вредничать. Но на самом деле она добрая».
Свидетельские показания Верочки: «Настроение у нее утром было обыкновенное. Она глупая, ведет себя как мальчишка, а девочек презирает, говорит про них, что они все дуры и что у них в голове одна любовь. Это она потому, что сама — некрасивая и мальчики не обращают на нее внимания. Кто в нее, в такую, влюбится!»
Свидетельские показания Вадика Березина: «Когда я уже переоделся и шел в гримировочную, то увидел, как Елькина бежит изо всех сил… Ну, будто за ней кто-то гонится. Только никакого графина у нее в руках не было…»
НЕЗНАКОМЕЦ В ЧЕРНЫХ ОЧКАХ
Вовка Гусев, в папиных валенках и тулупе, наконец дохромал до Дома пионеров.
На ступеньках, сунув руки в карманы, мрачно стоял высокий усатый человек, одетый не по-нашему. На нем была огромная, словно надутая, черно-оранжевая куртка, черные кожаные джинсы, заправленные в черно-оранжевые сапоги-луноходы. Лицо этого человека скрывали черные очки.
Мрачный этот человек выглядел загадочно, как космонавт, не хватало только гермошлема…
«Иностранец, наверно», — решил Вовка, проходя мимо.
— Эй, пацан, ты в Дом пионеров идешь? — спросил вдруг незнакомец на чистейшем русском языке.
Голос его отчего-то показался Вовке ужасно знакомым.
Вовка кивнул, а человек в черных очках обрадовался, наклонился к Вовкиному уху и прошептал:
— Окно на третьем этаже у пожарной лестницы знаешь?
Вовка, разумеется, знал.
— Слушай, пацан, открой его, а? А я тебе за это… — Незнакомец торопливо полез в карман и вынул пластик жевательной резинки в желто-зеленой обертке, явно заграничной.
«Все-таки иностранец, — подумал Вовка. — Сразу жвачку сует, привык, что у них там ничего бесплатно не делается… Интересно, где это он так говорить по-нашему насобачился? Может, шпион?..»
Вовка пристально посмотрел иностранцу в глаза, да только разве их разглядишь за темными стеклами… И вот что странно: все-таки лицо этого человека показалось Вовке Гусеву знакомым… Даже, можно сказать, родным! Такое симпатичное, смелое, усатое лицо. Хотя Вовка мог поклясться, что никогда в жизни с этим человеком не встречался… И в общем, сразу стало ясно, что человек с таким открытым, отважным лицом быть шпионом никак не может. Только непонятно, почему ему надо лезть через окно. Впрочем, мало ли что… Наверно, тут какая-то тайна…
У каждого человека есть своя тайна, Вовка это недавно понял. Может, это и не очень заметно, но если приглядеться, то обязательно поймешь: тайна есть у каждого. С некоторых пор Вовка этим и занимался: приглядывался к людям и открыл для себя много нового. Но Вовка был молчун и никому об этом не сказал. Ведь не всякий обрадуется, поняв, что ты кое о чем догадываешься.
— Ну, о'кэй? — спросил незнакомец на иностранном языке.
То есть просто окончательно запутал Вовку: иностранец он или нет?
На всякий случай Вовка ему тоже ответил по-иностранному:
— О-о-ол райт!
— Только никому ни слова! — попросил человек в черных очках.
Но этого он мог и не говорить.
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
— Вы, конечно, уже все убрали на сцене? — вздохнул Сергей Борисович.
— Не успел еще… — виновато отозвался Мотя. — Я сейчас мигом!
— Ни в коем случае! — всполошился директор. — Вы с ума сошли прибирать место преступления! Это же замечательно, что вы еще там ничего не трогали!
На месте преступления было пусто, только в кулисах кто-то выстукивал одним пальцем на рояле: чи-жик-пы-жик-где-ты-был… Но директор даже не сделал безобразнику замечания — некогда, некогда, делом надо заниматься…
Он тщательно исследовал место преступления. Там по-прежнему поблескивали осколки графина: мелкие, покрупнее, а горлышко осталось целым и лежало прямо в центре сцены.
«Это как же надо было грохнуть, чтоб оно туда отлетело… — покачал Сергей Борисович головой. — Явно, явно тут происходила борьба…»
— Сергей Борисович, — позвал Мотя из кулис, — глядите, что тут!..
Чуть в стороне от места преступления лежала пуговица средних размеров, светлая… Вырванная, что называется, «с мясом».
Сергей Борисович поднял ее, оглядел и вздохнул: в светлом костюме ходил только один человек в Доме пионеров — режиссер Еремушкин. А подозревать режиссера Еремушкина, согласитесь, просто нелепо!
А кого подозревать?
В том-то все и дело, что подозревать вообще некого!
Вот и разбирайся, Сергей Борисович: подозревать некого, а человек пропал!
ДИРЕКТОР ПОЕТ ПЕСНЮ
Бывает же такое: живешь-живешь да вдруг и вспомнится тебе ни с того ни с сего что-нибудь из давних, позабытых лет… Например, как мама сидит у окна, подперев щеку ладонью, и смотрит на улицу. То ли ждет кого-то, то ли просто задумалась… Когда это было? Когда-то… Давно-давно… И ничего не вспоминается больше, а только тихое, светлое мамино лицо…
А Сергею Борисовичу вспомнилась песня, которую он пел в детстве.
Коричневая пуговка валялась на дороге, Никто не замечал ее в коричневой пыли…Очень она тогда ему нравилась, там было про то, как один мальчик проявил бдительность и помог задержать шпиона…
«Как там дальше?» — стал припоминать директор.
Но мимо по дороге прошли босые ноги, Босые, загорелые, протопали, прошли!«Смотри-ка… Ведь помню! — удивился он. — А ведь, в сущности, совершенно дурацкая песня, и чего я ее пел?..»
И он тихонько запел дальше:
Ребята шли купаться веселою гурьбою, Последним шел Алешка и больше всех пылил. Нечаянно ль, нарочно ль — и сам не зная точно, На пуговку Алешка ногою наступил.Сергей Борисович оглянулся: не видит ли кто, как он вышагивает по коридору, отчаянно размахивая руками в такт песне… Слава богу, никого!
Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, Но вдруг увидел буквы нерусские на ней… К начальнику заставы ребята всей гурьбою Бегут, бегут дорогою — скорей, скорей, скорей!«Просто ерунда какая-то!» — нахмурился директор, но остановиться уже не мог и допел до конца: про то, как встревожился начальник заставы и велел седлать коней, как враг был пойман, а шпионская пуговка с тех пор хранилась в Алешкиной коллекции: «Ему за эту пуговку всегда большой почет!..»
«Вот какие глупые песни пел я в детстве… — покачал директор головой, да вдруг и вспомнилось, как зелено, как солнечно и счастливо там было, там, там, давным-давно, в детстве, когда он мечтал поскорее вырасти и ловить опасных преступников, чтоб не мешали жить хорошим людям. — Куда же все девалось? Почему я вырос такой несчастный?.. За что? Я учился хорошо, меня хвалили, мне грамоты давали… Почему, ну почему же, когда я вырос, все стало так плохо? Почему мне так скучно жить?..»
ЧЬЯ ЭТО ПУГОВИЦА?
Сергей Борисович стоял посреди коридора, сжимал в кулаке пуговицу от Михал-Палычева пиджака, и было ему так себя жалко, что хоть плачь!
Пожалуй, не появись Михаил Павлович, он бы и заплакал, потому что это только дети думают, что взрослые не плачут. На самом деле это не совсем так.
— А я вас ищу, голубчик, — сказал Михаил Павлович. — Где у нас висит… Такое, знаете ли… Не помню, как оно называется. Ну, картинка такая, на которой стрелочками показано, кто куда бежит, если загоримся…
— Это называется «План эвакуации детей и сотрудников в случае пожарной опасности», — уточнил Сергей Борисович и подумал с горечью: «Ну, конечно, разве можно со мной разговаривать о чем-нибудь таком… человеческом! Только о „Плане эвакуации“!» И сказал: — А висит он на каждом этаже. Ближайший — в библиотеке.
— Большое спасибо! — поблагодарил Михаил Павлович. — А местоположение пожарных кранов на нем указано?
— Разумеется, — кивнул директор, удивленно взглянув на Михаила Павловича. — А вам зачем?
— Просто так, — беззаботно отвечал тот. — Исключительно на случай пожара…
Он пошел, а директор стоял и смотрел ему вслед, да вдруг и вспомнил про пуговицу.
— Товарищ Еремушкин! — крикнул он. — Вы пуговицу потеряли!
— Какую пуговицу? — оглянулся Михаил Павлович, и только тут директор заметил, что все три пуговицы Михал-Палычева пиджака на месте…
— Извините… — растерянно сказал он. — Значит, это не ваша…
— Не моя! — подтвердил Михаил Павлович.
А чья?!
Кто затаился на пустой, темной сцене?
Кто заманил туда Елькину Аню?
И зачем?
Что там произошло?
И где она теперь?
Ответа не было. И все запутывалось тем, что никакие посторонние взрослые проникнуть в Дом пионеров не могли, ведь у входа на посту стоял грозный вахтер Мадамыч!
ПОЧЕМУ ОН СТАЛ ТАКИМ?
«План эвакуации» был большой, цветной. А под планом сидела и безутешно плакала Юля.
— Ну, будет, будет… — уговаривал ее Михаил Павлович. — Видишь, вернулся же.
— Не хочу его видеть… — плакала Юля.
— Ничего… — вздохнул Михаил Павлович. — Может, еще не поздно, может, поймет еще…
— Ну почему он стал таким, Михаил Павлович?.. — сквозь слезы спросила Юля. — Он же раньше другой был…
Юля и Павлик дружили с детства. Они вместе прибегали на репетиции, вместе уходили. Павлик писал Юле записки, если у них репетиции были в разное время. Куда он их прятал, уже известно… И был тогда Павлик веселый, добрый, мечтал стать актером…
Ах, как они гуляли допоздна по своей улице, заросшей липами, и мечтали о той поре, когда вырастут и всю жизнь будут вместе. Вместе жить. Вместе работать в театре.
Они кончили школу, поженились. Павлик поступил в театральное училище. А Юля пошла работать в библиотеку. Потому что стипендия у студентов маленькая, трудно на нее прожить. Вот Юля и решила, что, пока Павлик учится, она поработает. И Павлик согласился. Он поцеловал Юлю и сказал:
«Это только пока. Вот кончу училище, начну работать, тогда ты тоже поступишь!»
Но когда Павлик кончил училище, его пригласили сниматься в кино. Он поцеловал Юлю и сказал:
«Ну потерпи еще немного. Сама понимаешь, для меня это очень важно…»
От так и сказал: «для меня». Не «для нас». Что-то с ним случилось такое, непонятное… Он начал думать только о себе и о том, какой он замечательный и талантливый… Конечно, он знал, что у них с Юлей скоро родится сын, знал, что Юле трудно будет одной, но ему очень хотелось сниматься в кино…
А Юля обиделась на Павлика. Вот какая вышла история: Павлик приехал, а она его видеть не хочет!
— Звонил мне утром, — вздохнул Михаил Павлович. — В гости просился…
— А вы?
— Я… — Михаил Павлович нахмурился, покачал головой. — Сказал, чтоб ноги его тут не было. И на входе предупредил, чтоб не пускали… Пусть помучается…
СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ ИДЕТ ПО СЛЕДУ
Перед самым началом второй елки директора Дома пионеров разыскал Яша Айрапетян и сообщил следующее:
— Несколько дней назад Аня сказала мне, что за ней следит какой-то человек. Он везде ходит за ней и делает вид, что оказался тут совершенно случайно. Человек этот среднего роста, одет во все черное и говорит с едва заметным иностранным акцентом. В общем, ясно, что Аню Елькину похитили иностранные шпионы…
— Че-го? — потрясенно спросил Сергей Борисович.
В общем, ясно, что Яша Айрапетян совершенно заврался! Какие еще шпионы?! Зачем им похищать Аню Елькину? И потом, что же: одет шпион во все черное, а пуговица у него — светлая? Глупости какие! Так не бывает!
Нет, не поверил Сергей Борисович в сказку про шпионов. Но все-таки слова Айрапетяна чем-то его очень насторожили. Он и сам долго не мог понять — чем. Ушел в дальний коридор, где было пусто и тихо, и все думал, думал. И наконец додумался. Уж больно странно ведет себя Айрапетян в последнее время, вот в чем дело!
Ушел из кружка ракетостроения ни с того ни с сего.
Ни с того ни с сего записался в пионерский театр.
Зачем-то нынче утром запустил ракету.
И вот еще сочинил нелепейшую небылицу про шпионов. А зачем? Слишком много во всем этом загадочного, настораживающего, не так ли? Должна, должна быть причина!
«Начнем с самого последнего, — решил директор. — Айрапетян сочинил про шпионов. С какой целью?»
А чего тут долго думать! Чтобы сбить со следа!
«Но не Айрапетян же похитил Елькину! — испуганно думает Сергей Борисович. — Или… или он — соучастник?»
Директор представил себе Яшу, маленького, тихого, сутулого… Неужели Айрапетян что-то знает?
«Нет, надо немедленно как следует поговорить с этим загадочным мальчиком!» — решил директор и торопливо отправился за кулисы. Елка уже началась, в коридорах и в фойе было пусто. Сергей Борисович поспешил и вдруг чуть не растянулся на паркетном полу: у него развязался шнурок… Он наклонился, чтобы устранить этот беспорядок, да так и замер, чувствуя, что волосы у него встают дыбом…
На полу, на желтом паркете, темнели капли крови…
Они отпечатались не частой, но отчетливой цепочкой.
— Что это?.. Как это?.. — едва выговорил Сергей Борисович, поднимая голову и глядя вдаль, в коридоры, куда вели красные точки…
И вполне можно представить, что почувствовал он, увидя там высокую темную фигуру, которая, крадучись, удалялась…
— Стой! Стрелять буду! — с отчаянием крикнул Сергей Борисович, хотя стрелять ему было не из чего.
Темная фигура метнулась в соседний коридор и скрылась, пропала. Ни секунды не раздумывая, безоружный директор бросился за нею…
Часть вторая ПОЖАРНЫЙ КРАН № 1
И плакать, и смеяться, не замедлив,
Сумеет тот, кто юн и желторот.
Кто вырос, тот угрюм и привередлив,
Кому еще расти, тот все поймет…
Гёте. «Фауст»ГДЕ АНЬКА?
Где Анька, где Анька…
В дальнем, за тридевять коридоров, тупичке, под большим красным ящиком, на котором белыми буквами выведено: ПК № 1…
Ничегошеньки с ней как будто не случилось: руки целы, ноги целы и нет поблизости никаких иностранных шпионов… Стоит себе Анька под пожарным краном, в кругу, очерченном мелом, а рядом — небольшой черный ящик… На верхней его грани зловеще горит рубиновый глазок.
Стоять под пожарным краном, между прочим, не очень-то удобно: ящик висит в метре от пола, не выпрямиться под ним.
Но Анька стоит, подпирает ящик плечами. Так когда-то атланты держали небо…
Хорошо им было: стой на краю земли да держи на плечах синее небо с птицами и облаками… А Аньке каково? Она ведь знает, что актер имеет право не явиться на спектакль только в одном-единственном случае…
А она — жива. И все равно стоит…
Но в десять часов утра, когда вдали прозвенел последний, третий звонок, призывающий артистов и зрителей к началу, Анька Елькина села на корточки и горько заплакала…
АНЯ, ДАЙ ДУШУ!
Не могла Анька уйти из-под крана, понимаете? Потому что Кузя уже изобрел свою Машину!..
Разбитый графин, вырванная пуговица — это все пустяки. Просто Кузя гнался за Анькой, а она возьми да и растянись в темноте на сцене. Если б не это, ни за что бы он Аньку не поймал! А пуговицу она ему оторвала в знак протеста, когда большой, сильный Кузя запросто взял ее под мышку и потащил в дальние коридоры… С одной стороны — Анька, с другой — какой-то черный ящик, Анька тогда еще не знала, что это такое…
Аньке все-таки удалось вырваться, да только разве ей с Кузей справиться! Хорошо, пожарный кран оказался рядом: Анька подскочила, рывком открыла дверцу (благо, вместо пломбы была обыкновенная бумажка) и вцепилась в вентиль:
— Только подойди!
— Успокойся, — усмехнулся Кузя и сел на подоконник.
И осторожно-осторожно поставил рядом свой черный ящик — будто он был хрустальный… А потом, склонившись над ним, произнес почтительно:
— Ты хотела с ней встретиться. Она здесь. Она тебя слушает.
А дальше было вот что: черный ящик загудел, вспыхнув рубиновым светом, и неживой, железный голос зазвучал оттуда, четко и равнодушно выговаривая слова и будто вбивая после каждого гвоздь:
— Ты. Елькина. Аня.
Внутри у Аньки похолодело и замерло.
— Я. Машина. Он. Меня. Изобрел. Теперь. Мне. Нужна. Ты. Подойди.
«Как же!» — подумала Анька, вжимаясь лопатками в стену.
— Не бойся. Ты. Мне. Нравишься, — снова принялась вбивать гвозди Машина. — Я. Тебя. Выбрала.
— Куда?.. — переглотнув комок в горле, спросила Анька.
Мертвым голосом, услышав который однажды, хотелось убежать, позабыть его и больше никогда не вспоминать, Машина сообщила:
— Мне. Нужна. Твоя. Душа. Иначе. Не будет. Контакта.
— Она что, полоумная?.. — испуганно спросила Анька у Кузи.
Глаза у него стали круглые.
— Хочешь, чтоб она за такие слова по тебе молнией шарахнула?! зашептал он. — Она не полоумная, а просто еще не подключилась…
— Куда?
— «Куда-куда»! — передразнил Кузя. — Глупая ты все-таки! К людям, куда еще. А чтобы подключиться, ей нужна живая душа, понятно? Она ведь железная, а люди — живые… Между ними как бы пропасть, понимаешь?
Анька кивнула.
— Ну и вот… Нужен мост. Она выбрала тебя, твою душу. Почему-то именно ты ей подходишь для подключения, поняла?
— Поняла! — сверкнула Анька глазами. — Не дам!
— Глупо! — пожал плечами Кузя. — Она сделает людей счастливыми, она будет управлять ими мудро и правильно. Ты не думай, люди даже и не заметят, что что-то изменилось, им будет казаться, что они свободны. Я мог бы тебе объяснить подробно, но, во-первых, мне некогда, а во-вторых, ты все равно не поймешь…
Видно, он считал Аньку маленькой, глупой, этот самоуверенный изобретатель. И напрасно — все она поняла!
Эта железная Машина заставит людей жить по своим железным законам. Люди станут как роботы, но не догадаются об этом, будут думать, что они как люди…
— Дай. Душу. Так. Надо. За это. Проси. Что. Захочешь. Мы. Будем. Дружить.
Здорово придумано! Только Анька знает, как это называется ПРЕДАТЕЛЬСТВО. Анька, между прочим, в школе историю учит, знает про троянского коня… Да нет, тут даже еще страшнее: будто город в осаде и люди решили биться до конца, а кто-то один ночью взял и открыл врагу ворота!..
— Слушай, дай душу, не жадничай, — вздохнул Кузя. — Для науки же. Твое имя потом в историю впишут — золотыми буквами!
— Подавись ты своими золотыми буквами!
— Аня. Дай. Душу.
Анька даже не ответила, только показала Машине фигушку.
— Может, поменять на что хочешь? — предложил Кузя.
— Нет! — рассердилась Анька. — И отстаньте от меня.
— Ну, Елькина!..
— Ни за что! Сказала: нет — и все! Я знаешь какая упрямая! Со мной спорить бесполезно.
— Ой уж! — хмыкнул Кузя, и глаза его полыхнули желтым шкодливым огнем. — А хочешь, переспорю?!
— Мало каши ел!
— Поглядим! Спорим, что ты сойдешь с места раньше, чем я сосчитаю до трех!
— На что? — сразу загорелась Анька. — На Машину, спорим?
— Хорошо, — кивнул Кузя. — Если проспоришь, отдашь душу. Согласна?
И Анька, конечно, согласилась. Потому что решила, что с места не сойдет ни за что. Пусть Кузя и Машина хоть что делают, она будет стоять! Это ж недолго, он всего до трех считать будет. А Кузя поспешно, видно боясь, как бы Анька не передумала, достал из кармана мелок и очертил вокруг Аньки круг.
— Выйдешь за черту — проиграла! Начали! Ра-аз! — сказал Кузя.
Анька стояла не шелохнувшись.
— Два-а… — сказал Кузя. И спрыгнул с подоконника…
Анька стояла, смотрела, как он берет под мышку свою Машину и идет неторопливо по коридору…
— Между прочим, — оглянулся Кузя, — елка начинается через двадцать минут… Если хочешь, стой тут и жди, пока я сосчитаю до трех… Только я пока не собираюсь.
Он засмеялся, подмигнул Аньке:
— Посмотрела бы ты сейчас на свое лицо! Вот так-то, Елькина. Душу принесешь вечером. Перевяжи розовой ленточкой… А впрочем… — Кузя вернулся, поставил Машину у границы мелового круга. — К чему тянуть? Как только ты переступишь черту, она сама заберет твою драгоценную душу… Чао!
И Кузя ушел. Ему пора было в лес, кататься на лыжах с Катей.
А Аньке пора было со всех ног бежать за кулисы и переодеваться. Но она стояла в меловом кругу под пожарным краном, не мигая, глядела на страшный рубиновый огонь.
Машина тоже не мигала. Она молчала и караулила Анькину душу.
АНЬКИНА ОЧЕРЕДЬ
Вот будет техничка тетя Клава когда-нибудь прибирать в дальних коридорах и наткнется на Анькин скелет…
Конечно, сначала Аньку будут искать. Может, объявление дадут в газете:
Пропала девочка двенадцати лет, похожая на мальчика: волосы светлые, коротко остриженные, нос курносый, глаза темно-коричневые. Была одета в старую лыжную куртку, в джинсы с заплаткой на левом колене и огромные унты. Просьба к гражданам и организациям…
Да только откуда гражданам и организациям знать, где Анька…
А может, и не дадут никакого объявления. Мамин муж, Максим Петрович, даже, наверно, обрадуется. Ну и пусть, Аньке плевать!
А мама?..
Анька шмыгает носом, вытирает ладошкой слезы.
Скоро у мамы родится новая дочка, и она быстро забудет об Аньке…
«Пусть хоть сто дочек себе нарожает, мне-то что! — тоскливо думает Анька. — Ну и пусть я тут умру, ну и очень хорошо!»
Прямо против Аньки — большое заиндевевшее окно, оттуда тянет холодом, Анька ежится. За окном — пожарная лестница, по которой они сегодня залезли в Дом пионеров, чтобы не будить вахтера Мадамыча…
Как давно это было — сто лет назад.
За окном — белый, зимний день, за окном — большой, завьюженный Анькин город. Если спуститься по пожарной лестнице, спрыгнуть в мягкий сугроб и выбежать из дворика, то увидится низенькая деревянная улочка, стрелой летящая вниз. Вдоль нее — раскатанная ледяная дорожка. Редко кто из Анькиных друзей пройдет мимо, да только трудно удержаться на ногах — такая скорость! Малышня съезжает на портфелях — «паровозиком». Аж на соседнюю Фестивальную улицу выносит визжащий, хохочущий «паровозик»!
Фестивальная улица — широкая, длиннющая, с липовым сквером посередке, и тянется она от площади Первой пятилетки до самого леса… Очень хорошая улица, там многие из театра живут, кто в начале, а кто у самого леса. Анька, например, живет совсем рядом. Жила. До сегодняшнего дня.
Анька всхлипывает, с ненавистью смотрит на Машину.
И где-то там, в старых каменных улицах, есть трехэтажный домик из красного кирпича, красивый, узорный, как пряник. На втором этаже Пряника живут в тесной от книжных шкафов и Кузиных железок квартирке Еремушкины. Анька любит этот дом… Там старый тополь во дворе, он заглядывает в окна, шумит тихонечко листьями, прячет в могучей кроне солнце. Соседям Михаила Павловича это не нравится.
— Темно, — говорят они. — Спилить бы его к чертовой бабушке!
Хорошо, что люди они ленивые: все лето говорят, говорят, и уже соберется кто-нибудь наточить пилу, да вдруг наступает осень… Тополь облетает, двор становится желтым, просторным: листья шуршат под ногами и уже никому не загораживают солнца. И соседи забывают о тополе. А он стоит и копит силу для будущей весны.
Придет весна, растает снег, крутую улочку у Дома пионеров затянет травой, тополиный пух занесет двор дома-пряника, на Фестивальной зацветут липы… Ночью, если на цыпочках, чтоб не разбудить маму, пробраться на балкон, то стой и дыши сладким липовым ветром и гляди на дальние огоньки хоть до утра.
Но все это уже не для Аньки. Анькина судьба — торчать под пожарным краном.
«Вот возьму и вылезу! — с отчаянием думает она. — Ведь никто не узнает. Не поймет даже, что все уже не так… Почему я должна страдать за всех?»
Разве справедливо? Вон сколько людей на свете — больших и маленьких, умных и глупых, хороших и плохих — целое человечество! И все делают что хотят. Не знает занятое своими делами человечество, что в городе, заметенном большими холодными снегами, Анька Елькина страдает за него. И стоит ей сделать только шаг — и никаких СВОИХ дел у человечества не станет: Машина даст им железное счастье, железную мудрость и железный порядок. Наверно, все будут маршировать, как оловянные солдатики, и счастливо улыбаться, не замечая друг друга. Тоска какая!
Жалко Аньке людей. Но и себя жалко.
А если взять и закричать изо всей силы? Может, услышат, прибегут? Анька скажет, чтоб позвали Михаила Павловича, и все ему расскажет. Он обязательно что-нибудь придумает!
И тут Анькино лицо из несчастного превращается в упрямое и злое. «Вот, значит, ты какая! — думает о себе Анька. — Значит, пусть опять Михаил Павлович? А тебе себя жалко стало! „Все несчастья — пополам!“ говорила, а чуть что — сразу в кусты!»
Не нравится себе Анька. Анька себя презирает…
— Не будешь ты кричать и звать Михаила Павловича! — бормочет она сердито. — Поняла у меня? Теперь твоя очередь!
АНЬКА И КАРЛ ИВАНОВИЧ
Потом будут говорить, что первым Аньку нашел Айрапетян, но это не совсем так. Первым ее нашел Карл Иванович, вреднейший из сверчков.
— Сидишь, стало быть? — проворчал он. — Небось и помирать тут надумала? Не рановато?..
— Явился… — сварливо отозвалась Анька. — Раньше-то где тебя носило? Твое дело — приносить счастье, а ты?
Карл Иванович обиженно заскрипел.
Хорошо обыкновенным сверчкам, живущим в обыкновенных домах, а знаете, сколько терпения и трудолюбия надо иметь, чтоб быть сверчком Дома пионеров… Карл Иванович сверчал с утра до ночи, но разве это кто-нибудь ценил… Немудрено, что характер у него испортился и он стал брюзгой.
— «Приносить счастье»!.. — передразнил он Аньку. — Да разве на вас на всех напасешься? Беречь-то умеете ли? Да вы из самого счастливого счастья умудритесь несчастье себе устроить! А кто потом виноват? Карл Иванович! Зачем Кузю дразнила?! Мешал он тебе?
— Терпеть не могу! — сморщилась Анька.
— Да? — ехидно переспросил Карл Иванович и так взглянул на нее, будто хотел сказать: кое-что знаю, да не проболтаюсь!
А Анька почему-то отвела глаза и нахмурилась. Наверно, и на самом деле была у нее какая-то тайна, да только ясно: лучше не совать туда носу!
— Дурак он глупый, твой Кузя!
— Ты больно умная, — язвительно бормочет Карл Иванович. — Вот и сиди теперь тут со своей душой. Много ты в ней, в душе-то, понимаешь? От горшка два вершка, а туда же.
— Понимаю, — вздохнула Анька. — Мне бабушка Егорьева, еще когда я в первом классе училась, все объяснила…
Глаза у Аньки грустные: она опять вспомнила про папу. Про то, как он пропал, а Анька топала ногами и кричала, что хочет, чтоб он вернулся.
А смерти все равно было, чего Анька хочет, а чего — не хочет: папа не возвращался, а мама все плакала и говорила: папа умер. А как это — умер? Куда — умер?
Но никто Аньке не мог ответить. Одна девочка сказала, что человек умирает в землю и там его едят червяки.
Папу съели червяки? Глупость и неправда! Это не папу закопали, а того, ненастоящего!
Так бы Анька ничего и не поняла, если бы не бабушка Егорьева.
— Папа на небе, — сказала она.
Анька удивилась:
— В космосе?
— В космосе — космонавты! — строго объяснила бабушка Егорьева. — А папа — на небе. Так положено: человек помирает, а душа его летит на небо, к боженьке…
— Неправда! — надулась Анька. — Бога нет!
Она ведь тогда уже в школе училась и кое-что знала.
— Может, и нет… — вздохнула старенькая Егорьева. — Теперь многие так считают. А только душа все равно на небо летит, куда ж ей еще?
Тогда-то и узнала Анька про душу. Она есть у каждого человека, обязательно! И каждый человек должен всю жизнь о ней заботиться, а иначе она зачерствеет, станет злой. Конечно, слишком много с нею хлопот, но тут уж ничего не поделать: без души человеку никак нельзя. Если у человека нет души, то он не человек, а так — тело. Когда человек остается без души, это и называется «умер». Значит, его больше нет на земле, душа улетела на небо, там у нее другой дом, где она будет жить всегда. Она ведь бессмертная, душа!
Анька сидит под пожарным краном, думает о том, как летит где-то там, в холодной темной вышине, папина душа и тоскует по тем, кто остался на земле. И Анька по папе тоскует.
— Знаешь, какой он у меня! — говорит она шепотом Карлу Ивановичу. — Я все-все помню, ты не думай! Он мне всегда про все рассказывал: и как он в маму влюбился, и как потом ждал меня и очень боялся, что я буду какой-нибудь не такой… Потом-то выяснилось, что я именно такая, о какой он мечтал. А теперь он там. Скучает по маме и по мне — и ждет.
Карл Иванович слушает, пригорюнившись.
— А мама женилась на Максиме Петровиче. Понимаешь, что случилось?
ЗАСТУПНИК АЙРАПЕТЯН
Конечно, во время елки уходить из-за кулис нельзя. Но правильно заметил Сергей Борисович: попав в пионерский театр, примерный Айрапетян быстро научился нарушать дисциплину.
Будто кто прошептал Айрапетяну на ухо: иди и ищи ее! И все время подталкивал, торопил.
Можно сказать: ноги сами собой привели его к Аньке.
Она сидела, обняв коленки, думала о чем-то и Айрапетяна не сразу заметила — он тихо подошел, он вообще был тихоней.
Долго ли, коротко сидела она так, а потом подняла глаза и увидела: прямо против нее стоит человек небольшого роста — одет в мохнатую шкуру, до глаз зарос бородой, в руках старинное ружье. Посторонний, увидав этакое, перепугался бы до смерти, но Аньке-то ясно: это Айрапетян в костюме Робинзона.
Она ему ужасно обрадовалась и сказала:
— Чего приперся?
Такой уж у Аньки был характер.
— Тебя ищу, — ответил тихоня Айрапетян. — Кто тебя? Почему у тебя глаза заплаканные?
Зря он так.
— У самого у тебя — заплаканные! — рассердилась Анька.
За кого этот новичок ее принимает? Может, думает, что Анька, как девчонка, нюни распускает?!
— Если хочешь знать, я никогда не плачу!
— Неправда, — помотал головой Яша. — Ты плачешь. Только ты гордая и не любишь, чтоб об этом знали.
Ох, и получил бы он за такие слова, если б Анька могла до него дотянуться!
— А ну иди отсюда! — велела она. — Звали тебя?
— Нет, — сознался Айрапетян. — Я сам… — и тут заметил странный черный ящик. — Что это, Аня?
— Не подходи!
Яша послушно замер. Некоторое время он настороженно разглядывал Машину.
— Ты из-за этого тут сидишь?
— Не твое дело, — буркнула Анька. — Скажи лучше, елка сорвалась?
Ох, как она обрадовалась, когда узнала, что все в порядке и Михаилу Павловичу ничего не сказали!
— А ты еще долго тут будешь?
Анька не ответила. Но Айрапетян и сам догадался по тревожным ее глазам: долго…
— Тогда Михаил Павлович все равно узнает. И станет волноваться.
— А я ему письмо напишу, — печально отозвалась Анька. — Что я в другой город уехала. У тебя ручка есть?
Ручка у Яши была, а бумаги не было. Анька сорвала с красного ящика полоску бумаги, на которой написано было: «Проверено. Пожарный кран № 1. 5 сентября».
— Сунь ему в дверь, — велела она. — Только, чтоб никто не видал. И никому не говори, где я!
— Почему?
Но Анька опять не ответила.
— Айрапетян! — раздался вдали сердитый Мотин голос. — Где тебя носит?! На выход!
— Иди!
— А ты? — заупрямился Айрапетян.
— Мне нельзя.
— Я без тебя не пойду, Аня…
— Хочешь, чтоб я тебя стукнула? — прищурилась Анька.
— Все равно не пойду.
— Хочешь, чтоб елка сорвалась? Чтоб Михаил Павлович волноваться начал?!
Яша и сам понимал, что она права. Перед тем как убежать на сцену (зрители ждут, пора, пора!), он спросил робко:
— Можно, я еще приду, Аня?
А когда пришел, то доложил, что к розыскам подключился Сергей Борисович. Он ведет себя как настоящий Шерлок Холмс и, судя по всему, очень скоро найдет Аньку.
— Айрапетян! — взмолилась она. — Придумай что-нибудь! Нельзя мне, чтоб меня находили! Знаешь, что случится, если я отсюда уйду?
— Что?
Анька молчала. Но, повторяем, Яша был догадлив. И конечно, и сам понял: случится ужасное…
Вот и пришлось Яше Айрапетяну сочинить историю про иностранных шпионов, чтоб сбить директора со следа.
ПРО МАШЕНЬКУ
Михаил Павлович отправился на третий этаж, туда, где, если верить «Плану эвакуации в случае пожарной опасности», находился загадочный пожарный кран № 1…
Михаил Павлович вовсе не был уверен, что найдет там Аньку, но навстречу ему попался Айрапетян, который в одной руке держал стакан с компотом, а в другой кусок хлеба и котлету и все время оглядывался, будто проверял, не следят ли за ним.
— Простите… — испуганно пробормотал он, налетев на Михаила Павловича. — Вы не думайте — это я себе компот несу.
Для убедительности Яша поспешно отпил из стакана.
— А я и не думаю, — успокоил его Михаил Павлович, уже не сомневаясь, что Анька где-то близко. И спросил как бы между прочим: — Ты случаем Анну не видел?
У Айрапетяна был полный рот компота, поэтому он молчал и только усиленно мотал головой. И при этом поспешно отступал. Уже издалека он спросил настороженно:
— А что случилось, Михаил Павлович?
— Абсолютно ничего! — весело отвечал Еремушкин. — Тишь, гладь и божья благодать.
Это у Машеньки, Кузиной бабушки, была такая поговорка, и, неторопливо шагая по длинному коридору, Михаил Павлович тихонько улыбался и думал о Машеньке и о той поре, когда она еще не была Кузиной бабушкой…
Она еще совсем девчонкой была, Машенька, радистка партизанского отряда, а младшего лейтенанта Еремушкина направили туда обучать партизан своему опасному ремеслу: Еремушкин был сапером. Длинный, худющий, с пушком на верхней губе — так выглядел он в ту далекую непозабытую пору. Не отличить от Кузи, только форма военная.
Впервые он Машеньку у костра увидал и спросил покровительственно, свысока, то есть так, как и положено спрашивать боевому офицеру восемнадцати лет у пигалицы с косичками, неизвестно зачем оказавшейся на войне:
— Воюем, стало быть? Ну и как у вас тут?
Он ведь тогда еще не знал, что Машенька неделю бродила по лесу, тащила на себе рацию, а немцы за ней охотились. Так уж вышло: самолет, в котором летела Машенькина группа, подбили над линией фронта, и прыгнуть-то все успели, но опустились, можно сказать, прямо немцам в лапы, только Машенька и уцелела.
Конечно, ничего этого Машенька молоденькому младшему лейтенанту не рассказала, а на вопрос: «Как у вас тут?» — ответила, улыбнувшись:
— Тишь, гладь и божья благодать…
Сколько лет прошло, а Михаил Павлович все помнил, помнил ту Машенькину улыбку…
«Михаил Павлович, расскажите про войну!» Но сколько ни упрашивали, он никогда не рассказывал. Знал: им про подвиги подавай да про то, какой ты в ту пору был героический и отважный. А Михаил Павлович всю войну боялся.
За маму боялся и за братика, оставшихся в Москве.
За друзей Севу и Юрика, тоже где-то воевавших.
А потом еще и за Машеньку…
А после войны не осталось у него ни мамы, ни братика, ни друзей. Только Машенька. Но об этом Михаил Павлович рассказывать никому не хотел. Разве только Аньке немножко.
Потому что — необъяснимо — но Анька была удивительно похожа на Машеньку… Ну то есть это совершенно непонятно, но, когда Анька улыбалась, Михаилу Павловичу хотелось закрыть глаза. Та, давняя, юная Машенька смотрела на него, только без косичек.
Он всегда мечтал о внучке, именно о такой! Ничего, что с ней забот не оберешься, с упрямицей. Ничего, что она больше походит на мальчишку, вечно попадает в истории. Ничего, ничего, это пройдет!
— Когда? — с интересом спросил с потолка Карл Иванович, он любил подслушивать чужие мысли.
А Михаил Павлович улыбнулся:
— Думаю, очень скоро.
— Прямо, потом направо, — подсказал сверчок.
Так оно и было: свернув из коридора в тупичок, Михаил Павлович обнаружил Аньку. Она сидела на полу и не сводила сердитых горестных глаз с некой черной коробки, на которой горел красный огонек. Михаил Павлович сразу догадался, что это такое. Ах, Кузя, Кузя…
— Бедная ты моя Анька… — вздохнул Михаил Павлович и шагнул к проклятой Машине.
— Не трогайте! — строго сказала Анька. — И пожалуйста, не волнуйтесь — сейчас моя очередь!
ПОГОНЯ
Вам-то хорошо, вы-то уже знаете, где Анька, а Сергей Борисович мчится по коридорам за человеком в черном…
Честно говоря, было ему очень страшно: роста Сергей Борисович среднего, а человек в черном вон какой дылда! Поди угонись за ним. И коридоры вокруг какие-то совсем незнакомые, директор еще никогда не заходил так далеко. А тот, за кем он гнался, все сворачивал да сворачивал, запутывая след. Бегал он быстро, и вот, когда Сергей Борисович свернул в очередной коридор, то никого не увидел. Человек в черном пропал, исчез. Вот и шаги его стихли вдали. Директор остался один посреди незнакомых коридоров. Он сбавил шаг, прислушался. Тишина. А местность вокруг пошла уж и вовсе дикая: какая-то бутафорская беседка, увитая плющом, рядом королевский трон, весь в пыли и паутине. На спинке трона, на ржавом гвозде, висела помятая королевская корона, а в дальнем темном углу, чуть скособочившись, стоял средневековый рыцарь из папье-маше.
Если бы на нагруднике рыцаря не было выцарапано чьей-то искусной рукой «Васька — дурак», можно было подумать, что тут лет сто не ступала нога человека. Но сто лет назад слово «дурак» писалось несколько иначе. Вот так: «дуракъ».
Можете себе представить, каково было Сергею Борисовичу: Аня Елькина пропала, в коридорах прячется человек в черном. «Я должен его поймать, сказал себе Сергей Борисович, — и спасти Елькину. Вперед!»
И он снова побежал, чутко прислушиваясь, не раздастся ли где шорох, шаги. Но тишина, тишина стояла вокруг, жуткая, нежилая… Долго ли, коротко бежал он, но вдруг остановился как вкопанный: беседка, увитая плющом, фанерный королевский трон, рыцарь. На нагруднике выцарапано: «Васька — дурак». Что за чертовщина?
Сергей Борисович поспешно прошел мимо, свернул в другой коридор и побежал.
Увы, через десять минут он очутился у беседки, и рыцарь «Васька дурак», кажется, встретил его торжествующей ухмылкой.
Директор с ужасом понял, что заблудился и ходит по кругу.
ЧЕЛОВЕК В ЧЕРНОМ — КТО ОН?
Пока Сергей Борисович отважно преследует неизвестного преступника, надо объяснить кое-что.
Дело в том, что никакого преступника нет и не было. Так уж вышло, что в дальних коридорах директор увидел…
Да вы и сами, наверно, уже догадались, что это был Павлик, знаменитый актер, которого не пустили в Дом пионеров и который решил воспользоваться пожарной лестницей. Путь этот был отлично ему знаком — с детства, с той не очень далекой поры, когда Павлик еще не был знаменитым актером, а бегал в Дом пионеров на репетиции. То есть был он тогда самый обыкновенный мальчишка, никакой славы у него еще не было, и черные очки он не носил (чтоб почитатели на улице не узнавали). И Юля его тогда любила.
Ах, Юлька, ну чего ты дуешься! Теперь, когда Павлик стал такой знаменитый, кучу денег заработал, жить бы да радоваться привалившему счастью. Павлик лез по пожарной лестнице и придумывал свой разговор с Юлей: «Наймем Пашке няньку, а ты иди учись, ты ж давно мечтала. Пожалуйста — деньги есть, никаких забот, проси что хочешь! Все у нас теперь будет о'кэй, Юлька, может, даже в Москву переедем жить. Со мной не пропадешь! Кончай дуться, Юлька, глупо же это, пойми!»
Павлику вдруг захотелось взглянуть на родную Фестивальную улицу: там, там, среди лип, когда-то бродили они с Юлей. И именно там, однажды, собравшись о духом, он Юлю поцеловал. Знаменитый актер вытянул шею, но крыши загораживали Фестивальную, он торопливо полез наверх. Как там? Все ли на месте?
На месте все было: дома стояли, как положено, в ряд, в сквере дремали белые, все в инее, липы, а в конце улицы темнел, как и в прежние времена, лес… Будто на ладони лежала перед Павликом улица, он смотрел, смотрел на нее. А улица на него не смотрела, не хотела родная улица видеть знаменитого Павлика…
«Сговорились они все, что ли?» — расстроился знаменитый. Никто не хотел его видеть: ни Юля, ни Михаил Павлович… А Юлин брат и вовсе вчера сказал, что милицию вызовет, если Павлик еще придет!
«Вот помиримся с Юлькой, я тебе покажу! — грозно думает Павлик. — Ты у меня узнаешь, как близких родственников в дом не пускать! Ничего! успокаивает себя знаменитый. — Приду к ней в библиотеку, уж тогда мне никто не помешает! Только бы Михаилу Павловичу на глаза не попасться…»
Говорят, люди к старости делаются мягче. По Михаилу Павловичу что-то этого не заметно. Как сказал два года назад: «Павел, то, что ты собираешься сделать, — предательство!» — так и стоит на своем… Слишком уж строг он, Михаил Павлович Еремушкин. Строг и старомоден, вот что!
В детстве-то Павлик этого не понимал, все, что говорил и делал Еремушкин, казалось ему замечательным. Но теперь Павлик вырос, теперь-то он понял: жить так, как учил Михаил Павлович, невозможно.
Долг, честь, благородство!.. Глупости какие! Живи Павлик так, как учил Михаил Павлович, где бы он сейчас был? Работал бы в каком-нибудь захолустном театрике и получал сто рублей в месяц… А на сто рублей попробуй проживи, какой уж тут долг, какая честь… Все-таки Михаил Павлович — идеалист, не знает жизни.
Только бы, только бы Павлику с ним не встретиться. Потому что Михаил Павлович хоть и идеалист, а рука у него тяжелая, Павлик знает… Однажды, давно, они гуляли — Павлик, Кузя и Михаил Павлович. Кузя был еще совсем малышом, Павлик — тоже не очень взрослым, Еремушкин угощал их мороженым и рассказывал о поэте Пушкине. Дело было в городском саду. Михаил Павлович и Павлик настолько были увлечены разговором, что ничего вокруг не замечали, а Кузя, который по малолетству многого в разговоре не понимал, глазел по сторонам. Он-то и дернул Михаила Павловича за рукав:
— Деда, а там дяденька тетеньку бьет.
Так вот, с тех пор десять лет прошло, а Павлик все равно отлично помнит, что Михаил Павлович сделал с тем дяденькой.
Крутой человек Михаил Павлович! Кто его знает, что ему придет в голову, если он увидит, что Павлик все-таки явился. Между прочим, окно все не открывали, неужели мальчишка забыл?..
«Ерунда какая! — подумал Павлик. — Лезу, как воришка… Рассказать кому — не поверят!»
Он начинал мерзнуть. Постучать, что ли? Бесполезно, кто сейчас будет торчать в дальних коридорах?
…Но нет — только знаменитый стукнул в окно, как с той стороны кто-то подошел — и открыл!
— Спасибо! — поблагодарил Павлик, из-за клубов морозного пара еще не разглядев, кто это. Но потом-то клубы рассеялись…
— Михаил Павлович? — испуганно пробормотал знаменитый и поспешно шагнул назад.
В последний миг Михаил Павлович все-таки успел поймать его за воротник куртки.
СУП С КОТОМ
Знаменитый актер лежал поперек подоконника: голова тут, а ноги в «луноходах» — торчат над заснеженной улицей…
А Михаилу Павловичу, видно, казалось, что Павлик все еще падает… Он мертвой хваткой держал его за ворот, а в груди у него больно колотилось сердце. Последним, отчаянным рывком он втащил Павлика в помещение и побелел как мел.
Знаменитый встал на трясущихся ногах, оглянулся назад, в холодную пустоту, откуда его только что вытянули.
— Уйди с глаз! — приказал ему Еремушкин, и знаменитый Павлик, опустив голову, побрел по коридору…
А Михаил Павлович неверно шагнул от окна, прислонился к стене и замер, боясь расплескать горячую, черную боль слева, в груди.
— Михаил Павлович! — шепотом позвала Анька.
— Ничего, — сквозь зубы ответил он. — Давай-ка я маленько посижу с тобой рядышком…
Осторожно, по стенке, опустился он на пол рядом с Анькой и закрыл глаза.
— Только не умирайте, пожалуйста! — закричала Анька. — Я вас очень прошу! — и, обхватив Михаила Павловича за шею, заплакала.
— Ну и глупая ты у меня… — с трудом выговорил он. — Зачем же я буду умирать, вот выдумала…
Он открыл глаза и улыбнулся Аньке. И подумал: «Надо менять работу. А то, и вправду, помру однажды у них на глазах…»
Анька ревела уже в голос.
— Да не помру, не помру, — пообещал Михаил Павлович, прислушиваясь, как боль отпускает понемножку. — Подожду уж, пока ты вырастешь.
Анька стихла.
— А потом? — спросила она настороженно.
Михаил Павлович молчал. А что он мог ответить?
— Ну, потом… — вздохнул он печально. — Суп с котом!
И Анька снова отчаянно заревела.
— Не хочу! Не хочу! Не хочу! — твердила она. — Хочу, чтоб вы были всегда!
— Ну перестань, — попросил Еремушкин. — Ревушка… Прилично разве ходить мне в мокром пиджаке? Ладно, никогда не умру.
Они долго сидели рядышком в меловом кругу под краном: Михаил Павлович — приходя в себя, а Анька — уткнувшись носом ему в плечо и тихонько всхлипывая.
— Очень больно? — спросила она шепотом.
— Терпимо.
— А тукает?
Михаил Павлович расстегнул пиджак, прижал Анькину ладошку к груди.
— Тукает! — успокоилась Анька. — А когда оно болит, то это как?
— Коленки разбивала?
— Ну.
— И как?
— Сначала — очень больно. А потом — саднит только.
— Вот и у меня, — сказал Михаил Павлович, — саднит только…
НЕКОТОРЫЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЖИЗНИ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА
— Ну, а кровь? — спросят некоторые, не очень догадливые.
На это надо ответить:
— Ну а Вовка? Забыли вы разве про него?!
Вовка едва дохромал до переодевалки, плюхнулся на диван и, шипя от боли, закатал штанину.
— Здоровски! — сказал Балабанчик с восхищением и жалостью. — Кто тебя?
Вовка вкратце изложил.
— Как же ты теперь Горыныча играть будешь? — озаботился Васька. — Там вон сколько бегать и прыгать надо! А у тебя кровь все идет… Гляди, весь пол закапал!
Вовка и сам не знал, что делать. А больно было ой как!
— День какой-то, — вздохнул Васька, — непутевый! Всем не везет. И Анька пропала…
— Ка-ак? — раскрыл глаза Вовка. — Ку-куда?!
— Никто не знает! — таинственным шепотом доложил Балабанчик. Ищем-ищем! Даже директор этим делом занимается. Только пока ничего.
В ответ Вовка сказал речь: мучительно застревая на каждом слоге и половину не договаривая, он ругал Ваську и весь Дом пионеров, будто это они были виноваты.
— Мо-о-может, она ле-ежит где и у-у-у-у… Я по-о-ойду ее и-и-и-и…
— Куда ты пойдешь? — махнул рукой Балабанчик. — Погляди на себя!
— Пойду! А вы-ы все-е…
— Живо одевайся! — крикнул Мотя, влетая, и замер. — Это что?
— Ни-и-ичего! — сердито крикнул Вовка. — Анька где-е?
Мотя вздохнул.
— Еще не нашли.
— Я и-и-искать по-по…
— Васька! — хмуро решил Мотя. — У тебя сегодня бенефис! Будешь играть Горыныча! А ты — сиди, я тебя «зеленкой» помажу! И забинтовать надо. Только чтоб Михаил Павлович не увидел.
Мотя унесся за медикаментами. Вовка, насупленный и тревожный, наставлял Балабанчика:
— Бе-бе-береги хвост! Оборвут.
Это было главное в роли Змея Горыныча. Слов у Вовки почти не было, зато какой у него был хвост!
Будь проклят тот художник, который его придумал! Ему, видно, и в голову не приходило, сколько мучений придется вынести бедному чудищу из-за этого хвоста.
Частенько уже перед самым выходом на сцену обнаруживал его горемыка Горыныч привязанным к ножке рояля… А когда выбегал он на сцену и извергал пламя, мальчишки из балета тишком утягивали хвост в кулисы и цепляли за гвоздик, нарочно вбитый там для этой подлой цели. А ежели у тебя хвост зацеплен за гвоздик, какой же ты Горыныч? Никакой! Одни слезы. Потому что в самый разгар боя либо хвост у тебя оборвется на радость всему зрительному залу, либо сам ты грохнешься.
«Горыныч, на выход!» — командовал дежурный режиссер.
Вовка напяливал огнедышащие головы и, нервно прижимая к груди свой многострадальный хвост, с ревом устремлялся на сцену. «Огне-ем спа-алю-у!» — жутко выл он. Юные зрительницы при этом вжимались в кресла, а дошкольники начинали плакать и проситься домой… Вовка же, занимаясь всевозможной разрушительной деятельностью, ни секунды не был спокоен, косил глазом в кулисы, где слонялись в ожидании своего выхода мальчишки из балета. А вероломный Добрый Молодец, войдя с ними в сговор, нарочно загонял Вовку на опасное пространство возле гвоздика!
Самое обидное было вот что: этого хилого Доброго Молодца Горыныч Вовка мог положить на лопатки мизинцем левой руки. Но по пьесе положено было ему погибнуть трусливо и бесславно — и Вовка погибал… И, уже распластавшись по сцене без признаков жизни и выключив лампочки во всех трех головах, он с тоской наблюдал, как нахальные танцоры, пользуясь его мертвой неподвижностью, ползут по-пластунски среди ватных сугробов, чтобы завязать хвост тройным морским узлом… Придется, ох придется Вовке распутывать его весь перерыв!
В общем, одно название, что Горыныч, а если разобраться, такой же бедолага, как все.
НОВАЯ БЕДА
Как известно, Мотя отправился за медикаментами, чтобы перевязать раненого Вовку, но на полдороге его нагнал Айрапетян:
— Тебя к телефону срочно!
Звонила младшая сестра Светка.
— Шлушай, Мотька, — сказала она. — К нам шейчаш приходила тетенька иш школы и тебя шильно ругала…
Мотя замер.
— Шлышишь? — спросила Светка.
— Слышу…
— А мама ей шкажала, что она на тебя вли-я-ни-я не имеет. Вы, шкажала, шражу идите в этот их театр и жалуйтешь там, а меня он не шлушаетша…
— А она? — напряженно поинтересовался Мотя.
— Я ж тебе то и жвоню, што она к вам идет… Ты шкорее шпрячьша!
Пятилетняя Светка была верным Мотиным другом, всегда за него заступалась.
— Спасибо, Светлана, — удрученно сказал Мотя. — Что же делать?
— Шам виноват! — ответила Светка. — Жачем влюблялша и жапишки на уроке пишал?!
Мотя вздохнул и положил трубку. Ужасный, ужасный был день! Только этого еще не хватало: классная руководительница идет в Дом пионеров жаловаться. И именно тогда, когда решили Михаила Павловича не волновать.
Мотя хорошо знал свою учительницу и понял отчетливо: Михаила Павловича надо спасать!
Но как?
НА ПОИСКИ АНЬКИ
Вовка, прихрамывая, брел по коридорам. Пропала Анька… Куда? Почему? Где ее искать? Непонятно… Но Вовка Гусев — настоящий друг, он облазает весь Дом пионеров, он найдет ее! И вдруг он стал как вкопанный.
Окно! Окно-то усатому незнакомцу он позабыл открыть! Сколько уж времени прошло, поди, он там уж к лесенке примерз!
Скорей! Вовка захромал, заспешил…
За его спиной вдруг послышался торопливый топот. На всякий случай Вовка свернул в соседний коридор и вжался в стенку: Мотя не велел ему попадаться никому на глаза, чтоб не обнаружили подмены.
Мимо промчался директор Дома пионеров и скрылся в дальних коридорах. «Ну и ну! — удивился Вовка. — Куда это он? Будто гонится за кем-то…»
Переждав, когда топот стихнет, он двинулся дальше и вдруг — лицом к лицу — столкнулся с Михаилом Павловичем.
Это была катастрофа!
Михаил Павлович удивленно посмотрел на Вовку, а потом на часы.
— Разве елка еще не началась? — спросил он.
— На-на-на… — испуганно отозвался Вовка.
Ему хотелось зажмуриться. Потому что ведь ясно, какой будет следующий вопрос: если елка уже началась, то почему он, Вовка, бродит по коридорам вместо того, чтоб быть там, где ему положено, — за кулисами, одетым в костюм Змея Горыныча и готовым к выходу?
И что Вовка Михаилу Павловичу ответит?
Но Михаил Павлович больше Вовку ни о чем не спросил, только посмотрел пристально и вздохнул.
— По коридору прямо и направо, — показал он и ушел.
А Вовка стоял и растерянно глядел ему вслед.
Во-первых, почему Михаил Павлович Вовку не ругает? А во-вторых, откуда он знает, что Вовке надо именно прямо и именно направо, туда, в тупичок у пожарной лестницы? Может, он и про усатого знает?.. Странно, странно все и непонятно!
Впрочем, размышлять об этом было некогда. Вовка торопливо захромал по коридору, а потом свернул направо.
Свернув направо, он обнаружил в тупичке пропавшую Аньку.
ДРУЗЬЯ ССОРЯТСЯ НАВЕКИ
— Во-от ты где! — радостно крикнул Вовка. — А все го-го-го…
Он перевел дыхание и договорил почти не заикаясь:
— Что ты пропала!
При Аньке Вовка Гусев старался не заикаться, потому что она этого терпеть не могла и очень сердилась, обвиняла Вовку в том, что у него силы воли нет. «Вот скажи себе: „Больше никогда ни за что заикаться не буду!“ и не заикайся, ясно тебе!» — требовала она. Легко ей так, а если у Вовки Гусева в горле застрял какой-то треугольник и мешает разговаривать?
Ну, то есть Вовка отлично понимал, что на самом деле никакого треугольника у него в горле нет, а только кажется. Но этот проклятый треугольник, хоть и казался только, а разговаривать все равно мешал, да разве упрямице Аньке объяснишь такое? Но вот что удивительно: при Аньке Вовка Гусев почти не заикается…
Он оглядывает непонятный черный ящик, Аньку, которая сидит на полу, обняв коленки… Что-то случилось, это же ясно!
— Кто тебя?! — гневно спрашивает Вовка. — Говори! Он у меня получит!
— Кузя…
Другу все можно рассказать, он поймет. И Анька уже открывает рот, чтоб все-все рассказать Вовке Гусеву, может, вместе они что-нибудь да и придумают…
Но Вовка хмурится, вздыхает, не глядит в глаза.
— Ты чего?
— Думаю, — сознается Вовка, — сказать тебе одну вещь или нет…
— Скажи! — требует Анька: она очень любопытна.
— А ты не обидишься?
— Нет! — заверяет Анька. — Ну, говори!
— Знаешь… — неуверенно мямлит Вовка, и по всему видно, что говорить ему не хочется. — Тут такое дело… Конечно, ты можешь этого еще не понимать…
— Ну?! — торопит Анька, умирая от любопытства.
— В общем… Ты только не обижайся… Просто ты в него влюблена!
— В кого? — Лицо у Аньки перепуганное.
Вовке ее жалко. Но он — настоящий друг, он должен все Аньке объяснить, раз она сама еще не понимает!
Недавно он прочитал одну интереснейшую и умнейшую книгу (у мамы под подушкой нашел). Называется «Психология подростка». Читается взахлеб, как «Три мушкетера»! Вовка столько нового открыл для себя, что сначала был просто сам не свой.
Например, оказывается, что все люди в их с Анькой возрасте обязательно влюбляются, можете себе представить! Ну, так положено, и никак без этого нельзя. А влюбившись, они и сами не понимают, что с ними происходит. Да и откуда им знать, ведь с ними такое впервые…
Взрослые, так те сразу догадываются, им не впервой. Ну, они сразу начинают бегать на свидания, дарить цветы и, хотя и так все понятно, на всякий случай еще и объясняются друг другу в любви.
У детей же все не так… Допустим, скажет мальчик девочке: «Приходи на свидание»… А девочка знаете что в ответ ему? «Дурак!» И даже может портфелем по голове стукнуть! Сами понимаете, что, если тебе дали портфелем по башке, дарить цветы просто глупо!
А уж в любви объясняться… Пусть ненормальные объясняются! Стыдно, неужели непонятно? Как это — взять и сказать: «Я тебя люблю». Лучше уж, как некоторые, нарисовать любимую девочку в тетрадке для ролей и подписать: «Вера — дура»… Или, как некоторые другие, ходить и твердить: «Я его терпеть не могу!»
В общем, ясно, что тогда, четыре года назад, когда клялись не влюбляться, были они маленькие и глупые… Никуда им от этой любви не деться… Вот только как же — дом у моря?.. Может, все-таки как-нибудь можно, чтоб и дом у моря и влюбляться?
— В кого! — переспрашивает Анька уже грозно.
— В кого, в кого… В Кузю, — говорит Вовка Гусев.
Обратите внимание: он совершенно не заикается и ждет, что Анька его за это похвалит. Но напрасно он ждет.
— Ты что — дурак! — Анька сверкает глазами. — Да я его терпеть…
— Это тебе только кажется, — перебивает Вовка. — А на самом де…
Но договорить он не успел: Аня Елькина изо всей силы двинула ему локтем! Вовка лязгнул зубами и смолк.
— Еще хочешь?!
— Хо-хо-хо… — От обиды у Вовки опять встал поперек горла проклятый треугольник. Ах, Анька, Анька… Ты была Вовке Гусеву лучшим другом, а теперь мало того, что влюбилась в какого-то там Кузю, так еще и дерешься, будто Вовка в этом виноват.
— Иди отсюда, раз ты такой неумный! — закричала Анька. Гусятина-поросятина!
Вовка онемел. Никогда, никогда она такого ему не говорила! Только самые страшные враги обзывали так Вовку.
Он встал и, хромая, пошел прочь. Уйти хотелось гордо, без слез, но не вышло. Не от боли были те слезы. От обиды.
— Ну-ну-ну и целуйся со-о своим Ку-ку-ку!.. — мучительно заикаясь, выкрикнул он.
Тяжелый Анькин унт, пролетев в нескольких сантиметрах от Вовкиной головы, стукнул в стенку.
— Ма-а-азила! — завопил Вовка. — Влю-у-убилась, влю-у-у…
У Аньки, между прочим, было два унта. И во второй раз она, между прочим, не промахнулась.
Это точное попадание произвело на Вовку Гусева довольно странное действие: он покачнулся, глаза его остекленели на мгновение. Но он не замолчал!
— Мазила! Влюбилась! Влюбилась! Так тебе и надо! — во все горло кричал он, несясь по коридору и всхлипывая.
И при этом совершенно не заикался!
«ПОЙ МНЕ ПЕСНЮ ПРО ЛЮБОВЬ!»
С грохотом обвалилось синее Анькино небо.
Треснув, рассыпалась на кусочки радуга.
Покосился, ушел в песок по самую крышу дом на берегу моря.
Померкло солнце, сорвались с неба звезды.
Ничего не осталось — мрак и пустыня. Только страшно, выжидающе горит рубиновый огонь Машины.
Хорошо, хоть пожарный кран № 1 среди такой катастрофы стоит надежно, незыблемо, прикрывает Аньку от падающих обломков.
Сказал Вовка свои глупые слова — и будто выпустил джинна из бутылки.
— Неправда! — бормочет Анька с отчаянием. — Ни в кого я не… Неправда, неправда!
Но все так и было, как Вовка сказал. Анька и сама уже давно догадалась об этом. А потом как-то забыла.
Так сны забываются: снятся, снятся — и ты спешишь куда-то, так бежишь, так боишься опоздать, что земля уходит из-под ног, и, раскинув руки, вот уже летишь ты в небесном просторе, кричишь что-то, смеешься и плачешь.
Поди вспомни, проснувшись, куда это ты спешил так, отчего смеялся, плакал отчего?
— Неправда, не хочу! — твердит влюбленная Анька, сидя под пожарным краном, а вокруг дымятся развалины ее мира, славного, привычного мира, где прожила она почти двенадцать лет, твердо зная, что все девчонки воображалы и болтушки, что никакой любви нет, а есть только верная дружба.
Навязалась на Анькину голову проклятущая любовь эта, а зачем она, что с ней Аньке делать?
— Не хочу! Не надо мне!
— Крику-то! Шуму! — недовольно проскрипел тонкий голосок, и из-под обломка радуги вылез помятый Карл Иванович. — Конец света, да и только.
Он оглядел Анькины руины и попенял, осерчав:
— Эка любовь-то у тебя неповоротлива, все вдребезги разнесла…
Анька молчала, тоскливо глядела мимо.
— Вечно так, — брюзжал Карл Иванович, — дров наломают, а ты отдувайся. Ну чего зыркаешь? Живо мне песню пой! Про любовь.
— Я про любовь не знаю! — мрачно созналась Анька.
— Тьфу, и чему вас нынче в школе-то учат? Подпевай!
И он затянул тихонько:
Гори, гори, моя звезда, Звезда любви приветная, Ты у меня одна, заветная, Другой не будет никогда…Карл Иванович трудится, что-то строит из обломков и поет.
Анька сидит под пожарным краном и мрачно подпевает.
— Шибче, шибче пой, а то у меня ничего не получится! — командует работяга сверчок.
Анька подпевает шибче.
И вот потихоньку возвращается на место рухнувшее небо, но уж больно оно серенькое, пасмурное. Однако вот и звезды загораются.
— А солнце где? — уныло спрашивает Анька. — А радуга?
— Много хочешь, мало улыбаешься! — строжает Карл Иванович. — Ты пой, пой давай.
В ЗАКОЛДОВАННОМ ЛЕСУ
Лес стоял синий, туманный, но вот Кузя и Катя выехали на огромный белый склон, и он вдруг засиял ослепительно.
— Смотри, смотри! — ахнула Катя. — Как в сказке! Будто он был заколдованный, а мы пришли и расколдовали.
Если бы такое сказала не Катя, а какая-нибудь другая девочка, Кузя поморщился бы только: какие еще сказки, просто солнце поднялось выше верхушек сосен и кристаллы снега отразили его лучи, неужели непонятно!
Но с Катей все было иначе, все, что говорила она, полно было прекрасного, таинственного смысла. Почему-то рядом с Катей Кузя начинал замечать то, что раньше казалось неважным и ненужным.
Когда он ее видел, внутри у него делалось так тревожно и радостно, что просто взял бы и полетел.
В общем, надо честно признать: хоть и считал Кузя чувства ненужными и отжившими, рядом с Катей становилось ясно, что в самом Кузе они отжили еще не окончательно. Это плохо. Надо с ними (с чувствами то есть) бороться и искоренять, чтоб не мешали жить. Ведь Кузя хочет стать мудрым, как электронно-вычислительная машина. Но вот беда: когда Катя рядом, бороться и искоренять эти самые чувства бесполезно — их так много, что, того и гляди, они сами искоренят Кузю вместе с его умной Машиной, вот какие дела…
Понятно, что Кузя пытается им не поддаваться. Ему, например, сейчас очень хочется сказать Кате: «Я люблю тебя!» — а он вместо этого принимается громким голосом рассказывать о своей Машине: какая она будет умная, все за всех рассчитает и не даст никому делать глупости.
— Все будут счастливые, потому что Машина не допустит страданий! горячо говорит Кузя и при этом размахивает руками. — Приведу простой пример, чтоб тебе было понятней…
Вы ведь уже знаете: Кузя любит объяснять все на простых примерах.
— Простой пример: представь себе, что какой-нибудь Саша полюбил какую-нибудь Наташу. Они поженились. А спустя некоторое время выяснилось, что они, оказывается, ошиблись: им только казалось, что они любят друг друга. А теперь им стало совершенно ясно, что они терпеть друг друга не могут! И вот они живут и страдают. Ссорятся, говорят друг другу злые слова. Конечно, никто им не запрещает расстаться, разъехаться в разные концы города (можно и вовсе в разные города) и больше никогда друг друга не видеть. Но у них, между прочим, есть сын. Назовем его Алеша. И если они расстанутся, то страдать перестанут, но тогда страдать будет Алеша. Он ведь их обоих любит…
Катя внимательно слушает Кузю.
— Так вот! — строго говорит Кузя. — Моя Машина таких ошибок просто не допустит! Она все быстренько сосчитает и выдаст ответ: «Саша и Наташа! Вы друг другу не подходите. Выбросьте все эти глупости про любовь из головы, быстренько разойдитесь в стороны, и чтоб я вас больше вместе не видала!» Понимаешь, как все будет справедливо и хорошо? — спросил Кузя, а Катя вдруг засмеялась, взъерошила длинному Кузе волосы:
— Какой ты, оказывается, еще ребенок…
МЯТЕЖНЫЙ ЗАЙЦЕВ
Бедный Вовка! Он поссорился с Анькой. Навсегда. Прощай, Анька, ты оказалась предательницей! Прощай, дом на берегу моря… Плохо Вовке Гусеву, тоскливо, а тут еще Мотя пристал — тащит Вовку к аптечке. При чем тут коленки, когда у Вовки душа болит. Разве йод поможет?
Мотя, между прочим, тоже бедный… С минуты на минуту может явиться в Дом пионеров классная, уж она наговорит Михаилу Павловичу!..
Надо что-то придумать, отвести от Еремушкина беду. А что придумать?
Мотя ведет Вовку в репетиционную, там аптечка. Вовка молча упирается. Мотя молча тянет. Каждый думает о своем, и вдруг…
— Да отцепись ты от меня! — сказал сердитый взрослый голос в соседнем коридоре. — Что ты лезешь не в свое дело!
Ужасно, между прочим, знакомый голос… Где-то они его слышали, и Мотя, и Вовка.
А невзрослый вежливый голос Славы Зайцева ему отвечал:
— Уходи отсюда, пожалуйста. Все равно я тебя туда не пущу.
— Я тебя и спрашивать не буду!
— Ты туда не пойдешь!
— Пойду!
— Не пойдешь!
Странный это был разговор. И шел, видно, давно.
— С кем это он? — подивился Мотя, устремляясь к месту действия. Вовка поплелся за ним.
В соседнем коридоре, спиной к ним, стоял давешний Вовкин незнакомец, то ли иностранец, то ли еще кто.
«Я ж окно-то так и не открыл, — вспомнил Вовка. — Как же он сюда попал?»
Незнакомец стоял сунув руки в карманы, и даже так, со спины, он казался Вовке ужасно знакомым.
«Где же я его видел?» — попробовал припомнить Вовка Гусев.
— Тебе ясно говорят: уходи! — Голос у Славика Зайцева был напряженный, отчаянный.
— Знаешь что! — разозлился странный незнакомец. — Надоел ты мне!
Он шагнул вперед и, легко отодвинув Славика, пошел по коридору.
Зайцев некоторое время стоял и смотрел ему в спину.
— Стой! — вдруг крикнул он. — Обернись!
Голос Зайцева зазвенел от незнакомой и пугающей решимости.
Незнакомец с досадой оглянулся. Ах, какое знакомое у него было лицо: усы чуть закручены, орлиный нос… Вот только глаз не видно из-за черных очков.
«Где же я его ви…» — только и успел подумать Вовка, а больше он ничего не успел. Потому что тут образцово-показательный ребенок Слава Зайцев подлетел к усатому и дал ему в глаз…
Усатый был высок — Зайцеву пришлось подпрыгнуть… Очки слетели, мужественное усатое лицо дрогнуло…
И в этот миг Вовка Гусев его узнал!
— Д'Артаньян! — ахнул он, будто наяву увидав: над Парижем поднимается солнце, а в город въезжает отважный мушкетер на костлявом коне…
И вот теперь любимый герой, на которого десять дней подряд Вовка любовался, затаив дыхание у телевизора, стоял посреди коридора, а под левым глазом у него медленно начинал светиться «фонарь»…
— Отлично! — радостно крикнул Мотя. — Вы — Павлик! Я вас сразу узнал.
Павлик стоял и держался за глаз, а мятежный Зайцев глядел исподлобья на дело рук своих… Слава и сам от себя такого не ожидал, но что было делать? Ведь жалоба пока дойдет…
«Конечно, драться нехорошо, — успокаивал себя примерный ученик, круглый отличник, гордость школы. — Но может быть, с нехорошими людьми драться все-таки можно?..»
Вопрос этот пока остался нерешенным. Потому что дежурный режиссер показал Славику свой большой кулак и сказал:
— Не тронь его, Зайцев! Он мне нужен живой…
ВАСИЛИЙ БАЛАБАНОВ В РОЛИ ЗМЕЯ ГОРЫНЫЧА
Недаром, ох, недаром ходил перед самой елкой за Генкой Овсянниковым танцор Вадик Березин и предлагал свой японский фонарик:
— Давай меняться!
Генке фонарик понравился, но когда он услышал, на что…
— Обалдел?! — только и спросил он у Вадика. И ушел, крутя пальцем у виска, переодеваться.
Натянул кольчугу и шлем, взял меч-кладенец и пошел за кулисы…
А когда вторая елка уже подходила к концу и назревал смертный бой Доброго Молодца со Змеем Горынычем, Мотя, пробегая мимо электрораспределительного щита, услышал оттуда глухое неистовое мычание…
«Анька!» — сразу подумал он и распахнул дверцы.
Но то была не Анька. То был Добрый Молодец Генка Овсянников… В трусах. Надежно связанный. С собственной майкой во рту.
— Ты чего тут делаешь? — обалдело поинтересовался Мотя.
Генка не отвечал, только дико вращал глазами.
Мотя сообразил наконец вынуть майку у него изо рта, и уж тут Генка заговорил… Точнее, закричал:
— Ну, он у меня узнает! Он поплачет у меня!
— Кто?
— Огнем спалю! — донесся со сцены жуткий рев Змея Горыныча.
Это означало, что бой Добра и Зла начался.
— Погоди… — сообразил вдруг Мотя. — Если ты — тут, то кто тогда там?
И дежурный режиссер уставился на сцену, где бились не на жизнь, а на смерть Горыныч и Добрый Молодец.
На глазах у Генки появились злые слезы.
— А ну, развязывай меня, живо! — завопил он. Но было уже поздно…
Надо сразу сказать: Добро и Зло бились на славу! Хвост у Горыныча был уже оторван. Меч у Доброго Молодца был уже сломан. Но ни того, ни другого подобные мелочи не останавливали — они сошлись врукопашную!
Поначалу зрителям это понравилось, но потом они заметили с недоумением: Горыныч, кажется, побеждает…
— Дай ему, Добрый Молодец! — надрывался зал.
Но Змей уже сидел верхом на противнике.
— Так не бывает! — бушевали юные зрители. — Неправильно!
И уже выбирались из рядов добровольцы: разве можно допускать, чтоб в сказке победило зло?
Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не прозвучал из последнего ряда тяжелый рокочущий бас, вмиг перекрывший шум в зале:
— Горыныч, ты что творишь, пропади ты пропадом!
Большой седой человек стоял там и грозил чудищу кулаком. Видно, это был добрый волшебник: голос его произвел на победителя-змея ужаснейшее впечатление — трехголовый злодей втянул все свои головы в плечи, съежился и опрометью кинулся вон со сцены…
ИЗГНАННИКИ
За кулисами ни смеха, ни беготни. Все замерло, как перед большой июньской грозой, когда синяя грозная туча медленно встает над горизонтом. И всем хочется спрятаться, затаиться…
Хоть бы гроза прошла мимо!
Но нет, вон она, надвигается: это, копя в глазах молнию, решительно шагает за кулисы Михаил Павлович.
Гремит раскат грома:
— Балабанов, Гусев, Овсянников, вы больше в елках не играете. Можете гулять!
Ослепительная ветвистая молния бьет Вовку, Балабанчика и безвинного Генку Овсянникова в самое сердце.
— А меня-то за что? — тоскливо спрашивает Генка. — Меня ж связали…
Михаил Павлович смотрит из-под насупленных бровей, строгий и безжалостный:
— Коли ты позволил себя связать и не сберег оружие, ты не Добрый Молодец, а мокрая курица. Отправляйтесь с глаз долой, и чтоб до конца каникул я вас здесь не видел.
Балабанчик, Вовка и мокрая курица понуро переминаются с ноги на ногу. Конечно, они виноваты, но чтоб прогнали… Это уж слишком большое наказание. Как же так: все будут здесь, вместе, а они — там. Страшно даже думать об этом.
— Михаил Павлович, мы больше так не будем! — испуганно обещают провинившиеся. — Честное слово!
Но на сей раз Михаил Павлович и разговаривать не желает. Он глядит мимо, он их не видит в упор.
Надо уходить.
Изгнанники бредут в раздевалку.
— Ну и ладно! — бормочет под нос Балабанчик. — Подумаешь! Да переживем… Правда, Вов?
Вовка молчит, глядит в сторону.
— Все из-за тебя, Балабанище! — сердито бурчит Генка, натягивая пальто.
— Конечно! — огрызается Васька. — Вали все на рыжего.
Но он и сам понимает, что кругом виноват.
Балабанчик садится на подоконник, Вовка устраивается рядом.
— Вы чего? — удивляется Генка. — Пошли лучше, а то еще больше влетит!
А куда уж больше?
Они сидят на подоконнике, болтают ногами и молчат.
О чем говорить?
Ясно, что Вовка пострадал из-за Балабанчика. И конечно, он может рассказать другу Ваське все, что он о нем думает. Но зачем? Балабанчик и так все понимает. И разве станет лучше, если Вовка поругается еще и с Балабанчиком?
Дома попадет за то, что сбежал. Нога болит. С Анькой поссорился. И из театра выгнали… Черный день, невезучий.
— Вов, — толкает Балабанчик плечом своего безутешного друга. — Вов, ну не злись… Пойдем Аньку поищем.
Вовка Гусев мрачно мотает головой.
— Сам ищи! Она под пожарным краном сидит. А я с ней больше не дружу.
КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Это совершенно непонятно. А может, Кузя передумает, может, пожалеет Аньку?
«Нет! — она закусывает губу. — Не надо мне его жалости!»
Все-таки много в жизни непонятного и несправедливого: вот, оказывается, Анька Кузю любит, а он на нее Машину натравил.
Уже ясно: Анька тут с голоду не помрет. Но что же — так и просидеть всю жизнь под пожарным краном?! Может, Айрапетян сумеет разобраться в этой Машине — говорят, он способный.
А если Машина вперед разберется в Айрапетяне? Поймет, что ей грозит опасность, да как по нему бабахнет!
«Нет уж! — решает Анька. — Ничего я ему не скажу».
Анька сидит и думает о Кузе. Почему он любит свою Машину, а людей нет? Наверно, его кто-нибудь обидел? А может, у него нет друзей? Ему одиноко, печально, вот он и выдумал Машину, чтоб был друг, хотя бы железный?
«Я сама во всем виновата! — сердится на себя Анька. — Ему было плохо, а я… Я даже этого и не заметила, только дразнила его и обзывала. Может, если бы я с ним по-хорошему, если бы он почувствовал, что я его… Ну, в общем, люблю… Может, тогда ему было бы легче?»
А теперь вот получилось, что именно Анька — злейший Кузин враг. Выйти бы отсюда, разыскать Кузю и…
Ну и что тогда?.. Что Анька ему скажет? «Я тебя люблю, Кузя…»
Анька краснеет, у Аньки сверкают глаза. Никогда, ни за что она такого не скажет! Пусть девчонки говорят про это.
«Буду сидеть тут! — решает Анька. — До старости! Так мне и надо!»
Только обидно: все вырастут, у всех начнется замечательная взрослая жизнь: Айрапетян будет строить ракеты, Балабанчик станет капитаном, Вовка актером, а Анька? Так и пробездельничает здесь всю жизнь? Какая тоска и обида! Из-за этой Машины! Из-за этого Кузи!
«Из-за самой себя!» — поправляется Анька. Нечего все на других сваливать — так ей всегда говорил папа.
Не на бездельниках держится мир, а на тех, кто занят своим делом. На тех, кто работает. Даже если ему мешают. Это тоже папины слова, Анька все помнит.
А однажды он рассказал Аньке про одного революционера. Как царь посадил его в тюрьму, в очень маленькую камеру, где даже окон не было. И книги запретил ему читать. Ну, то есть этому революционеру просто совершенно нечего было делать в узкой темной камере. Одно только и оставалось: лечь и помереть с тоски… Откровенно говоря, царь именно на это и рассчитывал.
А революционер об этом догадался и решил: а вот ни за что! И стал жить так, будто он на свободе: сразу после завтрака отправлялся на прогулку, гулял по камере взад-вперед и считал шаги. Потому что гулять он решил не меньше десяти километров — каждый день! А десять километров — это двадцать тысяч шагов, вот он и считал.
Он возвращался с прогулки как раз к обеду, а после обеда садился за работу: писал статьи против царя. Правда, у него не было ни карандаша, ни бумаги (что царь — дурак, что ли, знал же, про что революционер будет писать!). Но революционер «писал» и так, память у него была отличная.
Так что царь просчитался: революционер не только не помер с тоски, а наоборот — отдохнул немного в тюрьме, а потом сбежал! Вот какой был человек!
Только Аньке не сбежать. «Зато у меня есть окно, вон какое большое, все-таки не так тоскливо… И книги мне никто не запретит читать».
Анька вздыхает: надо будет сказать Айрапетяну, чтоб он учебники принес, а то все школу кончат, а она?
«У меня по геометрии тройка, — вспоминает Анька, — и по физике… Надо будет разобраться в этих науках. А то стыдно: мне ведь и делать-то больше нечего — только учиться. Значит, я все должна знать. Тем более, что никто над душой не стоит, не заставляет и двоек не ставит!»
Анька во всем разберется, все будет знать! Нет, не удастся Машине сделать из Аньки бездельницу.
Вот только Кузя… Кузю Аньке жалко: когда-нибудь он поймет, что натворил, и его будет мучать совесть. Наверно, это случится не очень скоро. Но все равно — это случится обязательно, ведь Кузя и сам — человек.
ТОВАРИЩИ ПО НЕСЧАСТЬЮ
Анька сидит тихая, задумчивая. Никогда еще Балабанчик ее такой не видал…
Он подошел и присел на черный ящик, валявшийся рядом.
— Слезь, — велела Анька. — Кто ее знает, что она сделает.
— Кто? — удивился Балабанчик.
Но Анька только махнула рукой. Не хотелось ей говорить про Машину. Да и не боялась уже Анька: что она может, мертвая железяка? Только лучше все-таки ее не трогать.
— Ты чего тут делаешь? — с укором спросил Балабанчик.
— Думаю. Иди, не мешай мне.
Балабанчик обиженно засопел: пропала, сидит и думает, а с другом даже разговаривать не хочет!
— Нет, ты расскажи! — потребовал он. — Чего вы с Вовкой поцапались? Я его спрашивал, спрашивал, а он молчит.
Анька исподлобья взглянула на Балабанчика, подумала и сказала:
— Ты, наверно, тоже в кого-нибудь влюблен…
Балабанчик моргнул.
— Чокнулась ты, да? — пробормотал он. — В кого это я…
— Не знаю, — вздохнула Анька. — А я — в Кузю.
— Че-го? — потрясенно переспрашивает Балабанчик. — У тебя что, температура?
Анька не ответила. Они сидели и молчали, а за окном кончался зимний день. Не то чтобы там стемнело уже, но чувствовалось, что уже собирается темнеть.
— А я в Верку, — вдруг сознался Балабанчик. — Я давно хотел сказать. Только боязно было, мы ж клялись.
— Разве мы тогда знали? — печально спросила Анька. — Мы же маленькие были. А почему в Верку? Она воображала.
Балабанчик засопел обиженно:
— На себя погляди — в Кузю! Нашла в кого! Уж лучше бы в Айрапетяна втюрилась. Это хотя бы справедливо: он из-за тебя ракетостроение бросил.
— Почему это — из-за меня?
— Потому! Все знают, что он в тебя втрескался. Потому и к нам перешел!
— Неправда!
— Очень даже правда!
Анька возмущенно сверкнула глазами:
— Ну я ему надаю! Какое он имеет право! Спрашивал он у меня? Может, я не хочу!
Балабанчик грустно покачал головой:
— Наивная ты, Аньк! Кто ж об этом спрашивает. Все равно от тебя ничегошеньки не зависит, спрашивай не спрашивай… Думаешь, мне очень нравится, что Верка в Вадика влюблена?
— Вот зараза! — гневно ахнула Анька. — А почему не в тебя?
Балабанчик не ответил, он не знал, почему Верка Вадика любит, а его, Ваську, нет. Уж, видно, так несправедливо все устроено.
Анька несправедливость не терпит. С несправедливостью надо бороться! Что это такое: он ее любит, а она его нет!
— Безобразие, неправильно это! Надо, если ты кого любишь, чтоб и он тоже тебя любил, неужели неясно?
— Тогда и тебе надо любить не Кузю, а Яшку, — вздохнул Балабанчик.
Анька задумалась.
— Нет! — наконец сообщила она. — У меня не получится.
Все-таки мир устроен вовсе не так просто, как нам это поначалу кажется. Взять бы и навести в нем порядок, чтоб все было правильно и справедливо.
Если ты хороший, то пусть тебе будет хорошо. А если плохой — пусть тебе будет плохо. А не так, чтоб, если ты добрый, так сердце болит. Не так, чтоб ты любишь, а тебя нет!
Надо что-то придумать!
И вдруг Анька замерла…
Вот она, рядом, Великая Машина, изобретенная Кузей как раз для того, чтобы навести на всей земле порядок и заставить людей жить правильно!
Черный ящик был по-прежнему недвижим и тих, только огонь горел недремлюще, но Аньке показалось, что Машина изо всех сил сдерживается, чтоб не засмеяться с торжествующим лязгом и скрежетом: ведь оказывается, вовсе не из-за чего Аньке с ней воевать! Ведь оказывается, и Анька хочет навести в жизни порядок! Железный. Чтоб раз и навсегда все стало справедливо и правильно.
— Васька, — шепотом позвала Анька. — А если бы… Ну, если бы тебе можно было взять и разлюбить Верку. Ну, позабыть и не мучаться? Хочешь?
— Ни за что! — помотал рыжей головой Балабанчик, и глаза у него стали упрямые. — Лучше буду мучаться.
РЕЖИССЕР ЕРЕМУШКИН ПРИНИМАЕТ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ
О Михаиле Павловиче Еремушкине Наталья Игоревна слышала много странного и, скажем прямо, настораживающего.
— Ужасный человек! — жаловалась одна учительница. — Ничего не смыслит в педагогике. Я пришла к нему на Балабанова жаловаться, а он знаете что мне сказал?! «Детей надо любить, а если вы этого не можете, какой черт вас в учителя понес!» Грубиян!
Наталья Игоревна понимала, что разговаривать с Еремушкиным будет сложно, и, признаться, нервничала. Но другого выхода у нее не было: Мотя Новиков катился по наклонной плоскости. Она не сомневалась, что, если Мотю немедленно не остановить, он погибнет!
Можете себе представить: на полугодовой контрольной по алгебре Мотя Новиков написал одной девочке записку! И не просто записку, а объяснение в любви! Наталья Игоревна еще поняла бы, если бы Мотя просил у той девочки списать, но объясняться в любви на ответственнейшей контрольной! Позор и безобразие! О том ли Моте надо думать?! Был бы он отличником, тогда ладно. Но ведь троечник!
Записку Моти Новикова Наталья Игоревна несла с собой: пусть режиссер Еремушкин полюбуется, чем занимается его питомец! Если в пятнадцать лет он пишет этакое, бессовестный, то что же дальше-то будет?
Спасать, спасать надо было распоясавшегося ученика, и пусть только режиссер Еремушкин попробует не понять этого — Наталья Игоревна найдет на него управу! Она до директора Дома пионеров дойдет! Пусть принимают меры.
Но напрасно она кипятилась, напрасно готовилась к бою: режиссер Еремушкин оказался милейшим человеком.
— Здравствуйте, многоуважаемая Наталья Игоревна! — приятно улыбаясь, сказал он. — Верите ли, сам давно мечтал с вами познакомиться. В кабинете у меня, к сожалению, сейчас идет ремонт, пройдемте в нашу репетиционную.
И режиссер Еремушкин самым галантным образом распахнул перед Мотиной учительницей дверь. На двери висело писанное от руки объявление:
Режиссер Еремушкин М. П.
Принимает по педагогическим вопросам
в среду и пятницу с 10 до 12 ч.
Наталья Игоревна, признаться, прочитав такое, оробела.
— Ничего-ничего… — подбодрил Еремушкин. — С вами я готов поговорить в любое время. Много, много о вас наслышан!
Слова эти Наталью Игоревну приятно удивили, она перестала хмуриться.
— Присаживайтесь! — кивнул Еремушкин. — Нам есть о чем поговорить, не так ли? Вы пришли ко мне, чтобы посоветоваться по ряду сложных вопросов, насколько я понимаю.
— Да! — подтвердила Наталья Игоревна. — Я хочу…
— Вы хотите, — опередил Еремушкин, — рассказать мне о возмутительном поведении Моти Новикова, я угадал?
Наталья Игоревна молчала, пораженная его чудовищной наблюдательностью. А Еремушкин продолжал:
— О, я вполне понимаю вашу озабоченность. Мы обязаны принять меры! Этого мальчика надо спасать, и никто, кроме нас с вами, этого не сделает!
Несмотря на черные очки, скрывающие глаза режиссера Еремушкина, Наталья Игоревна почувствовала его строгий пронзительный взгляд.
— Я велел его позвать, — предупредительно сказал он. — Сейчас этот оболтус явится. Умоляю вас — построже! Жалость в нашей работе неуместна, надеюсь, вы понимаете это.
Наталья Игоревна благоговейно кивнула. Несмотря на то что Еремушкин был молод, Наталья Игоревна почувствовала к нему почтение: судьба Моти Новикова была в надежных руках, в этом не приходилось сомневаться!
В дверь постучали, и на пороге возник Мотя. Весь вид его выражал испуг.
«То-то! — удовлетворенно подумала Наталья Игоревна. — Боится!»
— Михаил Павлович, вы меня вызывали? — пролепетал Мотя.
— Вызывал! — грозно кивнул Еремушкин. — Зайди и закрой за собой дверь. Так что ты там натворил?! Отвечай!
Мотя виновато опустил голову и молчал убито.
— Тогда, может быть, вы, многоуважаемая Наталья Игоревна, расскажете мне?
Наталья Игоревна с готовностью достала из сумки сложенный вчетверо листок из тетрадки в линеечку и зачитала:
— «Таня! Ты мне сегодня приснилась. Мы с тобой шли по улице, и я держал тебя за руку. Когда я проснулся, то расстроился, что это только сон и он уже кончился. Мне хочется, чтоб ты всегда была рядом и чтоб я держал тебя за руку…»
— Странные у тебя, Новиков, желания! — с осуждением покачал головой режиссер Еремушкин.
— Не понимаю, чего тут странного! — раздалось с порога.
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ
На пороге, сунув руки в карманы, стоял высокий седой человек и с интересом разглядывал Еремушкина и Наталью Игоревну. При виде его режиссер Еремушкин и ученик Мотя Новиков отчего-то окаменели… При этом Мотя побелел как мел, а режиссер Еремушкин напротив принялся медленно краснеть.
— По-моему, желание вполне возвышенное, — пожал пришелец плечами. Кстати, что означает это дурацкое объявление на двери?
Никто ему не ответил.
— Кроме того, интересно было бы узнать, каким образом эта записка попала к вам? — строго спросил незваный гость.
— Я отняла ее у Новикова на уроке, — растерянно отозвалась Наталья Игоревна.
— А по какому праву вы ее прочитали?
— Ну, знаете! Я вас не понимаю!
— Вот и я вас тоже… — печально вздохнул этот странный человек. Неужели вам никто никогда не говорил, что читать чужие письма непорядочно?
Наталья Игоревна малиново покраснела, обернулась к режиссеру Еремушкину, ища защиты. Но он, еще минуту назад такой решительный и грозный, подавленно молчал.
— Товарищ Еремушкин, я требую оградить меня от подобных грубостей.
Еремушкин не шелохнулся.
— У товарища Еремушкина столбняк, — усмехнулся пожилой грубиян. — И коль уж вышел такой конфуз, придется вам разговаривать со мной, а не с ним.
Твердый, уверенный тон этого человека, а так же гробовое молчание режиссера Еремушкина насторожило Наталью Игоревну: судя по всему, вновь пришедший был начальником.
— Простите, а вы кто? — спросила она.
— Я-то? — несколько озадачился этот человек. — Ну, уж и не знаю. Директор Дома пионеров, допустим.
Что-то не очень в это верилось, признаться, Наталье Игоревне, и он заметил это.
— А вот товарищ Еремушкин подтвердит, — хмыкнул он.
Режиссер Еремушкин вышел из столбняка и несколько раз утвердительно мотнул головой.
«Директор Дома пионеров, а ведет себя… — с осуждением подумала Наталья Игоревна. — Как хулиган!»
— Так что, собственно, вас возмутило в Мотином поведении?
— Неужели вы не понимаете! — развела руками учительница. — В его ли возрасте об этом думать?!
Директор Дома пионеров нахмурился, глянул исподлобья.
— Милая моя, — сказал он, — придите в себя! Именно в его! И еще раньше. И всегда! Вы сами-то любили когда-нибудь?!
Наталья Игоревна встала, щелкнула сумочкой.
— Я на вас жаловаться буду! — предупредила она. И хлопнула дверью так, что с потолка посыпалась штукатурка.
— Артисты! — покачал головой лжедиректор.
Лже-Еремушкин молчал, как нашкодивший школьник.
— Матвей, живо за кулисы, — велел Михаил Павлович. — А с тобой, Павел, я после елок разберусь!
УПРЯМЕЦ АЙРАПЕТЯН
Анька — человек прямой, она не будет вокруг да около.
— Айрапетян, это правда, что ты меня любишь?
— Правда, — грустно кивнул Яша. — Я тебе булку с изюмом принес.
— Давай. — Анька с сочувствием посмотрела на влюбленного Айрапетяна. — И как тебя угораздило…
— Очень просто. Осенью, на спектакле. Ты там Маленькую разбойницу играла.
— Ну и зря, Айрапетян. Там вон сколько еще девчонок было: и Принцесса, и Герда, и Снежная королева.
— Ты была лучше всех! — упрямо сказал Айрапетян. — Я, как увидел тебя… Ну, в общем, сразу. Ты была в таких высоких сапогах со шпорами, за поясом у тебя был кинжал, в руке пистолет. Все тебя боялись, а я сразу понял: ты добрая!
— Глупый ты! — рассердилась Анька. — Это ж роль. А на самом деле я совсем и не такая.
— Нет, ты такая! — Айрапетян вздохнул. — Ты сама не знаешь, какая ты. Ты… Ты самая красивая!
— А ты дурак! — Анька покраснела, отвернулась от Айрапетяна.
— Ну и пусть, — согласно кивнул Яша. — А я все равно…
— Может, ты меня разлюбишь, а, Айрапетян? — виновато предлагает Анька.
Айрапетян не отвечает.
— Ну правда! Что, на мне свет клином сошелся?
Айрапетян вздохнул и кивнул.
— Что же делать?
— Не знаю… — горестно шепчет Яша. — А только я тебя буду любить всю мою жизнь.
СПЕЦИАЛИСТКА ВЕРОЧКА
— Айрапетян сказал, ты меня звала! — Голубые глаза Верочки просто светятся от любопытства. — А чего ты тут расселась? Мы волновались, думали, ты…
— Я тебя не за тем звала! — сердито перебивает Анька. — Мне с тобой посоветоваться надо.
Верочка, как известно, самая красивая девочка в Доме пионеров, в нее все влюблены. У кого же узнавать про любовь, как не у нее. Вот только как это сделать? Ведь Анька с Верочкой не дружит и вообще редко разговаривает.
— Это, — бурчит. Анька, пристально разглядывая носок своего унта, понимаешь… Я…
Ну никак у Аньки слова не выговариваются.
— Влюбилась, что ли? — проницательно спрашивает Верочка.
— Ну… А ты откуда знаешь?
Верочка хохочет.
— Так сразу видно! Дура ты, Анька, все-таки! Он же намного старше.
— Кто? — потрясенно бормочет Анька.
— Сама не знаешь? Только он на тебя и внимания не обращает.
— Ну и пусть! — дерзко выкрикивает Анька. — Больно надо!
— Ничего ты не понимаешь, — вздыхает Верочка. — Это самое главное обратить на себя внимание. Какая же любовь, если на тебя внимания не обращают!
— Зато я обращаю!
Лицо у Верочки становится строгим.
— А вот как раз этого и нельзя!
— Почему?
— Потому что ты — женщина, понятно тебе? Это мальчики должны из-за тебя с ума сходить. А тебе — хоть бы хны! Ну, понятно?
Но Аньке непонятно.
— А если мне — не хоть бы хны?
Глаза у Верочки сердитые, и вообще она сейчас похожа на Анькину учительницу математики, когда та говорит: «Запомните раз и навсегда, что сумма углов в треугольнике равна 180 градусам! Кто не будет этого знать, сразу ставлю единицу!»
— Этого нельзя показывать ни в коем случае, Анька! — возмущенно сообщает Верочка. — С мальчиками так нельзя! Запомни: тебе все — хоть бы хны! Тогда за тобой бегать будут знаешь как! Вот только…
Самая красивая девочка деловито оглядывает Аньку с ног до головы, неодобрительно морщится.
— Посмотри на себя, на кого ты похожа! Как ты одеваешься! Не девочка, а беспризорник! Кто на тебя посмотрит, на такую?
Аньке обидно.
— А Айрапетян говорит, что я самая красивая, — заступается она за себя.
— Много Айрапетян в женщинах понимает! — хихикает Верочка. Уж она-то знает, какая девочка самая красивая. Эта девочка каждый день глядит на Верочку из маленького карманного зеркальца.
— А он говорит, что будет любить меня всю жизнь! — упрямится Анька. Пусть Верка не задается.
Верочка заливается смехом, голосок у нее звонкий, серебристый, слушать приятно. Вот как должны смеяться самые красивые девочки.
— Всю жизнь, Анька, любят только в кино! Да и то — только в индийском. А в жизни все не так. Я вот, знаешь, уже в который раз влюбляюсь? В пятый! Подумай сама: всю жизнь любить одного и того же человека… Это ж со скуки помрешь!
«А Михаил Павлович всю жизнь любил Машеньку, — думает Анька. — И сейчас любит…»
— Я тебя не слушаю! — хмурится Анька. — Я буду любить всю жизнь одного человека! «А мама? — вспоминает Анька. — Сначала любила папу, а теперь — Максима Петровича…»
Как же во всем этом разобраться? Как понять? И как поступать Аньке?
Анька уже начинает догадываться, что люди — разные. И каждый решает сам, как ему жить. Кто-то любит всю жизнь одного человека и остается ему верным даже после смерти, а кто-то влюбляется каждый день, и ему весело… Кто-то думает только о себе, а кто-то все несчастья считает своими и всем помогает.
Наверно, нельзя скомандовать людям: живите, как Михаил Павлович! Наверно, каждый должен выбрать сам?
Ведь вот Анька сама выбрала, верно?
«За что же я на Верку сержусь? — думает она. — За то, что она на меня не похожа и хочет жить не так, как я? Нет, несправедливо! Получается, что я одна хорошая и все понимаю правильно, а все остальные ошибаются? Опять получается — Машина!»
— Извини! — говорит Анька Верочке. — Я была не права…
— Конечно, ты не права! — подтвердила Верочка. — Ты еще глупая, ничего не понимаешь в жизни! И это хорошо, что ты у меня спрашиваешь, я тебе все объясню! Слушай: самое плохое, что ты и на девочку-то не похожа! Понятно? А ведь если тебя хорошо одеть, ты, пожалуй, ничего будешь… Не понимаю, куда твоя мама глядит, зачем она тебе разрешает ходить в этих ужасных сапогах!
— Это папины! — вздохнула Анька. — И не сапоги, а унты.
— Ты бы еще папины брюки надела! — усмехнулась Верочка. — Женщина должна одеваться изящно. У тебя платья есть?
— Есть… — нехотя созналась Анька. — А что?
— А то, что с завтрашнего дня ты начинаешь ходить в платье. И веди себя как девочка.
«Как девочка, как девочка… — смятенно думает Анька. — А как это?»
Выясняется, что девочки и ходят не так, как Анька, и разговаривают не так, и интересы у них другие… Ну, короче говоря, все, ну просто все у них не так, как у Аньки!
Анька слушает с отчаянием, старается запомнить, какой должна быть настоящая девочка. Нет, никогда у нее это не получится!
А Верочка вошла во вкус, командует:
— С завтрашнего дня начинаем отращивать волосы! Тебе, Анька, бантики очень пойдут.
Тут уж Анька не стерпела, взбунтовалась:
— Не буду с бантиками!
— Надо! — строго ответила Верочка.
ВАЛЬС В СУГРОБЕ
Солнце опускалось к верхушкам сосен, но еще так хорош был расколдованный лес, весь розовый и голубой, и так не хотелось из него уходить…
Кузя и Катя сидели у костерка, а он потрескивал весело, стрелял в них жаркими искрами.
— Давай танцевать? — предложил Кузя.
— Под тра-ля-ля?
Кузя улыбается, Кузя лезет в карман куртки. Раздается чуть слышный щелчок, а потом из кармана слышится музыка…
Гремят, гремят в Кузином кармане гитары и барабаны.
— Ой, что это? — весело удивляется Катя.
Кузя достает маленький серебристо-черный магнитофон.
— Сам сделал?
— Что ты! — машет Кузя рукой. — Японский. Чудо техники…
— Дорогой, наверно?
Кузя пожимает плечами: откуда ему знать, ведь это подарок.
— Балует тебя дед, — говорит Катя, а Кузя смурнеет.
— Это не дед… Где он возьмет такое. Это мне мать прислала на Новый год. Недавно за границей была и привезла вот…
Кузя супит брови.
— Ты чего? — удивляется Катя. — Радоваться надо. Такая игрушка! Разве не нравится?
— Нравится… — вздыхает Кузя. — Только хлопот много — от деда прятать приходится.
— Зачем? — не понимает Катя.
Кузя ворошит костерок, объясняет ей.
— Она в Москве живет. Мы с дедом ездили летом, и я ее разыскал там. Теперь вот она мне подарок прислала, а деду что говорить? Он ведь не знает, что я там был…
— Что же — ты не имеешь права увидеться с собственной мамой? сердится Катя. — Странный у тебя дед. Тиран!
— Да нет… Он мне не запрещал. Только я зря туда пошел. И не хочу, чтоб он знал… Ему обидно будет. Не за себя, понимаешь, Катя? За меня.
— А как вы с ней встретились? — тихо спрашивает Катя. — Давно она тебя не видела?
— Десять лет. Я пришел, а она меня не узнала, решила, что я одноклассник ее дочки… — нехотя сообщил Кузя.
— А ты не сказал?
— Как? — спрашивает Кузя. — «Здрасьте, вы меня, конечно, не помните, потому что, когда вы с папой разошлись, я был маленький. Но вообще-то я ваш сын…» Она потом сама догадалась. Когда я уже ушел… Да ну! — Кузя сморщился, махнул рукой. — Родители — это атавизм, пережиток древности, без них даже лучше! Давай танцевать!
«Забыть бы обо всем этом раз и навсегда… Забыть и не вспоминать!»
Чудо техники орет на весь лес, Кузя яростно пляшет у костра, топчет снег — забыть и не вспоминать!
— Жизнь прекрасна, ур-ра! — кричит он Кате, растягивая рот в улыбку. — Танцуй!
«Забыть и не вспоминать!» Кузя никогда ни с кем об этом еще не говорил — страшно… Ведь если о тебе даже собственные родители забыли, то кому ты нужен? Ни-ко-му! Вот разве что деду. И то непонятно — зачем?
— Кузя! — позвала Катя. — Перестань.
— Почему?! — удивился Кузя.
— Потому что сейчас заплачешь…
Кузя встал как вкопанный, нахмурил брови и сказал строго:
— Я никогда не плачу. Запомни! Ни-ког-да.
— Ну и зря, — вздохнула Катя. — Когда плачешь, то легче.
— Ерунда! — хмыкнул Кузя. — Слезами горю не поможешь. Почему ты не танцуешь?
— Но ведь ты меня еще не пригласил.
— Сейчас! — отозвался Кузя. Он торопливо снял и бросил в снег шапку и перчатки, пригладил волосы и шагнул к Кате.
— Мадмуазель… Позвольте…
Катя засмеялась.
— Ну, тогда надо танцевать вальс!
— Чего нет, того нет, — развел руками Кузя, но вдруг вспомнил: Погоди! У меня ж с собой пробная кассета, там что-то такое…
Он поменял кассету — и вальс со старой пластинки медленно и нежно поплыл над снегами.
Кружится, кружится снежная поляна, кружится вечереющий лес и набирающее тьму небо с первыми звездами.
И вдруг музыка оборвалась, и неживой, страшный голос, от которого у Кати по спине побежали мурашки, четко и равнодушно выговорил в тишине:
«Я. Машина. Он. Меня. Изобрел. Теперь. Мне. Нужна. Ты. Подойди».
— Что это? — шепотом спросила Катя.
А Кузя улыбнулся:
— Не обращай внимания, это так, шутка.
«Аня. Дай. Душу!» — продолжал твердить страшный голос.
— Какая Аня? Объясни, Кузя.
— Да ну… — он поморщился. — Это скучно.
— Нет, ты скажи!
— Ну, пятиклашка одна… У деда в театре занимается. Они там у деда все такие замечательные и одухотворенные, у всех, видите ли, душа! раздраженно сказал Кузя. — А я — плохой. Я — железяка бездушная, скоро превращусь в робота. Это мне дед вчера выдал… Ну, дед — ладно, это наши с ним дела, а она-то чего лезет?! Лезет и лезет! Ну, Анька эта. А дед за нее заступается, она у него любимица. В общем, достала она меня… Вот я ее и проучил утром.
И, припомнив, как замечательно он нынче утром разыграл вредную Аньку, Кузя развеселился, изобразил Кате, какое у противной девчонки было лицо, когда она увидела Машину…
А Катя слушает и молчит.
— Ты чего? — удивляется Кузя: ему весело.
— Она, наверно, и сейчас там сидит… — говорит Катя.
— Да что ты! — машет руками Кузя. — Ей же на елку надо было! Да что она, дура, торчать целый день под краном из-за какого-то человечества! Что она в этом понимает!.. Нет, она мне точно проиграла! Проспорила, не сомневайся!
— Душу? — тихо спрашивает Катя. — И что ты будешь делать с ее душой?
Кузя перестает веселиться: Катя на него так смотрит…
— Кать… Ты серьезно? Ведь нет никакой души…
— Ты это точно знаешь?
Катя подбирает со снега шарфик, брошенный, когда плясали. Идет к своим лыжам.
— Катя, ты куда? — растерянно зовет Кузя.
— Мне домой пора. Ты со мной не ходи.
Она скользит по лыжне, а Кузя стоит столбом у догоревшего костерка, глядит ей вслед. Что случилось? Почему она так? За что? Неужели из-за Аньки? Непонятно… Что ей за дело до незнакомой пятиклашки?
— Катя, погоди! — кричит Кузя, он не может видеть, как она уходит. Еще несколько минут назад все было так хорошо, так радостно…
Он несется наперерез, по мягкой снежной целине, бежать тяжело, как в страшном сне. Кузя несколько раз упал, он весь в снегу, он потерял где-то шапку и перчатки…
— Катя! — Вот он выскочил, встал перед ней… — Не уходи!
— Пропусти! — сказала Катя, даже не взглянув на Кузю.
И он догадался вдруг: она не из леса уходит, она от него, от Кузи, уходит. И ничего уже не исправить, даже если он будет бежать за ней до самого дома. Даже если они по-прежнему будут сидеть за одной партой.
— Ты злой, — говорит Катя. — У тебя нет души…
И уходит, уходит…
— Подожди! — кричит Кузя. — Я люблю тебя!
Катя останавливается, оглядывается. Глаза у Кати печальные.
— А ты у Машины своей спросил?.. Вдруг она против.
СЛЕЗАМИ ГОРЮ НЕ ПОМОЖЕШЬ
Кузе хочется плакать. Но плакать — глупо и бесполезно.
Кузя понял это давным-давно и с той поры не плакал. Зачем?
Давным-давно, когда встретил у киоска с мороженым собственного пропавшего папу.
— Папа! — закричал Кузя на всю улицу, он его сразу узнал.
Папа вздрогнул и обернулся… Он пропал три года назад, а теперь вот как ни в чем не бывало стоял у киоска с мороженым.
— Лешка?.. — неуверенно спросил папа.
А какой-то карапуз, стоявший рядом с ним и державший его за руку, отозвался:
— Чего?
— Я не тебе… — растерянно объяснил Кузин папа.
— Это кто? — насторожился Кузя, которому вовсе не понравилось, что какой-то чужой мальчик держит его папу за руку.
— Это? — переспросил папа и, взглянув на малыша, как бы и сам удивился: мол, и правда, кто таков?
— А мама где? — задал Кузя следующий вопрос.
— Мама? — опять переспросил папа, будто плохо слышал.
Странное что-то с ним творилось, Кузя хоть и был в ту пору малышом-первоклассником, а все-таки почувствовал, что с папой не все в порядке… Все время переспрашивает и не отвечает. И смотрит на Кузю так, будто боится его.
— Пап, купи мороженку, — заныл чужой мальчик, державший папу за руку.
— Почему он зовет тебя папой? — строго спросил Кузя.
— Видишь ли, — вздохнул папа, — это мой сын…
— А, — успокоился Кузя, — мой брат. Только зря вы его тоже Лешкой назвали, теперь у нас путаница будет.
— Пап, пошли домой, — потянул младший Лешка, ему тоже не понравилось, что какой-то чужой мальчик так запросто разговаривает с его папой.
— Пошли, пап! — поддержал Кузя.
— А ты с нами не ходи! — сердито крикнул младший Лешка.
— Лешка, замолчи! — велел папа.
— Я и так молчу, — удивился Кузя.
— Я не тебе.
— Говорю же: будет путаница, — засмеялся Кузя.
— Да-да, ты прав… — кивнул папа и торопливо пошел к киоску, покупать два эскимо.
— Дед обрадуется! — сказал Кузя, разворачивая мороженое. — Ну, пойдем!
А папа, глядя мимо Кузи, ответил:
— Видишь ли в чем дело, Лешка…
— Ты это ему или мне? — уточнил Кузя.
— Тебе. Ты ведь уже взрослый, Лешка…
Кузя, разумеется, кивнул.
— Ну и хорошо. Я тебе сейчас все объясню. Только не вздумай заплакать, договорились? Поговорим спокойно, как серьезные люди…
И серьезный человек папа объяснил Кузе, что они с мамой уже давно не любят друг друга. У папы теперь другая жена. И другой сын. Ничего ужасного в этом нет. Когда Кузя вырастет, он все поймет…
— Только не плачь! — попросил папа. — Я этого не выношу… Слезы это лишнее, слезами горю не поможешь, запомни раз и навсегда… Мы пошли. Не плачь!
Это были последние папины слова. Кузя их запомнил на всю жизнь. Он стоял, держал эскимо и смотрел, как папа уходит. Ему хотелось зареветь в голос на всю улицу. Но он стоял и молчал. Ведь папа его просил…
ЗНАМЕНИТЫЙ АКТЕР И ВЕЛИКИЙ РЕФОРМАТОР
Знаменитый Павлик сидел в репетиционной. Выйти оттуда он не мог, потому что в коридоре, прямо против двери, скрестив руки на голой груди, стоял темно-коричневый человек в набедренной повязке и караулил…
Славик был знаменитому до плеча — не драться же Павлику в самом деле с такой мелкотой!
Уже началась третья елка. За окнами стемнело, но знаменитый артист не включал свет. Тьма становилась все гуще, и уже сливались с ней предметы: растворились, исчезли старый диван, и резной шкаф со связкой рапир наверху. Большой цветной телевизор стал сгустком темени, стулья стали невидимками. Только портрет великого реформатора сцены, подсвеченный фонарем с улицы, виден был очень хорошо.
Константин Сергеевич на портрете смотрел на Павлика сквозь пенсне, строго смотрел и горестно, будто хотел сказать: «Эх ты!»
— Эх ты! — сказал Константин Сергеевич, и знаменитый актер вздрогнул, испуганно моргнул. — Растили тебя, радовались: какой талантливый мальчик! Думали, актер вырастет…
— Костя, замолчи! — сердито пискнул Карл Иванович из-за рамы. — Ты инструкцию нарушаешь!
— К черту инструкцию! — грозно отвечал великий реформатор. — Я должен ему все высказать!
Знаменитый актер замер, вжавшись лопатками в диванную спинку.
— Думаешь, ты актер? — гневно взглянул на него Константин Сергеевич. — Ты — халтурщик, вот ты кто! Конь, на котором ты въехал в Париж, и тот одаренней тебя. На него посмотришь — и характер видно, а ты что все десять серий делал? Бегал, махал шпагой и при этом все время красиво улыбался в объектив — мол, полюбуйтесь на меня!
Павлик виновато опустил голову.
— Это называется — работа над ролью? — гремел великий реформатор. Чему тебя в институте учили? Еще, может, скажешь, что играл «по системе Станиславского»? Так имей в виду: ты мне не ученик, я чуть со стыда не провалился, на тебя глядючи!
— Костя, это жестоко, — заступился за Павлика Карл Иванович. — У мальчика первая роль, ты же знаешь…
— Молчи, Карл! Не смей его жалеть. Не беспокойся, он сам себя отлично пожалеет. Он себя любит, он себе все простит. Бездарность! Самовлюбленное ничтожество! Погляди на него: черные очки надел, чтоб почитатели на улице не приставали, он ведь стал знаменитым!
Павлик тоскливо молчал. А что он мог сказать — ведь все это было правдой. Только Павлик думал, что никто, кроме него, не заметит, что играл он в фильме плохо. Или, во всяком случае, если заметит, то промолчит — из деликатности.
И, действительно, все промолчали. Даже хвалили Павлика: мол, такой молодой, а уже талантливый.
Константин Сергеевич устремил на знаменитого горящий взгляд:
— Говорили тебе в детстве: «Люби искусство, а не себя в искусстве»? Говорили?
— Говорили… — сознался Павлик.
— Говорили тебе, что сцена — святое место? Что там нельзя лгать и притворяться?
— Говорили.
— А ты?
Павлик взмолился с отчаянием:
— Константин Сергеевич, вы же сами писали, что актер имеет право на неудачу!
Ох, лучше бы он молчал!
— Актер! — взбешенным шепотом произнес Станиславский. — Актер — да! Тот, кто всю душу отдал роли, кто ночей не спал, кто о себе забывал, горел, мучался… А ты?
— Так сценарий был плохой, — вздохнул Павлик. — Где там гореть-то? И режиссер — дурак.
— Ну и ну… — подал голос сверчок. — Ты, оказывается, заранее знал, что снимаешься в плохом фильме?
— Знал. А что я мог поделать?
— Ты? — с презрением переспросил Константин Сергеевич. — Ты, если бы ты был честен, если бы ты был предан искусству, — если б ты был Актер! то отказался бы участвовать в халтуре!
— Ему славы захотелось, — покачал головой Карл Иванович. — Любой ценой.
— Не только славы, Карл, не только! Стыдно об этом говорить, но ему захотелось еще и денег. Много! Чем больше, тем лучше.
В репетиционной повисло тяжелое молчание.
— Может, такие тоже нужны, Костя… — неуверенно сказал сверчок. Ну, не всем же быть великими.
— Карл, если ты будешь так говорить, я тебе больше руки не подам! отвечал Константин Сергеевич. — Не нужны такие! Пошел на сцену — будь великим. Все отдай своему делу — все сердце, всю душу! Или уйди, не прикасайся!
Несчастный, уничтоженный, сидел Павлик во тьме.
— Я больше так не буду… — прошептал он. — Константин Сергеевич, честное слово!
— Не верю! — донеслось в ответ. — Все! И разговаривать больше не желаю.
Карл Иванович повздыхал, повозился за рамой и тоже затих.
— Подождите! — умоляюще позвал Павлик. — Не презирайте меня. Я сам не знаю, как это вышло. Я же не такой был! Помните? Мне ни денег, ни славы, я театр любил… Помните, помните? Как же все случилось? Когда?
Но в репетиционной стояла глухая тишина: не желали с Павликом разговаривать.
Однако Карл Иванович все-таки сжалился и пробормотал с горечью:
— Не знаешь сам? А когда Юля тебе сказала: «Я работать пойду, а ты учись спокойно и ни о чем не думай больше»… А ты согласился. И ни о чем не думал с той поры, кроме себя, любимого. Помнишь?
ДИРЕКТОР ДОМА ПИОНЕРОВ ДЕЛАЕТ ОТКРЫТИЕ
Никто и не заметил, что директор пропал. Обидно, но о нем не вспомнили, не заволновались.
Только умный первоклассник Овечкин подошел к Моте и сказал:
— А куда Сергей Борисович девался?
Но Мотя не озаботился.
— Ходит где-нибудь, — пожал он плечами.
Ведь все уже знали, что Анька нашлась и сидит почему-то под пожарным краном. Совершенно непонятно было, зачем она это делает. Но, раз ей так хочется, пусть сидит, пусть молчит. Вот будет вечером, после елок, разбор, посмотрим, как она объяснит, что чуть не сорвала спектакль.
Несправедливо, конечно: Анька пропала — так все заметили и заволновались, а до Сергея Борисовича и дела никому нет.
За тридевять коридоров он сидит на фанерном королевском троне и, подперев щеку ладонью, думает: «Почему я такой несчастный?» За спиной его пугалом торчит рыцарь «Васька — дурак», весь его вид выражает издевательское сомнение в том, что директору удастся до чего-нибудь додуматься. «Мы теперь всегда будем вместе!» — будто бы говорит он.
Сергей Борисович и сам понимает, что, наверно, так и будет. Кто о нем вспомнит? Кто побежит искать и спасать?
«Никому я на свете не нужен, — думает директор Дома пионеров. — Никто меня не любит. А почему?»
Вон сколько у Сергея Борисовича вопросов. А ответы где? Нет ответов! Между тем директор хочет понять, почему у него в жизни все наперекосяк.
— А ну, думай, моя голова! — сердито командует он.
— Ишь, чего захотел! — отвечает голова. — Я отвыкла. Уж сколько лет я у тебя без дела, ты на мне только шляпу носишь. Не умею я думать… Забыла, как это делается! Не буду, не буду я думать!
— Будешь! — строжает директор. — Ты для чего мне дана, отвечай! А то я тебе!..
— Что ты мне? — издевается голова. — Ни-че-го ты со мной не сделаешь!
— Ну, я тебя очень прошу… Ну, выручи! — умоляет Сергей Борисович. Ты же у меня хорошая! Ты у меня умная… Во всяком случае — была когда-то…
— Уговорил… — смягчается голова. — Только, знаешь, если я начну думать, тебе же хуже будет… Как бы тебе не пожалеть потом, что ты до такого додумался!
— Пусть! — с мрачной храбростью решает Сергей Борисович. — Пусть мне будет хуже, раз я заслужил…
— Ну ладно! — говорит голова. — Ну, держись!
И в ней появляется первая страшная мысль:
— Жизнь твоя совершенно бесполезна!
Сергей Борисович горестно кивает.
— Что, продолжать дальше? — удивляется голова.
— Продолжай!
— Людям от тебя никакой пользы. И вообще: ты занимаешься не своим делом! Неужели ты этого не понимаешь? Никаких педагогических способностей у тебя нет и никогда не было. Детей ты не знаешь и не понимаешь. Ну чему ты можешь научить их?
— Ты права… — с горечью соглашается Сергей Борисович.
— Не перебивай! — сердится голова. — Я еще не все подумала! Ты даже до сих пор не понял, что дети — тоже люди!..
Директор Дома пионеров замирает, широко раскрыв глаза. Вот она САМАЯ ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ! Просто потрясающе!
— Какой я был дурак! — бормочет он растерянно. — Конечно же, они люди, только еще очень молодые. Почему же я этого раньше-то не понимал?!
И он в сердцах стукнул себя кулаком по голове.
— Но-но! Не очень-то! — не одобрила голова. — Я-то при чем? Ты ж сам от них у себя в кабинете прятался. А еще жалуешься, что работа скучная. Трус ты и лодырь! Сидишь там, как в крепости, которую неприятель штурмует. Хорошо, хоть сегодня нос высунул. Видишь, никто тебя не съел!
— Слушай, голова! — сказал тут Сергей Борисович. — А ведь ты у меня просто умница — если задуматься, а?
— Если задуматься — и ты не дурак! — согласилась голова. — А не пора ли нам начать новую жизнь?
— Пора! — радостно подтвердил он, и так вдруг захотелось из пустых коридоров туда, к людям, что он вскочил, треснул кулаком картонного рыцаря и закричал с отчаянием:
— Люди! Ау! Отзовитесь!
— Ну чего? — отозвались из соседнего коридора люди.
Директор Дома пионеров узнал дерзкий голос пропавшей Аньки Елькиной и обрадовался ей, как родной.
АНЬКА И КУЗЯ
Правая щека у Кузи была отморожена, волосы слиплись в сосульки, а глаза тоскливые, как у бездомной собаки. Кузя стоял у входа в тупичок, смотрел на Аньку.
— Кто тебя? — спросила Анька.
— Елькина, я дурак и скотина! — жалобно сказал Кузя. — Возьми, это твое…
И положил Аньке на колени свое чудо техники.
— Что это? — удивилась Анька.
— Магнитофон. Японский. Ты его выиграла.
— Нет! — нахмурилась Анька. — Мы с тобой не на это спорили! Машину давай!
— Нет никакой Машины, — еле слышно сказал Кузя и вдруг изо всей силы пнул черный ящик.
Ужасная Машина, которая должна была научить людей жить правильно, отлетела к стене, рикошетом ударила в батарею, верхняя ее крышка отскочила, и стало видно пустое фанерное нутро.
— А огонек… — шепотом спросила Анька, не сводя с черного ящика глаз. — Там огонек горел… Она же говорила…
— Батарейка и лампочка, — тоскливо объяснил Кузя. — А говорил магнитофон…
Тихо-тихо стало в тупичке. Анька смотрела на Кузю и молчала. Смотрела и молчала. Точно так же, как в лесу смотрела и молчала Катя. Как дед вчера смотрел и молчал.
И Кузе вдруг стало так холодно и страшно, как бывает только в самом страшном сне.
Будто он остался один-одинешенек в целом свете.
Нет, даже еще страшнее: будто он еще не один, но люди — много-много людей — стоят вокруг, смотрят на него прощально и молчат. И сейчас они уйдут навсегда от Кузи, а Кузя не знает, как их остановить.
— Не молчи, Елькина! — умоляюще сказал Кузя. — Скажи хоть что-нибудь!
Молчит Анька и смотрит.
— Ну, обругай меня самыми последними словами! Ну, пожалуйста, Елькина! Ну, что тебе, жалко?
— Уходи отсюда, — тихо сказала Анька. — Ты недобрый.
ГОРИ, СИЯЙ!
В коридорах пели…
…Твоих лучей волшебной силою Вся жизнь моя озарена,печально выводил бас.
Умру ли я, ты над могилою Гори, сияй, моя звезда…подпевал звонкий упрямый голос.
А когда Михаил Павлович и Анька допели, стало тихо, только эхо все никак не могло угомониться в дальних коридорах, и все бродило, все шептало: «Гори-сияй… Гори-сияй…»
— Не хочу я его любить, — грустно сказала Анька. — Он злой, плохой…
— А любят не только хороших… — вздохнул Михаил Павлович. — Что ж тебе любовь-то — похвальная грамота?
— И плохих любят? — удивилась Анька.
— Всяких…
— И совсем-совсем плохих?
— И совсем-совсем…
— Почему?
— Потому что мы, люди, — задумчиво объяснил Михаил Павлович, — всегда надеемся на лучшее в человеке… И верим, что, когда его уже ничто не может спасти, спасет наша любовь.
— А она спасет? — с надеждой спросила Анька. — Обязательно?
— Не обязательно. Но иначе нам, людям, нельзя. Пошли домой?
— Не… — помотала Анька головой. — Я еще немного тут посижу… Надо подумать о некоторых вещах… Мне тут очень думается.
Михаил Павлович снял с руки часы, отдал Аньке.
— Хорошо, думай. А через пятнадцать минут приходи.
Он ушел, а Анька Елькина осталась думать. Ведь жизнь — штука не очень-то понятная, чтобы ее понять, надо много думать.
Анька сидела под пожарным краном. Ей думалось.
Еще ни разу в жизни она не думала так много и долго, как сегодня под пожарным краном.
ОНИ БОЛЬШЕ ТАК НЕ БУДУТ
Ох, и попало всем на разборе!
И все клялись, что они больше так никогда не будут.
— Ну, глядите! — грозно предупредил Михаил Павлович. — Это я в последний раз такой добрый! Всех повыгоняю!
Он всегда так говорил.
В большом холодном небе уже опять вовсю сияли звезды. Пора, пора было прощаться. А не хотелось.
— Домой, домой! — уговаривал Михаил Павлович. — Ведь вас скоро с милицией будут разыскивать.
Первым убежал Мотя. Он выскочил на ступеньки и стоял там до тех пор, пока из переулка не вышла девочка в белой вязаной шапочке. Мотя взял ее за руку, и они ушли.
Потом дверь хлопнула три раза, и на улице появились Юля и Павлик. Они шли молча, а за ними нахохлившейся тенью брел образцово-показательный ребенок Зайцев.
— Скажи ей спасибо, — бубнил он. — Если б не она, я б тебе еще дал! Если что, ты у меня и не так получишь!
Вышел Айрапетян и спрятался за углом: он ждал Аньку… Анька пойдет по темной, морозной улице рядом с Михаилом Павловичем и Кузей, а Айрапетян будет ее провожать, прячась от света фонарей.
А когда все разошлись, из раздевалки выглянули несчастные Вовка и Балабанчик и затянули несчастными голосами:
— Михаил Павлович, мы больше так не будем…
— Будете! — отозвался проницательный Михаил Павлович. — Ну, вот если честно?
Балабанчик и Вовка переглянулись.
— Если честно, то будем, — уныло согласились они. — Немножечко.
— Но только не сейчас, а потом, — поспешно уточнил Вовка. — Когда вам волноваться можно будет!
Михаил Павлович удивленно поднял брови:
— Не понял! А почему мне нельзя волноваться?
— А вы что, сами не знаете?! — строго взглянул на него Балабанчик. Потому что у вас сердце больное!
— Ну знаете! — рассердился Еремушкин. — Мое сердце — это мое личное дело! Ишь, чего выдумали!
— И наше — тоже! — заупрямился Балабанчик. — Только не спорьте, а то еще разволнуетесь!
— Вот именно! — кивнул Вовка.
— Погоди-ка… — удивленно взглянул на него Михаил Павлович. — Ты что, не заикаешься?
Вовка грустно помотал головой.
— Его Анька вылечила! — весело доложил Васька.
— Как?
— Очень просто, — объяснил Вовка и вздохнул. — Унтом по башке.
Михаил Павлович захохотал, обнял друзей за плечи. В общем, было ясно: они прощены!
Вовка и Балабанчик вышли на пустую морозную улицу и только сбежали вниз по ступенькам Дома пионеров, как от большого тополя, росшего прямо против входа, отделилась темная, зловещая фигура… Из-за угла выскочили еще четверо.
— Ну что, рыжий, поговорим? — сурово спросил Вадик Березин.
— Поговорим! — с готовностью ответил Балабанчик. — Вов, ты иди.
— Ага! — обиделся Вовка. — Жди да радуйся! Их вон сколько.
И они стали «разговаривать» с мальчишками из балета.
Вдвоем против пятерых. Хорошо еще, Айрапетян пришел на помощь. Вот только драться он совсем не умел.
АНЯ ЕЛЬКИНА НАЧИНАЕТ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Анька пришла серьезная, сосредоточенная. Знаете, до чего она в конце концов додумалась?
До того, что с завтрашнего дня начнет новую жизнь.
Придется Аньке учиться быть девочкой, видно, ничего тут не поделаешь.
Михаил Павлович отнесся к этому Анькиному решению очень серьезно, одобрил.
— И пошли-ка уже домой, — сказал он. — Поди, голодная!
А своего несчастного, растерзанного внука он будто совсем не замечал. Где шапка? Где лыжи? Что случилось? Ни о чем не спросил Михаил Павлович Кузю. Они ведь с утра не разговаривали друг с другом.
Анька потянулась за пальто, но Михаил Павлович ее опередил.
— Я сама! — закричала Анька. — Чего это?
— Ты забыла? Ты теперь девочка, — строго напомнил Михаил Павлович.
Анька засопела от неловкости, долго не могла попасть в рукава.
Они спускались по лесенке к выходу, и Анька привычно оседлала перила.
— Эт-то еще что? — поднял брови Еремушкин. — Девочки не ездят по перилам!
Пришлось Аньке спускаться вниз так, как положено девочкам.
И вдруг Анька охнула. Платье и бантики!
Как же она завтра пойдет в Дом пионеров, ведь платье-то и бантики тут, на Фестивальной!
— Михаил Павлович! — закричала она. — Подождите, я домой сгоняю. Я быстро! — И выскочила на улицу.
Стоп. Прежде, чем сломя голову нестись за Анькой, замрем на несколько минут, чтобы попрощаться с Михаилом Павловичем и Кузей.
Дед и внук стояли рядом, упрямо молчали. При этом Михаил Павлович как бы и не замечал, что рядом есть еще кто-то.
В Доме пионеров было непривычно тихо и пусто, только сверчок посвистывал, где-то поблизости затаившись.
— Дед, — шепотом позвал Кузя. — Я плохой?
Михаил Павлович вздохнул и не ответил.
— Дед, хоть ты не молчи!
— А что говорить? — печально отозвался Еремушкин.
Кузя сунул красные озябшие руки в карманы куртки, уставился в пол. Анька все не возвращалась, и они молчали, молчали.
— Дед… А когда они развелись, почему ты меня в детдом не отдал?
Михаил Павлович взглянул на Кузю и вздохнул. И опять ничего не ответил. Только обнял своего длинного, глупого внука за плечи да, как в детстве, тихонько дунул ему в затылок. И, как в детстве, Кузя вдруг прижался к нему и заплакал.
Он плакал взахлеб, горько и жалобно, и все пытался что-то сказать, но у него не получалось. Видно, много накопилось за эти годы у него на душе.
Наконец он все-таки выговорил:
— Дед, мне так плохо…
Но Михаил Павлович не стал его утешать. Он только сказал тихо:
— Терпи.
Он давно жил на свете и знал, что вовсе не всегда людям бывает легко и радостно. И знал он еще, что человек все-таки должен оставаться человеком. Даже если ему очень плохо.
Ведь если разобраться, это самое главное, верно?
Ну вот и все…
То есть нет, еще надо проститься с Анькой, которая начинает новую жизнь. Вернее, с Аней.
Вот она выбежала на крыльцо, и…
Вы-то уже знаете, что прямо у крыльца шла драка. Били Балабанчика. А поскольку Вовка Гусев и Яша Айрапетян его защищали, то их били тоже. В общем, неприглядная была картина.
Аня остановилась на верхней ступеньке и подумала: «Опять эти мальчишки устроили драку!»
С неодобрением подумала, как и положено настоящей девочке.
«Может, пойти Михаилу Павловичу нажаловаться? Нет, мне же некогда: надо бежать за платьем и бантиками…»
— Дай ему, Вадя! Дай! — вопил кто-то.
— Мальчики, немедленно перестаньте! — крикнула Аня, как и положено девочке. И, услышав родной голос, Балабанчик отозвался отчаянно:
— Анька, на помощь! Наших бьют!
Всегда этот Балабанчик влезет не вовремя и все, все испортит!
Анька вздрогнула, будто проснулась, и глянула вниз желтым пиратским глазом.
Там били наших!
Пятеро били. Троих. А уж если быть совсем точным — двоих с половиной. Ведь Айрапетян-то драться не умел.
«По двое на одного!» — сосчитала Анька, и от такой подлой несправедливости на душе у нее стало так горячо, так грозно.
— Держитесь! — закричала она и, позабыв о бантиках, бросилась туда, где били наших.
Какие уж тут бантики, когда наших бьют!

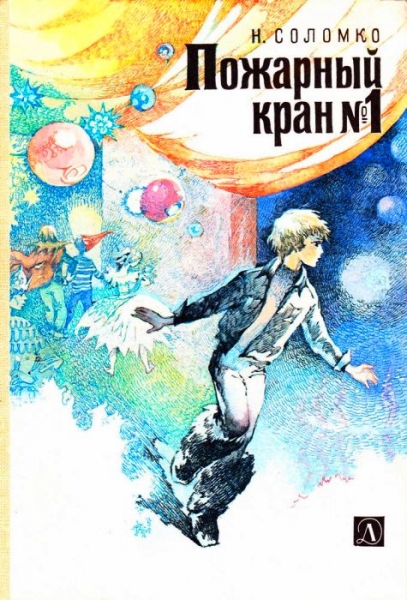

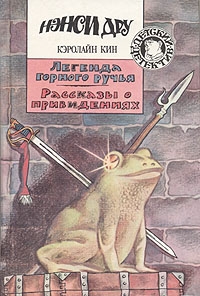





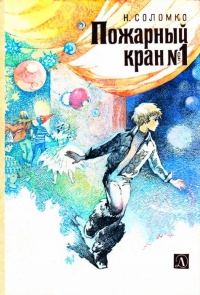
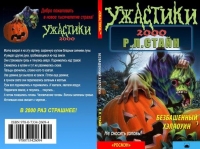

Комментарии к книге «Пожарный кран № 1», Наталия Зоревна Соломко
Всего 0 комментариев