Ткач Елена ЦАРЕВНА ВОЛХОВА СКАЗ О ЖИЗНИ ЖИВОЙ И МЕРТВОЙ
Засни, моя деточка милая! В лес дремучий по камушкам Мальчика с пальчика, Накрепко за руки взявшись и птичек пугая, Уйдем мы отсюда, уйдем навсегда. Алексей РемизовЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1 СОН-ТРАВА
— Мамочка, мама, не спи!
— Угм…
— Мама, Сенечка плачет.
— Сейчас…
Эля ещё минуту постояла возле матери, уснувшей за рабочим столом, уронив голову на стопку машинописных страниц. Потом наклонилась, пошарила под столом, извлекла оттуда недопитую бутылку вина, синий граненый стаканчик и на цыпочках прокралась на кухню. Вылив остатки вина в раковину и ополоснув стаканчик, она умылась, утерла лицо полотенцем и так же на цыпочках вошла в детскую.
Сенечка спал. Ротик его был приоткрыт, он дышал тяжело, запрокинув головку, а лоб, и шея, и грудь — все покрылись мелкими слезками пота. Жар!
— Э-ля… ты тут? — он приоткрыл глаза. — Попить… дай.
— Сейчас, маленький, сейчас. У тебя болит где-нибудь?
— Весь болю.
Сеня скривил губки, как видно, испуганный этим внезапным открытием и захныкал.
— Ма-ма! Ма…
— Сенечка, ты же знаешь — мама работает. Она сейчас занята. Мы ведь и сами справимся, правда? А?! Мы ведь уже большие, мы сами все сделаем. Сейчас я попить тебе принесу. Чайку, да?
— Води-и-ички! Эль, я… — он недоговорил, широко раззявил щербатый свой роток и громко, отчаянно заревел, вцепившись в сестрину руку.
— Ну, чего ты, маленький, чего?
— Я описался.
— Ну, подумаешь! Это разве беда? Сейчас Эленька тебе простынку поменяет. Только не надо плакать. Хорошо?
Малыш, плача, кивнул и отвернулся к стене. Ему было три года. Сеня-Семен уже многое понимал и больше всего боялся огорчить маму.
Эля кинулась к матери и решительно встряхнула её за плечи.
— Мама, у Сенечки жар. Я не знаю что делать!
— А? — мама с трудом подняла отяжелевшую голову и протерла глаза. Что ты… сказала?
— Мама, Сенечка заболел. Врач нужен.
— Ох… сейчас. Сейчас, маленькая.
— Мама, я не маленькая! — Элин голос зазвенел от обиды. — Сколько раз просила…
— Ну, прости, не буду, не буду, Конечно, ты совсем взрослая. Вы растете, а я… Мне нужна сон-трава. Я опять недосмотрела свой сон. Спать хочу!
— Что тебе опять этот сон снился?
— Опять.
— И ты… опять его не разгадала?
— Она только просит разыскать могилу. Смотрит так… как будто жалеет меня. Жалеет, что просит. Но иначе нельзя. Ей нельзя — маме моей. Царствие ей небесное!
— Мам… — Эля осторожно заглянула ей в глаза. — Ты говорила, что она… ну, бабушка… будто хочет тебе ещё что-то сказать. Но тут сон каждый раз обрывается. И сейчас так было?
— Так. Сон-травы хочу.
Мать наклонилась, заглянула под стол, не нашла там того, что искала и вскинула голову.
— Где она?
— Мам, прекрати! Пойдем, я тебя умою. Нет больше сон-травы!
— А куда ты… — женщина не договорила, резко тряхнула головой. Заколка, которая стягивала её волосы на затылке, со стуком отлетела на пол.
— Я её вылила.
Мать вскочила и Эле показалось, что глаза её полыхнули огнем. Это был дикий, недобрый огонь. Его Эля боялась.
Но мама сдержалась, только судорожно сжала тонкие нервные пальцы.
— Что ж… — она опустила голову. — Завари мне чайку. Работу надо закончить.
— Мам, может лучше завтра? Встанешь пораньше и закончишь. А чай у нас кончился. Сейчас вот Сене хотела заварить, гляжу — а баночка-то пустая…
— Угу. Ладно… Тогда кофе. А работать мне надо сейчас — завтра голова будет уж не моя…
— Мамочка, ты забыла. Кофе ещё позавчера кончился.
— А у меня заначка есть! — и мать вдруг как-то озорно улыбнулась, сразу похорошев несказанно, и прищелкнула пальцами.
И Эля в который раз подивилась маминой способности преображаться меняться вдруг, разом. У мамы было много обличий. Иногда лицо её озарялось теплым внутренним светом, а иногда глаза загорались таким опаляющим жгучим огнем, что Эля не всегда могла выдержать этот взгляд. И тогда она говорила себе, что мама её ведунья, вещунья, способная разгадывать прошлое и провидеть будущее…
Анастасия — Тася, как звали Элину маму близкие, догадывалась о том трепетном восхищении, даже восторге, с которым любила её дочь. Впрочем, теперь, когда в их жизни все так внезапно, так мучительно переменилось, им было не до восторгов. Теперь ими правил страх, от которого обе мечтали укрыться хотя бы во сне.
* * *
Началось все с того, что Тасе стал сниться один и тот же сон. Она видела свою бабушку — Элину прабабушку, Тоню. Та сидела на валуне, лежащем в воде у самого берега. Сидела, обхватив руками колени. А за нею открывался широкий и вольный простор реки. Она сидела спокойная. Подзывала внучку рукой. И говорила: «Разыщи могилу деда. Своего настоящего дедушки… Найди его, Тася.» И больше ничего — сон на этом всегда обрывался. Иногда Тася успевала заметить темных и быстрых рыб, скользящих в воде. Но бабушка, кажется, всякий раз хотела добавить что-то еще. Ее взгляд менялся — и такая мука была в нем, такая боль… Но не успевала — внучка её просыпалась, вздрагивая как от удара.
Легко сказать — разыщи! И это после того как сама она — Антонина — не открыла даже дочери, кем был её отец. Даже на смертном одре не сказала! И тайну свою унесла в могилу. У Тасиной мамы Татьяны Гавриловны был приемный отец Гавриил Игнатьевич Мельников. Добрый, заботливый… Лет в пятнадцать та узнала, что он ей не родной — сам как-то нечаянно проговорился. Она замучила мать расспросами: кто же её настоящий отец? Но та, хмурясь, отмалчивалась, хотя человеком была приветливым, добрым, живым… А тут ни слова, ни полслова! Ни-че-го. Тасина мама не понимала в чем дело. Почему ей нельзя знать даже имени? Что за тайна такая?
Но ответом на все её расспросы и мучительные размышления было только материно молчание. Сама Татьяна Гавриловна рассказала об этом Тасе только в больнице, перед концом. Так та узнала о загадке их рода, измучившей мать. Теперь знала о ней и Эля.
И вот, когда спустя год после смерти мамы бабушка стала являться Тасе во сне, весь привычный размеренный ход её жизни был сорван. Она поняла, что тайна бабушки настолько важна для них, — для неё самой, для детей, — что положила целью жизни раскрыть её. Раскрыть, какой бы страшной она ни была!
И взялась за поиски. Обзвонила и обошла всех, кто хоть сколько-то знал её бабушку. Все покачивали головой. Сочувствовали. Недоумевали. Для многих было не понятно: как можно так истово верить снам и пытаться найти ответ на вопрос, который, собственно, теперь не так уж и важен… Анастасия женщина со вполне удавшейся судьбой, у неё работящий и преданный муж, прекрасные дети… Так, при чем тут давно умерший и к тому же незнакомый даже матери человек? При чем тут какой-то сон?
Другие вполне понимали Тасю, но помочь ничем не могли. О прошлом Антонины Петровны им известно было немногое: будто появилась она в Москве в конце сороковых, а до этого жила, кажется, где-то на Волге. Но где именно никто не знал. Да, Тасина бабушка была женщиной очень скрытной!
При этом начало происходить нечто странное. Чем настойчивее Тася пыталась выполнить просьбу покойной бабушки, чем больше нервничала, пускаясь на поиски безвестного деда, тем отчетливей реагировала на это незримая ткань её жизни. Она стала рваться. Что-то сломалось в налаженном механизме судьбы семьи, дотоле вполне благополучной и счастливой. Но о том, что случилось с ними — об этом речь впереди…
* * *
Эля тихонько обняла маму за шею и прижалась холодной щекой к её волосам. И едва не крикнула в голос, вдруг заметив, что эти чудные, густые, темные с медным отливом волосы пестрят сединой.
Тася поднесла к губам прозрачную Элину руку, а потом не удержалась расплакалась. Она плакала глухо, давясь слезами, силясь их побороть, задыхаясь от этого и плача все пуще.
— Ну, мамочка ну, миленькая, пойдем! — уговаривала дочь, неловко гладя ей лицо, и плечи, и волосы. — Надо Сене помочь, а потом мы поплачем с тобой, а сейчас он… температура высокая у него.
Будто стальной обелиск вырос вдруг возле стола, у которого притулились они, — это встала Анастасия, словно впервые услышав, что сыну плохо. Словно только теперь смысл этих слов пробил брешь в заслоне, которым привычно оборонялась от бед с недавних пор. Теперь — такая! — она могла сквозь стену пройти… Только глаза её вдруг погасли.
И уж глубокой ночью, когда Сенечка заснул наконец, напоенный отваром малины, чаем из листьев смородины и аспирином, Тася, виновато потупясь, спросила.
— Эльчик… а сон-травы не осталось?
— Ну, мам! — Эля умоляюще взглянула на мать, но встретив пустой неживой её взгляд, сдалась.
— Там… я тебе немножко оставила.
И стремглав метнувшись на кухню, вытащила из шкафчика плоскую бутылочку коньяку, задвинутую за штабеля кастрюлек.
— Откуда это? — поразилась Тася. — Ах, да… — она вспомнила как на прошлой неделе — на страшной неделе, когда переехали они сюда, в этот дом на окраине Москвы, она впервые купила себе не вина, как обычно, а коньяку. Много… Тогда к ней приехала Ксана, посидела с часочек, а потом… Нет, что было потом Тася не помнила. А вот эта бутылочка, как видно, осталась, а Элька её припрятала.
Она поцеловала дочь и ушла к себе.
И упала ночь в пустоту, в которой нет времени и не светят звезды.
И Эля никак не могла уснуть — она лежала без сна.
«Какой же мне достать сон-травы?» — думала она, кусая мизинец.
Когда не спала — Эля всегда так — кусала пальцы.
Мама как-то подметила, засмеялась: «Смотри, до косточки не проешь!»
Они всегда понимали друг друга. И сейчас тоже. Только не понимали что делать…
Жизнь — всегда такая светлая, радостная, полная до краев — вдруг оскалила зубы в звериной усмешке. Она разом сбила их с ног и глумилась, помахивая над головами мерным маятником времени, чудовищным как смертоносный стальной серп в рассказе Эдгара По.
«Неужели же? Неужели весь этот ужас как-то связан с тем, что я взялась за розыски деда? — часто думала Тася, глядя в окно, тонувшее в сигаретном дыму. — Но почему? Почему…»
Они попали в беду. И помощи ждать было неоткуда. И время застыло над ними душным пологом, непроглядное, как заболоченная вода.
Глава 2 ЦЫГАНКА
Анастасия Сергеевна Пронина — Элина мама — родилась в Москве в начале шестидесятых. Ее родители, люди милые и домашние, всю жизнь тихо-спокойно прослужили в советских учреждениях, думать не думая ни о вольности, ни о протестах. Им и так было хорошо! Но дочка Тася невесть от кого из предков переняла непокорную, диковатую жажду свободы. Все её упрямое существо требовало чего-то особенного — незнакомого уклада, отвергающего жизнь по накатанной колее.
Всю свою юность она готовилась поступить в театральный, занималась в хореографической студии дворца «Серп и молот», брала уроки у когда-то известной, а теперь одинокой и всеми позабытой актрисы — та обучала Тасю основам сценической речи и актерского мастерства. Старая актриса уверяла, что у её ученицы несомненный дар — стоило только взглянуть в сияющие распахнутые глаза цвета влажных каштанов, услышать звонкий заразительный смех, чтобы понять: у этой девушки дар Божий, ей многое дано и остается только уповать на удачу, а остальное приложится.
Однако, удача Тасе не улыбнулась. В театральный с первой попытки её не приняли — по конкурсу не прошла и… обиделась. На комиссию, на судьбу, на родителей, которые ни к театру, ни вообще к искусству отношения не имели… Не было у них нужных знакомств, не было связей, без которых в этот мир избранных не пускают. Посторонним вход воспрещен!
И вот этак-то сгоряча и назло себе в тот раз топнув ножкой перечеркнула она — как отрезала давнюю свою мечту. Мол, раз не вышло значит поделом тебе и точка!
Вот такая она была. Бескомпромиссная. Гневливая. Норовистая. Либо либо… Пан или пропал!
В глазах её порой такие бездны проглядывали, что лучше бы тогда никому в них и не заглядывать… Ей самой иной раз казалось, что этот исступленный огонь может сжечь её изнутри. Душу спалить… Дотла!
Спалить — не спалил, но подпалил — это точно! Ее прозвали цыганкой за мрачное огненное сверканье в глазах, за загадку какую-то, которая явно угадывалась в ней…
Густая копна волос вьется по ветру, что конская грива, все движенья порывистые, хотя и не резкие — все же гармоничное женственное начало преобладало в ней. И бывало вдруг обернется она, — смуглая, статная, откинув за спину гриву вьющихся медных волос, отсверкивающих на солнце, и взгляд исподлобья внезапно пронзит насквозь, а губы чуть улыбаются…
«Тебя, Тася, точно светом нездешним в ночи обожгло!» — сказал как-то ей один однокурсник, немного в неё влюбленный. Немного — потому что побаивался её. Не по росту ей был, приближаться не смел… И добавил еще, спрятав взгляд: «Может, это свет звезды. А может… царица Тамара, которую Демон любил, память об этой любви тебе в душу вложила…»
И как сказал — больше ни разу и не подходил к ней.
А вот Элин папа не побоялся! Это было, когда Анастасия, переболев и смирившись, поступила в педагогический. Русский язык и литература. На курсе она была заводилой. Вместе с нею компания друзей-приятелей направилась как-то на Юго-Запад Москвы, где в неприметном подвальчике ютилась театральная студия, ставшая впоследствии знаменитой. Но это придет потом популярность, толпа, жаждущая прорваться на премьеру… А тогда было так: пришли четверо и сказали: «Здрас-сьте, мы играть хотим!» Им ответили: «Какие проблемы? Хотите — вперед!»
Лекции перемежались с репетициями и спектаклями. Днями и ночами пропадала Тася на Юго-Западной. Родители сетовали, что стали потихоньку подзабывать как звучит её голос… И на одном из спектаклей увидел её молодой, подающий надежды физик Коля Корецкий. Увидел — и все! Сгорел! Влюбился без памяти. А когда Тася забеременела, — страстный его напор её подкупил, — поженились. Обычная, вроде, история.
Когда родилась Эля, пришлось Тасе оставить студию. Тасина бабушка мамина мама, Антонина Петровна, переехала к дочери, а квартиру свою в одном из переулочков близ Чистых прудов отдала внучке. Пускай молодые живут, да радуются! И они стали жить. И родилась у молодых дочка Елена, которую бабушки с дедом называли Аленушкой, а мама с папой — Элей.
Элька росла резвая, тонкая — в мать. Только была она мягче, тише, задумчивей. С раннего детства манил её сокровенный мир, в который никому, кроме неё самой, хода не было.
А глаза были такие же удивленные, огромные, привораживающие как у матери. Только были они светлей. Гораздо светлей… Золото в них отблескивало густой прозеленью, точно искры далекого костра посверкивали сквозь чащу.
После выпуска Тасю распределили в одну из московских школ. Самую обыкновенную. Она, как могла, старалась оживить и разнообразить программу, рассказывала о судьбах поэтов, о том, что за избранничество и дар слова им, как правило, приходилось платить, и дорого. Очень дорого. Часто — жизнью…
Она таскала своих учеников по музеям, устраивала поэтические вечера, иной раз прямо под открытым небом — где-нибудь на бульваре или «на Патриках», возила в Загорск, в Сергиеву Лавру… Часто сиживали они с классом за необъятным раздвижным овальным столом в бабушкиной, — а теперь её, Тасиной, квартире, уплетали пирожки, винегрет, сладкий-сладкий рулет с маком — струдель, который она выучилась печь у бабушки Тони. Ученики её обожали. Мальчишки тайно влюблялись…
Коле это не слишком мешало — он был всерьез увлечен наукой и не раз уверял Тасю, что ей предстоит стать женой Нобелевского лауреата! А вот коллеги… Их Тасина пылкость весьма и весьма раздражала. И что за идол такой — эта Корецкая А.П.?! Выскочка, девчонка, соплюшка! Опять же обычная история… Вскоре они всем дружным коллективом Тасю так обломали, что и вечерние прогулки по гудящей Москве, и чаепития за овальным столом все стало ей в тягость. Заклевали так, что пришлось сменить школу. И пошло, и поехало…
В ней зрел протест, а ненависть к обывателям разряжалась в домашних скандалах. От обиды и боли ей и муж-то казался порой слишком «пресным», слишком рутинною — жизнь. Она начала корить всех домашних и даже маленькую Элю за то, что эта самая жизнь с упорством ломовика вгоняла её в накатанную колею…
И все же… Какой теплотой были согреты иные вечера, когда Тася с дочуркой укрывались в детской и читали, читали… Эля самозабвенно полюбила «Властелина колец» Толкиена. Да и Тася, читая ей всю трилогию вслух, получала настоящее удовольствие. Из вечера в вечер — перед сном, когда по стене детской бродили тени и дом готовился к великому таинству погружения в ночь.
Тогда жизнь становилась полною тайного смысла, крепло их доверие друг к другу — тончайшая связь, которую не наладить, если нет между близкими по крови близости духа…
Из этого девичьего сродства, обогретого вечерами за книжкой, Николай мало-помалу стал выпадать. Его все больше раздражала манера «женщин», как он называл Анастасию с Еленой, обособляться и делать вид, что только им открылась тропинка к постижению высшего сокровенного смысла. Он понимал: хоть жизнь и опалила Тасины крылышки, но все же она не сдалась. Нет! Только стала более замкнутой, отужденной от всего и вся, кроме Эли.
Тут подкрались девяностые. Перестройка. Инфляция. Жить стало не на что. И Николай подался в коммерцию.
Года два мотался челноком — Польша, Турция… Потом завел киоск на Смоленке. Дальше — больше: взял у приятеля в долг под проценты довольно крупную сумму и открыл магазин. Все как надо оформил, с властями потолковал — власти им остались довольны… Видно, щедрость проявил — не поскупился. Хотя, попробуй-ка поскупись с префектурой! Закупил огромную партию товара, продавцов нанял, менеджера. Деловым человеком себя почувствовал. И соответственно — купил часы «Роллекс» и «Форд». Правда не новый, но с виду вполне «крутой».
Тася морщилась — вся эта мужнина кутерьма с первых дней стала ей ненавистна. Однако, терпела: муж семью кормит! Только совсем замкнулась мрачная стала, подавленная. И в комнатке у неё появился деревянный бар на колесиках.
Тут оказалось, что она вновь беременна. И как узнала, пританцовывать начала, песни петь, стоя у плиты. И все веселей они с Элей перемигивались за столом, все тесней вечерами прижимались друг к другу, перечитывая трилогию Толкиена. Бар был задвинут в чулан.
Работу она оставила с легкостью — долго упрашивать не пришлось… Днем принялась вышивать крестиком, говорила, смеясь, что когда подрастет Элькин братик или сестричка и прочтет ей наизусть «Сказку о мертвой царевне» Пушкина, — вот тогда работа её будет закончена. А сюжет вышивки — домик с башенкой, мезонином и открытой верандой, окруженный цветущим садом, — этот дом воплотится. Появится наяву. Дом, в котором сбываются мечты…
Вышивать Тася научилась у бабушки. Она вообще многое от неё переняла: и мечтательную задумчивость, и умение общаться с детьми как с взрослыми без сюсюканья и снисходительности. На равных. И ещё одному научила её бабушка Тоня — разговорам с живой природой. Тася, когда оказывалась в лесу, обязательно убегала от своих спутников, пряталась в самой чаще и говорила с деревьями. С цветами, с травой — со всем, что дышало и радовалось вместе с ней. Это был её мир. Мир, в который она не желала впускать никого…
Тася успела вышить крылатого ангела в правом верхнем углу будущей картины, когда родился Семен. Голубоглазый улыбчивый Сенечка. И девятилетняя Эля с недетским рвением принялась помогать маме выхаживать крохотного братишку. Куклы были заброшены — не выдержали конкуренции! Эля через два месяца уже самостоятельно купала ребенка, а потом подолгу носила его на руках, вглядываясь в глаза и вдыхая теплый и сладкий запах младенческой кожицы. Ей казалось, что небеса вот-вот раскроют ей свою тайну, светящуюся в этих родных глазах. Она знала: брат пришел к ним из мира иного, небесного, и в глазах его какое-то время ещё будет светиться этот нездешний свет.
C рождением брата по-существу кончилось Элино детство. Впрочем, она не слишком-то им дорожила — ей бы поскорее войти в мир больших, научиться тому, что умеют они и читать те книжки, что они читают… И сама она, покачивая колясочку во дворе, шептала дремлющему братишке пушкинскую «Сказку о царе Салтане», которую помнила наизусть. И ритму стиха подчинялось мерное покачивание рессор коляски, и головка ребенка чуть подрагивала на подушке в такт, и Эле казалось, что этот ритм — залог того, что они никогда-никогда не расстанутся… и все будет у них хорошо… И течение времени только ещё разогреет ту теплоту и любовь, которые нарождались и ширились в ней. И время качалось над ними, подчиняясь ритму стиха.
А потом умерла бабушка Тоня. Умерла внезапно, во сне. Ей было восемьдесят девять с половиною лет. Нескольких месяцев не дотянула до девяноста…
И с её смертью внезапно прервался тот мерный налаженный ритм, которым держалась семья. Точно невидимую нить дернул кто-то. Дернул и… оборвал.
Тасина мама никак не могла свыкнуться с горем и плакала дни напролет. Она ничем более не интересовалась, перестала навещать дочь и внуков, забросила все дела свои невеликие — дом, хозяйство… На уговоры родных обратиться к психоневрологу только в сердцах отмахивалась — с уходом матери жизнь утратила для неё смысл. И было ещё одно, что сжигало её, — только ни с кем этим делиться она не хотела, — обида на мать. Ведь та и перед смертью не рассказала ей, кем был её безвестный отец…
Тася металась, не зная как помочь матери, упрашивала сходить в церковь — исповедаться, причаститься — легче будет… Но в ответ Татьяна Гавриловна только с укором на неё посмотрела и сообщила, что греха на ней нет и каяться ей не в чем. Вскоре она совсем занемогла и по настоянию мужа, Сергея Алексеевича, легла на обследование в больницу. У неё обнаружили диабет в запущенной форме. Таблетки не помогали — нужно было колоться. Инсулин и одноразовые шприцы повсюду с собой: поедешь куда-то, забудешь конец! Но от такого образа жизни она наотрез отказалась. Мол, будь что будет, но так не хочу…
Спустя год, возвращаясь под вечер из магазина, Татьяна Гавриловна потеряла сознание. Пока вызвали скорую, пока, исследуя содержимое её сумочки, нашли нужные телефоны и отыскали мужа… Она была в коме. Только глубокой ночью Сергей Алексеевич сообщил Тасе что с мамой. Та примчалась в больницу. И на несколько минут придя в сознание, Татьяна Гавриловна успела рассказать им о том, что всю жизнь скрывала, о том, что иссушило ей сердце — о тайне бабушки Тони.
Она светло улыбнулась, благословила дочь. И под утро ушла.
А осенью, спустя три месяца после смерти жены умер и Сергей Алексеевич, Тасин папа.
Вот с этих-то пор Анастасия и попросила Элю звать её Тасей. Прежде её звали Настей, Настюшей… по-разному. Она сказала дочери, что не знает своего настоящего имени — имени родового, фамильного… и хочет изменить самый звук, то есть голос своего имени. Не фамилию сменить, а то единственное из имен, которое было истинным. Настоящим. Как будто перчатку бросила. Однако, кому перчатку — не самой ли себе? Открытое, слегка свистящее имя «Настя» она сменила на короткое, глубокое, как бы таящее в себе загадку — Тася. Зачем? Быть может, и сама не знала ответа…
Когда Николай по привычке окликал её Настей или Настасьей, в ответ в него летели предметы домашнего обихода: чашки, тарелки, пепельницы… Нервный срыв. Она осталась одна. Да, конечно был муж, были дети… Но святое прикрытие, защищающее человека от темноты, — родители, — они ушли от нее.
Тайна семьи опахнула предчувствием новых потерь. Боль занималась в душе — непостижимая боль, не ведающая истока. Она не подчинялась никаким уговорам разума, ломала все привычные схемы. Только в душе как будто растворилась незримая дверца, и, немой, проник в неё смертный ужас. Призрак беды… И от этого призрака Тася не знала спасенья.
А потом ей стали сниться странные сны. Сны, в которых являлась ей любимая бабушка Тоня и просила исполнить то, в чем когда-то сама отказала собственной дочери — разыскать деда. Вернее, его могилу.
В её комнате опять появился бар на колесиках. Благо, Сенечку она уже не кормила. И ритм поэзии — ритм, который мерно и ровно помогал ей наметывать жизнь — стежок за стежком — угас в этом доме. И дом помертвел.
И надевши под пальто длинную пеструю юбку, туго повязав по самые брови черный платок, подхватив на руки Сенечку и кивком призывая Элю следовать за собой, Тася каждый день выходила из дома — в метель ли, в слякоть… бродить по Москве. Бродить бесприютной странницей, чтобы вглядываться в окна, в квадратные плечи дворов, чтобы научиться считывать знаки, которыми полнится любое живое пространство, постигнуть тайнопись, — непроглядную, неприметную… внятную только чуткой душе. Тася без слов обращалась к Москве — молила о помощи. Она просила, чтобы город пощадил ее…
Но город молчал. Москва не выходила на связь.
И те, к кому обращалась она, — родственники, знакомые, не могли ей помочь. Никто ничего не знал о прошлом бабушки Тони. Говорили только одно: раз её отчество было «Петровна», значит отца звали Петром… Но Тася не успокаивалась — шла и шла. От одной двери к другой. От одного человека к другому. Шла в РЭУ, архивы, ЗАГСы. Она не собиралась сдаваться. Билась в закрытую дверь. И жизнь, словно сгнившие доски мостка, стала проваливаться под ногами.
Николай был занят собой. Делами. Зарабатывал деньги. Он видел, что жене плохо — очень плохо. Но бизнес требовал «глубокого погружения» и не оставлял времени и сил протянуть руку, подхватить тонущую Анастасию и вытянуть на берег. Спасать человека — тяжкий труд. Повседневный. Выматывающий. Да и результата никто гарантировать не возьмется. Словом, отступался он от нее. Медленно отступался, но верно.
А Эля? Она боялась лишний раз потревожить маму. Боялась причинить боль. Нервишки у неё расшатались, в гимназии за ней утвердилась слава неуспевающей ученицы, хотя в начальных классах Эля была отличницей… Девицы все чаще покручивали пальцем у виска у неё за спиной — мол, совсем Элька «поехала»! Вспыльчивая, замкнутая, недотрога. Ничем толком не интересуется, на дискотеки ни ногой и вообще… Над ней начали издеваться. А она? Она зажималась все больше. И ни дома, ни в классе, ни в городе нигде не было ей покоя, нигде не находилось пристанища её простуженной душе… Она было попыталась «пробиться» к папе, но тот не принял её попытки — внутренне он полностью отгородился от семьи и весь погрузился в работу. И тогда Эля стала учиться. Учиться быть мамой Сенечке. Теперь у него было две мамы: одна — с сурово сжатыми губами, резкая и неулыбчивая. И другая маленькая мама, ласковая, снисходительная и растерянная.
И все чаще звучало в их доме полупрезрительное «цыганка» — прозвище юности, которое не уставал поминать Николай.
— Ну что, опять по Москве шаталась, цыганка? — бросал он через плечо, небрежно швыряя на спинку кресла в прихожей свое элегантное пальто от Хуго Босс и сдергивая с вешалки её промокший от снега платок.
Она кидала на него темный взгляд исподлобья и запиралась в комнате. Ей не о чем было с ним говорить.
Она говорила с ушедшими… Со своими. На опустевшем письменном столе, где прежде громоздились груды школьных тетрадей и стопки книг, теперь стояли только три фотографии в рамках. В центре — Тонечкина, по бокам мамина и папина. А у стенки ещё одна рамка была — пустая. Там должна была быть фотография деда.
И ночи напролет разговаривала Тася с мертвыми, вопрошая их: что же делать? Как быть, когда душа корчится не в силах перемогать свою боль. И цепенеет от предчувствия ещё большей беды. Неотвратимой как утро приговоренного, которое неминуемо настает.
Глава 3 КАТАСТРОФА
И беда настала. И хоть угадывала, сердцем чуяла её Тася, но все же к такому удару оказалась она не готова. Да и кто был бы готов?..
Случилось это вьюжной морозной зимой вскоре после крещения. Николай решил, что достаточно твердо стоит на ногах и пора расширять свое дело. Взяв кредит в банке через одного из своих приятелей, он арендовал магазинчик в новом людном микрорайоне. Его только начали заселять, и Коля не сомневался, что магазин очень быстро покроет расходы и начнет приносить хороший стабильный доход.
Он отремонтировал помещение и уже вел переговоры о первых поставках товара, когда на него наехали. Рэкет! Местные братки потребовали заплатить за право торговать в их районе и потом ежемесячно платить дань, едва ли не превышающую половину всего предполагаемого дохода.
— Золотая орда, мать ее! — хмыкнул он. — Ну-ну…
И ничтоже сумняшеся двинул в милицию. Там ему ничем помочь не смогли. После вялых переговоров с участковым Коля понял, что ребята, которых он с лету решил проглотить, были хозяевами в районе. И милиция была куплена.
О нет, глупо было бы предполагать, что Николай, не первый день живущий на белом свете, всех этих неписаных законов не знал. Знал, конечно! Только он рассчитывал, что сумеет немножко потянуть время, найдет себе «крышу» других бандитов, у которых аппетиты будут поменьше. Или как-то сумеет управиться с помощью местных властей. Наивно, конечно. Но уж больно жаль ему было со своими кровными расставаться.
Через три дня после повторного визита братков и их последнего предупреждения магазин сгорел. Вместе со всей партией товара. А на следующий день его навестили представители банка, в котором он брал кредит. И напомнили, что срок возврата кредита истекает через неделю.
В эти два дня Николай поседел. Метнулся в РУОП. Ему спокойно так разъяснили: мол, где ты раньше был, когда тебя в первый раз навестили?
Тася пыталась успокоить его, как могла. Умоляла продать машину, аппаратуру, антикварную мебель, которую он скупал на аукционах весь последний год и очень ею гордился…
Он не верил, что все пошло прахом. Не хотел ничего продавать. Его, что называется, понесло.
— Да, я киллера найму, всю их поганую кодлу перестреляю! Чтоб знали, как с Корецким в шашки играть!
Тася молча, с усмешкой на него поглядела и ушла к себе.
Это его наконец взбесило. Ударом ноги он выбил дверь в её комнату, ворвался и заорал.
— Это все ты… ты накликала. Кликуша!!! Ну, родственнички у неё перемерли — так у всех мрут! А она — и давай, и давай… Скулит днем и ночью в своей каморке: мол, жизни нет. Бездарь! Актриса погорелого театра… Ничего из тебя не вышло и не выйдет ничего, потому что пахать с утра до ночи не умеешь! Ах, не трогайте нас, мы такие тонкие, такие возвышенные — замараться боимся… Бездельница. Алкоголичка! Ты до чего детей довела? Дочь от тебя уж шарахается. Сын заброшенный… Дрянь никчемная!
Тася слушала его молча. Не привстав из-за стола и лишь обернувшись вполоборота. Дрожащая Эля, вцепившись обеими руками в дверной косяк, стояла в коридоре, не зная что делать. Ринуться в комнату, закричать, чтоб отец не смел оскорблять маму? Но она видела: отцу тоже плохо, это страх в нем кричит…
Так в свои двенадцать лет Эля стала взрослой.
Из своего коридора она не видела как отец, накричавшись и так и не услышав ни звука в ответ, бросился к маме и изо всех сил в бешенстве стиснул ей плечи. Рванул, поднял на ноги…
И тут что-то произошло. Он глянул в её глаза — они были так близко! Глянул и… отшатнулся. Точно его отбросило. Он заревел и, споткнувшись, бегом выбежал в коридор. На улицу. Как был — без пальто, без шапки…
А вьюжило тогда… Эля старалась не вспоминать этот день, чтобы его вытравило из памяти. Но этот вой — ночной, истошный вопль одичалой метели… То ли её гнали куда-то, то ли она изловила кого-то и гнала кого-то потерянного, падшего, нищего — в ночь, в хаос во тьму… Прочь из города.
Через три дня у Эли был день рожденья, ей как раз исполнялось двенадцать. Но дня рождения у неё не было — то есть, день был, конечно, только… только он был не живой. И все дни стали теперь такие: точно какой-то неведомый монстр высосал жизнь из течения времени, точно кровушку — капля по капле. И обескровленные мертвые дни шуршали под ногами ворохом палой листвы.
Папа от них ушел. Совсем ушел, навсегда. Может, это метель смела его за порог? Сдунула с уснувшего лика земли…
После той страшной ночи, когда его от жены точно разрядом тока отбросило, никто из домашних Николая больше не видел. Правда, домой он тогда все же вернулся. Чтобы забрать документы бумаги, ключи от машины… Собрать чемодан. И оставить жене коротенькую записку.
«Меня не ищи — бесполезно. Считай, что я умер. Детей жалко, но не могу… Все! Это ты виновата. Тоскливо с тобой. Все не по тебе, все для тебя не то и не так… Старался как мог, думал… (дальше было густо зачеркнуто несколько строк.) Теперь сама покрутись — заработай копеечку! Прости. Может, я чего-то не понимал… Детям скажи… (опять торопливые штрихи, скрывшие написанные было слова…) Нет, ничего не надо. Николай.»
Записка эта лежала на кухонном столе, придавленная апельсином. Утром Тася вышла на кухню сварить кофе, и нашла её. Прочла… и заперлась в ванной. Она пробыла там долго. Эля стучалась: «Мам, ты скоро? Я в школу опаздываю!»
Не достучалась. Скакнула на кухню и нашла там записку. Кинулась к шкафу, где хранились папины вещи — костюмы, рубашки, белье… Все полки и плечики были пусты. Тогда она вернулась на кухню, сожгла записку над раковиной, а апельсин швырнула в раскрытую форточку.
Метель улеглась, снег под окном был глубокий, пушистый… И посреди этой нежной ласковой белизны ярко пылало в утреннем свете круглое сочное солнышко…
И когда, глянув в окно, Эля увидела как он лежит там, их апельсин, брошенный, одинокий… лежит и прощается с ней, — она закричала. И крик её был так дик и протяжен, что Тася очнулась, выскочила из ванной…
В тот же день к вечеру к ним пришли два здоровенных быка в человечьем обличье. Люди из банка.
«Муж ушел? А нас это не колышет. Вы — жена? Значит его долг теперь ваш. И вы нам его вернете. У вас же дети… Знаете, сейчас часто девочек в лифтах насилуют.»
В этот миг из детской выглянул Сенечка. Протопал по коридору к онемевшей Тасе, прижался к её ногам. Один из явившихся растянул мясистые губы в улыбке и подхватил мальчика на руки.
— Какой малышок! Будь здоров, а?! Пожалуй, мы его заберем пока. Чтоб всем было спокойнее. И вы, мадам, чтоб больше не мучились, не сомневались…
Сеня заплакал. Он впервые увидел так близко от себя бессмысленные глаза животного. Хотя у животных в глазах больше мысли, чем в этих мутных, пустых…
Тася рванулась, выхватила ребенка. Быки замычали — смехом эти звуки трудно было назвать.
— Деньги я верну. Сколько? — глухо выдавила она.
— Шестьдесят тысяч. Баксов, естественно, — не рублей.
Она сказала, что деньги будут через неделю. Предупредили, чтоб не шутила, заглянули в гостиную… Языками защелкали — антиквариат!
Анастасия взяла свою записную книжку и села за телефон…
Вечером к ней примчалась подруга Ксана. Самая близкая. Любимая. Виделись они не слишком часто — Ксана прямо-таки горела на работе. Она была ведущим редактором одного из московских театральных журналов, днями торчала в редакции, а вечерами — в театрах. Дружба их началась ещё в ранней юности — с той самой поры, когда Тася варилась в студии на Юго-Западной. Только вот ей с рождением дочери страсть к театру пришлось придушить, а Ксана легкой стопой по этой дорожке пошла.
Ксана влетела в квартиру, Тася уткнулась лицом в мягкий мех её шубки, закусив губу, чтоб не завыть… Ксана, не раздеваясь, увлекла её в комнату, заохала, зацеловала…
Эля не имела привычки подглядывать и подслушивать. Но тут не удержалась. Она должна была знать, что задумала мама. И тихонечко, затаив дыхание, притулилась за неплотно прикрытой дверью в комнату, где подруги пытались понять, что делать.
— Таська, не дури, как же ты без кола, без двора? Где жить-то будете?
— Нет, я твердо решила. Вилять и бегать не буду.
— Но, может, одумаются эти… чудовища? Подожди хоть немного.
— У меня нету времени ждать.
Ксана, холеная, с иголки одетая, теребила тонкими пальцами шелковый шейный платок, повязанный каким-то особенным изысканным и замысловатым узлом. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, человеком она была волевым, постоянным и трезвым. Ясно видела цель и шла к ней кратчайшим путем. И Эля, глядя на них — на маму и тетю Ксану, которую она немного побаивалась, подумала, что тетя Ксана попросту не могла бы оказаться в их ситуации — она бы такого не допустила. Взяла бы семью в свои аристократические ручки и повела в ту сторону, какая казалась бы ей наиболее достойной и верной. Верная сторона… Эля вжала голову в плечи. Чего сторона? Жизни? А разве у жизни есть стороны?
Ее палец машинально расковыривал штукатурку на косяке, пока его не пронзила боль — ноготь сломался. Это как-то встряхнуло, ибо мысли поплыли куда-то, сознание начало растекаться и это было так неприятно, что её затошнило.
Кусая губы, Эля глядела на маму. Темные круги под глазами. Глаза немо вопят от боли. Боль, как огонь, тлеет, томится. А потом как полыхнет… жутко смотреть. Губы скорбно поджаты. Пальцы дрожат. Берут бокал, наполненный светящимся в свете лампы вином… оно плещется и выплескивает через край на страницы раскрытой записной книжки. Чьи-то телефоны, адреса их затопило болью.
«Мама, милая мама! — крикнула про себя Эля, в пустоту, без звука, без голоса. — Что мне сделать, чтоб ты снова стала прежней… живой! Ведь сейчас ты совсем не живая…»
Так она пропустила кое-что из того, о чем говорили за дверью. И теперь разговор шел о работе — мама просила тетю Ксану найти ей работу в редакции, любую… она может корректором, секретарем, хотя, конечно, лучше редактором.
— Таська, ну что ты мелешь? Ты представляешь хоть, какие деньги нам теперь платят? Нет?! У меня полторы тысячи — и не долларов, как ты понимаешь, рублей… а я ведь отделом заведую! А у корректора — семьсот пятьдесят на руки. Ты на такие деньги сможешь двоих детей потянуть?
— Но надо же с чего-то начать! Ведь я уж года четыре как не работаю. Что я, не знаю, что все изменилось, но делать-то нечего! Хоть бы что-нибудь мне… что-нибудь. Лишь бы не школа!
— Ах ты, милая моя! — Ксана вскочила и метнулась к ней, потом к окну… застучала каблучками по комнате.
Эля в испуге от двери отпрянула, боясь, что её заметят.
Скоро мама крикнула ей, чтоб накормила Сенечку. Она повела брата на кухню. Он хныкал, есть отказывался, а потом поглядел на сестру насупившись и спросил:
— А папа? Куда он усол? Когда он плидет?
Эля стиснула под столом кулачки и отвернулась. Сеня положил головку на руки и уставился на синюю хрустальную вазу, в которой стояли розы — их принес папа на прошлой неделе. Пунцовые бутоны так и не распустились и дохлыми птенчиками поникли на стеблях.
Эля, поймав Сенин взгляд, выхватила увядшие цветы из вазы и с каким-то остервенением, ломая стебли, затолкала в мусоропровод. Сенечка молча таращил глазенки, потом выбрался из-за стола, затопал в детскую, бухнулся на ковер и заплакал.
Когда вечер дремал, неспешно перетекая в ночь, Эля заглянула к маме. Теперь перед ней стоял не бокал, а граненая рюмочка — Тонечкина, любимая. И темная коричневатая жидкость пряталась в ней. И глаза мама тоже прятала.
В тот день Тася впервые купила коньяк, убеждая саму себя, что он для Ксаны. Но Ксана только пригубила и ушла, оставив Тасю наедине с фотографиями.
Через день к ним пришел деловитый, аккуратно застегнутый молодой человек с фотоаппаратом. Он долго и тщательно устанавливал свет в гостиной, комбинируя его интенсивность при помощи едва ли не всех осветительных приборов, что имелись в квартире. Объектом его интереса стали две вазы, сделанные в Германии в начале века. Одну из них — с ирисами и бабочками Эля особенно любила… И буквально вцепился в бронзовую настольную лампу с круглым абажуром из дымчатого стекла, на котором вкруг неброских цветов изгибался тягучий, словно истаивающий от неги, узор модерна…
Каждый предмет старинной мебели был зафиксирован на пленку — овальный столик на тяжелых резных плавно выгнутых ножках красного дерева, два кресла, диван, отделанный бронзой, и буфет с цветными витражными дверцами.
— Да, думаю все это подойдет… Пожалуй, кроме овального столика: он требует реставрации, а у нас аукцион на носу — с этим не станут возиться. Но вы не волнуйтесь, думаю, я вам помогу. А лампа — да, это, похоже, настоящий Галле!
Поклонившись в странной резкой манере, точно вдруг увидел жучка и клюнул носом, любитель Галле удалился. А через день сквозь раскрытые настежь двери носильщики вынесли и диван, и буфет, и прочая, прочая… Руководил процессом все тот же деловито клевавший господинчик.
Уже почти закончив следить за упаковкой стола, он вдруг углядел в самом углу книжной полки махонькую вазочку, темную с прозеленью, на которой изгибал колючую ветку кустик чертополоха.
— О! Что ж вы мне это не показали? Это же… — он цапнул вазу и поднес её к самым глазам, глядя в стекло на просвет. — Черт, похоже оно! Это же знаменитая немецкая фирма «Братья Даум»!
Тут неожиданно к нему подошла Эля. Осторожно, бережно, но решительно на удивленье решительно! — она забрала вазу и хмуро буркнула:
— Это не продается.
Господинчик заволновался.
— Анастасия Сергеевна!!!
И тут Эля впервые за эти бездыханные дни увидала на материнском лице улыбку. Тася глядела на дочь. И улыбалась. И жестом подозвав её, обняла, прижала к себе, откинула с лица упавшую прядь волос и проронила тихо, но внятно.
— Раз Елена так хочет, пусть будет так. Это не продается.
А через неделю они переехали. В новую квартиру в Марьино. Собственно, это была не их квартира. Они сняли её. А свою квартиру на Чистых прудах Тася продала.
Глава 4 ДОМОЙ!
Время, отпущенное зиме истлело, и наступила весна, хоть и трудно было в это поверить. Чахлые, бледные сновали по улицам москвичи, спотыкаясь на обледенелых выщербленных тротуарах. Силы таяли, надежды гасли: казалось что мир больше не оживет, не повеет над отравленным городом дурманом сирени, не поплывут над асфальтом бескрылые стаи тополиного пуха… Ни перемен, ни обновленья, ни света — все пурга и тоска, все одно и то ж — лишь понуро вертится колесо повседневности…
Между тем, на календаре все-таки значилось: март. Для Эли это означало приближение женского праздника, который она в отличие от мамы любила — папа всегда придумывал для них что-нибудь интересненькое и сам вставал к плите, не допуская женщин на кухню. Он был прирожденный кулинар: мурлыкая себе под нос что-то веселенькое, всякий раз сооружал какой-нибудь непревзойденный шедевр, частенько не только вкусный, но и забавный. Однажды он приготовил галантин — изысканое блюдо из курицы, фаршированной собственной мякотью и орехами, но не утратившей при этом формы своего тела… К этой курице он незаметно пришил ещё две ноги, и озадаченный Сенечка долго расхаживал вкруг причудливого творенья природы под заливистый мамин смех. Он всерьез уверовал, что к их праздничному столу папа добыл четвероногую курицу!
Ах, как же это было здорово! Эля запрещала себе думать о папе… но это у неё плохо получалось. И как правило, мысленные путешествия в недавнее семейное прошлое кончались слезами. Тогда она запиралась в ванной и с яростью мыла голову. С остервенением втирала в кожу шампунь, чтоб никто, и прежде всех прочих она сама, — не заподозрил в ней слабости. Она знала, надо быть сильной, потому что иначе не выбраться, не вытащить маму и Сенечку. Мама сражена. Наповал. Можно сказать… нет, Эля даже себе боялась признаться, но иногда ей казалось, что душа мамина, — живая, неугомонная, совсем угасла. Окостенела душа…
При этом Эля ни секунды не сомневалась, что мама выкарабкается. Она оживет. Как мертвая царевна из сказки Пушкина. Но зависит это не от житейской логики, не от времени, которое лечит, — нет! Эля и сама ещё толком не понимала, с чем это связано. Она просто надеялась на те высшие силы, которые всегда приходят на помощь, если веришь и ждешь. Если не перестанешь стучаться в дверь… Так часто говорила ей мама. И Эля верила, знала: им обязательно придут на помощь, их не оставят в беде. Надо только дождаться! А сейчас все зависит от неё — она должна удержать их утлый плот на плаву. Чтоб не потонул, прежде чем о них вспомнят, прежде, чем к ним придут…
Ей стало тесно в платьишке подростка. Бремя взрослости пришлось как раз впору — Эля рванулась вперед, предпочтя силу слабости, и радовалась своей выносливости в настигшую непогоду… Она не задумывалась откуда взялась в ней крепость духа… просто шла — топ и топ! — средь кромешного мрака и холода. Напрямик, без компаса, без огней… шла на ощупь. А вдали перед ней мерцал огонек, никому, кроме самой неприметный, — давняя затаенная мечта. Дом! Которого у них никогда не было и, похоже, никогда уж не будет. И этой мечтой согревалось её застывшее на ветру, сбивающееся с ритма сердечко.
… Где-нибудь на берегу реки, возле леса стоит он — этот дом. С садом и цветником, с камином и печкой… с теплыми бревенчатыми стенами, с балкончиком наверху, оплетенном диким виноградом… Ах, как светло, как радостно было бы жить в нем — в этом доме, где не будет спешки и суеты, где поет тишина, а все домашние заняты каким-то простым, каким-то хорошим делом. Ах, как вольно было бы жить. Как хорошо!
Много поздних вечеров и ночей, когда не спалось или плакал и болел Сенечка, Эля спасалась мечтами об этом доме. Она фантазировала. Представляла себе каждый уголок, каждую полочку, особенную, ни на какую другую не похожую. Но дело было даже не в особых приметах быта, не в деталях отделки — в ином. Она снимала с полки альбом репродукций Врубеля и глядела, глядела… Это был её мир. Мир, в котором на неё со страниц глядел ангел. В котором Демон жег ей душу своей неземной неведомой болью.
Она тоже знала теперь, что такое боль. Иной раз жгучая и хлещущая наотмашь, а иной — тоскливая, муторная, сосущая, от которой хотелось забыться, сгинуть навек, лишь бы уйти от этого бездонного омута. Который тянул на дно. Туда, откуда не выбраться.
Но кивнув, как знакомцу, врубелевскому Демону, Эля перелистывала страницу. Она никогда не задерживалась на ней.
А рвалась она к сказочным зачарованным существам, которые оживали на страницах фантастической русской прозы. На страницах читанных-перечитанных и нежно любимых. Мама заново, не по-школьному, открыла Эле Пушкина, Гоголя, подарила ей Одоевского, Погорельского, Сомова… И через этот мир — через слово давно ушедших словно веяло воздухом, которым можно было дышать. Тем воздухом, который спасал от отравления парами одичавшей реальности.
Царевна-Лебедь, Царевна Волхова, Пан, Леший, эльфы, русалки… Шестикрылый Серафим, пророки и Ангелы… И цветы, похожие на живых существ. Собственно, они и были живыми существами, обладающими и разумом, и душой, Эля с Тасей свято верили в это.
И вход в этот мир, влекущий, загадочный, должен находиться где-то там, в доме. И дом был частью его. Он сам был тайной, он был тем пространством, которое раскрыто чудесному. В нем может свершиться все то, на что надеется живая душа! Детская душа в особенности. И Эля… её детская вера в чудо воплотилась в мечту о доме. Где тепло и уютно, где время, текущее за толстыми бревенчатыми стенами, не ведает тлена и разрушения, не тянет к смерти. Это время как бы обратно обыденному; оно не опрокидывает навзничь оно дарит легкость, возносит ввысь. И дом был для девочки живым существом, которое с улыбкой протягивало ей руки над пропастью, чтобы перенести из мира боли и страха в землю обетованную. Мама говорила ей о чертогах Небесного Иерусалима. Вот туда-то она и стремилась. Домой!
Все это было ещё смутно, ещё не сложилось в единую и отчетливую картину. И очень медленно, постепенно прояснялось в её сознании. Для мечты нужны силы. А их у неё не было. Все силы отнимал шаткий мир настоящего, в котором она скользила, едва удерживаясь на ногах. Как по льду. Ее мечты похожи были на мазки акварели, расплывающиеся по воде. На обрывки строк ещё не рожденного стихотворения. На сон, который смотришь в жару, то и дело просыпаясь и проваливаясь опять… и оттого он разорван, бессвязен, но сладок. Как же сладостен сон о полете души в те края, где не ведают страха!
Да, само понятие Дома с большой буквы как места, в котором душа распрямляется и начинает расти, для Эли было, пожалуй, самым важным в её начинавшейся жизни. И удивительно: она никогда не додумывала, не достраивала воображаемое до некоего логического конца. Но старательно оставляла себе возможность дорисовать или домыслить картину. Интуитивно догадываясь, что стоит поставить точку, нанести последний мазок на грунтованный холст, как холст этот с треском разорвет пополам — мир мечты рухнет и его создательница поймет, что время, отпущенное ей для строительства волшебных замков, кончилось. Что никакого Дома нет и не будет.
Как-то, вернувшись из школы, Эля подумала вдруг: «Я хочу домой!» Это было классе в первом или во втором — ей было в школе так скучно… Поймав себя на этой мысли, она тогда сама себе удивилась. «Но ведь я же дома… Я и вернулась домой. Так что ж это? Куда я хочу? Где этот дом? И какой он…»
С тех пор эта фраза накрепко прижилась в ней. И корни её живым сгустком силы начали заряжать Элин мозг. Они посылали ему свои токи и мозг откликался — он ожил. Точно вздохнул свободно… И фантазии стали воплощать зовы сердца. И тогда поняла Эля, что реальность станет ей интересна только тогда, когда сбудутся её потаенные мечты. Наяву! Мечты о Доме, в котором нет ничего невозможного.
Эля не задумывалась о том, что в пространстве, овеянном благодатью ангельских крыл, наверное нет места для Пана, для Лешего или Царевны, поднявшейся со дна вод… Об этом она не думала. Она просто в них верила, верила и ждала. Их всех. Всех, в ком сосредоточилась для неё тайна жизни, чистая как родниковая вода.
И теперь, когда жизнь подернулась пеплом, когда в самом начале пути девочка валилась с ног, пытаясь удержать маму… что могло помочь ей, кроме тех — желанных, придуманных, кого она полюбила больше живых…
Глава 5 СОМНЕНИЯ
В ванной слышался плеск воды — Эля стирала. Сенечка затих в своей комнате, видно, рисовал. Он очень любил рисовать, а в последние дни занятие это поглотило его целиком. Он мог часами сидеть за столом, изображая на белых листах нечто очень яркое, многоцветное и веселое. Чаще всего это были цветы и забавные волосатые рожицы. Правда, после пережитого ужаса и переезда Тася заметила, что рисунки его стали заметно темней. Рожицы и цветы исчезли, появились дерганные странные линии, значение коих трудно было понять. И Сеня угрюмо отмалчивался, когда мама или сестра пытались дознаться, что же это такое…
Тася лежала, отвернувшись к стене и укрывшись пледом с головой. В последние дни сон совсем покинул ее: хорошо, если удавалось забыться перед рассветом на пару часов.
«Нет, эти деньги трогать нельзя, — убеждала она саму себя. — Нельзя, и ты не посмеешь! Это деньги детей и они неприкосновенны — мало ли, что с тобой может случиться…»
Бандитам она отдала шестьдесят тысяч долларов. Квартиру оценили в шестьдесят восемь тысяч и ещё три с половиной набралось за проданную мебель и антиквариат. Тася понимала, что эти вещи стоили неизмеримо больше, её попросту обобрали… но что было делать?
В уплату за нынешнюю квартиру в Марьино попросили заплатить за год вперед, сошлись на десяти месяцах: ушло три тысячи, по триста долларов в месяц. Переезд и самый примитивный ремонт обошлись в полторы. Что ж оставалось? Пшик! А ведь ни работы, ни своего угла не было, и тратить такие деньги за найм жилья было чистым безумством…
Тася не замечала, что в последние дни стала разговаривать сама с собой вслух. Шептала, бормотала что-то… Эля ничего ей не говорила, хоть эта новая мамина привычка очень её тревожила. Вот и сейчас, лежа лицом к стене, Тася играла в вопросы и ответы, шелестя словами как листьями на ветру.
— Семь тысяч… Семь! Что делать? Что же мне делать? Ведь надо где-то квартиру купить! Но где? За такие деньги в Москве не купишь. Смешно! Да и не только в Москве, сейчас меньше пятнадцати и в пригороде «двушка» не стоит. А если однокомнатную? Да нет, невозможно: как мы втроем будем в ней ютиться? Разве что, нары трехэтажные соорудить! Ох… — она примолкла, тяжело и неловко приподнялась на локте и взяла сигарету.
— Не кури в постели! — приказала себе, понимая, что приказа не выполнит. — Ладно, только одну и больше не буду. Буду умничкой, пай-девочкой… правда-правда!
И заплакала.
— Как же ненавижу я этот город! — выдохнула вместе с дымом — выдохнула зло, с горечью, лишь бы унять слезы. — Москва-матушка! Хлебосольная! У людей от тоски глаза воют! Вслух не повоешь — так хоть молча, глазами…
Она задавила в пепельнице окурок и рывком поднялась. Подошла к зеркалу, большущему, бабушкиному, висящему напротив её диванчика. Откинула назад волосы, вгляделась… и, застонав, вернулась на скорбное свое ложе. Снова потянулась за сигаретой. Едкий дым заколыхался по комнате, слоистыми облаками поплыл…
— А, говори — не говори… — Тася махнула рукой. — Что ты все понять пытаешься, что все бормочешь? Пора на работу идти, а не валяться тут! А ведь не видит никто… никто не видит, что город мертвый. Кругом ахают: ах, как Москва хорошеет! Ну конечно, — краской подмажут старый фасад, чугунными решетками отгородятся от улицы, а внутри чтоб мрамора было побольше, да чтоб выглядело подороже… А рядом витрины с громкими названиями западных фирм — Европа! Европа, да… Только там любой самый нетерпеливый водитель пешехода пропустит, а у нас — бампером его, бампером… из-под колес едва-едва уворачиваешься! И как жаль стариков, у которых от обиды губы дрожат… не могу пройти мимо них, голодных! За что им такая старость? За что им город, превратившийся в зону, где гуляют воры в законе? Ох, да что это я?
Она поднялась, прихрамывая, заковыляла по комнате — ногу отсидела. Этак не трудно с ума сойти. Конечно, если каждый день к бутылке прикладываться, да душу себе травить…
Тася не договорила — послышался резкий настойчивый звонок в дверь.
— Слушай, Татуся, у меня хорошие новости!
Ворвалась Ксана, оживленная, помолодевшая, и принялась вынимать из двух объемистых пакетов кульки со всякой всячиной: и сладости детям, и парную телятину с рынка, и фрукты… С порога она начала тормошить подругу, благоухая тонким летучим ароматом дорогого парфюма. Светлая, жизнерадостная и подтянутая как всегда…
— Ну что, все киснешь? Вижу, вижу! Позор тебе, Таська! Ты только погляди на себя… все тебе дано, все при тебе, а ты ползаешь тут, как серая инфузория! Хотя, честно сказать, не помню какие они — инфузории эти может, не серые… Но все равно ты чистая инфузория! Ну, не буду, милая, не буду, прости…
Она перехватила Тасин взгляд, в котором сквозила такая беспомощность и тоска, что Ксана на миг растерялась, но виду не подала и быстро прошла на кухню.
— Давай-ка ставь чайник, сейчас перекусим, а потом я тебе кое-что расскажу.
— А чего тянуть — говори сейчас.
Не ясно было: рада Тася Ксаниному нежданному появлению или скорее раздражена…
Ксана скосила глаза, указывая на детей, которые маячили на пороге: мол, разговор не для их ушей.
— Слушайте, там на улице весной веет! Вышла утром, а там небо такое… Народ через лужи скачет, — слякоть же еще, грязь по колено, а глаза у всех шалые! Так что, имейте в виду: на носу лето! Это не кто-нибудь — это я вам говорю, а я женщина ведь опасная!..
Она подхватила Сенечку и потащила в детскую, прихватив кулек с конфетами и зефиром.
— Элька, друг, догоняй! — крикнула хмурой Эле, которая так и стояла с мокрыми по локоть руками. — Нам с мамой срочно пошушукаться нужно, шепнула Ксана, приобняв Элю за плечи. — Понимаешь, мама нынче совсем не в духе, а у меня новости для нее. Хорошие. Так что…
— Ладно, теть Ксан. Вы сидите спокойно, я вам мешать не буду. У меня ещё стирки целый таз, а «Вятка» наша сломалась.
— Так надо бы мастера… — начала Ксана, но девочка уж не слушала, скрылась в ванне, плотно прикрыв за собой дверь.
— Да-а-а, — покачала головой притихшая Ксана. — Что-то совсем завяли мои девчонки. Замучились, бедные. Ну, да не беда!
Тряхнув головой, она ринулась в кухню — как на баррикады. Знала, что предложение её может вызвать у Таси бурю протеста, и ей предстоит непростая задача убедить её в том, что это единственный выход…
Когда минут сорок спустя Эля появилась на кухне, битва уж отгремела, мама, как видно, уж выплакалась и теперь сидела задумавшись, подперев обе щеки кулачками, как маленькая. Тетя Ксана выжидательно глядела на нее, вертя между пальцами сигарету.
— Тетя Ксана! — поразилась Эля. — Вы же не курите!
— Закуришь тут с вами, — обернулась та с наигранно-сердитым выражением. — Им тут, можно сказать, манна небесная с неба сыпется, а они, видите ли, ещё раздумывают! Ух! — она погрозила Тасе кулаком, а потом охнула. — Ах ты, Боже мой, я же в театр опаздываю!
И прошелестев по коридору длинной кожаной юбкой, наскоро запахнув плащ, уже сбегала по лестнице, оборачиваясь и махая рукой.
Захлопнув дверь, Тася привалилась к ней спиной, запрокинула голову.
— Мам, ну что? — не удержалась Эля. — Чего она предложила? Работу?
— Пойдем-ка. Надо нам было при тебе говорить, ты ведь теперь совсем взрослая…
Со вздохом опустившись на стул, она закурила, прищурилась и взглянула на дочь.
— К новым русским в услужение мне идти предлагает. Как думаешь, соглашаться?
Эля вскочила так резко, что опрокинула табуретку.
— Мам, и ты ещё спрашиваешь?! Я надеюсь, ты уже отказалась?
— Погоди, Эльчик, не горячись. Нам с тобой привередничать-то нельзя.
Тася отвернулась к окну и, ссутулившись, какое-то время молча курила. А Эля не решалась нарушить паузу.
— Киска, все не так страшно! — вздохнув, обернулась к ней мама. Сейчас я тебе расскажу, что и как, а решать будем вместе. Хорошо?
— Мам, ну чего тут решать, что решать? — кипятилась девчонка, дергая маму за руку. — Ну подумай: ты — и прислуга! И у кого? Ладно бы у бельгийской королевы — это бы ещё можно, а так… Мамуль, ведь тебе от этого только хуже будет… и не только тебе!
Эля отвернулась, с ненавистью глядя на на капли, мерно тренькающие о край раковины. Кран у них тек давно…
Суть Ксаниного предложения сводилась к следующему: её подруга актриса, вышедшая на пенсию, на весь весенне-летний сезон сдала свою дачу в Загорянке. Посторный двухэтажный дом с террасой и тенистый сад. Правда, довольно запущенный… Ее весьма деловой племянник, видя, что тетке пенсии не хватает, быстренько убедил её сдать дачу и подыскал съемщиков, семью своего начальника Ермилова. Тот был главой крупной торговой фирмы. В его семье было двое детей: младшая девочка — ровесница Сенечки и сын девяти лет. Детям на лето нужна была няня или бонна — это уж как кому больше нравится называть…
Когда Любаша, эта самая актриса, поделилась с Ксаной своей новостью, та прямо-таки подскочила с восторженным воплем: мол, будет у этого торгаша бонна! Она сразу подумала о Тасе — для той это было решением многих проблем. И платить за жилье не нужно с марта по сентябрь, и свежим воздухом бы дети дышали… рай, да и только!
Ксана немедленно приступила к переговорам, даже ещё не добившись Тасиного согласия. Оказалось, что Тасина кандидатура семейство Ермиловых вполне устраивает. Узнав о том, что Тася учительница, они пришли в полный восторг и заявили, что помимо пятисот долларов в месяц за услуги няни, готовы платить ещё триста за уроки которые она будет давать их сыну. Оставалась самая малость — убедить Тасю! Ксана почему-то ни минуты не сомневалась, что подруге это предложение, мягко говоря, придется не по душе.
Так и произошло. Тася понимала, что восемьсот долларов в месяц — это просто сумасшедшие деньги, но… уж слишком дорого они могут ей доставаться! Идти в услужение… нет, её независимая натура не желала мириться с ролью прислуги. Да ещё у какого-то торгаша!
— Таська, ты это брось! Честное слово, это не гордость в тебе восстает, а бабский дешевый гонор.
Этот разговор и произошел на кухне, пока Эля стирала.
— Ты меня, конечно, прости, подруга, но горе тебя сделало не мудрей, а… — Ксана не договорила и закурила, наконец, ту злосчастную сигарету, которую перед тем долго вертела в пальцах.
— Уж какая есть! — недобро усмехнулась Тася. — Ксанка, спасибо тебе… милая ты моя! Ты уж прости меня, глупую, в самом деле не ведаю, что творю!
И она разрыдалась на плече любимой подруги. И стена непонимания, на миг разделившая их, вмиг исчезла.
— Таська, дура ты моя дорогая, я ведь все понимаю, все! — жарко шептала Ксана, прижимая к себе мокрое от слез Тасино лицо. — А ты перечеркни, задуши в себе прошлое, душу не растравляй. И все начни заново. Тебе ведь всего тридцать с хвостиком. С тоню-ю-юсеньким! Разве это для такой красавицы возраст?! Все у тебя будет, Таська, попомни мои слова!
Тася подняла на неё заплаканные глаза, в которых засветилась надежда.
А Ксана покачивала её, обхватив руками, и думала, что не знает слов, которые могут утешить и поддержать эту несчастную женщину. Дело даже не в том, что подруга её в одночасье все потеряла — дом, мужа… Она себя потеряла! А вот это беда так беда! Потому что тому, кто сам в себе разуверился, может помочь только чудо…
И теперь, когда Тася с Элей остались вдвоем и Эле доверено было право решать, она вдруг поняла, что не может отговаривать маму. Что какая бы жизнь не ожидала их в Загорянке, какой бы протест не вызывала эта работа, она должна помочь маме на неё согласиться. Сделать шаг. Пускай даже против этого все в душе восстает! Но этот шаг должен заставить маму подняться, распрямить спину. Накраситься, наконец! В парикмахерскую сходить…
Начать действовать.
Действие — это главное! — поняла вдруг Эля. И эта её догадка сделала бы честь любому взрослому.
Ночью, лежа без сна и вспоминая об их разговоре, Эля сама удивлялась как легко и просто пришло к ней это решение. С какой радостью приняла она мысль: маму нужно просто заставить действовать! Как будто прожектор вспыхнул в темноте и указал выход из лабиринта.
А как она в начале-то всполошилась, как всполошилась! Эля улыбалась в темноте, вспоминая излюбленное Тонечкино выражение: «Что всполошилась-то? Взбрыкнуть захотелось? Нечего, нечего!» Как же они с мамой похожи… Обе вспыльчивые, брыкливые, своенравные. Раньше Эля была уверена, что это свойства чуткой одаренной души, — так говорила ей мама. Но теперь, слушая как посапывает во сне Сенечка и думая о том как приятно осознавать себя взрослой, человеком, которому доверено принимать решения, вдруг поняла, что вспыльчивость, похоже, не самое лучшее женское качество.
И с чего она об этом подумала? Что послужило толчком? Может быть, все началось на кухне. Сначала они сидели вдвоем — мама с дочкой — и хохотали, приняв решение согласиться на эту работу. И у обеих словно гора с плеч! А хохотали из-за того как обе, едва услышав о наемной работе, начали злиться, ершиться! Не вникнув толком, не разобравшись…
— Знаешь, не так страшен черт как его малютки! — веселилась мама.
— Малюют, мам! — заходилась от смеха Элька. — Не так страшен… ха-ха-ха… как его малюют!
— У меня другая информация! — Тася ухватилась за плечики дочери, чтоб удержать равновесие, её качало от хохота. — Нам ведь черт подсовывает малюток… А… ой, не могу! — размалюют они нас или мы их — это уж мы с тобой разберемся на месте.
— Мам… почему черт? — враз посерьезнев, как-то побледнев даже, спросила Эля. — Почему нам что-то… именно черт подсовывает? Ведь эту работу для тебя разыскала тетя Ксана. А она уж… совсем не…
Эля не договорила, оборвала на полуслове. Она глядела на маму. Глаза у той превратились в два огромных темных провала, зрачки расширились и радужное сияние их пропало. Точно кто-то чужой глянул на Элю из маминых глаз. Это было так страшно… Эля вцепилась в мамину руку.
— Мам, ты что?
— Я сон видела.
— Опять бабушка?
— Да. Но в моем сегодняшнем сне она была совсем другая. Чужая какая-то… Гневная. Стояла и смотрела на меня так… точно я её чем-то смертельно обидела. Точно отняла у неё что-то самое дорогое. Или собираюсь отнять.
— Ох, мамочка! А она что-нибудь говорила? Что-то сказала тебе или просто стояла так, молча?
— Сказала, Эльчик. Но вот, что сказала, я не пойму никак. Ничего не понимаю. Совсем!
— Мам, пожалуйста, скажи мне. Скажи мне, слышишь?
Эля трясла мамину руку в своих, точно таким способом могла отогнать чужого, который глядел на неё из маминых глаз. Может, это был страх? И дочь пыталась вырвать страх из маминых глаз как занозу из пальца.
Видела — мама боялась.
— Она сказала… — Тася помедлила, как будто перед прыжком в воду. Спросила меня: «Который из двух? Которого ты выбираешь? В одном — жизнь, а в другом — смерть. Только смотри, не ошибись, внучка!»
— И все?
— Все.
— Ох, мамочка! Про кого же она говорила? И как не ошибиться-то? А может… может бабушка Тоня ещё подскажет? Придет к тебе во сне и подскажет. А?
— Может быть, дорогая…
Вдруг Тася схватила со стола первое попавшееся — пепельницу и со всей силой швырнула на пол. Та разбилась. Окурки вперемешку с осколками разлетелись по всей кухне. Тася сидела как каменная, только в глазах её бился ужас. А Эля… она испугалась не меньше, кинулась подбирать осколки. Потом опомнилась, схватила веник, совок… Смела все в мусорное ведро. И заплакала. И слезы её растопили недвижную статую — Тася ожила, застонала как от жестокой боли, кинулась к дочери. Они сидели, обнявшись, и ждали жизнь, которая будет. Которая может стать избавлением, а может сразить наповал. Они обе это понимали. Но им оставалось только одно — ждать.
А Эля… может, тут-то она поняла как плохо и грустно быть вот такой дерганой, вспыльчивой. Нет, на маму она не обиделась. Просто сама быть такой не хотела.
И вовсе это не свойство одаренной души, — думала Эля, — а просто… нет, пожалуй, пока она не знала ответа. Что ж это такое — человек? Почему душу бьет и треплет как на ветру… треплет жизнь, словно неплотно прикрытый ставень. Нет, она не знала, почему такое бывает…
А потом, когда они обе выплакались, Эля сказала маме.
— Мам, мы с тобой как ежихи, честное слово! Те сначала тоже фыркают, дергаются и пыхтят, когда их в руки возьмешь, а потом… Как успокоятся немножко, потихонечку нос свой высовывают из иголок и пьют молоко. Слушай, а давай мы… давай пообещаем друг другу, что не будем больше дикими ежихами? А если кто-то из нас станет пыхтеть и подпрыгивать, то другая сразу подаст знак: приручайся!
— И какой же это будет знак, ручная ты моя? — улыбаясь и хлюпая носом, спросила Тася.
— Давай мы станем тереть кончик носа!
Глава 6 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК
Ксана, которая уже не надеялась на согласие подруги, узнав о нем, страшно обрадовалась и принялась улаживать все детали. Ермиловы предлагали переехать как можно скорей — дети нуждались в свежем воздухе. Старший их сын Миша в школе не учился — его готовили к поступлению в английский колледж частные преподаватели. Он должен был отбыть к берегам туманного Альбиона к осени и родители хотели, чтобы мальчик как следует отдохнул и набрался сил на природе.
Отъезд назначили на пятое марта. А накануне, четвертого, раздался неожиданный телефонный звонок. Звонила Евгения Игатьевна, сестра покойного Гавриила Игнатьевича, мужа бабушки Тони. Тася приходилась ей внучатой племянницей. Не родной. Ведь для Тасиной мамы он не был родным отцом… Евгения Игнатьевна, зная о настойчивых Тасиных поисках безвестного деда, долгое время пыталась кое-что вспомнить, маялась — был ведь какой-то след! Вспомнила, наконец, и сразу кинулась к телефону. И вовремя: ещё день — и Тасю с детьми поминай как звали! Связь с ними оборвалась бы на все лето…
И баба Женя, Евгения Игнатьевна, начала свой рассказ. Генечка Гавриил Игнатьевич — обычно на разговоры был скуп, все больше помалкивал. Но как-то в один из прекрасных летних дней, когда сестра пригласила брата к себе на дачу, разговорился о Тоне — жене. Она тогда как раз приболела и приехать с ним не смогла. Тоня тревожила его, он чувствовал, что тайна какая-то жжет ей сердце. И сердце болит. Не то что болит — из груди рвется!
— «Тяжек воздух нам земли!» — Геня все повторял в тот день слова Пушкинского Черномора, выводящего рать свою со дна моря, чтобы обойти дозором чудный остров царя Салтана. Он повторял это, — тонким старушечьим голоском выводила Баба Женя в телефонную трубку, — как бы сокрушаясь о Тонечке. Будто бы это ей тяжек воздух нашей земли. Груз на сердце был у неё — груз тяжелый. А в чем все дело-то было — нет, Геня не говорил… И знал ли сам это, не знал ли — я, видишь ли, Тасенька, тоже не понимаю. Но он вдруг, а сели мы тогда в нашей тенистой беседке чай пить, а к чайку я наливочку свою фирменную припасла, так вот… — тараторила бабушка Женя, вдруг он мне и начал рассказывать про то как Тонечка его в Москве появилась. А ведь любил он её страшно, да! Страшно любил! Так вот, говорит он мне, братик милый, что устроилась она домработницей в один очень хороший дом к одной очень хорошей женщине. Как звали-то её — я уж сейчас не припомню. Знаешь, семья была из числа старых московских интеллигентов. Как в старые годы говаривали: «из бывших». А муж хозяйки-то Тонечкиной — очень высокий военный чин был. То есть, сама понимаешь, я о военных советского времени так не думаю, — не причисляю их к интеллигентам… да и вообще я военных не жалую — сама знаешь…
Тася с трудом подавляла в себе желание закричать в трубку, чтобы баба Женя перестала её мучить и не тянула резину. Ведь сейчас, вот сейчас она, Тася, ухватит желанную ниточку! Потянет за неё и поведет её та по лесам, по полям, да рекам, поведет к могиле родного деда. И исполнится воля Тонечкина! И узнает внучка её то, чего сама так истово, с такой страстью желала… За что заплатила счастьем своим! Тася сердцем чувствовала — этот нежданный звонок и путанный рассказ бабы Жени — и есть начало пути, который приведет её к цели.
— Ну и вот… — продолжала бабушка Женя, ещё минут пять порассуждав о военных, — а сама хозяйка квартиры, — Тонечкина, значит, хозяйка, — она-то «из бывших» и была. Даже, кажется, дворянского рода старинного! И только положение мужа спасало её от обычной в то время участи таких, как она. Ну, понятное дело — от лагерей! А то от чего и похуже… Ну вот. И говорил он Геня-то, что эта самая женщина Тоню пригрела и приняла в семью как свою. Как родную. Полюбила она её очень. И относилась не как к домработнице, а как… ну, к подруге, что ли… А приехала Тоня в Москву с узелком, в котором была смена белья и буханка хлеба. Уж наполовину сгрызенная… И не было у неё в Москве ни родных, ни друзей. Геня в тот день на даче сокрушался уж очень, как могла она одна-одинешенька, да ещё в восемнадцать-то лет в такой путь пуститься. Это с Волги-то матушки!
— Баба Женечка, а откуда конкретно с Волги, из какого города она приехала, — про это дедушка Геня не говорил?
— Нет, миленькая. А вот, что чудом каким-то судьба их на вокзале свела — Тонечку и эту добрую женщину, — про это он говорил. И прямо с вокзала та её к себе в дом забрала. Поняла, что иначе погибнет девушка. В таком городе, да одна… Без работы, без образования — ну, школу-то она где-то там у себя окончила, а что с того толку? Да, ещё она была в положении…
— Кто? Бабушка Тоня? — помертвела Тася.
— Ну, конечно! Она не сразу сказала об этом хозяйке своей: стыдно ей было очень. Сама понимаешь, нравы в то время были не то, что теперь, а мужа-то у ней не было и ребеночек получался незаконнорожденный, как говорят…
— Значит, мамин настоящий отец — откуда-то с Волги? — Тасин голос дрожал.
Еще бы слово, ещё хоть полслова!
— Значит, так получается. Только о нем, по-моему, Тоня даже Гене не говорила… Во всяком случае, он это дело молчанием обходил. Сама понимаешь, я, как всякая женщина, любопытная, и к нему с этим подбиралась то так, то сяк… уж очень хотелось мне, чтоб он рассказал про родного отца мамы твоей покойницы. Но Геня — нет, ни в какую! Грех её прикрыл, ребеночка усыновил… но это уж позже было. Они познакомились, когда маме твоей уж четвертый годок шел. И все эти три года Тоня у женщины той домработницей пробыла.
— Баба Женя, неужели вы совсем ничего больше не помните? Может, дед Геня все-таки хоть какую зацепочку дал?
— Нет, миленькая, не дал. Говорю ведь, что он в тот день только жалел её. Но о прошлом жены своей — ни гу-гу. Только я ведь тебе не про это сказать-то хочу, не про ту нашу посиделку на даче…
— Господи, а про что? — крикнула Тася.
— А про то, что у Гени был друг, звали его Виктор Петрович. Очень близкие они были друзья, ещё с войны. А сама знаешь, такая дружба не бьется!
— И что ж этот друг… жив еще?
— Вот чего не знаю того не знаю. Но если с кем Генечка и делился, так это с ним — с Виктором. Тайн у них друг от друга не было.
— А как мне найти его? Как его фамилия? — Тася, кажется, от волнения, побежала б по комнате, да телефонный провод мешал.
— Телефонная книжка Генина у меня была, только никак найти не могу. Поищу еще. А фамилия друга этого — Рябов. Он примерно одних с Генечкой лет. Выходит, ему сейчас должно быть… дай соображу… да, где-то примерно восемьдесят пять — восемьдесят семь… Жив-ли в такие годы-то? Хотя поколение наше крепкое, этого не отнять! Ты попытайся в справке узнать. Жил он, помнится, где-то в районе Красных ворот. Ну вот, милая, все тебе, как есть, рассказала. Ну, не поминай лихом старуху, звони, если что. И удачи тебе. Тебе очень нужна она, эта удача!
С тем баба Женя и оставила вконец растревоженную Тасю. Та, как трубку положила, к Эле кинулась и все ей рассказала.
— Видишь, значит правильно мы с тобой сделали, что на работу эту дурацкую согласились. Бабушка наша не побрезговала пойти домработницей, а нам чего ж нос воротить?! Не велики птицы!
Они попытались узнать телефон или адрес Виктора Петровича Рябова, но в этот день удача поманила и сразу отворотила свой нос. Ничего не получалось. Надо было отправляться в архив. Но временя ушло — неумолимо приближался отъезд…
Смутно было на душе у Таси, ох как смутно! Надо двигаться дальше, узнать адрес Рябова, выяснить, жив ли он… Надо исполнить волю Тонечкину. Добром или новой бедой обернется им эта дорога? Дорога по следу бабушкиной судьбы. По следу её последней мольбы. Путь в её сны… Пока этот путь принес им одни несчастья.
Так думала Тася и терзалась мыслью о том, что беды-то в ней самой. А не в снах, которые снятся… А Эля верила в эти сны. И знала, что сон мамин — тот, в котором бабушка гневалась, не принесет перемен. Он — предвестник новых несчастий. Как и этот странный звонок… Ей было не по себе. Она предчувствовала недоброе. И не хотела спать. Она боялась, что и ей может что-то присниться. И это случилось.
В ту же ночь — в ночь перед отъездом ей приснился сон. Эля плыла под водой. Знала: вода — это её стихия. Она жила там, дышала… И плыла свободно, легко, не гребя. Он не чувствовала своего тела, вернее, оно было другим. А каким — понять не умела, ведь не видела себя со стороны. Вода была совсем прозрачной, во всяком случае для нее. Там, наверху, над водой лился свет. А внизу… внизу были дома. Улицы. Скелеты деревьев. На них не было листьев. Так же как не было на улицах никого. Это был целый город. Он умер, но продолжал существовать под водой. И Эля вплывала в раскрытые окна, резвилась, словно рыбка в аквариуме, в незнакомых домах. Некоторые были пусты. В других сохранилась кое-какая мебель — кровати, столы. Они плавали в затопленных комнатах, поворачивались, отталкивались от одной стены и направлялись к другой. Они продолжали жить в мертвом пространстве…
Эле было любопытно её странное путешествие. Той, какой она была в своем сне, тому существу, которое резвилось в воде, были неведомы горе и страх. Только спокойствие. И иногда — тихая грусть. Ей было жаль опустелого города, хотя жалость её была совсем не похожа на человечью. Но девочка знала, что ей ведомы и другие чувства — совсем незнакомые в том мире, в котором она звалась Элей…
Заметно ускорив свое движение, она оказалась возле затопленной церкви и увидела большого и сильного человека, который изо всех сил плыл к поверхности, пытаясь вынырнуть, но сил и дыхания у него уже не хватало. Он греб только ногами и одной рукой; другой он прижимал к себе какой-то предмет. Эля не знала, что это за предмет, но понимала: для этого человека он даже важнее того, выплывет он или нет. Он не бросит его. И, конечно, не выплывет… Тогда Эля скользнула в воде, быстрая и невесомая, как летучая рыбка, и вытолкнула боровшегося с водой человека. Вытолкнула наверх. Не руками, не головой — это как-то само получилось, она и не знала как. Он забарахтался на поверхности, задыхаясь и отплевываясь, но этого она уж не видела — она была далеко…
Этот сон прервался резко, внезапно. Эля секунду лежала недвижно, как будто привыкая к тому, что она не в воде. Потом рывком села в кровати. В комнате, кроме неё и спящего Сенечки, кто-то был. И этот кто-то, не мигая, глядел на нее. Их взгляды встретились. И она тут же перестала что-либо чувствовать: то ли опять провалилась в сон, то ли потеряла сознание. И утром помнила только, что хотела кричать, звать на помощь, но ужас сдавил ей горло. И ещё помнила, что в комнате был огромный волк. Он сидел на полу перед её кроватью. Волк с горящими ненавистью глазами раскрыл клыкастую пасть, с клыков его капала слюна. А глаза у волка были человечьи.
И Эля решила, что ничего не расскажет маме. Той и так достается. У неё свои сны… Если не думать, не вспоминать, то кошмарный сон не вернется. Он просто не может вернуться — она этого не переживет. Потому что это не сон. Волк был настоящим! Она знала это так же хорошо, как и то, что ей скоро предстоит пережить нечто жуткое, страшное. Волк обещал ей это. Он пришел, чтобы убить её.
«Ох, что ж это с нами? В какую яму мы провалились — в какое пространство забрели? Разве жизнь бывает такой?! Нет, такое бывает только в книжках. Или в фильмах, которые иногда смотрит мама, а я не смотрю. Мне от них жутко… Что нам делать, чтобы выбраться из этой дыры? И что ждет МЕНЯ? Я знаю, мне будет так плохо… я почти перестану быть собой. Господи, помоги мне! Я боюсь! Я не хочу того, что меня ждет! Помоги мне… Ну почему нам так не везет?!»
Если б знала она, как им везло! Если б знала, что страдания даны человеку свыше, чтоб испытать: слаб или силен он духом.
Глава 7 ЗАГОРЯНКА
На следующий день встали ни свет, ни заря. Эля сдержала данное себе слово — ничего не сказала маме. Собрались моментально, тем более, что брать-то было особенно нечего. Кое-какие вещички, Сенечкину коляску, да связку книг, без которых Тася и дня не мыслила…
К восьми утра Ермилов прислал за ними машину — джип. Шофер помог погрузить нехитрые пожитки в багажник, Эля с Сенечкой уселись позади, Тася — на переднем сиденье, дверцы хлопнули и понеслись! По ухабам и рытвинам микрорайона их джип скакал на зависть участникам Кэмэл Трофи, поливая грязью из-под колес ранних прохожих и несмелых частников, с опаской объезжавших неровные участки дороги. Вдогонку сыпались ругательства. Одна бабуся едва успела выскочить из-под колес этого дикого мустанга, но не удержалась на ногах и упала. И фонтан жидкой хляби окатил её с ног до головы.
Дети с испугом приникли к стеклам, провожая взглядами упавшую старушку, кое-как пытавшуюся подняться на негнущихся ногах… Тася крикнула: «Остановитесь! Ей помочь нужно…» Но шофер, здоровенный детина по имени Саня, только весело глянул на неё и, ни слова не говоря, прибавил газу.
— Послушайте, Саня! Ну, как же так можно? — Тася в растерянности обернулась, но они уже вывернули на магистраль, старушки и след простыл. Вы молодой, сильный, да ещё в этой крепости на колесах, а она… может быть, ногу сломала! Да, мало ли… — Тася впервые не находила слов — так ошеломил её этот разбой на большой дороге. — Что вы молчите?
— А чего? Старушки — они живучие! Ничего вашей бабуле не сделается. А около всякого останавливаться — дня не хватит!
Против такой логики нечего было возразить, и в салоне установилось тягостное молчание. Саня вскоре сунул в магнитофонную щель кассету, и по нервам ударил рваный ритм какой-то нечеловеческой музыки.
Тася глянула на детей, увидела как Сеня весь сжался, вцепившись в Элину руку, и бросила коротко, но твердо: «Убавьте звук!»
На этот раз Саня выполнил просьбу, музыка стихла, и скоро дети дремали, покачиваясь в такт мягкому колыханью рессор. Они выехали на кольцевую, потом на трассу. На Тасиных часах было половина десятого, когда машина въехала в старый дачный поселок. Загорянка!
Лай собак, за заборами белый нетронутый снег, ни души… Только колонки вдоль дороги торчат, из которых воду качают, возле них желтоватые круги наледи. Таких уж нигде не увидишь! Дома изрядно изношенные, но ещё добротные, с резными балкончиками, широкими застекленными террасами. Обжитые, мирные, они не старались щегольнуть ни богатством отделки, ни вычурностью как многие современные особняки, кричащие о достатке хозяев. От всего этого веяло таким покоем, отдохновением… Сколько поколений находили здесь приют и отраду, сколько детей носилось по этим дорожкам!
Саня уверенно переехал узенький мостик над оврагом, они миновали детскую площадку и впереди блеснула река.
— А это какая речка? — оживилась Эля, выглядывая в окно.
— Клязьма, — буркнул Саня и добавил. — Ну вот. Приехали.
Остановились возле покосившихся ворот, повисших на прогнивших деревянных столбах. За кривым и щербатым штакетником зеленел настоящий лесок: несколько высоченных елей, две лиственницы и березка. Они полукругом обступали двухэтажный просторный дом, выкрашенный в салатовый цвет. За домом виднелись старые яблони, кусты, тоже старые — густые, разросшиеся, неухоженные… Перед домом качели чуть покачивались под свежим ветерком на толстых потемневших канатах.
Дети выскочили из машины и кинулись к забору, стараясь заглянуть внутрь. Каково-то оно, новое их пристанище?
Саня быстро отогнал машину под крытый навес, выгрузил вещи, отпер дом и показал Тасе отведенные для них комнаты. В детской на стене висел коврик с вытканными на нем козлятами, скакавшими возле уютного домика. Серый волк подстерегал их в диком глухом лесу. Тася улыбнулась — точно такой же коврик был над её детской кроваткой. И это совпадение сразу же отогрело ей сердце. Саня отпер кухоньку, объяснил как пользоваться плиткой, сообщил, что Тасиных подопечных — Мишу с Анечкой привезут ближе к вечеру и умчался.
— Поехал старушек давить! — хмуро глядя ему вслед, процедила Эля.
— Эльчик, не кипятись! — улыбнулась Тася. — Давай постараемся тут хоть чуть-чуть расслабиться. Не смотри на все в черном цвете, родная. Хорошо?
Мамина улыбка была такая… молящая, что ли. Эля в жизни такой маму не видела! Та будто просила дочь помочь в самом главном — оттаять душой. И та с готовностью кинулась маме на помощь.
— Сейчас потру кончик носа! — подмигнула она маме. — Давай я тебе помогу. Что сначала: поедим, вещи разберем или пойдем оглядимся? Ой, как же тут здорово! — Она запрокинула голову, глядя в бездонную весеннюю голубизну. — Ух, даже голова закружилась!
— Это от воздуха, — улыбнулась ей мама, — у нас сейчас кислородное отравление будет. Привыкли выхлопами дышать…
Они быстренько разобрали свой скарб, накормили Сенечку, прошлись по участку, обнаружив в дальнем углу деревянный скособоченный туалет.
— Вот это Версаль! — рассмеялась Тася.
Она радовалась как ребенок любой возможности пошутить. А Эля радовалась и за себя, и за мать, и за Сенечку, деловито топающему по расчищенным от снега дорожкам, — в свои двенадцать с небольшим Эля уже научилась чувствовать мысли и настроения близких. Про кошмарную прошедшую ночь старалась не думать.
Когда сумерки стали укрывать тенями тихий поселок, у ворот послышалось легкое шуршание шин и громкие бодрые гудки: короткий, длинный… Тася поспешила к воротам. Эля было за ней, но мать жестом остановила ее: мол, погоди, не лезь поперед батьки…
Из приземистой темно-вишневой «Ауди» выбрался плотный, на удивление загорелый мужчина, заметно начавший полнеть. Широко ставя ноги и слегка растопырив руки, он направился к ней. Протянул руку. Тася пожала её и взгляды их встретились. В улыбке его светилось что-то задорно-мальчишеское и на миг ей показалось, что Ермилов немного смутился.
Эля, стоя на крыльце в отдалении, напряженно всматривалась в сторону ворот — ей мешало заходящее солнце, слепило глаза, и более или менее ясно она различала только фигуру матери со спины: стройную прямую спину, талию, перетянутую широким кожаным поясом, легкую куртку, накинутую на плечи, и густую волну темных волос, рассыпанных по плечам. Солнце просверкивало сквозь них, и Эле казалось, что в маминых волосах загорелся яркий искристый огонь.
— Сергей! — Ермилов крепко пожал ей руку. — Очень рад! Нам очень вас не хватало. Сейчас мои выберутся укачало детвору, небось, едва шевелятся, раки зеленые!
Тася в ответ только молча кивнула. Ей подумалось, что судя по первому впечатлению, все, вроде, должно сложиться удачно. Глава семейства не вызывал неприязни, скорее наоборот…
К ним подошла женщина, которая только что выбралась из машины. Судя по первому взгляду, она была помоложе Таси, ей было около тридцати. Высокая, загорелая, длинноногая, в обтягивающих брюках стрейч, с гладкозачесанными аспидно-черными волосами и алыми пухлыми губками.
«Капризная!» — отметила про себя Тася и невольно первая протянула руку.
— Диана Павловна! — провозгласила Ермилова, даже не удосужившись изобразить подобие улыбки и вяло пожимая Тасину руку. — Дети, ну сколько можно копаться! — прикрикнула она, резко обернувшись к машине. И длинный завитый хвост её волос задел Тасю по лицу.
Тася быстро вскинула руку, словно защищаясь. Ермилова, заметив свою оплошность, притворно обеспокоилась.
— Ох, извините! Миша, Аня, идите сюда. Сейчас мы будем знакомиться. Она прищурилась. — Вы, кажется, Анастасия?
— Анастасия Сергеевна, — очень раздельно, едва ли не по слогам выговорила Тася, резко повернулась и направилась к дому.
«Ой, мамочка! — всполошилась Эля, наблюдавшая эту сцену. — Похоже вы с ЭТОЙ каши не сварите. Похоже, наша работодательница сущая мегера!»
Она видела, что мама на взводе, надо было как-то разряжать обстановку и вприпрыжку устремилась к воротам, где стояла Диана Павловна. На лице Эли сияла улыбка, светлая как утренний сад на заре.
— Здравствуйте, меня зовут Эля. Как вы доехали? Долго добирались? И устали наверное…
— Спасибо, Эля, все хорошо. Дети устали, конечно…
— Ой, здесь так чудесно, они сразу в себя придут! Миша, Аня, — звонко крикнула она, — посмотрите, какие тут шишечки!
Маленькая, пухлая как пирожок, Аня сразу с охотой потопала вслед за Элей. Белобрысый Михаил не спешил и, засунув руки в карманы джинсов, внимательно разглядывал незнакомую девчонку.
Перехватив его взгляд, Эля вся как-то внутренне сжалась. Никто ещё не рассматривал её так — пристально, без смига, в упор.
Она отвернулась и занялась маленькой Аней. Та, похоже, обладала вполне покладистым характером, и, вздохнув, Эля подумала, что хоть с этой у мамы не будет особых хлопот. Но вот мальчишка! Ленивая походка вразвалочку, серые прищуренные глаза буравят насквозь, губы растянуты в презрительной гримаске. Это был малец избалованный, вредный и страшно самоуверенный, от которого, наверно, можно было ожидать всяких пакостей. Сердце забилось сильней — она поняла, что дурные предчувствия её оправдаются.
Эля поглядела на себя глазами хозяйского сыночки: глаза, вроде бы, ничего себе, но все ж не такие выразительные как у мамы. Личико бледненькое, худенькое, плечи сутулые, походка какая-то неуклюжая коленками вперед… Серая мышка, привыкшая к сырому подвалу и с опаской выглядывающая на свет. Нет, она никак не могла произвести впечатления!
Эля вдруг страшно на себя рассердилась: да что это такое! — какой-то пузырь надутый, сопляк вонючий глянул на нее… а она и давай! Разволновалась, расстроилась…
— Тоже мне, фотомодель! — она в сердцах фыркнула. — Тьфу! Гадость какая!
Она терпеть не могла эту модную профессию и девиц, которые хотят одного — подороже себя продать и чтобы все вокруг них охали и ахали от восхищения. Пустышки! Дешевки! Дуры набитые…
Между тем хозяйка обошла дом и сад и, как дикая кошка, накинулась на мужа. Окрестности завибрировали от звуков её высокого резкого голоса.
— Ты мне что говорил: дача прекрасная! А это? Развалюха! Сарай! Ты б меня ещё в курной избе поселил… с козлятами!!! Это просто черт знает что такое! Я тут и дня не выдержу. И это после райского отдыха в Греции. После Парижа… Нет, ты как хочешь, но ноги моей здесь не будет!
«Вот-вот, — подумала Эля. — Вот она, взбалмошность-то. Во всей красе! А мама ещё говорила, что она — признак одаренных натур. Нет уж, спасибочки! Не надо мне никаких натур, если они такие… Помру, а такой не буду!»
— Диночка, Дидуся, ну милая! — лебезил возле неё Ермилов, рокоча как морской прибой. — Мы тут все в один миг переделаем. Я уж и ребят предупредил, завтра Влад с Колей приедут. К восьмому марта мы тут все отделаем под щуче-рачий глаз! Ты ж меня знаешь, я когда-нибудь слов своих не держал? Все будет, рыбонька! Все как захочешь!
За ужином атмосфера несколько разрядилась. Диана Павловна оживленно обсуждала с мужем проблемы семейного бизнеса. Тасе невольно вспомнилось, как начинал свое дело Николай, как мечтал о собственном супермаркете наподобие германского «Кауфхофф», где можно купить все от пары носков до компьютера, не позабыв и о самой разнообразной снеди… Конечно, она, Тася, была так от этого далека! Ей казалось, что с тех пор как пришлось бросить театральную студию, жизнь её повернула в какое-то ложное русло. Что душа её, поток сил, чувств, эмоций созданы для иной жизни. Но свежие краски на её холсте затерлись, смазались, и теперь сама она толком не помнила, что именно было на нем изображено.
Ермилов с нею и с детьми вел себя обходительно и весьма вежливо. Похоже, ему было неловко перед ними за недавнюю выходку жены. Сама Диана Павловна упорно не замечала Тасю, тем самым указывая ей на её место прислуга! Эля мучилась, болея за маму, ей было больно видеть все это. Но мама держалась, ни словом, ни жестом не давая понять хозяйке, что задета и что ведет себя та не очень-то по-людски.
Вскоре после ужина Ермиловы уехали. Сергей Валентинович попросил Тасю как можно больше гулять с детьми и с Мишей пока по учебной программе не заниматься — дескать, парень и так перегрузился за последнее время, пускай отдохнет. Предупредил, что назавтра появятся двое его ребят, которые немножечко постучат и кое-что переделают. А восьмого марта ожидаются гости — довольно много народу. Приедет даже специально приглашенный человек, который праздничный стол подготовит. Шашлыки там, кавказская кухня… Он пригласил Тасю на праздник и она, хоть и довольно уклончиво, но все ж согласилась. Понимала, что Ермиловы — люди ей совершенно чуждые, но что же букой в сторонке держаться? Заниматься детьми, не найдя общего языка с их родителями, дело гиблое…
И в самом деле на другой день явились двое ражих парней, которые перевернули и дом и участок вверх дном. Тася подумала: а согласованы ли все эти перемены с хозяйкой Любашей? Ведь, как ни крути, это все-таки её дача… Но решила, что это не её дело, и все время посвящала готовке, прогулкам с детьми и разговорам. Разговаривали, в основном, они с Элей. Сеня с Аней, как два близнеца, чуть ли не взявшись за руки, топали позади. Завершал всю их живописную группу Михаил, предпочитавший с независимым видом шествовать в арьергарде. Весь его облик выражал раздражение и недовольство в сочетании с покорностью судьбе: раз родители захотели учинить над ним этот эксперимент, передать под присмотр какой-то безвестной тетке — что ж, он подчинится. Тася не усматривала в Мише каких-то скрытых пороков и, в отличие от дочери, не ждала от него злобных выходок. Но Эля прямо-таки возненавидела парня. И, похоже, он отвечал ей тем же…
Как-то в порыве откровенности Элька призналась маме, что ненавидит богатых! И заявила, что хоть ей и самой это неприятно, но поделать с собой ничего не может, злится и все тут!
— А может ты им просто завидуешь? — чуть прищурившись, поинтересовалась Тася. — Вспомни, что когда-то и нас можно было причислить к богатым. Как сейчас говорят, к новым русским… Значит, и тебя тоже кто-то мог тогда ненавидеть просто за то, что у твоих родителей деньги есть…
— Не знаю, мам, — мрачно бросила Эля и закусила губу. — Может и так. Только, понимаешь…
— Понимаю, — подхватила Тася. — Только чувство это — плохое, недоброе. Плебейское чувство. Люди разные, и неважно есть у них деньги или нет. Ведь сам Ермилов не хам, так?
— Не хам, — согласилась Эля.
— А вот жена его… сама видишь. Знаешь, для меня деньги никогда не были самоцелью. Скорее, наоборот — их присутствие в кармане того или другого было как красный сигнал светофора: стоп, сюда хода нет! Стремление набить карман всегда значило для меня какую-то узость и одномерность души. И как правило богатство дается тем, чья система ценностей далека от моей. Ты меня понимаешь?
Эля кивнула.
— А сейчас я думаю, что все это чушь собачья! Важно, чем живет человек, как дело делает — если честно, хорошо, если он других колесами напропалую не давит, то… почему бы ему и не богатеть? Правда, такое редко бывает. Но бывает! Вот Некрасов — он ведь богатейший был человек. Заводы имел. Что, от этого его поэзия стала хуже?
Эля посмотрела на маму как-то… недоверчиво, что ли. Но ничего не сказала.
— Просто нам трудно сейчас, девочка моя, — Тася крепко обняла дочь, прижала к себе. — Но мы выкрутимся. Так ведь?
Эля засопела носом, обломала ветку у березы, мимо которой они проходили, и швырнула её на дорогу.
— Эй! — шутливо шлепнула её Тася. — Не потереть ли тебе кончик носа?!
Глава 7 СЛОМАННЫЙ ПРАЗДНИК
— Мам, ты чего? Плохо себя чувствуешь?
— Да нет, Эленька, все в порядке.
— Но я же вижу! Ты вся какая-то перевернутая.
— Не обращай внимания. Просто как-то… нехорошо на душе.
— Что, мам, опять был сон?
— Никаких снов. Спала как убитая!
А Эля сегодняшней ночью опять видела тот же свой странный сон. Только плыла она теперь на поверхности… а вокруг плавали мертвецы. Мужчины и женщины. С белыми вытаращенными глазами. Колыхались на воде, точно отвязавшиеся лодки. Она проснулась в поту, ожидая того, что последовало вслед за тем её первым сном… но волка не было. Его не было в комнате. Но она знала, что он где-то рядом.
С раннего утра восьмого марта Тася была сама не своя, места себе не находила. То ли близкая перспектива приезда толпы незнакомых людей, то ли ещё что… Да ещё этот снег! Он валом повалил с утра — и это восьмого-то марта! Скоро вся Загорянка была укрыта свежим пушистым покровом, сверкавшем при мягком свете неяркого солнца.
Дети просились гулять, но она отказала: мол, в такую пургу и заблудиться недолго. Младшие во главе с Мишкой слонялись по саду и только Эля не отходила от матери.
— Мамуль, может тебе принять что-нибудь?
— Что? Сон-траву? — резко обернулась к ней мать.
— Ну, не знаю… — смешалась девочка. — Может, что-нибудь успокоительное. Валерьянки там…
— А, Элька! — Тася махнула рукой, зябко поежилась. — Сейчас приедут некогда будет кукситься.
К ним вразвалочку, подражая походке отца, подошел Михаил. Руки в карманах, голова низко опущена и кажется вот-вот бодаться начнет. Взгляд изподлобья прищуренный. Нехороший взгляд.
— Анастасия Сергеевна, надо снег разгрести. — Он кивком указал на полянку, окруженную елями, напротив веранды. — Отец сказал, мы на улице будем сидеть… шашлык, все такое… — он глядел на неё вызывающе, видно, страсть как хотелось позлить и довести «училку».
— А ты сам что? Руки отсохли? Возьми лопату и разгребай! — выпалила вдруг Эля, с ненавистью глядя на этого маменькиного сынка.
— А тебя ваще не спрашивают! — он сплюнул через зубы, повернулся на каблуках и пошел прочь, бросив Тасе через плечо. — Пойду пройдусь.
— Миша! — окликнула его Тася.
Никакого ответа. Он брел к калитке, не реагируя на её зов.
— Миша, вернись!
Даже малютка Анечка, почувствовав нараставшее напряжение, завертела головкой, глядя то на брата, то на свою няню. Эля вся напружинилась, готовая сорваться, догнать наглеца и сцепиться с ним…
Между тем, он уж достиг калитки, постоял там с минуту и, точно раздумав, вернулся.
— Если вы думаете, что можете мной командовать, — раздельно, зло проорал Мишка, — то…
— А ну, заткнись! — гаркнула Эля, побелев от гнева. — Да, как ты смеешь говорить так с моей мамой?! Ты… — она сжала кулаки и стояла так, готовая броситься на мальчишку.
Некоторое время они молча стояли друг против друга, сверкая глазами и задыхаясь от гнева. Было ясно: взаимная ненависть, возникшая как любовь с первого взгляда, должна привести к столкновению. На сердце у обоих полыхали молнии. И грозы было не миновать!
Тася совершенно опешила. Она впервые видела свою дочь в такой ярости. Впервые услышала от неё грубо-презрительное: «заткнись»! Тася вдруг поняла, что её Эля, всегда такая сдержанная, ласковая и тихая, может быть совершенно иной. Что несчастья, свалившиеся на них, посеяли в её душе настоящую бурю. И что способна натворить эта буря, она, Тася, не знает…
Эту сцену оборвал шум колес, шуршащих по свежему снегу. К воротам подъезжал мощный «Лендровер». Ярко-красный, как свежая кровь. Урчанье мотора стихло, дверца водителя распахнулась, и косо падавший снег тотчас осыпал фигуру спрыгнувшего в сугроб человека. Он был в светло-голубых джинсах и легкой куртке, без шапки. Строен, изящен, невысок. Запрокинул голову, подставляя лицо нежным пушистым цветам зимы, и рассмеялся. Потом тряхнул головой, толкнул калитку и быстрым пружинящим шагом направился к дому.
— С праздником, милые дамы! — он приветливо улыбался, разглядывая женскую группу, застывшую вкруг единственного доселе представителя мужского пола, чей взгляд все ещё метал громы и молнии. (Сенечка возился где-то в доме.) Две женщины были маленькие и одна большая. Он шагнул к ней и повторил.
— С праздником! Давайте знакомиться. Я — Ваня. Вано. Прислан к вам на подмогу. Сейчас будем тут колдовать.
Вано протянул руку, Тася в ответ — свою. Но он не пожал её, а, низко склонившись, поцеловал. Выпрямился. Его блестящие голубые глаза смеялись.
— Очень рада, Вано. Я — Анастасия. Можно коротко — Тася. Вы завтракали? — она с трудом заставила себя переключиться на светский тон сердце било тревогу.
— Не беспокойтесь. Одну минуту, — кивнув ей, он вернулся к машине, открыл багажник и извлек оттуда два необъятных баула. Сумками такие торбы не назовешь…
— Вот, тут все необходимое для колдовства!
— Вы колдун? — очень серьезно вопросил появившийся Сенечка, во все глаза глядевший на нового их знакомца.
— Будем считать, что да! — тот присел на корточки, расстегнул молнию одной из сумок и извлек оттуда букет кремовых роз.
— Это вам, Тася!
— Боже, какая прелесть! — она зарделась от радости, разглядывая букет.
— А это… — Вано покопался в сумке, нахмурился. — Неужели забыл? - все женщины глядели на него с нескрываемым интересом.
Слегка вьющиеся светлые волосы падали ему на лоб, и только прямой нос с характерной горбинкой выдавал в нем южанина. В каждом движении сквозила уверенность, сила и прирожденная грация. Тася отметила про себя, что даже у музыкантов не доводилось ей видеть таких красивых и чутких рук.
— А, нет — здесь! — Вано выдохнул с облегчением и протянул Эле коробочку «Рафаэллы», а Анечке — целую упаковку шоколадных яиц «Киндер сюрприз».
Они заулыбались, Эля смущенно поблагодарила, а Вано повернулся к Мише.
— А вам, молодой человек, по случаю женского праздника расчищать снег перед воротами. А то ни одна машина сюда не пройдет. Надо же, погода какая! — он оглядел небосвод, затянутый глухой сизоватой пеленой. — Не хотят нам сегодня дарить солнышко. Ну ничего, мы это дело поправим. Главное, чтоб солнце в душе светило!
С приездом Вано у всех на душе полегчало. Мишка нехотя побрел исполнять приказание. Ясно было, что он далеко не в первый раз видит Вано. И что тот занимает отнюдь не последнее место в иерархии тех, кто окружает его отца…
Тася помогла Вано разобрать сумищи; в них оказались горы съестного, зелени, выпивки. Этого запаса могло хватить на целый банкет! Вано развил бешеную деятельность — и вот уже через полчаса в жаровне пылали дрова, дым, смешиваясь с летящим снегом, образовывал причудливую завесу, розоватый сок, стекавший с аккуратно нарезанных кусочков мяса, насаженных на шампуры, стекал в таз, а из выставленного на перила веранды магнитофона, разносились бравурные звуки. Штраус! И вальсы, звенящие торжеством, согревали воздух он теплел, наполняя душу предвкушением счастья. Начинался день, суматошный, будоражащий. Поистине весенний день!
Эля что-то мурлыкала, моя овощи и перебирая зелень, — похоже, непогода в её душе сменилась оттепелью. А Тася вначале никак не могла рассеять утреннюю тревогу, которую усугубила стычка между детьми, но потом… минуты летели, подхваченные ликованием вальсов, цветы на столе легонько подрагивали в такт шагам, их полураскрывшиеся бутоны кивали ей и улыбались! И Тася подчинилась ритму вальса, ритму праздника, она откинула груз забот и поверила, попыталась поверить в то, что жизнь не кончена. Что она продолжается!
И когда к воротам, покачиваясь на рессорах, подъехала вереница машин, стол, который накрыли они на веранде, мог порадовать глаз самого пристрастного художника. Красное и черное — эти два цвета составляли центр композиции; четыре глубоких хрустальных сосуда, наподобие чаш, полнились красной и черной икрой. С ними перекликались крупные яркие помидоры, разложенные на овальных блюдах и окруженные огурчиками, свежими и солеными. Они тонули в зелени — эти блюда — и каждое, как солдатики, охраняли вазочки с влажными маслинами и оливками. Семга, копченая лососина, упругие крепенькие креветки, красавец-омар, окруженный служками-раками… Бесчисленные сорта ветчины и копченого мяса, тонкими ломтиками разложенные по тарелкам, сыр всех сортов и оттенков — от молочно-белого до смугло-оранжевого… И это были только закуски! Всей той снеди, что поджидала своего часа в бесчисленных кастрюльках с прозрачными крышками, было просто не перечесть! И все это громоздилось на кухне, возле новой суперсовременной плиты «Бош», которую накануне установили Влад с Олегом.
Ребята модернизировали ветхие Любашины владения и исчезли так же внезапно как появились. Надо сказать, владения эти и впрямь преобразились. Вместо старых, прогнивших и покосившихся, появились новые ворота на мощных чугунных столбах и низкий изящный литой забор с витиеватым узором по краю. В доме — камин, отопление, горячая вода и биотуалет. Ванную, правда, установить не успели, но привезли — салатовую, просторную… Кроме того, возле камина разместилась удобная плетеная мебель — кресла, столы, диванчик и кресло-качалка.
И когда, хлопнув дверцей машины и заливаясь ненатуральным смехом в ответ на шутки одного из гостей, явилась Диана Павловна и быстрым взором окинула дом и сад, довольство отразилось на её загорелом лице. Теперь она могла сменить гнев на милость: за дачу, пускай и съемную, ей теперь не придется краснеть.
И завертелось! Смех, шутки, звяканье посуды, громкая музыка. Кто-то привез кассеты, и Штраус был изгнан — его сменила Мадонна. Тасю и Элю знакомили с гостями и они тут же забывали как кого зовут… Ермилов коротко их поздравил, осведомился, как дети, и ринулся в водоворот приветствий и возгласов, похлопывая гостей по плечу и причмокивая от удовольствия. Хозяйка едва удостоила Тасю беглой улыбкой и оценивающим женским взглядом. А было на что посмотреть — Анастасия сегодня была чудо как хороша! Пережитое придало её лицу какое-то новое, пронзительное выражение, огонь светился в глазах, ещё более потемневших и пристальных. Она похудела и от этого фигурка её, стройная от природы, стала изысканно-утонченной, а врожденная грация сказывалась в каждом движении. И многие с изумленным одобрением вскидывали брови, поглядывая на нее.
Тася не считала сидевших за столом, их было слишком много! И большинство — мужчины, причем кавказской национальности. Только один из них — сдержанный полный горец с презрительно изогнутыми уголками губ, с блестящей лысиной, опушенной полосой поседелых волос, с огнисто-сверкающим бриллиантом, вправленным в перстень-печатку, — только он был со спутницей: смешливой тонконогой девицей лет двадцати.
Тася подумала, что остальные, должно быть, составляли его свиту. Во всяком случае, они обращались к нему с подобострастным почтением, а многие предпочитали и вовсе держаться на расстоянии. Про себя она прозвала его «Доном Корлеоне» и подумала: а таким ли уж безобидным бизнесом занимается её хозяин Сергей? Похоже, он тоже был в подчинении у этого кавказца.
Стол загудел, зазвенели бокалы, и началось! Минут через двадцать от возникшего было предвкушения праздника не осталось следа. Тася, сидевшая на краю стула возле дверей на кухню, пожалела, что согласилась присесть а не скрылась у себя, сославшись на нездоровье. Многие уже заметно подвыпили, другие старались от них не отстать, и все прелести разгула, сдобренного гортанными выкриками, неприличными сальными шутками и бабьими взвизгами были налицо…
«Боже мой! — думала Тася, оглядывая сидящих и теребя стебелек черемши, и это — праздник?! Это — веселье? И мои дети должны на такое смотреть, слушать вой вместо музыки и ржание вместо смеха. А что я могу им предложить? Ни друзей, ни людей вокруг… Ты сама хотела одиночества, сама не принимала того, что окружало тебя. Кто ты? Как тебя называть? Мать-одиночка? Прислуга? Интеллигентка? Ха! Кишка тонка… В учителях не прижилась, творчество не одолела, не состоялась душа! Все теперь перевернуто. Прежнего больше нет, новое не наладилось. И средь этого хаоса чудища бродят, химеры… Их ведь и людьми-то не назовешь. Милые мои, бедные мои дети! Что может дать вам такая мать? Которая сама не больше чем дым, химера… Только химеры не пьют вина. А я пью. Вот назло себе и выпью!»
И не дождавшись очередного тоста, она плеснула себе вина и залпом выпила. И вскоре поплыла по убаюкивающим сладким волнам забвения, перебирая в памяти любимые стихотворные строки и перестав замечать происходящее за столом.
Между тем Эля все подмечала: через окно на кухне она могла наблюдать происходящее на веранде. Покормила малышей, поела сама и села за книжку, то и дело поглядывая из окна на маму. Былое оживление, показавшееся было на мамином лице, сменилось тоской и унынием. Она снова погасла. Только хмель понемногу оживлял её скулы нездоровым румянцем. Вано, как ни странно, куда-то исчез. Мишка восседал рядом с отцом, налегал на салат из крабов и изо всех сил старался держаться как взрослый. Это у него не слишком-то получалось. Он глупо хихикал, услыхав очередную сальность, а однажды не удержался и фыркнул, слегка оплевав подругу «Дона Корлеоне», сидевшую напротив. Та с негодующим видом поднялась и вышла из-за стола, наверное, чтобы замыть маленькое пятнышко, расплывшееся на её шелковой блузке. Ермилов что-то коротко бросил сыну и тот поспешно ретировался — похоже, его выгнали из-за стола. А хозяин, перегнувшись через стол, что-то горячо зашептал «Дону» и тот в ответ благосклонно кивнул. Тогда Ермилов вскочил и захлопал в ладоши, призывая всех сделать паузу и немного размяться.
На расчищенной от снега площадке под елками устроили импровизированную танцплощадку. Перенесли на лавочку магнитофон, скинули плащи и куртки и, разгоряченные, возбужденные, принялись топтаться под «Модерн Токинг». Длинноногая девица, замыв пятно, вернулась в стаю и с азартом принялась дергать попой, обтянутой апельсиновой мини-юбкой. Она то и дело сбивалась с ритма и сталкивалась с танцующими: только теперь стало заметно, что девица пьяна.
За столом осталась одна Тася. Полуприкрыв глаза и подперев щеку ладонью, она грезила о своем. На губах блуждала рассеянная полуулыбка, губы чуть-чуть шевелились: душа призывала на помощь исцеляющие ритмы стиха…
— Дитер Бо-о-олен! — вопила захлебывающаяся от смеха девица, вихляясь возле смуглого крепыша с толстой золотой цепью на бычьей шее, сидевшего за столом по правую руку от «Дона Корлеоне». Тот, полуприкрыв глаза, похотливо улыбался, глядя на её вихляющиеся бедра, и курил сигарету, от которой исходил сладковатый приторный аромат.
— Дитер… ха-ха-ха! Болен! Он всегда БОЛЕН! Он всегда… — повторяла девица как заведенная и, споткнувшись, рухнула на руки подхватившего её крепыша.
— Эй, вы слышите? Он БОЛЕН! Эй! — она обвела всех стеклянным блуждающим взором. — Эй! Почему там кто-то сидит за столом? Тан-цуют ВСЕ! и взмахнула руками перед лицом крепыша. — Гурам! Все… чтобы… танцевали, слышишь? Пусть эта… танцует. Давай ее… — девица икнула, закрыла лицо руками и, зашатавшись, отступила к скамейке, на которой стоял орущий магнитофон.
Упав на нее, девица откинулась на спинку скамьи и, дергая в такт ногами, повернула ручку громкости до отказа. В этом грохоте теперь невозможно было расслышать ни слова.
Крепыш, которого эта взбесившаяся кобылица называла Гурамом, вопросительно глянул на «Дона Корлеоне». Тот, еле заметно усмехнувшись, кивнул. Дескать, пускай девочка веселится!
Гурам вернулся к столу и, склонившись над Тасей, что-то сказал ей и тронул за руку, увлекая за собой. Та резко вскинула голову, выдернула руку и вскочила, что-то гневно бросив навязчивому партнеру по танцам. Тот продолжал настаивать, уже не в шутку ухватив её за руку. Тася замахнулась, как видно, решившись влепить пощечину, но её взлетевшую руку кто-то неожиданно перехватил. Это был Вано, вынырнувший как из-под земли. Мягко улыбаясь, он что-то сказал, выпустил её руку и, не глядя, через плечо бросил Гураму два коротких слова на родном языке. Тот мгновенно ретировался и, выйдя за ворота, скрылся в салоне одной из машин.
Надо сказать, что этой сцены Эля не видела. Ее вниманием целиком завладел Мишка, ошивавшийся возле мангала. Парень расковыривал палкой уголья и улыбался самой гнусной улыбкой. Он явно что-то затеял, решив отыграться за свое недавнее унижение. Эля, конечно, и внимания бы на него не обратила, если бы возле Мишки не стоял Сенечка. Минут пять назад братишка спустился по ступеням крыльца, привлеченный громкой музыкой, доносящейся из сада. Широкая доска на потемнелых старых канатах чуть раскачивалась под ветерком. Она словно бы приглашала присесть и покататься… Едва Сенечка появился на ступенях веранды, Мишка указательным пальцем поманил малыша и, взявши за руку, повел к качелям. И этот его манящий жест вкупе с хитрой улыбочкой насторожил Элю. Она уже накинула куртку, чтобы вернуть брата, как все её внимание поглотили дивные звенящие звуки. Рев магнитофона внезапно прервался: его кто-то выключил. И в наступившей тишине средь снежной белизны, бликов огня и танцующих огненных искр, поднимавшихся к небу, запела гитара.
Эля сбежала по ступенькам в сад, в котором стало уже заметно темнеть, и увидела завораживающую картину: под густыми лапами ели стоял Вано, любовно прижимая к себе гитару, его тонкие нервные пальцы быстро перебирали струны. Что-то томящее, горестно-сладкое пела гитара, притихшие гости образовали круг возле танцплощадки, а в кругу… в кругу танцевала мама!
Подол её длинной юбки взлетал и опадал долу, откинутый легкой ногой, стан клонился и выгибался, гибкий, упругий… Вдохновенное лицо сияло улыбкой, а глаза… о, они были ночи темней! И лучились они отблесками огня, который загадочней всех огней… горячий, неукротимый огонь сверкающих женских глаз!
Она танцевала так хорошо, такой зачаровывающей силой полнились все движения, переходящие от плавного наговора к резким, исполненным дерзости поворотам и внезапным как смерть остановкам. Она ворожила в этом танце, пела без слов и, бросая вызов, словно призывала на свою бесшабашную голову гром небесный!
Никто не мог оторваться от этого зрелища. Никто не видел, как из машины, сжимая в руке сотовый телефон, выскочил побелевший Гурам и, почему-то пригибаясь, побежал к своему боссу. И «Дон Корлеоне», услыхав Гурамову весть, как-то весь вытянулся, дернул шеей, уголком рта, отдал несколько коротких распоряжений и обвел мрачным подозрительным взглядом всех собравшихся на притихшем участке. На участке, где царила гитара и колдовала, танцуя, женщина с разгоревшимся вдохновенным лицом…
И никто не заметил как маленький мальчик сел на качели, а другой, тот, что постарше, принялся эти качели раскачивать. Он с торжеством глядел на летящего вниз и вверх малыша, раскачивая все сильней… И только Эля, которая без отрыва глядела на маму, почувствовала вдруг чье-то злое присутствие. Точно её кто толкнул! Она зажмурилась и какое-то время боялась раскрыть глаза, потому что знала — волк здесь. Он совсем близко. И он сейчас кинется… вот сейчас! Она вдруг резко обернулась и увидела, что качели, на которых едва удерживается её братик, взлетают уж чуть ли не выше ели, что веревка трещит… И вот-вот…
В этот миг из-за ели прыгнуло что-то большое, мощное — наперерез взлетавшему к небу Сене… Эля видела только горящие злобой глаза и оскал жуткий оскал волчьей пасти. Клыки чиркнули по канату, тот оборвался и полет малыша продолжился… только его больше не поддерживала доска. Он летел над поляной, и Эля видела его округлившиеся от страха глазенки и разинутый рот. Сдирая кожу, он упал прямо в ель, послышался хруст ломаемых веток и крик дикий крик этот все услыхали и звон гитары вмиг оборвался.
В мгновение ока Тася была возле ели. Вано в три прыжка оказался возле неё и, опередив, рывком достал из изломанных, спутанных веток ребенка. Он осторожно положил Сеню на скамейку, тот задыхался от боли и крика. Все личико у него было расцарапано, правая ручка сломана, и из разорванной курточки, окровавленная, выпирала лучевая кость.
Тася закричала, подхватила сына на руки и заметалась, не зная, что делать… Вано уже бежал к воротам, крикнув ей на ходу, чтобы она быстрей несла Сеню к машине. Через пол-минуты он уже заводил мотор, Тася осторожно укладывала рыдавшего малыша на заднее сиденье, а Эля…
Дикой кошкой метнулась она к своему врагу и, повалив на землю, стала рвать зубами подлую руку, которая раскачивала качели. Она знала, не задумай зло этот маленький гаденыш Мишка, волк бы не появился. Он хотел, чтобы малыш свалился, хотел! — Эля ни секунды в этом не сомневалась, ведь помнила, какое выражение было на его кривившемся от злости лице… Волк подстерегал их, он только ждал своего часа — ждал, когда чья-то ненависть откроет ему дорогу… невидимую дверцу из его мира в наш мир. И волк появился. Ему приоткрыли дверь.
И Эля терзала того, кто помог совершиться злу. Она оказалась намного сильней мальчишки, хотя он был крупнее её. К ним бежали. Но ярость её была столь велика, что Ермилов не сразу решился подступиться к этой вцепившейся в сына дикарке. Она брыкалась и лягалась ногами, обутыми в крепкие полусапожки на каблуке, и каблук этот не раз и не два отпечатался на теле отца, прежде чем он смог оторвать её от своего мерзавца сына!
Глава 8 ПРОВАЛ
Теплое золотое свечение стало меркнуть и Эля открыла глаза. Белый свет ослепил её — чужой, неживой… Она вздрогнула и зажмурилась. Убаюкивающее свечение, которое окутывало её всю, куда-то исчезло.
Она заставила себя снова открыть глаза. Белые стены, пол, потолок. Никелированная спинка кровати. Какие-то непонятные приборы, провода. Дергающиеся зеленые зигзагообразные линии на темном экране. Правая рука откинута, выпростана из-под одеяла. В ней — игла. От иглы тянется тоненькая прозрачная трубочка — к высокой стойке со штативом, на котором закреплена перевернутая вниз головой бутылочка.
Тихо. Никого… Или есть кто-то? Неужели она? Эля чуть приоткрыла губы и беззвучно позвала её.
— Где Ты? Не уходи…
Она всегда окликала её «на ты». Всегда… Окликала в своем золотистом небытии, которое согревало её, успокаивая, вливая силы… Это небытие было таким ласковым, таким уютным! Ей не хотелось возвращаться. Хотелось одного: чтобы вновь являлись из прозрачного золотистого марева полные света и цвета картины. Чтобы снова и снова её навещала та, безымянная, не назвавшая своего имени. Эля боялась окликнуть её НЕ ТАК. Она знала — ошибка не то, что обидит её и не то, что спугнет… просто что-то собьется. И она не появится снова. Ведь в имени скрыта сущность — то, что делает красное красным, душу — душой и отличает одну от другой в её неповторимой сути. Непознаваемой здесь, на земле, в юдоли печали. Да, теперь Эля знала это.
И когда появлялась она, та, чьего имени Эля не знала, все наполнялось смыслом. Смыслом и радостью. Даже то, что они почти не разговаривали друг с другом. Просто улыбались. И улыбчивая немота как бы соединяла обеих негласным и тайным уговором. Их согласие не нуждалось в словах — оно было ПО ТУ СТОРОНУ земного смысла.
Эле порой казалось, что они играют в игру. Смысл этой игры был в продвижении к свободе. И Эля водила, а свобода, скрывавшаяся за светящимся силуэтом, то открывалась ей, то пряталась от нее. Ее светлая гостья помогала найти путь к освобождению. Эля уже научилась радоваться ненужности слов. И знала, что если ей не дано что-то понять, значит, она к этому ещё не готова. ПОКА не готова. Но она будет двигаться дальше и, если нужно, поймет. Все поймет… Поэтому не задавала вопросов, не пыталась вызнать священное имя. Она не торопилась. И в этом блаженном состоянии покоя пребывала вот уж немало дней…
Она не ведала счета дням. Ее время вело отсчет от начала общения с той, что являлась к ней. И её ощущения можно было назвать блаженством. Земные прежние чувства Элю мало интересовали, она готова была совсем позабыть о них. Ей поведали о мире ином — он стоял на пороге, он готов был распахнуть перед нею дверь…
Об этом мире поведала ей незнакомка. Та, которая обходилась вовсе без имени. Ее настоящее имя звучало на ином языке.
Что-то стукнуло в отдалении. Чьи-то шаги. Ближе, ближе… Шаркнула дверь. Белое… белый халат.
— Слава Богу! Она очнулась, очнулась!
Снова шаги, ближе, ближе…
Нет, она не хотела к ним возвращаться! С ними так пусто. Темно. Бездыханно так… Нет!
Усилием мысли она призвала на помощь золотой теплый кокон. И он вновь благодатным покровом укутал её.
Заведующий отделением, лечащий врач, медсестры, медсестры… И серая тень в белом больничном халате, просочившаяся в реанимацию как будто сквозь стены…
— Что? Как она?
Тасины руки дрожат. Затравленный взгляд перебегает от одного врача к другому. Что скажут они, всезнающие? Пророки этих больничных стен… Пятьдесят семь дней пробыла она здесь — пятьдесят семь мертвых, выжженных болью дней, которые её дочь, Елена, провела в коме.
— Анастасия Сергеевна, наберитесь терпения. Это только начало, ей долго ещё выбираться. Но, кажется, мы идем на поправку!
— Вы… — голос дрожит. — Вы уверены?
— Сами знаете, уверенности тут быть не может. Я обязан, как врач, сомневаться. — Голос скуп и тверд. Голос зав отделением интенсивной терапии, а попросту реанимации, Бориса Ефимовича Покровского. — А вы, мой совет, поберегите себя. Вы же на призрак стали похожи, Анастасия Сергеевна! Ступайте, ступайте к себе. Машенька!
Он только слегка наклонил голову, а уж чистенькая, светленькая медсестра Маша увлекала Тасю за собой в крохотную угловую каморку. Обходя все писанные и неписанные правила, главврач разрешил ей ночевать здесь на полу, на матрасе. Она это право вымолила!
* * *
— Маленькая моя! Эльчик… — Тася даже боялась дотронуться до родного своего существа, боялась спугнуть возвращавшуюся к дочери жизнь. — Эленька, ты… — она запнулась. — Ты меня узнаешь?
— Ма-ма… — ресницы качнулись, на изжелта-сером обострившемся личике чиркнула тень улыбки.
— Господи! Милая моя! — Тася, охнув, укрыла лицо в ладонях.
Шел третий день, как её дочь вышла из комы. Третий день, как Тася пыталась заговорить с ней. И только к исходу третьего дня поняла, что дочь её узнает.
Пятьдесят семь и три — шестьдесят. За окнами лепетал май. Еще несмело, вполголоса — поздний ребенок неуступчивой долгой зимы. Первые числа первые почки… Шелест и зеленый шум — это все будет потом.
— Эленька, скоро сирень зацветет. Ты так любишь сирень! И ландыши… да?
Ровное чуть хрипловатое дыхание. Белый куколь бинов на голове. Неслышное тиканье капельницы…
— Эльчик, скажи… ты что-нибудь помнишь? Ты помнишь, что случилось с тобой… там, в Загорянке?
— Мама. Зачем ты… постриглась?
— А… не знаю. Думала — вот отрежу волосы, и все беды от нас как рукой отведет. Захотелось хоть что-то в себе переменить. Глупо, да?
— Нет.
Он помолчали. Собственно, примолкла Тася, Эля все время старательно укрывалась за плотным пологом тишины. Мать понимала, ей не хочется говорить. А вот ей, Тасе, так хотелось слушать и слушать родной слабый голос! Убеждаться снова и снова, что Элька жива, что её возвращение из небытия — не сон, не иллюзия, что ужас притих, свернувшись в ногах кровати, он больше не скалится, заставляя пятиться к самому краю. К краю провала… Он отступил во мрак.
Как ей хотелось выговориться, наговориться — без умолку, всласть, поверяя родному своему существу все передуманное, наболевшее… Как хотелось кинуться к ней на шею, обнять и молить… молить о прощении. Ведь это из-за нее, Таси Эля попала в такую жуткую переделку. Она знала, что дочка простит, но сама прощения не искала.
Знала, что душа её теперь сгублена, что со дна её подымается что-то страшное, темное, застилая даже память о прежних надеждах, вытравляя все, чем была она — Анастасия Сергеевна Мельникова, по мужу Корецкая. Да, её больше и не было! Была совсем другая какая-то женщина… И какая ж она теперь — этого Тася ещё не знала. И отчего-то тайком подумывала: может, Эля поможет ей разобраться в этом? Поможет разобраться с собой… Так Тася окончательно признавала над собой Элино старшинство.
Только бы Эля выкарабкалась! Только бы поднялась! Тасю не пугали ни последствия страшной черепно-мозговой травмы, ни осложнения, ни, быть может, годы предстоящей реабилитации, врачи и расходы — это все ерунда! С этим они справятся. И деньги она достанет. А Сеня — он станет лечить сестренку улыбками! Он вылечит её своим смехом. Она поможет сыну вновь научиться смеяться…
Пусть доченька поскорее окрепнет. А потом… потом она начнет действовать. Она должна искупить свою вину перед детьми. Она виновата, что не смогла стать стеной, не защитила. А раз так — пусть искупление будет страшным! Она уж не остановится на полпути… Она поломала детей, значит о своей душе нечего и думать. Пускай погибает — туда и дорога!
Появилась медсестра. Пора было менять капельницу.
— Борис Ефимович говорит: завтра, Эленька, в палату будем переезжать. В простую палату!
Машины глаза сияли. Это была и её победа. Ради Эли она перестроила свой график дежурств и дежурила сутки через сутки, а то и подряд без отдыха несколько дней. Уж очень зацепила её судьба маленькой пациентки. То, что выпало ей, детям не выпадает. Не должно выпадать!
Маша выходила, а Тася вытянула — глаза в глаза — свою девочку, повторяя шепотом: «Живи! Живи!» Доктора призвали профессора из клиники нейрохирургии имени Бурденко, и тот приезжал к ней не реже двух раз в неделю.
Это был берег жизни. Помощи. И надежды… И пока Тася с дочкой были здесь, среди милосердных — они в безопасности. Но там… там, за окнами раскинулся чудовищный материк. Иная планета, законов которой они не знали, потому что их просто не было! Там обитала нежить в людском обличье. А мир узнаваемый и привычный окончательно рухнул для них.
Смута, растерянность, страх мешались в Тасиной голове. Она до сих пор не могла понять: как случилось то, что случилось? Как сошлось, что её с детьми — шаг за шагом — гнали вон. Вон из жизни! Она ненавидела свои сны ведь именно с явления бабы Тони во сне все и началось. С этих её безуспешных поисков умершего деда, с попытки разыскать его могилу…
«Могилы, могилы… мои дети оказались на краю могилы — вот что из этого вышло, Тонечка, вот, что вышло! Ты знаешь об этом? Знала ты об опасности, которая подстерегала нас? И если да, то какое право имела толкнуть на этот путь? Подвергнуть опасности… И самое страшное то, что я не понимаю этого механизма, этой работы судьбы — за что? Почему? Ты ведь знаешь ответ! Так почему ж ты нам не поможешь из своей иной жизни… Ведь она есть — раз ты просишь меня, раз ты являешься мне, значит, ты жива! Почему ты не прогонишь этого жуткого зверя, который сидит возле меня — ночь напролет… И из пасти его вонючей капает слюна! А глаза — человечьи! Я, что, с ума схожу? Тоня, помоги мне, прогони зверя, у меня земля плывет под ногами… Земная кора дала трещину! Он сидит в моей каморке каждую ночь. И он настоящий, Тонечка, настоящий! Я знаю — это не призрак. От него несет псиной! Он коснулся меня один раз, когда уходил, боком своим поджарым, и я почувствовала, какая жесткая у него шерсть! Я уйду, уйду без страха, без сожаления — уйду туда, к тебе. Но что станут делать без меня мои дети? Не дай им пропасть!»
И мутная волна ненависти поднималась в душе — ненависти к миру, который не принял её. К людям, которые хуже зверей… Тася вполне понимала, что отчасти причиной тому её слабость — она зашаталась, не выстояв перед первыми ударами судьбы. Пускай они были жестокими, эти удары, но она не имела права на забытье, должна была уберечь детей!
Бесприютная, безнадежная странница… ей не за что было цепляться. Ни дома, ни работы, ни близкого человека — и больные дети. Что ж, место надежды занимает отчаяние. И если душа с ним не справится — из круга отчаяния прут монстры. Они манят, зовут: переступи черту! Ту, которая удерживает в круге заповедей: не укради! не убий! А за этой чертой… нет, Тася об этом не думала. Она эту черту уж переступила. Потому что была готова на все, лишь бы отомстить! Отомстить тем, кто стал вольным или невольным виновником бед семьи.
«Я стану Царицей ночи! — твердила она про себя. — я пойду на все, но детей… нет, дети останутся чистыми. Детей своих я этой тьме не отдам!»
Между тем, берег жизни все больше вытягивал Элю. Она шла на поправку. С головы сняли бинты, и только прооперированную область повыше виска все ещё закрывали марлевые прокладки и пластыри. Она стала понемногу ходить, опираясь на мамину руку. Но желание говорить и общаться не возвращалось к ней.
— Эля, ты помнишь? — Тася пыталась прорвать глухую оборону молчания. Но Эля упорно молчала, даже кивком не выдавая реакции на вопрос. Иногда она улыбалась маме. Но редко.
Через неделю после целой серии новых обследований врачи провели консилиум и пришли к выводу, что их пациентка почти полностью утратила память.
Глава 9 ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Тася денно и нощно корила себя: если б в тот страшный день она не расслабилась и получше глядела за детьми, трагедии бы не произошло. Сенечка не сломал бы руку, и ей не пришлось бы оставлять Элю, чтобы мчаться с сыном в больницу. Беда с Элей случилась в её отсутствие. Как раз тогда, когда дежурный врач Щелковской районной больницы накладывал гипс на искалеченную ручку мальчонки.
«А если б даже она и была рядом с Элей? — думала Тася, — что могла бы исправить? Остановить бандитов, устроивших в Загорянке разборку с „Доном Корлеоне“? Самой всех перестрелять? Глупости… Хотя как знать, может ход событий пошел бы и по-другому. Может, Эля не села бы в ту машину, которую расстреляли? Скорее всего, они втроем не поехали бы с остальными, интуиция подсказала бы Тасе, что надо отделиться от них, укрыться где-то, бежать… Раствориться в заснеженной обезлюдевшей Загорянке… Но только не подвергаться опасности, оказавшись как бы заодно с теми, кому угрожали оружием.»
Она припоминала как «шестерка» Гурам, пригибаясь от страха, спешил к хозяину, чтобы передать ему какую-то явно недобрую весть. Как помрачнел босс и отдал несколько быстрых коротких распоряжений. Все это она заметила лишь краем глаза — она танцевала!
А потом этот треск ломаемых веток и дикий крик Сенечки… И Вано умчал их с сыном в больницу. И Эля осталась одна… И буквально через минуту после их отъезда всем был отдан приказ: по машинам! Командовал «Дон Корлеоне». К Загорянке подъезжала команда братков конкурирующей группировки. Как Тася и предполагала, её наниматель Ермилов был связан с бандитами. Да, это даже слепому бы стало понятно, стоило только поглядеть на тех, кто собрался за тем злополучным столом…
Как ей потом рассказали, Эля бросилась на змееныша Мишку и намертво вцепилась в него, буквально грызя зубами и раздирая ногтями, их едва растащили. Поэтому при отъезде их рассадили по разным машинам, и Эля оказалась в той, которая следовала за крестным отцом. В этой машине сидели люди «Дона Корлеоне». Вишневая «Ауди» Ермиловых резко свернула налево, едва они вывернули с проселка к станции. Как видно, Сергей Валентинович решил оторваться от армады своего шефа и поскорее унести ноги… Это было поистине соломоново решение! А две машины, составлявшие кортеж босса, в одной из которых была Эля, повернули направо — к Москве.
Вскоре им перегородили дорогу черные джипы «Чероки». Послышались выстрелы. Шофер попытался развернуться на всей скорости, но их машину занесло, закрутило… Дальше Эля ничего не помнила, собственно, она вообще не помнила этого дня и не только его… Ни зимы, ни отца, ни пропажи квартиры… ничего! Ее память отныне была как чистый белый листок бумаги.
О происшедшем Тася узнавала от разных людей. Что-то сообщил ей Сергей Валентинович. Он был сух и в подробности не вдавался. Коротко посочувствовал, заявил, что, к его сожалению, их прежняя договоренность теряет силу, поскольку они с семьей спешно переезжают. Куда — не сказал. Тася бы этому только обрадовалась, если б только была способна. Радость в ней онемела. И только что-то ныло в душе, словно та тосковала о потере. Так, говорят, болит и ноет ампутированная рука.
Что-то ей рассказала Ксана, вызнала у Любаши. Та была в панике — на её участке, в родных Пенатах бандиты… И в страшном сне не приснится такое! Раньше-то люди хоть избранным делом, профессией, кругом общения могли гарантировать себе относительную безопасность… но теперь! Мир летел под откос. Правда, Любаша как раз вовсе не пострадала. Наоборот: её дача, обновленная и отделанная, переживала словно второе рождение. И денег за это Ермиловы не спросили с неё ни копейки…
Основные подробности происшедшего Тасе сообщил Вано. Надо сказать, он вел себя на удивление благородно. Если только, — презрительно кривила губы Анастасия, — это слово можно было употребить по отношению к… нет, бандитом она Вано все же не называла. Не хотела. Или не верилось ей… Ведь это он подхватил её с Сенечкой, быстро нашел больницу… А потом, когда они вернулись на опустевшую дачу, где птицы расклевывали остатки былого пиршества, быстро сориентировался, отвез Тасю с Сеней в Москву и умчался на поиски Эли. И уже к вечеру нашел её в пригородной захудалой больнице и перевел в прекрасную московскую клинику. Тася знала, что день пребывания в ней стоил больше ста долларов. Едва она заикнулась о деньгах, Вано лишь отмахнулся: об этом пусть Тася не беспокоится. За все заплачено.
Он часто навещал Элю с Тасей в больнице — фрукты возил, цветы… Сначала Тася ни на что не реагировала и только как тень склонялась над дочериной кроватью. Она кивала Вано, когда фигура его в накинутом на плечи халате возникала в дверях палаты. Изредка выходила с ним покурить. И «пробуждалась» только когда расспрашивала о происшедшем. Она требовала и требовала — имена, клички, подробности… Она хотела все знать. Обо всех, кто имел прямое или косвенное отношение к происшедшему с Элей.
Он отнекивался, отшучивался, потом твердо сказал: «Если хочешь поговорим, но после. Когда Эля поправится.» И так твердо сказал «когда поправится», что Тася как бы проснулась вдруг, очнулась и поняла, что надежда и в самом деле не умерла. Что жизнь в Эле теплится. И стала с удвоенной утроенной силой приникать к её холодной прозрачной ручонке, отогревала её губами и жарко шептала: «Живи! Живи!»
И Эля стала оживать.
А Тася думала: что же двигало им — Вано… И поняла — не долг и не жалость. А может, он был как-то причастен к беде и хотел это загладить? Ведь браткам явно кто-то донес, где находится «Дон Корлеоне» со свитой она вспомнила его подозрительный взгляд, каким он обвел всех, когда узнал, что в Загорянку едут враги… Нет, скорее Вано двигало что-то другое. Но Тася запрещала себе думать об этом и хотела лишь одного: чтобы Эля поправилась. И чтобы память вернулась к ней.
«Но зачем же ей возвращаться? — спрашивала саму себя Тася. — Разве с памятью ей будет легче? Нет! И значит все к лучшему. Стерты эти двенадцать лет — и Бог с ними! Узнает меня, Сенечку — и хорошо! А ничего другого и помнить не надо. Не надо — отца, который предал, не надо — нужду и проданную квартиру. Ничего не надо… Мы станем писать жизнь набело. Мы будем очень стараться!»
* * *
Пожилая соседка по палате Эле нравилась: она чем-то напоминала бабушку Тоню. Тот же открытый высокий лоб, гладко зачесанные и забранные в пучок волосы. Твердые, совсем не дряблые губы, в чертах достоинство и покой. Покой… О, какое доброе слово!
Звали соседку Елена Сергеевна.
— Тезки мы с тобой — это хорошо! — улыбнулась она, узнав имя Эли. Только не буду тебя Элей звать. Ты — Елена, это значит — факел! Свет горит в нашем имени. И не будем ему изменять.
Елена Сергеевна, как и Эля, говорливостью не отличалась. Скажет слово, другое — и замолчит. Надолго… О чем она думала, чем жила — об этом Эля не знала. И ей нравилась в Елене Сергеевне загадочность, недоговоренность какая-то… Без слов она теперь лучше чувствовала людей.
Вот и сейчас, глядя на розовый закатный свет за окном, Эля мысленно говорила с Еленой Сергеевной. Втайне желая, чтобы та прочла её мысль и ответила. Она знала, что сегодня Та — безымянная — не придет. Эля всякий раз предугадывала её появление… Свет, переполнявший все её существо перед приходом гостьи, загорался все реже. И как правило перед рассветом. Тогда Эля просыпалась внезапно как от толчка и ждала… И никогда не обманывалась.
И странное дело Елена Сергеевна, как будто, тоже была посвящена в игру постижения смысла — скрытого смысла без слов, в которую научила её играть нездешняя гостья. Соседка по палате словно читала её мысли и порой отвечала на них. Вслух.
Вот и сейчас, едва Эля подумала о своем тайном желанном доме, как Елена Сергеевна кивнула и произнесла:
— Да, это имеет значение — место в котором стоит твой дом. От этого зависит сила. Твоя и его…
Она взглянула на Элю, спустила ноги с кровати, вдела в тапочки. Подошла. Склонилась. Коснулась губами прохладного лба, стянутого белой повязкой.
— Удивляешься? Все должно обрести силу. А дом, если он, конечно, живой, тем более. Это важно. Ты знаешь. И я тоже знаю.
Немой вопрос, взмах ресниц…
— Ты сможешь стать сильной. Ты уже стала.
Медленно, неспешно — к окну. Присела на подоконник. Легкий старческий силуэт словно светится, окутанный отблесками заката. Молчит. Думает. Вот обернулась…
— Он будет у тебя — этот дом. Тот, о котором мечтаешь. Твой путь приведет к нему. У тебя особенный путь, — она вздохнула, — редкий для ныне живущих на земле.
Молчанье в ответ. Пылинки дрожат и плавают в луче света.
— Главное — ничего не бойся! Закрой дверь. Есть такая дверь у судьбы за нею прячется страх. Ее нужно закрыть. Плотно-преплотно. Крепко-накрепко. И тогда никто не сладит с тобой.
Немой Элин вопрос. Чуть дрогнули ещё не ожившие губы.
— Ты все скоро поймешь сама. Страх притягивает монстров и они воплощаются, приходят из небытия. А чтобы стать свободной, нужно захлопнуть дверь перед сомнением, суеверием, страхом… Перед неуверенностью в себе. Тебе все дано, девочка! Ты сильная! И все задуманное свершится. И ты начнешь идти вверх по лестнице и вместо того, чтобы растратить и потерять себя, как это делает большинство, ты себя сотворишь. По крупице, по шажку, по улыбке. Соберешь котомку радости и пойдешь. К своему дому. Важно только одно: оказаться там с полной сумой, чтобы принести хоть малую толику, но своего. Накопленного. Богатство души своей.
Она надолго умолкла. Сошла с подоконника. Пригубила из стакана воды. Головой покачала.
— Будет, будет все, не беспокойся. Все у тебя для этого есть! Твое варево — мысли, образы — самое истинное. Самое питательное! Из него-то все и растет. И прежде всего, сама реальность, мир, в котором живешь… Вот погоди — придет твоя мама, я поговорю с ней. Есть у меня мыслишка одна узнаешь потом… Вавилон-то — Москва — не для вас. Не для таких как вы. Как мы… Скажи, а девичья фамилия мамы твоей случайно не Мельникова? — Эля моргнула. — Ну, да, иного и быть не могло. Они очень похожи.
Улыбнулась. Поправила прядь, выбившуюся из прически. И Эля отчего-то вздохнула с облегчением. Эта встреча с Еленой Сергеевной — первый шаг. Первый знак. И все будет хорошо. Вот только… в её ответной улыбке угадывался вопрос. И Елена Сергеевна ответила.
— Спрашиваешь, на кого твоя мама похожа? В свое время узнаешь. Перед тобою — миры. Главное в них не запутаться. Поди разберись, какой из них твой. Это как в лабиринте — только одна дорога приводит к выходу. Ну все, поговорили! Вижу, ты устала. Да и мне пора на покой. Спим! Спокойной ночи, Елена.
Стройная, строгая. Старухой не назовешь — воля, натянутая струной, такой вольности не дозволяла…
И Эля глядела на неё и видела — у неё никого. Одна-одинешенька! Она не удивлялась своей новой способности без слов понимать людей, видеть их жизнь, судьбу… Она, кажется, вообще утратила способность чему-нибудь удивляться. Все, происходящее с нею теперь, было правильно и хорошо. Это был дар Светлой гостьи — Эля в этом не сомневалась.
Ей нравилось без слов задавать вопросы и получать ответы на них. Нравилось, что они с её новым другом, а Елена Сергеена стала её настоящим другом, понимают друг друга на особом своем языке. Эля спросила себя: что с Еленой Сергеевной. И ответ пришел сам собой — рак. Саркома. И в тот же миг она поняла, что соседка её по палате не выйдет отсюда…
Та, похоже, знала это. Но отчего-то нисколько этим не мучилась. Похоже, она спешила уйти — спешила туда, где её давно ждут. Где будут ей радоваться… Ей будет там хорошо — в этом Эля не сомневалась. И это помогало одной ждать конца, а другой — не тяготиться мыслью о том, что предстоит её другу.
Эля спрашивала себя: что за путь ей предстоит, о котором сказала Елена Сергеевна. И отвечала — это путь к дому. Куда поведет она и маму, и Сенечку — поведет за собой. Он уже ждет их — этот дом. Он уже близко…
Глава 10 БУРАТИНО
Эля шла на поправку. До выписки оставалось чуть больше недели. Врачи говорили, что её выздоровление — просто чудо, что частичная потеря памяти это сущая ерунда по сравнению с тем, что могло ожидать её при той черепно-мозговой травме, которую она получила. Если такие больные и выживали, то их ожидала участь быть навсегда прикованными к кровати.
Тася по-прежнему дни и ночи проводила возле дочери. Благо, гипс с Сенечкиной руки уже сняли, и малыш все это время оставался на попечении Ксаны. В первое время Ксана приводила Сеню в больницу навещать сестру, но при виде мертвенно-бледной Эли с головой, обвязанной бинтами, с иглой, торчащей из вены, безмолвной, чужой, Сеня начинал реветь, падал на пол возле кровати и закрывал головку ручонками, прячась от этого ужаса…
Он совсем перестал возиться с игрушками, часами мог сидеть у окна и боялся брать что-нибудь своей сломанной рукой — память о сильной боли не отпускала его. Но когда мама или тетя Ксана звали его, чтобы дать что-то вкусненькое, он машинально протягивал правую руку. Протягивал, а потом резко отдергивал и прятал за спину. И лицо искривляла гримаса боли.
Тася без слез не могла на это глядеть. И прозвала сынишку Буратино из-за доверчивого жеста руки, протянутой по первому зову…
«Покажи, что у тебя там?» — и в ответ тянется наивная ладошка. «Дай!» — и она отдает… Тася боялась дня, когда двери больничного приюта захлопнутся за спиной. Когда придется им возвращаться в мир, который не в шутку грабит и бьет, в мир злобнодышащий, мертвенный и пустой, в мир, который плодит калек и истребляет в людях все человеческое…
Вот и сейчас сидела она возле постели дочери и думала, думала… Вслух. Эля спала, спала и соседка её по палате Елена Сергеевна, только это был уж не сон — забытье… По словам врачей ей оставались считанные дни на этой земле.
— Милые мои, — говорила негромко Тася, — ну куда я вас поведу? Здесь хоть спокойно, а там… там все повторится сначала. Кто-то хочет, чтоб не было нас. Совсем! То ли мы прокляты, то ли платим за грехи предков… Только нет нам пути, и жизнь, как птица, рвется из рук. Снова жить? Снова маяться? Не хочу!
Она помолчала, вытирая слезинку. И без отрыва глядела на Элю. Та не слышала её слов. Та спала…
— Я пыталась научить вас добру. Правдивости. И любви к красоте… Но с такой душой, которая как ладошка раскрыта миру, вы пропадете. Чистота… в ней нет жизнестойкости. И я не знаю, как вам помочь.
Тишина была ей ответом. Казалось, вся больница спит, убаюканная свежим майским дыханием. Тася встала, подошла к окну, присела на подоконник. Окно было раскрыто и в палату залетали дуновения цветущего сада. И легонько трепетало в ответ свежее больничное полотенце, брошенное на спинку кровати…
— Буратинки вы мои! Милые Буратинки! Оба вы такие — и ты, Эленька, и Семен. Позовет вас кто — вы откликнетесь. Защищаться, беречься вы не умеете, душеньки у вас без забрала. И вряд ли научитесь — это характер, этому не научить! Если душа как ладошка раскрыта, — что б ни было, такой и останется! Жги вас, режь… Вот и поломали вас, и порезали, — а вы встрепенетесь, крылышки свои чахленькие расправите — и опять… Буратинами быть нельзя! И, выходит, я не тому вас учила. Нужно было учить как удар держать, как в ответ бить, а я…
Она согнулась пополам, захлебнувшись слезами, и её сбивчивый шепот прервался протяжным стоном.
Тихий медленный голос прозвучал в ответ — отозвалась Елена Сергеевна. Речь её прерывалась паузами, видно, выравнивала дыхание, но голос был тверд.
— Ты должна радоваться, что у тебя такие дети, рано теряешь надежду. Зло не властно над миром. Видишь ли… это невероятно, но оно часто приводит к добру.
— Елена Сергеевна, — выдохнула Тася, — вы меня слышали?
А та продолжала, спеша сказать самое главное — сказать пока силы не предали её.
— Ты обожглась, так что ж… держись за детей, их — таких! — тебе Бог послал. Видно, добрые и славные были предки твои, коли дети такие! Чистые души в твоем роду и ты не должна изменять. Им, себе… Нельзя отступаться тем, кого Бог наградил чистотой. Это сила, и когда-нибудь ты это поймешь. А теперь… мне надо сказать тебе…
Она замолчала надолго, и Тася затаила дыхание. Елена Сергеевна собрала последние силы, чтобы передать их этой почти незнакомой женщине, сидящей на подоконнике, съежившись как озябшая мышь.
— То, что ты называешь характером Буратино… Буратинистость… это признак всякой живой души. И пока человек — уже битый, уже знающий, что бывает за теплоту и доверчивость, — пока он вновь и вновь будет протягивать свою ладошку навстречу другой душе… даже мертвой, до тех пор живо будет тепло на земле. До тех пор враг будет корчиться, а земля… она будет ждать прощения. Потому что Буратино — из тех, ради кого Бог прощает нас. Он тот, кто способен искупить злобу и грязь тех, кто вышел из круга света. Буратино не от мира сего. Он знает, что чудеса ждут его и Господь… он никогда его не оставит.
Тася соскользнула с подоконника и встала на коленях в изголовье кровати. Голос больной таял, слабел. Теперь Тасе пришлось склониться над самыми губами Елены Сергеевны, чтобы расслышать её.
— Наша земля — неведомый зверь с огромными плачущими глазами. Его глаза — это мы. И только благодаря тому, что глаза эти плачут, о звере не позабыли. В них, в слезах этих — отблески рая. Страдание… оно искупает все. Не бойся страдать — это жизнь. И она продолжится… там…
Голос её оборвался, голова запрокинулась… Тася с криком выбежала из палаты, созывая врачей. И скоро вся палата наполнилась персоналом, а Тасю попросили выйти. И когда час спустя ей разрешили вернуться к дочери, койка Елены Сергеевны была пуста.
Глава 11 ПРОЩАЛЬНЫЙ ДАР
Тася угадывала, что Элю с Еленой Сергеевной соединяла какая-то особая связь, непонятная тем, кто никогда не стоял у порога, из-за которого не возвращаются. И Эля… Тасе казалось, что дочь, побывавшая там, вернулась другой. И дело было не в потере памяти, не в последствиях травмы — в другом. В том, что она теперь что-то ЗНАЛА. То, что скрыто было незримой завесой от всех остальных.
Взгляд её стал глубокий, спокойный. И чуть-чуть отстраненный. Точно её теперь мало касалось то, что волнует других. Где витает её душа? Что она видит, чувствует? И откуда в глазах этот ровный и ясный свет? На эти вопросы Тася не знала ответа. Зато знала другое: та ниточка, которая связывала Элю с Еленой Сергеевной, была едва ли не крепче той, что соединяла её с родной матерью…
Эля не спрашивала: что с Еленой Сергеевной, где она? Лежала тихо, глядя широко раскрытыми глазами в окно. Там, в ветвях старой липы пел соловей.
На постели Елены Сергеевны сменили белье. Эля не задавала вопросов лежала смирно. И иногда улыбалась. Странной внезапной улыбкой. Как будто получала благие весточки и грелась от них, как греются в лучах солнца. Теперь Тася не сомневалась: Эля не только знает о смерти своей соседки, ставшей ей другом, она общается с ней.
Родственников у Елены Сергеевны не оказалось. Похоронами и всем прочим распоряжался её поверенный адвокат, которого она наняла перед тем как лечь в больницу. Юркий, рано начавший лысеть человечек небольшого росточка. Он первым делом оплатил её больничные счета, передал конверты с солидными суммами персоналу… Сестры шептались: какая предусмотрительность! Она ни о ком не забыла.
Старенькая, хромая санитарка тетя Наташа получила в придачу к конверту тонометр — прибор для измерения давления, самый современный, импортный, который сам показывал результат, стоило его надеть на запястье. Все знали, что у тети Наташи давление скачет… Сестра Маша получила изящные золотые часики на тонком витом браслете. Зав отделением с минуту молча стоял, разглядывая доставшийся ему подарок покойной — тоже часы, только каминные, в нефритовом корпусе с бронзовым циферблатом и фигуркой задумчивой девы над ним. Борис Ефимович осторожно дотронулся до прохладной поверхности зеленоватого камня с золотыми прожилками… и быстро вышел из кабинета. Он ушел, чтобы никто из коллег не увидел как повлажнели его глаза. Все знали, как он мечтал проводить вечера у камина на даче, и чтобы собака лежала рядом, и чтобы тикали на каминной полке часы…
Дело было не в стоимости подарков — дело было в заботливости и любви! Елена Сергеевна продумала все. И каждый дар её — последний, прощальный, был шагом, которым заканчивала она свой путь на земле. А такое внимание к людям — бесценный дар, почти исчезнувший в последние времена… И уходя, Елена Сергеевна как бы напоминала людям об этом — она звала их к любви!
Выполнив распоряжения покойной, адвокат поинтересовался у Бориса Ефимовича, как найти некую Анастасию Сергеевну Корецкую, и тот указал палату, в которой по-прежнему неизменно сидела Тася. Адвокат попросил её пройти вместе с ним в кабинет Бориса Ефимовича, который тот любезно для них предоставил. Объяснив, что исполняет волю покойной и назвавшись Эдуардом Сергеевичем, лысенький адвокат предложил побледневшей Тасе присесть. А потом разложил перед ней на столе бумаги. Много бумаг…
Это была дарственная. Согласно последней воле Елены Сергеевны, о которой она его известила буквально в последние дни, Елене Николаевне Корецкой, Эле, передавался дом. Огромный двухэтажный рубленый дом на Юршинском острове неподалеку от Рыбинска. Остров этот был между Волгой и Рыбинским морем, четыре раза в день туда ходил катер. В остальное время добираться можно было только на лодке.
Эдуард Сергеевич говорил, объяснял подробности, мол, пока дочь не достигнет совершеннолетия, дом нужно оформить на Тасю, заверить это нотариально… но Тася его не слышала. Побелела как мел и, почувствовав, что комната вдруг поплыла, изо всех сил вцепилась в подлокотники кресла.
Адвокат выскочил, сбежались врачи… Тасе дали выпить чего-то и препроводили в дочерину палату, чуть не силком заставив лечь на чисто застеленную пустующую кровать…
Она мгновенно заснула. И проспала едва ли не сутки. И во сне… или нет, не во сне к ней опять пришел дикий зверь — волк ли, шакал… не знала. Он скалил зубы. Рычал. И рык его был глухим, клокочущим, грозным. Он сидел между двумя кроватями — Элиной и той, на которой прежде лежала Елена Сергеевна, а теперь Тася, и в нетерпении перебирал передними лапами. Словно ему не терпелось броситься и разорвать и одну, и другую, но что-то мешало. И он бесился от ярости. Ярость горела в глазах: бешеным, жутким огнем полыхали они… в них отражалось безумие. Ему приходилось сдерживать литую мощь своих мускулов, сидел, дергая головой, клацая пожелтелыми острыми клыками, и рычал. И словно натыкался на невидимую преграду, которая мешала кинуться и перегрызть им горло. И зло, которое переполняло его, было как кипяток, способный сварить его сердце…
Кто или что заставляло его оставаться на месте? Не нападать? Какая сила оберегала больную девочку и полуживую женщину? Тася знала: настанет время и она поймет. Как знала и то, что зверь предупреждал её. Его предупреждение было связано с их вновь обретенным домом. Он хотел до смерти запугать её, чтобы она не вздумала переезжать туда. Потому что там… там он загрызет их.
— Ах ты, гадина! — хриплым шепотом выговорила она, когда очнулась и открыла глаза. — Думаешь запугать нас? Не выйдет!
И тотчас почувствовала на себе Элин взгляд. Глаза дочери в призрачном предрассветном свете казались нечеловечески-огромными. Странный это был взгляд. Нет, он не был враждебным, но только… это была не Эля. Во всяком случае, не та Эля, которую знала Тася. На неё глядело какое-то странное незнакомое существо, глядело глазами Эли — ЧЕРЕЗ НЕЕ, и от этого было особенно неуютно. Эля выпростала руки из-под одеяла, потянулась к Тасе.
— Мама, доброе утро!
— Эльчик! — Тася сорвалась с кровати, бросилась к Эле, даже не надев тапочек…
Зверь исчез. Они обнялись. И девочка вдруг заговорила.
— Мама, как хорошо! Хорошо…
— Да, милая, да! Хорошо.
— Мы больше не расстанемся? Я тебя не отпущу.
— А мы и не расставались.
— Нет, вчера ты ушла. А потом спала. И стонала во сне. Ты узнала, да?
— Что узнала?
— Что-то хорошее?
— Ты же сама говоришь — я стонала…
— Ну и что? Это был просто сон. А сейчас глаза у тебя не такие — не грустные.
— Да, я узнала, девочка. Хорошее, очень! Только…
— Что?
— Нет-нет, все в порядке. Тебя ведь сегодня выписывают!
— Сегодня!
Эля вскочила, подлетела к окну, легкая, словно бы бестелесная… Распахнула. Сад вздохнул, потянулся к ней — ветками, дуновеньями, бликами света… Пел соловей.
Тася подошла к дочери, обняла. Они стояли так какое-то время, слушая соловья, утро, сад, пробуждающуюся жизнь… Впервые за догое-долгое время им обеим стало светло на душе.
А потом Эля подняла к маме просиявшее лицо… и Тася не сомневалась, что дочь знает ответ, хотя никто из персонала в больнице ни слова ей не сказал.
— Мам, теперь у нас есть свой дом?
Тася проглотила ком в горле. И крепко обняла дочь.
— Есть, милая. Есть!
— Это… она?
Тася кивнула.
И тогда Эля уткнула лицо в ладони, уронила голову матери на плечо и заплакала. И Тася молча гладила её волосы — совсем коротенькие, стриженные — ведь перед операцией их обрили наголо.
Где вы, Елена Сергеевна, вы видите это? — думала Тася. — Эту стриженную плачущую головку, которая так любит вас? Которая чувствует вас? И которую вы поняли так верно, так глубоко, что сумели проникнуть в её мечту — мечту о доме… Ведь сама я об этой её мечте только догадывалась. Услыхала однажды тихое: «Я хочу домой!» Вы подарили ей это. А сможем ли мы соответствовать этому дару? По плечу ли нам? Справимся? Ведь дом — он живой! Он может окрылить человека, а может сломать. Что таит в себе этот дар: победу или поражение?
Чуть приподняв голову, через плечо Эли она поглядела в сад. Налетел легкий ветер и на подоконник лег лепесток. Чуть розоватый, округлый лепесток яблоньки. Тася выглянула в окно. Там, внизу, чуть левей их окна росли яблони.
Но они ещё не цвели!
Она осторожно сняла лепесток с подоконника, поднесла к губам. Нежный, негаданный…
— Эленька, посмотри!
Та отняла ладони от зареванного лица, взглянула, ахнула…
Дверь распахнулась.
— Что, проснулись уже? Готовьтесь к обходу, сейчас профессор придет! - предупредила Маша, оживленная как всегда.
Засуетились, заметались — умываться, одеваться, готовиться. Наставал долгожданный час — час свободы!
— Да, чуть не забыла! — Маша задержалась в дверях. — Тебе, Эленька, письмо. Оно было в кабинете Бориса Ефимовича среди бумаг, и его в суете не заметили. Вот, держи-ка. — И она протянула Эле белый конверт.
И обе — и Тася, и Эля сразу поняли, чье это письмо. Эля минуту стояла, словно с силами собираясь, потом развернула белый плотный листок, исписанный мелким бисерным почерком. Прочитала. И протянула маме. Письмо Елены Сергеевны.
«Дорогая девочка! Ну вот, у тебя есть свой дом. Меня не благодари все, что дается, не нами послано. Скажу о нем несколько слов. Я в нем никогда не жила и даже его не видела. Он как бы не мой, видишь, странность какая! У этого дома не простая судьба. О ней тебе люди расскажут. Я знаю, он тебе понравится, это очень хороший дом! Помоги ему, он ждет твоей помощи. И не только он — местность ждет! Тебе многое доверено, у тебя сила большая теперь, так что за тебя я спокойна. Только помни: кому много дано, с того много и спросится. Будь внимательна ко всему. Не спеши. И учись слушать. Воду, деревья, людей… И ищи — ты должна найти то, что скрыто. Знаю, ты сможешь. И еще, помнишь я тебе говорила: надо собрать котомку радости и идти. Принести людям хоть малую толику, но своего! Чтобы было потом с чем постучаться у врат Небесных. Ну, вот, дорогая и все. Не прощаюсь с тобой. Тебе домой, а мне — стучаться у врат. Это радость! И последнее. Все, что узнаешь, увидишь, в сердце свое не впускай. Место там только для твоих близких, для Христа и Царицы Небесной. Вот с ними — живи. И для них. Поклон твоей матушке. А теперь поднимайся, лети, моя пташка! И не удивляйся, если, воплощенные наяву, к тебе явятся твои ожившие сны… Сны из прошлого. Твоя Елена.»
И после обхода врачи отпустили Элю на волю. Лети, пташка, лети!
Она не плакала, прощаясь со всеми, — плакала Тася. А Эля была на удивленье тверда и спокойна. Она поклонилась всем провожавшим по-русски — в пояс. И откуда только взяла этот исконный старинный жест, где углядела…
И кланяясь, и спускаясь по лестнице, садясь в такси, прижимала она к груди белый прямоугольник — письмо Елены Сергеевны. И в глазах её сияли высверки солнца, и глаза не глядели ни на кого — они глядели В СЕБЯ. Точно Эля боялась утратить то тайное, скрытое, что знала отныне.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Глава 1 ОСТРОВ
Тася с детьми перебралась на остров в последнюю неделю мая, когда весь он стоял в цвету и белел посреди воды как фата невесты. Подплывая к нему на тарахтящем бойком катерке ранним утром и впервые увидав необъятную волжскую ширь, белые теплоходы, словно сон проходящие мимо, статую Матери-Волги возле плотины и сам остров — зеленый, в белом кипенье вишневых садов, в окаймлении полосы чистого желтого песочка, Тася замерла. Ни слова сказать, ни заплакать, ни засмеяться… такое величие и в то же время простота, задушевность такая открылись ей в этих местах.
Бросили трап на пристань — деревянную, на потемнелых столбах, и весь народ с катера начал спускаться на берег по крутой деревянной лестнице. Собственно, это была даже не лестница, а просто пара-тройка сколоченных досок с тоненькими поперечными плашечками вместо ступенек. И сходя, все крепко держались за поручни, не то не ровен час нога соскользнет. А у Таси обе руки были заняты, и в каждой — по неподъемному чемодану. Ну, она и рухнула! Нога с непривычки с перекладинки хлипенькой соскочила, поехала и она полетела вниз… И расшиблась бы, если б не человек какой-то, который у самой земли её подхватил. Дети закричали, Эля к маме кинулась, стала чемодан у неё вырывать… Но человек тот, мамин спаситель, крепкий детина с малость всклокоченной рыжей бородой и встопорщенными по-боевому усами… Так вот, он одной рукой маму перехватил, а другой дочь её отстранил и Тасю аккуратненько эдак наземь поставил. И рассматривал её как какую диковину, словно птицу заморскую в голубятню с сизарями, да турманами залетевшую… Тася смутилась, конечно, это ж надо было так нелепо на новую землю попасть… Тут ведь теперь о ней, небось, байки будут рассказывать: как скатилась на остров кубарем эта цаца московская…
— Ну как, цела? — хрипловатым густым баском поинтересовался рыжебородый. Впрочем, беспокойства особого не проявлял — и так видел, что цела-невредима. — Эх ты, вещей-то сколько у вас! И далеко вам?
— В Антоново, — потирая ногу и морщась сказала Тася. Ногу она все-таки подвернула.
— Давай помогу донести-то, — предложил ей спаситель и, не дожидаясь ответа, легко подхватил тяжеленные чемоданы и направился по тропинке вглубь острова.
Тася поразилась: он ведь собирался на катер садиться, в город плыть, а все бросил, чтоб какой-то незнакомой помочь… и с готовностью двинулась за ним следом. За ней Эля с Сенечкой. Малыш только успевал-поворачивался: головенкой вертел — такая красота открывалась. Высокая, аж по колено! зелена трава-мурава, в ней тропинка протоптана. Среди старых могучих лип виднеется белое здание старинной усадьбы. Довольно-таки облезлое, краска там и тут облупилась, но все ж усадьба, да ещё на высоком отвесном берегу Волги! За ней — заросший, запущенный парк. А дальше поле-то, поле какое! Густое, зеленое, ровное. И лес за кромкой! И вдали тоже лес. Сосны! Густые, пушистые, а стволы розовым в золотых лучах светятся… Тропка пошла вниз, под уклон, потом выровнялась и впереди завиднелась рощица. Высокие раскидистые березы, вольные, ясные. А воздух-то воздух… благодать! Когда приблизились к рощице, оказалось, что это старое кладбище. Могилки чистенькие, ухоженные: ведь недавно Пасха была, а на Пасху всегда идут на погост за родными ухаживать! Веночки, цветочки в баночках, на железных крестах, у подножия плит и памятников — искусственные, в основном… Кое-где могилы совсем свежие, все в цветах, и земля, присыпанная песком утрамбоваться ещё не успела. Были и могилки заброшенные — краска на крестах облезла, фотографии выцвели. Тася шла, глядя прямо перед собой, ей не терпелось увидеть деревню. На кладбище все больше глядела Эля, глазищи таращила, точно что-то невиданное увидала. И все оборачивалась, когда кладбище миновали.
Вот и Антоново — ниже, в ложбинке, возле заливчика, осокой поросшего. По заборам рябины цветут, много рябин. Дома все старые, кое-какие осели и покосились, но другие вполне ладные, крепкие, с резными затейливыми наличниками, и у каждого — свой характер, узор. Стали подниматься в горку, и у Таси сердце запрыгало: какой он, их дом? К ней обернулся рыжебородый, шагавший с чемоданами впереди.
— Так, куда вам? Вы к кому погостить-то приехали?
— Да, мы не гостить… — Тася остановилась. — Мы насовсем.
— Это как насовсем? — не понял её спасатель. — Насовсем поселяетесь у кого?
— Нет, мы… у себя поселяемся. Тут наш дом. Он где-то… я не знаю, мне сказали найти большой дом напротив колодца. Это в самом центре деревни, там ещё памятник погибшим в войну должен быть.
Мужчина от удивления даже чемоданы на землю уронил. Они шлепнулись с глухим стуком. Сразу в истошном лае зашлась какая-то шавка за соседним забором, а шагавший неподалеку раскрасавец-петух с золотисто-зелеными перьями в горделивом хвосте шарахнулся в сторону, недовольно оглядываясь и кося красным глазом. Что это за непонятные люди пожаловали?
— Так получается, это ваш теперь дом? — он заморгал и прищурился. Вы, что ж, купили его? А когда покупали-то, я что-то раньше вас тут не видел?!
— Да нет, не купили, — устало обронила Тася, этот допрос посреди улицы потихоньку начал её донимать. — Он нам в наследство достался. Ну, в дар! Еще будут вопросы или вы все-таки дорогу к дому покажете?
— Нет вопросов! — фыркнул, развеселясь, провожатый. — Пошли.
Через несколько дворов по левую сторону показался… да нет, не дом каравелла… Корабль! Он вплывал в деревенскую улицу со стороны реки, вплывал неспешно, с достоинством, на всех парусах своих широченных стен. Он и стоял-то особняком — сплошной ряд деревенских домов перед ним обрывала полянка с ясноглазыми одуванчиками, от которой ручейком вытекала дорожка, спускавшаяся к реке.
— Вот он, домина ваш, — указал рыжебородый, — любуйтесь! Только на что вам такая громадина — это ж сколько надо дров-то, чтоб протопить? Да и восстанавливать его — не хрен скушать!
— Ничего, как-нибудь, — хмуро бросила Тася. Их нечаянный провожатый уж не в шутку её достал! — Вы… спасибо большое, но вы больше не беспокойтесь. Мы уж сами тут разберемся.
И с решительным видом она двинулась мимо недоуменного мужика. Он смерил оценивающим взглядом её тоненькую фигурку, будто прикидывал: восстановит такая дом или нет? Потом вздохнул и с не меньшей решимостью двинул за ней.
— Вы не горячитесь, хозяйка! — он распахнул перед ней покосившуюся гнилую калитку. — Вам без людей тут не справиться, а я тут всех знаю подскажу, кто, да что… Да и материалов вам надо, дров, а с ходу вы… в общем, знать надо!
— Послушайте! — Тася с угрожающим видом обернулась к нему. — Вы понимаете, мы сюда из Москвы ехали, встали в пять утра… Час до этих ваших Переборов добирались, паромчика ждали…
— Так то не паромчик, а «Мошка» — так мы катер зовем. Вы же видели его номер: «МО — 513» — вот «Мошка» и получается! — на лице его раскатилась широкая довольная улыбка.
— Мне наплевать, паромчиком называется это корыто или мошкой! - раскипятилась Тася. — Я хочу, наконец, войти в дом, сеть на стул, а потом накормить детей. Вам это понятно? Или по-английски вам объяснить?
— Да нет, по-английски не надо, — обиделся проводник. — В общем, так. Вещи я вам донес, а там как хотите… только в доме вашем и стула-то нет.
— Как нет? — опешила Тася, и вся её раздражительность разом погасла. Совсем?
— Да вы сами сейчас увидите. Где ваш ключ-то — давайте, а то ещё так быват (он так и сказал — «быват»!) как бы замок за зиму не заржавел…
Он взял ключ из дрогнувших пальцев Таси, поднялся на высокое двухметровое крыльцо, повозился с минуту с замком и отпер дверь.
— Так и есть, заржавел, собака! Но это ничего, я вам масла для смазки принесу. Ну, давайте, чего стоите-то? Ребетня, залетай!
А они и вправду стояли перед этим огромным домом, который на них не глядел: все окна с улицы были повыбиты, а со стороны крыльца — с тылу забиты фанерой. Стояли и не решались войти.
— Мам, пойдем, — тихо сказала Эля. За весь этот день она не проронила ни слова, и только лицо её все чаще озаряла какая-то новая, словно бы расцветающая улыбка. — Нехорошо, он нам помог, а ты… Ну, пошли!
И они вошли в дом.
В нем и впрямь не было ни стола, ни стула… Только полуразвалившаяся русская печь. Зато комнат, пространства — не счесть! По плану только первый этаж занимал больше двухсот квадратных метров. Чистый коттедж! Только не такой как современные строят, а деревянный, добротный, живой, ставленый из неохватных, потемнелых от времени бревен.
И Тася обошла его весь, опустилась на пол возле раскуроченной печки, прислонилась к ней головой и сидела так, раскачиваясь, а слезы беззвучно текли по щекам. Сеня уселся с ней рядом. А Эля взяла их Сусанина за руку и неприметно вывела из дому, увлекая во двор, где по забору росли три рябины, несколько кустов сирени и куртина вишен. Как они цвели! У крыльца Эля стала негромко спрашивать его о чем-то, он ей отвечал, но про что они беседу вели — никто не слышал…
А две старушки — молочница баба Поля и соседка её тетя Люда — приникли к забору, стараясь, чтоб их не заметили, и пытались хоть краем уха расслышать, о чем говорят. Тетя Люда слыхала, как Тася сказала своему провожатому, что поселяется здесь навсегда. Что пустующий дом напротив колодца теперь не пустует. И весть эта в мгновение ока облетела деревню. Через час о ней знал весь Юршинский остров.
Глава 2 ОСТРОВИТЯНЕ
Как оказалось, рыжебородого звали Василием. Он жил в дерене Быково за сосновым бором, что направо от пристани, жил с сынишкой по имени Вовка. Вдвоем. Жена его умерла. В тот же день, как препроводил новых островитян к их дому, Василий к ним явился под вечер. Его старенький мотоцикл протарахтел и умолк у калитки, распугав слонявшихся кур. Он привез табуретку, два стула, машинное масло для замка, ведро картошки, лохматый пучок зеленого луку, петрушку и сына Вовку. Тася руками всплеснула: стулья! Это же целое богатство… Она немедленно распалила во дворе костер и подвесила над огнем чайник на железном пруте — печка сильно дымила, а больше готовить было не на чем.
— Вова, давай налью тебе чаю? Горяченький! — предложила Тася, внося закопченный дочерна чайник в дом.
— Плевать! — хмуро бросил Вовка, ни на кого не глядя.
Он стеснялся.
Это был рыжий, серьезный, веснушчатый парень с очень строгими серыми глазами. Но когда он улыбался, казалось, что в комнату вдруг заглянуло солнышко — такая неожиданная, светлая и радостная была у него улыбка. Вовке было тринадцать лет.
Отец его сел с Тасей на пол, на газетки, чай пить, а тем временем Вовка извлек из мотоциклетой коляски доски, гвозди, топор, пилу и принялся строгать и стучать. Через час у новоселов был стол. Он немного шатался, но когда под одну ногу подложили свернутую газетку, встал крепко! Ровненький получился стол, и доски рубанком обструганные. Тася тотчас достала из чемодана скатерть, застелила…
Так началась их новая жизнь. Жизнь в деревне.
Деревенские вроде бы приняли Тасю с детьми. А вроде бы и не приняли… Ясно ведь — чужаки! Да и дом, в котором поселились они, пустовал долгие годы, и не одна веселая компания забиралась сюда через раскуроченное окно, чтоб самогоночки выпить, да с бабами позабавиться. И вообще, стоял себе дом пустой. Прежде, давно, ещё в сороковые, жили в нем люди свои, местные. А теперь — не пойми кто! Какие-то доходяги московские. И воду-то из колодца толком достать не могут, ведро перетягивает! «Перетягиват!» — как говаривали в здешних волжских краях, проглатывая гласные в последнем слоге.
Они и вправду казались в деревне белыми воронами: бледные, худющие, неуверенные — не девки, а тени какие-то, что мать, что дочка… Сеня-то ещё ничего, основательный карапуз, любопытный. Калякает со всеми, лопочет, все ему интересно. А эти: мать с дочкой ни с кем и говорить не хотят, сторонятся. Видно, носы дерут! Деревенские бабы похохатывали, глядя на них, и высматривали через забор все, чем эти, московские, занимались. Интересно — все ж развлечение!
А через неделю, когда земля потихоньку вплывала в лето, её вдруг словно накрыло раскаленным от солнца невидимым куполом. Пала жара! «Ох, уж больно люди Бога разгневали, — вздыхали старушки. — Никогда не бывало июня такого. Сгорят ведь хлеба!»
Тяжкий знойный июнь опалил землю непривычной жарой. Тридцать восемь в тени! Остров походил на придавленный крышкой чугунный котел, преющий в печке, и даже близость большой воды не спасала. От этой жары люди словно с ума посходили, и весь остров начал буйствовать. Пить!
Пили самогон. Крепостью семьдесят градусов — что крепче водки! Гнали в нескольких деревнях, но предпочитали брать коричневатое зелье у Николая на хуторе — так называли дачный поселок неподалеку от пристани. Двигались за ним перебежками — от одного тенистого перелеска к другому. А на открытых местах: в полях, по проселкам от этого африканского жара вообще было нечем дышать. Да ещё луга зацвели, сады, огороды, и от терпкого душистого воздуха, напоенного пьяным запахом трав, у людей попросту «крыша поехала». Воздух этот — раскаленный, тугой — не шел в легкие, и народ ходил с приоткрытым ртом, словно все были рыбами, и рыб этих выудили из воды и побросали на берег. От того и дурили — дрались, куражились, лезли в одежде в воду и орали там не своим голосом… А потом снова топали за самогонкой и валились там, где одолевал лютый и мутный хмель — при дороге, под кустом, за околицей…
И начались безобразия.
Начались они с того, что Тасин сосед, пьющий запоем пастух Михалыч, заснул под кустом, и стадо разбрелось по задворкам и огородам, вытаптывая рассаду. Бабы с воем кинулись собирать коров, кроя Михалыча матом, а молочница баба Поля, у которой был самый зычный и пронзительный голос, вопила на всю деревню, что у неё и у Рябовых всю капусту коровы сожрали!
Михалыч, проспавшись и топая сапогами, всполз на крыльцо к Тасе и забубнил нечто мало понятное — слова он выговаривал глухо и скороговоркой. Но скоро Тасе не нужно было и слов разбирать, ясно стало, что Михалычу требовалось двадцадцать рубликов на опохмел — ровно столько стоила на хуторе в Юршино поллитровка самогона. Он стал являться к ней в пять утра, мог и посреди ночи, дубасил кулаком в дверь и мычал: «Хозя-ака! Хозя-ака!» Михалыч знал, что кроме новой его московской соседки, во всей деревне больше денег ни у кого нет, а если и есть, так никто не даст! Тася давала…
Василий привел к ней двоих соседей своих по деревне — щуплого серокожего Владимира и улыбистого Бориса. Им заказано было подновить крышу, поправить кое-где стены, починить рамы, вставить стекла и вообще хоть сколько-то привести дом в порядок. Сосед напротив, живший в покривившемся домике под раскидистой старой березой, вызвался починить проводку. Звали его Леней. Вечерами он, робея и пряча глаза, появлялся у Таси то с новенькой титановой лопатой, то с крепкой плетеной корзинкой, то с топором, предлагая обменять означенные предметы на двадцать рублей… Тася меняла.
Из-за речки Юги, огибавшей остров по окоему, где стояла деревня Антоново, и отделявшей его от материка, из поселочка Свингино появился призванный Василием печник Коля Хованкин с сыном Лешей. Оба принялись крушить старую печь, таскать глину с берега, замешивать её с песком и класть новую печку. Николай, появившись, выпил бутылку водки, после сообщил, что цена, о которой условились, его не устраивает, нужна прибавка для напарника, то есть для сына Леши. Тася на прибавку согласилась.
Все это время, пока Тася входила в деревенскую жизнь, осваивалась и начинала понемногу знакомиться с деревенскими бабушками, Эля пропадала в лесу. Там цвели ландыши, пели птицы, из-под ног вспархивали тетерева, и огромные замшелые валуны живописными пятнами светлели под солнцем среди елей и густых зарослей можжевельника. Но самым любимым местом её стал необъятный луг, раскинувшийся за деревней и простиравшийся живым колеблемым морем трав до берега настоящего моря — Рыбинского. Там шумел прибой и тянуло свежестью от сероватой воды, уходящей за горизонт. На море Эля бывать не любила. Ей отчего-то было не по себе, когда стояла на берегу и глядела на неприветливую суровую воду. Это было искусственное водохранилище, самый большой искусственный водоем в мире, вырытый в сороковых годах. При затоплении под водой осталось множество деревень и даже целый старинный город Молога. Нет, неуютно ей было на берегу, неуютно! То ли дело Волга, живая, ясная, синяя, по которой ходили белоснежные трехпалубные теплоходы, баржи и сновали легкие маневренные моторные лодочки… Эля часами пропадала на берегу Волги и в лесу, но по утрам, на заре, часов в пять, выходила на залитый солнцем луг за деревней и шла по высокой траве к одинокому дубу, растущему на краю острова, в том месте, где река Юга сливалась с Рыбинским морем. Это было ещё не море, но и не река широкий залив улыбался ей светлой синью, по нему бабочками порхали белопарусные яхты, легкокрылые чайки, и сидя под дубом, Эля глядела на воду, глядела за край земли и не могла наглядеться.
Там на заре она слышала пение. Стройный хор мужских голосов звучал из воды — это был церковный распев.
Ей во сне стала снова являться Светлая гостья. И не только во сне наяву. В красных одеждах, в облаке лучистого света. Свет тот был так непохож на земной — он был не от мира сего. Но когда утром вставало солнышко, что-то в ответной улыбке земли, которой оно улыбалось, было от этого ясного света. Элина гостья звала девочку за собой и шла над землей к берегу острова, где рос одинокий дуб. Там она пропадала. Иногда Эля видела её и в лесу. А на Троицу она встала над водами моря — невиданная, заслоняющая горизонт, и красные одежды её алели над бурливой водой. Она воздела правую руку, словно благословляя и остров, и деревеньки, и тихий деревенский погост, и Элю — это было как знамение. Знак того, что грядет… чудо ли, радость, беда… Нет, Эля знала, что Она всегда отводит беду и сейчас отведет, что от простертой её руки — благодать… Но знала также, что это благословение — перед битвой. И она стала готовиться к ней.
И началась буря. На остров шел ураган. И захлопали ставни. И две вековые березы срезало, как травинки. И несколько лодок сорвало и унесло в море. И с домика их соседки бабушки Шуры снесло три листа шифера. Они рухнули в сад, разкрошив её любимую яблонку и превратив в кашу кусты сортовых пионов. И бабушку Шуру приютила у себя тетя Маша, а та только тихонько покачивала сухонькой головой и шептала: «Плевать… Плевать…» Ей было жаль пионов. Но ныть и причитать она не умела. Ждала, когда уйдет ураган, и кто-то починит ей крышу, и она снова вернется домой. Главное, чтобы дом стоял!
Ураган бушевал всю ночь, и ночь эту остров выстоял. И наутро, когда все стихло, и только поваленные деревья и разбитые ставни напоминали о ветре, жестком как сталь, люди стали выползать из домов, подсчитывать понесенный урон, бегать к соседям, пересуживать как и что починить… И стали пить. Ой, как пить! И бабы, и мужики… Тася побежала в деревню Липняги к бабе Гале, у которой брала молоко, — та, шатаясь, выползла к ней с крыльца, и тонкими в нитку губами дребезжащим голосом стала тянуть: «Ангел мой! Ты не бойся, не бойся!» Она старалась успокоить ту, которая к здешней жизни была не привычна, ту, у которой в доме не было даже кроватей и дети её до сих пор перемогались на холодом полу, — старалась передать ей хоть толику бодрости и надежды. Баба Галя пошла в огород и надергала Тасе пышный пучок укропа, и дала ей трехлитровую банку соленых огурчиков и молока, и толкалась в сенях, колыхалась… и все повторяла: «Не бойся!»
А та, которую деревенская бабка назвала «ангелом» — Тася отыскала Михалыча и послала за самогонкой. И под вечер едва ли не пол-деревни сидело у неё за сколоченным Вовкой столом, и Тася пила… пила!
А на следующий день молодуха Оксанка сама притащила ей самогонки. Не за так, конечно, — Тася и ей налила. А чернявый, смурной и дурноватый внук дяди Гриши Илюха подрался с Андреем из крайнего дома, потом плеснул на него керосину и поджег. Андрей живым факелом метнулся к колодцу, к ним уж бежали… Вода на реке успокоилась, и Андрея с ожогами первой степени повезли на лодке в больницу. А Леня Трушкин, бобылем живущий в Быково, взял двустволку и, уперев её в стенку, саданул заряд в живот. Сосед Николай дотащил его до лодки, перевез… Леня жил ещё двое суток.
И чем больше известий об этих бедах доходило до Таси, тем растеряннее она становилась и тем чаще Михалыч гонял в Юршино — добывать самогон. Сенечка топотал возле мамы, с испугом на неё глядя, Коля Хованкин с сыном Лешей возводил печь и возил им на лодке еду. Остальные мужики запили и все работы по дому остановились. По всем комнатам высились груды опилок, обломки досок, стекла… В центральной комнате, где клали печь, разбитый кирпич и глина доставали по щиколотку, и Тася пряталась в угловой комнате от этого хаоса, ела огурцы бабы Гали и пила самогон. И возле неё сидел зверь с разинутой пастью — насмехался над ней. И глаза его уж были не человечьи: два красных угля пылали огнем в темноте. Теперь зверь не оставлял Тасю и днем — он всегда был при ней. И никто его больше не видел. Тася знала теперь, что дом, в котором они поселились, его логово. Тут был вход в другой мир. В доме стало твориться что-то странное: слышались крики, стоны, голоса… На втором этаже кто-то ходил, и доски под ним проседали, скрипели. А в подвале слышались странные звуки — как будто кто-то заступом колотил по обледенелой земле. Тася видела, как сами собой раскрываются двери и… медленно закрываются. Быстрый топот ног… никого. Она думала, что от этого вот-вот помешается и хваталась за бутылку как за спасательный круг. Это было единственное средство, защищавшее её душу от ужаса. Душа цепенела и переставала чувствовать боль. Угасала душа. Спала… И сон её был тяжек и страшен.
А Эля… она уходила из дома. Она шла на кладбище и там кружила между могилами, всматривалась в полустертые надписи на крестах. Она там что-то искала…
Здесь, на этой земле она стала чуть-чуть разговорчивей. Ей нравилось говорить со старушками, нравилась здешняя речь. Баба Шура писклявым тоненьким голоском позвала её в сад. Показала цветник, головой покачала: уж очень жаль ей было пионов.
— Ничего, Элечка, ещё вырастут. А я тебе примулы дам!
Эля улыбнулась, кивнула — она так любила цветы! Она решила разбить цветник на своем оголенном участке. Ей хотелось, чтоб у них тоже был сад и яблони, и кусты… И ещё ей хотелось, чтоб на участке возле дома шумели сосны. И когда Сенечка вырастет, он будет сидеть под ними на скамеечке и читать книжку. Или она будет читать сама… У них будет такая скамейка, у них все будет! Воля к жизни, любовь к ней распрямлялись в душе.
Баба Шура принялась выкапывать кустики темно-бордовых примул с желтенькими сердцевинами. Один откопала, другой, стала выковыривать третий, четвыртый…
— Ой, баба Шура, что вы, больше не надо! — звонко крикнула Эля и сама подивилась звуку своего голоса — она от него почти что отвыкла.
— А, плевать! — махнула рукой баба Шура и принялась копать дальше.
Сердце Элино само расцветало теперь как цветок — жизнь возвращалась к ней. И жизнь, и память! Понемногу стала она вспоминать обо всем, что было в Москве. Эти воспоминания были покуда разрозненны и обрывочны, но они были, были! И не было больше черного глухого провала, бездны, куда ухнула вся её прошлая жизнь. И все происшедшее она вспоминала на удивленье спокойно, без сожаленья и слез.
И знала, что все — и происшедшее с ними, и этот остров — случилось по воле той, что являлась к ней… И быть может… Эля ещё не готова была поверить, но душа ей подсказывала, что пути и дорожки Юршинского острова приведут их к чему-то чудесному, и чуда она ждала.
Приходила на берег к одинокому дубу, сидела, обхвативши колени, и думала, думала… Какая-то странная мысль смутно теплилась в ней. И вспоминала она свои сны о жизни подводной, другой, когда она не была человеком, но могла путешествовать под водой. И тогда она говорила с водой и звала к себе духов воды, стихийных духов, о которых читала когда-то. И вода играла у ног, светилась, ласкалась… И так хотелось нырнуть туда, но она не умела плавать. И в одно прекрасное утро Эля встала, сказала себе: «Плыви!» Скинула сарафанчик и кинулась в воду. Она не боялась, потому что знала — Та, что оберегает её, всегда рядом. И если помнить об этом, то тогда и бояться нечего. Ничего в жизни не стоит бояться, страха нет! Потому что душа — под высшей охраной и высшей защитой.
И она поплыла. Плеща по воде тоненькими руками, резво болтая ногами, поплыла прочь от берега. Она плыла недолго, вернулась. И стала совсем счастливой. И улыбка её осветила и берег, и луг — весь остров, лежавший у ног. Это была её земля — Эля знала теперь, что родом она отсюда. И что здесь им с мамой предстоит раскрыть тайну своего рода. И она вытащит маму, непременно вытащит! И тот волк, который ей снился когда-то, — он теперь снится маме. Нет, не снится — он рядом с ней. И она, Эля, его прогонит. Она должна его отогнать. И тогда чудо свершится.
Она сидела на берегу, потрясенная своим озарением. Сидела и думала. С чего начать? Где конец ниточки, за которую нужно ей потянуть, чтоб распутать ту паутину, в которую они угодили. В которой мама запуталась… Кто из людей поможет? И тогда над водой показался тот человек, которого она спасла в своем сне — вытолкнула на поверхность, — он явился и подсказал ответ.
И до них — до тоненькой девочки с косым лиловеющим шрамом над правым виском и до бесплотного человека, прозрачным облачком вставшего над водой, донесся стройный и строгий хор мужских голосов. И пение это было торжественно и прекрасно.
Глава 3 ВАСИЛИЙ
Между тем, все эти дни, пока Тася пряталась от себя и людей, к ней захаживал добродушный Василий, в усы похохатывал, поглядывая на нее, и возил на своем драндулете всяческое добро: электроплитку, матрас, книжные полки, даже шифоньер приволок. Старый, потертый, рассохшийся, но все-таки шкаф! Теперь хоть вещички по полкам лежали, а не кучей на полу… К матрасу Василий приделал четыре ножки и получилась кровать. Для Таси. Эле с Сеней сердобольная баба Поля выдала две пропыленные раскладушки, извлеченные с чердака.
Деньги у Таси были и она вполне могла обставить дом «по полной программе», но сложность-то в том, что жили они на острове, и доставлять из города вещи на пристань, а потом на пароме везти не было никакой возможности. Ну как, например, втащить по узким мосткам кровать или шкаф? Мебель островитяне обычно доставляли зимой через лед. Лед зимой толстенный стоит, и даже тяжело нагруженный грузовик выдерживает. Вот и решили, что до зимы и так проживут, с тем, что Бог пошлет, а уж зимой всем необходимым из мебели обзаведутся…
Все это обсуждалось с Василем, который этих «воробышков», как он их любовно прозвал, взял под свое крыло. Видно, больно ему было и смотреть-то на них, к деревенской жизни не приспособленных. Тася сначала на Василия косо глядела: что это ещё за покровитель такой выискался? Не надо им никого — сами управятся! Но вскоре она поняла, что самой ей никак жизнь не наладить: к людям здесь нужно особый подход иметь и знать все тонкости местного бытия. На гоноре, да на спеси тут далеко не уедешь! И потихоньку, сквозь пелену тумана, усыплявшую мозг, — пелену алкогольную, самогонную прониклась она к Василию некоторым доверием. Уж больно добрый и понимающий был мужик! И частенько, когда он заходил, она нарезала огурчиков, варила яйца вкрутую, картошку, свеколочку и приглашала к столу. Он выпивал рюмочку, реже две — больше из уваженья к хозяйке, чем в охотку. Василий не пил. И заводился у них разговор о местном житье-бытье. И мало-помалу начинала она постигать эту жизнь, шальную, бедовую, на старушечьих копейках замешанную. Мужики работать никак не хотели, да и заводы многие в Рыбинске встали, работы-то настоящей и не было. Мужики перемогались как могли: колымили, а потом все заработанное спускали в несколько дней до единой копеечки! И многие, те, что жили при стареньких матерях, проедали их пенсии и тащили из дому все, что можно продать, чтоб купить самогон. Кормились тем, что вырастят за лето — картошкой, капустой, огурчиками и грибами. Грибов на острове было пропасть! Их солили, мариновали, закатывали — тем и жили. И трудились на огородах все те же бабы, мужики в море ходили, брали рыбу и тоже солили, коптили, вялили. Рыбинское море глубокое, и шторма в нем — не приведи Господь! Волна такая идет, какой на Черном море и отродясь не видали. Часто тонули рыбаки, и местное кладбище полнилось год от года могилами совсем молодых, тридцатилетних, сорокалетних. Но чаще всего тонули, когда пьяные в дым шли в большую волну на лодке за водкой на другой берег, если у самогонщика Николая зелье заканчивалось…
Все это беспутное, по-русски дикое и темное житье-бытье Тасю пугало до смерти. Как она в этой глухой стороне поднимет детей? Где им учиться? Василий подмечал и испуг её, и отчаяние, но успокаивать на словах не хотел, а только все таскал ей с детьми овощей, зелени, соленостей всяких со своего огорода, из городу продукты возил, да развлекал, болтая про то, про се, а Сене, сажая мальца к себе на колени, читывал сказки. При этом частенько Вовка присутствовал, сидел эдак скромненько в уголочке, от угощенья отказывался, все больше слушал, и его не по-детски серьезные глаза все чаще украдкой глядели на Элю.
Как-то Тася не выдержала и, когда дети отправились к Волге собирать красивые камушки, рассказала Васлию все про себя, про судьбу свою горькую и про то, что с детьми приключилось. Он долго молчал, а потом взял её за руку и вывел из дому. И повел к реке Юге, к берегу, по заливному лугу цветущему, встал над берегом и сказал: «Посмотри!»
Над рекою, над островом дугой выгнулись облака. Никогда не видала Тася таких, точно были они нарисованы, и кто-то раскинул над островом облачный купол — как покров — одним мановением руки. Облака светились розовым светом, а под ними, над ними — синь! Ясное синее небо. Не голубое, не темное и не прозрачное — синий кобальт, чистый и радостный цвет. И под синью полоса озаренного солнцем леса, а под облачной аркой радуга. Яркая-яркая! И была эта радуга как бы живым существом, несущим благую весть. Она улыбалась. Она говорила, что жизнь создана для радости. Что боль преходяща, она уходит в песок, покуда над жилищем людей, над их тропами и дорогами простирается этот небесный свет.
А по левую руку, там, где была деревня Быково, лиловел предгрозовой напряженный свет. Здесь небеса были совсем другими — темною плащаницей распростерлись они, но в напряжении этом, в этой темени цвета не было боли. Угрозы не было. Только воля к жизни. И воля к битве. И та битва была благая.
И глядя на небеса, на свет этот темно-лиловый, на радугу, Тася упала в траву — она плакала. Но слезы её были не горькие, не отчаянные — это были светлые слезы. Душа ими чистилась. И когда она наплакалась вдоволь, Василий взял Тасю за руку и повел. Повел под арку, под радугу — к дому, над которым вился дымок… А дымок этот означал, что Коля Хованкин, редкий мастер, печку новую в неделю сложил. И затопил. В первый раз!
Коля попрощался, выпил рюмку, ушел, а они снова сели за стол, и Тася молчала, а Василий говорил, говорил…
— Вы не просто сюда приехали, Бог вас привел. Ты же видела эту радость, которой вся земля полнится. На неё и гляди, а другое все пропускай. Пусть все дурное и грешное как песок сквозь пальцы у тебя сыпется. Тут ты душой оживешь, очистишься; ты и дети твои. Ты на небо гляди — не на то, что люди творят. Тогда ты сильной окажешься и никакая дурь здешняя тебя не проймет. Земля наша заклята, но мы… ты, я, Коля Хованкин и другие ещё — мы должны снять заклятье с родной земли! Это будет, если в душу врага мы не впустим. Враг силен, но воинство Божье сильней. Видала ты знаменья его на небесах? И ни о чем плохом ты не думай, все образуется. «Буран» себе купишь, ездить на нем научу, будешь зимой ребят в город возить, в гимназию. Гимназия у нас очень хорошая, Вовка в ней учится. А ещё церковку надо нам здешнюю восстановить. Это мечта моя.
— А… где эта церковка? — несмело ещё улыбнувшись, спросила зареванная Тася. — Тут на острове?
— Тут она, возле усадьбы стоит. Это усадьба Голицыных, при ней и церковь была. Ну, понятно, в советское время разрушили. Только знаешь, говорят, что при каждом храме свой ангел есть. Он на страже стоит и никогда этот храм не покинет даже если от церкви одни руины останутся. И у нашей свой ангел есть, чувствую я. Так разве ж не можем мы дом Божий к жизни вернуть, чтобы ангел не тосковал?!
— А они тоскуют? — дрогнула Тася.
— Не знаю… наверное нет, это я так, к слову сказал. Но дом-то Божий, за который ангел в ответе, жизнь покинула. Чего ж тут сказать…
— И ты думаешь… можно восстановить? — с надеждой спросила Тася.
— А почему нет? Если к делу с душой подойти, с верой, все можно. А если у человека дело есть по душе и не зря он землю коптит, то ему весь мир улыбается.
— Так уж и улыбается, — отвернулась Тася. — Ты погляди, сколько бед! Сколько горя у людей и это везде, везде! Нет ведь семьи, где бы не было боли.
— Это ты верно сказала — нету! Точно сказала. Только можно в неё с головой окунуться, в беду свою как под воду уйти, а можно…
— Что?
— Вынырнуть на поверхость. Знаешь… — он помолчал, точно раздумывая: сказать или не сказать ей. — Я вот статейку одну все вспоминаю. Про беседу двух режиссеров любимых моих: Стивена Спилберга и Люка Бессона…
— Что-что? — Тася ушам своим не поверила: в этой глуши перед нею сидит деревенский мужик и вещает о Стивене Спилберге и Люке Бессоне…
— А чего удивляешься? — Василий улыбнулся в усы хитроватой такой улыбочкой. — Не ждала от меня? А чего ты вообще ждешь от людей? Ты, что, видишь их, чувствуешь? Нет! Нет, Настасья, ты по первому впечатлению картинку строишь. Ты в людей-то не веришь. Я понимаю — обожглась, напоролась! Но мир ведь не без добрых людей — это же прописи. Истина! Это ж наше, родное, русское, мы на том стоим, а то давно бы рухнула земля-то наша в тартарары! Нет, я не про себя — я не добрый. Я — так… серединка на половинку. Но ты-то не прячь голову под крыло, ты вглубь в человека смотри. Вот у нас… Ну да, мужики — пьянь!
— Я и сама не лучше! — с горечью бросила Тася.
— Ты-то другое дело. Наваждение это у тебя. Пройдет.
Она вспыхнула, вскочила и выбежала из комнаты. Все, что говорил ей этот спокойный уверенный человек, так разбередило душу… Точно вспыхнули в ней давно погасшие угольки. Она долго сидела на своей самодельной кровати, обхватив голову руками. Ей хотелось, чтоб он ушел. Слишком сильно взволновал её разговор, слишком много надежды дал ей этот странный человек… А надежды она не ждала, не хотела. Мести хотела. А для мести душу свою нужно спалить дотла! И все же, когда, переждав с полчаса, Тася вернулась и увидела, что Василий как сидел на стуле своем, так и сидит, нежданная радость теплом плеснула ей в сердце.
— Ты про мужиков говорил… — она как ни в чем не бывало продолжала беседу.
— Ну да, мужики. А вот баба Шура, соседка твоя, она два инфаркта перенесла. А погляди, все лето на острове в доме одна живет и ничего не боится. Ни инфаркта, ни смерти… ничего! Говорит: «Как Бог даст!» Она верит, что все от Бога, и когда придет час, спокойно умрет. А душа её будет в раю — нет, это я тебе говорю, я в это верю, а она про это не знает. Никто не знает, где пристанет его душа на том берегу. Только надеется. А Бог-то Он по вере, да по надежде дает. По любви!
Они помолчали. Тасе хотелось бежать от него — она была не готова. К жизни была не готова. К любви…
— Вась… ты мне про Спилберга что-то хотел… про Бессона…
— А, ну да! Мы про воду с тобой говорили: что в беду как в воду можно нырнуть… так вот. Эти гениальные мужики, они как раз о воде говорили. О море. Об океане. И Бессон сказал, что его напугал фильм Спилберга «Челюсти», не потому испугал, что страшный, а из-за моря… что Спилберг застращал людей морем, показал его как стихию злых сил! И Бессону стало за море обидно, потому что для него это стихия родная, добрая. У него не было в детстве друзей, потому что жили они с отцом на острове, в Греции, и единственным другом его был осьминог. Он его приручил. И вода была единственным местом на свете, где у него были друзья. Вот. А Спилберг — он моря боится, потому что в детстве чуть не захлебнулся, когда его накрыло волной. Его отец тогда на руках не удержал — выронил. Случайно. Во-о-от. И фильм свой он снял, как бы это сказать… ну, о том, что стихия — это страшная сила, и она предает человека. Так примерно в общих чертах.
— И что же?
— А то, что один снимает фильм, где море доброе — «Голубую бездну» снимает Бессон, а другой, где оно злое, — Спилберг — свои знаменитые «Челюсти». И теперь существуют как бы два взгляда на море — на эту жизнь. Два, понимаешь! Один — добрый, другой — злой!
— И что ты этим хочешь сказать? — спросила Тася, хотя она, кажется, начала его понимать.
— Я? Что человек захотел подарить людям свое доброе море, и он его подарил! Что любовь свою можно передать людям. А самое главное то, что море не доброе и не злое — оно разное. Кого — топит, а кого — кормит. Это мир! И нам его — принимать. Или не принимать — это уж как у кого душа сдюжит. Только душу — её можно самому править: растить, крепить… молиться за нее… Или — пустить под откос! Это наше, исконно русское: эдак с песней, да очертя голову в омут, а там хоть трава не расти! А моря — его не надо бояться. И жизни — не надо.
— Это как же? Легко сказать…
— А так. Страх свой — его изжить можно. И мне кажется, что Спилберг свой страх изжил. Когда «Челюсти» снял. Это я точно тебе говорю!
— А ты сам, что, совсем ничего не боишься?
— Почему же, боюсь. За тебя вот боюсь, это куда ж годится так пить-то?
— Перестань! — она снова вспыхнула, хотела нагрубить ему, гадостей наговорить, но сдержалась. — Ты что, сам не видишь, что я и сама этого страх как боюсь! Я вообще жизни боюсь! Не понимаю я Вася, зачем… зачем этот страх? Зачем Бог попускает такую боль. Вот как с детьми моими… Им-то за что?
— А, ты про это… А может, это искупление? Может, ты всем этим какой-то грех предков своих искупаешь? Ты и дети твои… Вообще, по-моему, боль — искупление. За грехи болью мы платим, страданием. За свои грехи, и отцов, и праотцев — всего рода. Но помни, помни всегда, что Христос все грехи наши искупил крестной мукой своей. Все! А потому нам бояться больше и нечего! Надо нам Ему помогать — дело делать, да со светлой душой. И с верой. Он от нас этой помощи ждет, потому как по сей день идет великая битва — битва добра и зла. А она — не нами придумана. И не нашего ума дело вопить: отчего, да за что? Почему? Наше дело — свой страх побеждать. И без страха к Богу идти. Ну… утомил я тебя.
Он встал. Тася тоже вскочила и вцепилась в руку его как в спасательный круг.
— Васенька, погоди! Я… тебе одну вещь хотела сказать.
— Ну? — он снова уселся, поглаживая свою колючую бороду.
— Понимаешь… у меня видения, галлюцинации. Зверь ко мне ходит, со мной сидит. Жуткий зверь! И глаза у него человечьи.
— И давно это началось?
— Еще в Москве.
— А скажи, — он задумался, на неё не глядел и все щипал и тер свою бороду. — Скажи-ка мне вот что. Как думаешь, связано это как-то с тем, о чем ты мне рассказала, со сном, в котором бабушка просила тебя разыскать могилу отца?
— Ну… не знаю. Он стал появляться… ну, перед тем, что с Элей и Сеней случилось. Не знаю я, Васенька, ничего. Только мне очень страшно!
— Э, ты, воробышек, не робей! Не такое в жизни бывало… С этим мы разберемся. Но мне кажется, что связан он — этот зверь, с твоим сном. И ещё кое с чем.
— А с чем? Ну скажи, не мучай меня!
— А вот про это я расскажу тебе завтра. Если ты с детьми ко мне в гости придешь. Придешь?
— Ну, не знаю… приду. Вась, понимаешь, я уж не знаю, что думать. Я как у местных про дом наш начинаю расспрашивать, все только глаза отводят. Мнутся, отшучиваются или вспоминают, что картошка в печи подгорит. Как сговорились — никто ничего рассказать не хочет: кто здесь жил, почему дом так долго пустой стоял… И что стало с хозяевами… И Елена Сергеевна, та женщина, которая дом этот нам завещала, — она же Эле в письме написала, что сама здесь никогда не жила. И дома этого в глаза не видала. Откуда же он у нее? И только одна баба Галя что-то мне пробормотала: дескать дом этот проклятый и что-то жуткое связано с ним. Вроде как семья, которая жила тут, пропала… Совсем, без следа!
— Ну, ты больше бабу Галю слушай! Небось, поддатая была?
— Да в общем, было немного.
— Немного! Лыка, небось, не вязала! Ладно, давай-ка про все эти ужасы разговоры кончать, мне Вовку у пристани встречать надо — он из города тяжесть везет — большой багаж у него. А пароход уж через двадцать минут, так что… Только, чтоб ты спокойно спала, скажу, что люди в доме твоем хорошие жили. Редкие люди, можно сказать! И не пропали они, ну, да про то я, что знаю, завтра тебе расскажу.
— Вась… а как мы тебя в Быково найдем? Я же там ещё не была.
— Я за вами Вовку пришлю к обеду. Идет?
— Хорошо.
Тася вышла проводить гостя на крыльцо. Радуга уж пропала, но густой лиловеющий свет все ещё разливался по небу. Только теперь он подкрашен был чистым закатным золотом.
— Ты это… в голову не бери! — Василий взял её за руки и несколько раз руки эти встряхнул. — Прорвемся! Не одни вы тут, люди кругом. Да и я пропасть вам не дам. Дом довести помогу и все прочее… Только вот что… но ты Тась не обижайся. Давай уговоримся с тобой, что обид у нас друг на друга не будет, кто бы что ни сказал. А?
— Давай! — она рассмеялась — такое забавное было в этот момент у него выражение: точно он дите малое уговаривал, а сам при этом смущался.
— Делом каким-то тебе бы заняться. Легче бы стало. И в жизнь бы скорей вошла. Пора уж тебе — нечего раны-то старые расковыривать.
— А я и не расковыриваю. Только кто я по-твоему, а? Так я тебе, Вася, скажу. Не удавшаяся актриса, не состоявшаяся учительница, плохая жена и плохая мать! И чем мне, по-твоему теперь заниматься? Картошку как баба Галя сажать? Иль коровку завести, кур? Так я и этого не умею!
— Не дергайся ты, вот дурья башка! Ох, прости. Об этом подумам! - проглотив на прощанье последний слог, сообщил ей Василий, махнул рукой и уже у калитки обернулся и крикнул. — Так я завтра к двум Вовку пришлю!
И пропал за углом забора Михалыча. А тот как раз поспешал к ней со своей неизменной просьбой: «Хозя-ака, дай десятчку на чекушку!» Тася вынесла дорогому соседу «десятчку» и тот трусцой побежал по извечной дорожке — в Юршино. А Тася уселась на ступенях крыльца и задумалась.
«Что за странный такой человек? — думала она. — Совершенно мне непонятный! То говорит как городской образованный человек, и мысли такие у него… прямо философ! А то даже строй речи меняется — „быват“, „пропадат“… И кто он? Чем занимается? Уж почти месяц я тут живу, а ничего про него не знаю. Что ж, вот и дело тебе. Завтра мы все разузнаем!»
И приняв это ответственное решение, Тася вернулась в дом и легла. Сон не шел к ней. А потом растворилась дверь, и на пороге возникла прозрачная тень человека…
Глава 4 ПОБЕГ
Трудно и передать тот ужас, который охватил Тасю, скрутил, сдавил горло, сразил наповал. Она онемела, застыла, не отводя глаз от призрака. Он близился к ней. Когда их разделяло расстояние не больше двух метров, Тася смогла побороть немоту — закричала. Схватила подушку и запустила в белесую тень, надвигавшуюся на нее. Плача и задыхаясь, набросила на голову одеяло, зарылась в него… Потом ничего не помнила. Очнулась под утро, часов в пять. Мир расцветал за окном. Но в одну ночь она потеряла его — этот мир, улыбавшийся на заре ясной улыбкой младенца. Она не хотела больше его, она ничего не хотела… только бежать, бежать! Прочь из этого дома, ставшего для неё ловушкой, прочь из этой Богом забытой деревни, прочь отсюда!
Этот волк, стороживший её, жуткий оскал клыков, вечный страх за детей, за себя, предчувствие непоправимого… А теперь ещё этот призрак! Нет, она больше не вынесет, с неё хватит! И план, который вынашивала все эти дни, глуша рюмку за рюмкой, — этот план пора было осуществить. Хватит стенать, хватит корчиться… Пришло время для мести!
— Не-е-ет, довольно! — бормотала она, швыряя в дорожную сумку самое необходимое. — Быват! Плевать! Им на все плевать! А гробить себя не позволю. Никому не позволю! Решила — убью их! Всех убью! Этих гадов, которые нам жизнь поломали. И этого мафиози проклятого, и Ермилова этого, а главное, сучьего сына — Мишку! На краю света их отыщу, жизнь положу, только им не жить! Вано поможет, он обещал…. Ну, почему я тут гнить должна, почему? За что? Не-е-ет, я себя задорого продам. Хватит маяться! Такого натворю, что земля вздрогнет!
«А как же дети? — мелькнула в ней единственная трезвая мысль среди этого хаоса, он она отогнала её. — А дети… не пропадут они. Лучше совсем без матери, чем такая мать! Добрые люди всюду есть, правду Василий сказал. Вот пускай эти добрые и позаботятся о сиротках. А я буду злой!»
Она написала записку Эле. «Девочка моя, прости! Не могу больше! Ты сильная, ты выкарабкаешься! А может быть, я вернусь. Может быть… Но вернусь победителем, когда всех врагов покараю, и никогда уж ничего не стану бояться. А сейчас я себя ненавижу. Этот дом — он пугает меня. Вижу, ты его не боишься. Живи, моя милая девочка, живи в нем и ничего не бойся. Деньги у меня под подушкой, там пять тысяч долларов. Тысячу мы за это время потратили и тысячу забираю с собой. Мой план требует денег. На эти пять тысяч ты с Сенечкой пока проживешь. Держись Василия, он поможет. Прости. Но иначе я не могу. Все. Отжилась!»
Эта страшная записка была для детей как удар под дых, но Тася этого не понимала. Она вообще утратила способность соображать — вечный страх и алкоголь сделали свое дело! Ей было сейчас все равно… Все, кроме истерического, судорожного желания убежать и уничтожить все и вся, свою жизнь, врагов, пусть и мнимых. Не понимала Тася, что не было у неё врагов, кроме одного: врагом её стала она сама!
Крадучись, как вор, выбралась из дому. Не подошла к кроваткам детей, боялась их разбудить: глядя им в глаза, она бы ничего объяснить не сумела… Бежать так бежать! Тася села на семичасовой пароходик и через полтора часа была на вокзале. Поезд в Москву — в девять вечера. Нужно как-то прожить этот день. Она села на бревнышко в привокзальном скверике, взяла бутылку вина, бутерброды, стаканчик… Разум пылал, глаза дико блуждали. Душа выла бродячей собакой, но она велела ей замолчать! Потом не выдержала, сорвалась и кинулась к стоянке такси…
А Эля… она не спала. Сердцем чуяла, что маме плохо. Что мороз у неё в душе, вьюга… ярый шальной буран. Она слышала как мама металась по дому. Как бормотала что-то… Как затворила дверь. Выбралась на цыпочках из своей комнаты и глядела в щелку, как мама уходит. Эля не плакала, знала: началась её битва. Пришла пора действовать! Иначе маму ей не спасти.
Так же на цыпочках, боясь разбудить Сенечку, — он спал очень чутко, Эля проникла в мамину комнату. Подушка на полу. Смятая простыня… Как будто на ней боролись! И на столе записка. Эля прочла её. Аккуратно сложила вчетверо. И положила в шкатулку, в которой хранились нитки с иголками. На самое дно… Потом поглядела под подушкой — той, что осталась на опустелой кровати. Там были деньги. Она взяла их и положила между страницами своего любимого Толкиена. Теперь «Властелин колец» хранил её будущее: её, мамино, Сенечкино… Эля ни секунды не сомневалась, что мама вернется. Она сама вернет её. И страшного плана, который лелеет мама, не даст ей осуществить. А дядя Василий ей в этом поможет.
Она вернула книгу на место — на полку. Потом взяла лист бумаги и написала на нем крупными буквами: «Мама, мы любим тебя! И этот дом тоже любит. Он добрый. Он ждет. Возвращайся! Это наш дом.» И прикнопила над кроватью.
Сходила к колодцу, принесла ведро воды. Выпила стакан молока. И принялась варить пшенную кашу. Скоро проснется Сенечка! Она проверила запасы продуктов — были еще. Куриные окорочка, сыр, макароны и пряники. Картошку и лука с морковкой им натаскали вдоволь, так что с этим порядок! А вот о съестном придется ей позаботиться.
— Нет, почему же? — вдруг произнесла она вслух. — Об этом мама сама позаботится. Она скоро выздоровеет. Совсем…
Эля поняла, что нельзя даже думать о том, что мама уйдет насовсем. Ее нельзя отпускать. Все должно произойти сегодня, в канун июля. И как настанет завтра для всех середина лета, как оно переломится, так переломится и мамина боль: она оживет! И все плохое, что было, отстанет. Отплывет, как отплывает от берега катерок под названием «Мошка». Как плывут по реке серебристые блики лунного света, когда движется по небу облако, заслоняя луну. Прошлое станет прошлым. И жизнь будет новая. Живая жизнь!
Эля стала тихонько напевать песенку: «Когда уйдем со школьного двора…» — её она очень любила и принялась за готовку: нужно сварить обед. А за спиной её, в луче ясного света, падавшего из-за неплотно задернутой занавески, двигался призрак — легкая тень человека. Он чуть покачивался, не касаясь пола, и руки его, словно сотканные из лунного света, тихонько поглаживали девочку по голове. Они любили ее!
Почувствовав что-то, она обернулась. И даже не вздрогнула. Не испугалась. Эля сама протянула руки к нему — к этому призраку, который уж являлся ей там, у реки. Она ждала его здесь, в доме. Он должен быть именно здесь, потому что это его дом. И он его охраняет.
А призрак, качаясь дымком, манил её за собой. И, бросив шумовку, выключив плитку, Эля обтерла руки о фартук, и двинулась следом за ним. Невесомое облачко поднималось по лестнице на второй этаж. Там Эля ещё не была и с любопытством, без тени страха ступала по крутым деревянным ступеням. Очутившись наверху, она увидала пустое пространство, перегороженное мощными бревнами, на которых когда-то были настелены доски пола, стропила, державшие крышу, кирпичный боров трубы, выводящий наверх дымоход, и вертикальные бревна, похожие на колонны. Раньше на них, как видно, крепились перегородки нескольких комнат. Теперь комнат не было. Птицы порхали по чердаку, не боясь появления человека: видно, их тут давно никто не пугал.
Элин бесплотный проводник проследовал к дальнему правому углу чердака и остановился там, как бы указывая ей на что-то. Она бесстрашно двинулась следом, балансируя по толстенному бревну, уложенному поперек чердака. И тут же заметила квадратное углубление под застрехой, где уютно пристроились два ласточкиных гнезда. Птиц в них не было — наверное, это были покинутые старые гнезда. Но перышки, которыми они были выстланы, колыхались под легким сквозняком, продувавшим чердак, совсем как живые.
Эля засмеялась. Так вот что он хотел ей показать, эти милые гнездышки! И словно прочитав её мысль, хранитель дома отрицательно покачал головой. Значит, тут было что-то совсем другое. Она привстала на цыпочки, чтобы дотянуться до углубления в основании крыши, но не достала и стала озираться вокруг, чтобы найти какой-то предмет, который можно было использовать в качестве лестницы или хотя бы подставки. Вдруг что-то огромное с шумом кинулось на нее. Эля оцепенела — то был волк, тот самый, что чудился ей в больнице. Да, тот… но голова у него была человечья! Однако, он целил не в Элю — одним прыжком чудище пропороло призрак насквозь, тот превратился в шар, как будто стараясь поймать нападавшего, окутать собою, чтобы не пустить его к Эле. Зверь, злобно рыча и разрывая воздух когтями, бился в самой сердцевине клубящегося дымного шара. Его дикий рык словно ударами молота отдавался в Элиной голове, ей стало нестерпимо больно. Потом боль разом пропала, а с нею и все вокруг — Эля сникла, она потеряла сознание.
Очнулась, услышав громкие крики — кто-то звал её там, внизу. Она потерла виски, голова гудела, но пронзительной боли не было. И призрак и волк исчезли. Она с трудом, едва не ползком добралась до люка на лестницу. Спустилась вниз. В дверь стучали. Поглядела на часы. Два часа! Сколько же времени она провела там, на чердаке? Получалось, около шести часов! Как же Сенечка? Эля кинулась к брату и застала его сидящим на полу и поедающим холодные макароны прямо из кастрюльки. Несчастный малыш, он же страшно голоден!
Эля быстро сделала братику бутерброд, положила на тарелочку, усадила за стол и кинулась открывать дверь. Там стоял Вова. Ну конечно же, два часа! Он пришел за ними, чтобы проводить в свою деревню. Их ждут в гости!
— Ты чего такая? — с удивлением спросил Вова. — И дверь у вас почему-то закрыта…
Эля не выдержала — расплакалась. А Вова без лишних расспросов по-братски обнял её и принялся неумело и неуклюже утешать, поглаживая по волосам растопыренной пятерней.
— Ну ладно, чего там, давайте, собирайтесь. Папа ждет. Потом все расскажешь. Мама-то твоя где?
— Ма-а-мы нет-ту, — захлебываясь слезами задыхалась Эля. — Уе-ах-хала!
— А-а-а, — протянул Вовка. — Ну тогда бери братишку и пошли.
Она кивнула. Подхватила Сенечку… И они двинулись в путь.
Глава 5 ПОВЕСТЬ О ПРОШЛОМ
Вдоль по берегу Волги, мимо необъятной ласковой сини воды, в отсветах солнца, золотящего кору гордых сосен шли они по нагретой теплом песчаной дороге. Эля ничего не видела, не замечала — ни осиянной светом земли, ни реки, блистающей и манящей… ей было страшно за маму. Если бы мама была сейчас рядом, она бы обняла её, обхватила руками крепко-прекрепко и никуда бы не отпустила. Она бы рассказала ей о добром призраке, который охраняет их дом и не только его — всех, кто в нем. Она бы раскрыла ей свою тайну о той, которая краше света и света сильней… о той, кто сама любовь! Она помогает им, она и маме поможет. Надо только говорить с ней, звать её. И молиться.
Вот и Быково, деревенька, притулившаяся возле самого берега Волги, заплутавшаяся среди ясных могучих сосен. Дом Василия стоял за дощатым забором, выкрашенным в зеленый цвет. Сам дом был песочного цвета. Казалось, песчаный берег однажды поднялся волной и плеснул в стены дома, с ним породнившись… Огородик, ровные грядки в линеечку. Ни единого сорняка! И цветы у дома, много цветов: поникшие к земле тяжкие соцветья пионов, крупные белые ромашки, высокие ирисы… и розы. О, какие розы цвели! Плетистые длинные ветви поднимались к окнам второго этажа: алые слева от крыльца и белые справа. Дом словно бы обнимали две незримых руки: одна держала тайну и тишину — белый цвет, а другая — славу и торжество! Эля остановилась. Ее так поразило это объятие роз, этот цветочный убор, что на мгновение она позабыла обо всем на свете! Просто хотелось стоять и смотреть, не думая ни о чем. Дверь отворилась и на пороге возник Василий.
— Милости просим! — он улыбался, радуясь, что пришли-таки, и широким жестом распахнул дверь.
Мелкими шажочками Эля несмело прошла по дорожке к дому. За ней семенил Сенечка. Серьезный, как всегда, замыкал эту группу Вовка.
— Э, а чего ж вы вдвоем? — тут только хозяин заметил, что гости явились не в полном составе. — А мама что? Побоялась? — в его глазах насмешка мешалась с ожиданием и тревогой.
— Нет, — просто ответила Эля. — Она… она просто плохо себя чувствует.
Что-то помешало ей сказать о своей беде — о том, что мама бросила их и умчалась в Москву. Может быть, эти розы… Они были так хороши, что будто бы замыкали уста, запрещая говорить о чем-то дурном, нехорошем! И потом… ей было стыдно. Стыдно говорить О ТАКОМ с человеком, которого едва знала. И который ей почему-то ужасно нравился.
— Ну ничего, придет в другой раз, — успокоился Василий. — Молодцы, что сами пришли, я тут такой обед соорудил — закачаетесь! А маму вашу проведаю. Может, лекарств ей надо каких…
Он осекся, встретившись взглядом с Вовкой: тот без слов дал понять отцу, что дело совсем в другом и дело это плохо! Оба понимающе кивнули друг другу, мол, потом поговорим, и принялись развлекать гостей.
Их провели в просторную светлую комнату, в которой весело потрескивали дрова в камине, сложенном из кирпича.
— Сам сложил! — довольно поглаживая себя по животу, сообщил Василий. Ну, и Вовка мне помогал, конечно.
В красном углу, справа от камина, под потолком был укреплен большой деревянный крест с выжженной на нем фигурой Христа. Под ним — маленькая бумажная иконка Божьей Матери в красных одеждах. Эля как завороженная приблизилась к ней, сердце её колотилось… Этот силуэт, выражение лика, складки ткани и цвет ее… смутная догадка стучалась ей в сердце.
— Это икона Югской Божьей матери, — негромко сказал Василий, удивляясь волнению девочки. — Чудотворная. Из Югской пустыни она, из монастыря, который находился совсем неподалеку от нашего острова, на том берегу, где одинокий дуб. Теперь он затоплен. Тогда и острова-то не было. Наша земля… — он запнулся. — Вы же знаете, что когда создавали Рыбинское море — кругом все было затоплено: села, деревни, город Молога, много-много церквей… И монастырь. Пустынь Югская. В нем находились две чудотворные иконы Божьей матери. Она сама явилась старцу, основателю этого монастыря, и велела заложить на этом месте обитель. А когда исчезла, он увидел икону в ветвях на дереве. С молитвою снял её, пришел сюда с этой иконой и исполнил волю Царицы Небесной. Во-о-от. И потом явилась другая. А когда монастырь затопили… — Василий отвернулся и в сердцах махнул рукой. — В общем, все погибло. Кое-что, конечно, монахи спасли, в том числе и вторую икону. А первую — ту, что явилась старцу на дереве, так и не нашли. Пропала она. Много сил потратили люди, чтобы её найти, но… — он опять осекся и крякнул. — Э, чего говорить! Много зла в этих краях понаделали. Советская власть, мать ее! Но я верю, — его голос окреп, — верю, что вернется жизнь в эти края! И икону ту чудотворную мы с Божьей помощью обретем.
— Дядя Василий, — несмело подала голос Эля, — а где сейчас та икона… вторая. Ну, которую все-таки спасли. Это она, да? — она указала на бумажную маленькую иконочку, укрепленную под крестом.
— Да, она. То есть, конечно не сама она, а её изображение. А настоящая чудотворная — в храме Успения Божьей Матери, где служит отец Василий. Много он сил положил, чтоб ту первую найти, но пока ничего у нас не получается.
— Вы сказали: «у нас»? — переспросила Эля. Сенечка с интересом разглядывал Василия, ковыряя в носу.
— Ну… я, как мог ему помогал, — с неохотой ответил тот. — Я в церковном хоре пою. Прислуживаю иногда, когда отец Василий на то благословляет. Ну, да это к делу не относится! Давайте-ка лучше к столу. Обед стынет!
— Пап… — вдруг остановил отца Вовка, ткнувшись ему лбом в плечо. Ты им картины свои покажи.
— Ну, чего лезешь поперед батьки! — загремел Василий, но, перехватив изумленный взгляд Эли, хмыкнул и согласился. — Чего с вами делать! Пошли…
Он провел их по чугунной витой и как будто ажурной лесенке на второй этаж. Тот был поделен на две половины. В одной по словам Василия была его столярная мастерская, в ней он пилил, колотил и строгал, изготавливая на продажу резные рамы, двери, столы и стулья — тем они с Вовкой и жили. А в другой помещалась мастерская художника. В косом скате крыши было вделано стеклянное окно, глядящее в небо! И все помещение было залито светом, солнце плескалось в нем, будто рыба в воде, и этот свет обладал столь могучей живительной силой, что казалось, сама радость поселилась под этой крышей, поселилась однажды, чтобы остаться здесь навсегда.
По стенам висели картины, много картин. И сюжеты их были самые разные: Волга со сновавшими по ней катерками, деревенька под унылым дождем, портреты тех, с кем Эля была уж знакома — тут была баба Шура, Михалыч, хмуро глядящий вполоборота, баба Галя, сидящая на крыльце, подперев щеку ладошкой… Но были и другие сюжеты: длиннокудрые девы, смеясь, скользившие под водой и прозрачные как вода, белокаменный город, просвечивающий из глубины, одинокая колокольня, вознесенная над волнами… Эля, как зачарованная, переходила от одной картины к другой. Она поняла, что Михалыч вовсе не хмурится, просто устал, одинок… А чудесные легкие девы — духи воды, — Эля сразу догадалась об этом, — они показались ей давними знакомыми… И вдруг, перейдя к противоположной стене, она охнула! На картине, написанной акварелью, был изображен бородатый мужчина, он тонул, а прекрасная дева в головном уборе из сияющих перламутром раковин, выныривала из глубины и протягивала к нему руки, чтобы вытолкнуть из воды наверх… к жизни.
— Это Царевна Волхова, — очень тихо объяснил Василий, заметив её взволнованную реакцию. — Помнишь легенду о Садко — о купце, который попал на дно морское и в него влюбилась дочь морского царя? Есть баллада такая и опера про это написана… на музыку Римского-Корсакова… Не помнишь?
Эля отрицательно покачала головой.
— В этой опере заглавную партию Волховы пела жена великого художника Врубеля Забела. А он написал две картины: «Царевна Волхова» и «Прощание Волховы с морским царем». Это очень грустный сюжет, ведь ей пришлось ради любви оставить родную стихию… Все равно, что нам землю оставить, а по-просту… умереть.
— Врубель? — встрепенулась Эля. — Ой, это мой любимый художник! И картины эти я помню, конечно… — она страшно разволновалась, а щеки покрылись пунцовыми пятнами. — Но дело в том, что… — она вдруг осеклась и потупилась.
— В чем? — с заботой заглядывая ей в глаза, спросил Василий.
— Да так… ни в чем. Просто я подумала, что морская царевна — она же дух, она не может умереть! Потому что все духи уже когда-то умерли…
— Ах, вот ты о чем… — Василий задумался. — Не знаю, об этом я, честно скажу, не задумывался. Но для меня, — волнуясь, он заходил по комнате широкими шагами, — для меня это легенда о жертве во имя любви. Когда кем-то из нас движет сердце. Только сердце! Не разум и не эмоции… Потому что все самое лучшее на земле совершается по любви и во имя любви. А это такая сила… она очищает все. Все грехи, все ошибки. И человек, который сердцем живет — чистым сердцем — он мир держит вместе с Христом. И с Богородицей… Ох, заговорился я с вами! Это для вас, наверное, ещё не понятно. Пойдемте-ка есть.
— Нет, дядя Василий, очень понятно, — преграждая ему дорогу к двери, тихо сказала Эля. — Это ведь… это самое главное. А если главного не понять, тогда как жить?
Он вдруг порывисто обнял её и Сенечку, сгреб в охапку обоих и поднял легко, как пушинок. Не глядел на них, отвернулся, потому что на глаза навернулись слезы. Так стояли они, эта странная троица: один — как Атлант, подпирающий небеса, и двое в его руках — как невесомые души, готовые подняться на небо… Потом, успокоившись, он осторожно опустил их на пол, поцеловал в макушки, присел на корточки.
— Есть ещё одна картина… я её ещё не закончил. Показать?
Эля молча кивнула. Тогда он прошел в угол мастерской, где был установлен мольберт, и откинул ткань, которая покрывала установленную на мольберте картину. На ней был изображен невысокий холмик на опушке леса, а над ним… легкий дымчатый силуэт. Силуэт человека.
— Что это? — отшатнувшись, воскликнула Эля.
— А вот об этом я вам сейчас расскажу. За обедом. Это одна из местных легенд. И речь в ней идет о человеке, который прежде жил в вашем доме. Ты ведь хотела об этом узнать, Еленочка, да?
Она вся дрожала — она уже о многом догадывалась. Призрак в доме охраняющий, добрый… Призыв бабушки отыскать могилу деда… И этот холмик на опушке. И он — да-да, он — человек, которого она выталкивала из воды… в своем сне. Ведь это он поднимался над холмиком на картине Василия. Мама, милая мама, ведь все это связано с ней! И ещё этот волк с головой человека… Что же ждет их впереди?! Скорее бы он рассказал ей, скорей!
Они спустились вниз, сели за щедро накрытый стол. Эля почти не чувствовала вкуса еды — ни копченый лещ, ни судак, запеченный на углях, ни соленые грибочки с картошечкой — ничто, ничто не занимало ее… Она вся обратилась в слух. А Василий, усадив к себе Сенечку на колени и потчуя его с ложечки, вел свой рассказ.
— В доме вашем прекрасная семья жила. Хорошие, щедрые люди. Всем они помогали, для каждого находилось у них доброе слово, улыбка… Последним куском делились, а времена были трудные — дело было сразу после войны. Страшное это было время — сталинское, тогда людей за людей не считали. Не человек важен был — идея. Светлое будущее! И ради этой идеи доносили, сажали, расстреливали — сотни и сотни тысяч неповинных полегли. Мертвая была жизнь. Нужна плотина стране, значит выроем море, затопим город, места, где люди веками свои гнезда вили! Молога — древний город был. Красивый… Да. Как раз тогда наш остров стал островом — прошел последний этап затопления, и воды Рыбинского холодного моря сомкнулись над Мологой, над деревнями и селами, над крышами домов, в которых выросло не одно поколение семей… Ну вот. А как звали тех, кто жил в вашем доме, не помню. И люди о том позабыли. А может, побоялись запомнить. Потому что уж очень странная случилась с этой семьей история. Словно нечистой силой смело их с лица земли! Потому и люди о них говорить боятся — а вдруг этими разговорами, самой памятью они темные силы на свою голову призовут. Народ-то у нас суеверный. Уж так! Его-то, хозяина, кажется, звали Петром, а Петр означает камень. И правда, мужик был крепкий, как камень. Он рыбачил, на лодке сети раскидывал. У нас говорят не сети, а сетки. Да. Сначала на Волгу, потом и на море один ходил. Напарников не признавал. Народ у нас, сами знаете, пьющий, а он этого не любил. Вина в рот не брал. У нас ведь самогонку вином зовут. Эх, что-то меня все на сторону от рассказа утягивает: то про одно, то про другое… Так вот. Крепко он и жена его в Бога верили. И он, будем звать его Петром, когда затопление это страшное произошло, дело затеял: нырял на глубину и проникал под водой в те дома, которые люди в последний момент побросали со всем, что в них было, и иконы спасал. Из воды доставал. Он поперек мертвой жизни шел, живой жизни хотел! И отстаивал свое право на веру и на любовь. Это была его битва. А спасенные иконочки тайком реставрировали и прятали. Очень ведь государство в те времена против веры и церкви шло. Священников как косой косили. Многие, чтоб спастись, шли на то, чтоб доносить на своих прихожан: тайну исповеди предавали. А те, кто на это не шел… ну, понятно — в Сибирь или под расстрел! Но речь не о том, вернее, как бы это сказать… все ведь в мире-то связано, ничего по отдельности не стоит! Так вот, реставратор в те времена в здешнем храме уж больно хороший был. Вот его имя я помню — Сергей Пыхтунов. А потому так крепко имя запомнил, что прожил он долго, и сам мне эту историю рассказал. А реставратор был — не другим чета! И денег не брал. За веру, за совесть работал. Вот так, значит. Ну вот, опять сбился!
Ребята, затаив дыхание, слушали этот рассказ. Василий сам волновался это было очень заметно…
— Ну, нырял-то Петр, понятное дело, только при низкой воде. Иначе не достать — больно уж глубоко. Но особенно старался он в затопленные церкви проникнуть, потому что, конечно, таких домов, которые люди со всем имуществом побросали, было немного. А в Югский монастырь он первым делом под водой пробраться хотел. Много спас. И ходят слухи… — тут Василий понизил голос, — что спас он ту самую… чудотворную… Которая старцу на древе явилась. Он тогда чуть не утонул. Да, чего говорить, совсем тонул, да, опять же по слухам, его каким-то чудесным образом словно вытолукнуло из воды. Вот так!
Он замолчал. А Эля крепко-накрепко стиснула под столом пальцы, чтоб никто не увидел как они дрожат.
— Пап, а что дальше? — осмелился прервать молчание Вовка.
— Дальше? — словно очнувшись, переспросил Василий. — Дальше нехорошее начинается. Схлестнулся он с типом одним. Был тут такой… гад. Говорят, из цыган. Слава нехорошая шла за ним: будто он подколдовывал. Порчу мог навести… ну, и всякое такое, попросту оборотнем был.
— Как это? — впервые за весь этот день подал голос Сенечка. И детский лепет его прервал враз установившуюся за столом тревожную тишину.
— Ну, маленький, — разулыбался Василий, стараясь этим показным весельем успокоить малыша, — это же сказка. В сказках ведь всякие превращения бывают. Например, лебедь в прекрасную девицу превращается.
— Значит, лебедь — этот… оборотнем? — широко раскрыл синие глазки малыш.
— Не оборотнем, а оборотень, — поправила его Эля, поднялась, приняла братика на руки с рук Василия, поцеловала в носик. — Дядя Василий, а можно Сенечку куда-нибудь уложить? У него уже глазки слипаются.
— Господи, а сам-то я, дурень, не догадался! — всполошился тот. Болтаю тут языком, а мальчонке после обеда давно спать пора. Сюда вот иди, Еленочка.
Он провел её в комнату сына, Сенечку уложили на кровать, укрыли теплым пледом и он тут же сладко засопел. А Василий с Элей вернулись к столу, где была продолжена так взволновавшая всех повесть о прошлом…
— Ну вот, а схлестнулись они с этим гадом скорее всего из-за Петровой дочки. Лет семнадцать ей было, красавица… В общем, то ли приворожил её цыган этот, то ли что… про это никто не знает. Только любовь у них вышла. Петр цыгана этого не терпел, а тот ужом вился вкруг красавицы-дочери. Но говорят, дело было даже не в этом, дело в иконах было. Тот ведь гад по цыганской природе своей и приторговывал, и приворовывал… разное всякое вытворял. И доносил, уж не без того! А если и впрямь Петр спас из воды чудотворную, ясное дело, цыган этот страсть как хотел ею завладеть, ведь она ценности-то немерянной! Для верующего бесценна, а для барышника золотая жила. Может, думал кому продать её, может, и за границу — там бы целый капитал отвалили! Только известно одно: по ночам к ним в дом волк стал шастать. Выл, глазами сверкал… разнюхивал. Ну, Петр крестным знамением дом осенял, каждый день со свечой и молитвой все углы обходил… не помогло. Пришли к нему люди в штатском — ночью пришли и забрали. Дом обыскали: все половицы повыдергали, все стены простукали. Не знают люди, нашли чего или нет… Только Петра забрали. Может, пытали. Умер он очень скоро после ареста. Тело отдали вдове. Та не вынесла, скончалась от сердечного приступа. Дочь хоронила. Одна. А потом и она пропала.
— Как… пропала? — шепнула Эля.
— А так — исчезла бесследно. И больше в наших краях ничего не знают о ней. Дом заперла на замок и… В общем, темная это история. Несколько лет дом так запертый и стоял. Потом приехал мужчина, видный такой, военный, дом на себя переписал, все бумаги переоформил и уехал. И с тех пор в вашем доме так никто и не жил. Вот поэтому и слава о нем идет нехорошая: мол, проклятье на нем. Только проклятья-то никакого нету — уж вы мне поверьте! Я такие вещи сердцем чую. Узел завязан на нем — это точно, узел судьбы. Развязать бы его, докопаться до правды, тогда и дом оживет. А может, не только дом…
Василий задумался. Долго молчал, и ребята не решались нарушить его молчание. Наконец, Эля не выдержала.
— Дядя Василий! А этот дымок над холмиком? Что это?
— А, дымок… Тут, на опушке соснового бора, на краю поля холмик есть. Так, говорят, по ночам странный какой-то туман над ним поднимается. И будто туман этот образ человеческий принимает. Только, по-моему, байки это. Любят люди потешиться.
— А ваша картина? — не унималась Эля. — Раз вы про это картину пишете, значит верите! Или… вы сами видели? Дядя Вася, ну пожалуйста! Это для меня очень важно!
— Для тебя? Для тебя важно вырасти и жениха хорошего! Принца тебе найдем! Вот только это для девушки и важно.
— Неправда! — закричала Эля, вскочила. — Вы же сами в это не верите! Знаете, что не это самое главное! А мне принца не надо, не хочу! Я хочу дома, где отдыхают ангелы. И улыбаются…
Она закрыла лицо руками и заплакала. Горько, навзрыд. Вовка дернулся было к ней — утешить. Но отец взглядом остановил. Он подошел к Эле, встал над ней…
— Милая ты моя! Птичка горькая! Ты не человечья, ангельская ты. В тебе душа крылами овеяна. Вот и живи спокойно, зная, что примут домой. Наш дом ведь не здесь, там он, — Василий кивком указал на потолок, по которому ходили тени огня. — Купайся в жизни, плыви! И ничего не бойся. А мы с Вовкой — всегда с тобой.
Тут Эля не выдержала, кинулась к нему на грудь, прижалась, обхватила руками. Он крепко обнял её. Как давно не знала она отцовских объятий! А Василий… ей вдруг захотелось, чтобы он был её отцом. Она подумала, что вот сейчас придется им с Сеней идти домой — пора уж! А дом пустой, осиротелый и никто их не ждет. И мама… Новый взрыв рыданий сотряс её всю — и, плача, захлебываясь, она рассказала Василию про мамин побег, про записку, про жажду мести… и про призрака. И про волка, который сидел у её постели в больнице и явился теперь, чтобы сразиться с бесплотным хранителем дома.
— Маленькая моя, маленькая! — Василий не в шутку растерялся. Он не знал, что сказать ребенку, на долю которого выпали такие не детские испытания. — Что ж ты раньше-то мне не сказала про маму? Ну и выдержка у тебя! — он в изумлении покачал головой и взглянул на часы. — Так, на шестичасовой успею. Может, ещё найду её в городе, если только на попутке в Москву не сорвалась. Так! Вовка! Ни на шаг их от себя не отпускай! Оставайтесь здесь, а я… я поеду маму твою искать. В беде она. Это оборотень ей голову крутит! Злые силы, которых молва боится, видать, ополчились на нее. За то, что не побоялась раскрыть тайну рода. Ну, ребята, держись! Теперь моя битва. Есть в Москве у меня приятель один… в органах безопасности он работает. Так вот, если из органов не ушел, он мне все досье ваших предков поднимет, все что надо нароет! Не боись, ребята, прорвемся! Еленочка, дай-ка мне ваш московский адрес. По-быстрому. Помнишь его? — Эля кивнула и написала на бумажке их адрес. — Ага, — обрадовался Василий, — это уже кое-что! Так… значит, сын: натаскай воды и истопи баньку. Небось, бедняги коростой уж обросли, у них и помыться-то негде по-человечески. Так, вроде все. Ну, Вовка, бди!
В один миг Василий собрался, кое-что покидал в дорожную сумку, сунул в нагрудный карман легкой курточки паспорт и деньги, расцеловал детей и умчался.
— А куда он? — всхлипывая, спросила Эля. После своего сбивчивого рассказа она ещё плохо соображала.
— Куда-куда? В Москву! Маму твою выручать!
— Ох! От нас всем одни неприятности, — сникла Эля.
— Глупости не говори! Дурочка… — ласково сказал Вовка, и когда она подняла на него покрасневшие заплаканные глаза, то увидела, что он смотрит как-то не так… по-взрослому — с такой нежностью… И от этого свету в комнате, кажется, стало больше чем от огня…
— Вова, — Эля собралась с силами и сказала. — У меня к тебе просьба. Ты покажешь мне этот холмик? И еще… мне нужно на кладбище. А потом на минуточку заглянем ко мне домой. Только все это нужно сделать до темноты. Хорошо?
— Хорошо, — кивнул он ей, очень серьезный.
— А ты не побоишься? — и впервые лукавая, прежняя, ещё несмелая улыбка засветилась на её осунувшемся лице.
— Плевать! — ответил он, не сводя с неё сияющих глаз.
Глава 6 НОВЫЕ ВЕСТИ
Василий плыл на речном трамвайчике и не знал, что в это время Тася уже мчится к Москве на такси. Мчится с окаменевшим и запекшимся сердцем. И в ногах её, невидимый никому, притаился оборотень. Морду держал он поднятой и глядел на Тасю налитыми кровью обезумевшими глазами. В глазах этих чудилось торжество. Знал, что пока глядит он на свою жертву, воли в ней нет и не будет — воля в ней гаснет. А рядом витал, парил прозрачный дымок, напоминавший силуэт человека, и легкая эта тень склонялась над Тасей, и неслышный голос дуновением долетал до нее: «Живи! Живи!»
Как в тумане пролетела дорога — вот уж надвигается город, душный, суматошный, больной… Такси причалило к ненавистной пристани — к подъезду чужого дома в Марьино, где волей судьбы надлежало ей быть. Жить. Жить? Нет, такое жизнью назвать нельзя. Но раз приехала — надо действовать. Хорошо, что хоть это пристанище было, хорошо, что заплатила вперед…
Все вокруг пусто, мертво. Только иконка в углу родная — бабушкина. Без детей… нет, лучше не думать об этом. Месть! Вот единственная цель её, вот то, что у неё осталось. С чего же начать? Позвонить Вано? И она позвонила ему, и он был так рад ей, и сказал, что поможет. Да, она отомстит! Всем, всем этим людям с выжженными душами, всем, кто помог выжечь и душу ее… Они условились, что встретятся вечером возле ресторана «Арагви», поужинают и все обсудят. Тася взглянула на часы: четырнадцать тридцать. Она мчалась в такси пять часов. В девять выехала… ох, устала! Ксане позвонить? Нет, потом…
Тася заварила чаю крепкого, напилась. Ее мучила жажда. И незаметно для себя, прямо за кухонным столом задремала, уронив голову на руки. Когда очнулась, не только желанного облегчения не почувствовала, стало ещё хуже. Душа терзалась и мучилась. Отчего-то теперь, когда оказалась в Москве, и Вано согласился помочь, а желанный план мести был близок к осуществлению, первый жар мстительной жажды её отпустил. И тогда поняла Тася, что приехала в город совсем для другого…
«Который из двух? Которого ты выбираешь? Не ошибись, внучка!» — звенел в ней голос бабушки Тони. Кого же она имела в виду? Кто эти двое? От этого можно с ума сойти! Нет, она не мстить должна, а разгадать эту загадку, докопаться до самой сути, до самого дна. Правду понять. Слишком много сплелось нитей из прошлого, и эти нити паутиной оплели её и детей. А она? Она медлит и хочет с дороги свернуть, хоть правда так близка, она уже подступает к сердцу догадкой, предчувствием… Все, все тут неспроста: и встреча с Еленой Сергеевной, и дар её странный — этот дом на берегу, в котором призраки бродят… И волк! Этот зверь с человечьим взглядом… почему-то теперь, в этом чужом съемном доме он отпустил её.
— Ненадолго! — вслух бросила Тася, и слово это камнем упало к её ногам.
Так значит надо воспользоваться передышкой, когда его дикий взгляд не мучит, не пронзает ей сердце, точно штык раскаленный, не душит волю, как гипнозом усыпляя ее…
Она набрала номер адвоката Елены Сергеевны, узнала адрес, где она прежде жила, вынула из семейного альбома несколько фотографий бабушки Тони, сунула в сумочку и побежала. Этот импульсивный порыв, этот странный поступок Тася сама себе не могла объяснить. Сердце вдруг подсказало ей самый неожиданный и в то же время самый простой вариант ответа на все мучившие вопросы. Окажется ли истиной её догадка?
Сивцев Вражек. Дом с лепниной и эркерами. Во дворе на лавке старушки сидят. Нет, скорее, старые дамы. Рядком, как птички на жердочке. Тася — к ним.
— Добрый день, простите за беспокойство, у меня к вам просьба… довольно странная. — Торопясь, волнуясь, она достала из сумочки фотографии. — Вот, взгляните, пожалуйста.
И показала враз оживившимся и с любопытством взирающим на неё дамам фото Елены Сергеевны — это фото оставил ей адвокат, спросила, узнают ли они эту женщину. Старушки закивали сухонькими головками, подтверждая: да, они узнают её, Елену Сергеевну, сколько лет соседствовали, сколько вместе пережили за эти годы! Оказалось, что две из четверых сидящих на лавочке живут здесь с ещё довоенных времен, так что с Еленой Сергеевной их связывало более чем пятидесятилетнее знакомство…
— А вот эту женщину не узнаете? Может, кто-то вспомнит ее?
Воцарилась пауза, все четверо с живым интересом принялись разглядывать фотографии бабушки Тони. На двух из них она была совсем молодой, на других — в зрелом возрасте. Тасе хотелось рукой удержать свое сердце — оно грохотало в груди, то и дело сбиваясь с ритма, точно спотыкалось на исходе долгого и утомительного пути…
— А как её звали, душечка? — обратилась к Тасе одна из долгожительниц старого дома, подтянутая и подкрашенная, в шелковой косынке, венцом повязанной на голове.
— Антониной, — побелевшими губами выдохнула Тася. — Антониной Петровной.
— Фаечка, — обратилась дама в косынке к своей подруге, — вроде жила здесь такая. Только давно, очень давно жила. Узнаешь?
— Кажется… да, — раздумчиво, степенно отвечала Фаина, высокая, строгая, с завитыми, старательно уложенными сиреневыми волосами. — Да, Надюша, это она, Антонина. Тося — так мы её звали. Домработницей она у Еленушки нашей была.
Тася без звука осела на лавку. В голове у неё зазвенело, перед глазами запрыгали черные мошки. Она чуть прикрыла глаза и её вдруг качнуло.
— Что вы, милая, вам нехорошо? — участливо склонилась к ней Фая. Шура, у тебя с собой валидол?
Пухлая, подвижная Шура в шляпке, кокетливо сдвинутой набекрень, принялась рыться в сумочке, быстро отыскала стеклянный тюбик с таблетками, вытряхнула одну на ладонь и протянула Тасе.
— Вот, примите.
— Нет, нет, не надо, — слабо отмахивалась та, — сейчас пройдет…
— Нет, это непременно нужно!
Все четверо наперебой принялись уговаривать её принять валидол, уговорили-таки и дали ещё с собой на дорогу. Тася их сердечно поблагодарила и устремилась к метро. А богини судьбы в обличье московских старушек глядели ей вслед, потом молча переглянулись и принялись вспоминать. И воспоминанья их заклубились незримым дымком, поднимаясь ввысь над Москвой, простирая над ней покров памяти, стягивая и развязывая нити жизней и судеб…
«Значит сердце меня не подвело, — думала Тася, выскочив на Арбат и едва не бегом поспешая к „Смоленской“. — Еще когда баба Женя сказала, что бабушка три года пробыла в домработницах, перед глазами отчего-то сразу встало лицо Елены Сергеевны. Сердце, сердце… Ты одно знаешь правду! Ты её чувствуешь. И отныне тебе одному буду я доверять. Теперь я на верном пути. А может… может не сердце мне путь подсказало, а кто-то свыше ведет? Вот Эленька знает. У неё взгляд вещий. А я её, мою ласточку, кинула как дикая кошка. Хотя даже дикие кошки не бросают своих детей! Скорее назад, на остров! Все там — все разгадки, вся правда! Только скорее, скорей… Вечернего поезда ждать не могу. Не могу-у-у! — выла душа. — На электричке до Ярославля, там на автобусе — будет быстрей! Просаживать детские деньги на такси ты, мерзавка, не смеешь! А Вано? — вдруг мелькнуло в ней. — Он же ждет у „Арагви“! Он помочь обещал, откликнулся. Нет, отрезано! Все! Это — в прошлом. А Вано поймет и простит. В какую новую яму ты угодить хочешь? На каком краю ты стоишь?! Мстить собралась… идиотка! Точно это что-то исправит, чему-то поможет… Ты не местью — любовью разорванное исправить должна.»
Она примчалась в квартиру, покидала в сумку нехитрые вещи свои, сняла со стены икону, поцеловала. И поняла, что именно эта икона, — бабушкина, намоленная, охраняет её от зверя и, пока она с ней, путь ему к ней закрыт…
Тася уж собралась выходить, как вдруг мысль внезапная в ней звонком прозвенела. Точно замкнуло какую-то цепь невидимую… Она кинула сумку, подошла к телефону, постояла с минуту, точно собираясь с силами, сняла трубку и набрала номер бабы Жени. Та была дома. Тася, запинаясь, волнуясь, спросила, не нашла ли та случайно телефонную книжку дедушки Гени. Баба Женя ответила, что, как ни странно, нашла. Разбирала старые бумаги и наткнулась на эту книжку. Она продиктовала Тасе номер друга Гени, Виктора Петровича Рябова.
Ей ответил бодрый мужской голос. Трудно было поверить, что принадлежит он восьмидесятипятилетнему старику. Тем не менее, это был Виктор Петрович! Она представилась, объяснила просьбу свою: не говорил ли ему Гавриил Инатьевич о прошлом своей жены Антонины. Из каких краев та в Москву прибыла, кем были её родители — вообще, все, что вспомнится. Он пригласил её приехать на чашку чая, за чайком бы и поговорили. Мол, не совсем телефонный то разговор — он времени и личного присутствия требует. Чтоб, значит, глаза в глаза… Тася извинилась, сказала, что ей нужно спешно уехать и отложить поездку никак нельзя. А телефон его удалось ей узнать лишь минуту назад, хотя разыскать пыталась давно, но, увы, безуспешно… Старик помолчал, вздохнул глубоко… попросил подождать — мол, сходит за папиросами. Тася с гулко бьющимся сердцем ждала.
— Внучка, говоришь? Ладно, внучка, что с тобой поделаешь… Помню я маму твою ещё крохой, которая к деду Гене на колени забиралась и лысину его как диковину какую разглядывала. А теперь и Геньки нет, и мамы твоей… Ладно, чего резину тянуть! Было дело, рассказывал мне дед твой кое-что. Всего он и сам не знал: бабушка твоя скрытная была очень. Но, что знаю, скажу. Бежала она в Москву из-под города Рыбинска, там где-то в деревне жили они. Бежала, чтоб скрыть свой грех, а была Тося беременная. И это в восемнадцать-то лет, да в те годы… тогда к такому делу относились люди не так как теперь — клеймо на всю жизнь бы осталось! И ещё бежала она от страха, от боли, потому что родители её умерли. Один за другим. А боялась она не кого-нибудь, а отца своего ребенка. Его все боялись в тех краях, потому что слыл он оборотнем, и Тося говорила, что он её околдовал, зельем каким-то опоил, а она бы никогда поперек воли отца не пошла. Отец-то этого оборотня погнал и велел близко к дому не подходить! А тот за это и отца, и мать Тосину со свету сжил. Хотел мерзавец что-то украсть у них из дому такой ценности великой, что и сказать нельзя! И вроде это была икона какая-то редкая. Отец Тонечкин будто бы спас её и тайно хранил у себя до поры, потому что в то время с верующими был разговор короткий: приходили ночью, забирали — и в лагеря… Но при этом НКВДшники не чурались иконы ценные к рукам прибирать, хапали все, что только под руку попадется… Вот и стерег эту икону Тосин отец пуще глаз, но и за ним в один черный день пришли. И забрали. А привезли не лодке домой уже труп: вроде как от сердечного приступа он скончался. А следом за ним, чуть ли не в тот же день — и матушка её, царство небесное! А колдун этот, он, вроде бы, на отца-то её и донес. С местными органами в одной упряжи был — тайным осведомителем. Вот так… И всего этого ужаса Тося не выдержала, схоронила отца, мать и бежала в Москву — как есть, в платишке, да в кофточке. А тут повезло ей — к хорошим людям попала. В дом к себе пустили девчонку с улицы, да ещё с животом — видно, глазам её огромным и чистым поверили. Очень уж глаза хороши были у бабки твоей! Не помню уж, как их звали, помню только что хозяйку Тосину, а она у них домработницей стала, так вот, женщину ту звали Еленой. И потом они Тосю к себе прописали. А она на них дом свой под Рыбинском перевела — не хотела, чтоб даже память об этих местах оставалась. Плохо, конечно, что могилу родителей бросила, да только Бог ей судья. И ты, внучка, её не суди… А у этих людей она с Геней и познакомилась. Поженились они. И жили всю жизнь душа в душу, а ребеночка — маму твою Геня удочерил. И грех ей простил. Вот так. Вот, Настенька, внучка, такие дела. А про то, что мне Геня сказал, я ни с кем ни пол словом за всю жизнь не обмолвился. Ну, а тебе… тебе можно. Столько лет с тех пор прошло, никого мы с тобой теперь уж не потревожим. Разве что, душеньки их там, на небе-то, встрепенутся… Да. Жаль, что не повидал тебя, может, как вернешься из поездки своей, заглянешь, проведаешь старика. А? Что молчишь?
Тася плакала, не могла удержать слезы. И только старалась, чтоб Виктор Петрович на другом конце провода этого не почувствовал. Не хотелось ей показаться слабонервной дамочкой перед ним, ведь он рассказал ей о бабушке — о силе воли её, о том, как выстояла она, хотя жизнь уж с ног повалила… Нет, она должна быть достойна предков своих. И вдруг жуткая мысль ножом вспорола её сознание…
Оборотень! Ее настоящим дедом был оборотень! И значит волк… это он?! Ведь, говорят, оборотни долго живут, не одно столетие могут людей терзать! Он влиял на мысли её, волю подавлял, хотел, чтоб стала она такой же как он. Злобной, мстительной! В ней играла его кровь — отравленная! Вот оно что… А прадед её, отец Тонечкин, через этого оборотня смерть принял. Так вот что значат слова бабушки: «Который из двух? Которого ты выбираешь?» В кого пойдет Тася, какой путь выберет! Какая кровь дорогу к сердцу найдет?! Боялась за неё бабушка, боялась и гневалась, а гневалась-то на себя! Что ребеночка понесла от отродья бесовского. И на Тасю злилась она — видела, что идет её внучка плохой дорожкой. Что спесь и дурь в её сердце гнездятся. А там, где они, там, где хаос — там спасения нет. Утянут! Те силы, которым служил её дед. Темные силы…
Так в кого ж она: в кровавого, жуткого, или в другого, который, ничего не боясь, святую икону прятал? Рискуя всем: жизнью, покоем семьи… Перед глазами отчего-то возникли тонкие музыкальные пальцы Вано — и она догадалась, что он был убийцей. Киллером! И, верно, хотел использовать её в своих целях — оттого и помогал… в сеть затягивал. Еще один оборотень! И она едва в сети его не попала. А волк подталкивал к нему, в пропасть толкал! Все это в один миг пронеслось в голове, Тася стиснула пальцы и вцепилась в телефонный провод так, что, казалось, порвет.
— Я… Виктор Петрович, я просто еду сейчас в этот дом. Понимаете, это чудо, но он нам достался! И только сейчас благодаря вам я поняла, что этот дом — наш. Нашей семье исстари принадлежащий. И я… простите меня, мысли путаются. Наверное, мы там жить останемся. Навсегда. Дети у меня, двое: Эля и Сенечка. Они там сейчас одни. Потому я так и спешу. И вы не судите строго меня, что вот так, в спешке, по телефону попросила вас рассказать, конечно, надо было приехать… Но я приеду — обещаю, приеду к вам как только снова в Москве окажусь. И тогда мы близких наших помянем.
— Только надолго не откладывай, внучка, — дрогнувшим голосом сказал Рябов. — Годков мне, понимаешь ли, почитай уж восемьдесят семь. Успеешь ли?
— Успею! — твердо пообещала Тася.
Они распрощались, она повесила трубку, замерла… и все-таки разрыдалась. А потом как-то вдруг сникла и уснула прямо на стуле у телефона. Очнулась в три часа ночи. Спохватилась, умылась, снова кинулась к телефону, дозвонилась в справочную вокзала, выяснила, что электричка на Ярославль в четыре утра с минутами. И кинулась, спотыкаясь, к порогу, опять подхватив свою сумку.
И бегом, бегом по тернистой дороге к дому, что стоит на зеленом родном берегу. Этот берег родной, — лихорадкой стучало в висках, и Тася бежала, бежала…
Она примчалась на Ярославский вокзал на такси за десять минут до отхода электрички. И вдруг, — Тася глазам своим не поверила, — увидала Василия, выходившего из дверей круглосуточного ресторана. Яростно жестикулируя, он говорил что-то своему спутнику, коренастому белобрысому человеку, а тот внимательно слушал его, хмуро глядя прямо перед собой.
— Тася! — крикнул Василий, увидев её. — Тася, слава Богу! — он что-то быстро сказал товарищу, тот повернулся, поглядел на нее… пристально так. А Василий в три прыжка был уж возле Таси. Ему хотелось её в охапку схватить, стиснуть, сжать от радости, что живая, что тут она… рядом. Но он удержался. И только мускулы под кожей на руках заходили. И тогда она сама кинулась ему на грудь как маленькая. А потом отстранилась, глянула в глаза… и поцеловала. В губы.
— Тася, милая… — он какое-то время не мог говорить, только смотрел на нее, потом овладел собой. — Я ночью приехал, вот, приятель мой Дмитрий меня на вокзале встречал, а потом мы с ним в ресторан забурились. Ну, давай, что ли, назад, домой, мне в Москве теперь делать нечего. Я ведь за тобой — вызволять! На квартиру к тебе сейчас вот собрался. Ты что, дуреха, затеяла? Мстить собралась? И кому? Это ж нелюдь — те, от которых дети твои пострадали. Разве затем жизнь дана, чтоб на таких её тратить?! Разве мало у нас хорошего? — тут он не выдержал и обнял её.
— Ой, Васенька, не надо, не бей ты меня! Сама уж все поняла.
Все это время Дмитрий стоял в сторонке, внимательно изучая газету. Однако, пристальные его глаза все видели, все замечали. Он от души радовался за друга: тот встретил свою любовь. И как полюбил-то её — Тасю эту — с первого взгляда!
А Тася с Василием вскочили в вагон, двери хлопнули… Электричка дернулась, тронулась и пошла, набирая ход. Вслед за ней по перрону, улыбаясь, шел Дмитрий и махал им рукой.
— Это товарищ мой, — пояснил Василий, когда они чуть успокоились. — Я тут позвонил ему ещё из Рыбинска, попросил кое о чем. Он в одной очень хитрой органиции работает. Я ведь учился в Москве, в Строгановке… выгнали — пил сильно. Но это к делу не относится. Тогда-то студентом с ним я и познакомился. С тех пор перезваниваемся иногда. Приезжал он как-то ко мне. С семьей. А теперь вот нарыл тут кое-что. Это тебя касается, но, уж вижу, сама догадалась. Догадливая ты, как я погляжу! И ты, и дочка твоя. Славная она. Ладненько! Ну вот, сейчас я тебе расскажу все, да покажу. Все теперь у нас разложилось как по полочкам!
Он вынул из дорожной сумки папку, в ней были ксерокопии документов. Досье. Петр Николаевич Суров. Дело за номером… Родился… Умер… Причина смерти… Имя доносчика. Статья. И ещё одно досье: на имя Антонины Петровны Суровой, в замужестве Мельниковой. В Москве — с сорок шестого, прописана по адресу: Сивцев вражек, 26, квартира 3, у Коноваловых Алексея Георгиевича и Елены Сергеевны. Дарственная на собственный дом в деревне Антоново на Юршинском острове в Ярославской области на имя Коноваловой Елены Сергеевны. Прочие сведения…
— Вот, — Василий взглянул на неё — она сидела, прямая как статуя, просмотрев документы и прижав их к груди. И глядела прямо перед собой. Видишь… это твой дом. А ты боялась!
— А я уже знаю, Вася… Васенька, милый ты мой! — Тася всхлипнула, но удержалась. — Я другу бабушкиного мужа сейчас дозвонилась. Он мне все рассказал. Нет, не все, конечно… Но самое главное. Но почему, скажи ты мне, почему именно я… мне все узнать доверено. И такой ценой! Детей измучала, сама чуть голову не свернула… Эля — эта катастрофа, Сенечка его рука, это ведь все неслучайно, Васенька! Ведь с самого начала, как бабушка мне явилась и я действовать начала, знала, чувствовала, что путь этот — по самому краю пропасти. Что ещё миг один, шаг неверный — и пропадешь. Ну, я-то ладно… Но за что дети страдали?
— Э, милая, говорят ведь: познание умножает скорбь. Не мучайся ты над этим, не ломай голову. Я ответа на твои вопросы не знаю. Только, помнишь, говорил я, что искупление это? Искупили вы то зло, что предки ваши сделали вольно или невольно.
— Но ты не знаешь всего, ведь бабушка по сути стала причиной смерти отца, потому что связалась… ох, даже язык не поворачивается! С оборотнем, Вася, понимаешь?! Понимаешь ты это? И как теперь? Ведь он является мне!
— Не только тебе, — мрачно сказал Василий. — И Эле.
— Ох, Боже мой! — Тася вскочила, но он её удержал и чуть не силком усадил на место. — Как же там они? И я-то, дура… он ведь меня заморочил, Васенька, он меня все время с пути сбивал!
— Да, знаю, догадываюсь. Но ты, Таська, не дрейфь, с этим мы поборемся. А этого волчину драного я своими руками придушу! Ну, без отца Василия тут, конечно, не обойдется. Ты в церковь-то пойдешь исповедаться? Или опять за рюмку станешь хвататься?
— Пойду, а куда ж мне теперь? Мне теперь дорожка одна, в храм, чтоб отмолить их всех. А рюмка… не напоминай мне! Ну, что ты меня все терзаешь?! Мне об этой рюмке теперь даже подумать тошно. Это ведь он зверь мне вином глаза застилал. От жизни живой отталкивал. А теперь я глаза открыла.
— Вот и славно! — Василий крепко обнял её и с шумом выдохнул, будто тяжесть какая с него свалилась.
И качались они, обнявшись, в такт движению шумной дерганой электрички, обоих слегка знобило… Они не дремали, глядели в окно, и видели как в туманной дымке, поднимавшейся над полями, просыпается солнце. И в этих первых лучах зари чудилась благая весть. Что-то поджидало их там, дома, на острове, что-то хорошее, доброе. Предвестником радости стал для них этот рассвет, первый для этих двоих, нашедших друг друга.
Глава 7 БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Убедившись в том, что Вовка готов к любым испытаниям, Эля повеселела. Она помогла ему убрать со стола, помыла посуду, подмела в доме, пока он натаскал воды из колодца, полную бочку, чтоб перед сном истопить баньку и помыться. Было около семи вечера. Сеня проснулся, его опять покормили, достали ему старые Вовкины книжки, игрушки и заперли в доме, велев поиграть и спокойно их дожидаться. Он протопал за ними к двери, маленький строгий мужчина, и помахал рукой. Эля за него не боялась — знала, что Сеня в доме Василия как за каменной стеной. Крест, что хозяин сам вырезал и освятил, охранит его от любой нечисти.
Они вышли за околицу и пошли вдоль берега Волги в сторону пристани. На опушке соснового бора Вовка свернул направо — вглубь острова. И пройдя минут десять по кромке леса, вдоль поля, засеянного клевером, они остановились возле небольшого холмика, поросшего травкой и земляникой.
Эля вопросительно взглянула на Вову, тот кивнул: мол, да, здесь. Они, кажется, начинали понимать друг друга без слов. Девочка опустилась на колени в траву перед холмиком и приникла к нему, легла, раскинув руки, точно обнимая землю, хранящую свою тайну… Парень отошел в сторону и отвернулся, чтоб не мешать. Так пролежала Эля какое-то время, потом поднялась, поклонилась, и они пошли дальше. Дорога повела их вдоль берега, мимо пристани и чуть наискосок, в сторону деревни Антоново. И скоро они оказались на кладбище.
Эля вдруг свернула с тропинки влево и запетляла между могилами, меж стволами высоких берез, склоненных над этим приютом покоя. Вовка за ней. Она бродила долго, будто искала что-то. И, наконец, остановилась как вкопанная возле заброшенной безымянной могилы, поросшей травой. Здесь не было оградки, только покосившийся железный крест с прикрепленной к нему табличкой. Краска на кресте давно облупилась и букв на табличке было не разобрать… Эля присела на корточки и принялась легкими пальцами касаться земли, креста, точно слепая, как будто пыталась почувствовать что-то на ощупь. И убедившись в правильности своей догадки по каким-то только ей одной явным признакам, стала гладить землю, будто та живая! Вовка едва увел её — она бы тут, кажется, до ночи просидела…
Они возвращались в деревню, молчаливые, как солдаты, которые готовятся к бою. Эля отперла замок на двери, вошла… Вовка за ней. Пустой огромный замерший дом показался им целой страной — неведомой, тайной… Он напоминал лабиринт, из которого можно не выбраться, где прячется Минотавр — чудовище, от которого нет спасенья. Косые лучи заходящего солнца прочерчивали пространство, проникая сквозь прозрачные занавески, и в этом напряженном насыщенном свете тоже таилась угроза. Все, все говорило им, что на пути их поджидает опасность.
Но Эля, кажется, ничего не боялась. Она шла к цели, известной лишь ей одной. Словно в руках у неё была нить Ариадны — спасительная нить, которая непременно укажет обоим путь к выходу. Путь на свободу… Эля обернулась, кивком указала Вовке на лестницу, ведущую на второй этаж. Он в ответ тоже молча кивнул, придержал её за руку, опередил и первым начал взбираться по лестнице. На втором этаже было душно. Стало темнеть. Сквозь щели в забитом фанерой окне сквозило закатное солнце. Эля, не мешкая, пробралась по толстенному бревну туда, где ранним утром увидала квадратное углубление под застрехой. Вернее, на него указал ей призрак. Где же он, отчего не показывается? Может, Вовкино присутствие мешает? Вовка, посапывая, тотчас оказался рядом.
— Ну? Чего тут? — отчего-то шепотом спросил он. — Чего ищешь-то?
— Попробуй дотянуться вон до той дырки в стене! — показала она.
Он привстал на цыпочки, потянулся рукой. Нет, росту и у него не хватало! Тогда он расставил ноги пошире, и наклонился, подставляя спину подруге.
— Лезь!
Эля забралась ему на спину, дотянулась до отверстия, которое прикрывали два ласточкиных гнезда. Она осторожно просунула руку меж гнездами. Рука шарила в пустоте. Наконец она ойкнула, пальцы нащупали что-то и, крепко ухватив неизвестный предмет, Эля вытащила его из тайника. Это была небольшая круглая жестяная коробочка. Она была вся проржавевшая, цветочный узор на крышке наполовину стерся от времени, ветров и дождей…
— Ну, чего там? Нашла? — выворачивая шею, чтобы увидеть Элину добычу, спросил Вовка.
Она спрыгнула у него со спины и чуть не упала с бревна, потеряв равновесие, но он её удержал.
— Что это? — он хотел взять у неё коробочку, но она не дала.
— Скорее отсюда. Темнеет, — шепнула она, и оба чуть ли не кубарем скатились с крутой лестницы вниз и кинулись к выходу… и остановились как вкопанные. Перед дверью, загораживая её, стоял человек. Только взгляд у него был страшный, звериный. В налитых кровью глазах не видно зрачков…
Вовка шагнул вперед, загораживая Элю собой. Колени его дрожали. А она крикнула отчаянно, во весь голос: «Вовка, молитву читай! Против нечистой силы молитву, ты ведь знаешь! Скорее читай!»
— Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его… — севшим голосом начал Вовка и тут же голос его окреп. Яко исчезает дым — да исчезнут, яко тает воск от лица огня, тако до погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся честным крестным знамением, и в веселии глаголящих…
Страшное существо, преграждавшее им путь, зарычало, и дети с ужасом заметили, что с ним происходит что-то страшное — человек стал превращаться в зверя! Его лицо вытянулось, рот раскрылся, выпуская утробное сдавленное рычание, и острые клыки с лязгом клацнули друг о друга, открывая глубокую пасть.
— Не действует! Молитва не действует! — в отчаянии прошептала Эля. А Вовка продолжал читать.
И все-таки она подействовала, эта молитва. Зверь воздел руки, растопырив скрюченные пальцы, из которых росли длинные острые когти. Он приготовился прыгнуть… но не смог. Он остался на месте. И только глухо рычал, продолжая меняться на глазах. И вдруг дверь у него за спиной стала медленно отворяться, а потом сорвалась с петель и всею своей массой обрушилась на отвратительное чудовище. Оборотень рухнул на пол, придавленный тяжеленной дверью, а детей словно вихрь подхватил и вынес на крыльцо мимо упавшего чудища. Они кинулись бежать со всех ног, спотыкаясь и чуть не падая. Эля на бегу обернулась и успела заметить в дверном проеме прозрачный силуэт человека. Призрак пришел к ним на помощь!
Они выбежали за калитку, и Эля бегом бросилась к домику бабы Шуры. Вовка за ней. Они постучались, и опешившая старушка услыхала странную просьбу: эти запыхавшиеся подростки, на которых лица не было, просили немедленно дать им на время икону, они потом отдадут. Старушка без лишних слов вынесла им небольшую иконочку Нерукотворного Спаса, перекрестила обоих и сказала, чтоб отдавать не спешили, им, видно, сейчас нужней…
Вовка принял икону, Эля крикнула ему: «Бежим!» — и, прижимая к груди коробочку, побежала на берег Юги. Понятно, что Вовка — за ней. Там они сели на травку, отдышались, не отводя глаз друг от друга, а взгляд у обоих был затравленный, дикий… И когда дыхание немного выровнялось, Эля с замиранием сердца открыла коробочку. В ней лежало несколько фотографий и сложенный вчетверо пожелтелый лист бумаги. Письмо.
«Тому, кто это найдет, открываю я, грешница, жить недостойная, страшную тайну мою. Знаю, что послание мое попадет в руки тому, кто с молитвой и верой живет, а другому — Бог не позволит. Мой отец, Суров Петр Николаевич, в своей могиле не похоронен. Мы с матерью без отпевания похоронили его на опушке соснового бора, что близ деревни Быково. Это место папа очень любил. Пошли мы на это, исполняя волю его. Он говорил: „Берегите её пуще всего на свете, если со мной что случится.“ Эти слова о святыне великой, чудотворной иконе Югской Божьей Матери, что явилась на древе основателю Югской обители. Из-за этой иконы на отца донесли, прознали, что спас он её сразу после затопления и что она у него. А грех тот на мне, это я полюбовнику об иконе, словно в бреду, сказала. Он и донес. Отца в застенке убили, пытали его — как тело на лодке нам привезли, я его обряжала, и все раны, и все ожоги страшные видела. Но он им не сказал, где она — чудотворная. Только мы с матушкой об этом знали. И спрятали её закопали в могиле его, в пустом гробу, чтоб ни одна душа не догадалась. А он, батюшка мой, без гроба в земле лежит. Но верю я, что сам бы он так поступил, благословил бы нас на такое ради спасения святыни. После того как ночью мы с мамой сделали страшное дело свое и отца закопали, на утро, перед рассветом мама моя умерла — сердце не выдержало. А я потом шла за гробом пустым, пустой гроб хоронила. И вина за все только на мне, грешнице. Помолитесь за отца моего, а за меня и молиться не надо. Бегу из этих мест далеко, чтоб никто не нашел. Чтоб тайну мою сохранить, чтоб и меня, как отца, в подвале НКВД не замучили. Верю, что Матерь Божья спасет душу отца моего, даже и не отпетую. Ведь он и смертью свой послужил ей, спасая образ её. И, если будет на то Божья воля, захоронят отца моего по обычаю православному, а икона явится на свет Божий, пусть и спустя много лет. Простите меня, люди добрые! Антонина Сурова.»
— Бабушка Тоня, — шепнула Эля, поцеловала письмо и кинулась лицом в траву. И долго лежала так, а Вовка тихонько, чтоб не потревожить её, взял письмо и прочел. И стал глядеть как солнце в воду садится, превращая её в жидкое золото…
Эля наконец поднялась, и он не узнал её. Она словно выросла, повзрослела, а на переносице, ещё едва заметная, пролегла поперечная складка.
— Нам лопата нужна, — она тоже взглянула на солнце и отвернулась. — А лучше две.
— Тогда надо домой вернуться, — Вовка даже растерялся немного. — И потом… Сеня там. Один он. Еще забоится…
— Да, правда. — Эля задумалась. — Надо нам его к бабе Шуре на ночь поместить. Она не откажет.
— Зачем?
— А ты, что, сам не догадываешься? Ночью мы одно дело сделать должны.
— Почему ночью? Днем нельзя?
— Нельзя, люди увидят. А мы должны тайно… Ты письмо прочитал?
— Ага.
— И, что, ничего не понял?
— Понял, — Вовка удивленно взглянул на нее, — так ты собираешься ночью… на кладбище?!
— Ну, наконец-то! — Эля сердилась. — И не притворяйся, что сам не знаешь, что мы сделать должны.
— Эль, так выходит… — его вдруг осенило. — Это ведь твоя бабушка?
— Прабабушка.
— Значит, дом этот твой… он ваш?
— Получается так. Это наш родной дом. О котором я тайно мечтала. Только, прежде чем он станет таким, придется прогнать этого… ну, понимаешь. Но самое главное — освободить чудотворную. На свет Божий чтоб вышла она, как хотела прабабушка. Тогда все ужасное сгинет и мама вернется.
— Тогда давай ночью. Только как же этот… оборотень? Он ведь придет!
— Да, наверное. Только она защитит нас.
— Она? Ты говоришь про икону?
— Не только. Она с нами, она видит нас. И приходила ко мне… ещё там, в Москве.
— Как приходила? Сама… Богородица? Она являлась тебе?
— Вова, не говори об этом. Нельзя. И, считай, я тебе ничего не говорила.
Он кивнул, глядя на неё со смесью недоверия и восторга. Они опять постучались к бабе Шуре, договорились о том, чтобы Сеня у неё переночевал, мол, им нужно срочно в город отъехать, и поспешили в Быково. Покормили малыша, отвели его к бабе Шуре. И вернулись опять в Быково ждать наступления ночи.
И ночь пришла. Свежая, ветренная. Вовка, стоя перед крестом, вслух прочитал все молитвы, какие знал наизусть. Оказалось, знал он немало: отец научил. И Эля тихонько повторяла вслед за ним святые слова. Потом они взяли лопаты и двинулись в ночь, вглубь острова, замершего словно в испуге.
Березы над кладбищенскими оградами с шумом клонились к земле. То ли склонялись перед решимостью этих двоих, не побоявшихся прийти ночью на кладбище и затеять то, что затеяли… То ли остерегали их: уж больно глухая и темная выдалась ночь — в такую силы зла гуляют на воле… Но Эля с Вовкой старались ни о чем, кроме дела, не думать и по сторонам не глядеть, иначе ужас прокрадется в самое сердце, молнией полыхнет там и захочется только бежать, бежать…
— Слушай, а ты уверена, что это здесь? — шепотом спросил Вовка, когда они остановились возле безымянной могилы с крестом. — А вдруг мы чью-то могилу разроем? Мертвеца потревожим, а, Эль?
— Никого мы не потревожим, здесь это, чувствую я. Знаешь, после той аварии… в общем, знаю и все! Давай-ка лучше копай.
— Слышь, а, может быть, надо сначала прапрадеда твоего похоронить?
Вовка продолжал беспокоиться, но послушно приступил к делу, и лопата его легко, по самый черенок в землю вошла.
— Это без взрослых нельзя. И без священника… Да, что ты, Вовка, сам должен знать! — Эля начала рыть землю с другой стороны холмика. — Ты в таких вещах больше меня разбираешься, отец у тебя вон сколько знает! И в церкви прислуживает, и вообще… А ты только голову мне морочишь! Надо, чтоб на свободу вышла она, чудотворная, чтоб к людям вернулась. Ты думаешь, этот… оборотень, он не чует, что мы уже знаем про все?! Он же рвет и мечет, лишь бы мы её не освободили. Лишь бы волю прапрадедушки моего не выполнили… Он ведь тогда развеется, кончится его власть.
— А откуда ты знаешь?
— Ну, что заладил: откуда, откуда… Знаю я. Я ведь из этого рода. И мне завершить этот круг предназначено — теперь-то я поняла. Мне и маме.
— А какой круг? — не унимался Вовка.
— Ты лучше копай, — спокойно велела Эля.
Да, это была совсем другая девочка, её было не узнать: уверенная, решительная. Она больше не глядела на мир затравленным зверьком, знала откуда она и куда пришла, знала, что все муки их с матерью не напрасны…
Они вырыли довольно глубокую яму, когда из-за куста шиповника, росшего у соседней могилы, послышался глухой утробный рык… и в темноте загорелись глаза. Две красные точки, как угли, горевшие яростью. Оборотень снова явился из потустороннего мрака, чтобы не дать им исполнить волю того, которого погубил…
— Эля, что делать? — Вовка в ужасе уронил лопату, потом трясущимися руками поднял её, руки не слушались.
— Копай! Быстрее копай, нам немножко осталось!
И оба принялись за дело с удвоенной быстротой, Вовка дрожащим голосом начал читать молитву… зверь прыгнул и упал парню на плечи. Тот рухнул под тяжестью громадного оборотня… и челюсти его медленно вытягивались вперед, превращаясь в звериную пасть. Еще немного — и превращение завершится, и тогда волк разорвет!
Эля, задыхаясь, продолжала копать, лопата её наткнулась на что-то твердое… она упала на колени и вырвала из земли продолговатый плоский предмет, обернутый в потрескавшуюся клеенку, под нею была ещё какая-то плотная ткань, похожая на брезент. Она, торопясь, сорвала клеенку, стала развертывать ткань… под нею была икона. Эля поднялась по весь рост, распрямилась и подняла над собою на вытянутых руках икону, так высоко, как могла. И вдруг… Кладбище осветилось точно разрядом молнии, и этот свет не был похож ни на какой другой, прежде виденный. Точно солнце, растворенное в радуге, засияло в ночи над землей! По телу зверя прошла судорога, он оторвался от Вовки, распростертого на земле, и дикий вой, казалось, сотряс весь остров. Зверь вздыбился, поднялся на задние лапы, в миг стал человеком, и страшным было лицо его. А потом был огонь… Ни Эля, ни Вовка его не видели, глаза их на миг словно застило пеленой. Но зверь полыхнул, точно факел, полыхнул и исчез. Испарился! Словно его и не было. И только запах паленой шерсти ещё долго стоял над могилами.
Очнувшись, Эля с благоговением положила икону на вырытый холмик земли и кинулась к Вовке.
— Ты жив? Ну, как ты?
— Я… ничего. Только плечо болит. Кажется, он порвал мне плечо.
— Где, где, покажи! — она принялась осматривать его и ощупывать… но на теле Вовки не было ни царапинки!
— Ничего нет, совсем ничего, ты цел! Пойдем-ка отсюда скорей!
Они по очереди поцеловали икону — лик Богородицы слабо светился во тьме. Вовка снял рубашку, обернул ею икону и передал Эле. А сам заровнял яму, подхватил вторую лопату, и они заспешили к дому. Деревня спала, спал остров. Спали все его жители, трезвые и пьяные. Они не знали, что заклятье, павшее на землю их, снято, и отныне её хранит вновь обретенная благодать…
И придя домой, Вовка поставил стул под крестом, что был в красном углу, и с молитвой поместил на него икону. Оба встали перед ней, замерли… им казалось, что Божья Матерь им улыбается. И Эля узнала её. Это была она Светлая гостья, которая привела её в родные края. И избрала их род, чтоб сохранили они Ее образ святой. Спасли, ценой мученической смерти, мытарств и лишений…
А потом внезапно сон одолел их, сладкий и крепкий, как церковное вино. А когда проснулись, было уже начало второго дня. Первое июля!
— Ой, мы же все на свете проспали! — Вовка схватился за голову. — Сеня там… тут он увидел икону и осекся. — Эль… значит, это не сон?
— Нет, — она поднялась. — А мне приснилась прабабушка. Она сидела на камне у берега, молчала… и улыбалась. Пойдем.
— Куда?
— К пристани. Мама к нам возвращается. И твой папа с ней. Мы их встретим… но не одни! — она взглянула на икону.
Вовка больше не спрашивал, откуда Эля знает, что их родители на пароходике к ним плывут, уж убедился — предчувствия её не подводят. Они быстренько умылись, выпили молока, осторожно обернули икону в кусок чистого полотна, извлеченного Вовкой из шкафчика, и тронулись в путь. На пристань.
Когда они подошли к ней, речной трамвайчик, белея на синей воде, уж подходил к берегу. Оба встали на большой черный камень, лежавший на берегу прямо напротив причала и, подавшись вперед, волнуясь, смотрели как пристает «Мошка». Вот показались первые пассажиры, сходившие по трапу на пристань. Один человек, второй, старушка с сумой на колесиках…
— Мама! — крикнула Эля, завидев мать, и сорвалась с камня, ласточкой кинулась… но удержалась, вернулась. С нею была чудотворная, и ей нельзя суетиться!
Вслед за Тасей показался Василий. Увидел сына, Элю, помахал им рукой. Тася спешила на берег, спешила к дочери, смеялась и плакала… И Эля не выдержала — развернула белый холст полотна и как тогда, на кладбище, высоко подняла над собою икону. Люди замерли… все, кто был на берегу — и прибывшие, и те, кто собирался в город. Все головы повернулись к девочке, стоявшей на черном камне и держащей икону на вытянутых руках. И никому не надо было объяснять, что это за икона — все как-то разом поняли это. Люди кинулись к ним, к двум подросткам, которые стояли рядом, гордые и счастливые. Что тут началось! Крики, возгласы, слезы… Многие падали ниц на землю перед иконой, пароходик не стал отчаливать — остался у пристани, а вся команда — и капитан, и чальщицы, все спустились на берег, чтобы встретить хранительницу своей земли…
И скоро целая флотилия отплыла от берега острова — лодки плыли на материк, к храму Успения Божьей Матери, что стоял неподалеку от судоверфи. А настоятель отец Василий уж знал о благой долгожданной вести. Он стоял в алтаре, на коленях стоял и молился, благодаря Бога за это чудо. А на лодке, шедшей к берегу первой, где на веслах сидел Василий, были Тася, Эля, Вовка и Сенечка. Его забрали у бабы Шуры, и сама она, не удержавшись, шла на лодке Михалыча, — в город шла, чтобы вместе со всеми увидеть, как чудотворная возвращается в храм.
Тася обняла Элю за плечи крепко-крепко, а Сеня прижался к матери и маленькая его ручонка тянулась к образу, к лику Той, что сама любовь. И солнце играло в воде, отражалось в глазах у всех… и глаза сияли. Люди как будто отбросили всю суету земных своих дел и приобщились к свету небесному. Это было как причащение… И радость, казалось, затопила всю землю окрест и Юршинский остров, сберегший тайну, и берег большой земли… Весть вскоре достигла до Ярославля, до Москвы… и понеслась дальше, дальше по городам и селам, по всему православному миру. Ведь обретение чудотворной — благодать, явленная не только одному городу, одной стране, это радость для всей земли. Это как благословение…
А Эля сидела в лодке, счастливая, и радовалась, глядя на все вокруг: на сверкавшую под солнцем прозрачную воду, на берег, который постепенно все приближался, а с него слышался благовест — в Рыбинске звонили все колокола! Эля глядела на маму, на Василия… они будут вместе! И это было так хорошо! А тайная её мечта о доме, в котором всегда найдется место чудесному, выходит, и не мечта это вовсе… а правда! Реальность ответила ей ответила этим днем, в котором сбылись все мечты. И чудо — вот оно, рядом, и родной дом их ждет, который они освятят… и семья её — вот она, большая и дружная! А прапрадедушку они похоронят на освященной земле и в церкви будут отпевать как положено. И слава о нем, спасшем Югскую икону от гибели, пойдет по всей русской земле… И теперь есть у неё отец… и старший брат. Только, похоже, он испытывает к ней совсем не братские чувства…
Эля обернулась — Вовка ей улыбался. Затылком она все время чувствовала его взгляд. Какой он… хороший. И она не удержалась, рассмеялась звонко от радости. И окунула ладонь в прохладную воду, и след от этой ладони заструился по чистой воде. Будут ли они вместе — она и Вовка? Ведь он тоже нравится ей. Нравится… совсем не как брат. А как это? Как бывает, что двое могут… стать совсем взрослыми? Нет, сейчас рано думать об этом. Надо ещё подрасти. А потом… как Бог даст. Главное, они все вместе! И в дом их вошла любовь. Вошла, чтоб остаться в нем навсегда…
И ещё одно думалось ей. Вспоминала она свой сон, в котором была не собой, а легким неземным существом — духом воды. Царевною Волховой, которая человека спасала. Теперь Эля знала, что во сне том спасала прапрадеда Петра Николаевича. Но неужели когда-то была она духом стихийным? Неужели тот сон был про явь? Нет, не нужно задавать себе эти вопросы: все равно ответа она на земле не узнает.
Она знает одно: любовь маму подвигла пуститься на поиски безвестного деда. Любовь к Тонечке. И сначала мама платила — платила дорого: счастьем своим и детей… Вступив на путь, мама с него не свернула. И достигла желанного берега! Она, как Царевна Волхова, всем пожертвовала ради любви. Жертва её все искупила — и бабушкин грех, и все зло, которое род их совершил на земле. И ответом на все жертвы и все страдания стало чудо. Великое как река!
А над рекою, над судоверфью, над островом раскинулась радуга. И никто не видел как шла по ней Божья Матерь. Шла из небесной своей обители. К людям.


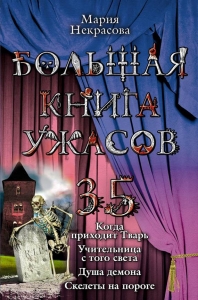







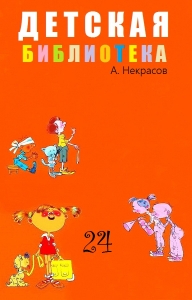

Комментарии к книге «Царевна Волхова», Елена Константиновна Ткач
Всего 0 комментариев