Лев Разгон. Сказочник о сказках.
Эта книга выходит к семидесятилетию писателя. Александр Шаров работает в литературе почти полвека, и за эти годы им написано много книг. Он писал рассказы и очерки, повести и роман, фантастику и сказки. Большинство его произведений имеет два адреса — их читают и дети, и взрослые.
В книгах Шарова рассказано о людях, в самой профессии которых заключены любовь и сострадание, — о врачах и учителях. Героями своих повестей об ученых — борцах с чумой, с вирусами — он выбрал реальных людей, тех, которые готовы были — как солдаты в бою — жертвовать собой, чтобы спасти других. Год за годом в своих произведениях Шаров боролся за такую школу, учиться в которой — счастье для детей. Он писал: «Обыкновенной школы быть не должно, как не должно быть обыкновенной любви, обыкновенных картин, обыкновенных стихотворений».
Почти каждая из книг Шарова достойна представлять своего автора в знаменательную для него и его читателей дату. И все же «Волшебники приходят к людям», вероятно, больше других его книг имеет право на то, чтобы рассказать о ней читателю. Эта книга не о себе, она о других людях — о сказочниках — и о сказке. И вместе с тем она о том, что составляет главное в жизни и творчестве ее автора.
Рассказывая об одном из самых любимых своих писателей, Антуане де Сент-Экзюпери, Шаров приводит его слова: «Я не умею жить вне любви». Автор книги «Волшебники приходят к людям» с полным правом мог бы это сказать и про себя. Он не умеет жить вне любви. И прежде всего, и больше всего, вне любви к детям и детству. Известны слова Сент-Экзюпери: «Я пришел из детства, как из страны». Одна из замечательных книг Александра Шарова называется:
«Страна детства». Неторопливо и внимательно вглядывается писатель в детство. В свое и своих сверстников: «Повесть о десяти ошибках». И более поздних поколений: «Жизнь Василия Курки», «Ручей старого бобра». И тех, кто сейчас живет в этой стране и будет жить в ней дальше: «Взрослые и страна детства». Потому что страна эта — самая великая, но и самая нежная, бессмертная, но и очень ранимая. Сколько страшного увидел писатель в первые годы своей жизни: войну, голод, смерть близких, злобу сильных, унижение слабых. И сколько он в эти же годы видел прекрасного: доброту, сострадание, самопожертвование. О своей бабушке, которую на его глазах убивают бандиты, Шаров писал: «В старости она жила, как море, которое днем досыта напиталось теплом, а вечером щедро отдает его». А. Шаров много и с нежностью пишет о замечательных советских педагогах — от М. М. Пистрака до В. А. Сухомлинского, — которые свое призвание и счастье видели в том, чтобы согревать детей теплом своей любви, бороться за то, чтобы страна детства была страной счастья.
Когда читаешь книги Шарова, поражаешься тому, как этот человек через трудную жизнь, через трагические годы войны не расплескавши пронес доверие к человеку и человечности. Как поэт Михаил Светлов, написавший: «И ко мне доверчивость пришла — первая подруга человека». Доверие к человеку, непоколебимая уверенность в силе добра и любви составляет и сущность тех людей, о которых написана книга «Волшебники приходят к людям».
Книга эта не исследование и не сборник биографий. Это рассказ писателя о месте сказки в жизни человека и человечества. Именно человека и человечества, а не только ребенка, не только детей. Сказка нужна людям постоянно. Корней Иванович Чуковский писал, что «Цель сказочников... воспитать в человеке человечность — эту дивную способность человека волноваться чужими несчастьями, радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу, как свою». Человек воспитывает себя всегда, всю жизнь. Но самое главное время для него то, когда он впервые встречается со сказкой. Шаров об этом пишет: «За плечами восьмилетнего ребенка самое значительное событие в его жизни — он стал человеком».
Однако ребенок становится человеком не сам по себе, а лишь общаясь со взрослыми людьми, перенимая у них не только умение ходить, разговаривать, обслуживать себя, но и нравственные нормы, ту моральную основу, которая и отличает его от других представителей животного мира. И величайшим счастьем, огромной необходимостью становится для ребенка встреча в детстве со сказкой и сказочником. Именно потому, что сказка для каждого нормального ребенка самая необходимая духовная пища, она возникла прежде всех других произведений устной и письменной литературы и существует у всех народов с незапамятных времен. Литература претерпела — как и всё в истории — очень большие изменения. Умерли одни жанры и возникли другие; даже язык изменился настолько, что лишь ученые способны понимать тот язык, на котором разговаривали и писали люди в своей же стране тысячу лет назад. Но по-прежнему жива сказка и по-прежнему существуют сказочники.
«Волшебники приходят к людям» — так назвал А. Шаров свою книгу. Он считает сказочников волшебниками — по глубокому убеждению, что они творят волшебство добра: помогают маленькому человеку усвоить веру в правду, любовь, справедливость, надежду. Это и есть «тайна сказки» — так писатель назвал свои размышления о значении сказки. А сказочников для книги Александр Шаров выбрал самых разных: и тех, кто жил четыреста лет назад, — как Сервантес; и такого, как Януш Корчак, чья замечательная жизнь и героическая смерть прошли на глазах автора книги и его современников. Среди писателей, которым посвятил страницы своей книги Шаров, есть такие гиганты, как Пушкин, и есть писатели, оставшиеся в литературе одним только произведением, одной сказкой. Но каждый из них своей сказкой навсегда остался для детей чародеем добра и красоты. И поэтому жизнь каждого из них так драгоценна. «Судей в мире хватает, а чародеев мало и они скоро гибнут от руки палача или рано умирают своей смертью», — горько пишет Шаров.
Но сказка не становится слабее от того, что чародеев-сказочников в мире не так уж много. Каждая сказка обладает такой силой правды и любви, что с нею ничего не могут сделать те, кто убил сказочника. В книге Шарова один за другим проходят великие чародеи, которые навсегда остались в сердцах людей. Убит ничтожным негодяем гениальный Пушкин; в воздушном бою с фашистами геройски гибнет Антуан де Сент-Экзюпери; расстреливают фашисты чешского сказочника Владислава Ванчуру; отказываясь оставить детей, уходит с ними в газовую камеру Януш Корчак. Но сотворенное ими сильнее смерти. Никто не помнит и не знает имен убийц сказочников, они все похожи друг на друга. Но ни один сказочник не похож на другого. И об этом тоже пишет А. Шаров: «Нельзя не подумать, что если сказочники в мире так прекрасно разны, то «не сказочники» — а это, должно быть, особая людская разновидность, — до ужаса одинаковы».
Когда Шаров пишет, что существует «особая людская разновидность», он имеет в виду носителей качеств, которые считает противоестественными для человека и человечества. Обман, предательство, жестокость, равнодушие, ложь — в любой сказке, у любого сказочника с ними идет жестокая война. Собственно, борьба правды с ложью, добра со злом и составляет содержание каждой настоящей сказки. Рассказывая о жизни и творчестве сказочников, автор книги «Волшебники приходят к людям» убеждает своих читателей, что ничто, кроме любви и добра, не способно победить зло на этом свете. Только это убеждение, усвоенное с детства, помогает людям быть счастливыми, помогает им вырасти добрыми, терпеливыми и веселыми. Среди тех теорий, которые ненавистны Шарову, пожалуй, наибольшее негодование у него вызывает убеждение некоторых людей (даже таких, которые считают себя учеными), что жестокость человека изначальна, что человеку, по самой своей сути, свойственна жестокость к ближним, враждебность к людям и природе. Он пишет: «Гипотеза эта спекулятивная и лживая, подлое измышление лже-разума».
Когда читаешь книгу «Волшебники приходят к людям», невольно ловишь себя на том, что это повествование о реальных людях, вошедших в историю мировой литературы, читаешь как сказку. То, что ее автор считает главными приметами сказки, пронизывает каждую страницу книги.
Есть в биографиях многих писателей-сказочников, о которых рассказывается в книге «Волшебники приходят к людям», одна особенность: сказки они стали писать не в начале своей литературной жизни, а много лет спустя. Андерсен был актером, писал стихи и романы, а лишь затем начал сочинять свои знаменитые сказки; и Аксаков свою единственную сказку «Аленький цветочек» написал уже будучи известным писателем и старым человеком; прожил жизнь пилота и писателя Сент-Экзюпери, прежде чем сочинить сказку о Маленьком принце. Значит, писать сказку не так-то просто... И чтобы стать сказочником, требуется не только стремление к добру, литературный талант, но и немалый, иногда очень трудный, жизненный опыт.
Его вдосталь имел Александр Шаров. Он родился 25 апреля 1909 года в Киеве в семье профессиональных революционеров. В детстве ему жилось трудно и счастливо. Трудно, потому что он многое пережил в годы гражданской войны, голода и разрухи; счастливо, потому что ему пришлось учиться в замечательной школе-интернате, созданной старым большевиком, другом В. И. Ленина — Пантелеймоном Николаевичем Лепешинским. В этой школе работали чудесные педагоги, любовь и уважение к которым будущий писатель сохранил на всю жизнь. А. Шаров учился на биологическом факультете Московского университета, но при всей своей любви к науке ученым не стал — стал журналистом и писателем. Он работал в газетах «Известия» и «Правда», изъездил всю страну как журналист. А годы войны от начала до конца провел на фронте. Печататься Шаров начал еще в конце двадцатых годов, а первые книги стали у него выходить во время Великой Отечественной войны. И только в шестидесятые годы появляются сказки, написанные Шаровым для детей.
Сказки Александра Шарова исполнены добра к людям, любви к природе, бесконечным радостным удивлением перед красотой и целесообразностью мира, твердой верой в способность человека жить мудро, красиво и человечно. Эти свойства сказочника не только заложены в самой натуре писателя, они отражают и его собственный жизненный опыт. Сказка не должна быть просто выдумкой, она должна обязательно опираться на реальную жизнь. Жизнь, о которой узнал не понаслышке, а видел сам, своими глазами. В одном своем сочинении А. Шаров так и написал: «Сказочник, ровно как и исследователь, описывает только лично им наблюденное». Больше того: «Сказочникам необходимо идеи добра и справедливости поверять реальным творением справедливости». Невозможно себе представить, чтобы человек, который в жизни был бы жесток, несправедлив, стоял на стороне неправедного дела, мог писать сказки, в которых детям внушаются идеи добра и справедливости!
Александр Шаров убежден, что добро — огромная, всепобеждающая сила. Есть у него маленькая сказка «Старик Мрамор и дедушка Пух». В ней некоторые неразумные люди смеются над стариком Пухом, который делает такие непрочные, быстро исчезающие вещи, как пыльца, что летает весной в лесу, или облака, проливающиеся дождем... Но в действительности, в жизни они оказываются самыми сильными, самыми прочными, самыми вечными. Нет ничего более вечного, чем весна!
Чтобы рассказать детям о волшебстве, Шаров не обращается к чему-то необыкновенному, сверхъестественному. Для него волшебно все вокруг человека: Ручей, Белка, Зяблик, Медведь. Волшебен и добр лес, волшебна река; и Бабушка Черепаха учит своего любимого Мальчика Одуванчика быть волшебником. А это и не так трудно: надо обратиться к людям, ко всему живому всем лучшим, что есть у каждого человека. Все чудеса в сказках Шарова происходят не за тридевять земель, в неведомом царстве-государстве, а в наше время, среди нас, с вами. «Сказка о трех зеркалах» начинается с того, что в обыкновенном доме получает обыкновенную однокомнатную квартиру самый обыкновенный парень Димов двадцати трех лет. Правда, дальше выясняется, что Управдом, давший ему ключ от квартиры, — гном, а зеркала в квартире обладают невероятными свойствами, но ведь сказка и есть сказка...
Реальность всякой сказки для Шарова настолько очевидна, что в этой книге он никогда не возьмет в кавычки ни одного сказочного героя: ни Сивку-бурку, ни Конскую голову, ни Иванушку-дурачка, никого! Впрочем, в иных случаях кавычки вообще ему ненавистны; прежде всего, когда в них заключают такие слова, как — правда, добро, справедливость. Он пишет: «Кавычки выглядят как обвинение, предъявленное без права оправдаться».
В своих книгах, написанных о солдатах, врачах, учителях, о множестве людей, для него важных и ему интересных, Александр Шаров никогда не писал о солдатах, врачах и учителях — вообще. Для него каждый был единственным, неповторимым.
Вот и в своих сказках писатель внушает детям, что в мире, в природе надо видеть не только лес и не только луг, а каждое дерево, каждую травинку, уметь в них различить всю сложность и прелесть живого.
В сказке «Володя и дядя Алеша» взрослый умный и добрый человек говорит мальчику:
«— Ведь тебя не зовут просто мальчик.
— Нет, меня зовут Володя...
— И дерево тоже надо называть по имени: верба, тополь, береза, осина».
Как все сказки настоящих сказочников, сказки Александра Шарова с наслаждением читаются людьми всех возрастов. Рассказывая об авторе известной сказки «Черная курица» Антонии Погорельском, Шаров пишет: «Мысли, внушенные сказками, растут вместе с человеком, но суть их остается прежней. Сказки помнятся до смерти или пока человек не изменил самому себе ведь это тоже смерть».
Автору этой книги, сказочнику Александру Шарову, — семьдесят лет. Он никогда не изменил самому себе.
Лев Разгон
Глава первая. Тайны сказки. Почему у сказки счастливый конец?
Теперь я снова, как в детстве, собираюсь поселиться в царстве сказки. Ведь я пишу книгу о сказочниках — эту самую.
Я жду знакомого гнома, но он все не приходит.
Наконец он появляется, ночью, когда погашен свет и луна заглядывает в окно. Вслед за ним мчится повозка — пустой лесной орех с книгами.
Гном, как и полагается быть гномам, очень маленький. Иногда кажется, что это просто пылинка в лунном луче.
От нетерпения даже не поздоровавшись, я спрашиваю:
— Сказочная страна существует?
— Конечно! — отвечает гном. — Тебе не следовало бы сомневаться в этом. Сказочная страна есть, и не одна, а десять сказочных стран или гораздо больше. В школе знаешь даже таблицу умножения, но в сто лет цифры забываются. Есть Гномланд, Эльфия, Страна Северных Троллей, Страна Ивана-царевича...
— Где же они?
— Не знаю, как понятно объяснить... — озабоченно отвечает гном.
Сын вечером занимался географией, и на столе остался глобус.
— Что это? — спрашивает гном.
— Земля.
— Ты уверен?
Гном ловко вспрыгивает на глобус.
— Где я? — тоненьким голосом спрашивает он.
— В Тихом океане.
— Почему же океан сухой?
Я не знаю, что ответить.
В свете луны движется черная точка.
— Где я? — снова издалека доносится голос гнома.
— На вершине Кордильер.
— Твоя Земля не нравится мне. Они отвратительны — сухие океаны и плоские горы. Они такие скучные, что я уезжаю и притом навсегда.
По лунному лучу — вверх, вверх — мчится пылинка.
Не следует очень пугаться, потому что «навсегда» — любимое словечко гнома, и не так уж много оно означает. «Я к тебе пришел навсегда», — сказал он давным-давно, когда появился первый раз. Мне тогда было четыре года. Сказал, а наутро исчез.
Но потом он все-таки вернулся.
После встреч с гномом всегда крепко засыпаешь, и кажется, что он приходил во сне.
... Наутро я отправился в Главную библиотеку.
— Будьте настолько добры, — сказал я другу, работающему там, — дайте все книги сказок и все книги о сказочниках.
— Все? — переспросил он, почему-то усмехаясь.
— Разумеется!
Он круто повернулся и убежал; через минуту он уже поднимался по стремянке к верхней полке.
А я, чтобы не терять времени, решил пройтись по залам библиотеки.
Было раннее утро, и читатели еще не появились.
Тут были залы для академиков, для профессоров — словом, для тех, кто знает всё или почти всё на свете, — и для обыкновенных людей. На столах дремали лампы — на одной ноге, как аисты, только не белые, а зеленые.
Вернувшись, я сел у длинного стола.
Двери книгохранилища открылись. Оттуда выходили библиотекари в синих халатах, неся на согнутых руках книги. Библиотекари были в войлочных туфлях и двигались почти бесшумно. Они направились ко мне.
Скоро книг стало так много, что я очутился как бы в ущелье. Подняв голову, я с трудом разглядел у потолка две горные вершины.
— Пожалуйста, не надо больше! — взмолился я.
Шуршанье туфель прекратилось. От теней книг сгущалась темнота. Я повернул выключатель. Лампа взмахнула зеленым крылом и засветилась. У стола стояли два старика в синих халатах.
— Ученый-Библиограф, — сказал мой друг, представляя своего товарища.
— О чем вы задумались? — участливо спросил Библиограф.
— Разве что мой праправнук дочитает все эти книги и к глубокой старости сможет приняться за работу.
— А если написать только о самых любимых сказках, и для начала о сказках нашей страны; их ведь знаешь с детства, — сказал Библиограф.
— Правильно, — подтвердил Библиотекарь. — Но прежде надо рассказать о тайнах сказки...
Я остался один.
Это было давно, но я хорошо помню красивое название книги, первой бросившейся в глаза, «Золотая ветвь» Д. Фрезера.
Тут были книги, где рассказывалось о сказочниках и о собирателях сказок, путешествовавших через пустыни, тайгу, океаны, чтобы вернуться домой с новыми записями.
Одному такому ученому на балу, где он случайно очутился, красавица принцесса сказала:
— Фи, какой на вас истрепанный воротничок!
— Это потому, что я все истратил в дороге и у меня не осталось ни гроша, — рассеянно ответил ученый. Помолчал, а потом радостно докончил: — Но вы подали прекрасную мысль, принцесса! Отнесу-ка я негодный воротничок на бумажную фабрику. Из тряпок получается отличная бумага. И напечатаю я на этой бумаге новую сказку, которую привез из Африки.
— И всё? — Принцесса презрительно скривила губки.
— Нет, не все. Какая-нибудь девочка спокойно уснет под мою сказку.
Про себя ученый подумал: «Девочка уж наверное не вырастет такой злюкой, как вы, ваше высочество».
Ученые, их называют фольклористами, объехали весь мир и узнали, что на земле есть народы, не умеющие сеять хлеб и плавить металл, но нет ни одного, где не умели бы рассказывать сказки.
В Африке, в пустыне Калахари, они встретили людей маленьких как подростки, быстрых, как стрела, способных через метровую толщу песка ощутить запах воды. Завоеватели назвали этот народ бушменами, то есть обитателями буша — пустынных кустарников; маленькие люди не строят хижин, а живут под открытым небом.
Бушмены — собиратели, они кормятся тем, что подарит скупая почва: корнями растений, личинками насекомых. Они не имеют другого достояния, кроме сказок и горшочков с красками из соков растений, которые всегда носят при себе. Предки нынешних бушменов покрыли скалы каменистой пустыни изображениями зверей и таинственных красавиц — бушменских фей, так что тысячу лет назад, задолго до открытия книгопечатания, когда даже принцы не получали в подарок книжек с картинками, бушмены жили как бы в такой книжке; бесконечная книга — ведь каждое поколение дополняло ее новыми страницами.
На одной из скал Калахари с неведомых времен красуется чудесное изображение — «девушка в белом». И есть у бушменов сказка о том, как появились на небе звезды. В давние времена жила очень красивая бушменка. Взяла она однажды золы из костра и забросила ее на небо. Зола рассыпалась там, и пролегла звездная дорога. С тех пор звездная дорога освещает ночью землю мягким светом, чтобы люди возвращались не в полной темноте и находили свое жилище. Но утром звезды блекнут и удаляются, потому что по небу движется солнце. Так солнце и звездная дорога ходят друг за другом.
Смотришь на «девушку в белом», и думается, что это именно она смело швырнула в небо золу от костра и создала звезды, чтобы люди возвращались домой не в полной темноте.
Может представиться, что бушмены — счастливые люди, но на самом деле судьба их невообразимо горька. Они гибли и гибнут от пуль завоевателей, от того, что их загоняют в глубину пустыни, где нет даже корней и личинок.
В племени зулу в Южной Африке рассказывают такую сказку.
В день, когда зверям раздавали хвосты, небо заволокли тучи и пошел сильный дождь. Но звери отправились за хвостами, — лишь заяц отказался идти и обращался ко всем, проходящим мимо:
— О родные мои! Принесите, пожалуйста, хвост и на мою долю. Идет дождь, и я не могу выйти из норы.
Вот что рассказывают о зайце. И если люди не хотят работать в дождь, им напоминают эту историю.
Записав сказку, ученый-фольклорист спросил рассказчика:
— Откуда вы узнали эту историю?
— От бабушки.
— А она откуда взяла ее?
— От своей бабушки.
— Ну, а самая древняя бабушка?
— Ей, должно быть, рассказал сам заяц, — улыбнулся рассказчик.
Сам заяц... И почему дикая кошка так дика, могла рассказать только дикая кошка — кто еще?!
А о том, как у верблюда появился горб, давным-давно, когда люди понимали зверей, а звери — людей, рассказал верблюд?!
... Шуршат туфли библиотечных работников и страницы книг.
Сейчас залы полны, и шелест доносится отовсюду, как шорох листьев в лесу. Это тысячи читателей по страницам, как по ступенькам лестниц, поднимаются к летящим птицам, к летящим облакам, к иным населенным мирам, к мчащимся сквозь бесконечность звездам или опускаются в раскаленные недра земли, проникают внутрь атома. Каждый идет своей дорогой — на край земли, в глубь человеческих сердец, в древние века, — как я иду, ищу дорогу к сказкам.
Жил в прошлом веке в Северной Америке великий поэт Генри Уодсуорт — Лонгфелло, то есть Длинный парень, так прозвали его друзья, а потом под этим именем узнал весь мир. Годами бродил Длинный парень по стране оджибуэев, доокотов и ирокезов. Он верил, что, записав и рассказав всем белым легенды индейцев, он заставит завоевателей прекратить зверское уничтожение краснокожих.
— Добро и красота незримо разлиты в мире, — говорил Генри Лонгфелло.
Он и собирал по каплям добро и красоту в индейских преданиях об учителе, посланном небом людям, чтобы расчистить реки и леса, помирить воюющие племена, научить их мирным искусствам.
Был когда-то у ирокезов мудрый вождь Гайавата. Его имя перешло в легенды. Из этих сказаний родилась «Песнь о Гайавате», известная теперь всем. Помните, как начинается поэма?
Если спросите — откуда Эти сказки и легенды С их лесным благоуханьем, Влажной свежестью долины... Я скажу вам, я отвечу: От лесов, равнин пустынных, От озер Страны Полночной... С гор и тундр, с болотных топей, Где среди осоки бродит Цапля сизая, Шух-шух-га...Так вот откуда сказки и легенды. От сизой цапли Шух-шух-ги, голубя Омими, от северных озер и тундр, от лесов и прерий.
Это говорит сказочник.
А ученый?
Ученый ответит по-другому:
— Первобытному человеку представляется, что всё окружающее его — деревья, травы, птицы, звери — думает и чувствует, как он сам!
Только ли первобытному человеку? У кого из нас не бывает счастливых мгновений, когда чудится — еще немного, стоит прислушаться, вглядеться, и ты поймешь, что трубят лебеди и о чем шепчутся деревья.
Прочитав одну из книг Аксакова, Тургенев сказал:
— Мне, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно... Если б тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в этом уверен, ни слова не прибавил к тому, что о нем поведал автор.
Когда человек с любовью наблюдает окружающий мир, он отдает ему частицу души. Так возникают сказки, где звери, деревья, травы и цветы думают, разговаривают, чувствуют.
— Ну, а Баба-Яга, Кощей Бессмертный? Кто, когда и где мог увидеть их?
Что ответить на это?
Никто не бывал в избушке на курьих ножках просто потому, что такой избушки на свете не существует и не существовало, и не может существовать, как не существуют и не могут существовать Яга, Кощей Бессмертный да и Мальчик с пальчик.
Незаметно подошел Ученый-Библиограф.
— Простите, но, кажется, вы поторопились, — тихо проговорил он. — Трудно разгадывать чужие мысли, но я взглянул на вас, и показалось, что вам скучно. Так скучно бывает, если поспешишь с ответом, я знаю по опыту. Когда представится, что все известно и не о чем думать.
Может быть, я действительно поторопился?
Я раскрываю книгу и перечитываю рассказ об ученом, прожившем много лет в селении одного охотничьего племени.
Когда в племени стали относиться к ученому совсем как к своему, он узнал о существовании обряда посвящения. Обряд вначале показался странным, а потом и странным и страшным.
Мальчику исполнялось двенадцать лет, и тогда, в глухую ночь, из дремучего леса, окружающего селение, крадучись выходили чудовища — со звериными головами, в звериных шкурах, — похищали мальчика и исчезали в лесу.
Защищала ли сына мать?
Обычаи племени под страхом смерти запрещали ей удерживать ребенка около себя или идти по его следам.
И отец не заступался за сына. Иногда он даже сам отводил ребенка в лес, отдавая его в руки людей в звериных масках: так повелевал обряд.
«Люди-звери» тащили не помнящего себя от ужаса мальчика. У него кружилась голова от усталости, страха, ночной тьмы. Временами он терял сознание, но его, полубесчувственного, тащили и тащили сквозь колючие кустарники, в кровь разрывающие кожу. И вот перед ним возникало строение с входом, похожим на крокодилью пасть.
Мальчик с трудом открывал глаза, и казалось ему, что сами джунгли под рыканье львов кружатся в дьявольской пляске и вслед за ними поворачивается колдовская лесная хижина.
Между рядами крокодильих зубов мальчика протаскивали внутрь хижины, где ребенка встречал жрец в маске, изображающей смерть. Маска, возможно, делала его похожим на Кощея, каким мы представляем себе его сейчас.
«Далеко, далеко...» — говорится в сказке. Да и мальчику казалось, что он очутился за тридевять земель от дома.
Хотелось пить, но ему давали не воду, а отвар из ядовитых растений, вызывающих бред. Он снова и снова терял сознание и, пробуждаясь, с каждым разом все меньше помнил свое детство, близких, даже мать.
На полу пылал костер, и безжалостные руки толкали посвящаемого в пламя, пока обожженная кожа не покрывалась пузырями. Так начинался обряд посвящения, длившийся много дней. Жестокий обряд, знаменующий конец одной жизни — детской — и начало не знающей жалости взрослой жизни охотника и воина.
Где же это происходило? В Австралии, Африке, Океании?
И там, и там, и там! — отвечают этнографы, побывавшие в самых отдаленных уголках земли, где до наших дней, огражденные джунглями, или океаном, или льдами от остального мира, обитают первобытные охотничьи племена.
Конечно, совсем не у всех первобытных людей обряд посвящения был таким жестоким; не у всех, но у многих племен.
Часто мальчика уводили из селения скрытно. Но порой это совершалось при свете дня, и родные провожали его, как на смерть.
Вероятно, с самого рождения сына мать думала о том, что неотвратимо придет страшный день, когда ее навсегда разлучат с ним.
Табу, грозящее гибелью нарушителю тайны, скрывало обряд. И все-таки отрывочные рассказы доходили до поселка; слух матери должен был жадно ловить их. Может быть, так, из поколения в поколение, считают некоторые ученые, рождались волшебные сказки о Кощее и Бабе-Яге, родной сестре смерти.
В бессонные ночи рассказы оживали. Человеческое воображение не может жить без надежды, и в то, что мать узнавала, сами собой вплетались волшебные образы: «Мой мальчик уйдет далеко, его уведут. Сама смерть встретит его в лесной хижине и разожжет дрова в очаге, чтобы сварить моего ребенка, но он перехитрит смерть. Добрая волшебница заранее сунет ему горсть камушков в карман; незаметно бросая их, он отыщет дорогу домой».
Обряд посвящения должен был выжечь все доброе. Воображение матери могло и, как кажется мне, должно было чудесно преображать картины обряда.
... Сказка существовала, возникала, помнилась всегда, даже в самые трудные времена. И всегда будет существовать. Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер писал, что только человек умеет играть и только тогда он вполне человек, когда играет. Эта мысль очень нравилась замечательному советскому педагогу Василию Александровичу Сухомлинскому. Перефразируя ее, он как-то сказал, что есть нечто сестрински близкое между сказкой и игрой, что только человек умеет создавать сказки; и, может быть, он больше всего человек, именно когда сказку слушает, сочиняет или вспоминает.
Для Сухомлинского такая оценка сказки не была случайной. Она в основе его педагогических убеждений. Когда, тяжело раненный, он вернулся с войны в родное село, к нему, учителю, пришли ребята, перед глазами которых в годы фашистской оккупации раскрылись такие картины горя, жестокости, предательства, что многие из них забыли — а маленькие не успели усвоить — истинное значение основных слов и нравственных понятий: правда, любовь, вера, справедливость, надежда; понятий и слов, без глубокого и твердого — на всю жизнь — постижения которых человек не будет и не останется человеком.
День за днем, с утра и до вечера он проводил с этими душевно искалеченными шестилетними и семилетними детьми, уводил их в поле, к реке, в лес, в открытую им вместе с детьми таинственную пещеру и вначале просто (но это совсем не просто!) учил ребят смотреть на мир, даже не умом, а сердцем воспринимать гармонию и красоту природы. Красота, говорил Достоевский, спасет мир, она вернейший союзник добра и правды, как ложь неразделима с уродством жестокости и ненависти, порождает их; в этом был убежден и Сухомлинский.
Он учил детей смотреть на пробуждающийся мир и рассказывал им сказки, где, как всегда в сказке, справедливость побеждала; а в это время на их глазах утренний свет побеждал ночь.
Слова в его сказках словно сами поверяли детям свой вечный, не искаженный временными обстоятельствами смысл, одаряли их частицей народной мудрости. И постепенно, один за другим, дети сами начали рассказывать сказки, где добро и красота тоже побеждали. Им казалось, что они не выдумывают сказки, а вспоминают; казалось, будто они просыпаются от долгого и тяжелого сна. В этих сказках, с явлением их, дети действительно оживали, становились такими, каким должен быть ребенок.
Тот, кому доведется прочитать записанные Сухомлинским сказки шестилетних и семилетних детей, увидит, сколько мудрости, понимания и добра можно пробудить даже в раненой детской душе.
Да, сказки создавались и создаются не в какую-нибудь одну историческую эпоху, а всегда. Пушкин называл их «первоначальными играми человеческого духа».
Но вернемся к первобытному охотничьему племени, о котором велся рассказ. Жестокий обряд посвящения возник потому, что племя, защищаясь от хищных зверей и враждебных племен, добывая себе пищу в суровом первобытном лесу, должно было иметь охотников и воинов, не знающих страха. Жрецам представлялось, что нежность и любовь в сердце человека соперничают с бесстрашием воина; значит, надо как можно раньше уничтожить у человека эти чувства. Жрецы и вожди первобытных охотничьих племен не знали того, чему нас, их отдаленных потомков, научила трудная и кровавая история человечества: только люди с живой душой, идущие на бой во имя добра и справедливости, способны на истинный подвиг. Самопожертвование любви и самопожертвование на поле сражения рождаются из одного источника, питают друг друга.
Фашисты хотели воспитать поколения не знающих сострадания и жалости, презирающих человека бездушных зверей. Но в конце концов, после долгих лет борьбы, гибели миллионов людей, звериные фашистские армии ведь были побеждены.
... Матери первыми, еще в далекие первобытные времена, должны были понять непобедимую силу любви и поверить в нее. Спасая сказкой своих детей от отчаяния и безверия, они сберегли честь и душу племени, душу человечества.
Шли века. Охотники научились обрабатывать землю, выращивать полезные растения, а земледельцу необходима не жестокость, а любовь к природе.
Вспомним первые песни «Гайаваты». Мэджекивис отправляется в царство Северного Ветра на смертный поединок с великим медведем Мише-Моквой, перед которым трепещут все народы. Победив Мише-Мокву, он восклицает:
«Трус! Давно уже друг с другом Племена враждуют наши, Но теперь ты убедился, Кто бесстрашней и сильнее... Если б ты меня осилил, Я б не крикнул умирая, Ты же хнычешь предо мною И свое позоришь племя, Как трусливая старуха...»Мэджекивис не знает жалости и к поверженному, молящему о пощаде.
С давних пор люди убедились, что жестокость, овладев вначале лишь одним уголком сознания, постепенно подчиняет себе всего человека. Мэджекивис так же безжалостен к близким, как и к врагам. Вот он возвращается домой, покоряет прекрасную Венону, а потом коварно бросает ее.
«Недолго после билось сердце нежное Веноны: умерла она в печали» — рассказывает легенда.
Мэджекивис — герой охотников и воинов, тех, кого образ жизни, обряды и обычаи племени заставляли иногда забыть родной дом и родную семью.
Гайавата — сын Веноны и Мэджекивиса — совсем иной. Ни силой, ни храбростью он не уступает отцу и, встретившись с ним, чтобы отомстить за смерть Веноны, в честном бою побеждает Мэджекивиса. Это низкая ложь, будто храбрость и жестокость — братья, напоминает легенда. Гайавата стремится к справедливости, а не к убийству.
Мудрая его бабка Накомис воспитала в нем любовь ко всему живому на земле. Когда появлялась радуга, Накомис рассказывала внуку сказку о том, что это цветы, увянув на земле, снова расцветают на небе. Она научила его понимать говор птиц. Научила вечерней песне, которую любит сверчок Ва-ва-тэйзи:
Крошка, огненная мушка, Крошка, белый огонечек! Потанцуй еще немножко, Посвети мне, попрыгунья, Белой искоркой своею...Гайавата вырос и возмужал. Он молит небо:
Не о ловкости в охоте, Не о славе и победах, Но о счастии, о благе Всех племен и всех народов.Мольба Гайаваты услышана, и к вигваму его подходит стройный юноша Мондамин. Три дня борется Мондамин, посланец небес, с Гайаватой и, испытав его в благородном единоборстве, говорит:
«Завтра ты меня поборешь Приготовь тогда мне ложе Так, чтоб мог весенний дождик Освежать меня, а солнце — Согревать до самой ночи. Мой наряд зелено-желтый, Головной убор из перьев Оборви с меня ты смело, Схорони меня и землю Разровняй и сделай мягкой».Мондамин в его зелено-желтом уборе — это маис, это хлеб, мирная жизнь без убийств. Это новая эпоха в жизни человечества, с ее наступлением должны постепенно забыться такие обычаи, как обряд посвящения.
Сказка существовала и когда обряд посвящения был одним из законов жизни, а жалость, нежность, материнская любовь казались, вероятно, многим достойными осмеяния или даже презрения. В те жестокие времена она существовала скрытно именно для того, чтобы сохранить самые прекрасные человеческие чувства. Существовала как тайна между матерью и ее детьми. Чтобы у каждого человека, и прежде всего у ребенка, всегда оставалась надежда.
Ее сочиняли и рассказывали, повинуясь тому же вечному и непреоборимому порыву, с каким сказочная бушменская девушка забросила на небо золу от костра, чтобы возникли звезды, освещающие дорогу ночью.
Вот почему у сказки чаще всего счастливый конец.
Глава вторая. Сергей Тимофеевич Аксаков.
«Аленький цветочек»
В который раз я перечитываю чудесную старую сказку «Аленький цветочек», и каждый раз чувство, будто не только читаешь, но и слышишь ее. Это потому, вероятно, что слова в сказке особенные — задумчивые и протяжные, как в песне.
Помните? Собрался купец за море в тридевятое царство, в тридесятое государство и говорит дочерям:
— Коли вы будете жить честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, какие сами захотите.
Старшая дочь попросила золотой венец из каменьев самоцветных, чтобы было от них светло в темную ночь, как среди дня белого.
— Привези мне туалет из хрусталю восточного, цельного, беспорочного, чтоб, глядясь в него, я не старилась и красота моя девичья прибавлялася, — попросила средняя дочь.
А когда настал черед младшей дочери, она поклонилась отцу в ноги и попросила привезти ей аленький цветочек, которого не было бы краше на белом свете.
— Ну, задала ты мне работу потяжелее сестриных, — сказал отец меньшой дочери. — Аленький цветочек не хитро найти, да как же узнать, что краше его нет на белом свете?..
Так начинается долгая эта сказка. Много раз мальчиком Сергей Аксаков слушал ее, гостя в имении деда.
Шел снег, будто небеса рассыпались снежным пухом и наполнили воздух движением и поразительной тишиной. Начинались длинные зимние сумерки. Ключница Пелагея пряла и под жужжанье веретена вела рассказ.
Сама жизнь этой удивительной женщины походила на сказку, только очень нерадостную. Девушкой она вместе с отцом убежала из крепостной неволи от помещика, известного своей жестокостью, — из Оренбургских степей «за тридевять земель» — в Астрахань.
В низовья Волги стекались беглые крепостные и вольные казаки со всех концов России, приезжали купцы из Персии и Турции. Множество сказок жило в пестром скоплении выходцев из разных стран и разных губерний и переходило из уст в уста.
Однажды Пелагея проведала стороной, что хозяина ее уже нет на свете, а она по наследству перешла во владение Аксакова — помещика, как говорили, «строгого, но справедливого», и вернулась на родину: «Будь что будет».
Старик Аксаков «помиловал» Пелагею, а увидев ее «досужество», способность ко всякому мастерству, определил в барский дом ключницей.
В те далекие времена у царей, знатных вельмож, а нередко и у обычных помещиков были свои «бахари»—рассказчики сказок, — они заменяли книги. Старик Аксаков не спал по ночам, болел; Пелагея стала в его доме не только ключницей, но и бахаркой, ночи напролет неутомимо рассказывающей сказки: русская Шехеразада.
Наматывается на веретено, тянется, тянется нить, и сквозь надвигающуюся ночь, как сквозь полную горя жизнь рассказчицы, светящейся нитью прядется сказка. О том, как купец нашел в зачарованном саду среди дремучего леса аленький цветочек, сорвал его, но, откуда ни возьмись, появилось чудище — страшное, мохнатое, — и должен купец погибнуть, если одна из дочерей не пойдет жить к чудищу.
Старшая дочь красуется в самоцветном венце — она не пожертвует собой. И средняя дочь глядит не наглядится на себя в хрустальное зеркало — что ей до отца. Одна лишь младшая, любимая дочь, добрая и красивая, сразу решается.
Меньшая дочь очутилась во дворце, среди зачарованного сада, но все не видит хозяина — мохнатое чудище, — только чувствует нежность его, заботу и любовь. Ласка пробуждает сердце девушки, и она неотступно просит чудище показаться ей, а увидев его, находит силы сквозь страшный облик разглядеть и навеки полюбить добрую душу.
Да минует тебя чаша сия — смотреть на мир равнодушными глазами, отвечающими только на внешнюю красоту, — повторяет и повторяет сказка.
И вот уже чудесный перстень переносит девушку домой, чтобы она могла попрощаться с отцом и сестрами.
— Коли ты ровно через три дня и три ночи не воротишься, то не будет меня на белом свете, и умру я тою же минутою, по той причине, что люблю тебя больше, чем самого себя, и жить без тебя не могу, — сказало на прощание чудище.
Сестры позавидовали девушке и перевели стрелки часов так, чтобы они опаздывали на полчаса. Возвратилась она, а чудище лежит бездыханное, прижав к груди аленький цветочек.
Помутились очи у девушки, подкосились ноги, пала она на колени, обняла безобразную голову и взмолилась:
— Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя, как жениха желанного!..
Только прозвучали эти слова, затряслась земля от грома великого, и девушка упала без памяти. А очнувшись, увидела себя на золотом престоле. Рядом с ней принц молодой, красавец писаный...
Злая волшебница украла принца совсем маленьким и наложила заклятье:
— Жить ему в таковом виде, безобразном и противном, пока не найдется девушка, которая полюбит его в образе страшилища и пожелает быть его женой. Только тогда покончится колдовство.
Вот и покончилось оно.
Никто и ничто не победит злую колдунью, кроме любви, если она истинная и самоотверженная.
Сказка. Чего не выдумают сказочники... Но сказка не просто выдумка. Иначе почему еще с давних веков и в разных странах рождались сказки, такие близкие по замыслу и сюжету к «Аленькому цветочку»?
Сергей Аксаков уедет в Казань, поступит в гимназию, развернет вечером книгу «Детское училище», прочитает там сказку «Красавица и зверь», и сразу вспомнится «Аленький цветочек».
Уже после смерти Аксакова Александр Николаевич Афанасьев опубликует замечательное собрание русских народных сказок, и там окажутся две сказки о Финисте — ясном соколе: одна записана в Вологодской губернии, за тысячи верст от Оренбургских степей, вторая — на другом конце страны. И в этих сказках нельзя не признать «Аленький цветочек». Ничего по сути не меняется от того, что дочь купецкая просит привезти ей в подарок не цветок, а перышко Финиста — ясна сокола. Мечтает она тоже о том, что не продается, что для корыстолюбца лишено ценности.
Перышко Финиста — ясна сокола превращается в красавца жениха. Сестры дознались, что милый друг их младшей сестрицы, обернувшись соколом, улетает гулять в чистое поле, и понатыкали острых ножей и иголок на окне. Ночью сокол прилетел, бился, бился — не смог попасть в горницу, только крылья поранил.
— Прощай, красна девица! — сказал он, улетая. — Если вздумаешь искать меня, то ищи за тридевять земель, в тридесятом царстве. Прежде три пары башмаков железных истопчешь, три посоха чугунных изломаешь, три просвиры каменных изгложешь, чем найдешь меня, добра молодца!
И девушка идет за любимым, пусть хоть в железных башмаках, с чугунным посохом.
Об одном сказки — о чудесной силе девичьей любви. И так схожи герои, отношения их друг к другу; но, если подумать, совсем они разные. Могло ли чудищу из «Аленького цветочка» хоть на секунду прийти в голову жестоко испытывать свою красну девицу? Он бы на руках ее носил, как бы милая ножек не замочила в росе. Он — само добро, ласка, доверчивость.
... Следуя за сказкой, мы, будто владея тем волшебным перстнем, переносимся из Астрахани в Оренбургскую губернию, оттуда на север в Вологодчину и, странствуя уже не в пространстве, а во времени, — во второй век нашей эры, когда жил знаменитый писатель Луций Апулей.
Где, от кого услышал он сказку «Амур и Психея»? В Африке, в одной из тамошних римских колоний, где он родился, или в Риме, столице тогдашнего мира?
Давным-давно, далеко-далеко... Читаешь Апулея, и сквозь вереницу веков в повествовании, где действуют не простые, обычные люди, как чаще всего бывает в русских сказках, а языческие боги и богини, все явственнее слышится тот же «Аленький цветочек».
В некотором царстве жили царь и царица. Младшая из трех их дочерей была так прекрасна, что люди цепенели от изумления и воздавали ей божеские почести, точно самой богине Венере, — торжественной латынью повествует Апулей; мало кто из писателей древности умел, как он, становиться то величественным, то нежным, то насмешливым и язвительным.
Эта девушка была так хороша, что богиня красоты Венера позавидовала ее славе. Разгневанная, она позвала своего сына Амура, юного бога любви, и повелела ему отдать Психею в жены человеку столь незаметному, чтобы во всем мире не было равного по ничтожеству.
Но Амур не выполнил приказа матери. Он похитил Психею и поселил во дворце, где к ее услугам было все, что только можно пожелать.
Лишь одному священному запрету должна была подчиняться Психея: она не видела тех, кто прислуживал ей, не знала и своего властелина — он прилетал после заката и исчезал задолго до рассвета; она только слышала голоса невидимок.
Словно из наших дремучих лесов переносится дворец с его «невидимыми голосами» на теплый берег италийского моря и на небо к наивным языческим богам. И так же, как в нашей сказке, завистливые старшие сестры пытаются разрушить счастье младшей.
— Твой властелин — отвратительный змей, — нашептывают сестры любопытной и слишком доверчивой Психее, пока она не решается тайно зажечь ночью светильник.
Не уродливого змея, а самого прекрасного Амура видит Психея и горько раскаивается в том, что осмелилась нарушить запрет; но поздно — Амур покидает ее.
Неистовый гнев Венеры обрушивается на несчастную.
— Служанка, — презрительно говорит Психее Венера, высыпав на пол гору зерен пшеницы, ячменя, проса, мака, гороха и чечевицы, — ты так безобразна, что только рабской угодливостью можешь заслужить пищу и кров. Вот я и хочу испытать, годна ли ты хоть к чему-нибудь. Разбери до заката солнца по зернышку эту кучу семян.
... Тот, кто любит сказки, непременно заметил, что среди сказочных тайн есть и такая: к героям сказки — мальчикам с пальчик, когда им грозит гибель в избушке Бабы-Яги, к влюбленным, когда их пытаются разлучить злые силы, — в самый трудный момент на помощь приходят не только феи и волшебники, но и деревья, травы, цветы, птицы, звери.
Деревья, птицы и звери воюют на стороне добра, и в этом нет ничего удивительного: ведь и добрые люди всегда защищают живое.
Маленький храбрый муравей кликнул своих братьев:
— Пожалейте, проворные питомцы всеобщей матери-земли, милую девушку — она в опасности, бегите скорее на помощь!
Волна за волной спешат муравьи и, схватив каждый по зернышку, раскладывают их — горошину к горошине, маковинку к маковинке.
И муравей может быть сильнее Венеры, если богами овладевает низкое чувство мести, а он отстаивает справедливость, — из тьмы веков с еле заметной усмешкой напоминает богам и тем людям, которые возомнили себя богами, мудрый римлянин Луций Апулей.
Венера придумывает для Психеи новую труднейшую задачу:
— Видишь на той неприступной скале расселину, откуда вырываются темные волны родника? Из этого родника ты должна зачерпнуть кружку холодной воды и принести ее мне.
Никому из смертных не дано было напиться воды из гибельного источника. Даже богам, самому Юпитеру, страшен родник, питающий реку мертвых — Стикс. Но гордый орел явился на помощь Психее. Схватив из ее рук кружку, он летит к цели, избегая зубов грозных драконов, стерегущих источник.
Через все испытания проходит Психея и становится счастливой женой Амура. Юпитер, могущественнейший из богов, приказывает быстрокрылому Меркурию привести Психею в небесные чертоги. И когда красавица предстает перед Юпитером, он протягивает ей кубок волшебной амброзии:
— Выпей это, Психея, и будь бессмертна, и да не уклоняется Амур от твоих объятий, и да будет вечен ваш союз.
И героиня «Аленького цветочка» так же преодолевает все препятствия силой великой своей любви.
Так же — и по-другому. Она кажется старшей подругой юной и легкомысленной римлянки, хоть и родилась на века позже. В ней мудрость много пережившего человека. Недаром эта сказка была рассказана крепостной ключницей Пелагеей после стольких испытаний, перенесенных ею, и написана Аксаковым в старости, перед самым концом жизни.
... Честной купец дал свое благословенье дочери меньшой, любимой и молодому принцу-королевичу. И поздравили жениха с невестою сестры старшие, завистные, и все слуги верные, бояре великие, и кавалеры ратные и, нимало не медля, принялись веселым пирком да за свадебку, и стали жить да поживать, добра наживать.
Всё так же — и всё по-другому. Тут нет римского великолепия, нет богов и волшебного кубка амброзии. Но и тут бессмертие становится уделом красной девицы. Она получает его силой творческой памяти народа и талантов сказителя и писателя; ведь вот сколько лет прошло с 1858 года, когда сказка впервые была напечатана, сколько поколений сменилось, а «Аленький цветочек» так же волнует душу.
Сказки, сходные по сюжету и по мысли, появляются иногда независимо друг от друга, в разных странах, потому что во всем мире есть девушки, любящие так же беззаветно, как героини сказок.
И сказки не забываются, а живут столетия, даже тысячелетия, ни на день не старея, потому что не исчезает, и не стареет, и никогда не исчезнет один из самых прекрасных человеческих талантов — способность самоотверженно любить.
Первые годы
В день шестилетия своей младшей любимой внучки Оли Сергей Тимофеевич Аксаков в поздравительных стихах обещал написать для нее к следующему дню рождения маленькую книжку: «Про весну младую, про цветы полей, про малюток птичек, про гнездо яичек, бабочек красивых...»
Так была задумана одна из самых замечательных книг о детстве — «Детские годы Багрова-внука». Книга получилась очень большая, и работа над ней заняла не один год, а целых четыре.
Только начало жизни описано в «Детских годах». Восьми лет Сергей Аксаков уехал в Казань, поступил в гимназию, и с той поры числил уже не детство свое, а отрочество.
Вспомните, как второклассника принимают в октябрята. Его просят рассказать о себе. Мальчик говорит, кем работают отец и мать, сообщает, когда он родился, и смущенно замолкает: «Вот и все». Учительница и ребята улыбаются, понимая, что больше рассказывать не о чем. Какие «события» в жизни восьми летнего человека?! Но перечитайте «Детские годы». Когда читаешь эту книгу, и собственное твое детство непременно всплывает из прежде тебе самому неведомых тайников памяти — всплывает, оживает... Перечитайте эту мудрую повесть, подумайте, и вы поймете, что одно событие, и, может быть, важнейшее во всей жизни, — за плечами восьмилетнего ребенка: он стал человеком. Что может быть значительнее? Как становятся человеком? Об этом и рассказывает книга Аксакова.
Взгляните на пойменный луг в апреле, когда схлынуло половодье. Черная безжизненная земля — больше ничего. Но мы знаем, что в земле посеялись семена множества трав, полевых цветов и даже деревьев. Настанет срок, пригреет майское солнце, и, как сказал поэт Багрицкий, «пойдет в наступленье свирепая зелень»; свирепая не потому, что злая, а потому, что стремящаяся к свету вопреки всем препонам.
Так и жизнь восьмилетнего человека взгляду постороннего наблюдателя, да и самому внутреннему взгляду ребенка может показаться однообразным полем; а на деле она переполнена: уже все главное посеяно. Год за годом это главное будет просыпаться, всходить, обнаруживать себя.
Жизнь Сергея Аксакова началась тяжелой болезнью, которая продолжалась так долго, что знакомые говорили матери Сергея:
— Перестань мучить дитя; ведь уж и доктора и священник сказали, что он не жилец. Покорись воле божией...
Может быть, именно тяжелая болезнь сделала так, что первым и самым сильным чувством, зародившимся в Сережиной душе, была доходившая до болезненной остроты жалость ко всему страдающему и слабому.
Вспоминая об этом в старости, Аксаков писал, что чувство жалости прежде всего обратилось на маленькую сестрицу: «Я не мог видеть и слышать ее слез или крика и сейчас начинал сам плакать».
Мать не покорялась злой воле природы. Просыпаясь среди ночи или приходя в сознание после обморока, Сергей видел тревожные и нежные глаза матери. Все живое на земле создано солнечным теплом; мальчик не мог бы выразить этого словами, но чувством он понимал, что все живое в нем даровано и сохранено материнской самоотверженностью.
Так рано, прежде и могущественнее всего иного, вместе с жалостью в его сердце поселилась любовь.
Когда Сергей чувствовал себя хорошо, его вместе с младшей сестренкой сажали в коляску и возили по саду, примыкающему к дому Аксаковых. Сад небогатый, но там были цветники с ноготками, шафранами и астрами, кусты смородины, крыжовника и барбариса, редкие яблоньки; в положенный срок набухали и лопались почки, и в положенный срок летели несомые осенним ветром желтые и красные листья, а над ними торопились неизвестно куда птичьи стаи и облака.
Взрослые подсчитали, что Сергей изъездил по этому саду больше пятисот верст.
«Величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу», — писал он, благодарно вспоминая эти путешествия через много десятков лет.
Как-то, сидя на окошке, Сергей услышал в саду жалобный визг и стал просить мать, чтобы послали посмотреть, кто это плачет.
— Верно, кому-нибудь больно.
Дворовая девушка побежала в сад и вернулась, неся в пригоршнях крошечного, еще слепого щеночка. В мире мальчика поселилась неказистая дворняжка Сурка — существо, так же зависящее от его заботы, как он сам зависел от взрослых. Сестренке Сергей мог только сострадать — жалеть ее, плакать вместе с ней, когда она плачет, — Сурку он учил, кормил, оберегал. Это один из важнейших моментов в жизни — когда любимый сам становится любящим, тот, кого ласкают, сознает самого себя дарителем тепла. Вместе с этим ответственность и чуткость входят в сознание человека.
Вечерами няня рассказывала Сереже сказки. Сказки были страшные, и он плакал. Мать прогнала няню, но она ночами прокрадывалась к детям, которых очень любила, ласкала их и вся в слезах снова шептала свои сказки.
Почему это: — человек любит, а рассказывает страшное?
Потом, уже под старость, в жизнь Аксакова войдет Гоголь, станет для него одним из самых почитаемых людей на земле; был ли писатель, больше Гоголя любивший Россию, и был ли писатель, сказавший своей стране что-либо горше, чем «Мертвые души» и «Ревизор»?! Он говорил о страшном потому, что видел его, и на все сущее душа его не могла не отозваться — иначе она была бы подслеповатой, немощной.
... Когда Сережа капризничал, его выносили из дому и сажали в распряженную карету. Почему-то он сразу успокаивался. Карета стояла на месте, но если на секунду закрыть глаза и снова взглянуть, все представлялось иным. То блещущим бессчетными каплями росы, то сумрачным и задумчивым, оттого что солнце застлала туча. Иногда все менялось, потому что близко на ветку села птица: вертит головкой, смотрит, щебечет — говорит по-своему.
И вот уже жарким июльским утром в карету впрягают лошадей, и начинается настоящее путешествие. Не то — по саду, вокруг городского дома, — а такое, где за далью открывается новая даль, и каждый раз совсем другая; линия горизонта, тонувшая в степном разнотравье, сливается с грядой леса, а потом проваливается за темную крутизну, как за край земли.
Подъезжаешь ближе, и оказывается, что никакой это не «край земли», а полноводная река в крутых берегах.
Кормчий громко скажет: «Призывай бога на помощь!» — и лодка заскользит по вертящейся быстрине. Когда переезжали реку Белую, Сергей был так потрясен, что не мог выговорить ни слова.
— От страха язык проглотил, — смеялись отец и мать.
Но мальчик был подавлен не страхом, а новизной впервые открывающегося перед ним — величием красоты: слова придут позже. Он как бы захлебнулся этой красотой.
И сколько же лет должно будет миновать — вся жизнь! — пока то, что ворвалось в душу, осознается, ровно и радостно заполнит его существо.
Из Уфы, из своего городского дома, они ехали в имение деда.
Потом все детство будет пронизано дорогой, путешествиями. Поездками в дальние села к родным. Переправами через Белую и Волгу. Путешествиями в весну, осень, лето и зиму, путешествиями в ближний лес, где чудес не меньше, чем в тысячекилометровом пути, и на реку, на болото, в поле.
Лес, когда мальчик впервые войдет в него, оглушит шумом деревьев, разноголосым птичьим пением, таинственными шорохами. Не сразу, но в конце концов он научится разбирать в слитной, летучей, со всех сторон несущейся музыке даже едва слышный звук и словами воскресит этот звуковой поток, да так, что вот уже больше ста лет он льется со страниц книг Аксакова.
Прислушайтесь, говорит писатель: токуют тетерева, пищат рябчики, воркуют, каждая по-своему, все породы диких голубей, взвизгивают и чокают дрозды, зазывно-мелодически перекликаются иволги, стонут рябые кукушки, постукивают, долбя деревья, разноперые дятлы, трубят желны, трещат сойки, свиристели, лесные жаворонки, дубоноски.
Какая же сила в слове, если по воле мастера оно может трубить, стонать, чокать, трещать, петь десятками несхожих птичьих голосов так, что музыка нехоженого леса входит в тебя и остается навсегда.
Он увидит весенний перелет птиц тех давних лет нетронутой природы, когда, по выражению его дядьки Евсеича, «всякая птица валом валит без перемежки», и потом так опишет это исчезающее в наши дни чудо: «В самом деле, то происходило в воздухе, на земле и на воде, чего представить себе нельзя, не видавши... Река выступила из берегов... слилась с озером Грачёвой рощи. Все берега были усыпаны всякого рода дичью; множество уток плавало по воде между верхушками затопленных кустов, а между тем беспрестанно проносились большие и малые стаи разной прилетной птицы: одни летели высоко, не останавливаясь, а другие — низко, часто опускаясь на землю; одни стаи садились, другие поднимались, третьи перелетывали с места на место: крик, писк, свист наполняли воздух. Не зная, какая это летит или ходит птица, какое ее достоинство какая из них пищит или свистит, — я был поражен, обезумлен таким зрелищем».
Только то, что с силой потока ворвалось в тебя, перевернуло в тебе все, обезумлило, — сохранится и, может быть, вобрав частицу твоей души, когда-нибудь воплотится в творчестве.
Мальчик был обезумлен природой.
... Во времена детства Аксакова в русской литературе еще преобладали цари, царедворцы и победоносные военачальники. Они были героями «Россияды» Михаила Хераскова, воспевающей покорение Грозным Казанского царства, трагедий Александра Сумарокова и множества других сочинений.
Пушкин и Гоголь продолжили и завершили движение к обычной жизни, к обычному человеку, которое начали предтечи их, великие русские писатели восемнадцатого века — Гавриил Романович Державин в лирических стихах, Денис Иванович Фонвизин своей сатирой, Александр Николаевич Радищев горьким и страстным обличением несправедливости современного ему общества.
Они — Пушкин и Гоголь — как бы застроили тогда несколько пустынную литературную Россию обычными городами и селами, от солнечного села Диканьки до села Горюхина, которое иначе и не назовешь, от губернского города N, куда въезжает на своей бричке Чичиков, до Петербурга с его Медным всадником.
И какими же удивительными оказались эти города и села!
Пушкин и Гоголь заселили литературную Россию людьми из народа, говорящими не придворным, а обычным языком; туда вошли чернобородый, со сверкающими глазами Пугачев, и такой совсем неприметный, на взгляд иного даже ничтожный человек, как Акакий Акакиевич Башмачкин, вошел и Ноздрев, и несчастный Евгений, бросивший вызов медному кумиру и растоптанный им.
И когда они возникли в литературном мире, стало очевидно, что в судьбе Акакия Акакиевича Башмачкина, которому до ужаса не повезло с его новой шинелью, истинно трагического неизмеримо больше, чем во всех высоких трагедиях Сумарокова.
Пушкин и Гоголь избороздили Россию дорогами и проселками на всем необъятном протяжении страны — от «финских хладных скал до пламенной Колхиды». По сторонам раскинулись степи и леса. Дороги пересекли реки — и такие, что, по образному слову Гоголя, редкая птица долетит до середины течения.
На долю Аксакова выпало внести новую важную черту в реальную картину России, создаваемую литературой: заселить реки, степи, болота и леса рыбой, птицами, зверями.
Он и совершил это в «Записках ружейного охотника Оренбургской губернии», в «Записках об уженье рыбы» и в очерке «Собирание бабочек». Он заселил литературную Россию всем, что порхает, летает, плывет по рекам, рыщет в лесах, одарил ее «аленьким цветочком» живой природы, по которому она так тосковала.
Он завершил этот труд, поселив в лесах, рядом с птицами и зверями, сказку с ее чудищами и красавицами.
Так, почти натуралист, он стал почти волшебником. Вернее сказать, не «почти», а особым натуралистом и особым волшебником. Он был не обычным, а особым натуралистом потому, что заселил землю не тем зверьем, какое изучает ученый, а преображенным взглядом поэта.
Вот болотный кулик, с желтовато-красноватым оперением, длинноногий, крик которого иногда странно похож на слова «веретен, веретен», отчего и произошло другое его имя — «большой веретенник». Обычный кулик, но послушайте, что рассказывает о нем Аксаков: «Едва только приближается охотник или проходит мимо места, занимаемого болотными куликами, как один или двое из них вылетают навстречу опасности... Болотный кулик бросается прямо на охотника, подлетает вплоть, трясется над его головой, вытянув ноги вперед, как будто упираясь ими в воздух... Самки и самцы, сидящие на яйцах, не слетают с них, пока опасность не дойдет до крайности. Охотник вступает в болото и, по мере того как он нечаянно приближается к какому-нибудь гнезду или притаившимся в траве детям, отец и мать с жалобным криком бросаются к нему ближе и ближе, вертятся над головой, будто падают на него».
Часто говорят: только вначале все интересно, в диковинку. А на самом деле чем дольше, чем внимательнее глядишь, тем больше удивительного проступает в окружающем, так что, в конечном счете, не остается ничего, что можно было бы по справедливости назвать обыкновенным.
Если уметь видеть.
Дикая утка села в прибрежных тростниках и засунула голову под крыло — спит. Красавец селезень поглядел-поглядел на подругу и тоже уснул. Но лишь только это произошло, утка стала крадучись пробираться подальше от селезня — тихонько, мелкими шажками. Она только притворилась спящей. Наступило время нести яйца и высиживать утят. Инстинкт продолжения рода и материнский инстинкт заставляет утку ускользать от себялюбивого, равнодушного к потомству селезня. Еще несколько секунд, и утка полетела — низко над озером, выглядывая безопасное место для гнезда.
День за днем она будет бессменно высиживать своих птенцов — голодная, перья да косточки, потерявшая всю свою красоту. И если близко подберется охотничья собака, утка-мать подлетит к ней, притворяясь раненой, вспорхнет из-под носа пса и так, рискуя жизнью, уведет врага от гнезда.
Часто люди говорят — «зверский поступок». Аксаков был одним из тех, кто показал, что, в сущности, звери почти никогда не совершают «зверских поступков» — им несвойственна бессмысленная кровожадность.
Он написал, как считается, одну-единственную сказку «Аленький цветочек», но сколько еще сказок благородства и самоотвержения подсмотрел он в природе и рассеял по своим сочинениям.
Он был особенным волшебником, потому что волшебники обычные если уж создают чудище, то злое, а в его чудище все время угадывается ясный и чистый человек; и в сказочном дремучем бору он видит ласковый, так им любимый русский лес.
... Зимой в Уфе к Сереже Аксакову стал ходить Матвей Васильевич, преподаватель народного училища, и учить его чистописанию. Чтобы Сереже было не так скучно, ему подыскали товарища, мальчика Андрюшу из соседской бедной семьи. По окончании уроков учитель ставил в тетрадях отметки: «посредственно», «не худо», «изрядно», «хорошо», «очень хорошо», «похвально».
И вот Сережа заметил, что, если даже они оба с Андрюшей писали одинаково неудачно, отметки ставились разные. Ему — «не худо», а Андрюше — «посредственно». А если прописи обоим удавались, Сергей получал отметку «очень хорошо» или «похвально», а Андрей — просто «хорошо». И так повторялось всякий раз; Сергей стал думать об этой странности и нашел только одну разгадку:
Верно, учитель меня больше любит. И конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпучился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу».
Первое смутное сознание неравенства и несправедливости осветило и одновременно тучей застлало душу мальчика. Это важнейший момент в жизни человека, а особенно одаренного писательским даром, потому что именно сознание несправедливости и желание сделать мир разумнее — едва ли не главная побудительная причина творчества.
Однажды Матвей Васильевич повел Сережу в народное училище. Тут учитель, прежде казавшийся добряком, странно изменился. Даже голос у него стал другим, с каким-то неприятным, угрожающим напевом.
Мальчик, вызванный к доске, не мог ответить урока.
— Не знаешь? На колени! — крикнул Матвей Васильевич.
По окончании урока трое сторожей, вооруженных пучками прутьев, принялись сечь мальчиков, стоявших за доской.
Об этом дне, запомнившемся навсегда, Аксаков писал впоследствии: «Слишком рано получил я это раздирающее впечатление и этот страшный урок! он возмутил ясную тишину моей души».
Но точно ли — «слишком рано»?! Душа воспитывается не одной любовью и красотой! Не сами «страшные уроки», а только равнодушие к ним смертельно опасны уму и таланту.
Мальчик рано увидел, что люди вокруг делятся на свободных и крепостных. Добрая бабушка может ударить дворовую девочку, чем-то ей не угодившую; добрая — да не всегда и не ко всем.
И свободные тоже делятся на таких, как он сам, его мать, отец, знакомые, и таких, как Андрюша; этих последних позволительно и выпороть, на них смотрят иначе, с ними говорят «другим» голосом. И дело вовсе не в том, что у Андрюши бельмо, похожее на белую пуговицу. Другое бельмо, клеймо, невидимое на первый взгляд, но которое непременно нужно понять, определяет Андрюшину судьбу.
Раз проснувшись, светлый и печальный интерес к народной жизни не угаснет; можно закрывать глаза на неправду — иные так и поступают, — но это все равно, что жить слепым и вместе с совестью похоронить свой дар.
От дворовых Сережа Аксаков услышит рассказы о своем незадолго до того убитом родиче, помещике-крепостнике Куроедове — изверге, который запарывал непокорных. Потом Аксаков напишет о нем, и этими правдивыми страницами внесет свою долю в понимание бесчеловечности рабства. А через много лет, при первых вестях о готовящемся освобождении крестьян он напишет стихотворное послание России, где есть такие строки:
С плеч твоих спадает бремя, Докажи, что не рабой Прожила ты рабства время... Покажи нам, как оковы Скинешь ты с могучих ног, Как пойдешь ты в путь свой новый, Как шагнешь через порог...В жизнь мальчика рано входят книги. Он жадно читает всё, что попадается ему.
Детские книги в те времена были редкостью; вперемежку с «Зерцалом добродетели», со сказками «Тысячи и одной ночи» и томиками «Детского чтения» мальчик читал распространенный тогда «Домашний лечебник» Бухана.
Чтение пробудило тягу к сочинительству. Обо всем, что он услышал или прочитал, по-своему пересочиняя, мальчик рассказывал сестренке.
Рассказывал ей о том, что в доме был пожар, а он выскочил из окошка с двумя детьми. При этом Сергей хватал сестриных кукол — они должны были изображать детей, спасаемых из пламени, — и, волнуясь, почти веря своей выдумке, играл в пожар; вместе с писательским в нем пробуждался артистический дар — долгие десятилетия эти два искусства боролись за его душу.
Он рассказывал сестре, что в саду дедушкиного дома — пещера, там обитает Змей Горыныч о семи головах; но он отрубит у змея все семь голов.
Сестричка пугалась; одну ночь она худо спала, просыпалась, плакала. Он жалел ее, но втайне гордился тем, что выдуманные им истории так волнуют. Он начинал предчувствовать «силу слов» — своих, рожденных собственным воображением.
Уже все главное для человека, или почти все, поселилось в его отзывчивой душе...
Вот ведь Пушкин так рано, еще в отрочестве, почувствовал неодолимую потребность не просто рассказывать, а писать, слагать стихи. Рифмы, строки хлынули на бумагу бурным потоком, и этот поток иссяк только со смертью. И другой великий современник Сергея Аксакова, Гоголь, юношей вошел в литературу «Вечерами на хуторе близ Диканьки».
Но может быть и иначе.
Бывает так, что человек после детства как бы разминется с самим собой и всю жизнь будет искать себя, свою судьбу. Счастье, если после многих испытаний он ее найдет.
Все уже с детства жило в Аксакове, но, чтобы вырваться на волю, пережитое должно быть воплощено в словах. Самая прекрасная картина, возникнув В воображении художника, никогда не станет существовать для других, если у художника нет красок. Слово — краски писателя. И, казалось бы, эти краски везде, слово звучит в воздухе, оно рядом, почти с самого рождения оно сопровождает тебя. Но попробуй настигни его, узнай его тайну, подчини своим замыслам.
Это было памятное время, когда в России окончательно складывался литературный язык. То, каким он утвердится, решало, сможет ли литература рассказывать не одно лишь приятное, но даже горькое и страшное, когда оно есть, — а только такая литература достойна имени народной.
И решало, ограничатся ли владения литературы светскими салонами, или она перехлестнет стены бальных залов и хлынет в просторы губернской, уездной и сельской России, чтобы там соединиться с давно уже существовавшей устной народной литературой — песенной, сказочной.
И надолго, даже навсегда, определяло судьбы русской сказки и ее творцов. Именно поэтому кажется необходимым прервать здесь повествование о жизни Аксакова, чтобы вспомнить о муках слова, переживавшихся Россией и ее писателями в годы, когда созревал талант замечательного сказочника. Судьбы языка и сказки неразделимы.
Муки слова
Споры шли о самом главном, и это придавало им яростную ожесточенность.
Писатель и государственный чиновник Александр Семенович Шишков, один из первых литературных учителей Аксакова, высмеивал поклонников изысканного «штиля», которые вместо «деревенским девкам навстречу идут цыганки» предпочтут написать «пестрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит».
Но издеваясь, и справедливо, над салонным языком, Шишков не хотел и торжества языка простонародного. Он писал: «Расинов язык не тот, которым все говорят, иначе всякий был бы Расин». Для предметов важных язык должен иметь «тысячи избранных слов, богатых разумом, звучных и совсем особых от тех, какими мы в простых разговорах объясняемся».
Как-то Аксаков посетил своего наставника. Шишков был уже стар, болен, плохо видел. В комнате находилась девушка необыкновенной красоты. Когда она вышла, хозяин вслед ей грустно сказал:
— Скверное, брат, положение: не могу различить прекрасной женщины от урода.
Хуже было то, что прекрасных слов, простых и естественных, от слов неживых Шишков тоже не умел с точностью отличать во всю свою жизнь. И это передавалось тем, кто верил в него.
В поисках языка не салонного и не простонародного, а достойного высокой поэзии Шишков и его предшественники и последователи с надеждой обратились к церковнославянскому; из-за этого глубокого пристрастия к славянской старине их стали называть славянофилами или славянороссами.
Церковнославянский язык, говорили они, истинный предтеча народного языка, родник, из которого живая речь берет начало. На севере принято вокруг родника ставить сруб; никто не живет в прохладном строении, лишь источник журчит, выбиваясь из камней. Церкви, по мнению славянороссов, хранят в неприкосновенности источники слова: войди, говорили они, и напейся. В народе слово разменялось на мелкую монету, истратилось на повседневные нужды, в салонах оно искажено чужеземными модами — только в храме, постоянно обращенное к предметам высоким, слово осталось прежним.
Но постепенно ученые выяснили и доказали, что церковнославянский — не отец русского народного языка, а, скорее, двоюродный брат его, очень изменившийся и что-то потерявший, по обстоятельствам судьбы, из прежней живой прелести. Когда после крещения Руси сотни проповедников хлынули в нашу страну со славянского юга, где христианство укоренилось раньше, главным образом из Болгарии, вместе с богословскими книгами они принесли родственный русскому южнославянский язык.
Он стал языком проповедей и обрядов, а кругом продолжала жить стихия народной речи — древняя и бессмертная.
Народная речь менялась по мере движения истории, как человек от детства к отрочеству, к юности и зрелости, вбирала в себя большие и малые притоки. Но не грязнилась этим, а, напротив, становилась богаче, сохраняя древнюю основу.
Века монголо-татарского ига оставили в народной речи, как рубцы, слово «кнут», слово «палач», которое произошло от «пала» — нож.
Уже давно была уничтожена опричнина, умер царь Иван Грозный, но слово «опричник» — человек злой, беспощадный, не признающий никакого закона, — осталось.
Так в годы испытаний и в годы спокойного существования рос и растет живой русский язык: вечно, сотнями молодых побегов.
И церковнославянский не был неизменен, но он менялся по-другому.
Шишкову казалось, что слова живут за монастырскими стенами, как в заколдованных, спящих замках: слова-красавицы не стареют, слова-воины блещут золотыми доспехами. Стоит только пробудить и вывести в поэзию эту армию, и какие же звучные, «важные», высокие стихи сами собой польются из-под пера.
Но на самом деле все обстояло по-иному. Уйдя от солнца в подземелья и пещеры, кроты и летучие мыши в сотнях сменяющихся поколений теряют зрение: оно не нужно в темноте, а природа по-хозяйски отбрасывает лишнее. Нечто вроде частичного ослепления происходило и в церковнославянском языке. Ведь на этом языке бабушки не рассказывали внукам сказки, матери не пели колыбельные, влюбленные не искали в нем нежных слов. И получалось, что ласковые слова, которые раньше были в южнославянском, как во всяком живом языке, стали забываться, когда язык этот превратился в церковный. Язык — это уши, сердце и глаза народа, и вот глаза перестали видеть простую жизнь, а сердце откликаться на простые человеческие чувства.
Зато множились в нем слова торжественные, важные, пышные, которые гремели в богословских книгах. Талантливые проповедники вносили в этот язык слова, как бы сотканные из пурпура и золота; слова эти прекрасны, когда хочешь описать царские чертоги, величие богов, земных и небесных, пышные празднества, но они бессильны передать прелесть обыденной жизни.
Поэты, которые шли дорогой славянороссов, даже когда писали они на обычном русском языке, только несколько архаичном, обогащенном словами древними и вышедшими из обихода и словами славянскими, невольно подчинялись самому строю по-своему прекрасной и величественной музыки церковнославянского языка.
Она диктовала направление их творчества. Чуть ли не главным и самым любимым жанром у них становится ода, где основное вдохновляющее чувство — восторг, а основной тон — восхваление царей и знатных царедворцев.
На перекрестке трех дорог, как богатырь в былинах, стояла литература. Направо пойдешь, и о тебе будут говорить в свете, будут тебя читать вечерами воспитанные люди, чтобы с приятностью уснуть. Путь гладкий, заманчивый, но если у писателя истинный талант, вспомнятся ему строгие слова Пушкина о том, что Мильтон и Данте писали не для благосклонной улыбки прекрасного пола.
И даже против воли, может быть, больно уколет сердце мысль, которую так гордо и мужественно выразил поэт Яков Петрович Полонский:
Писатель — если только он Волна, а океан — Россия, Не может быть не возмущен, Когда возмущена стихия. Писатель, если только он Есть нерв великого народа, Не может быть не поражен, Когда поражена свобода.И лишь только эта мысль, это властное чувство возникнет в человеке, он непременно свернет с паркетно-гладкого пути на непроезжую, ухабистую дорогу, которая, по выражению Гоголя, пишет «чушь и дичь» между нищими деревеньками и помещичьими усадьбами.
Выберешь вторую дорогу — одическую — и завоюешь расположение уже не одних милых женщин, а вельмож.
Дорога эта высокая, по горным пикам; от одной исторической победы к другой понесет тебя птица поэзии, останавливаясь, чтобы поклевать корма в царских хоромах. Но не открывай глаз и не гляди вниз. Бросишь ненароком взгляд и далеко-далеко внизу в тумане увидишь обычную жизнь, вспомнишь, что сам ты тоже рожден обыкновенной матерью, и такая тоска по близким хлынет в тебя, что возьмешь и прыгнешь со спины царственной птицы, плавно парящей чуть пониже солнца, но много выше утонувших в снегу деревенек. Прыгнешь — не рассуждая, не давая себе времени поразмыслить — и разобьешься; насмерть, может быть. Или, плотнее закрыв глаза, подавишь непрошенную тоску, и если оглянешься, то только опускаясь у новой царственной вершины.
Но есть еще третий путь — писать языком, созданным народом, совсем не думая, чье расположение заслужишь.
Легко ли — не думать об этом!
В первой половине девятнадцатого века, когда созревал талант Аксакова, как и во второй половине века восемнадцатого, русская литература проходила школу овладения языком. Она преодолевала тесные рамки поэзии Тредиаковского, где беспомощно, словно в клетке, билась живая мысль, семимильными шагами шла к Державину, а затем — к Пушкину, Лермонтову, Гоголю.
Трудна дорога познания народного языка. Надо было собрать пословицы, загадки, песни, сказки, созданные за долгие века.
Но прежде всего предстояло услышать и записать (и понять их глубинный смысл) слова, которые раньше звучали в устной речи по всей России, но не проникали в книжную литературу и не воспринимались слухом салонных писателей. И тут кажется совершенно необходимым, пусть хоть очень коротко, вспомнить научный подвиг Владимира Ивановича Даля, оказавшего такое огромное влияние и на Аксакова, и на всех других русских сказочников и собирателей сказок.
Муки слова (продолжение). Владимир Даль
Отец Владимира Даля, датчанин, известный в своей стране ученый книжник, отправился в Россию, приглашенный для работы в петербургских библиотеках. Легко вообразить, как во время долгой дороги этого талантливого, очень чуткого человека постепенно охватывало и чувство любви к неведомой для него стране, и сознание того, что тут, в нищих деревнях и городах, более необходим врач, чем библиограф. Он уезжает в Германию учиться новой профессии и возвращается в Россию уже как домой, на родину, врачом.
Сын унаследовал от отца избранную тем специальность. Но вместе с медициной он перенял и любовь к слову.
Владимир Даль путешествует по всей стране — от северной лесной и озерной Карелии, где старики помнят и поют древние руны, до берегов Черного моря, до Средней Азии. Он участвовал в Русско-турецкой войне, служил чиновником особых поручений в Оренбургском крае, «отходил» Хивинский поход, служил управляющим удельным ведомством в Нижнем Новгороде. Но на какой бы службе он ни состоял, главным в вечных разъездах, от юности и до смерти, оставалось собирание слов.
Как орнитолог никогда не забудет первую открытую им разновидность птиц и ботаник — первое неизвестное растение в своем гербарии, Владимир Даль не забыл, как в самый год окончания Морского корпуса восемнадцати летним юношей записал первое «дикое», то есть прежде не известное ученым слово «замолаживает».
— Я убедился вскоре, — говорил он, — что мы русского языка не знаем, и не пропускал дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение моих запасов.
Вслушаемся вместе с Далем в слово, с которого началась его работа собирания богатств русского языка: «Замолодить пиво, мед, приводить в винное брожение хмелем, навеселить», — объясняет Даль.
Но вот в Орловской, Тульской и других центральных губерниях бытует другое, на первый взгляд даже противоположное, понимание слова: «замолаживать» там — это пасмурнеть, заволакиваться тучами, клониться к ненастью.
В чем секрет такой многозначности? — пытается разгадать Даль.
Потом все слова, все шестьдесят тысяч собранных им «диких» слов, он будет воспринимать как тайны. И будет искать отгадки тайн в пословицах и поговорках, в сказках, где слово раскрывается в самом чистом своем значении.
«Замолаживает» — это не вообще ли к перемене погоды, от «молодик» — молодой месяц?» — думает он.
Может быть, «ненастное» значение усваивается словом от того, что бродящий мед теряет ведь прозрачность, бурлит, в нем, словно в непогодном небе, копятся буйные силы.
Собирание слов могло бы остаться только одним из видов коллекционирования, если бы не созрела к этому времени — особенно после Отечественной войны 1812 года — великая потребность в познании всех тайн языка.
«А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладой он к ней прислушивался, — вспоминал впоследствии Даль вечера, когда читал поэту свои записи. — Как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания своим шумным взрывом одобрения и острых замечаний и сравнений...
Пушкин, по обыкновению своему, засыпал меня множеством отрывочных замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, в каждом из нас на языке вертится, только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе; и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать?.. Надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще. А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет...»
Как-то во время Хивинского похода, трудного и несчастливого, пропал верблюд, навьюченный багажом Даля.
Люди, видевшие отчаяние Даля, сочувствовали ему, но в меру: имущество — дело наживное. Они не подозревали, что верблюд нес через пески бесценный груз — записанные на листках бумаги слова, почти десятую часть словарного запаса, которым владела страна; большинство этих слов впервые должно было выйти в мир. В конце концов драгоценный груз отыскался.
Собирая слова, можно их сортировать согласно строгим законам грамматики, засушивать, как ботаники засушивают листья и цветы.
Даль сберег слова так, как он их услышал, в живой речи. Слова у него как бы дышат. Вот слово «конец» — сколько граней у него открыл народ! «Начало трудно, а конец мудрец», «Любовь — кольцо, а у кольца нет конца».
Или слово «лицо». «Не пригож лицом, да хорош умом», «Лицом в грязь не ударим», «С личика яичко, а внутри болтун», «Личиком беленек, да душой черненек».
К шестидесяти тысячам слов, которые были в первом словаре русского языка, изданном Академией наук, Даль прибавил еще шестьдесят тысяч, то есть удвоил запас слов. Умирая, он просил записать пять слов, которые кто-то произнес при нем; это было чуть ли не последнее его желание.
Но собрать слова — еще не значит научиться правильно и точно использовать их в литературной речи.
Великим писателям девятнадцатого века, прежде всего Пушкину и Гоголю, выпало на долю завершить многовековой труд создания литературного языка, способного выразить все, чем живет человек. Вот теперь писатель действительно становился волной в океане народной жизни, отзывающейся на каждое движение его — бурное ли или мирно-ласковое; он мог стать и грозной волной, которая сама зачинает бурю.
Язык вобрал в себя все лучшее, что накопила устная и литературная речь. В «Полтаве» Пушкин описывает Петра Великого на поле боя, где решалась судьба России: «... Лик его ужасен... Он весь, как божия гроза». Слово «лик» пришло из старославянского. Лик этот ужасен; но слово «ужасен» в стихе приобретает новый смысл — ужасен и прекрасен одновременно, ужасен для врага; стих как бы освещен ослепительными молниями, заревом битв, этой самой божьей грозой.
Николай Первый взял на себя обязанности цензора пушкинского творчества. Прочитав поэму «Медный всадник», царь сделал ряд замечаний: тут — переменить слово, там — выбросить несколько строк... В гениальной поэме Пушкина сталкиваются два героя: царь Петр, могучая держава, волю которой он воплощает, и Евгений — маленький чиновник, ничем не замечательный, мечтающий об одном: честно прожить свою жизнь с Парашей, нежно им любимой.
«Ничем не замечательный»? Это может показаться лишь на первый взгляд. Евгений прекрасен чистым и любящим сердцем, и пусть очень робким, беспомощным, но неистребимым, исчезающим только с самой жизнью неприятием бездушной силы.
На Евгения, захлестывая его, вместе с наводнением движется сама эта державная сила, Власть — кумир на бронзовом коне».
Где прежде финский, рыболов, Печальный пасынок природы, Один у низких берегов Бросал в неведомые воды Свой ветхий невод, ныне там...Там Петр Великий создал новую столицу невиданной красоты, каменное наваждение. Каменное наваждение — потому что возник город на костях крепостных, согнанных со всех концов России. Он символ и воплощение державной воли, для которой жизнь маленького человека — ничто.
Евгению мнится, что его преследует «кумир на бронзовом коне», Петр — бронзовый, неуязвимый и беспощадный, чуждый жалости.
Николай Первый, в ряду других значительных сокращений и поправок, повелел заменить слово «кумир» каким-либо другим. Кажется, не такая трудная задача. Сколько слов, равнозначных тому, что выражено в фразе «кумир на бронзовом коне», имеет в запасе язык: памятник, изваяние, монумент... Но если вдуматься и вслушаться, нельзя не ощутить то, что часто говорил один из лучших знатоков русского языка Дмитрий Николаевич Ушаков: в сущности, в языке нет слова, в точности повторяющего смысл другого слова; каждый синоним вносит новый оттенок (другое освещение) в понятие.
«Памятник» прозвучит гордой вечностью, когда Пушкин напишет: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». Памятник! Слово это вобрало в себя народную признательность. Монумент — кажется словом неодухотворенным. Изваяние — вызывает прежде всего представление о ваятеле. Само по себе оно не имеет характера — жестокого или доброго Гигант и Русский Великан — поправки, предложенные Василием Андреевичем Жуковским, совсем меняют тон и самый смысл поэмы.
А вот кумир...
Это слово произошло от финского корня и возникло еще в языческие времена. «Кумир» родствен древнерусскому «идолищу».
Это прежде всего предмет поклонения. То, перед чем падают ниц. Что языческим божеством царит над людьми и требует жертв. Что по своей нелюдской, надлюдской воле может уничтожить человека.
Нет, не памятник, и не изваяние, и не монумент, и не Русский Великан, а именно кумир на бронзовом коне встретился Евгению в страшную ночь после наводнения.
Убрать слово кумир значило тяжело ранить гениальное произведение, и Пушкин не мог этого сделать. Поэма так и не была опубликована при жизни поэта. Напечатан был только отрывок из введения.
Одно-единственное слово!
Ну, а если бы не было в русском языке этого слова — «кумир»? Что тогда?
Его не могло не быть.
Когда Менделеев создал Периодическую систему, он предсказал существование элементов, науке неизвестных. Словарный запас народа — это включающая сотни тысяч единиц таблица всех без исключения элементов нравственной и материальной жизни народа, весь его опыт, все его чувства. Нет ничего, что нельзя выразить — вылепить, нарисовать — словом. А когда какого-либо оттенка не хватает, его можно силой поэтического гения создать.
Страна и ее литература завершили формирование языка беспредельной силы и выразительности.
... Что же происходило в это время с Сергеем Аксаковым, с которым мы расстались, когда будущему писателю исполнилось восемь лет и он считал свою детскую жизнь оконченной?
Встреча с Гоголем
Аксаков только готовился вступить на поэтическое поприще, когда надолго был разлучен с настоящей литературой.
«Первая попавшаяся мне книга была «Кадм и Гармония», сочинение Хераскова, и его же «Полидор, сын Кадма и Гармонии», — в старости вспоминал Аксаков. — Тогда мне очень нравились эти книги, а напыщенный мерный язык стихотворной прозы казался мне совершенством».
Дядья, приехавшие в Уфу, гвардейские офицеры, оказались убежденными поклонниками воинственной ложноклассической поэзии. Сергей Аксаков шестилетним мальчиком декламировал восхищенным родичам страницы бесконечной «Россияды»:
Злодеи скоро бы вломиться в стан могли, Когда б не прекратил сию кроваву сечу Князь Курбский с Палецким, врагам текущи встречу.Трудно представить себе, что эти строки могли волновать. Но ведь то было время торжества «эпической, инако героической пиимы». До чего же оно было сильно, это, по определению Белинского, «смешное и жалкое направление».
Как трудно было всей нашей литературе вырваться из-под его мертвящего влияния: что уж тут говорить о пылкой, но одинокой мальчишеской душе.
Может быть, беззащитность Сергея Аксакова перед одической поэзией определялась еще ранним его и таким страстным актерским увлечением. Как же это приятно слышать свой собственный голос, который звучит так, что ты почти не узнаёшь его.
Декламируя имена военачальников и царей, ты сам словно становишься в ряд с ними. Какое счастье видеть сияющими от первого публичного успеха глазами, как внимают тебе — не одна сестренка, которую ты пугал наивными сказками, а взрослые родичи и гости, столпившиеся в зальце.
Блистал конь бел под ним, как снег Атландских гор: Стрела летяща — бег, свеча горяща — взор, Дыханье — дым и огнь, грудь и копыта — камень, На нем Малек-Адель, или сражений пламень, —читал Сергей Аксаков выспренние вирши Николева.
Неживые слова и вычурные сравнения. Но воображение уносило маленького актера в другой мир, который тем и привлекателен, что он другой, а не обычный.
Кто не припомнит в своей жизни времени, когда хочется выдумать свой особый язык, почти гипнотически притягивают странно звучащие пышные титулы средневековых рыцарей и прозвища индейских воинов.
Обычно это бесследно проходит, как ветряная оспа. Но в пору юности Аксакова инфекция пышнословия поразила чуть ли не все образованное общество.
А потом пришла пора ученичества у Александра Семеновича Шишкова, сперва заочного, а после перешедшего в почтительную дружбу ученика с учителем.
Аксаков сразу принял во многом справедливую насмешливую критику Шишковым сентиментального «переводного» направления литературы и не заметил, что этот «певец народности» сам был на бесконечное расстояние отдален от народного языка. Он стал последователем Шишкова, потому что душа его была подготовлена к этому ранними литературными впечатлениями и уже укрепившимся актерством.
Теперь как художник он существовал словно в замке с аршинными каменными стенами, где окна высоко под потолком, да еще вместо стекол пыльные цветные витражи на исторические сюжеты. Надо взобраться на ходули, чтобы выглянуть наружу, но и тогда увидишь окружающее в багровых отблесках отгремевших сражений.
Конечно, Аксаков совсем не все время проводил в воображаемом замке. Он был хлебосольным московским барином, радостно встречающим гостей. Был охотником, исходившим башкирские и подмосковные леса и болота бессчетными зорями. Был страстным рыболовом, за долгие часы — а вместе получились бы месяцы и годы, — проведенные с удочкой на берегах рек, не упустившим ничего из того, что с глазу на глаз открывала ему природа; ни одна из этих мгновенных картин не повторяется.
Он был отзывчивым человеком, понимавшим крепостное горе страны; был заботливым мужем и отцом.
Но виденное ежедневно и вблизи не становилось для него предметом творчества, а тут же скрывалось в самому ему неведомых тайниках. Скрывалось, однако, к счастью, не навсегда, пряталось до предназначенного срока. Должно было произойти событие потрясающее, чтобы все эти богатства открылись сперва ему самому, а потом и стране.
Событием этим оказалась встреча с Гоголем.
Аксаков, как и вся Россия, познакомился с Гоголем, не зная, с кем свела его судьба, когда прочитал «Вечера на хуторе близ Диканьки», изданные без имени автора, от лица пасичника Рудого Панька.
Книга эта, такая необычная для тогдашней литературы, да и вообще для литературы всех времен, у каждого читателя с первых строк вызывает добрую улыбку.
Двадцатидвухлетний Гоголь писал Пушкину: «Любопытнее всего было мое свидание с типографией. Только что я просунулся в двери, наборщики, завидя меня, давай каждый фыркать и прыскать себе в руку, отворотившись к стенке. Это меня несколько удивило. Я к фактору, и он, после некоторых ловких уклонений, наконец сказал, что: штучки, которые изволили послать из Павловска для печатания, оченно до чрезвычайности забавны и наборщикам принесли большую забаву».
Пушкин сразу почувствовал гений молодого писателя и представил Гоголя читающей России. Он писал в журнале «Современник»: «Читатели наши конечно помнят впечатление, произведенное над ними появлением «Вечеров на хуторе»: все обрадовались этому живому описанию племени поющего и пляшущего, этим свежим картинам малороссийской природы, этой веселости, простодушной и вместе лукавой. Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина!»
Аксакова «Вечера» взволновали до глубины души. Какое это счастье, что, когда приходит настоящее, вытверженные и усвоенные умом книжные правила искусства улетучиваются и сердце отзывается с силой и искренностью, которую иначе не назовешь, как детской.
Если сердце не умерло.
«Вечера», потом «Миргород» и, наконец, «Мертвые души» — их Аксаков услышал из уст самого Гоголя.
Словно свежий ветер — а может быть, и буря — пронесся над Россией с явлением Гоголя, позволяя оглянуть страну, чудно высветленную непостижимым светом. Казалось, слезы порой набегают на глаза чтеца — все, все виделось сквозь эти слезы, придававшие и смешному, и горькому, и тому даже, что можно бы счесть ничтожным, невыразимый смысл.
Что наполняет такой печалью страницы повести о старосветских помещиках Афанасии Ивановиче и Пульхерии Ивановне? Ведь это изображение жизни серой, не оправданной высокими порывами, бесследной для страны. Но точно ли бесследной, если думать не о череде исторических событий, а о череде дней человеческого существования?
Да, порывов в этих судьбах нет, они ровны, как долгий предосенний день на Миргородщине, но прелесть любви, нерасторжимо соединяющей два человеческих существа, растворяющей их без остатка одно в другом, лишенной всякого зла, наполняет эти жизни.
Помните эпиграф «Из записок одного путешественника», который предваряет повесть: «Хотя в Миргороде пекутся бублики из черного теста, но довольно вкусны»?
Можно да и легче всего увидеть в любом захолустном городке, как на всей земле, одни житейские мелочи. А можно, если даровано тебе, воспринять иной свет — слабый свет человеческих сердец, которым живо само такое нестойкое тепло земли.
Но вот в недвижном воздухе Миргорода, где добро так бездеятельно, в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» поднимается ветер зла.
При первых порывах он не страшит — ведь что-то должно было нарушить безмыслие, бездвижность, глубже смертной.
Но ветер крепнет, мчится через тысячи верст бездорожья, и вот уже он нечеловеческим объятием, которого не разомкнуть слабыми человеческими руками, сжал Акакия Акакиевича, сорвал с него шинель — только и дала человеку жизнь — и закрутил его на каменных просторах чиновного Петербурга, как опавший лист. На мгновение почудится, что сквозь черноту метели мелькнуло в дальней дали окошко, за которым два старика, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, смотрят друг на друга — и с такой всепоглощающей заботой. Потом одно лицо гаснет, а там и другое исчезает в темном окошке, которое больше не загорится. Так темно, точно всего и было света на земле; темно, пусто.
А ветер мчится над страной, где мертвые души, и мертвые души живых Ноздрева с Плюшкиным, где город N, в котором, по словам Собакевича, «все мошенники... мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет».
Писатель собирает последние силы, чтобы, пусть даже ценой жизни, подняться выше, откуда виден свет: должен же он где-то быть.
Аксаков был потрясен Гоголем, обезумлен им — тут не найти другого, более подходящего, чем это его детское слово, прежде не вспоминавшееся ему. Слова Гоголя были не «высокие» или «низкие», важные или простонародные, а живые. Как капля дождя; влага поднялась испарениями со всей земли и грозой проливалась на страну. Они вызвали у Аксакова чувство преклонения и тревожной любви — сколько же крови отдал и отдает этот великий писатель.
И слова эти многое будили в его собственном сердце. Было чудесное детство, была почти не проявившаяся в творчестве жизнь, а теперь наступает пора свершений.
На пороге старости. Но ведь старость — не смерть.
... Однажды у Аксаковых зашла речь о Михаиле Николаевиче Загоскине — авторе известного в то время романа «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и других исторических романов и многих комедий.
— Не то он пишет, что следует для театра, — сказал Гоголь.
— У нас писать не о чем, — возразил Аксаков. — Все в свете так однообразно, гладко, прилично и пусто, что «даже глупости смешной в тебе не встретишь, свет пустой».
Гоголь странно и значительно взглянул на Аксакова и сказал в ответ:
— Это неправда. Комизм кроется везде. Живя посреди него, мы его не видим, но если художник перенесет его в искусство, на сцену, то мы же сами над собой будем валиться от смеху и будем дивиться, что прежде не замечали его.
Потом Гоголь в комедии «Ревизор» скажет: «Чему смеетесь? — над собою смеетесь!»
И те его современники, которые одарены способностью души чувствовать неправду и страдать от нее, поймут, что и плачут они над собой, над безысходностью жизни.
Но видит ли то, что должно родить надежду, автор, поднявшийся так высоко, как, может быть, до него еще не поднимался никто?
Перечитаем «Шинель».
«Мало сказать: он служил ревностно, — говорится об Акакии Акакиевиче, — нет, он служил с любовью. Там, в этом переписыванье, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его».
Он был охвачен вдохновением — ведь иначе и не скажешь. Молодые чиновники зло издевались над ним, подстраивали всякие каверзы...
«Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним... Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то... преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой». И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости, и, Боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным».
Может быть, это и была заря — рождение чувства, от которого вся Россия остановилась, как пронзенная.
Поэзия Гоголя осветила в душе Аксакова свое; то, что было накоплено во всю жизнь.
К детству, к сказке
Странно и грустно встретиться в воображении с Сережей Аксаковым, которого мы знали красивым и милым мальчиком, с блестящими глазами и сердцем нежным и таким впечатлительным, что он чуть ли не смертельно заболевал от несправедливого слова, встретить этого мальчика Сережу, когда он превратился в отца семейства и деда — пятидесятичетырехлетнего, рано состарившегося и очень больного.
Седая борода обрамляет осунувшееся лицо, левый глаз почти ослеп, да и правый видит так плохо, что Аксаков не может сам писать — приходится диктовать. Вот и жизнь прошла... Но точно ли прошла»? Четырнадцать лет осталось ему, и теперь мы знаем, какими до краев наполненными творчеством, а значит, и счастливыми были эти полтора последних десятилетия.
Глаза видят плохо, но домочадцам кажется, что старик все время вглядывается во что-то незримое для них.
Да так и есть на самом деле. В это время Аксаков писал Гоголю: «Живем мы в деревне, тихо, мирно и уединенно; даже не предвидим, чтобы могла зайти к нам скука... От утреннего чая до завтрака и потом до позднего обеда все заняты своими делами: играют, рисуют, читают... Я затеял написать книжку об уженьи не только в техническом отношении, но и в отношении к природе вообще; страстный рыбак у меня так же страстно любит и красоты природы; одним словом, я полюбил свою работу и надеюсь, что эта книжка не только будет приятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня и пр. Тут займет свою часть чудная природа Оренбургского края, какою я знавал ее назад тому 45 лет. Это занятие освежило и оживило меня...»
Вскоре «Записки об уженье рыбы» были напечатаны, а через несколько лет вышли еще две книги о природе с такими же совсем не зазывными названиями: «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» и «Рассказы и воспоминания охотника о разных охотах».
Тому, для кого чтение — одно из самых больших, а то и главное счастье жизни, в каждой книге слышится особый голос.
Голос книг Аксакова — негромкий, как бы застенчивый. С первых страниц слышится вопрос: да интересно ли вам? Слышится почти просьба: как хорошо было бы отбросить всё и пойти в глубь леса, по болоту, где почва упруго подается под ногами, на берег реки, где всплеснет рыба, блеснет сильным и прекрасным виденьем на утреннем солнце, и снова, ничем не нарушимое, стремится у ваших ног теченье; пойти, если сердце открыто впечатлениям раннего утра, позднего вечера, роскошного полдня...».
И ты еще неясно думаешь, последовать ли робкому зову — в страницы, где нет ни воинских подвигов, ни любовных переживаний и увлекательных приключений, а руки уже сами собой листают книгу неторопливо, задумчиво, не так, как когда спешишь узнать, что дальше.
Не одно поколение писателей пошло за Аксаковым в этот мир: Лев Толстой, Тургенев, Бунин, а в наше время — Пришвин, Бианки, Паустовский, Соколов-Микитов.
Раз родившись, мир Аксакова не исчезнет. И это особое течение в литературе прозвучит, по-своему преображенное, и в «Детстве» Толстого, и в «Степи» Чехова, и в некоторых, самых чистых страницах современной прозы.
Вышли первые сочинения Аксакова, а он уже писал другие, самые свои главные, одно за другим: «Семейную хронику» и «Детские годы Багрова-внука».
Писал, как сажал деревья, только деревья все-таки умирают в положенный срок, а эти книги даже не стареют.
Писал, как сажают деревья, — ведь взглянешь на дуб, зеленым шатром раскинувший свои ветви, и нельзя себе представить, что когда-то его не было. Да, возникают время от времени книги, с которыми связывается чувство, что они не только будут всегда существовать, но и всегда существовали: книги Толстого, Андерсена, Чехова, Сервантеса; и «Детские годы Багрова-внука» среди них.
«Порой кажется, что внезапное озарение может совершенно перевернуть человеческую судьбу, — писал замечательный французский писатель и сказочник Антуан де Сент-Экзюпери, с которым мы еще встретимся в этой книге. — Но озарение означает лишь то, что духу внезапно откроется медленно подготовлявшийся путь. Я долго изучал грамматику. Меня учили синтаксису. Во мне пробудили чувства. И вдруг в мое сердце постучалась поэма».
И еще он говорил: «Жить — значит медленно рождаться. Это было бы чересчур легко — брать уже готовые души».
Душа Аксакова долгими годами выработалась и раскрылась до самой глубины, тогда, только тогда в нее постучалась поэма — «Детские годы Багрова-внука».
Гоголь, с мыслью о котором писалось каждое слово этого произведения, не прочитал его, он умер за шесть лет до выхода книги, как не прочел Пушкин, убитый за пять лет до появления первой части «Мертвых душ», — поэмы, им вдохновленной.
... Еще раз, незадолго до смерти Сергея Тимофеевича Аксакова, возникает мальчик с блестящими глазами и таким нежным сердцем — Сережа, чтобы больше уже не взрослеть, и не стареть, и встречать каждое поколение. Когда Аксаков перечитает рукопись и детство заново, чредой незабвенных лиц, веснами и зимами, реками, лесами и полями, пением птиц, горькими и счастливыми минутами, любовью и скорбью, пройдет через его душу, пройдет перед почти погасшими глазами, он почувствует, что одного мотива, непременного в этой музыке детства, нет — сказки.
Тогда-то он напишет «Аленький цветочек» и напечатает его приложением к «Детским годам Багрова-внука».
Глава третья. Тайны сказки.
Сказочная страна
Столько месяцев, день за днем, я по долгу этой работы и по внутренней необходимости живу в различных и непохожих сказочных странах и встречаюсь почти исключительно со сказочными персонажами. Если обстоятельства вдруг неожиданно вынесут оттуда в мир, который принято называть реальным, и ты, не совсем еще очнувшись, встретишь жителя этого мира, долго ли обознаться.
— Извините, — скажешь ты, — где-то я вас видел. Секунду, дайте припомнить... Ах да, вы не Кощей Бессмертный?..
— Вовсе нет, — ответит случайный встречный, и хорошо еще, если не обидится. — Откуда вы взяли, что я бессмертный?
Но если вдруг вслед за почтенным сухощавым старичком, которого ты так неосторожно обидел, тебе встретится фея...
Если кто-то шепнет в глубине сердца: «Это она», пожалуйста, забудь о том, что произошло, и не беги, а подойди к ней и спроси:
— Вы фея?
По всей вероятности, она не ответит. Да и к чему отвечать; главное, чтобы она улыбнулась.
Ах, если она улыбнется тебе... Ты спроси:
— Вы умеете совершать чудеса?
Она снова промолчит, но когда взгляды ваши встретятся, ты почувствуешь, что чудо уже произошло. Какое чудо? Деревья стали зелеными!..
— Они и раньше были зелеными, — проскрипит чей-то, не будем догадываться чей, пренеприятный голос.
Не слушайте его! Зачем он вмешивается!
Феи переходят из сказки в обычную жизнь и из обычной жизни в сказку не меняясь, как мы переходим улицу.
Но для остальных это не так просто. Попробуйте проникнуть хотя бы в Зазеркалье, не зная главной тайны... Ударитесь лбом о стекло — и делу конец.
Без тайны не обойтись.
Говорят, есть такая Академия Сказки, которая решает, кого пропустить в сказку, а кому там делать нечего. Президентами в Академии Михаил Иванович Топтыгин и гном с седой бородкой, такой старый, что вот уже тысячу лет он позабыл свое имя; все его называют просто Старый Гном.
Кролик выйдет на середину лесной поляны, той, что среди дремучего леса. С одной стороны поляны — дубы в три обхвата, а за стволами иногда промелькнет нечто, льющее свет.
Выхватить бы из хвоста Жар-птицы — ведь это она промелькнула среди дубов — хоть самое маленькое перо. Ведь некоторым это удалось. Заблудится ночью прохожий — чужой или близкий тебе человек, — а ты достанешь из-за пазухи пылающее заветное перышко, может быть, он и найдет дорогу.
Словом, с одной стороны поляну охватывает сказочный бор. А с другой — обычное мелколесье: осины, березки, елочки, поросшие лишайником.
Кролик выбежал из мелколесья и остановился.
— Как звать? — рявкнул Михаил Иванович.
— Кро-о-олик.
— Иди! — прорычал Михаил Иванович. — Теперь ты будешь зваться не просто кролик, а Братец Кролик!
А за кроликом прошмыгнула лиса и, не дожидаясь вопросов, протявкала:
— Лиса Патрикеевна!
— Гнать ее! Гнать! — прямо-таки завопил член Академии Серый Волк. — Это она подучила меня ловить рыбу в проруби! По ее милости я хожу без прекрасного своего хвоста, всему свету на потеху.
— Гнать ее! Гнать! — прокукарекал член Академии Петушок — золотой гребешок. — Это она выманила меня из избушки и чуть было не унесла в далекие края!
— Гнать ее! — прорычал и сам президент Академии Михаил Иванович, которому рыжая плутовка тоже успела порядком насолить.
Прорычал и оглянулся. А лисы и след простыл. Прошмыгнула в бор, теперь ее не догонишь. Да и кому охота связываться с лисой!
Вдруг мелколесье превратилось в море, из глубины показалась девушка неописуемой красоты и медленными шагами подошла к Топтыгину. Кровавый след остался за крошечными ее босыми ножками.
— Кто ты такая? — со странной робостью, шепотом спросил Михаил Иванович; оказывается, он умеет не только рявкать. — Как зовут тебя?
Губы девушки беспомощно и жалко затрепетали, но ни звука не вырвалось из ее груди.
— Это Русалочка, — сказал Старый Гном. — Не спрашивайте ее ни о чем: она не может говорить.
— Но, помнится, когда я был еще обыкновенным молодым медведем, а не Президентом Академии и имел время ловить рыбу в море, иногда лунной ночью к берегу подплывали особы, почти такие же красивые, как эта Русалочка, только с рыбьими хвостами вместо ног. И они не казались немыми, а, напротив, рычали — у людей это, кажется, зовется пением, — да так завлекательно, что юноши, оказавшиеся случайно на берегу, шли за ними в глубину моря и не возвращались. Я сам по молодости лет пошел было однажды за поющей русалкой, но вода оказалась холодной, и, к счастью, я как-никак медведь, а не глупый человек.
— Да, вы правы, — сказал Старый Гном. — Раньше эта Русалочка тоже чудесно пела, как ее сестры. Но однажды, выплыв на поверхность моря, она увидела принца и полюбила его. Она отправилась тогда в темные и страшные глубины к русалочьей ведьме и упросила ведьму заколдовать ее, чтобы она могла пойти к своему принцу. Ведьма превратила хвост Русалочки в прелестные ножки, но за это сделала ее немой, так что принц никогда не узнает, как она его любит. И при каждом шаге ноги Русалочки кровоточат, невыносимая боль пронзает тело. Но ни слезинки не появится на ее глазах: ведь иначе принц мог бы огорчиться, а принцы не любят огорчаться. И ведьма сделала так, что Русалочка будет жить не триста беззаботных лет, как ее сестры, а лишь короткий и трудный человеческий век.
— Pppp... — тихонько прорычал Михаил Иванович. — Я тоже знаю, что такое любовь... Например, я люблю мед.
Он махнул лапой, и академик-секретарь Пчела вместе с тысячью помощников принесли полные соты.
— Ррр... — не очень внятно прорычал Президент Академии, набивая пасть медом. — Я знаю, что такое любовь, но можно ли безумствовать из-за этого приятного чувства? Впрочем, пусть Русалочка идет к своему принцу. Мне жалко ее...
И девушка пошла, оставляя кровавые следы на мху, в глубину бора, туда, где был дворец.
И стало видно, что впереди нее, осторожно раздвигая кусты колючего терновника и отгоняя диких зверей — чем еще он мог ей помочь? — идет высокий длинноносый человек с такими нежными и внимательными глазами, что в нем нельзя не узнать Ганса Христиана Андерсена.
— Ррр... — прорычал Михаил Иванович вслед, и горькая слеза, правда не такая уж очень горькая, она ведь пропиталась медом, скатилась по мохнатой щеке. — Мне ужасно жалко ее...
Сказочная страна (продолжение). Маленькие человечки
Серый Волк, Лиса Патрикеевна, Михаил Иванович и феи, конечно, имеют своих братьев и сестер в нашем, реальном мире. Но как в сказке появляются все эти мурзилки, эльфы с крылышками, такие крошечные, что отлично умещаются в венчике цветка, Дюймовочки, северные тролли, карлы, мальчики с пальчик, лунные человечки, гномы?
Это необходимо выяснить поскорее, не откладывая, потому что маленькие человечки встречаются чуть ли не в каждой сказке. И потому еще, что в следующей главе речь пойдет об Антонии Погорельском, сто пятьдесят лет назад рассказавшем историю большого и знаменитого племени петербургских подземных жителей — гномов.
Откуда они приходят? Как возникают?
Одна маленькая девочка пошла ранним утром погулять со своим дедушкой, старым профессором.
— Хм, — сказал дедушка профессор, — хорошее утро; в такие утра прогулка полезна.
А внучка, не отвечая деду, может быть даже не расслышав его, замерла перед травинкой: на стебле висела капля росы.
— Идем, — поторопил дедушка. — Ходить, хм, полезно...
— Но... но там эльф! — еле слышно прошептала внучка, потрясенная увиденным; она была еще очень маленькой.
— А, ты об этом?.. — улыбнулся дед, заметив наконец каплю росы, повисшую на самой обыкновенной травинке. — Этому... хм... не следует удивляться. Ты видишь просто-напросто свое уменьшенное отражение; оно возникает оттого, что угол падения светового луча... хм... равен углу отражения и... Словом, когда вырастешь, сама поймешь.
— Но там эльф в зеленом дворце с прозрачными стенами... — шептала внучка, мгновениями с надеждой вскидывая глаза и снова вглядываясь в росинку. — Это дворец эльфов... Я знаю.
— То, что тебе кажется стенами дворца... хм... результат оптического эффекта, благодаря которому... Впрочем, впоследствии ты все это несомненно поймешь.
— Ничего я не хочу понимать и узнавать! — сквозь слезы закричала внучка. — Я тогда забуду эльфа и его зеленый дворец. А я не хочу, не хочу забывать его!
Пришлось снова задуматься о маленьких человечках — очень уж все получается с ними не просто, — и вдруг на глаза мне попалась книга Владимира Михайловича Конашевича, чудесного детского художника.
Книга Конашевича — желтая и светящаяся, каким бывает солнце, нарисованное самым ярким желтым карандашом, а называется она: «О себе и о своем деле».
Она сразу привлекла меня; вспомнилось, что Корней Иванович Чуковский считал Конашевича одним из самых добрых людей на земле.
Чуковский рассказывал, что как-то он попросил Конашевича нарисовать Чудо-юдо рыбу-кит из сказки Ершова «Конек-горбунок».
Киту этому, по стихам Ершова, живется — хуже не придумаешь:
Все бока его изрыты, Частоколы в ребра вбиты, На хвосте сыр-бор шумит, На спине село стоит; Мужички на губе пашут, Между глаз мальчишки пляшут, А в дубраве, меж усов, Ищут девушки грибов.Легко ли!
— А Конашевич, — говорил Чуковский, — нарисовал Кита улыбающимся, словно ему очень приятно, что у него на спине раскинулся поселок, где живут милые люди.
Я раскрыл книгу Конашевича и отыскал рассказ о некоем происшествии, случившемся с ним и его сестрой Соней, когда они были совсем маленькими.
«Как-то я раздобыл ножницы, к которым не полагалось прикасаться, намереваясь что-то вырезать из бумаги, — вспоминает Конашевич. — Их с ужасом у меня выхватили, боясь, что я себе уже искромсал руки. Но руки мои были целы, зато клеенка на нашем круглом столике оказалась прорезанной. Потом, пытаясь вытащить из этого прореза какую-то крошку... я загнал туда обгорелую спичку... За ужином моя тарелка споткнулась об эту спичку, я вспомнил о ней и, показав сестре, сказал: «Соня! Соня! Вот маленький человечек!»... Видя почти полную веру сестры в то, что под клеенкой живой человечек, я сам начинал в это не то что верить, но сильно надеяться, что спичка какими-нибудь чарами в него превратилась. Потом долгие усилия тихонько вынуть его, не повредив тонких ручек и ножек, сделали его невероятно драгоценным и совсем убедили нас в том, что это он — долгожданный крошечный человечек!... Мы останавливали несколько раз нашу «работу», споря чуть не до драки, кто это: мальчик или девочка... долго обсуждали, куда «его» денем, где «он» будет спать, как «его» зовут».
Долгожданный маленький человечек! Да, и в три года, и в четыре года Володя и Соня Конашевичи мечтали о маленьких людях.
И разве они одни ждали и ждут встречи с ними?
Разве есть, или была, или будет хоть одна детская душа, в которой не возникала бы мечта о встрече с гномами, мурзилками, лилипутами, эльфами?! И может ли не возникнуть в ребенке такая мечта!
Замечательный польский педагог и сказочник Януш Корчак писал о детях и от их имени: «Неудобно быть маленьким. Все время надо задирать голову... Все происходит где-то наверху, над тобой. И чувствуешь себя каким-то затерянным, слабым, ничтожным... Может быть, поэтому мы любим стоять около взрослых, когда они сидят — так мы видим их глаза».
Да, стоит только вызвать в памяти свое раннее детство, и легко будет убедиться в том, что с таким сердечным сочувствием и мудростью выразил Януш Корчак: неудобно, ужасно неудобно быть маленьким среди больших и вечно ходить с задранной головой.
Обидно, а иногда и невыносимо грустно, когда все или почти все считают тебя несмышленышем, не слушают тебя, только учат своим взрослым знаниям, не желая или не умея задуматься над тем, что подсказывают тебе твои чувства и твое воображение и что может скоро бесследно исчезнуть, как зеленый прозрачный дворец, где живет эльф.
И так относятся к маленьким иногда даже самые любящие люди; а мир, к беде, населен не только любящими.
Все это бывает до того обидно, что ребенку хочется — нет, не просто хочется, а необходимо — найти мир, на обитателей которого он сам мог бы смотреть сверху вниз, как смотрят взрослые на него. Найти живые существа, которых бы он мог любить и опекать, как взрослые любят, учат и опекают его.
Так возникает мечта о крошечных человечках, а потом и глубокая вера в их существование.
И тогда навстречу ждущим и уже заранее любящим сердцам, широко открытым детским глазам отовсюду — из капли росы и из разрезанной клеенки, где застряла обгорелая спичка, из венчиков цветков, лунных и солнечных теней — выходят, вылетают, выбегают маленькие человечки.
И если некоторые дети сразу начинают воспитывать своих только что обретенных человечков — девочки играют с ними в дочки-матери, а за непослушание ставят их в угол или шлепают, мальчики заставляют маршировать, делают из человечков солдат, устраивают сражения, — если некоторые дети поступают с человечками, как иные из взрослых, любящие учить и приказывать, то другим нужнее не кукла, послушная, как кукла, а верный товарищ, надежный в беде, с которым не страшно было бы пуститься в самое далекое путешествие.
И тогда-то эти вот маленькие человечки проникают в сказку.
Маленькие человечки в сказках — посланцы самого многочисленного на земле Народа Детей. И они приносят в сказку веру в справедливость, вечную и главную веру этого вечного народа.
Тайны и обиды маленьких человечков
И вот маленькие человечки — гномы, карлики — поселились в сказочной стране. Как им там? Прислушаемся — у гномов не такие уж громкие голоса и тайны они свои берегут, а если рассказывают, то только шепотом, да еще на ушко друг другу.
Прислушивались многие, но одними из первых услышали гномьи тайны и поведали о них людям немецкий фольклорист Иоганн Рудольф Висс, написавший об этом книгу «Народные сказания», и поэт Генрих Гейне — ведь фольклористы, сказочники и поэты отлично понимают гномий язык.
Путешествуя в горах Гарца, Гейне увидел множество маленьких щелей в скалах; тамошние жители так их и называли — норы гномов. И узнал, что, вылезая из своих жилищ, гномы — а они ужасно любопытны и любят бродить по окрестностям — на всякий случай надевают шапки-невидимки или туманные шапочки.
Каждый видал, как ранним утром на луга ложится, прижимается к травам словно светящийся изнутри туман. Может быть, гномы вышли на прогулку? Или они собрались всем народом, стоят, прислонившись к травинкам, как мы прислоняемся к деревьям, решают свои дела?
Дел у маленьких человечков множество, и не такие уж они простые. Висс рассказывает, что в одной окруженной горами деревне гномы часто спускались в долину и помогали крестьянам в работе; особенно они любили косить сено своими маленькими косами.
Поработав хорошенько, гномы отдыхали всегда на одной и той же толстой кленовой ветке в тени листьев. Но однажды злой и глупый человек подпилил ветку; когда гномы упали, человек этот стал вдобавок смеяться над ними.
Гномы очень обиделись: О, как небо высоко И измена велика! Теперь прочь — и навсегда! —закричали они, поднялись с земли и исчезли. Больше в этих местах они не появлялись, и как же тоскливо стало людям!
А близ другой деревни росло на горе прекрасное вишневое дерево. Однажды летом, когда ягоды поспели и пастух, которому принадлежало дерево, задумал собрать урожай, оказалось, что вишня уже обобрана, все ягоды в корзинках и решетах снесены в амбар. Узнав об этом, деревенские старики сказали пастуху:
— К тебе приходили гномы из племени Честных карликов. Они приходят по ночам в длинных плащах, скрывающих их ноги. Пожалуйста, не подглядывай за ними, не мешай им.
К сожалению, пастух не послушался мудрого совета: он решил непременно узнать, почему карлики всегда так старательно прячут свои ноги.
Прошел год, вновь наступило лето, поспели вишни. Когда карлики по ночам стали их собирать, пастух взял мешок золы и рассыпал его вокруг дерева. Наутро он увидел: вишня обобрана, а на золе отпечаталось множество гусиных лапок.
Пастух расхохотался и стал громко кричать, чтобы карлики услышали — там, среди гор и скал, в своих городах:
— Ваша тайна раскрыта! Я расскажу о ней всем на свете!
Никто не откликнулся. Окончился день, и с заката до полуночи с гор доносился глухой шум — гномы разрушали свои дома, чтобы и следа не осталось. А потом до самого рассвета слышался топот множества ножек: карлики уходили на чужбину.
Жители Кёльна, как рассказал в своей сказке «Кёльнские домовые» Август Копиш, по сию пору вспоминают:
При домовых жилось привольно! Нам делать было нечего — Лежи с утра до вечера! А станет темно — В дверь и в окно Спешат человечки... Еще хозяин крепко спит, А в доме все уже блестит!..Кёльнские гномы — мастера на все руки. Они шьют, и портной может спокойно спать, они делают вино вместо «лентяя винодела», пекут вкусные хлеба вместо булочника: «Пока все дрыхнут, как сычи, готовы хлеб и калачи». Так продолжалось, пока гномы не наткнулись на людское неразумение и неблагодарность.
Снова разыгралась все та же история:
Решила вдруг жена портного Увидеть ночью домового. Рассыпав по полу горох, Старуха ждет... Вдруг кто-то — грох! — И вниз со ступенек Летит через веник! Следом второй В бочку с водой... Малютки толкаются, Кричат, спотыкаются... С тех пор мы домовых не ждем... Их не разыщешь и с огнем!Я вспомнил все эти печальные истории, когда был на дне рождения у десятилетнего сына моих друзей. Взрослые разговаривали о важных, взрослых делах, а из другой комнаты доносились веселые, возбужденные детские голоса и топот ног.
Потом шум умолк, и так внезапно, что отец именинника поднялся и открыл дверь. Я пошел вслед за ним. В большой комнате, где мы очутились, было пусто — мебель ради праздника вынесли, — только у стены стоял стол, прикрытый длинной скатертью, свешивающейся до самого пола, везде валялись игрушки, а детей не было.
— Убежали во двор? — спросил я.
— Нет, нет, — ответил мой приятель и лицо его стало строгим и недовольным. Он подошел к столу и сердито сказал: — Вылезайте! Сейчас же вылезайте! Ну, вылезайте же, наконец!
Я должен был остановить моего приятеля, даже обязан был сделать это, хотя бы потому, что отлично знал со слов Гейне, Андерсена, Погорельского, Корчака, как гномы и дети берегут свои секреты и как они обижаются, когда даже самые близкие врываются в их тайную жизнь; именно на близких обижаются больше всего. И знал, как любят гномы забираться в темные укрытия и оттуда, невидимыми, смотреть на мир. Знал! Поэтому я и пишу эту маленькую главку, что тогда не выполнил своего долга.
Мой приятель рванул скатерть, в сердцах отбросил ее, и там, в темноте, сгустившейся под столом, стали видны пар пятнадцать ярко сверкавших детских глаз. Если это был экипаж парусника, то ясно, что как раз в этот момент парусник подплывал к необитаемому острову; если корабль — космический, то пилоты, точно держа курс, вели его прямиком к Марсу; и марсиане по этому случаю вышли из своих подземных городов, где они обычно скрываются; если...
Но мой приятель крикнул:
— Тьфу! Духота какая... и темень. Сейчас же вылезайте! Сколько еще повторять!
Он крикнул это и...
Да ничего, собственно, не случилось... Просто глаза ребят теперь, когда они вылезли из-под стола, светились несколько менее ярко. Необитаемый остров разом ушел на дно океана. Марсиане скрылись, и Марс вновь стал холодным и мертвым, как это и положено звезде войны.
Конечно же, ребята не убежали, как поступают гномы. Не убежали, но как бы ушли в себя, отдалились от нас. И как стало страшно: а что, если это расстояние, эта невидимая «даль» будет и дальше расти?
Но мы тогда не думали об этом, спокойно вернулись во «взрослую» комнату и занялись своими важными взрослыми разговорами...
«Ах, как хотел я стать хоть на минутку тобою, чтобы узнать твои мысли! Ведь ты был уже человеком!» — Человек этот — полуторагодовалый сын из рассказа Юрия Казакова «Во сне ты горько плакал». — Я... с тоской думал, что ты мудрее меня, что ты знаешь нечто такое, что и я знал когда-то, а теперь забыл, забыл... Что и все-то на свете сотворено затем только, чтобы на него взглянули глаза ребенка!»
Со страстной заинтересованностью писатель пытается проникнуть в мысли, желания, поведение, во весь сложнейший внутренний мир крошечного ребенка. «Странно, но ты в это лето не любил играть обыкновенными игрушками, а любил заниматься предметами мельчайшими. Без конца ты мог передвигать на ладошке какую-нибудь песчинку, хвоинку, крошечную травинку... Жизнь, существование пчел, бабочек и мошек занимала тебя несравненно больше, чем существование кошек, собак, коров, сорок, белок».
Что ж, может быть, такое даровано ребенку самой природой — чтобы первые встречи с ней не испугали огромностью ее, непостижимостью. Чтобы он, с самого начала жизни, почувствовал себя не слабым, беззащитным существом перед многоликою природой, а старшим братом ее. Именно старшим братом — рыбок, букашек, травинок, покуда сам он еще малая кроха, — но уже добрым, внимательным, готовым прийти на помощь. Ведь он человек, и быть старшим братом природы — первый его долг, который должно осознать на самой заре жизни.
А потом, когда он вырастет и мир вокруг необъятно расширится, это ощущение постижимости природы и ее зависимости от него, это братское чувство, быть может, самое драгоценное из всех дарованных нам чувств, останется в нем, чтобы до последнего часа он жил не равнодушным прохожим, а добрым, мудрым и сильным братом природы, ее защитником и покровителем.
Глава четвертая. Антоний Погорельский.
Друг людей
Антоний Погорельский — псевдоним Алексея Алексеевича Перовского; имение писателя называлось «Погорельцы», и это имя стало связано с ним навсегда.
Если попытаться одним словом определить лицо Перовского, когда он глядит на нас с портрета, то первым приходит в голову слово — «отважное», а потом другое — «мальчишеское»; но ведь это очень похожие слова.
Светлые, чуть вьющиеся волосы открывают высокий лоб. Синие глаза светятся какой-то тайной — «ах, как много я бы мог, должен был бы рассказать» — и нетерпением, тем детским нетерпением, которое у одних проходит с наступлением взрослости, а у других, немногих, остается навсегда и гонит человека по морям и океанам, к безумствам и подвигам; а иного неудержимо тянет открывать вместо новых земель человеческие души, добывать не клады, а радость, похороненную на дне души житейскими обстоятельствами, как под чугунной плитой.
Нетерпение, беспокойство...
Друзья Перовского прозвали его петербургским Байроном: он походил на английского поэта и безрассудной смелостью, и тем, что немного хромал, и красотой. Только у Байрона красота была несколько мрачная, «демоническая», как выражались современники, а у Алексея Перовского — светлая и, может быть, отчасти жертвенная. Что-то печальное нет-нет да и мелькнет в синем огне его глаз и сразу скрывается, заслоненное нетерпеливым беспокойством.
Оно, это беспокойство взгляда, запечатлено портретом так сильно, что иногда кажется: еще минута, и Алексей Перовский выйдет из рамы, как из раскрытой двери, выбежит, словно из соседней комнаты.
И это даже не так удивительно, потому что он был сказочником; есть ли профессии ближе, чем сказочник и волшебник! И как бы это было замечательно, если бы он хоть на минуту покинул раму с холодной позолотой и ответил на самые важные вопросы.
Ведь о жизни его известно так мало. Почти двести лет отделяют нас от его рождения. Какое огромное расстояние — два столетия, попробуй разгляди в этой дали времени очень сложную и трудную жизнь, ощути ее тепло и вбери в себя, так, чтобы нетронутой перенести на бумагу, бережно, как переносишь заснувшего ребенка.
И больше, чем даль длиной в два столетия, различить живые черты Алексея Алексеевича Перовского мешает одно досадное обстоятельство.
Управляющий имением Перовского Погорельцы был ненасытным обжорой. Больше всего на свете он любил особые котлеты, подававшиеся в бумажных кружевцах-папильотках. Он ел эти котлеты день за днем, тщательно вырезая папильотки из дневников, писем, черновиков Перовского, пока не были уничтожены все бумаги домашнего архива.
... Почему-то мне кажется, что я бы спросил Алексея Перовского не о писательских его замыслах, сказках, которые он не успел написать, а о таком второстепенном обстоятельстве: в чем причина его хромоты — какая-то тайна чудится в этом.
Спросил, если бы был уверен, что вопрос его не обидит.
Но ведь он не выйдет из рамы: золотые багеты — не двери. Остается вчитываться в то, что сохранилось в письмах друзей, в собственные его сочинения, в немногие воспоминания о нем.
Известно, что во время Отечественной войны с французами Алексей Перовский был боевым офицером — штаб-ротмистром; что он участвовал в ожесточенных сражениях при Дрездене, Кульме многих других. И всегда был впереди, увлекая за собой друзей боевым кличем:
— Пусть хоть тысяча французов!..
Он участвовал в отчаянно смелых атаках; конь уносил его от смерти, пуля и сабля не могли настичь.
К началу войны он уже хромал, так что близкие и друзья не были уверены, возьмут ли его в армию.
И уже тогда были у него, как можно догадаться по письмам современников, эти мгновенные переходы к печали, иногда даже посреди безудержного веселья, так свойственного ему.
Потом узнают, что два таких разнородных обстоятельства — хромота и приступы тоски, — вдруг выплывающие из самой глубины, из детства, странным образом связаны между собой. Алексей Перовский был сыном екатерининского вельможи, могущественного и богатого сановника графа Разумовского, владевшего множеством имений со ста тысячами крепостных душ. Казалось, все открыто наследному принцу крепостной страны; но ведь он был незаконнорожденным; прошло много лет, пока отцу удалось снять с него тяжкое клеймо.
Отец любил сына, но выпадали, вероятно, даже не часы, а недели и месяцы, когда мальчик чувствовал себя обреченным на презрение.
Неограниченная власть калечит человека, владеть тысячами людей, их судьбами и жизнями — что может быть страшнее такой власти... Графа Разумовского порой охватывали порывы неудержимого гнева.
Сохранилось семейное предание, что как-то, может быть во время обычной вспышки ярости, он сослал Алешу Перовского с глаз долой в закрытый пансионат.
Отыщем в сказке его о черной курице и подземных жителях такие строки: «... Когда наставала суббота и все товарищи... спешили домой к родным, тогда Алеша горько чувствовал свое одиночество. По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным утешением его было чтение книг...»
И еще было у Алеши утешение: стоять у высокого деревянного забора, сколоченного из барочных досок, и ждать, ждать неизвестно чего.
Это писатель рассказывал не о себе, а о герое сказки, но каждая истинно прекрасная сказка вбирает в себя частицу жизни автора; сквозь волшебства проступает пережитое.
Семейное предание утверждает, что Алеша Перовский бежал из пансионата. Бежал, должно быть, в минуту, когда пансионат показался хуже тюрьмы.
Памятью о побеге осталась на всю жизнь и хромота. Может быть, он забрался на забор и упал, так говорит семейное предание. Памятью о побеге, о детском одиночестве остались неожиданные приступы тоски. И печальная нежность к детям.
Кажется, самой большой любовью — не угасшей до смерти — была любовь к племяннику, тезке — Алеше. Тот тоже жил в пансионате на окраине Петербурга. Любимым его развлечением тоже было смотреть в круглые дырочки забора, ограждавшего пансионатский двор.
«Алеша не знал, что дырочки эти происходили от деревянных гвоздей, которыми прежде сколочены были барки, и ему казалось, что какая-нибудь добрая волшебница нарочно для него провертела эти дырочки, — рассказывает Погорельский в сказке о черной курице. — Он все ожидал, что когда-нибудь эта волшебница явится в переулке и сквозь дырочку подаст ему игрушку, или талисман, или письмецо от папеньки или маменьки, от которых не получал он давно уже никакого известия. Но, к крайнему его сожалению, не являлся никто даже похожий на волшебницу».
Сказка возникла вначале единственно, чтобы рассеять одиночество племянника, а осталась навсегда памятником любви; любовь была такой сильной, что сказка не только обрадовала Алешу, но приходит и ко всем нам, рассеивая и наше одиночество. Антоний Погорельский был «детским человеком». «Я из страны детства», — через много лет скажет Антуан де Сент-Экзюпери. Им-то, детским людям, и суждено писать сказки; тем, у кого и собственное сердце замирает то страхом, то счастьем от волшебных событий, возникших в воображении.
От детства у Перовского осталось стремление к веселому, а подчас и злому озорству, будто запас его не был израсходован в ранние годы; но если и злому, то всегда справедливому.
... Антон Антонович Антонский был естественником, читал в Московском университете лекции по энциклопедии естественной истории, причем впервые на русском языке, а не на латинском, как его предшественники.
Интересовали Антонского история наук и педагогика; статьи его «О начале и успехах наук, в особенности естественной истории» и «О воспитании», теперь всеми забытые, в свое время ставились в пример чистоты слога.
Но постепенно в деятельности его научные занятия отступали на второй план, оттесняемые поприщем административным.
Антонский становится директором Благородного пансиона при университете, деканом физико-математического факультета, ректором университета, цензором книг, печатавшихся в университетской типографии, членом цензурного комитета и, наконец, председателем Общества любителей российской словесности.
Последнее могло показаться странным не одному Перовскому, тем более что председательствование это началось еще при жизни Державина и захватило эпоху расцвета литературной славы Пушкина.
Могло представляться, что почетной должностью Антонский обязан не своим литературным начинаниям, а цензорской бдительности. Так возник замысел подшутить над Антонским.
Перовский сочинил длинную amphigouri, как называют французы веселую стихотворную чепуху; начиналась она бессмысленными строками:
Абдул-визирь На лбу пузырь И холит и лелеет; А Папий сын, Взяв апельсин, Желаньем пламенеет...Он переписал эту чепуху прекрасным почерком с рисованными заглавными буквами, пришел со своим сочинением к Антонскому и заявил о твердом желании обрадовать им любителей российской словесности на очередном заседании общества.
Помните знаменитый диалог Гамлета и Полония?
— Видите вы вон то облако в форме верблюда? — спрашивает Гамлет царедворца.
— Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать ни взять — верблюд, — отвечает Полоний.
— По-моему, оно смахивает на хорька.
— Правильно: спина хорьковая.
— Или как у кита.
— Совершенно как у кита...
Что думал Антонский, читая абракадабру Перовского и порой поднимая взгляд на похолодевшее, не обещающее ничего хорошего лицо юноши.
Перед ним — сын грозного графа Разумовского, в то время министра народного просвещения.
«Сын графа... а стихи... Так ведь не очень давно Тредиаковский писал: «Екатерина-о поехала в Царское Село», и одобряли. А потом в моду вошел язык торжественный, как у Николева, а потом Пушкин стал писать простонародным слогом. А потом... Может быть, самое современное — «Абдул-визирь на лбу пузырь...»?»
Да, доброта Перовского-Погорельского, о которой единодушно говорят друзья его, особенно друзья из пушкинского кружка, и прежде всего сам Александр Сергеевич Пушкин, была вовсе не безразличной, изливающейся на всех. Она дарилась только людям, достойным любви; но тогда уж какой щедрой была она.
В повести «Гробовщик» Пушкин писал об одном из героев, будочнике Юрко: «Лет двадцать пять служил он... как почталион Погорельского».
Современниками простые эти слова, вероятно, прочитывались с благодарной и удивленной улыбкой, потому что напоминали о главной черте Перовского — этой его силе год за годом, ни на йоту не теряя непосредственности чувства, следить за судьбами сотен людей сердцем, глазами, а если не достигали глаза — письмами.
В 1820 году Пушкин, юноша, только недавно оставивший царскосельские сени Лицея, опубликовал «Руслана и Людмилу». Событие это, историческое для нашей литературы, у современников вызвало отзывы далеко не единодушные. Пушкина обвиняли в нестройности, разностильности, даже в безнравственности его творения.
Журнал «Вестник Европы» счел вообще «нелепой» попытку ввести в высокую литературу сказки и песни народные, по мнению журнала, такие «бедные», что если мы и сберегаем их, то только как всякую иную старину, например «старинные монеты, даже самые безобразные».
Молодому поэту печатно задавали десятки едких вопросов.
«Некто взял на себя труд отвечать на оные. Его антикритика остроумна и забавна», — писал Пушкин в предисловии ко второму изданию «Руслана и Людмилы».
Этот «некто» был Алексей Алексеевич Перовский, еще не напечатавший в ту пору ни одного своего сочинения.
Не раздумывая он ринулся в литературный бой.
Перовский отвечает на вопросы, совсем как сказочные герои отвечают высушенным, злым сказочным «мудрецам», мягким юмором рассеивая тупую схоластику.
Зачем Финн рассказывал Руслану свою историю? Затем, чтобы он знал, кто Финн; притом старики словоохотливы. Зачем Руслан присвистывает? Дурная привычка. Или: свистали вместо того, чтобы погонять лошадь английским хлыстиком. Зачем трус Фарлаф поехал искать Людмилу? Трусы часто ездят туда же, куда и храбрые. Зачем Карла приходил к Людмиле? Как хозяин с визитом. Как Людмиле вздумалось надеть шапку? С испугу, как справедливо заметил и вопрошатель. Как Руслан бросил Рогдая в воду, как ребенка? Прочитайте в поэме.
И Пушкину Перовский скоро становится очень близок.
В 1825 году публикуется фантастическая повесть Перовского — Антония Погорельского «Лафертовская маковница», а через три года выходит новая его книга — «Двойник, или Мои вечера в Малороссии».
Талантливые произведения эти — как бы предчувствие и гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и пушкинской прозы, тогда еще не явившихся.
В «Лафертовской маковнице» реальный быт, мастерски запечатленный, чудесно переплетается с миром фантастическим — как в гофмановском «Щелкунчике», как в сказках Андерсена.
Старуха, знающаяся с загробной нечистью, ведьма, гадает племяннице Машеньке, милой и доброй девушке, что суждено ей выйти замуж за того, кто сейчас привидится; пока идет гаданье, черный старухин кот на глазах у девушки, к ужасу ее, превращается в чиновника в мундирном сюртуке.
Старуха умирает, но вскоре к Машеньке является свататься титулярный советник Мурлыкин, в котором она узнает старухиного черного кота.
Пушкина рассказ привел в восторг.
«Душа моя, что за прелесть бабушкин кот! Я перечел два раза и одним духом всю повесть, теперь только и брежу Трифоном Фалелеичем Мурлыкиным. Выступаю плавно, зажмуря глаза, повертывая голову и выгибая спину», — писал Пушкин брату Льву Сергеевичу.
Перовского заботят люди талантливые и ранимые. Карл Брюллов — один из величайших живописцев России. Но он так мало работает. Перовский, превратив свою квартиру в мастерскую художника, приглашает Брюллова и запирает у себя.
Пушкин писал об этом из Москвы жене: «Здесь Перовский его было заполонил; перевез к себе, запер под ключ и заставил работать. Брюллов насилу от него удрал».
«Ведь это гений, как же допустить, чтобы его жизнь растратилась по-пустому!» — думал Перовский о художнике.
После смешного и трогательного пленения Брюллова Пушкин был у Перовского и потом писал Наталии Николаевне: «Перовский показывал мне Взятие Рима Гензериком (которое стоит Последнего дня Помпеи), приговаривая: заметь, как прекрасно подлец этот нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как он умел, эта свинья, выразить свою канальскую, гениальную мысль, мерзавец он, бестия. Как нарисовал он эту группу, пьяница он, мошенник. Умора».
Удивительно передал Пушкин негодующую восторженность и нежность Перовского, переполняющую душу, настолько целомудренную и застенчивую, что она должна прикрываться внешней грубостью.
Подземные жители
Но вот окончены или до времени отложены дела со взрослыми, и Алексей Перовский едет на Васильевский остров к племяннику Алеше, истосковавшемуся в одиночестве.
Остался позади Невский проспект с нарядными прохожими и праздничными витринами лавок, потемнело, попустынело вокруг. Окраинный Петербург двадцатых годов девятнадцатого века.
«...Нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки». Улица «перерезывалась... бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею» — так описывал тогдашний Петербург Гоголь.
Холодный город, построенный на болотах.
«Тогда на проспектах Васильевского острова не было веселых тенистых аллей, — вспомнит в своей сказке Погорельский. — Деревянные подмостки, часто из гнилых досок сколоченные, заступали место нынешних прекрасных тротуаров... Города перед людьми имеют, между прочим, то преимущество, что они иногда с летами становятся красивее...»
Сани спешат к пансионату — дому о двух этажах, крытому голландскими черепицами, — и в сказку. Вечерние тени скользят рядом, и представляется, что это феи, гномы.
Вообще-то, как известно всем на свете, гномы обитают за тридевять земель и тридесять морей, в некотором царстве, некотором государстве, или, как говорят немецкие сказочники, за семью горами и семью долами, — словом, страшно далеко.
Но почему бы им не переселиться поближе в самый этот промерзший город, где они, с их лаской и волшебническим даром, так нужны Алеше; Перовский ведь чувствует, как в мальчике созревает душа поэта. Предчувствие не обманывает его: Алеша, Алексей Константинович Толстой, когда вырос, стал одним из выдающихся писателей России.
Известно, что в сказку проникают только существа сказочные, но почему бы не привести туда Алешу? Обыкновенный мальчик? Но так ли непреодолимо расстояние от обыкновенного до необыкновенного.
... Через пол столетия другой великий сказочник, Чарльз Доджсон, известный миру под псевдонимом Льюис Кэрролл, возьмет за руку девочку Алису, маленькую свою подружку, которой он отдал сердце, как Перовский Алеше, и поведет ее в страну чудес — вначале в одну, а потом в другую, именуемую Зазеркальем.
Так рядом с волшебными феями и волшебными принцами в мире появятся живые феи. Что ж, мы уже знаем, что феи переходят из сказки в обычную жизнь и из обычной жизни в сказку, не меняясь, как мы переходим улицу.
Феи и принцы — наши современники... Мчатся сани Перовского. И начинает казаться, что вовсе не тени от редких керосиновых фонарей, от луны скользят по снегу, а мчатся гномы.
Полки гномов, войска гномов идут на выручку обделенным счастьем.
Не тени... Это просвечивают сквозь землю, сквозь каменные мостовые и снег огни факелов, которыми гномы освещают неведомые подземелья. Опасная дорога. Крысы, свирепые, беспощадные, извека владеющие подземным царством, преграждают путь.
Предводитель авангарда гномов врубается в крысиный строй. Кто он такой? Почему черты его кажутся знакомыми?
На пансионатском дворе ходят куры. Когда в каникулярные дни пансионат пустеет, Алеша проводит с ними долгие часы, даже беседует — больше ведь не с кем.
Особенно нежно привязан он к Чернушке. Она не несет яиц и предназначена попасть в бульон. Сколько раз гналась за ней с ножом пансионатская кухарка, и мальчик всякими хитростями спасал Чернушку.
Однажды он выкупил ее жизнь, отдав кухарке Тринушке главное достояние — золотую монету империал. Чернушка отвечала Алеше преданностью и ходила за ним по двору как собачка. Перовский знал об этой дружбе мальчика и курицы.
Теперь в воображении Перовского Чернушка превратилась в воина короля гномов.
— Пусть хоть тысяча французов! — бормочет он под скрип саней любимую присказку.
Штаб-ротмистр Чернушка... Сказка впитывает реальные события, как земля влагу.
Чернушка прокрадывается ночью в опустевший на время зимних каникул дортуар. Превратившись в маленького человечка, она ведет мальчика в подземное царство гномов.
В богато украшенном зале появляется король гномов; двадцать маленьких пажей в пунцовых платьях несут шлейф роскошной королевской мантии.
— Мой главный министр донес мне, что ты спас его от неизбежной и жестокой смерти. Ты оказал великую услугу моему народу и за то заслуживаешь награду, — сказал король. — Чего ты желаешь?
Оказывается, Чернушка даже и не обычный маленький человечек, а главный министр.
Людям, которые ценят лишь то, что можно съесть, купить и продать, — Чернушка представлялась курицей, достойной смерти, потому что не несла яиц, а оказывается... Вот и стихи, как сказал поэт, их «ни съесть, ни выпить, ни поцеловать» — никакой корысти... только без них нельзя жить.
И детство — время, когда человек еще не умеет делать ничего полезного, поэтому некоторым ребенок кажется получеловеком; но как низок такой взгляд на детство.
Чернушка не приносит пользы, но она рискует жизнью, чтобы рассеивать горести и печали детей. Маленькие человечки не по чему иному пришли в подземелья города, грозного и неласкового, из-за тридевятьземельных стран, не по чему иному, а чтобы помогать людям. Даже ценой жизни.
... Какое же желание загадать?
«Если б дали ему более времени, — говорит сказочник об Алеше, — то он, может быть, и придумал бы что-нибудь хорошенькое; но так как ему казалось неучтивым заставить дожидаться короля, то он поспешил ответом.
— Я бы желал, — сказал он, — чтобы, не учившись, я всегда знал урок свой, какой мне ни задали.
— Не думал я, что ты такой ленивец, — отвечал король, покачав головою. — Но делать нечего: я должен исполнить свое обещание.
Он махнул рукою, и паж поднес золотое блюдо, на котором лежало одно конопляное семечко». Это драгоценный дар — волшебное семечко, наделенное силой осуществлять все желания.
Только одно условие, приняв подарок, должен выполнить мальчик: никому, никогда, ни за что на свете не выдавать тайны существования королевства гномов — тут, в подземельях Петербурга.
Одно условие, сберегающее силу волшебства, есть в каждой сказке: не лги ни маленькой, ни большой ложью, не предавай. Если выдать гномов, им придется бросить все и отправиться в обратную дорогу, трудную и опасную: к себе, туда — в некоторое царство, некоторое государство.
Мальчик без труда отвечает уроки при помощи конопляного зернышка. Волшебство возвысило его, но необычайные успехи вызывают подозрение у ребят и учителей. Под угрозой порки Алеша выдает тайну подземных жителей. И что же?.. Гномы уходят. Опять крысы овладели подземельями. Министр Чернушка закован в кандалы. Ведь он поверил мальчику, и такой тяжелой ценой народ гномов расплачивается за доверчивость.
Мудрая сказка, одна из главных тем которой — цена предательства. Алеша Толстой не забудет ее. Гномы в сказке противостоят жестокости пансионатских наставников; учителя вооружены розгами, но того, кто устрашился наказания, сказка не оправдывает. Герои сказок храбрецы, а не трусы.
Став писателем, Алексей Константинович Толстой напишет трагедию «Смерть Иоанна Грозного» и выведет там образ Никиты Романовича Захарьина, ближнего боярина жестокого царя, который, один из царедворцев, говорит царю правду.
«Он живет в эпоху Иоанна (Грозного), в такую эпоху, где злоупотребление властью, раболепство, отсутствие человеческого достоинства сделались нормальным состоянием общества. Но, несмотря на это, он в полном смысле честный и прямой человек, готовый всегда идти на плаху скорее, чем покривить душой или промолчать там, где совесть велит ему говорить» — так напишет А. К. Толстой о Захарьине.
Один?! Ну что ж, если один. В некой древней стране, рассказывает легенда, существовал закон: когда осужденного вели на казнь, если даже один человек крикнет, что приговор ошибочен, казнь отменяли и снова собирался суд. Один — это очень много. С совестью своей человек всегда один на один.
Мысли, внушенные сказками, растут вместе с человеком, но суть их остается прежней. Сказки помнятся до смерти или пока человек не изменил самому себе — ведь это тоже смерть.
Алексей Толстой не забудет и крыс из сказки, сочиненной для него Алексеем Алексеевичем Перовским. Главная сила и опасность крыс в их свирепой одинаковости, так же как волшебная сила гномов в том, что все они разные; вот Чернушка — доверчив, он расплатился за свою доверчивость, но счастье, что в государстве гномов был и такой министр.
В старой сказке говорится, что некогда жил царь — сказочный, конечно, — и он повелел: человека, обвиненного в преступлении, можно казнить, только если все двадцать три судьи — а это должны быть самые мудрые и достойные граждане, — если все они без исключения признают справедливой страшную кару.
— Но если, — сказал еще этот царь, когда глашатаи огласили его повеление, — из двадцати трех судий ни один не увидит ни малейшей причины для смягчения наказания, приговор надо отменить, а суд распустить, потому что судьи были недостаточно добродетельны и мудры, раз судили так одинаково и беспощадно. Мудрость не бывает ни одинаковой, ни беспощадной! — провозгласил сказочный царь.
И глашатаи повторили его слова на всех площадях городов и селений древней страны.
Кем станет министр Чернушка, когда окончится срок наказания и оковы спадут? Может быть, он поймет, что главным призванием его было видеть людское горе, как он увидел горе Алеши, и рассказывать о нем. Если так, то он станет сказочником страны подземных гномов, каким был для России его создатель Антоний Погорельский.
«Мудрость не бывает ни одинаковой, ни беспощадной», — не устают повторять сказки.
Алеша, Алексей Константинович Толстой, вспомнит крыс в сказке любимого своего наставника и подумает, может быть: а что, если бы эти крысы превратились в людей, какими стали бы такие люди? Вероятно, прежде всего они были бы совершенно одинаковыми — одинаково зло думающими обо всем и все одинаково видящими злыми крысиными глазками.
И, представив себе этих одинаковых людей, он вместе со своими друзьями, братьями Жемчужниковыми, создаст образ Козьмы Пруткова — служащего Пробирной Палатки, — тупого, ограниченного и самодовольного, обличающего «вред различия во взглядах и убеждениях».
Это чинуша, ненавидящий самостоятельно мыслящих людей, как крысы ненавидели гномов, образ внешне смешной, а по существу один из самых гневных в литературе, боровшейся против самодержавия.
... Сказки — что может быть вечнее; в том-то и чудо сказки, что образы ее живут и живут, все по-новому перевоплощаясь в умах и душах, но бережно сохраняя главную свою нравственную суть.
Света... Света...
«Черная курица, или Подземные жители» — единственная сказка Погорельского. Единственная, но такая, что навсегда осталась словно ребенком, сверстницей детей всех поколений, как «Аленький цветочек» Аксакова, как «Конек-горбунок» Ершова.
Всегдашняя ее юность коренится, вероятно, в том, что сказка эта связана с самым вечным в мире — с мечтой о победе над злом.
И связана с природой.
Живое — звери, растения — всегда близко Перовскому. В университете он со страстью занимался ботаникой. В своем имении Погорельцы насадил замечательный сад. В зверях и растениях он видел человеческое: недаром курица Чернушка стала его героиней.
Ему кажется, что человек чем-то виноват перед деревьями и зверями, как и перед детьми. Перед детьми виноват тем, что не всегда уважает их человеческое достоинство, перед природой тем, что относится к ней корыстно.
В одной из новелл Антоний Погорельский рассказывает историю человека, которого где-то в Австралии воспитала и вынянчила обезьяна; и вот человек, став взрослым, по прихоти невесты убивает зверя, совершает преступление против закона верности. Эта новелла — тоже сказка, как сказки — рассказы Аксакова о природе.
Погорельский расстался со сказкой, а мы скоро расстанемся с ним. Остается сообщить совсем немногое из отрывочного и неполного, что известно об этом писателе.
В 1830 году появляется первая, а затем вторая часть романа «Монастырка». Произведение это встречается дружественно, особенно критиками пушкинского направления. Современники зачитываются романом, как в последующие времена зачитывались «Анной Карениной» Льва Толстого. О значении «Монастырки» историк литературы В. Горленко писал:
«Монастырка» была одним из первых произведений, в котором хотя несколько отразилась действительная жизнь, где после невероятных Эрастов и Лиз мелькнули живые лица, одновременно с тем, как при живом свете поэзии Пушкина в область теней бежали бледные призраки доморощенных Ленор и Светлан».
После «Монастырки» Погорельский больше ничего не публикует.
Чем объяснить краткость его литературного пути?
Может быть, тем, что уже появилась проза Пушкина и Гоголя, в ясном свете которой мелькнувшие было «живые лица» созданий Погорельского сами отступили в «область теней».
Но ведь это происходило во «взрослой» литературе, почему же писатель не вернулся к сказке, где голос его прозвучал так проникновенно и чисто?
Не потому ли, что единственная его сказка была создана для любимого им Алеши Толстого; два таланта жили в Алексее Перовском: — талант творческий и редчайший талант самоотверженной любви, — когда они соединились, и произошло чудо рождения сказки.
Алеша уже не нуждался в гномах. Мальчик покинул мир сказки, а вместе с ним покидал его и Перовский, как мать, вновь проходящая вместе с ребенком через главные этапы жизни.
Последние годы все свои силы Погорельский-Перовский посвящает воспитанию племянника.
В раннем уходе из литературы сказалось важное обстоятельство, многое определившее в судьбе не одного Погорельского, но и некоторых других замечательных писателей. Они не могли жить одной литературой. Им было необходимо идеи правды, добра и справедливости поверять реальным претворением их в жизнь. Поэтому Толстой столько сил отдает учительской работе в созданной им Яснополянской школе для сельских ребят; это была не прихоть гения, как казалось некоторым его современникам, а насущнейшая необходимость, Хемингуэй и Сент-Экзюпери воевали не для того, чтобы писать о войне, а писали потому, что воевали за справедливое дело; они продолжали борьбу и в книгах. Чехов лечил не для того, чтобы «собирать материал», а чтобы своими руками оттеснять страдание, чтобы больной человек становился здоровым и хоть на крупицу меньше стало беды.
Макаренко свою педагогическую поэму создавал сначала в реальной жизни. Януш Корчак до самой гибели оставался учителем и врачом. Сказка его о Матиуше возникала рядом с десятками горьких и радостных сказок реальной детской жизни. Наступает время, когда тот, кто пишет сказки, сам должен проверить свои силы в добром волшебстве.
Это и случилось с Перовским, когда он всецело отдался воспитанию любимого ребенка.
... В 1836 году Алексей Алексеевич Перовский тяжело заболел, поехал за границу, на юг, но не добрался до спасительного солнца и умер в пути.
В предсмертном бреду он повторял:
— Света... Света...
Глава пятая. Тайны сказки.
Сказка и бумага
Давным-давно в Кордове, одном из прекраснейших и самых просвещенных городов юга Испании, жило множество медиков, математиков, астрономов, философов и поэтов; был среди них и прославленный поэт, автор мудрого и светлого трактата о любви «Ожерелье голубки», Ибн Хазм. Город славился роскошными дворцами, садами, школами, библиотекой кордовского халифа, где было собрано четыреста тысяч книг, в том числе лучшие творения древнеримских и греческих авторов.
Но в одиннадцатом веке на процветающий город стали нападать враждующие отряды берберов, мусульман-арабов и христиан-испанцев. Они грабили дворцы, убивали и уводили в рабство жителей Кордовы.
В исступлении кровавой резни насильникам казалось, что мало истребить иноверцев, еще важнее уничтожить без следа мысли их. Тогда на площадях городов раскладывались костры из книг, огню предавались бесценные произведения искусства.
Глядя на еще тлеющий пепел, в который было превращено все, что он создал, поэт Ибн Хазм сказал:
Не говорите о том, что бумагу сожгли и пергамент. Говорите о знаньях моих, чтобы люди суть уяснили. Еще не исчезло, что было написано мною. Сокровища мыслей в сознанье моем не спалили... Иду — со мною они; стою — со мной безотлучно.Бумага — только одно из пристанищ человеческой мысли и рожденных ею художественных произведений, притч и сказок в том числе. Они, притчи и сказки, как бы похожи на перелетных птиц: мысль, душа человеческая — их родина, место гнездовья, где они рождаются и выводят птенцов; книга — теплые страны, куда они улетают, набравшись сил. Но так, чтобы, когда не будет другого пристанища, вернуться обратно в гнездо.
... Притча рассказывает про мудреца, жившего тысячу, а может быть, и две тысячи лет назад.
Ученики и друзья говорили мудрецу:
— Главный жрец, и главный судья, и главный палач гневаются, что ты веришь не в то, во что верят они, и учишь не тому, чему они велят учить. Смотри — они сожгут тебя на костре, и вместе с тобой в огне исчезнет созданное тобой.
— Не бойтесь, дети мои, — спокойно отвечал мудрец, отрывая взгляд от пергамента, на котором он записывал то, чему научила его жизнь. — Пусть меня сожгут; мысли сжечь нельзя — письмена не горят!
Он снова принимался за работу, а ученики и друзья в сомнении покачивали головой. «Ох как наивны бывают самые мудрые мудрецы, — думали они. — Письмена не горят? Но даже ребенок знает, что бумагой и пергаментом лучше всего разжечь костер».
И наступил день, рассказывает притча — а может быть, это и не притча, а подлинная история, случившаяся некогда в действительности, — наступил день, когда к мудрецу пришли стражники и увели его в темницу. Суд приговорил его к сожжению на костре.
Когда мудреца вывели на площадь, завернутого в пергаменты его рукописей, и огонь жадно охватил красными своими языками пергаменты, один из учеников крикнул из толпы, окружавшей костер:
— Письмена горят! Ты учил ложно, старик!
В ответ послышался голос мудреца:
— Горит пергамент, а буквы улетают!
Он крикнул это в последние мгновения, погибая страшной смертью на костре, а мы через тысячу или даже через две тысячи лет как бы слышим его слова.
Значит, это правда, что буквы не горят: они улетают из пламени, проскальзывают через колючую проволоку, по которой пропущен ток высокого напряжения, способный убить все живое.
Значит, они живее живого.
Они улетают, собираются в слова, а слова собираются в мысли — не обычные, а вечные мысли, — но не остаются в безопасной высоте, а спускаются к людям: ведь они для людей.
... Рассказывают в другой старинной притче, что давным-давно в маленьком нищем городке жил справедливый старик — врач и учитель. Когда кто-нибудь заболевал, старик приходил к больному и спасал его, если это было в силах человеческих.
А когда рождался ребенок, первые самые важные слова он узнавал от учителя. И первые сказки слышал из его уст. Когда ребенок вырастал, учитель наставлял его, как надо жить, чтобы не превратиться в волка среди людей, а оставаться человеком; это ведь совсем не просто.
И когда кто-нибудь умирал, старик до конца бодрствовал у изголовья больного, утешал его, выслушивал последние слова. Умирающий знал, что дети его не останутся сиротами, то, что он не успел совершить, будет совершено, что старик возьмет на свои плечи груз и его забот.
Рассказывают в этой древней притче, будто, узнав о том, что на земле есть такой человек, бог призвал его к себе.
Когда старик появился перед ним, бог спросил:
— Скажи мне всю правду: хорошо ли живут люди на земле?
— Плохо! — ответил старик. — Богатые обижают бедных, судьи и тюремщики мучают и убивают ни в чем не повинных...
— Говори, говори!.. — торопил бог. — Ведь те, кто окружают меня здесь, на небе, скрывают правду. А только зная все, я смог бы спасти мир.
Старик хотел было продолжать бесконечную повесть о несправедливостях, творящихся на земле. Но в это время там далеко, в его городке, к старой, больной женщине приблизился смертный час. И, чувствуя это, она в отчаянии прошептала:
— Неужели я погибну, не услышав утешения, не передав внуков тому, кто один спасет их от нищеты, и не переложив на его плечи свои беды, единственное, чем так щедро одарила меня судьба.
Услышав её шепот, старик сказал богу:
— Мне некогда говорить с тобой. Смерть не станет ждать. Мне надо торопиться к умирающей...
И он опустился с неба на землю, в нищий свой городок.
В последний раз открыв глаза, умирающая увидела у изголовья лицо старика и услышала его голос:
— Я здесь, не бойся! Я поведу к свету твоих внуков, и меня не согнет твое горе. Спи спокойно!..
Женщина умерла, как уснула, с улыбкой на губах, в первый раз за длинную жизнь не чувствуя ужаса перед будущим.
«А мир не был спасен, бог не узнал правды» — такими грустными и насмешливыми словами оканчивается эта притча.
... Да, буквы не сгорают, они собираются в слова, в строки, в мысли, в притчи и сказки. И не остаются в холодной высоте, а спускаются к людям, как старик, торопившийся к умирающей. Ведь они созданы людьми и существуют для людей; так и старик был человеком и жил для людей.
Они спускаются вниз; как дождевые капли превращаются в соки деревьев и трав, они вместе со сказкой, с лаской матери войдут в сердце ребенка и сделают это сердце человеческим, то есть смелым, справедливым и добрым.
Часы сказочников
И тут, чтобы лучше понять дальнейшее, пришла пора подумать о часах сказочников. Недаром говорится: «Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается». Сказочное время совсем не то, что время обыкновенное.
У замечательного нашего сказочника Корнея Ивановича Чуковского было в саду сломанное дерево. Его давно собирались спилить, но Корней Иванович не разрешал, потому что на сломанном дереве, как хорошо знали дети окрестных деревень и поселков, чудесно было качаться.
Однажды к Корнею Ивановичу подошла девочка и попросила:
— Дедушка Корней! Можно, я покачаюсь на дереве?
— Качайся, Любочка! — ответил Корней Иванович, который, уж конечно, дружил со всеми детьми и каждого ребенка знал по имени.
Девочка покачалась и ушла.
Но скоро она вернулась и попросила, как в первый раз:
— Дедушка Корней! Можно, я покачаюсь на дереве?
— Качайся, Любочка! — сказал Корней Иванович. — Только ведь ты недавно качалась. Тебе не надоело?
— Я не была у тебя, — ответила девочка. — И я не Люба. Это моя мама Любовь Ивановна, а я — Таня.
Да, у сказочников иные часы. И иные часы у сказки, этого нельзя забывать; «тик-так...» — проговорят они, а оглянешься, и оказывается, что по обычному человеческому счету прошли столетия.
Великое переселение гномов
О великом переселении народов, уж конечно, знают все, кто прочитал хотя бы только школьный учебник истории. Оно началось в четвертом веке нашей эры и продолжалось триста лет.
Пастухи и пахари германских, славянских и сарматских племен из причерноморских степей и других древних районов Обитания двинулись на запад, чтобы добыть новые земли. Прославленные римские легионы, завоевавшие весь известный тогда человечеству мир до крайних его пределов, не смогли удержать храбрые племена. Оттуда, из-за «крайних пределов», поднимались облака пыли от бессчетных стад, и, окутанная ими, на римлян обрушивалась конница варваров. Рабы присоединялись к завоевателям, и великая империя, просуществовавшая столько веков, пала. Она была изнутри подорвана рабством и не смогла противостоять силе свободных племен, обрушившейся на нее.
Это и еще многое другое рассказывает история о переселении народов. Но она ничего не говорит о переселении сказочных племен — не алеманов, бургундов, франков, саксов и ютов, вандалов и свевов, а тоже несчетных племен: гномов, эльфов и других обитателей сказки. В этом молчании нет ничего мудреного — ведь сказочный мир имеет особую историю.
И если бы эта история была написана и если бы ее проходили в школах — ну пусть хотя бы в таких, куда идут те, кто решил стать волшебником, — мы бы знали, что и в сказочном мире было великое переселение народов.
Когда-то граница волшебного лежала сразу за утлой, из веток и листьев, стенкой шалаша, где укрывался первобытный человек. Всё-всё казалось ему живым. В протяжном вое ветра чудились ему голоса; помните, как в стихах: «Ветра спрашивает мать: «Где изволил пропадать?»
Ветер казался живым, как человек, — как человек то плачущий, стонущий, жалующийся на судьбу, то безудержно веселый; ах, вероятно, налетавшись за день, к ночи, дома, он перевоплощается: южный ветер — в юношу радостного и красивого, а северный — в сурового богатыря с насупленными седыми бровями, от дыхания которого все леденеет.
Казалось, что в раскатах грома звучит чей-то грозный голос, а молния — стрела, как те стрелы, какими охотник убивает зверя, только огненная и направленная рукой неведомого существа. И волк казался человеком-волком, лисица — человеком-лисицей, а светляки, кружащиеся в вечернем воздухе, представлялись крылатыми феями.
Так казалось.
Но вот человек поймал светляка и узнал, что это просто крошечный жучок.
Зажженный молнией огонь человек перенес в свой очаг и, отгоняя горящими головешками львов и тигров, почувствовал себя властелином небесного огня. И лев и тигр, трусливо поджав хвосты, отступающие перед ним, теперь уже не казались человеком-львом и человеком-тигром. А родич волка, собака, прижилась в пещере.
Подняв кусок трухлявого дерева и убедившись, что это гнилушка, а не глаз неведомого существа горит во мраке, человек как бы заставил отступить воображаемых чудовищ.
Медленно, медленно, но все светлее становилось вокруг, понятнее, объяснимее. И, научившись по цвету неба, по полету птиц предсказывать надвигающуюся бурю, человек осознал себя если еще и не повелителем стихий, то уже и не беспомощной игрушкой в их руках.
И вот он уже посадил зерна, и первые колосья поднялись на впервые взрыхленной земле. И вслед за собакой к человеку пришли, как друзья и слуги, а не как враги, конь и корова. Аисты построили гнездо на кровле человеческого жилища, отдаваясь под его защиту и как бы обещая взамен охранять покой семьи.
Светлело, и сказочные духи уходили, уплывали, улетали в Неведомое; им необходимы полумрак, тайна. Они, как скворцы перед осенним перелетом, собирались в огромные стаи, от которых потемнело бы небо, будь они видимы и если бы не слетались в глухую, без звезд и луны, ночь.
— Прощай... — повторяли они неслышными голосами, пролетая сквозь сны.
Какой же показалась им сказочная страна, когда они попали в нее?
Да, там тоже были города, только сказочные, были деревни с полями, где колосилась пшеница, леса и поля, над которыми летали и ласточки, и аисты, и Жар-птица. Но вот зло и добро?! Президенты Академии Сказки — Михаил Топтыгин и Старый Гном, которых мы уже знаем, следили за тем, чтобы зло, страшное и беспощадное, не проникало в страну Сказки. А может быть, еще важнее то, что за этим чутко следили матери и отцы, дедушки и бабушки, все те, кто сказки рассказывает? Для того и создало человеческое воображение некоторое царство, некоторое государство, чтобы там властвовала справедливость; ведь в обычных которых царствах-государствах она не всегда торжествовала. Чтобы добро там было наделено даром волшебства. Чтобы первые слова, услышанные ребенком, были словами надежды и в самые мрачные времена.
... Тик-так, тик-так... — стучали сказочные часы. Шли столетия и тысячелетия. В 1492 году три испанских каравеллы, «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта», под командованием великого мореплавателя Христофора Колумба, совершив изнурительное плавание через океан, подплыли к неведомым берегам.
— Земля! — крикнул с вершины мачты дозорный.
«Что ждет нас здесь? — тревожно думал Колумб в минуты, когда каравеллы с развернутыми парусами скользили к берегу и все уже становилась синяя полоска между кораблями и сушей. — А если в засаде на берегу вооруженные туземцы? Что сможет сделать горсточка больных, измученных плаванием людей? Может быть, туземцы окажутся каннибалами, и тогда...»
Но все это, как знает теперь каждый школьник, оказалось напрасными страхами.
В Новом Свете, в Америке, как потом окрестили этот континент и острова, его окружающие, обитали мирные народы с высокой культурой: талантливые художники, строители прекрасных храмов и городов. Под благодатным солнцем росли неведомые цветы и плодовые деревья, так что Новый Свет выглядел гигантским садом. А в земле таились сокровища, прежде всего золото; из него тамошние мастера создавали изделия удивительной красоты.
Желтый ослепительный свет золота как бы дошел до старой земли, до Испании и Португалии, и оттуда хлынули в Америку тысячи авантюристов, мечтающих об одном — побольше награбить.
В те времена в Испании окончилась реконкиста — война за освобождение от иноверцев районов Пиренейского полуострова, которые когда-то захватили мавры. Это была война кровавая. И идальго, участники реконкисты, разорившиеся испанские дворяне, вынесли из нее предельную жестокость. Теперь они, конкистадоры-завоеватели, отправлялись за океан убивать и грабить, с одним намерением: через горы трупов пробиться к золоту.
Развернем «Историю Индий» — ведь тогда люди, открывшие Америку, думали, что они находятся в Индии, — книгу, написанную в 1502 году благородным испанцем Бартоломе де Лас Касас, сделавшим все, что в силах человеческих, чтобы прекратить истребление индейцев.
Прочтем, как это ни тяжело, хотя бы одну страницу: «И вот однажды, в воскресенье после завтрака, главный командор по предварительному сговору приказал всем, имевшим лошадей, сесть на них якобы для того, чтобы состязаться в метании копья, а всем пешим тоже собраться вместе и приготовиться; и тут Анакаона (индейская царица) говорит главному губернатору, что она и касики (вожди племен) хотели бы вместе с ним посмотреть на состязания в метании копья, и тот отвечает, что он очень этому рад, но просит ее сначала собрать всех правителей племен и вместе с ними прийти к нему в дом, так как он желает с ними поговорить. И было условлено, что всадники окружат дом и все испанцы, находящиеся внутри и вне дома, будут наготове, и когда губернатор прикоснется к золотому медальону, висящему у него на груди, бросятся на индейских правителей, находящихся в доме, и на Анакаону, а затем сделают с ними то, что им было заранее приказано... Входит благородная сеньора царица Анакаона, оказавшая столь большие услуги христианам и вытерпевшая с их стороны немало тяжких оскорблений, обид и недружелюбных поступков; вместе с ней входят 80 правителей, встают рядом с ней и, ничего не подозревая, простодушно ожидают речи главного командора. Но он не говорит ни слова, а прикасается рукой к висящему на его груди медальону, и тут его спутники обнажают мечи...
И тут Анакаона и все другие начинают кричать и плакать и вопрошать, за что им хотят причинить зло; испанцы же поспешно связывают индейцев, выходят из дома, уводят с собой только одну связанную Анакаону и поджигают дом, и вот он уже пылает, и несчастные властители и цари сгорают живьем на своей собственной земле, превращаясь в уголь вместе с деревом и соломой. Между тем всадники, узнав, что пешие испанцы, находящиеся в доме, уже начали связывать индейцев, с копьями в руках помчались по улицам, приканчивая всех, кто попадался на пути».
Так было!
Лас Касас подсчитал, что на американских землях, завоеванных испанцами, жило около сорока миллионов индейцев, и две трети из этого числа погибли — были убиты, умерли от болезней, завезенных белыми, от рабского непосильного труда. Лас Касаса друзья конкистадоров обвиняли в том, что он во много раз преувеличил действительное число жертв колонизации. Но крупнейшие современные ученые — французский историк-американист Шаню и американские ученые Симпсон, Кук и другие, заново проверив документы, доказали, что число жителей, обитавших на тех благодатных землях до завоевания, составляло не сорок, а от восьмидесяти до ста миллионов! К началу девятнадцатого века, когда окончилось испанское иго, в живых оставалось только семнадцать миллионов индейцев.
Шестьдесят, а может быть, и восемьдесят миллионов погибших!
... Шли века за веками. Все труднее становилось оберегать страну сказок от кровавого зла реального мира. Люди превращали своих братьев в рабов. Невольник считал, что он имеет право на свободу, потому что ведь все люди рождаются равными и свободными. И он, как и миллионы его братьев, думал, что освободить от рабства своих близких — жену, детей — его святое, естественное право. А плантатор говорил и верил в это, что невольник, спасающий из рабства родных, — грабитель, потому что жена и дети раба — его, плантатора, собственность, как скот, как деньги.
И он убивал невольников, запарывал их, продавал, навеки разлучая мать с детьми и жену с мужем. Американский плантатор делал это точно так же и с тем же убеждением в своей правоте, как и русский помещик, владелец крепостных душ, как и испанский конкистадор, считавший, что, убивая индейцев, он совершает богоугодное дело, потому что они язычники.
Да, это было счастьем для человечества, что в трудном, изменчивом мире сказка забралась за тридевять земель и тридесять морей. Туда не достигали дым пожарищ, и реки крови, и лживые идеи, выдуманные убийцами, чтобы оправдать свои преступления.
«Что такое хорошо и что такое плохо?» — спрашивает ребенок.
Сказка отвечает на этот вопрос, совсем не простой и самый главный из всех бесчисленных детских «что» и «почему».
И, что всего важнее, она — поборник честности — отвечает совершенно так же сыну плантатора-рабовладельца и сыну раба, ребенку помещика-крепостника и ребенку крепостного крестьянина.
Многие сыновья рабовладельцев потом забывали сказочную мудрость, она зарастала в их окаменевшем с годами сердце, но были и такие, кто запомнил ее навсегда и шел воевать за освобождение рабов во время войны северных свободных штатов с рабовладельческими южными. И многие сыновья помещиков-крепостников отдали жизнь борьбе за свободу.
Вот что вспоминается о великом и тайном переселении сказочных племен. «Далеко, далеко! За тридевять земель и тридесять морей», — рассказывает мать дочке, которая сама в свою пору станет матерью и передаст сказку недосягаемой для кровавого зла своим детям.
Глава шестая. Петр Павлович Ершов.
Горькая линия
Вот и новая глава и другая судьба.
Каждый раз, когда первая страница неведомой жизни приоткрывается глазам, сначала кажется, что очень уж она проста, обычна, лишена событий; а после мысль о ней меняется, зорится, сказал бы Ершов, что-то озаряет и в тебе.
Петр Павлович Ершов родился в Сибири. Семья Павла Гавриловича Ершова, маленького сельского чиновника, жила тогда в селе Безруково, недалеко от Ишима; прежде это была крепостица Безруково на Горькой линии, цепи укреплений, построенных в 1752 году на огромном протяжении — от Омской крепости до Оренбургской линии: две большие крепости с шестиугольными стенами, девять четырехугольных крепостей, тридцать три редута и сорок два маяка.
Перемигивались крепости и маяки воспаленными от бессонной тревоги глазами. Давно уже не было в живых царя Кучума, царство которого покорил Ермак. Племена, населявшие Сибирь, объединились с Россией, но орды кочевников всё еще собирались порой, как тучи в тундре.
Линия крепостей противостояла им.
Она называлась Горькой, потому что жалась к горько-соленым озерам. Но в слово это невольно вкрадывается и другой смысл — беды. Сюда со времен Петра Первого ссылали со всей России тех, кто бунтовал: в 1704, 1705, 1708 годах — стрельцов и казаков, в 1711-м — пленных шведов, пытавшихся бежать на родину, потом керженских старообрядцев, потом декабристов — Семенова, Анненкова, Барятинского, Фонвизина, Кюхельбекера. И так все время, пока существовала в стране мысль о бунтах, а она не гасла — нет-нет да и прорежет небо царской России кометой, пророчащей казни и ссылки, расставания навсегда.
В 1816 году в семье Ершовых родился мальчик, названный Петром, который через восемнадцать лет написал сказку «Конек-горбунок» и так рано сделал свое имя бессмертным.
В начале родным казалось, что ребенок появился на свет, только чтобы умереть. Он был очень слаб и кричал, отчаянно закатываясь.
У мальчика и потом повторялись нервные припадки; на втором году жизни родители решились испробовать обряд, неизвестно откуда пришедший в Сибирь, — «продать» сына.
Это делалось так. К открытому окошку подходил нищий. Ему протягивали ребенка:
— Купи!
— А сколько возьмете?
— Грош!
Хотя «проданного» сразу же клали обратно в постельку, пережитое что-то меняло в ребенке. Во всяком случае, как помнили в семье, у маленького Ершова почти прекратились припадки.
Какое счастье, что страх, такой сильный, что в нем могла захлебнуться душа, не остался, а был засветлей «лучом денницы», рано заглянувшим в жизнь.
Этим лучом была любовь.
Любовь родителей, заставившая их, когда пришел срок детям серьезно учиться, сменить село с его привычной и дешевой жизнью на Тобольск, где гимназия. А потом предпринять уж совсем недоступно дорогое путешествие через всю страну в Петербург, чтобы отдать сыновей в недавно основанный столичный университет, в число ста студентов.
И привязанность друзей — очень немногих, но верных. И признающий взгляд Пушкина, один разговор с Пушкиным.
Но обряд запомнился, в трудные минуты Ершов говорил о себе насмешливо: «Что ж, мне ведь цена грош». И навсегда запомнилось родное село, так что он порой называл себя им самим придуманным прозвищем: «Безрукий» — тоже в невеселые минуты.
Когда под конец недолгой литературной деятельности он взялся за прозу и написал «Осенние вечера», хозяину квартиры, где долгими сибирскими сумерками собирались друзья и рассказывали о пережитом, он дал фамилию Безруков, этим как бы для самого себя еще больше утверждая достоверность рассказываемого.
Отсюда, с Горькой линии, началась линия жизни Ершова, где тяжелое и счастливое нерасторжимо переплелись.
Отсюда совсем ребенком начинает он свои странствования — вначале с отцом, который, уступая мольбам сына, берет его в служебные поездки по Сибири, потом со всей семьей, переселяющейся с места на место. Некоторое время мальчик живет в Петропавловской крепости — это самый юг Сибири, — проезжает через цепь казачьих поселений между Петропавловском и Омском; тут живы легенды об Емельяне Пугачеве — крестьянском царе. Он попадает и в северный Березов. Вся, населенная многими народами, богатая и обездоленная, Сибирь открывается сердцу и глазам его.
Тут, на Горькой линии, он слышал от матери и от стариков и старух — сказителей, какие и сейчас есть в Сибири, — первые таинственные истории.
... Прежде чем записать немногие, дошедшие до нашего времени события жизни поэта, кажется необходимым узнать, как, каким чудом появилось на свет существо, оставшееся важнейшим в творчестве Ершова, — этот самый Конек-горбунок? Конь-игрушка, «ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами».
Как он возник, необычайный конек, не больше котенка, невзрачный, но наделенный таким верным сердцем, умом и силой? И как возник Иванушка-дурачок? За что волшебный конек полюбил его?
Ярославцев, университетский товарищ Ершова, одаренный литератор и музыкант, написавший книгу о Ершове — первое и наиболее полное свидетельство его жизни, — пишет, что сказка «Конек-горбунок» по вымыслу не есть создание Ершова, она произведение народное и, как откровенно говорил сам автор, почти слово в слово взята из уст рассказчиков.
Но оговорка «почти» — «почти слово в слово» — заставляет о многом задуматься.
«Памятник» и сказка
«Почти» — так много значит в искусстве.
Еще до нашей эры римский поэт Гораций написал в оде «К Мельпомене»:
Я памятник себе воздвигнул долговечный; Превыше пирамид и крепче меди он. Ни едкие дожди, ни бурный Аквилон, Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно Не сокрушат его. — Не весь умру я; нет: Большая часть меня от вечных Парк уйдет...А через два тысячелетия появился державинский «Памятник»:
Так! — весь я не умру; но часть меня большая, От тлена убежав, по смерти станет жить, И слава возрастет моя, не увядая, Доколь славянов род вселенна будет чтить.И хотя Державин назвал свои стихи подражанием Горацию, разве не очевидно, что сходна только кровеносная система, но кровь иная — другого времени, другого народа. И гонит ее по строкам — артериям стиха — сердце совсем иного гения.
А потом Пушкин написал драгоценнейший для нас «Памятник»: и в нем такие строки:
И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывалИ хотя в горациевском, державинском и пушкинском «Памятниках» много сходного, почти всё на первый взгляд: хотя бы державинское «И слава возрастет моя, не увядая, доколь славянов род вселенна будет чтить...» и пушкинское «Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык...»; или строка Горация «Не весь умру я...» и пушкинское «Нет, весь я не умру — душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит...» — да, хотя кажется, что почти все сходно, но первый этот рассеянный взгляд обманывает. И ты уже чувствуешь, что, напротив, тут все свое, все отлично.
«Все?» — мысленно переспрашиваешь ты.
Нет, конечна же, в «Памятниках» есть общая, главная мысль, вновь и вновь рождающаяся в самых светлых умах. Мысль о том, для чего же существует человечество, что остается, передаваясь из поколения в поколение, чего не сметет «ни цепь несметных лет, ни время быстротечно».
Что остается? Камень — крепости, дворцы? Но они тоже разрушаются ветром, дождями, тяжестью тысячелетий. Ответ поэзии иной. «Тленья убежит» творчество, разум, призыв к справедливости.
Навечно остается память, мысль, которая должна преградить путь безумствам прошлого; поэзия — лишь одно из самых высоких проявлений памяти человечества.
Что «тленья убежит» — и в посмертной жизни поэта, и в жизни народа?
«Памятники» повторяли и повторяют во все века, что нет тут разных решений. Слишком долго мы живем, слишком много испытали мы, люди, чтобы в поэзии уцелели ложные и временные ответы. Инстинкт правды проницает истинную поэзию, как инстинкт материнства — душу женщины, когда она вынашивает ребенка, а потом отстаивает его существование. Нет разных ответов, но нет и конца теме. И каждый поэт вкладывает в свое решение личный неповторимый опыт и опыт своего народа, память о пережитом.
Читаешь гордые строки: «... В мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал», а в воображении возникает страница, где задумчивыми и отчаянными какими-то штрихами пушкинского пера изображена виселица с пятью повешенными — Рылеевым, Пестелем, Муравьевым-Апостолом, Каховским, Бестужевым-Рюминым, на белом листке рукописи, как на нетающих николаевских снегах, и дважды торопливым почерком повторено: «И я бы мог...» Его казнь совершилась в другую зиму.
Сколько же в истории этих безнадежных зим! И какой более высокий смысл может быть в поэзии, чем растопить снега — пушкинской милостью, честью, красотой, разумностью, пушкинской памятью.
В «Памятниках» — а ведь их известно много, под этим и другими названиями, до строк Маяковского «Мой стих трудом громаду лет прорвет...» и Валерия Брюсова «Распад певучих слов в грядущем невозможен, — я есмь и должен быть», — в «Памятниках» живет, звучит не умолкая мысль народа, длинной чреды сменяющихся поколений.
И непременно надо было вспомнить о них на этих страницах, в книге, посвященной сказочникам, потому что и в сказке существуют такие разветвляющиеся по всей стране и по всему миру, по всем временам семейства, где сказки по-сестрински сходны темой и по человеческому свойству неповторимости отличны друг от друга.
Сказки — это тоже величайший нерукотворный памятник, в котором народ сохраняет то, что по его воле «тленья убежит».
Когда говоришь — «народная сказка», «народная песня», это не может означать — ничья, общая. «Ничто» и родит только «ничего», одну пустоту.
Сказка, как жемчужина, в течение веков в совершенной красоте сформировавшаяся в раковине.
Но говорят, что и жемчужина тускнеет, не касаясь тела, а в общении с живой красотой приобретает новую прелесть, не существовавшую на дне моря в створках раковины.
Народная сказка живет, пока переходит из уст в уста; ее жизнь в течении, как и жизнь реки. Один из видных советских писателей, сказочник и знаток фольклора Андрей Платонович Платонов, писал: «...Народное творчество, будучи работой миллионов, имеет жизненный опыт безграничный. Что не вполне удалось одному человеку, другой восполнит, а третий доведет до совершенной простоты и глубины, потому что народ охватывает всю действительность не только в ежедневном труде, в борьбе и в пространстве, но и в памяти своих поколений и во времени — народ бессмертен».
Что из того, что авторы сказки нам не всегда известны; оттенки мысли, слов, сюжета, сообщаемые ими, известны ведь!
Сказка тоже блестит по-другому в свете глаз разных людей, как жемчужина в каждом из никогда не повторяющихся лучей; свойство сверкать по-разному, с бесконечным разнообразием, и отличает драгоценные камни от поддельных и драгоценные слова от полудрагоценных и поддельных.
Только для сказки важно не сверкать ярче, а теплеть, мудреть; красота ее не внешняя, а внутренняя.
Сказка именно потому становится и остается народной, что живое ее бытие немыслимо только в записи, даже наиточнейшей.
Изменения вносятся народными сказителями, почему же они не могут вноситься поэтами, если эти поэты народные? Они вносились Ариной Родионовной, няней Пушкина, и Пелагеей, няней Аксакова, и так же, по тому "Же праву, сыновьями народа — Пушкиным и Аксаковым. Андрей Платонов говорил о Пушкине, что народ передоверил ему на время «свое живое существо».
Главная тема сказки — борьба добра и зла — вновь и вновь возникает в мышлении разных людей, несходных поколений, потому что о ней не может не задуматься в свою пору каждый, один — мельком, другой — навсегда. Как не задуматься об этом, когда у тебя появляется ребенок? Кто предскажет, сумеет ли он с честью пройти через свою судьбу?
И вот одно из ответвлений вечной темы борьбы добра и зла воплощается в сказке.
Кто-то передаст ребенку услышанную в детстве сказку, ничего не прибавив и не убавив, и тем тоже совершит важное дело, сохраняя ее бессмертие. Другой вплетет в нее иногда одно слово, одну фразу или только отнимет одно слово, и, если оно было лживым, в сказке прибавится света. А третий передаст услышанное по-своему, и сказка как бы выбросит новую весеннюю ветку.
То, что покажется лишним народу — тысячам и миллионам людей, поверяющих друг другу сказку, — народ уничтожит.
Он не станет выпалывать лишнее, как сорную траву, он не сжигает, не запрещает, а просто забывает недостойное его. Матери и отцы не рассказывают этого детям.
А если люди забудут нечто важное и прекрасное? Ведь и миллионы людей могут ошибаться, и были в истории изуверские эпохи, когда дым костров не давал разглядеть истину и жестокость времени не позволяла задуматься о прекрасном. Но и тогда оставались в народе люди, сохранявшие чистоту сердца и ясность мысли.
И забытое должно было вновь возникнуть; не скоро, иногда целые поколения существовали в темном, несправедливом, но никогда не в совсем бессказочном мире.
Вот так живет сказка; перемены, происходящие в ней, необычайно важны, они — свидетельство ее бессмертия.
Что внес Ершов в народную сказку об Иванушке-дурачке? Как в этих переменах отразились душа, характер, жизненный опыт поэта?
Думая об этом, вспоминаешь, что когда Ершов ехал из Сибири в Петербург, ему ведь было шестнадцать лет, да и для этого возраста он был очень ребячливым. А возникала в нем сказка не с шестнадцати, а гораздо раньше, с Горькой линии, лет с двенадцати или даже одиннадцати, может быть, даже еще раньше — «на руках няни», как писал Ярославцев. А в восемнадцать лет она была уже им написана.
Это была сказка, не только рассказанная прежде всего для детей, но и задуманная еще ребенком, записанная юношей. Сказка ребенка для ребят; таких в мире очень мало.
И это не могло не отразиться в проказливом, ребячливом характере музы Ершова.
Для вас, души моей царицы, Красавицы, для вас одних Времен минувших небылицы, В часы досугов золотых, Под шепот старины болтливой, Рукою верной я писал.И Пушкину было всего восемнадцать лет, когда он начинал «Руслана и Людмилу», первую свою сказку, из посвящения к которой эти строки. Но вслушайтесь, как зрело звучит: «Рукою верной я писал».
Есть художественные таланты, ярко и прекрасно проходящие через все возрасты, раскрываясь все новыми красками. «Блажен, кто смолоду был молод, блажен, кто вовремя созрел», — писал Пушкин.
Но может быть и талант, совершенно выразившийся лишь в одном-единственном возрасте.
Хотя годы бегут и мальчик стал уже взрослым, а потом и старым — старым мальчиком? — седым, больным, но мальчишеское остается в нем главным. То, что могли бы принести другие возрасты, не приходит, оттесняемое детским.
Так, дереву пора уже плодоносить, а оно все по-весеннему разворачивает клейкие листочки и осенью, вдруг обманутое теплом, набухнет лиственными почками.
Детское дерево, весеннее дерево. Бывает и вечное мальчишество, мальчишеский талант.
Таким — детским человеком — был Петр Ершов. И, представляя себе Конька-горбунка, догадываешься, что конек этот родился из детского рисунка, из детских снов маленького Петра Ершова — там, на Горькой линии, в Безрукове. Что он — как та самодельная, нелепая, на взгляд взрослого, игрушка, которая была в жизни каждого из нас и была нам дороже самых дорогих покупных игрушек.
Правильна ли эта догадка?
За Коньком-горбунком...
Конек-горбунок мчался за пером Жар-птицы, а затем и за самой удивительной «птицей-Жар», за принцессой, за ее перстеньком туда, «где (я слышал стороною) небо сходится с землею».
Нам предстоит догнать самого этого конька; не для чего иного, а только чтобы с ним познакомиться.
Догнать, не имея помощника, которому по силам без устали за один денек «верст сто тысяч отмахать». Возможно ли это? Не во сне, не в мечте, а наяву и без мудрого провожатого. Где его искать, такого провожатого? Там, где крестьянки лен прядут, прялки на небо кладут»? В небесном доме Месяца Месяцовича?
Вот для этого, чтобы выяснить, как возник в воображении поэта такой необычайный Конек-горбунок, существовал ли он когда-либо прежде в народной сказке, приходится прерывать повествование о жизни Ершова новым длинным отступлением.
Я начинаю поиски в библиотеке и снова окружаю себя всеми сборниками русских сказок. А этих сборников многие десятки. Сказки А. Н. Афанасьева, Народные сказки, собранные сельским учителем» Д. К. Зеленина, «Сказки и предания Самарского края», сборники великорусских сказок А. М. Смирнова и И. А. Худякова, «Северные сказки», собранные Н. Е. Онучковым, и еще великое множество книг.
От них так сразу не оторвешься, тянется день за днем от утра до сумерек, и есть время подумать, какой же неустанный и неоценимый труд вложен в страницы, пожелтевшие от старости!
Братья Борис Матвеевич и Юрий Матвеевич Соколовы услышали от своего университетского учителя Всеволода Федоровича Миллера, что на севере Новгородчины, в Белозерском крае, бытует множество песен и сказок, забытых в других местах, и немедля отправились в Белозерье. Вот и имя звучит сказочно, песенно — Белозерье!
Тут — действительно «далеко-далеко» — на берегах огромного и прекрасного озера Белого и озера Андога, по течению рек Суда и Ковжа, проложивших свое русло непроходимыми лесами и болотами, в маленьких деревнях, отрезанных как бы и от самого времени, сохранились еще с языческих времен обычаи встречи весны и проводов зимы, вера в лесных духов — царя ветров Северика, и в домовых — веселого Запечника и злого Жихаря, крадущего детей. Сказки существовали тут привольно и нетронуто, в бесконечных пересказах, и светлыми северными вечерами величаво текли из уст стариков.
Братья Соколовы записали эти сказки и сохранили для грядущих поколений. Вместе с ними — и до и после них — трудилось множество фольклористов. Их столько, что даже назвать лишь все имена не хватило бы толстой книги. Из их научных трудов люди узнавали и узнают всё новые и новые сказки; новые для печатной машины, но незапамятно древние по счету человечества.
Как не утонуть в этом мире народного творчества!
И ведь нам необходимо не только прочитать все сказочные богатства, но и отобрать одну семью сказок, родственную «Коньку-горбунку», и к ней приглядеться пристально.
Ту семью сказок, где встречается волшебный конь, а герой — младший сын, поначалу неудачливый, дурашливый, но потом...
Эти персонажи — волшебные кони и младшие сыновья-герои — есть, может быть, даже у всех народов: у нас этого героя зовут Иванушка-дурачок, мило и ласково, в Германии — Глупый Ганс, а в Полинезии существует далекий их брат Маук, имя которого для слуха полинезийца звучит так же привлекательно, а на островах Меланезии — Тагаро-Мбити...
Ученые объясняют, что особое отношение в сказке именно к младшим сыновьям сохранилось с древности. Дикой земли было вдосталь, и старшие уходили со своими стадами в приволье, а младший, которому было еще не под силу вырубать и выжигать кишащие зверьем леса, оставался с родителями.
Старшие обзаводились в срок семьями, а он, младший, становился хранителем отеческого очага, покоил отца и мать. И перенимал от них вместе с наследством семейные предания. Незаметно он и сам вошел в эти предания. И материнская нежность, испокон веков принадлежащая маленьким, младшим, сохранила вечность сказочному образу младшего сына.
Так как же отобрать все сказки об Иванушках-дурачках и их волшебных конях?
... Когда ученые всего мира записали и изучили несчетное множество народных сказок, возникла настоятельная потребность найти какую-то систему в этом богатстве, расположить сказки в естественном для них порядке, как расположили ботаники растения земли. Финский фольклорист Анти Аматус Аарне, работавший почти в те же годы, что и собиратель русских народных сказок Александр Николаевич Афанасьев, одним из первых попытался решить эту, может быть, самую сложную в науке о фольклоре задачу. Изучив все доступные ему сказки на многих языках, он издал свой «Указатель сказочных сюжетов».
Фольклористы считают, что принципы, положенные в основу большого и замечательного труда Аарне, совсем не бесспорны, и идеальная систематика сказок потребует усилий многих поколений ученых. Но даже и в нынешнем виде «Указатель» незаменим для тех, кто, как мы сейчас, ищет дорогу в мире сказок.
Аарне разделил сказки на три главных типа: сказки о животных, собственно сказки и еще — анекдоты.
В типе «Собственно сказки» он выделил несколько больших самостоятельных отделов: сказки волшебные и сказки легендарные — то есть такие, в основе которых лежит истинное событие, подвиг, потрясший народ, как, например, подвиг героини французского народа Жанны д’Арк.
И сказки новеллистические, то есть сказки-рассказы, вроде тех, которые легли в основу гоголевских «Сорочинской ярмарки» и «Вия», где фантастическое чудесно вплетается в совершенно реальное.
В отдельную большую группу Анти Аматус Аарне выделил «Сказки о глупом черте». И это удивительно, тут есть о чем подумать. Ведь вот в пословицах, собранных Далем, говорится: «Не бойся смертей, бойся чертей», «Одолели черти чистое (святое) место», «Много в черте силы, да воли ему нет», «Я за порог, а черт поперек», «Пусти черта в дом, не вышибешь его лбом». То есть пословицы часто представляют черта сильным, хитрым, опасным.
А сказка словно не видит злого, умного черта, того, который в гениальной истории, описанной многими и прекраснее всего великим поэтом Гёте, встал на пути Фауста. Не видит этого коварного Мефистофеля, а только черта глупого, попадающего впросак. И так не в одной какой-нибудь сказке и не у одного народа.
Словно люди, ободренные вечной верой в силы разума, повторяют сказкой то, что выражено словами: «Не так страшен черт, как его малюют».
Большие разделы Аарне дробил на всё более мелкие и однородные.
В группе сказок «Балда» — в той, куда вошла и знаменитая пушкинская «Сказка о попе и о работнике его Балде», — выделяются одни сказки, где идет состязание, кто скорее обежит озеро, и другие — кто дальше забросит дубинку, и третьи — кто победит в борьбе.
А в сказках семейства — очень обширного — «Тебе корешки, мне вершки» у нас чаще всего рядятся человек с животным.
«У мужика с медведем была большая дружба. Вот и вздумали они репу сеять; посеяли и начали уговариваться, кому что брать. Мужик сказал: «Мне корешок, тебе, Миша, вершок». Выросла у них репа; мужик взял себе корешки, а Миша вершки. Видит Миша, что ошибся, и говорит мужику: «Ты, брат, меня надул! Когда будем еще что-нибудь сеять, уж меня так не проведешь». Прошел год. Мужик и говорит медведю: «Давай, Миша, сеять пшеницу». Созрела пшеница; мужик и говорит: «Ты что возьмешь, Миша? Корешок али вершок?» — «Эко, брат, теперь меня не надуешь! Подавай мне корешок, а себе бери вершок». Вот собрали они пшеницу и разделили. Мужик намолотил пшеницы, напек себе ситников, пришел к Мише: «Вот, Миша, такая-то верхушка».
А у скандинавов в этом семействе сказок рядятся не мужик с медведем или лисица с волком, как у нас, а мужик с чертом.
Но суть одна: умный побеждает глупого, смелый оставляет в дураках и зверя, и самого черта. И потому эти сказки говорят одно и то же и отвечают одинаково на важнейшие вопросы, которые встают перед людьми, где бы они ни жили и ни трудились.
И если в сказке о «Балде» батрак по справедливости наказывает скупого и глупого попа щелчками, то и в сказке, записанной замечательными немецкими фольклористами братьями Гримм, батрак, нанимаясь к управляющему имением, требует такой же платы: три щелчка в год.
От щелчков пушкинского Балды у попа «вышибло ум», как все мы помним, а у братьев Гримм юный работник щелкнул управляющего так, что тот вместе со своей дородной женой, пытавшейся удержать мужа, полетел в поднебесье; они и сейчас там летают.
«Указатель» Анти Аматуса Аарне переводили на многие языки, каждый раз несколько меняя его, пригоняя к особенностям и своеобразию творчества своего народа. Ведь в сходные сказочные сюжеты каждый народ привносит черты своего неповторимого опыта, накопленного им в вековечных поисках счастья.
Николай Петрович Андреев, один из известных советских фольклористов, создал на основе труда Аарне русский «Указатель сказочных сюжетов». И книга его была издана у нас в 1929 году по решению Сказочной комиссии — не той, уже упоминавшейся сказочной академии, где президентами Михаил Иванович Топтыгин и Старый Гном, а обыкновенной Сказочной комиссии, существовавшей при отделении этнографии Русского географического общества в Ленинграде, в доме 8а по Демидову переулку.
В своем «Указателе» Андреев особо выделил сказки, где волшебный конь помогает герою.
Герой добывает Жар-птицу, царевну, выполняет ее свадебные поручения, купается в кипятке, становится красавцем и получает руку невесты.
Так коротко и точно определена в «Указателе» Андреева суть этой семьи сказок.
... Вот какой длинный путь по книгам приходится пройти, чтобы собрать сказки-братья и уж в их строю попытаться отыскать Конька-горбунка, если такой конь существовал в народном творчестве.
За Коньком-горбунком (продолжение)
Теперь-то уж мы можем произнести старинное сказочное присловие:
— Сивка-бурка, вещая каурка, стань передо мной, как лист перед травой!
Все кони народных сказок, все до единого, придут на зов. Вот они и явились. Тут кони обычные и такие, каких и вообразить трудно.
Кони вороные, рыжие, серые, сивые, с шерсткой серебряной и золотой, с золотой и серебряной гривой, с месяцем на лбу и со звездами на боках, крылатые (даже с двенадцатью крылами) и железные.
И даже есть тут конская голова. Не та ли, о которой рассказано в украинской сказке? Жили в давние времена дед и баба, и были у них две дочки: одна — дедова, а другая — бабина. У деда дочка всегда рано вставала и всякой работе была рада. А бабиной дочке только дела, что лежать на боку.
Раз дед взял с собой в лес дочку. Увидал избушку на курьих ножках и говорит дивчине:
— Побудь тут, а я пока дров нарублю.
Как осталась дочка одна, постучалась в избу кобылячья голова:
— Кто в моей хате, открой!
Дедова дочка встала и открыла.
— Дивчино, дивчино! Перенеси меня через порог, — попросила голова.
Девушка перенесла.
— Дивчино, дивчино! Постели мне постель.
Девушка постелила.
— Дивчино, дивчино! Укрой меня!
Девушка укрыла.
— Дивчино, дивчино! Влезь ко мне в правое ухо, а из левого вылезь, — сказала голова.
Дивчина вылезла из левого уха и стала так хороша, что краше нет.
И стали у нее слуги, кони и коляска. Она села в коляску и поехала к отцу.
А в другой раз дед взял с собой в лес бабину дочку. И тоже велел ей дожидаться в избушке на курьих ножках, пока он дров нарубит.
И тоже постучалась голова и спрашивает:
— Кто в моей хате, открой!
— Не велика барыня, сама откроешь, — ответила бабина дочка.
— Дивчино, дивчино! Перенеси меня через порог.
— Не велика барыня, сама перелезешь.
— Дивчино, дивчино! Постели мне постель.
— Не велика барыня, сама постелешь.
— Дивчино, дивчино! Укрой меня.
— Не велика барыня, сама укроешься.
Кобылячья голова рассердилась и съела бабину дочку.
Да, тут была и эта кобылячья голова.
И был тут конь, который прежде служил Яге, и три коня, родившиеся у кобылицы от того, что на кухне мыли леща, а она выпила ополосок, и конь, который долго-долго находился в подземном царстве, в конюшне за семью замками, да еще на цепях, но бежал из плена, и такой конь, что, когда он мчится, пламя пышет из ушей, дым столбом валит, и такой, который дождем рассыпается в серебро, обращается в птицу, в орла, в старого человека.
И стояла в сторонке красавица, золоторогая лань.
И был не конь, а черт, впрочем служащий хозяину не хуже коня, — послушный верховой черт из добрых сказочных чертей.
И стояло шесть мышастых коней в упряжке, статных, красивых, но с маленькими, совсем не гордыми глазами. Что они так напоминают, какие чудесные события, узнанные в детстве?
Ну конечно же, Золушку. Помните, когда Золушке так захотелось поехать на бал к принцу вслед за злыми сестрами, карету фея сделала легко. Велела Золушке принести с огорода тыкву, разрезала тыкву, вынула мякоть, притронулась волшебной палочкой — вот и готова карета, да еще какая! Ну, а как быть с конями? Подумала фея. Велела принести мышеловку и выпустить шесть мышей. Дотронулась и до них своей палочкой, и возникло шесть статных мышастых коней.
Не этих ли самых?
Поодаль сгрудилось много жеребят, и среди них — паршивый жеребенок; рассказывать, так уж обо всех! Таких жеребят в деревнях раньше выбраковывали почти с самого рождения. Деревенские ребята паршивого жеребенка очень жалели: может быть, именно поэтому оказался в сказке и он?
Кони, кони... Мы ходим между рядами коней — пусть у некоторых изо рта пышет пламя и из ушей валит дым — и ищем одного-единственного Конька-горбунка, ростом только в три вершка.
А его нет и нет. Даже аршинные уши не выглядывают.
Впрочем, нет и других приметных коней, которых при удаче можно встретить на белом свете: золото-гнедых, то есть рыже-гнедых с золотым отливом, голубых — бледной, пепельной голубизны, игреневых, мухортых — с желтизной в морде, розовых, отливающих неяркой зарей.
Но этих красавцев коней мы и не искали, бог с ними.
А Конек-горбунок не откликается — сколько ни подманивай его, ни свисти, ни зови по имени.
Да и что бы он делал тут, среди коней, о которых в сказке говорится: «Воронко бежит, только земля дрожит», среди золотогривых красавиц кобылиц?
Подбился бы к жеребятам? Но как бы даже и самый жалкий жеребенок нечаянно, а не со зла не затоптал малютку.
Конек не откликается.
И с какой-то непонятной радостью я говорю себе: а как же он может откликнуться, если его и не было до рождения писателя Петра Ершова, не было во всем народном сказочном царстве, как ни богато оно и необъятно, — не было нигде в мире.
Нет, в этом вопросе Ярославцев ошибался. Ершов не просто чудесно услышал народный сказочный сюжет и переложил его музыкой стихов, он пересоздал сказку, по праву народного поэта и по праву ребенка внеся в нее совершенно новый и для русской и для всей мировой сказочной литературы образ игрушки-коня, как бы оживший детский рисунок. Образ этот мог быть рожден только сердцем ребенка, детским гением....
Три вершка росту. А уши у конька такие длинные и чуткие для того, чтобы шептать в них как другу, самому вернейшему: «Беги, беги, конек, не выдай!»
Беги, верный дружок.
Куда?.. За капризной царевной на край света? И за край света, в тот самый теремок, куда солнце скрывается на ночь и откуда восходит утром?
Но прежде всего — за пером Жар-птицы.
Помните, как рассказывает Ершов:
Огонек горит светлее, Горбунок бежит скорее. Вот уж он перед огнем. Светит поле словно днем; Чудный свет кругом струится, Но не греет, не дымится. Диву дался тут Иван. «Что, — сказал он, — за шайтан! Шапок с пять найдется свету, А тепла и дыму нету; Эко чудо-огонек!» Говорит ему конек: «Вот уж есть чему дивиться! Тут лежит перо Жар-птицы, Но для счастья своего Не бери себе его: Много, много непокою Принесет оно с собою.Да, конек прав: много непокою принесет странный огонек. Но ты все-таки, нимало не медля, не задумываясь, возьмешь его. Иначе тебе нечего было бы делать в сказке. Это для житейской мудрости верно: «Лучше синица в руки, чем журавль в небе». Для мудрости обывательской, но не сказочной, а они извека в непримиримой вражде. Обывательская мудрость учит: «Живут же люди неправдой, так и нам не лопнуть стать», а мудрость сказки и сказочной пословицы, той, что стремится вывести не на ближние и легкие, а на пусть и опасные, но истинные человеческие пути, гордо отвечает: «Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься» — то есть потеряешь себя, свою душу; «Хоть гол, да прав», «Неправдой жить — от людей отбыть», то есть опять-таки потерять совесть, душу.
«Не плюй в колодец, пригодится воды напиться» — напоминает житейская мудрость. А если тебе просто нужно, чтобы всегда и для всех вода в колодце была ключевой чистоты? И нужен даже не журавль в небе, а Жар-птица, она одна; пусть, погнавшись за ней, ты можешь всё потерять.
Как же светит Жар-птицево перо? Почему так тревожит этот свет, свет во тьме, не дает покою сказочникам, да и нам с тобой — слушателям сказки, засыпающим под медленный ее напев? Что этот свет обещает? О чем напоминает?
Через множество лет Сент-Экзюпери во время войны с фашистами полетит на совсем безнадежное задание, в дальнюю разведку, на одном из шести оставшихся у французской разведочной авиагруппы самолетов...
За три недели из двадцати трех экипажей мы потеряли семнадцать, — запишет он после полета. — Мы растаяли, как свеча».
Вылетит на это безнадежное задание. Безнадежное, да и бессмысленное — потому что даже если бы чудом удалось вернуться из полета, не было штаба, который хотя бы выслушал данные разведки, и не было самолетов, чтобы встретить летящего со всех сторон врага.
Тогда, вернувшись все-таки, Сент-Экзюпери записал для себя и для других: «Искушенье — это соблазн уступить доводам разума, когда спит дух... И сегодня, так же как мои товарищи, я взлетел наперекор всем рассуждениям, всякой очевидности, всему, что я мог в ту минуту возразить... Я знаю, придет время, и я пойму, что, поступив наперекор своему разуму, поступил разумно».
Светит чудо-огонек.
Светит Жар-птицево перо, и хотя все мы знаем, много, много непокою принесет оно, бери его, говорит сказка. У тебя нет другого выбора, потому что ты человек. Потому что бывает пустая жизнь страшнее смерти и смерть, которой человек творит бессмертие — и свое и всего человечества.
Перо Жар-птицы...
Вот и приходится переходить из сказки в быль, в реальную жизнь нашего времени и в жизнь Петра Ершова, и снова в сказку; туда и обратно, туда и обратно. Но ведь и Петр Ершов столько раз переходил эту границу. Из были в сказку. Из сказки в быль, какой бы горькой ни была эта быль. Так за два столетия до Ершова Сервантес, сидя в тюремной камере, впервые превратился в Дон Кихота и отправился в путешествие по каменистым, бедным полям Ламанчи — не за приключениями, а спасать и защищать обездоленных. Тюремщики, должно быть, не заметили важнейшего этого события?!
Может быть, сам заключенный, Мигель Сервантес, глядя на стены камеры, подумал: «Как же это костлявый Росинант вынес на волю моего тощего рыцаря Печального Образа, если стена даже не потрескалась? И что еще удивительнее, как же протиснулся сквозь нее достаточно плотный Санчо Панса вместе со своим верным серым? И мне бы вместе с ними. Каково им будет на воле без меня?»
Аршинные тюремные стены, пропитанные горем и слезами, не дрогнули, но весь человеческий мир замер на мгновение.
И мгновение тянется вот уже почти четыреста лет, что, впрочем, для сказочного счета неудивительно.
Да, Росинанта нельзя не ввести туда, где собраны все сказочные кони, и не поставить на самое почетное место. И нельзя не ввести туда Клаудильо — деревянного коня, на котором герцог и герцогиня заставили скакать Дон Кихота. Всему свету на потеху, с завязанными глазами, скакать на одном месте. Думали посмеяться над ним. Но конь скакал в бессмертие, даром что деревянный.
... Из сказки в быль. Семья Ершовых — мать, отец и два брата едут в Тобольск, где дети поступят в гимназию, благо ссыльные шведы из плененных Петром Первым в Полтавской битве гимназию эту основали. Тобольск. Некогда сюда ехал из столицы прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал, о котором Пушкин писал в стихотворении «Моя родословная»:
Решил Фиглярин, сидя дома, Что черный дед мой Ганнибал Был куплен за бутылку рома И в руки шкиперу попал. Сей шкипер был тот шкипер славный, Кем наша двигнулась земля, Кто придал мощно бег державный Рулю родного корабля. Сей шкипер деду был доступен, И сходно купленный арап Возрос усерден, неподкупен, Царю наперсник, а не раб. И был отец от Ганнибала, Пред кем средь чесменских пучин Громада кораблей вспылала И пал впервые Наварин.После смерти Петра происками царского временщика Меншикова Абрам Петрович Ганнибал «был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену» (Пушкин).
Если Петр Ершов знает этот эпизод из истории рода Пушкиных, мысли его встретятся с мыслями самого дорогого для него поэта.
Дорога. По сторонам — юрты остяков, и вогулов, и татар, и других племен, колки — березовые рощи, заросли барбариса. Болота и те кажутся детским глазам прекрасными. По сторонам простор без края. И где-то неведомое холодное море.
Вот тут, рассказывают историки, из устья Тобола Ермак завернул вверх по Иртышу и, заняв городок Заостровские юрты, остановился в раздумье. Более двадцати холодных и ненастных дней октября стояли казаки в виду вражеских укреплений, в которых Кучум, последний царь Сибирского царства, стянул всех способных носить оружие.
Много потребовалось Ермаку упорства, решимости и красноречия, чтобы воодушевить свою дружину. Наконец двадцать третьего октября казаки быстро переправились через Иртыш и бросились на приступ укреплений, окружавших столицу Кучума. Бой был жестоким. Больше ста человек потеряли осаждающие. Но вот царевич Махмет-Кул, руководивший ханскими войсками, оставил поле боя. И остяки и вогулы, не желая сражаться за владычество иноверца татарина, ушли в глубь Сибири.
Двадцать шестого октября бежал и сам Кучум вверх по Иртышу, захватив драгоценности и родных, но оставив победителю свою столицу Сибирь-Искер (городище в шестнадцати верстах от Тобольска) и Бицик-Тура («женин город»), и Сузге-Тура...
Вот он, мыс Сузге на Иртыше, когдатошний Сузге-Тура. Сама история говорит тут рокотом иртышских волн.
Вспоминая услышанное во время поездки в Тобольск и во время других поездок по Сибири, услышанное, прочитанное и угаданное, вспоминая мыс Сузге, Ершов напишет поэму о смелой жене Кучума, носившей это имя:
По сибирской всей земле Много силы у Кучума, Много всякого богатства: Драгоценного каменья, Из монистов ожерелья, Черный соболь и лисица, Золото и серебро... Но дороже всего Кучуму: Две подруги молодые, Две пригожие царицы... У одной глаза, как небо, У другой глаза, как ночь...Помните, у Пушкина в «Бахчисарайском фонтане» не знающий преграды своим страстям хан хочет сделать наложницей пленницу Марию; жена хана, Зарема, убивает Марию. У Пушкина «взрослые» страсти.
А посмотрите, какое слово первым бросилось под перо Ершова. Ребячье слово подруги. Да и могло ли быть иначе, если перо это написало «Конька-горбунка».
Детское слово, детское воображение, детский гений; это не выше и не ниже, чем взрослый гений, просто это иное.
Сузге, та, у которой «глаза, как ночь» — царица-воин, именно такая может взволновать мальчишеское воображение.
Кучум бежал. Но и тогда крепость Сузге не сдалась казакам.
Сузге призывает своего брата, Махмет-Кула:
«Царь бежал: будь ты царь нынче, Вороти свое владенье, Завоюй себе Сибирь...»Войско Махмет-Кула тоже разгромлено казаками. Сузге с седым старшиной и с горсткой воинов осаждена в крепости казаками атамана Грозы.
Она думает:
«Если б был еще воитель, Равный брату в ратном деле, Все была б еще надежда; А теперь сгублю я только Всех защитников Сузгена...»Она решает сдать крепость. Но Гроза ставит тяжкое условие: защитники крепости уплывут по Иртышу на свободу — все, кроме Сузге.
Царица предпочитает смерть неволе.
Когда казаки занимают крепость. Гроза находит царицу под навесом пихт душистых:
Щеки бледностью покрыты, Льется кровь из-под одежды. ... На Грозу она взглянула. ... Это не был взор отмщенья, Это был последний взор...Из странствий по Сибири Петр Ершов вынес высокое чувство нравственного долга перед племенами, населявшими ее.
Это стало одной из главных идей его жизни.
... Ершовы едут в Тобольск. Иртыш извивается в лесистых берегах. Показалась Иртышская гора. Река подмывает высокий берег, образуя обрывы и яры. Временами в течение обрушиваются громадные глыбы, и тогда возникает неописуемой силы волна; Иртыш раздается во всю ширину и в пенной, словно кованной из серебра кольчуге обрушивает на берег все, чем полно его течение. Лодки и шхуны, разбитые вдребезги, и убитая силой волны рыба напоминают: «Вот что такое Сибирь. Не забывайте!» Только рыба нельма не боится волны.
И Иртыш, и волна, и смелая рыба — тоже как бы из сказки. И все это причудливыми отсветами войдет в «Конька-горбунка». В подводное царство, описанное там.
Детство Петра Ершова, как и Аксакова, связано с дорогой. Но только не в удобных крытых возках из усадьбы в усадьбу, а на деревенских санях рядом с отцом, прижавшись к нему.
Из села в село, куда бросала отца служба. И по всему жизненному пути — могилы. Было у Ершовых двенадцать детей, а осталось только двое.
Вспоминая детство, Ершов напишет:
Рожденный в недрах непогоды, В краю туманов и снегов, Питомец северной природы И горя тягостных оков, Я был приветствован метелью И встречен дряхлою зимой, И над младенческой постелью Кружился вихорь снеговой... Мой первый слух был — вой бурана, Мой первый взор был — грустный взор На льдистый берег океана, На снежный горб высоких гор... Везде я видел мрак и тени В моих младенческих мечтах: Внутри несвязный рой видений, Снаружи — гробы на гробах...Десять могил братьев и сестер; о них он всегда тосковал, хотя некоторых даже не успел узнать. А потом прибавились другие могилы, самых близких; много смертей суждено было ему пережить.
Уход в вымысел был необходим еще и для того, чтобы не сломиться от тяжких бед.
«Из поэзии, мира мечтательного он не выходил, или выходил, как выходит милый ребенок из школы, после классов, только для забав», — напишет о нем близкий и преданный его друг Ярославцев.
Дорога и сказка.
— Я совсем не семейной природы, — говорил Ершов. — Мне бы посох в руки, да и марш гулять во все четыре стороны — людей посмотреть и себя показать. Уж таким создала меня мать-природа.
И это сказал человек, самозабвенно любивший брата, отца и мать. А после — жену и детей своих. И все-таки это правда.
Дорога и сказка, да еще музыка — нерасторжимые стихии; музыка ветра в пути, полозьев, скользящих по снегу.
... Прибрежные районы Тобольска пересечены множеством тенистых протоков; между ними вьются кривые улицы, обстроенные разностильными каменными и деревянными домами. Губернские учреждения забрались на гору, куда ведут два подъема: лестница для пешеходов в девятьсот ступеней и дорога для экипажей.
На одном из холмов обелиск серого мрамора с надписью: «Ермаку, покорителю Сибири». Но еще больше поражает воображение Ершова колоколенка архиерейского дома. Там стоял ссыльный колокол. Когда в Угличе зарезали царевича Димитрия, сына Ивана Грозного, угличане ударили в набат. Набатный колокол повелением Бориса Годунова был сослан в Сибирь, на берега Иртыша. За то, что поднял тревогу, «сполох, взбуду», говорили в старину.
Тащили его волоком через всю страну, через снега и бездорожье ссыльные угличане. Многие не выдерживали; мертвых заменяли живые. Годунов хотел проутюжить подвластную ему землю, полную крамолы. Но и с вырванным языком колокол гудел чугунным голосом на оледенелой земле. Тревожный голос его передавался на тысячи верст; в Смутное время набат прозвучал не в одном Угличе.
... Каким был Ершов в годы отрочества?
Мало сохранилось его портретов юношеской поры. Спасибо друзьям, и прежде всего Ярославцеву, за то, что они сберегли и передали его облик словами.
И тут представляется необходимым сказать несколько слов о Ярославцеве — однокурснике, вернейшем на всю жизнь товарище Ершова и авторе талантливой книги о нем.
Ярославцев заслужил благодарную память и тем, что в течение долгих, очень трудных для поэта лет поддерживал Ершова; может быть, один он и спасал его от последнего отчаяния в конце жизни.
Мудро писал Петр Александрович Плетнев Ершову: «Небольшой интеллигентный мир наш недостаточно еще сплочен, что, порываясь к справедливому обличению недостатков общества, желая помочь ему, не всегда спешит на помощь своим собратам».
Книгой о поэте, где были опубликованы драгоценные письма Ершова, Ярославцев дал нам возможность через полтора столетия услышать живой голос сказочника. Книга — трогательное свидетельство дружбы и любви; автор как бы сознательно скрывается от взгляда, избегает личных суждений, но зато позволяет запомнить каждый жест и каждое душевное движение поэта. Как грустно, что возле Пушкина и возле Лермонтова среди многочисленных друзей не оказалось ни одного такого, как Ярославцев, то есть способного вполне и в течение всей жизни посвятить себя им.
«Спокойным днем мая, — пишет Ярославцев, — представлялось лицо его, бледноватое, без румянца; темные волосы слегка закручивались на широком лбу и на висках; брови дугой поднимались над добродушными глазами, из которых глядела мысль и фантазия; зрачки глаз небольшие, голубые».
Выражение лица у мальчика — вслушивающееся, он даже и голову держит немного склоненной вперед — «чу... что за чудесные звуки зарождаются в тишине».
Это со времени, когда он, забравшись долгим зимним вечером в избу, полную стариков — еще на Горькой линии, — слушал, как они друг другу рассказывают были и небылицы. На губах затаенная улыбка.
Ершов очень любил забавы, проказы, как, впрочем, и другие сказочники. Среди ссыльных в Тобольске в то время был Александр Александрович Алябьев, храбрый солдат Отечественной войны и замечательный композитор; он написал много чудесных произведений, в том числе известный каждому романс «Соловей» на слова Дельвига. В Тобольске Алябьев создал симфонический оркестр. Ершов подружился с этим талантливым и красивым человеком и ходил с ним на все репетиции.
Впоследствии он вспоминал смешную проделку, связанную с их дружбой: «Алябьев как-то в споре со мной шутя сказал, что в музыке я ничего не смыслю. «Ну, брат, я докажу тебе на первой же репетиции, что ты ошибаешься».... Вот и репетиция. Сели мы с Алябьевым поближе к оркестру. Я дал ему слово, что замечу малейший фальшь. В то время первой скрипкой был некто И-тков, отличный музыкант; он при каждой ошибке в оркестре такие рожи строил, что хоть вон беги. Я с него глаз не спускаю, а Алябьев ничего не замечает, для него в целом мире одна музыка. Как только у первой скрипки рожа, я и толкну Алябьева. Не вытерпел он, в половине пьесы встал да и поклонился мне... Когда дело объяснилось, мы оба расхохотались».
Впрочем, Ершов не был таким уж посторонним музыке, он много думал о ней и нежно ее любил. Через много лет Ершов напишет Ярославцеву: «Я предчувствую в себе сильную борьбу музыки и слова — это две сестры одной матери, но несхожие; таинственность и глубина первой не поладят с ясностью второй:
В словах ли музыка прольется Иль слово в звуках задрожит...»И еще он писал: «Не огорчайся, что любовь к музыке я назвал болезнью: все, что выходит из обыкновенного порядка вещей и требует работы головы и сердца, все это отзывается болезнью, или, пожалуй, тоскою о нездешнем...»
... Оканчиваются гимназические годы, и снова дорога.
Теперь уж не с Горькой линии в Тобольск, а из Тобольска в столицу.
Университетские годы. Птица-Жар...
Сборная комната университета. Студенты ждут, когда придет профессор и уведет, словно наседка цыплят, стайку своих учеников в аудиторию. Петр Ершов вместе с братом где-нибудь в сторонке.
Иным Ершовы кажутся загадочными, чуть ли не заносчивыми. Это потому, что в то время в университет стали поступать сыновья важных сановников и братья «уклоняются» от них. Они держались, «как не знакомые никому пришельцы», вспоминали однокурсники.
И на лекциях Петр Ершов сидит сосредоточенный. Под мерный голос профессора он пишет, пишет, редко отрывая взгляд от тетради. Старательный студент. Но что это?.. Губы зашевелились, улыбка засветилась явственнее, хотя речь о каком-нибудь полицейском или каноническом праве — ведь он студент юридического факультета. Если заглянуть через плечо юноши, видишь, что на страничке не записи лекций, а череда коротких стихотворных строк.
Как менялся Ершов, оставаясь наедине с братом, родителями, немногими близкими друзьями! Тут уж не оставалось и следа загадочности — полная открытость. Порой у друзей промелькнет пророческое: легко ли будет жить с таким незащищенным сердцем?
Поэт читал друзьям из тетрадки, а когда записи обрывались, сказка продолжала литься свободной импровизацией. Она переполняла уютные, по-сибирски тепло протопленные комнатки Ершовых. Старинные народные слова, которые и в сочинениях лучшего знатока русского языка Даля существовали часто как бы отдельно, входят в стихи естественно и живо, золотым узором в кружева.
Тетрадка полнится новыми и новыми строками. В некий день 1833 года Ершов в сборной университетской комнате передал профессору русской словесности, другу Пушкина Петру Александровичу Плетневу, тетрадь с перебеленной первой частью сказки. На следующий день профессор, несколько волнуясь, вместо лекции читает ее студентам.
Вот Иванушка поймал кобылицу.
За волнистый хвост хватает И садится на хребёт — Только задом наперёд. Кобылица молодая, Очью бешено сверкая, Змеем голову свила И пустилась, как стрела. Вьется кругом над полями, Виснет пластью надо рвами, Мчится скоком по горам, Ходит дыбом по лесам, Хочет силой аль обманом — Лишь бы справиться с Иваном. Но Иван и сам не прост — Крепко держится за хвост. Наконец она устала. Ну, Иван, — ему сказала, — Коль умел ты усидеть, Так тебе мной и владеть».Чудесное чувство охватывает слушателей. Будто Иванушка-дурачок и загадочный Петр Ершов — одно лицо.
«Дурачком здесь называется Иванушка только на людском языке: он не подходит под понятия людей обыкновенных», — запишет после лекции Ярославцев.
И будто Петру Ершову покорилась сама стихия народной сказки, как сказочная кобылица — Иванушке. Будто эта стихия, сама она, под мерный голос Плетнева, читающего озорные, блещущие талантом стихи, ворвалась на всем скаку в литературу.
Так представляется; но если бы спросить Петра Ершова, как он расценивает произошедшее, может быть, он ответил бы словами Конька-горбунка:
Но, сказать тебе по дружбе, Это службишка, не служба; Служба вся, брат, впереди...»«Служба», думает он, это поэма «Иван-царевич» в десяти томах, по сто песен в каждой; образы ее уже вертятся, зорятся в мыслях. Да и грандиозная поэма, где он надеется собрать все сказочные богатства страны, не главное предназначение, не истинная «служба», «служение». Оно в ином... А это — «службишка».
Только слушатели не согласны с поэтом. Редко бывало, чтобы такая общая радость охватила лучших людей литературы. И радость сразу находит отклик в душе величайшего писателя России. Ершов едет к Пушкину. Из своих окраинных Песков. Вспомним, как у Пушкина описаны окраины Петербурга: «Погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты. Изредка тянулся Ванька на тощей кляче своей, высматривая запоздалого седока».
Вот извозчик и высмотрел Ершова.
К Пушкину! В дом купца Жадимировского на углу Большой Морской улицы и Гороховой.
— Скорее, скорее! — торопит Ершов извозчика.
Для Пушкина эти годы не радостны. Он назначен камер-юнкером — низшее придворное звание. Для того чтобы не возвышался «главою непокорной», чтобы являлся на балы в дурацкой форме, рядом с дворянскими недорослями. Чтобы не осуществилась мечта:
На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля — Давно, усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег...Чтобы побег не удался. Чтобы царские «глазей», если взять ершовское слово, могли следить за каждым шагом поэта. И красавица жена появлялась при дворе. Да, для Пушкина это трудные годы, когда уже начали плестись петли заговора, приведшего поэта к трагическому поединку и ранней гибели.
Скорее! Сегодняшний день для Пушкина будет радостным. Вот уже Ершов входит в большую комнату с длинным столом, заваленным бумагами, и со шкапами по бокам стола.
Иванушка-дурачок...
Ничего в точности не известно о разговоре Пушкина с молодым Ершовым. Сам Ершов не записал содержание беседы, может быть, он говорил себе, что и так каждое слово запомнилось навсегда. А о потомках кто думает в юности...
Известно только, что Пушкин сказал:
— Теперь эту отрасль литературы я могу и оставить.
И также известно, что он эту «отрасль», к нашему счастью, не оставил, а успел написать еще «Сказку о золотом петушке».
Как когда-то Державин на знаменитом лицейском вечере благословил Пушкина, как бы передал ему свою лиру, так и Пушкин благословил Ершова.
А тому как воздух необходимо было признание. Ведь если многие с появления «Конька-горбунка» оценили талант молодого поэта, то были и критики, всячески унижавшие его.
О «Коньке-горбунке» в «Отечественных записках» было написано: «Сказку эту почитывают дети с удовольствием, прельщаясь рассказом и приключениями, в ней описанными, и не извлекая никакой морали. Жили-были три брата: двое старших работали, сеяли пшеницу, возили ее продавать в город — и ни в чем не успели... Младший, дурак, лентяй, который только и делал, что лежал на печи и ел горох и бобы, стал богат и женился на Царь-девице. Следственно, глупость, тунеядство, праздность — самый верный путь к человеческому счастью. Русская пословица говорит: не родись ни пригож, ни умен, родись счастлив, — а теперь, после сказки г. Ершова, надобно говорить: не родись пригож и умен, а родись глупцом, празднолюбцем и обжорой».
Леденящим холодом веет от заметки и сейчас, через столько десятилетий после ее написания.
Но в самом деле — «братья сеяли пшеницу», а Иванушка?.. Что делал он?
Сказка отвечает: совершал подвиги!
Вот пришла беда: «Кто-то в поле стал ходить и пшеницу шевелить» — видно, здорово «шевелил», раз «мужики такой печали отродяся не видали». Старший брат, тот самый, который «умный был детина», отправился в дозор, но — «ночь ненастная настала; на него боязнь напала, и со страхов наш мужик закопался под сенник».
И со средним братом то же самое — лишь только «ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать; он ударился бежать — и всю ночь ходил дозором у соседки под забором».
Только Иванушка спас пшеницу.
А потом он совершал подвиг за подвигом.
Сказка бросает вызов жадной обывательской морали, для которой чистый и бескорыстный — значит глупый. Это относится ко всем бесчисленным Иванушкам народных сказок, но герой сказки Ершова и среди них занимает совсем особое место.
Кроме обычного определения слова «дурак», у Даля приводятся и ласкательные: «дурашка», «дуранюшка». И каждый из нас, вероятно, в детстве слышал из уст матери — «дурашка», «дурачок»...
Ершовский Иванушка — такой «дурашка». Вглядитесь в него. Каким он представлялся мальчику-поэту, когда еще в гимназические тобольские годы этот причудливый образ складывался в его сознании?
Иванушка верхом на Коньке-горбунке, рожденном только лишь для него. Но если в коньке всего три вершка, то каким поэт воображал всадника? Ведь сказка и в волшебстве любит точность. У Джонатана Свифта, когда Гулливер попадает в страны лилипутов и великанов, писатель, помогая нашему воображению, точно определяет рост обитателей сказочных стран, размеры их кораблей, вышину зданий.
Так можно ли измерить рост ершовского Иванушки? Если в Коньке -Горбунке три вершка, то Иванушка в мечтах поэта должен быть под стать коню? Что же — это мальчик с пальчик?
Иван — крестьянский сын из родственной «Коньку-горбунку» народной сказки «Волшебный конь», он «где помелом махнет — там улица, где перемахнет — там с переулочком!» Он богатырь, а каков ершовский «крестьянский сын»?
Маленький, если судить по коньку. Но тот же Иванушка укрощает кобылицу, он снова и снова предстает перед нами статным и красивым добрым молодцем.
Вспомним снова детство, в сказке без него заблудишься. Что происходит, когда девочка нянчит и укладывает спать голыша? Она уменьшается или голыш превращается в ее воображении в младенца? Что происходит, когда мальчик командует оловянными солдатиками и они, оживая, вместе с ним храбро бросаются в бой, как об этом рассказано, например, в прелестной сказке Гофмана «Щелкунчик»?
Кажется, что в воображении ребенка и он сам и все окружающее может существовать в двух измерениях, то сокращаясь, то увеличиваясь — даже до великаньих размеров. И эти два сказочных измерения детства не должны удивить. Воображение ребенка бросает его то в великанскую даль, далеко за пределы взрослой жизни, и сразу же прячет под милые сени детства, подальше от взрослости, недостижимее для нее, в вечное детство гномов, кукол и мальчиков с пальчик.
Это один из даров детства — уменьшаться и увеличиваться в мечтах. «Полем пройдет вровень с травами, лесом пройдет вровень с соснами» — говорится в сказках. И этим ребячьим даром щедро наделен Иванушка.
Нам очень важно это понять, потому что так снова обнажается необычайная природа поэзии Ершова — музы-ребенка.
Из детства во взрослость. С ребячьим порывом, не знающим меры: во взрослость — так уж богатырскую, а в детство — так уж фантастическое, где тебе дозволено уменьшаться до любимого Конька-горбунка, слиться с ним — «пластью» лететь над миром. Маленький — это чтобы не быть подвластным обычным отношениям и измерениям взрослости, чтобы, как Дюймовочка, лететь на ласточке, чтобы даже венчик цветка был тебе домом.
Из детства во взрослость. И обратно в сказку. Из детства, где только подвиги, в воображаемую богатырскую жизнь, тоже с мечтой о подвиге, а потом и в реальную взрослую жизнь со всем ее неустройством, несправедливостями, такими непосильными для мальчика-мечтателя.
Так и будет Петр Ершов всю жизнь переходить из мира детства, где он дома, в оказавшийся таким для него холодным, а то и враждебным взрослый мир, где он так и не найдет настоящего своего места. И снова в сказку и с нею к несчетным поколениям ребят, с готовностью и со счастьем принимающих его в настоящий свой вечный дом детства.
К подвигам...
В эти годы Ершов исповедовался в стихах:
... Закон небесный Нас к славной цели предызбрал: ... Раскрыть покров небес полночных, Богатства выспросить у гор И чрез кристаллы вод восточных На дно морское бросить взор: Подслушать тайные сказанья Лесов дремучих, скал седых И вырвать древние преданья Из уст курганов гробовых. Воздвигнуть падшие народы, Гранитну летопись прочесть...Это был план жизни. Поэт писал о себе:
... Чредой стекали в вечность годы; Светлело что-то впереди, И чувство жизни и свободы Забилось трепетно в груди. Я полюбил людей, как братий, Природу, как родную мать, И в жаркий круг моих объятий Хотел живое все созвать...Он приобрел флейту и вместе с ней отправлялся в долгие одинокие прогулки.
Когда приятель спросил его, почему он предпочел именно этот инструмент, он с глубокой серьезностью ответил:
— Так ведь флейту можно уложить в карман, а на прогулках, где-нибудь в отдаленных местах, потешить себя.
«Отдаленные места» — поэт думал не о пригородах столицы.
Со своим другом Константином Тимковским Ершов обменялся кольцами — черными, из металлических роз, с серебряной пластинкой, на которой были выгравированы две буквы «МУ», что означало «Mors et Vita» — «На жизнь и смерть».
Как-то, показав кольцо Ярославцеву, он сказал, что надолго поедет в Сибирь, будет путешествовать.
— Желаешь собрать побольше сказок? — спросил Ярославцев.
— Нет, это что; пригласишь старух — вот тебе и сказки. У меня другая цель.
На столе лежал развернутый «Гамлет».
— Нравится? — спросил Ярославцев.
Ершов покачал головой:
— Читал да и оставил; к чему преждевременно охлаждать себя.
Словно объясняя, отчего он никак не должен растерять душевной цельности, стал рассказывать о своих планах; о благе, какое можно доставить сибирским племенам, изведав их и подробно сообщив обществу сведения и план, как помочь им.
— Примут, не примут — мы свое дело сделали.
Он говорил как в жару:
— Отец ехал по делам, я еще маленький, на коленах прошу, чтобы взял с собою. Сибирь! Ты и не представляешь себе, что это такое. Ночью видел во сне приятеля детства, который теперь учителем в Сибири. О нем я уже давно не вспоминал. Говорю ему — это во сне: «Поедешь с нами?» Он подал мне руку: «Изволь».
Слезы показались на глазах Ершова. Он бросился в соседнюю комнату и из-под диванной подушки вытащил тетрадь:
— Это дневник, в который я записываю все, что нужно для путешествия. Да и флейтой я занимаюсь, чтобы не тосковать в дороге. Тимковский обещал привезти из Америки шхуну для хода по водам. Летом будем путешествовать, а зимой писать и издавать журнал.
Посмотрев на Ярославцева, сказал еще:
— Ты как музыкант был бы очень полезен при собирании туземных песен.
Предупреждая возражение, сказал:
— Но и план Колумба мог бы надолго остаться мечтой!
Как-то Ярославцев пришел к Ершову в сумерки. Тот сидел на низенькой скамейке перед печкой:
— А я тут по-сибирски руки грею...
— Иные не так нагревают себе руки, — пошутил Ярославцев.
Ершов не ответил. Помолчав, задумчиво сказал:
— А вот читал ты это? «Отовсюду объятый равниною моря, утес гордо высится; мрачен, суров, незыблем стоит он, в могуществе споря с прибоями волн и с напором веков». Владимира Григорьевича Бенедиктова стихи.
В те петербургские месяцы он будто впрок набирался тепла, хотя Петербург и не очень пригоден для этого; проверял себя, хватит ли сил для одинокой судьбы утеса среди сибирской пустыни, для служения.
Жизнь была полна бедами. «Внутри несвязный рой видений, снаружи — гробы на гробах» — как он писал. Умер брат, самый близкий человек, «родной» — этому слову Ершов придавал особый высокий смысл:
И все, что сердцу было ново... Делил я с братом пополам. И недоверчивый, суровый, Он оценил меня. Со мной Он не скрывал своей природы, Горя прекрасною душой, При звуках славы и свободы...Превозмогая горе, он писал стихи, но главным становилась подготовка к путешествиям.
Дед Тимковского, Григорий Иванович Шелехов, «Русский Коломб», как его прозвали, организовал поселения на северных островах Тихого океана и на Аляске. За Христофором Колумбом на новые земли проникли конкистадоры; Ершову казалось, что за Шелеховым должны прийти на север поэты, записывающие древние сказания, учителя, врачи, возвращающие жизнь «падшим народам», музыканты. Это долг, и все сроки пропущены — ждать нельзя!
В Петербурге ему было тесно — даже прекрасные каменные дворцы давили. Нева, закованная в гранит, плененная, внушала сострадание; Иртыш сбросил бы оковы.
Ершов писал:
Чу, вихрь пронесся по чистому полю! Чу, крикнул орел в громовых облаках. О, дайте мне крылья! О, дайте мне волю! Мне тошно, мне душно в тяжелых стенах... Расти ли нагорному кедру в темнице И красного солнца и бурь не видать...Тобольск — первый этап задуманных на всю жизнь странствий, Ершов рвется туда для короткой передышки, чтобы собраться с силами и подождать друзей, в первую очередь Тимковского.
В Петербурге он похоронил брата и отца и возвращается в Сибирь со старушкой матерью, единственным близким человеком.
В Тобольской гимназии для одного из лучших поэтов России в первый год не нашлось места словесника. Ершов берется преподавать латынь, хотя древние языки — самое слабое место в его образовании. Это ненадолго — так кажется ему.
Он уехал из Петербурга и словно расстался с Коньком-горбунком. Как сложится судьба сказки? Как сложится судьба поэта?
Судьба сказки
Иногда слово кажется как бы неподвижным, заснувшим — это когда встречаешься с ним в словаре, где ему присвоено неизмененное определение. Но попробуй проследить за словом в сказке, пословице, стихотворении, в живой речи, в собственной твоей судьбе. Теперь оно преобразилось в птицу, которая наполняет своим пением леса и поля и, когда придет срок, отправляется за океан.
Ребенок узнает слово «любовь». «Кого ты любишь?» — «Маму, отца, брата...»; «Что ты любишь?» — «Мороженое, куклу...»
Идут годы, и слово «любовь» вбирает природу, музыку, стихи, друга, любимую. Все это входит как воздух в легкие. Слово наполняется волшебным смыслом, как воздушный шар, и поднимает человека ввысь. «Что ты ненавидишь?» — «Рыбий жир, касторку, диктанты»; «Что ты ненавидишь?» — «Ложь, рабство, угодливость»; «Что ты любишь?» — «Свободу, родину».
Слово становится для тебя иным, чем для всех других людей, которые есть, были и еще будут. «Кого ты любишь, Ромео?» — Джульетту!»; «Кого ты любить, Отелло?» — «Дездемону!»; «Кого ты ненавидишь, Кюхельбекер?» — «Коронованного палача, пославшего на виселицу лучших людей России».
Слово становится иным в оттенках, оставаясь неизменным в главном смысле; так оно делает каждого человека отличным от другого и всех людей соединяет в то, что мы гордо называем народом.
И в словарях слово временами меняет свое значение, только медленнее, чем в жизни каждого из нас, и по другим законам.
Развернем снова словарь Даля. Вот слово «человек» — одно из важнейших в языке.
«Каждый из людей; высшее из земных созданий, одаренное разумом, свободной волей и словесной речью», — пишет Даль. Понадобились подвиги, чтобы утвердить слово в его высоком значении.
Есть люди, а есть еще, как кажется некоторым, «дикари». Русский путешественник Миклухо-Маклай отправляется на острова Полинезии, проводит там среди «дикарей» много лет. Когда он опубликует замечательные свои исследования, Лев Толстой скажет: «Главное, теперь неопровержимо доказано, что человек везде человек».
Человек — «высшее из земных созданий», но были рабы и в «золотой век Перикла», во времена расцвета Афин там жило тридцать тысяч свободных граждан и десятки тысяч невольников, которым отказывали во всех человеческих правах. И уже почти во всем мире было уничтожено рабство, а в России сохранялось крепостное право.
И после отмены крепостного рабства оставалось еще такое значение слова «человек», как «служитель, прислуга, лакей или комнатный».
И это унизительное значение слова отошло в прошлое.
Человек, писал Даль, «отличается от животного разумом и волей, нравственными понятиями и совестью». Но вот появляются фашисты, и становится трагически ясно, что вовсе не все люди одарены «нравственными понятиями и совестью».
В 1789 году во время Великой французской революции слова «свобода, равенство и братство», забытые при власти французских королей, обрели себя.
Но шли месяцы, и оказалось, что нищий, штурмовавший Бастилию в братском равенстве с торговцем, так и остался нищим; братство и равенство снова переселились в мечту.
Началась эпоха террора, и свобода незримо положила голову под нож гильотины.
А потом республику сменила военная империя Наполеона. Марши заглушили призыв к свободе, теперь звучавший только в немногих, отчаянно смелых сердцах.
Так высшие слова в иные эпохи обретают летучесть, а в другие гибнут.
Точно так же и сказки — в иные времена, в иных устах они наполняются всей правдой, а в другие опустошаются.
В народных сказках старый царь, захотевший жениться на заморской красавице царевне, добытой Иванушкой-дурачком, выглядит жалким, достойным осмеяния. Но вот сюжет этот в восемнадцатом веке попадает в руки неизвестного придворного перелицовщика, и тот сочиняет сказку о Петре-королевиче.
«Король предложил Прелонзской королевне, что уже столько времени пленяется ее красотою, пылает к ней любовью и имеет намерение вступить с нею в законный брак», — не очень грамотно рассказывается в приспособленной на вкус потребителя галантной подделке.
— Очень хорошо, — говорит королевна. — Я от сего никак не отказываюсь.
У Ершова сказка вновь наполняется правдой.
«Бесподобная девица, Согласися быть царица! Я тебя едва узрел — Сильной страстью воскипел...» А царевна молодая, Ничего не говоря, Отвернулась от царя.И вот другая встреча царя и царевны. Царевна говорит царю:
«Но взгляни-ка, ты ведь сед; Мне пятнадцать только лет: Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться, Дед-то, скажут, внуку взял!» Царь со гневом закричал: «Пусть-ка только засмеются — У меня как раз свернутся: Все их царства полоню! Весь их род искореню!.. Лишь бы только нам жениться». Говорит ему девица: «А какая в том нужда, Что не выйду никогда За дурного, за седого, За беззубого такого!»И царедворцы в сказке Ершова под стать сластолюбивому царю. Угодливые дворяне по поручению царя побежали за Иваном.
Но, столкнувшись все в углу, Растянулись на полу. Царь тем много любовался И до колотья смеялся. А дворяне, усмотря, Что смешно то для царя, Меж собой перемигнулись И вдругорядь растянулись. Царь тем так доволен был, Что их шапкой наградил.Царский спальник хочет любой ценой «уходить» Ивана. Какой путь к этому? Клевета.
Он думает:
«Донесу я в думе царской, Что конюший государский — Басурманин, ворожей, Чернокнижник и злодей; Что он с бесом хлеб-соль водит, В церковь божию не ходит...»Плетка, взятка, неправый суд господствуют тут.
«Но возьми же ты в расчет Некорыстный наш живот. Сколь пшеницы мы ни сеем, Чуть насущный хлеб имеем. До оброков ли нам тут? А исправники дерут,— жалуются Ивану его братья.
Сказка переносит нас на конный рынок: Городничий удивился, Что народ развеселился, И приказ отряду дал, Чтоб дорогу прочищал. «Эй! вы, черти босоноги! Прочь с дороги! прочь с дороги! — Закричали усачи И ударили в бичи.Эти сцены написаны с натуры.
Об Аракчееве, временщике Александра Первого, жестоком человеке, — до сих пор аракчеевщиной называют тупость, солдафонство, жестокость, — о нем литератор той эпохи П. Анненков писал, что этот всемогущий человек ограничивался только административными сферами, хозяйничая во всех ведомствах беспрекословно, и мало касался улицы, домашней жизни и обмена мнений, не устанавливая за ними никакого особого надзора. Это уже зависело от свойства его честолюбия и от бедности образования.
При Николае Первом и его главном слуге, начальнике Третьего отделения Бенкендорфе, «соглядатаи», «глазеи» проникали во все щелочки, подчиняя себе «улицу, домашнюю жизнь, обмен мнений».
Говоря о росте чиновничества при Николае Первом, историк Василий Осипович Ключевский писал, что Россией правили столоначальники. Можно сказать и так: страной правили столоначальники, жандармы и эти самые «глазеи».
Количество судебных дел росло, как снежная лавина. Когда Николай Первый вступил на престол, во всех «служебных местах», пишет тот же Ключевский, числилось два миллиона восемьсот тысяч неоконченных дел, в 1842 году их было уже тридцать три миллиона!
Но пора вернуться из нерадостной жизни в сказку. Полюбуемся, как гордо ведет себя Иван. Царь предлагает ему взять в подчинение «весь конюшенный завод».
То есть, я из огорода Стану царский воевода. Чудно дело! Так и быть, Стану, царь, тебе служить, Только, чур, со мной не драться И давать мне высыпаться...» —отвечает Иван.
Это обращение не только равного к равному, а смелого и молодого к вздорному старику; как же славно и неожиданно звучит оно в немых царских покоях.
Царю доносят, что конюший владеет Жар-птицевым пером; он приказывает привести Ивана.
Царь?.. Ну ладно! Вот сряжуся И тотчас к нему явлюся», — Говорит послам Иван. Тут надел он свой кафтан, Опояской подвязался, Приумылся, причесался, Кнут свой сбоку прицепил, Словно утица поплыл. Вот Иван к царю явился, Поклонился, подбодрился, Крякнул дважды и спросил: А пошто меня будил?»«Конек-горбунок» Ершова был впервые напечатан с некоторыми купюрами в 1834 году, потом сказка целиком подпала под цензурный запрет, и второе ее издание появилось лишь в 1856 году, после окончания царствования Николая.
Можно предположить, что долгая немилость вызывалась не столько бытовыми картинами произвола, а прежде всего презрительными нотами в обрисовке царя и полным отсутствием раболепства в герое сказки — без раболепства бесконтрольная власть не может существовать.
Во всяком случае, многочисленные ремесленные переделки сказки Ершова, которые издавались в 1865, 1873, 1877, 1881 и в последующие годы, прежде всего превращали Ивана в покорного слугу.
В этих подделках даже не царь, а министр его предлагает Ивану должность конюшего:
Иван чувством умилился, Слыша милость, прослезился, Сто поклонов отсчитал, Благодарность изъявлял.Царевна уже не смеет с негодованием отвергнуть домогательства немощного старика. Она
Миловидно улыбнулась И к царю тут повернулась. Говорит царю в ответ: «Я твоя, в том спору нет...»Судьбу сказки определяет память народа. Подделки издавались год за годом дешевыми базарными лубками; но не было в бездарных этих виршах того, что одно способно закрепиться в сердце, особенно в детском сердце, — поэзии и правды. Прочитанные, они тотчас забывались. А сказка Ершова еще в то николаевское царствование, когда она была запрещена, переходила из уст в уста, она уже тогда обрела независимое от печатного станка вечное существование.
Прощание со сказочником
Петр Павлович Ершов покидает столицу и возвращается в Сибирь. А нам, как это ни грустно, предстоит в этой последней короткой главке распрощаться с ним самим.
Стихи его, и сказка, и письма к друзьям будут вновь и вновь возникать в памяти, будя тревожную мысль о нем. Будто он так нуждается в помощи, а ты ничего не можешь сделать для него, хотя стольким ему обязан — это ощущение во всю жизнь Ершова было у лучших его друзей.
Его первая мечта: «В защиту правых, в казнь неправых глагол на Азию простереть». Вместе с верными друзьями таинственным Жар-птицевым светом озарить обездоленные народы Сибири, чтобы бесправие и угнетение отступили.
Наивная мечта — но какая прекрасная!
Он ждет Константина Тимковского. Тот уже вернулся из Америки, а в Сибири все не появляется.
Ершов пишет:
Какая цель! Пустыни, степи Лучом гражданства озарить, Разрушить умственные цепи И человека сотворить... Мой друг, ужели, Себе и чести изменив, Мы отбежим от славной цели И сдержим пламенный порыв! Ужель, забыв свое призванье И охладив себя вконец, Мы в малодушном ожиданье Дадим похитить свой венец? Нет! нет!.. Не охладим святого рвенья, Пойдем с надеждою вперед И если... пусть! Но шум паденья Мильоны робких потрясет.Нет, Тимковский не отказался «от славной цели». В эти годы Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, воспитанник того же Царскосельского лицея, где учились Пушкин и иные из декабристов, создает в Петербурге кружок сторонников уничтожения крепостного права и установления в России республиканского строя; Тимковский примыкает к нему. Он по-прежнему «горит прекрасною душой при звуках славы и свободы».
Но Ершов не знает о существовании кружка. В Сибирь, должно быть, не доходят вести о деятельности этой узкой группки революционно мыслящей интеллигенции, ограничивающейся почти только одними спорами и размышлениями о справедливом устройстве страны.
Оставшись одиноким, Ершов пытается найти опору в творчестве.
— Никогда я еще так не понимал ее, — пишет Ершов о поэзии своим друзьям, обеспокоенным долгим его молчанием. — В этом и главная причина, почему я бросил перо, пока зерно не созреет.
Теперь, как ему кажется, пора приспела. Пусть Россия почувствует всю силу и красоту, таящуюся в ней — силу красоты, — тогда удесятерятся силы и в борьбе за справедливость, — с этой мыслью Ершов принимается за новую сказку, ту, заветную — об Иване-царевиче.
Конек-горбунок был творением мальчишеским, дерзким, озорным, весенним. Новая сказка рождается в воображении полноводной рекой, величаво и неспешно текущей к морю. В ней должна восторжествовать любовь, возникнуть разумное царство, управляемое мудрым Иваном-царевичем, — сказка-мечта.
Может быть, задача, которую поставил себе Ершов, чем-то напоминала мечту Гоголя: во втором томе грандиозной поэмы «Мертвые души» дать Россию, вопреки всему неустройству ее, летящею в будущее, поднимающеюся над тонущими в грязи и нищете городами и селениями, над крепостной неволей.
И, может быть, замысел Ершова был так же неосуществим.
Поэт принимается за работу. Первые строки возникают на бумаге.
Рано утром, под окном, Подпершися локотком, Дочка царская сидела, Вдаль задумчиво глядела, И порою, как алмаз, Слезка падала из глаз. А пред ней, ширинкой чудной, Луг пестрился изумрудный, А по лугу ручеек Серебристой лентой тек. Воздух легкий так отрадно Навевал струей прохладной. Солнце утра так светло В путь далекий свой пошло! Все юнело, все играло, Лишь царевна тосковала Под косящатым окном, Подпершися локотком. Наконец она вздохнула, Тихо ручками всплеснула И, тоски своей полна, Так промолвила она: «Всех пространней царство наше, Всех девиц я в царстве краше: Бела личика красой, Темно-русою косой, Нежной шеей лебединой, Речью звонкой соловьиной, Дочь единая отца, Я краса его дворца...Полдень. Не шелохнет. Вот какое чувство охватывает душу, когда читаешь эти строки. Солнце светит над бескрайней страной. И тоска у принцессы как летнее облачко. Появится, непременно появится Иван-царевич, и печаль рассеется. Только мы не увидим этого, потому что сказка обрывается в самом начале. Почему обрывается?
Не было спокойствия в сердце поэта. Не было и следа этой полуденной тишины в самой стране, которую писал поэт. Ведь по свойству его таланта не тридевятые царства, а картины, виденные ежедневно, воплощались его пером, где волшебное соединялось с зеркально отраженным.
А тут пришли трагические вести из Петербурга. В апреле 1849 года двадцать два члена кружка Петрашевского преданы военному суду. По заключению генерал-аудитора двадцать одного подсудимого, в том числе и Тимковского, суд приговорил «к смертной казни расстрелянием».
Через много лет Федор Михайлович Достоевский, один из петрашевцев, рассказал своему юному другу, будущему знаменитому математику и литератору Софье Васильевне Ковалевской, о событиях страшного дня: «
— Посадили нас всех в кареты, по четверо человек в одну, и с нами солдат. Было часов семь утра. Куда нас везут, мы не знали. Спросили об этом солдата, но он ответил: «Не приказано сказывать!» После казавшейся нам бесконечной дороги привезли нас, наконец, на Семеновский плац, посреди которого возвышался эшафот. Нас взвели на него и расставили в два ряда. После долгого заточения и разлуки с товарищами хотелось нам поздороваться, поговорить друг с другом, но за нами наблюдали так строго, что удалось только обменяться несколькими словами с тем, кто стоял ближе.
На середину эшафота вышел аудитор и прочел нам всем смертный приговор. Казнь должна была совершиться немедленно.
В эту самую минуту проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: «Не может быть, чтобы нас казнили». Я сказал это стоявшему рядом товарищу. Вместо ответа он только молча указал мне на стоявшую тут же, возле эшафота, телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей. Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят. Трех из моих товарищей (Петрашевского, Григорьева и Момбелли, наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды «пли».
В последние минуты, когда осужденные стояли в саванах перед солдатским строем, на взмыленном коне прискакал фельдъегерь с царским рескриптом, заменившим казнь каторгой и арестантскими ротами. Зловещий спектакль, задуманный царем, был разыгран до конца, чтобы сердца всех видевших его, всей мыслящей России успели оледенеть. Но есть люди, не уступающие и перед угрозой смерти.
Нет, время для торжественно-величавой сказки-поэмы не приспело — и кто знает, когда оно наступит, — как не приспело время и для второго тома «Мертвых душ», написанного и сожженного Гоголем.
В эти годы Ершов пишет:
Поэт ли тот, кого земля и небо вдохновили, Кто жизнь с мечтой невольно сочетал... Кто над рекой кипевших поколений В глухой борьбе народов и веков, В волнах огня, и крови, и смятений Предвидел перст правителя миров. Поэт ли тот, кто светлыми мечтами Волшебный мир в душе своей явил... Поэт ли тот, кто, в людях сиротея, Отвергнутый, их в сердце не забыл...Ершов ищет себя вначале в сказочной поэме, потом в прозаических рассказах «Осенние вечера», которые впервые читает на квартире ссыльного декабриста Михаила Александровича Фонвизина, потом в задуманном им грандиозном эпическом произведении, воплощающем всю историю России во всей ее правде, «в волнах огня, и крови, и смятений».
Ищет и не находит.
Для этих замыслов не было сил не у него одного, но и у всей тогдашней литературной России. Только начинает свой путь Лев Толстой — ему еще только суждено в грядущем написать «Войну и мир».
Не находя выхода своим силам в творчестве, Ершов все полнее, головой и сердцем, уходит в учительскую работу. Мальчик возвратился к мальчикам, чтобы больше уже не расставаться с ними; так, видно, ему на роду было написано.
Когда говорят: «Человек с сердцем юноши», — это всем понятно и кажется прекрасным. Редко, непривычно, но, может быть, еще более удивительно, когда появляется человек с детским сердцем — время рано перестает быть властным над ним. Таким был Петр Ершов.
Иногда вызывает удивление — почему Ершов не создал ничего равного «Коньку-горбунку». Но может ли мальчишеское сердце выразиться полнее, чем в этой сказке!
Он мечтал воплотить сказку в подвиг — тоже по-детски отчаянно, не соизмеряя сил с реальными обстоятельствами, вооружаясь стихами и флейтой в стране, где властвовали кандалы.
Поднять «падшие народы» в ту пору было задачей неисполнимой. И он вернулся к единственному народу, которому мог принести счастье, — к Народу Детей.
Нельзя измерить, сколько радости и мудрости приносит в мир учитель, если это учитель «милостью божьей», как говорили в старину.
Не всегда увидишь следы учителя на земле, и зерна, посеянные им в душах, незримы.
Но они непременно прорастут, пусть даже не в этом, а в следующих поколениях.
Таким учителем был Ершов.
Он был несчастлив последние годы жизни, но ребята, окружавшие его, были счастливы, так что, казалось, с его возвращением в Сибирь в суровом Тобольске стало теплее.
Он был мальчиком среди мальчиков — с начала жизни и до конца ее. И счастливы ребята всех поколений, к которым он приходит в милом образе Иванушки-дурачка на славном Коньке-горбунке. Приходит, чтобы открыть перед ними даль, где горит, будит мечту и жажду подвига негасимое перо Жар-птицы.
Глава седьмая. Тайны сказки.
Тайны превращений
В одной сказочной стране жила-была бабочка. Вот она отложила яички, и в положенный срок из них вывелись дочки-гусеницы.
— Ах, — сказала самая младшая, едва она научилась говорить, — это чудо как хорошо, что я наконец родилась. Мне ужасно нравится ползать по зеленым листьям: они такие вкусные! Но сейчас вечер, и я хочу спать. Расскажи мне перед сном хорошую сказку...
И бабочка-мама рассказала дочке сказку.
Только сказка получилась грустная. Кто знает — почему? Оттого ли, что бабочка очень устала, облетев за день все цветы, что росли на лугу? Или оттого, что она была уже не молода и с каждым часом, приближающим к старости, жизнь казалась ей все печальнее?
Это была грустная сказка о бабочке, которая все летала и летала с цветка на цветок и вдруг почувствовала, что нет у нее сил, упала в траву и умерла.
Когда мама рассказала эту историю, дочка заплакала.
— Это ужасно плохая и неправильная сказка!.. — повторяла она сквозь слезы. — Моя сестрица ползала по дереву с листа на лист, а потом перестала ползать и закуталась в золотое покрывало. Но она вовсе не умерла, а полежала немного, разорвала кокон и вылетела на солнце самой красивой и веселой бабочкой на свете.
Да, бабочки умирают, как это ни грустно. А у гусениц впереди не старость и не смерть, а сон и превращение в прекрасное крылатое существо. И истории о жизни бабочек не всегда понятны и интересны гусеницам.
Мне вспомнилось это, потому что ведь и с человеком непременно происходит чудо превращения, и даже не раз. В прекрасной сказочной повести английской писательницы Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» малютки близнецы Джон и Барби, играя в кроватках, пока Мэри Поппинс, волшебница-няня, сушит у камина их костюмчики, так говорят о старших сестре и брате:
«— Я их, наверно, никогда не пойму, этих взрослых, — сказал Джон. — Они все какие-то глупые...
— Угу, — рассеянно ответила Барби, то стаскивая, то снова натягивая носки.
— Например, — продолжал Джон, — они не понимают ни единого нашего слова. Больше того: они не понимают, что говорят вещи! Подумать только, я в прошлый понедельник своими ушами слышал, как Джейн сказала, что она хотела бы знать, на каком языке говорит ветер...
— Когда-то они всё понимали, — сказала Мэри Поппинс...
— Как? — хором откликнулись Джон и Барби, ужасно удивленные. — Правда? Вы хотите сказать — они понимали Скворца...
— И деревья, и язык солнечных лучей и звезд — да, да, именно так. Когда-то, — сказала Мэри Поппинс.
— Но тогда почему же они всё это позабыли? — сказал Джон, наморщив лоб...
— Потому что они стали старше, — объяснила Мэри Поппинс...
— Ну что ж, пусть Джейн и Майкл такие глупые, — продолжал Джон. — Я знаю, что я-то ничего не забуду, когда стану старше.
— А я — тем более, — сказала Барби, с удовлетворением посасывая палец.
— Забудете, — сказала Мэри Поппинс твердо».
... Прорезываются у ребенка зубки, и приблизительно в это время оканчивается Первый Счастливый Возраст. Посмотрите на младенца, когда он лежит в коляске. Солнечный луч и летучие тени листвы скользнули по его лицу, и он улыбнулся, словно отвечая лучу на его собственном языке.
Птица села на одеяло и защебетала. Он ответил и ей, и тоже на ее, птичьем языке. Таинствен этот возраст, тянущийся бесконечно долго, от рождения и до года. Но наступит время, и он окончится. Ах, если бы можно было не забыть, как мечтают близнецы Джон и Барби!
— Нельзя, — говорит Мэри Поппинс.
Но ведь есть сказка. И в ней, как годовые кольца у дерева, отпечаток всех лет, всех периодов жизни человека.
Всех!
Только годовые кольца видишь, когда дерево срублено, а сказка раскрывает свои тайны живой. Ну конечно, в сказке солнечные лучи, ветер, птицы, цветы, деревья снова разговаривают с человеком. И даже взрослый, даже старик, читая сказку, возвращается к тому, что казалось забытым. И неясное счастье охватывает его, как весенний воздух. Сказка многослойна: одно светящееся прозрачное стекло, а под ним другое, третье, десятое — все эпохи человеческой жизни.
Этих эпох много. Происходит первое превращение, и наступает Второй Счастливый Возраст, тянущийся лет до пяти; теперь человек изучает окружающий мир и овладевает словом. Этот возраст тоже называют Счастливым, потому что именно в эти годы человек запасается счастьем на всю жизнь.
«Все дети в возрасте от двух до пяти лет верят (и жаждут верить), что жизнь создана только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера — одно из важнейших условий для их нормального психического роста, — пишет К. И. Чуковский. — Гигантская работа ребенка по овладению духовным наследием взрослых осуществляется только тогда, когда он непоколебимо доволен всем окружающим. Отсюда — борьба за счастье, которую ребенок ведет даже в самые тяжелые периоды своего бытия».
Сказка — первый союзник в этой борьбе.
Слова похожи на деревья и цветы. Подсолнух поворачивает золотую голову вслед за солнцем; к небу тянется и береза, и ель, и сосна, каждая травинка. Направление к свету, к вышине должно быть и в важнейших словах человеческих. Должно быть — чтобы с детства в слова «справедливость», «радость», «добро», «красота» вошла вера в непременность конечной победы этих понятий.
Чтобы эти слова звучали в сердце, как «побеждающая доброта», «торжествующая справедливость», «посрамленное зло». Чтобы именно в раннем детстве, самоотвержением родительской любви защищенном от горя гораздо надежнее, чем взрослое существование, понятия эти пустили глубокие корни. Налетит беда, но ей не вырвать из земли деревья, не сломить, не согнуть их; человек оглядится и снова найдет дорогу. Чтобы еще ребенком человек научился дружить, помогать тем, кто беспомощен, быть всегда верным истине.
В сказке отпечаток важнейшего, что узнает человек во всю свою жизнь. И каждый возраст по-своему читает сказку, а прочитав, не забывает, а снова и снова возвращается к ней.
Все мы хорошо помним сказку Андерсена «Новое платье короля». Хитрые обманщики выдали себя за ткачей и сказали, что могут изготовить красивую ткань, обладающую удивительным свойством — становиться невидимой для всякого человека, который занимает не свое место и непроходимо глуп. Когда король «надел» платье, «сшитое» из этой материи, все-все, от самого первого министра, охали и восхищались красотой несуществующего наряда.
Только мальчик, увидевший короля во время торжественной процессии, закричал: «А король-то голый!» Ребенок ведь не боится потерять свое место ребенка.
И когда король услышал возглас мальчика, ему, пишет Андерсен, «стало жутко».
Как интересно и весело бывает, когда первый раз слушаешь мудрую сказку и смеешься, представляя себе голого короля в толпе подобострастных придворных.
Но ты посмеялся, закрыл книжку, а сказка не забылась. Что-то важнейшее в ней затаилось в глубине сердца. Может быть, то, что раздался все-таки голос правды.
И еще то — как страшно, как жутко стало тогда королю.
И все это не произнесется словами, а просто будет существовать в тебе среди другого, что делает сердце живым.
И может случиться так: человек вырастет, станет совсем взрослым, и тогда ему встретится Некто — очень важный, очень хорошо одетый, говорящий длинными и важными фразами. А человек вдруг почувствует, что слова, которые он слышит, звонкие, но пустые, как пустой орех. И то, затаенное, крикнет в нем смелым детским голосом: «Да ведь он голый!» И станет легче дышать.
А может быть — к сожалению, может быть и так, — сам человек, окруженный друзьями, людьми, верящими ему, внезапно поймет, что ему нечего дарить. Не осталось в нем тепла, чтобы согреть близких; было, да выстудилось. И он замолкнет, отойдет в сторонку; вот тогда-то он поймет, что означают эти страшные слова: «Королю стало жутко».
И если он поймет, почувствует это, может быть, появятся силы начать жизнь сначала.
Это трудно, но ведь это все-таки возможно.
Сколько же светящихся слоев в сказке! Это не наряды, которые шьются — один для праздника, другой для буден, — разные для каждого возраста. В сказке будто одновременно и весна, и лето, и зима.
... Давным-давно, в 1251 году, в Испании была записана короткая сказка или притча, родившаяся за много столетий до того в Индии и из уст в уста пропутешествовавшая через пол мира; теперь она добралась и до нас.
Один беглый монах, говорится в сказке, набрал подаяниями кувшин меду.
— Вот, — думает монах, — продам мед и куплю козу. Коза принесет козлят. Продам козу с козлятами и куплю корову. А потом продам корову с теленком, куплю землю и дом, женюсь. Будет у меня сын. А если сын не захочет учиться? Тогда я его...»
Воображая, что он бьет сына, монах нечаянно ударил палкой по кувшину. Кувшин разбился, и мед вытек.
Выслушает человек в детстве сказку, а когда вырастет и появятся у него дети, которые не всегда будут радовать его, может быть, эта наивная история задержит руку, уже занесенную для удара.
Сколько же поколений учила спокойному терпению эта сказка за тысячи лет своего существования! Сколько зла, жестокости, уже готовых проявиться, она остановила...
«Кувшин разбился, и мед вытек», — повторит память, и человек, вместо того чтобы ударить ребенка, погладит его, так нуждающегося в ласке: «Будь умнее, сынок!»
... Я писал эту главу, когда в гости ко мне пришел один молодой учитель. Он рассказал, как в глухом белорусском селе читал первоклассникам, своим ученикам, сказку Андерсена о Дюймовочке. И был среди школьников мальчик — владелец рогатки, гроза птиц.
Над Дюймовочкой нависла беда — она должна выйти замуж за старого слепого крота и навсегда остаться в темной норе. В последнюю минуту ласточка спасает Дюймовочку.
— Хочешь лететь со мной в теплые края? — говорит ласточка. — Садись ко мне на спину — только привяжи себя покрепче поясом, — и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, за синие моря. Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.
Все ребята замерли, слушая сказку, а тот мальчик — гроза птиц — тихо сказал:
— Больше я никогда не стану стрелять в ласточек, вот жировцев (так в Белоруссии называют воробьев) буду бить. Меня батька даже в сад не пускал, а жировцы взяли и склевали все сливы.
Учитель промолчал. Но через несколько дней он прочитал ребятам сказку, где говорится о том, как в зимнюю стужу замерзает в поле ребенок. И кажется, ничто не спасет его от гибели. Но вот со всех сторон налетели птицы, согрели замерзающего своими телами, и он ожил, поднялся на ноги.
— И жировцы были с другими птицами? — тревожно спросил тот мальчик.
— Конечно! — ответил учитель.
Так сказка иногда незаметно, исподволь меняет существо ребенка, а порой и взрослого человека, пробуждает его душу, обогащает его чувства, научает любить и жалеть окружающий нас мир живой природы.
Тайна букв
У Андерсена есть сказка «Лен». Это даже не сказка, а правдивая история длинной, как у человека, и, как у человека, то трудной, то радостной жизни.
История о том, как лен цвел в поле чудесными голубыми цветками, мягкими и нежными, радуясь солнцу. А колья изгороди скрипели: «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец». Но лен не слушал их скрипенья.
История о том, как лен вырос и превратился сначала в пряжу, потом в полотно.
А когда полотно износилось, из тряпок сделали тонкую бумагу. И на бумаге написали сказки и рассказы, и, слушая их, люди становились добрее и умнее. А листы, на которых они были впервые написаны, легли на полку; они больше не были нужны — рассказы жили в книгах.
В один прекрасный день бумагу сунули в печку.
— Уф! — сказала бумага и в ту же минуту превратилась в столб пламени, который взвился высоко-высоко, — лен никогда не мог поднять так высоко своих голубеньких головок. И пламя сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы на одно мгновенье ослепительно осветились.
— Теперь я взовьюсь прямо к солнцу! — сказало пламя.
... Помните, что говорил своим ученикам мудрец? «Горит пергамент, а буквы улетают».
Так куда же и как улетают буквы, где спасаются от безжалостного пламени, от смерти, от времени?
Раз возникнув, эта мысль не оставляет меня, и я перечитываю сказку Андрея Платонова «Иван Бесталанный и Елена Премудрая»; сказка именно об этом — о тайне букв, и я верю Платонову, давно люблю его.
Обратилась Елена, жена Ивана, в голубицу и улетела. Идет Иван — бесталанный мужик через все земли, худой да оплошалый, ищет жену. Видит он — щука у воды лежит, совсем помирает, а в воду влезть не может.
«Гляди-ко, — думает Иван, — мне-то плохо, а ей того хуже».
Поднял он щуку и пустил в воду.
— Я добро твое не забуду, — сказала щука, уплывая.
Идет Иван дальше и видит: коршун воробья поймал и хочет склевать.
«Эх, — думает Иван, — мне беда, а воробью смерть!»
Пугнул Иван коршуна, тот и выпустил из когтей воробья.
Сел воробей на ветку и говорит Ивану:
— Будет тебе нужда — покличь меня.
Шел, шел Иван Бесталанный и добрался наконец до страны, где царствовала Плена Премудрая. Видит царский двор — тыном огорожен. А в тыне колья, а на кольях мертвые головы; только один кол пустой.
Явился Иван в царскую горницу к Елене Премудрой, а она говорит ему:
— Была я тебе жена, да ведь я теперь не прежняя, царицей стала. Какой ты мне муж, бесталанный мужик! А хочешь меня в жены, так заслужи снова. Укройся, хоть на краю света, чтобы я тебя не нашла, а и нашла — так не узнала бы. Тогда ты будешь умнее меня, и я стану твоей женой. А не сумеешь в тайности быть, угадаю я тебя, — голову потеряешь.
Идет Иван из царских покоев, такая у него беда, а увидел — в сенях сидит Дарья, Еленина прислужница, и плачет, остановился и спрашивает:
— Чего ты, Дарья, плачешь?
— Велела царица прореху в платье зашить, а иголка не шьет его, а только распарывает. Не зашью, казнит меня наутро царица.
Забыл о своей беде Иван, взял у Дарьи платье и стал руками каждую нить с другой нитью связывать. К утренней заре управился.
— Ты меня от смерти спас, и я твое добро упомню, — сказала Дарья.
Пошел Иван прятаться от царицы. В первый раз его щука спрятала на дне моря — зарыла в песок и воду хвостом замутила.
Но было у царицы отцовское круглое зеркальце волшебное, в которое все видно, и отцовская книга мудрости.
Навела царица зеркальце на небо: нету Ивана; навела на воду: и там не видать. «Я-то хитра, я-то умна, — думает царица, — да и он-то не прост, Иван Бесталанный!»
Открыла она отцовскую книгу мудрости и читает там: «Сильна хитрость ума, а добро сильнее хитрости, добро и тварь помнит». Прочитала царица эти слова сперва по писаному, а потом по неписаному, и книга сказала ей: лежит-де Иван в песке на дне морском.
А во второй раз Ивана спрятал тот воробышек: превратил в зернышко и склевал. Но и тут премудрая царица отыскала его.
Пошел Иван прятаться в последний, третий раз, не укроется — голова с плеч.
Идет, а навстречу Дарья.
— Обожди, — велит она, — я тебя укрою. Я твое добро помню.
Дунула она в лицо Ивана, и пропал Иван, превратился он в теплое дыхание женщины. Вдохнула Дарья и втянула его себе в грудь.
Пошла потом Дарья в горницу, взяла царицыну книгу со стола и дунула в нее: тотчас дыхание ее обратилось в новую заглавную букву той книги, и стал Иван буквой.
Пришла вскоре Елена Премудрая, открыла книгу и глядит в нее: где Иван? А книга ничего не говорит. А что скажет, непонятно царице...
Сказка, волшебная сказка... Но ведь и в реальной жизни бывает — редко, конечно, — что талант человека воплощается в буквы — в слова, в стихи, в ту же сказку. Одна-единственная буква — и горе превращается в море, такое же безбрежное — но синее, а не черное — и открывающее вдали неведомые страны. И в реальной жизни буквы должны быть согреты человеческим дыханием; а иногда и последним дыханием, когда — бывает и так — человек отдает жизнь, чтобы слово его жило.
О ком эта сказка? Об Иване Бесталанном, но и о самом Андрее Платонове; жизнь обоих была полна испытаниями, трудом; оба они чувствовали боль всего живого, что есть на земле.
До Октября Платонов работал «во многих местах у многих хозяев», был помощником машиниста паровоза, слесарем, электромонтером, литейщиком. А в гражданскую войну был красноармейцем. Все, о чем он писал, он узнавал не со стороны, а собственным опытом.
В те годы я не знал Платонова, но, читая его рассказы, чувствовал, как каждый труд под его пером обнажает свою сокровенную суть. «В прекрасном и яростном мире» — назвал он свой рассказ о машинисте паровоза.
Вслушайтесь в эти слова. Кажется, они звучат, как упругий ветер, когда на полном ходу поезда высунешься из окошка; и дыхание замрет в груди, и разрезанное пространство со стремительным гулом ложится по сторонам пути. В прекрасном и яростном мире творчества существовал Платонов.
Мне посчастливилось познакомиться с ним только в Отечественную войну, когда он воевал как писатель — словом. И мы видели, чувствовали, знали, что слово его помогает трудному солдатскому делу.
И я помню, как в сорок четвертом году мы стояли ночью в Славуте, на мостке, перекинутом через ров, разрытый накануне ночью. Во рву лежали мужчины, женщины и дети, убитые фашистами. Их было несчетное множество, и ров уходил в темноту. В остром свете фонарика лохматилась от ветра береста на поручнях мостка, странно живая и даже, кажется, розовая.
Платонов смотрел, не отводя глаз, на слепые лица убитых, вбирая в себя и это горе.
А потом, после войны, он писал — как всегда, как всю жизнь, — и тяжело болел, и рано умер. Но только часть его существа была подвластна невзгодам и смерти, а другая, сокровеннейшая, осталась в буквах — в рассказах, повестях, романах, в сказках, вот и в этой сказке — в платоновской «книге мудрости».
Такими они были — Иван Бесталанный и Андрей Платонов...
Бесталанный человек — это такой, которому нет удачи, бедовик, «оплошалый» — по слову Платонова. Удачи нет, а вот высшее счастье есть; бывает и так.
А сказка?.. Что ж, сказка кончается счастливо.
Захлопнула книгу Елена Премудрая и ударила ее оземь. Все буквы рассыпались в книге, а первая, заглавная буква как ударилась, так и обратилась в Ивана.
Засмотрелась царица на Ивана, а засмотревшись, улыбнулась ему.
Стали они жить в мире и согласии...
... «Стрела летит до цели; письмена доходят от Бургоса до Египта», — сказал испанский поэт и философ XIV века Сем Тоб. Они, письмена, проникают через все пространства и все времена; это тоже — о тайне букв.
Глава восьмая. Пушкин и сказка.
О сказочном
В этой книге — так получилось, хотя и не было специально задумано, — я пишу по преимуществу о поэтах одной сказки: об Аксакове, Погорельском, Ершове, Сент-Экзюпери. Во всяком случае, о поэтах одной главной сказки, какой для Януша Корчака явилась сказка о Короле Матиуше, а для Сервантеса история Дон Кихота.
У Пушкина не одна сказка, а сказки. Он, первый гениальный поэт России, воплотил в себе всю страну, с ее прошлым и настоящим. Это выразилось и в сказках. У него мир сказки, подобный которому до Пушкина существовал в России лишь в устном народном творчестве.
Вспомним еще раз слова Пушкина, некогда записанные Владимиром Далем:
«Сказка сказкой, а язык наш сам по себе: и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке».
Пушкину даровано было среди важнейшего, что он совершил и завершил, дать то — «как в сказке» — «раздолье» родному языку.
И когда это произошло, сказочное, что прежде оставалось чужеродным книжной литературе, естественно и гармонично проникло, вросло во все творчество Пушкина; не только в сказки, но и в романы его, в трагедии, поэмы и песни. Оно растворилось в его творчестве, как извечно растворено в народной жизни.
Вот об этом — не только и не столько о сказках Пушкина, а о сказочном и в его восприятии мира, и в самой судьбе его, и в поэзии — я хотел бы рассказать в этой главе.
«Гордое участие поэта»
Сейчас даже трудно представить себе, с каким ожесточением были встречены сказки Пушкина, и не только врагами поэта, но и иными из друзей.
Это продолжалось во всю его литературную жизнь — от 1820 года, когда была опубликована сказочная поэма «Руслан и Людмила», и до 1835 года, когда за два года до гибели Пушкина появилась последняя и прекраснейшая его «Сказка о золотом петушке».
«Напрасно говорят, что критика легка. Я критику читал Руслана и Людмилы: хоть у меня довольно силы, но для меня она ужасно как тяжка», — с горечью писал Иван Андреевич Крылов.
Пятнадцать лет порицаний и настойчиво повторяемых советов свернуть с «гибельного» пути.
«Оне, конечно, решительно дурны, конечно, поэзия и не касалась их, — писал один из известнейших критиков о сказках Пушкина. — Мы не можем понять, что за странная мысль овладела им и заставила тратить свой талант на эти поддельные цветы. Русская сказка имеет свой смысл, но только в том виде, как создала ее народная фантазия, переделанная же и прикрашенная, она не имеет решительно никакого смысла...»
Так что же — должен поэт повторять народные сказки слово в слово, как они были услышаны им, и если он попытается привнести свое, сказка превратится в «поддельные цветы»?
Или прав другой современник Пушкина, поэт, критик и философ Дмитрий Владимирович Веневитинов: чтобы обрести новую жизнь в книге, народная сказка непременно требует «гордого участия поэта»?
Вероятно, прежде чем попробовать разобраться в этом важном споре — он уже не первый раз встает перед нами, — надо представить себе, какое место занимала сказка и сказочное в пушкинском творчестве.
«За нами темная степь»
Пушкинский набросок «Плана истории русской литературы» начинается словами: «Летописи, сказки, песни, пословицы».
Когда вновь и вновь вдумываешься в эту строку, понимаешь, что для Пушкина сказки, песни и пословицы — части нерасторжимого целого; части эти имеют свои особенности, но первооснова у них общая: история народа.
И дело не только в том, что все они — три неразлучные сестры — вводят, каждая своей тропинкой, в глубины народного языка; важно тут и то, что эти тропки то и дело сливаются.
В сказке так прекрасно и глубоко проявляется лукавая мудрость пословицы.
Ну, а песня и сказка — что роднит их?
В пушкинских песнях, навеянных народным творчеством, то и дело возникают таинственные волшебные образы.
Вспомним одну из песен Пушкина о Стеньке Разине:
Что не конский топ, не людская молвь, Не труба трубача с поля слышится, А погодушка свищет, гудит, Свищет, гудит, заливается, Зазывает меня, Стеньку Разина, Погулять по морю, по синему: «Молодец удалой, ты разбойник лихой, Ты разбойник лихой, ты разгульный буян, Ты садись на ладьи свои скорые, Распусти паруса полотняные, Побеги по морю по синему. Пригоню тебе три кораблика: На первом корабле красно золото, На втором корабле чисто серебро, На третьем корабле душа-девица».И три волшебных кораблика, и душа-девица — образы одновременно песенные и сказочные.
Бывает, что грань между песней и сказкой совсем исчезает.
Пушкин создал шестнадцать стихотворений цикла «Песни западных славян». Одиннадцать написаны на темы произведений, опубликованных в сборнике французского писателя Проспера Мериме, две переведены из сборника сербских песен Вука Караджича и три песни — только пушкинские.
Вслушаемся в эти три песни — «Воевода Милош», «Песня о Георгии Черном» и «Яныш королевич».
Полюбил королевич Яныш Молодую красавицу Елицу, Любит он ее два красные лета, В третье лето вздумал он жениться На Любусе, чешской королевне.Так величаво начинается «Яныш королевич».
По мере того как песня, повествуя о трагической судьбе Елицы, ширится, поднимается по лестнице чувств (песня — «лестница чувств», говорил Пушкин), все яснее незримое присутствие поэта.
Покинутая Янышем, Елица бросается в Мораву. Но ей не суждено утонуть.
Там, на дне,
«Она властвует над всеми реками, Над реками и над озерами; Лишь не властвует она синим морем, Синим морем властвует Див-Рыба».Яныш, который равнодушно пренебрег молодой красавицей, охвачен теперь страстью к ней.
Вспомним, как говорит Татьяна Онегину:
«Тогда — не правда ли? — в пустыне, Вдали от суетной молвы, Я вам не нравилась... Что ж ныне Меня преследуете вы? Зачем у вас я на примете? Не потому ль, что в высшем свете Теперь являться я должна; Что я богата и знатна...»Яныш умоляет Елицу выйти к нему из глубины вод.
Но «королевичу Елица не внемлет», она гордо отвергает позднюю, унижающую ее любовь:
«Нет, не выду, Яныш королевич, Я к тебе на зеленый берег. — Слаще прежнего нам не целоваться, Крепче прежнего меня не полюбишь».... Пушкинист А. Слонимский прослеживает, как одно и то же впечатление по-разному перерабатывается творческим сознанием в произведении реальном и волшебном.
Пушкин писал о весне:
Пчела за данью полевой Летит из кельи восковой...И почти одновременно с седьмой главой «Евгения Онегина», откуда эти строки, поэт создает черновой набросок, могущий быть и началом сказки:
Только что на проталинах весенних Показались ранние цветочки, Как из чудного царства воскового, Из душистой келейки медовой Вылетала первая пчелка, Полетела по ранним цветочкам О красной весне поразведать, Скоро ль будет гостья дорогая, Скоро ли луга позеленеют, Скоро ль у кудрявой у березы Распустятся клейкие листочки, Зацветет черемуха душиста.И тут и там одна картина пробуждения природы, но как разно она воплощена...
Сказка у Пушкина не просто соприкасается с реальной жизнью, но непременно именно в ней берет свое начало, ею выверяется на всем своем протяжении.
Друг Пушкина Вильгельм Кюхельбекер писал о современной ему поэзии: «Картины везде одни и те же: луна, которая — разумеется — уныла и бледна, скалы и дубравы, где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз представляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длинные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведомое... В особенности же туман: туманы над водами, туманы над бором, туманы над полями, туман в голове сочинителя».
Пушкинскому творчеству чужды бесплотность, «длинные тени и привидения».
Пусть действие сказки развивается за тридевять морей, в «царстве славного Салтана» — но ведь на земле. Яркое солнце светит в его стихах, плещет синее море, «погодушка» гонит кораблики, разгоняет облака, открывая даль.
Тысячами неразрывных связей соединена пушкинская сказка с жизненными наблюдениями поэта, с раздумьями о родной стране, а значит, и с историей России, занимавшей такое огромное место в мыслях его.
Анна Андреевна Ахматова, говоря о «Сказке о золотом петушке», приводит две строки из неопубликованной при жизни Пушкина и зашифрованной им десятой главы «Онегина»:
Властитель слабый и лукавый, Плешивый щеголь, враг труда...Так Пушкин рисует Александра Первого, который «над нами царствовал тогда». Дадон тоже «властитель слабый и лукавый», «враг труда», замечает Ахматова. Недаром в сказке к нему обращены презрительные слова: «Царствуй, лежа на боку...», запрещенные николаевской цензурой.
Нет, не случайно в пушкинских записях история — летописи стоят так близко со сказкой, они рядом и в художественном творчестве поэта.
Сказка всегда из детства; может ли и история быть связана с самыми ранними детскими впечатлениями?
Обычный человек ведет счет времени жизни с собственного рождения, народный гений, каким был Пушкин, рано начинает ощущать прошлое и будущее страны как нечто неразрывное с собственной судьбой. Будто он существовал и будет существовать всегда — «Нет, весь я не умру...».
В коротеньком наброске автобиографических записок Пушкин переплетает события семейной хроники с историей России: «Смерть Екатерины. — Рождение Ольги... Экзамен... Державин... Известие о взятии Парижа...»
Историзм мышления — одна из основ пушкинского гения.
Пушкин писал о средневековье: «Западная империя клонилась быстро к падению, а с нею науки, словесность и художества. Наконец она пала; просвещение погасло. Невежество омрачило окровавленную Европу. Едва спаслась латинская грамота; в пыли книгохранилищ монастырских монахи соскобляли с пергамента стихи Лукреция и Виргилия и вместо их писали на нем свои хроники и легенды».
Прошлое было забыто. «Прервалась связь времен», — говорит шекспировский Гамлет.
У нас «связь времен» — непрерывное развитие культуры — была если не пресечена, то надорвана веками монголо-татарского ига, кровавой жестокостью опричнины и смутного времени.
Пушкин писал: «Уважение к минувшему — вот черта, отличающая образованность от дикости... Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники... Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеваниями мавров... Но, к сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник: Песнь о Полку И го реве».
И еще: «Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной».
Теперь мы знаем, что древняя русская литература, кроме гениального «Слова о полку Игореве», была богата и другими замечательными произведениями, но в этой книге нам важно представить себе не нынешний, а именно пушкинский взгляд на нее.
То, что прошлое было скрыто непроницаемой, как казалось в те времена, тьмой, причиняло Пушкину боль — будто забылось собственное его детство; с этой холодной тьмой он не мог примириться и всю жизнь искал огни, которые бы ее осветили.
Светом в темноте прошлого явились и остались наряду с летописями сказка, песня и пословица. В детстве они рассеивали горькое чувство собственного одиночества, во взрослой жизни — одиночества исторического — пустоты за спиной, пустоты, в которую мысль проваливается.
Задолго до того, как история стала одним из главнейших предметов его занятий, даже в долицейском детстве, Пушкин не умом еще, а чувствами пытался понять, чем жили пращуры, о чем они мечтали.
Протяжная песня («Мы все поем уныло», — писал Пушкин) доносилась из девичьей, а казалось, что она льется из незапамятного прошлого.
Пушкин писал: «Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности».
Вначале песни входят в сознание одинокими огнями. Но можно приучить зрение и при слабом свете угадывать даль.
О Вальтере Скотте, одном из самых любимых своих писателей, Пушкин говорил, что главная прелесть его исторических романов в том, «что мы знакомимся с прошедшим временем... не с чопорностию чувствительных романов — но современно, но домашним образом».
Что, как не песня и сказка, могло домашним образом ввести читателя в жилища предков, давно стертые с лица земли, воскресить предков, похороненных в безвестных могилах?
... Певучий тихий говорок Арины Родионовны — в Суйде, близ Гатчины, где прошла молодость Арины Родионовны, все говорили «певком» — вызывал чувство, что под этот же напевный сказ засыпали дети России и тысячу лет назад.
Сказка и история... Когда царь Николай Первый дал поэту оскорбительное придворное лакейское звание камер-юнкера, поэт с гневом жаловался своему приятелю А. Н. Вульфу на то, что царь одел в мундир его, «написавшего теперь повествование о бунте Пугачева и несколько новых русских сказок».
«Несколько новых... сказок» и «бунт Пугачева» — странное на первый взгляд сопоставление, писал, приведя это воспоминание Вульфа, пушкинист А. Слонимский. И тут же замечал, что ничего странного в этом нет.
Да и в самом деле, сказка и история — две стороны великого процесса осознания жизни в ее прошлом и настоящем, того, что вырывалось на поверхность в битвах, огне и крови, и того, что хранилось в душе народа, спасая ее от ожесточения.
Сказка и история
В бумагах Пушкина сохранились записи пословиц и толкование их.
Как оживает пословичная речь в трагедии «Борис Годунов»; оживает и оживляет прошедшее.
«Что тебе Литва так слюбилась? — спрашивает Григория Отрепьева, будущего Самозванца, беглый монах Варлаам. — Вот мы, отец Мисаил да я, грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уж и не думаем. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли: всё нам равно, было бы вино... да вот и оно!..»
Совсем иначе — пророчески и трагично — звучит народная речь в сцене «Площадь перед собором в Москве».
Юродивый в железной шапке, обвешанный веригами, садится на землю и поет:
«Месяц светит, Котенок плачет, Юродивый, вставай, Богу помолыся!»Борис выходит из собора.
— Борис, Борис! Николку дети обижают, — обращается Юродивый к царю.
— Подать ему милостыню, — приказывает царь. — О чем он плачет?
— Николку маленькие дети обижают... — повторяет Юродивый. — Вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича.
В темные времена истории, когда говорить то, что думаешь, казалось безумием, бывало, что только в словах юродивых звучал голос правды.
Чуть ли не полжизни Пушкин провел в дороге; и, скитаясь по стране, затерянный в толпе, он улавливал в невнятном бормотании юродивых то же, что различали те, кто его в толпе окружал, то, от чего все вдруг замолкали, прислушиваясь к странным и печальным словам: «Месяц светит, котенок плачет» — само горе.
В истории вековая беда разражалась бунтами, как грозой в застойном, мертвом воздухе; потонет в крови один бунт, и сразу начнут копиться силы для другого; люди берутся за оружие, даже почти и не надеясь на торжество справедливости, — потому что дальше терпеть рабство невозможно.
Народная беда останется одной из главнейших тем творчества Пушкина — в песнях о Степане Разине, в труде о Пугачеве и о пугачевщине, в «Медном всаднике», в «Борисе Годунове».
Среди боярских родов, поддержавших Самозванца, Пушкин в точном соответствии с историей изобразит своего пращура. И, вкладывая в уста Бориса слова «Противен мне род Пушкиных мятежный», может быть, еще раз вспомнит, как сложились его собственные отношения с царями — Александром и Николаем.
Род Пушкиных в его лице переменил оружие, но мятежным по своей сути оставался.
Пушкин не станет искусственно приближать события трагедии к жизни и мыслям современников — это противоречило бы его поэтическим убеждениям, но, чтобы увидеть события в бесстрашной близи, домашним образом, будет искать и найдет пути, чтобы самому в это прошлое — живое, а не архивное — проникнуть.
Он рисует в трагедии Поэта. «Стократ священ союз меча и лиры, единый лавр их дружно обвивает», — говорит Самозванец, когда Поэт дарит ему свои стихи.
Вспомним, что трагедия была начата в конце 1824 года; в то время Пушкин, оберегаемый друзьями от участия в близящемся восстании, особенно много думал о месте поэзии и поэта в исторических событиях.
Как голос Юродивого вводит читателя в жизнь народной толпы Смутного времени, так и в романе «Капитанская дочка» старинная безнадежная и прекрасная народная песня переносит нас во времена восстания Пугачева.
Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мешай мне, доброму молодцу, думу думати. Что заутра мне, доброму молодцу, в допрос идти Перед грозного судью, самого царя. Еще станет государь-царь меня спрашивать: Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын, Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал, Еще много ли с тобой было товарищей? Я скажу тебе, надежа православный царь, Всеё правду скажу тебе, всю истину, Что товарищей у меня было четверо: Еще первый мой товарищ темная ночь, А второй мой товарищ булатный нож, А как третий-то товарищ, то мой добрый конь, А четвертый мой товарищ, то тугой лук, Что рассыльщики мои, то калены стрелы. Что возговорит надежа православный царь: Исполать тебе, детинушка крестьянский сын, Что умел ты воровать, умел ответ держать! Я за то тебя, детинушка, пожалую Среди поля хоромами высокими, Что двумя ли столбами с перекладиной, —поют Пугачев и его сподвижники.
«Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясло меня каким-то пиитическим ужасом».
Это слова Гринева, но кажется, что слышишь самого Пушкина.
Воссоздавая образ Пугачева, Пушкин пересказывает старую сказку.
«— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-на-все только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?
— Затейлива, — отвечал Гринев ему. — Но жить убийством и разбоем значит, по мне, клевать мертвечину».
В этой сказке, так сильно и органично вплетающейся в гениальную пушкинскую прозу, та же мысль, всегда, до самого создания «Медного всадника», волновавшая поэта: мысль о жестокости истории, изучению которой он посвятил столько лет, и невозможности сопрячь ее порой кровавые пути с обычным человеческим счастьем.
«Сквозь магический кристалл...»
Как и когда Пушкин начал сочинять сказки?
В дневниковых записках лицейских лет есть заметка от 10 декабря 1815 года: «Вчера написал я третью главу Фатама или разума человеческого... читал ее... и вечером с товарищами тушил свечки и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа!»
Насколько можно представить себе по воспоминаниям современников, «Фатама» — сказочный роман, написанный под влиянием и в стиле философских сказок Вольтера.
Сюжет этого не дошедшего до нас произведения в том, что старик и старуха молят небо даровать им сына, жизнь которого была бы счастлива, и так, чтобы они успели увидать сыновье счастье.
Добрая фея обещает им, что у них родится сын и он в самый день появления на свет достигнет возмужалости, скоро заслужит почести, славу и богатство. Но с годами сын будет терять все, чем судьба сперва щедро его наделила: он превратится в юношу, потом в мальчика и наконец станет беспомощным младенцем. Волшебство только переменит местами начало и конец жизни.
Была ли «Фатама» первой сказкой Пушкина?
Вероятно, нет. Как-то мальчиком одиннадцати или двенадцати лет он гостил в усадьбе знакомой семьи. Там жила девушка, сошедшая с ума во время пожара. Она бродила по аллеям парка как потерянная, с распущенными по плечам волосами, и повторяла:
— Я — пожар! Я — пожар! Залейте меня!
Чтобы успокоить девушку, ее окатывали водой.
Пушкин подошел к ней и сказал:
— Вы не пожар, вы — цветок. Цветы ведь тоже поливают водой.
«Фатама» рождена иронической юношеской мыслью; эта маленькая сказка — ведь это сказка, или, точнее, сказочный образ, пусть из одной только фразы! — вызвана страстным желанием помочь. И вдруг появившейся верой в колдовское действие слова. И также впервые проявившейся, чтобы остаться навсегда, волей призвать «милость к падшим».
Девушка затихла. Хочется верить, что она выздоровела. Во всяком случае, луч света в тот миг проник в ее померкшее сознание...
Череда сказочных образов, однажды возникнув, никогда не прервется. Через неведомые «страны сказки» в мыслях и душе поэта проходит чуть ли не каждый его замысел. Иногда в реальное повествование оттуда вернутся отдельные картины, а иногда фантастическое заполнит все произведение — но всегда угадывается след сказки.
Восьми или девяти лет Александр Пушкин создает домашний театр: режиссер, драматург и актеры — он один. А зритель — сестренка Ольга. На сцене разыгрываются эпизоды семейной жизни, и переделка услышанной накануне в мастерском чтении отца французской комедии, и сказки. Порой «публика» встречает премьеру свистом и повергает «театр» в горе, правда не такое уж глубокое.
«Скажи, за что партер освистал моего «Похитителя»? Увы! за то, что бедный автор похитил его у Мольера», — писал мальчик Пушкин в остроумной автоэпиграмме после одного из таких провалов.
Через немного дней, а то и часов все бывало забыто, и спектакли возобновлялись.
Несколько лет спустя, в Лицее, Пушкин и его друзья придумывают литературную игру, которой предаются с воодушевлением. Составив общий кружок, они обязывали каждого или рассказать повесть, или по крайней мере начать ее, вспоминает современник и биограф Пушкина П. Анненков. В последнем случае следующий за рассказчиком принимал ее на том месте, где она остановилась, другой развивал ее далее, третий вводил новые подробности. В этой игре, в первом наброске, первой догадке воображения явились пушкинские повести «Метель» и «Выстрел».
Перечитаем «Мегель». Уже эпиграф из стихотворения Жуковского:
Вдруг метелица кругом; Снег валит клоками; Черный вран, свистя крылом, Вьется над санями...настраивает на ожидание событий необычных.
... Бедный армейский прапорщик Владимир Николаевич без ума полюбил Марью Гавриловну, «стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу». Родители не дали согласия на неравный брак. Владимир Николаевич умоляет девушку венчаться тайно.
Побег решен. Тогда-то в течение рассказа с бешенством снежной бури входит сама судьба.
Конечно, Пушкин, как и каждый, родившийся в нашей северной стране, не раз слышал «бури завыванье», когда кажется, что весь мир с неистовым воем несется в неизвестность и только стекло в окошке мешает холодному ветру унести и тебя в пугающую и манящую даль; «судьба» и «метель» — эти слова должны были рано сродниться в воображении поэта.
... Владимир торопит коня, спешит в Жадрино, где в сельской церкви ждет невеста.
Но мгла сгущается, дорога потеряна. Метель разлучила его с любимой, жизнь разбита. Разве не так же и в тот же самый миг, когда должно родиться счастье, судьба унесла Людмилу от Руслана:
Вдруг … Гром грянул, свет блеснул в тумане, Лампада гаснет, дым бежит, Кругом всё смерклось, всё дрожит, И замерла душа в Руслане... Всё смолкло. В грозной тишине Раздался дважды голос странный, И кто-то в дымной глубине Взвился чернее мглы туманной...Конечно, знатный рыцарь стародавних времен, Руслан, во всем отличен от бедного прапорщика, и непогодица реального повествования не похожа на злого волшебника Черномора, похитителя Людмилы. Но как близки внутренней сутью сказочная поэма эта и повесть, задуманные ведь в одни и те же времена юности.
Будто видишь, как два ствола, расходясь вершинами, поднимаются из общего корня — из детства.
Детство. Одиночество
Первые радости и потрясения — все это не забудется поэтом, а станет расти и искать выхода к полному своему творческому выражению.
Какими же были младенческие видения Пушкина?
В плане автобиографии он записал: «Первые впечатления. Юсупов сад. — Землетрясение. — Няня».
Юсупов сад, куда Арина Родионовна водила гулять мальчика, был прекрасен — безлюдный, с фонтаном, дремлющим озером, со старинными статуями, привезенными Юсуповым из Венеции и Неаполя; они словно живые выглядывали из древесной зелени на поворотах глухих тропинок.
Землетрясение в Москве случилось в 1802 году, когда Пушкину только исполнилось три года. Журнал «Вестник Европы» писал, что оно продолжалось секунд двадцать и состояло в двух ударах или движениях. Оно не сделало ни малейшего вреда и не оставило никаких следов, кроме того, что в стене одного погреба образовалась трещина, а в другом отверстие в земле, на аршин в окружности.
Но, кроме того, оно оставило след в душе...
Какой? Почувствовал ли мальчик мгновенное головокружение, как некоторые москвичи? Или сам он ничего не заметил, но услышал разговоры взрослых? Ведь умы были взбудоражены.
В статье Карамзина напоминалось, что землетрясения случались и раньше. Например, в XV веке при царе Василии II Темном; тогда Москва сгорела. И что есть страны, где землетрясения обычны, как у нас гроза. И что под тонким слоем земной коры в глубине бушует пламя.
Все это настраивало на необычайное.
Или он гулял в Юсуповом саду, и одна из статуй качнулась, точно ожив, шагнула к мальчику; это догадка Тынянова, высказанная им в замечательном, но, к сожалению, незавершенном романе «Пушкин». Статуя шагнула, как потом шагнет в воображении статуя Командора.
А дальше в плане автобиографии короткие записи: «Отъезд матери в деревню. Первые неприятности. — Гувернантки».
Через строку снова — «Мои неприятные воспоминания», и «Нестерпимое состояние...».
Из разрозненных фраз, каждая из которых по первоначальному замыслу должна была развернуться в главу, а осталась строкой оглавления, загадкой, из этих строк понимаешь одно, что Пушкин не пережил вполне чудесного и нежного, что стоит за словами Льва Толстого — счастливая, невозвратимая пора детства.
От того, что отец и мать упомянуты в «плане» мельком — мать и всего-то единственный раз, — чувствуешь как бы холод, доносящийся из пушкинского детства и заставляющий сжаться сердце.
Отец поэта Сергей Львович Пушкин оставил службу в 1798 году. По преданию, некто Б., пришедший принимать у него дела, застал его за чтением французского романа; деловые бумаги были небрежно отодвинуты в сторону. Сергей Львович, как и брат его, поэт Василий Львович, был душой общества, неистощимый в каламбурах, остротах и тонких шутках», говорят современники.
Но, вероятно, существование лишь в качестве присяжного остряка оставляло ощущение никчемности. Даже Отечественная война, так всколыхнувшая страну, не пробудила в нем жажды деятельности.
Пустота существования вызывала потребность во внешних переменах. Пушкины то и дело без видимой причины переезжают из одной квартиры в другую. Будущий поэт родился в Москве на Немецкой улице, в деревянном доме сослуживца Сергея Львовича — Скворцова. Через три месяца семья отправляется в Михайловское; оттуда — в Петербург. В 1801 году Пушкины снова в Москве, в доме поручика Волкова по Большому Харитоньевскому переулку. Оттуда меньше чем через год они перебираются во владения князей Юсуповых, на другом конце того же переулка.
Впереди, скрипя и колыхаясь, ехали два высоких воза. Поверх больших кованых сундуков громоздились книжные шкафы, диваны, обитые зеленым и синим штофом, столы, столики — с ножками лирами и ножками лебедями. А на самом верху раскачивались разномастные стулья. Позади тянулась дворня и тащила разный домашний скарб...» Так запомнили современники пушкинские кочевья.
Обстановка жизни была неуютной, неустроенной. Роскошество соседствовало с бедностью.
Комнаты не успевали освоиться со своим обиходом, как назначение их вдруг менялось: гостиная превращалась в спальню, отцовский кабинет, где шкафы вдоль стен были полны запыленными книгами, а на огромном письменном столе если и появлялась бумага, то разве листок с незаконченным экспромтом, переселялся в другое помещение, оставаясь таким же заброшенным.
Будто поверх и впереди всех вещей Пушкины из дома в дом везли дух нежили. Будто вещи, как и люди, искали и не находили настоящего своего места: и они были бесприютны. Пушкины были «пустодомы», писал Тынянов.
Только одно оставалось неизменным — незримая граница между людской, девичьей и барскими покоями. По обеим сторонам этой границы и говорили на разных языках: на одной преимущественно по-французски, на другой — по-русски. Пушкин почувствовал эту границу очень рано.
В доме, в барской его части, все менялось с дуновением моды; служение ей у старших было главным.
Другая половина перешла из прошедших веков и как будто неизменной перейдет к грядущим поколениям. Здесь ощущалась печальная и торжественная поступь прошлого, звучал в песнях голос старины.
Настоящих друзей у Пушкиных не было; были светские знакомые, внимание к которым мерялось их меняющимся весом в обществе. Были по преимуществу не чувства, а светские отношения.
Дети жили на отшибе. Когда они попадались на глаза, отец и мать как будто бы даже раздражались. Александра любили меньше других детей; он этого не мог не чувствовать.
В нем настораживала затаенная непокорность — она проступала в неловкой молчаливости, в выражении живых, порой гневливых глаз. Чертами лица — толстыми губами, волосами, светлыми, но очень курчавыми, он пошел в Ганнибалов, которых в семье не любили и несколько стеснялись.
Надежду Осиповну, мать Александра, называли «прекрасная креолка», это льстило; но то, что среди родни — арапы, как те, что на запятках карет Новосильцева и других вельмож, казалось почти стыдным: арап Петра Великого, но все-таки «арап».
Мать то почти не замечала Александра, то принималась за воспитание его. Он имел привычку тереть ладонь одну о другую и, задумавшись, грызть ногти. Она завязывала ему руки за спиной. Он постоянно терял носовые платки — Надежда Осиповна стала пришивать платки к куртке мальчика.
— Твои аксельбанты, — насмешливо говорила она.
Дурные привычки становились, должно быть, менее заметными, но появлялось горькое отчуждение; оно не исчезнет.
Пушкин, как запомнили многочисленные родичи, в первые годы рос полным, малоподвижным и странным ребенком. Однажды на прогулке он сел посреди улицы и, когда его окликали, сердито бормотал что-то невнятное.
Окружающие не понимали, что он переживает тот возраст, когда ребенок неустанно вбирает в себя окружающий мир и целиком поглощен этим великим трудом — первоосновой грядущего творчества.
Потом наступил возраст чтения — страстного, заполняющего все существо. Из мира Арины Родионовны он переселяется в тоже сказочные по существу своему миры древнегреческих и древнеримских героев Плутарха и философских сказок Вольтера.
Как же странно прост для мальчика этот переход! Как легко уму и сердцу, полюбившему Иванушку-дурачка, постигнуть и также полюбить вольтеровского «Простодушного», юного ирокеза, воспитанного среди девственной природы в простых законах добра и справедливости, который, как Иванушка к царскому двору, попадает в лживый и корыстный мир.
«Александр проводил бессонные ночи в кабинете отца, пожирая книги одну за другой», — вспоминал Лев Пушкин.
Поэт и сам рассказал про эти свои годы в стихах:
Случалось ли ненастной вам порой Дня зимнего, при позднем, тихом свете, Сидеть одним, без свечки в кабинете: Всё тихо вкруг; березы больше нет; Час от часу темнеет окон свет; На потолке какой-то призрак бродит; Бледнеет угль, и синеватый дым, Как легкий пар, в трубу виясь уходит; И вот жезлом невидимым своим Морфей на всё неверный мрак наводит. Темнеет взор; «Кандид» из ваших рук, Закрывшися, упал в колени вдруг; Вздохнули вы; рука на стол валится, И голова с плеча на грудь катится, Вы дремлете! над вами мира кров...Пушкин часто читал тайно, при лунном свете. От бессонных ночей у него кружилась голова, и он представлялся посторонним рассеянным, а то и злым.
Образы творений Вольтера, Расина, Дидро окружали мальчика; «мира кров» принимал его под свои сени. Сказка также открывалась и как всечеловеческая. Это останется навсегда. Потом, создавая сказки, он введет в них наряду с русскими сказочными героями и пришельцев из других культур, например скопца в «Золотом петушке», образ которого, как доказывает А. А. Ахматова, видимо, впервые предстал перед ним в «Легенде об арабском звездочете» американского писателя Вашингтона Ирвинга.
Когда мальчика пытались отвлечь от тайного, во что погружено было его сознание, он огрызался, как потревоженный волчонок. Знакомая Марии Алексеевны Ганнибал, бабушки поэта, С. П. Янькова вспоминала об Александре Пушкине, что он был большой увалень и дикарь, кудрявый мальчик лет девяти или десяти, со смуглым личиком и очень живыми глазами, из которых искры так и сыпались. То его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется, что его ничем не уймешь. Из одной крайности в другую бросается, нет у него середины...
Детство. Мария Алексеевна
Лев Толстой делил людей не на умных и глупых, а на понимающих и не понимающих: понимающих, то есть способных проникнуть в душу другого, одаренных талантом и нравственной щедростью, необходимыми для этого.
Таких, вполне понимающих, вокруг Пушкина было немного во всю жизнь, и ряд их редел с печальной быстротой.
Чем чаще празднует лицей Свою святую годовщину, Тем робче старый круг друзей В семью стесняется едину, Тем реже он; тем праздник наш В своем веселии мрачнее; Тем глуше звон заздравных чаш И наши песни тем грустнее, —писал поэт через шесть лет после восстания декабристов и царской расправы, унесшей многих друзей.
Унесшей и Пущина — вероятно, самого преданного друга; когда Пущин там, в каторжной Сибири, узнал о трагической гибели поэта, он в отчаянии воскликнул:
— Я бы сумел предотвратить ужасную эту дуэль!
Строй друзей таял. С бедственной неотвратимостью вырастала стена равнодушных и врагов.
Трудно было приблизиться к Пушкину.
— Чтоб полюбить его настоящим образом, — говорил Пущин, — нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки, мирится с ними и кончает тем, что полюбит даже и их.
Защитную колючую язвительность Пушкина многие принимали за существо его. Как сильно и безжалостно было непонимание, нельзя не услышать в словах директора Царскосельского лицея Энгельгардта: «Совершенно поверхностный, французский ум. Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто (!!); в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не бывало юношеское сердце».
Сердце, где нет любви, — и это о Пушкине!
Так ошибиться в человеке, которого видишь почти ежедневно много лет! И ведь Энгельгардт был умным педагогом, не злым и не предубежденным; прошли годы, и он полностью изменил свое мнение о Пушкине.
Гибельная вещь — непонимание. Оно могло изуродовать светлый гений Пушкина, если бы не оказалось рядом с поэтом, и с самого рождения его, людей, преданных ему до самопожертвования. Первыми из них с благодарностью вспоминаются Мария Алексеевна Ганнибал — бабушка поэта, и Арина Родионовна — чудесная няня его.
Мария Алексеевна была женщиной замечательной. Печально сложилась ее судьба. Осип Абрамович Ганнибал, человек необузданных страстей, вскоре разлюбил красавицу жену; уйдя к другой, он всячески преследовал Марию Алексеевну, стремясь отнять у детей и у нее то, что по закону им принадлежало.
Дворня разделилась на враждующие стороны. Среди тех, кто во Все годы распри верно поддерживал Марию Алексеевну, была Арина Родионовна; это требовало высокого мужества: окажись после тяжбы Арина Родионовна во владении Ганнибала, ее ждала расправа.
Опыт жизни научил Марию Алексеевну особенно заботливо относиться к обделенным судьбой; может быть, поэтому она с первых лет Пушкина так горячо полюбила его.
Воображение и ум Марии Алексеевны воспитывались в деревне, среди природы; там протекли и лучшие, и самые трудные ее годы. Она владела прекрасной, богатой и образной русской речью и знала множество сказок.
В ранние годы, примостившись в огромной рабочей корзине бабушки, среди лоскутов и мотков цветной шерсти, мальчик затаив дыхание прислушивался к ее колдовскому голосу. Он задремывал, и сказочные образы переходили в видения первосонья.
Открыв глаза, он мог увидеть портрет бабки, изображающий ее юной и нарядной; в эти минуты, когда кажется возможным все, красавица сходила с портрета. Потом он это изобразил в стихах:
Наперсница волшебной старины, Друг вымыслов игривых и печальных, Тебя я знал во дни моей весны, Во дни утех и снов первоначальных. Я ждал тебя; в вечерней тишине Являлась ты веселою старушкой И надо мной сидела в шушуне, В больших очках и с резвою гремушкой. Ты, детскую качая колыбель, Мой юный слух напевами пленила И меж пелен оставила свирель, Которую сама заворожила. Младенчество прошло, как легкий сон. Ты отрока беспечного любила, Средь важных муз тебя лишь помнил он, И ты его тихонько посетила; Но тот ли был твой образ, твой убор? Как мило ты, как быстро изменилась! Каким огнем улыбка оживилась! Каким огнем блеснул приветный взор! Покров, клубясь волною непослушной, Чуть осенял твой стан полувоздушный; Вся в локонах, обвитая венком Прелестницы глава благоухала; Грудь белая под желтым жемчугом Румянилась и тихо трепетала...Стихотворение писалось в молодые годы, оно связывало воспоминания с тем, что открывалось воображению юноши.
Впечатления раннего детства, к которым обращается художник, были овеяны сказкой. Пушкин писал:
Но детских лет люблю воспоминанье. Ах! умолчу ль о мамушке моей, О прелести таинственных ночей, Когда в чепце, в старинном одеянье, Она, духов молитвой уклони, С усердием перекрестит меня И шепотом рассказывать мне станет О мертвецах, о подвигах Бовы... От ужаса не шелохнусь бывало, Едва дыша, прижмусь под одеяло, Не чувствуя ни ног, ни головы. Под образом простой ночник из глины Чуть освещал глубокие морщины... Я трепетал — и тихо наконец Томленье сна на очи упадало. Тогда толпой с лазурной высоты На ложе роз крылатые мечты, Волшебники, волшебницы слетали, Обманами мой сон обворожали. Терялся я в порыве сладких дум; В глуши лесной, средь муромских пустыней Встречал лихих Полканов и Добрыней, И в вымыслах носился юный ум...Представляется, что в этих стихотворениях поэтически слились образы бабушки и няни, двух замечательных сказочниц, добрыми гениями осенивших младенчество великого поэта.
Арина Родионовна
Детство и молодость Арины Родионовны протекли в Суйде, на северной окраине России. Эта земля, древние владения новгородских князей, завоёвывалась то немцами, рыцарями Ливонского ордена, то шведами.
Песни, исторические предания и сказки переходили тут из поколения в поколение, помогая обитателям здешних мест сохранить русскую культуру. Арина Родионовна передала это драгоценное наследство Пушкину.
Думая о няне Пушкина, испытываешь насущную потребность — через темь времени представить себе облик ее. Но существует только горельеф, вырезанный по памяти уже после смерти Арины Родионовны, и драгоценный единственный набросок с натуры пером, сделанный Пушкиным в Михайловском: вздернутый нос, полные щеки и глаза, светящиеся лаской и лукавством.
Да еще, кроме стихов Пушкина, словесные портреты Арины Родионовны, созданные другом его, поэтом Николаем Михайловичем Языковым, тоже сердечно дружившим с няней Пушкина:
Ты, благодатная хозяйка сени той, Где Пушкин, не сражен суровою судьбой, Презрев людей, молву, их ласки, их измены, Священнодействовал при алтаре камены. ... С каким радушием — красою древних лет — Ты набирала нам затейливый обед! Сама и водку нам, и брашна подавала, И соты, и плоды, и вина уставляла На милой тесноте старинного стола! Ты занимала нас — добра и весела — Про стародавних бар пленительным рассказом; Мы удивлялися почтенным их проказам...Вероятно, рассказы Арины Родионовны о прошлом были не только веселыми — но о горьком говорилось не за пиршественным столом с дорогими гостями. Ведь Пушкин, как никто иной, умел внимать, а Арина Родионовна столько знала, видела — память ее была настоящей летописью былого.
... Не дичилась Ты нашей доли — и порой К своей весне переносилась Разгоряченною мечтой... — писал Языков.
Какой была ее весна? Что окружало Арину Родионовну в детстве?
Ульянский, автор научной монографии о няне Пушкина, приводит любопытную выписку из дел сената за 1766 год: «На онное генваря 7-ое число в ночи из Сосницкой мызы Трубецкого бежало крестьян пять семей, — рассказывается в документе, — сорок человек со всеми пожитками и скотом... и ехали ту ночь до Заречья, а в Заречье ожидали их множество беглых господина Ганнибала... И собравши их всех семей с пятьдесят, поехали в Польшу... А за ними гнали следом Сосницкий староста с дворовым человеком и, доехав до Заречья, поехали все парами на лошадях, и при них имелись разбойнические инструменты, ружья, рогатины и бердыши».
Девочкой, Арина могла быть свидетельницей бегства крепостных Ганнибала, ее свойственников. Рассказывала ли она Пушкину об этом эпизоде крестьянской войны? Неизвестно. Такая война, то скрытно, то явно, не прекращалась во всю ее жизнь; ведь даже в тот жестокий век Ганнибалы славились необузданной жестокостью — и к самым близким, и, конечно, к бесправным своим подданным.
Из одних и тех же уст слышал мальчик Пушкин и о мечтах России, и о бедах ее.
... Памятью о няне Пушкина остались письма к поэту, написанные под ее диктовку. В одном из них есть строки: «Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское, всех лошадей на дорогу выставлю... Я вас буду ожидать и молить бога, чтобы он дал нам свидеться... Прощайте, мой батюшка, Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила, поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится. Я слава богу здорова, целую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна».
«Многолюбящая няня ваша...» — вслушайтесь в эти слова.
И вслушайтесь в стихотворение Пушкина — как бы ответ на письмо няни:
Подруга дней моих суровых, Голубка дряхлая моя! Одна в глуши лесов сосновых Давно, давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы Горюешь, будто на часах, И медлят поминутно спицы В твоих наморщенных руках. Глядишь в забытые вороты На черный отдаленный путь: Тоска, предчувствия, заботы Теснят твою всечасно грудь...— Я думаю, — говорила о Пушкине Анна Керн, — что он никого истинно не любил, кроме своей няни и сестры.
Любовь их началась с самого рождения Пушкина, когда Арина Родионовна, нянчившая сестру Олю, приняла под свое крыло и новорожденного — так, чтобы думать о нем до самой своей смерти.
... 9 августа 1824 года опальный поэт приехал в Михайловское — вторую ссылку. Отцу его присылается бумага от предводителя Опочецкого дворянства Пещурова с требованием следить за поведением сына.
Пушкин бросает в лицо отцу обвинение в шпионстве.
— Этот выродок-сын, это чудовище, хотел меня прибить! — кричал Сергей Львович, выбегая из комнаты, после объяснения с сыном.
Отец и мать, захватив дочь Ольгу, поспешили уехать. Пушкин снова остается вдвоем с няней.
— Уединение мое совершенно, — писал он зимой того года. — Соседей около меня мало, да и то вижу довольно редко... Вечером слушаю сказки моей няни... она единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно».
В Михайловское к Пушкину в последний раз приезжал Пущин; ему уже был предуготовлен путь на Сенатскую площадь.
Пушкин выбежал на крыльцо в ночной рубашке. Слезы радости показались на его глазах. И вышла Арина Родионовна; Пущин знал ее и любил по рассказам поэта.
Стояла бутылка вина. Примостился в углу стола монах со злым, хитрым лицом — соглядатай, приставленный к поэту, — и прислушивался к каждому слову последней беседы друзей.
А ночью протопили печи — специально в честь Пущина, любившего тепло. Было немного угарно. Арина Родионовна объяснила, что обычно печь топят только в одной комнате. Пущин не мог понять — как же так? Ведь это поэт, ему необходим простор.
Ему надо бы и ездить по всему миру, а не чувствовать стен, стеснения, постоянной угрозы.
А Арина Родионовна разводила руками и объясняла, что все комнаты протопить не по средствам.
Когда 27 августа 1826 года примчался фельдъегерь, чтобы везти поэта к царю — может быть, на суд и беспощадную расправу, — Арина Родионовна, как вспоминали потом соседи и друзья Пушкина Осиповы, прибежала вся запыхавшись; седые волосы ее беспорядочными космами спадали на лицо и плечи, бедная няня плакала навзрыд. Она бы грудью защитила своего любимца, но ведь это было невозможно, и она только выучила наизусть и повторяла во все время отсутствия Пушкина забытую старинную молитву «О умилении сердца владыки и укрощении духа его свирепости».
Пушкин узнал об этом, когда вернулся в Михайловское. Растроганный до глубины сердечной, он писал Вяземскому: «Деревня мне пришлась как-то по сердцу. Есть какое-то поэтическое наслаждение возвратиться вольным в покинутую тюрьму. Ты знаешь, что я не корчу чувствительности, но встреча... моей няни — ей-богу приятнее щекотит сердце, чем слава, наслаждения самолюбия... и пр.».
Молитва — не оружие против самодержца с его неограниченной властью, но мысль о том, что рядом щедрая душа, готовая на все ради твоего счастья, — спасенье от безнадежности.
Пушкину было в то возвращение в Михайловское двадцать семь лет, он находился в поре высшего расцвета гения, а няне уже исполнилось семьдесят, и жить ей осталось мало.
Вспоминая ее, 25 сентября 1835 года Пушкин писал жене: «В Михайловском нашел я всё по-старому, кроме того, что нет уж в нем няни моей и что около знакомых старых сосен поднялась, во время моего отсутствия, молодая сосновая семья, на которую досадно мне смотреть, как иногда досадно мне видеть молодых кавалергардов на балах, на которых уже не пляшу. Но делать нечего; всё кругом меня говорит, что я старею, иногда даже чистым русским языком. Например, вчера мне встретилась знакомая баба, которой не мог я не сказать, что она переменилась. А она мне: да и ты, мой кормилец, состарелся да и подурнел. Хотя могу я сказать вместе с покойной няней моей: хорош никогда не был, а молод был».
Да, есть правда в словах Керн. Если и не одну свою няню любил поэт, то, может быть, только эта любовь прошла через все его существование, от первых младенческих впечатлений и до конца. Усталый и такой нежный голос Пушкина слышится в словах Татьяны из восьмой, прощальной главы «Онегина»:
А мне, Онегин, пышность эта, Постылой жизни мишура, Мои успехи в вихре света, Мой модный дом и вечера, Что в них? Сейчас отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этот блеск, и шум, и чад За полку книг, за дикий сад, За наше бедное жилище, За те места, где в первый раз, Онегин, видела я вас, Да за смиренное кладбище, Где нынче крест и тень ветвей Над бедной нянею моей...»Как сильно вошла эта любовь в творчество поэта!
И как, должно быть, она помогла ему, среди многого иного, совершить общественный и литературный подвиг, окончательно отделив слово чернь от слова народ.
Народ и чернь
С незапамятных времен существовали в народе сказка, где, как в настоящей жизни, насмерть боролось зло с добром, но, совсем не как в жизни, добро и любовь неизменно побеждали, и песня — иногда полная счастьем, а порой звучащая как смертельный стон:
Бежит речушка слезовая, По ней струюшка кровавая, —записывал Пушкин.
И родилась внутренняя необходимость не дать забыться всем этим творениям.
Что значит «не дать забыться»? Просто записать?
Но как не легко оказывалось перенести устную речь в книгу.
Еще до рождения Пушкина Василий Алексеевич Лёвшин издал в десяти частях «Русские сказки, содержащие древнейшие повествования о славных богатырях, сказки народные и прочие, оставшиеся через пересказывания в памяти приключения».
Сейчас этот плодовитый литератор забыт, да и Пушкин говорил о нем с небрежением — «Левшин, автор многих сочинений по части хозяйственной», — не придавая значения его труду сказочника и фольклориста. Почему же такая короткая жизнь была предопределена огромному и одному из первых в этой области сочинению?
Левшин писал о своем замысле: «Романы и сказки были во все времена у всех народов; они оставили нам вернейшие начертания древних каждой страны... обыкновений и удостоились поэтому предания на письме... и изданием в печать... Россия имеет также свои, но оные хранятся только в памяти; я издаю сии сказки русские с намерением сохранить сего рода древности и поощрить людей, имеющих время собрать все оных множество».
Смелый замысел!
«Но собрать повествования, которые рассказывают в каждой харчевне... труд довольно суетный», — спохватывается автор.
Еще и не успев удивиться чудесам, готовым открыться ему, Левшин вспоминает, что ведь обращается он к созданию умов непросвещенных. На них надлежит смотреть с высоты, на которую поднимает человека образование, учительским пером исправляя ошибки наивной фантазии и «научно» объясняя чудеса.
Прочитаем начало одной из сказок в записи Левшина: «Громобой следовал вместе с невольником. Вдруг преужасная пламенная река пролилась впереди. Сверкание пламени было ужасно, казалось, что растопленная медь готова сжечь каждого приближающегося. «Вам должно перейти сию реку, — сказал невольник, остановись. — Но здесь уже мужество не поможет, разве если бы вы были не человек, а вещество несгораемое. Не лучше ли возвратиться...»
Громобоя не останавливают трусливые предупреждения. Вступив на пылающую поверхность, он видит, что: «То, что казалось издали огненной рекой, было рядом выпуклых зеркал, поставленных на дрожащих пружинах так противу солнца, что отвращенные огненные лучи ударялись прямо в глаза приближающегося...»
Забудем об архаичности слога, она от безжизненности содержания. Левшину представляется, что «пламенные реки» пристойны лишь в устах человека темного, а долг носителя просвещения объяснить чудеса. Так огненная река превращается во взятые из театрального реквизита ряды зеркал, «отвращающие лучи солнца».
И сказка умирает.
Ведь прелесть сказки совсем не в том, что чудесам ее можно при большем старании подобрать «научное» разъяснение, а в том, что и действительно тайна наполняет жизнь человеческой души, человеческих чувств. Есть чудо в том, что ничем не примечательный человек, полюбив, покажется — да и станет — красивым, как в сказке Аксакова «Аленький цветочек».
И в том, что, поняв природу, начинаешь слышать голоса ее.
Сказка повествует о жизни чувств. Нежность, доверие и удивление должны наполнять того, кто пытается проникнуть во внутренний мир человека, иначе как бы не случиться непоправимой ошибке.
Вот ведь Энгельгардт не так взглянул на мальчика Пушкина и «увидел» его душу пустой.
А Левшин взглянул не так на сказку, и вместо волшебных огненных рек, которые можно преодолеть лишь силой подвига, перед ним возникли ряды пыльных зеркал — бутафория. Нет, сверху вниз в сказку не войдешь, как не проникнешь и в человеческую Душу.
Опыты Левшина и других породили у иных — и лучших — критиков убежденность, что к народному творчеству нельзя прикасаться, преступно хоть что-либо менять в нем.
Но как быть, если перенесенная слово в слово с изустной речи на лист бумаги сказка напоминает чучело птицы в музее — те же краски, распростерты крылья, но птица не полетит.
Пушкин был первым, кто с гениальной прозорливостью понял, что судьба сказки в письменной литературе определяется прежде всего тем, как взглянуть на создателя ее. Что такое народ: исток всего прекрасного или чернь — темный, необразованный люд? Одно ли это и то же народ и чернь?
От ответа на этот вопрос зависела судьба не только сказки, но и всей литературы: будет ли она и дальше идти двумя раздельными руслами — низовым и верховым — или сольется в одно.
Чернь... Пушкин много думал о меняющемся историческом смысле этого слова.
Есть слова близкие и далекие. «Черный», «черное» исстари были рядом со словом «крестьянин». Народ работал на земле. «Тягловый податный, из простонародья, черни; черносошный», — пишет Даль. «Черная дань» — так раньше назывались подушные сборы, которые вносили крестьяне. Люди жили в закопченных, черных избах. Черный народ, чернь... Но было нечто, что и в древние времена не давало слиться словам «чернь» и «народ».
Ведь «черный», как записывает Даль, это еще и «грязный, нечистый, замаранный», а вовсе не только тот, кто трудится на земле. Черное — преступное сердце, черная совесть. Черный — злой, неукротимый, готовый пролить кровь. «Чернь бушует — о чем, не знает», — записывает Даль.
Когда Пушкин говорит: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» — в мыслях его как будто далевское значение слова «чернь».
Но так ли это?
Незадолго до смерти Пушкин пишет свои «Замечания о бунте» и передает их Бенкендорфу для царя. Значение этого документа в том, что впервые в истории русской литературы поэт говорит о судьбе страны не только от лица народа, но и из рядов его.
Он предупреждает: бунт несет неисчислимые бедствия, но он неизбежен, потому что из столетия в столетие копятся горе и насилие.
«Казни, произведенные в Башкирии генералом князем Урусовым, невероятны. Около 130 человек были умерщвлены посреди всевозможных мучений! — напоминает Пушкин и приводит дальше свидетельство очевидца: — «Остальных человек, до тысячи... простили, отрезав им носы и уши. Многие из сих прощенных должны были быть живы во время Пугачевского бунта».
Кровь рождает кровь, предупреждает Пушкин.
Вспомните песню Пугачева и его соратников в романе «Капитанская дочка» — грозную и обреченную. Что впереди? Невинные жертвы, а потом — поражение и виселица. Но чем бы ни кончилось восстание, в нем неотвратимость бури.
Современники Пушкина называли Пугачева вором и разбойником. Пушкин писал царю: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства».
Бунтует не бессмысленная чернь, а народ. «Нет зла без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен...»
Слово «чернь» в прежнем, далевском толковании умирает.
О понимании Пушкиным слова «чернь» Александр Блок в речи «О назначении поэта» говорил: «Пушкин собирал народные песни, писал простонародным складом; близким существом для него была деревенская няня. Поэтому нужно быть тупым или злым человеком, чтобы думать, что под чернью Пушкин мог разуметь простой народ... Пушкин разумел под именем черни приблизительно то же, что и мы. Он часто присоединял к этому существительному эпитет «светский», давал собирательное имя той родовой придворной знати, у которой не осталось за душой ничего, кроме дворянских званий; но уже на глазах Пушкина место родовой знати быстро занимала бюрократия. Эти чиновники и суть — наша чернь; чернь вчерашнего и сегодняшнего дня: не знать и не простонародье... Дельцы и пошляки, духовная глубина которых безнадежно и прочно заслонена «заботами суетного света».
Пушкин освободил народ от презрительной клички «чернь» и от пренебрежительного на него взгляда сверху вниз; произошедший при этом огромный сдвиг в сознании общества оказал решающее влияние и на судьбы литературы.
Но об этом позднее.
Само слово «чернь» не ушло из словаря. Подлость и низость с такой силой выражены в нем, в самом звучании его, что оно не могло исчезнуть, если эта подлость и низость существуют в обществе.
Слово и не исчезло, а только переменило значение. Пушкин вспоминает его, когда речь идет об уличном сброде и, равно, о придворной знати, но всегда «о дельцах и пошляках» — безразлично, богатых или нищих.
В стихотворении «Поэт и толпа» чернь говорит о себе:
Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы...Единственный священный закон черни — выгода.
Тебе бы пользы всё — на вес Кумир ты ценишь Бельведерский. Ты пользы, пользы в нем не зришь. Но мрамор сей ведь бог!.. так что же? Печной горшок тебе дороже: Ты пищу в нем себе варишь.Не только современники Пушкина, но и многие в последующих поколениях делили общество на сословия образованные и непросвещенные. Лишь постепенно пробивает себе дорогу понимание того, что образование — не только сумма знаний, а прежде всего сообщение образа человеческого: это заключено в высшем смысле слова. Но смысл слов открывается не сразу...
Были времена, когда слова «этот город честнее» понимали так: он богаче, и править в нем, быть наместником выгоднее, «больше чести». Потом понятие «честный» снова утвердилось и в древнем, и в нынешнем, таком важном для нас смысле: правдивый.
Раньше «благородным» называли прежде всего того, кто родился в благом, знатном роду. Народная мудрость закрепила для нас в языке вечное нравственное значение слова «благородство», оценивающего не происхождение, а душевную силу и чистоту человека.
Если образование наряду с накоплением знаний включает и сообщение образа человеческого, то есть нравственное совершенствование, то «образованный» можно сказать лишь о человеке с живой душой, способном к самопожертвенной любви, способном понимать других, открытом красоте природы и умеющем чувствовать искусство, жить им.
При таком взгляде на образование легко понять, как, несмотря на разность происхождения, состояния, сословия, близка Арина Родионовна Пушкину.
Чернь — бессмысленная и злая — была и среди подневольных сословий, но не органически присущей им частью, а как накипь. Была она и в высших слоях общества.
В «Борисе Годунове» царь говорит талантливому военачальнику Басманову:
«Пошлю тебя начальствовать над ними; Не род, а ум поставлю в воеводы; Пускай их спесь о местничестве тужит; Пора презреть мне ропот знатной черни И гибельный обычай уничтожить».Избавив обездоленных от подлой клички «чернь», оставив эту кличку только людям бессовестным, с черным сердцем, Пушкин и в высшем обществе открывает такую же по жестокой безнравственности и не менее опасную накипь черни.
Это те, о ком Лермонтов в гениальном стихотворении «Смерть Поэта» напишет:
А вы, надменные потомки Известной подлостью прославленных отцов, Пятою рабскою поправшие обломки Игрою счастия обиженных родов! Вы, жадною толпой стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы под сению закона, Пред Вами суд и правда — всё молчи!Чернь — это бенкендорфы — палачи и сыщики, дантесы — равнодушные убийцы, продажные чиновники, продажные литераторы, как Булгарин и Греч.
Пушкин был первым поэтом России, который с такой полнотой осознал, как несправедливо называть народ словом «чернь».
Он не смотрел на народ ни свысока, ни с молитвенным поклонением, то есть тоже со стороны, просто потому, что был частью его.
Пушкинская сказка
Пушкин не мог не написать свои сказки — то, что с детства запало в сердце поэта, рано или поздно должно было отозваться. И гений создает целый мир, а не обломки его; а мир человеческий немыслим без детства, как и детство немыслимо без сказки.
Сказки были особенно важны ему и потому, что из всей литературы они первыми проникают к людям разных сословий, и проникают рано, когда душа открыта всему высокому. В России исстари сказки любили все.
Пушкин был частым посетителем народных гуляний и ярмарок и там почти с завистью наблюдал, как жадно расхватываются сказочные лубки.
«Тогда в Москве они так же легко покупались, как изюм, орехи и моченые яблоки», — писал друг Пушкина Вяземский.
Пушкин должен был написать сказки, чтобы отдать людям то, что ему самому подарили Арина Родионовна и Мария Алексеевна, — мудрость, заключенную в волшебных образах. Чтобы «чувства добрые» входили в сознание с колыбели и не позволяли впоследствии сбиться с пути.
Это была задача такой важности, что Гоголь, узнав о завершении Пушкиным «Сказки о царе Салтане», писал Жуковскому: «Страшные граниты заложены в фундамент, и те же самые зодчие выведут и стены и купол во славу векам!»
Пушкин с восторженным удивлением записывал народные сказки, открывая в них новую и новую прелесть. Но записью не кончалась работа; тут снова надо вспомнить слова Веневитинова о гордом участии поэта.
В сказке, когда ее слушаешь, кроме повествования, есть еще и музыка тихого таинственного голоса, есть нежность, с этим голосом ниспадающая. в твое сердце.
Я трепетал — и тихо наконец Томленье сна на очи упадало.Как сберечь это в написанных словах, чем заменить?
Сравним записи того, что услышал Пушкин — уже взрослым — из уст Арины Родионовны и других сказителей, с его собственными сказками. Иногда эти два потока почти параллельны, но тут же они далеко расходятся.
«Царевна заблудилася в лесу. Находит дом пустой — убирает его. Двенадцать братьев приезжают, — записывал Пушкин. — «Ах, — говорят, — тут был кто-то — али мужчина, али женщина; коли мужчина, будь нам отец родной али брат названый; коли женщина, будь нам мать али сестра»...
И в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» царевна попадает в пустой терем среди леса. И только она «всё порядком убрала», в терем входят богатыри:
Старший молвил:
«Что за диво! Всё так чисто и красиво. Кто-то терем прибирал Да хозяев поджидал. Кто же? Выдь и покажися, С нами честно подружися. Коль ты старый человек, Дядей будешь нам навек. Коли парень ты румяный, Братец будешь нам названый. Коль старушка, будь нам мать, Так и станем величать. Коли красная девица, Будь нам милая сестрица».Стихи следуют за записью. Но при этом в них не только воскресает домашнее и милое устного рассказа, но и появляется иное, что прежде не существовало и не могло существовать, — тайна пушкинской поэзии.
Еще одна запись Пушкина, как Султан Султанович, турецкий государь, слышит рассказ об удивительном чуде: «...У моря лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет».
А вот пролог к «Руслану и Людмиле»:
У лукоморья дуб зеленый; Златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый Всё ходит по цепи кругом; Идет направо — песнь заводит, Налево — сказку говорит.Прислушайтесь, как незаметно и прекрасно поэзия преображает повествование.
Читаешь незаконченную «Сказку о медведихе», и все время слышится певучий голос сказителя. Мужик убил медведиху, а «малых медвежатушек в мешок поклал». Печалится осиротевший медведь:
«Уж как мне с тобой, моей боярыней, Веселой игры не игрывати, Милых детушек не родити, Медвежатушек не качати, Не качати, не баюкати».Старинным, почти былинным складом движется сказка. Звери приходят к вдовцу горемычному:
Прибегал туто волк дворянин, У него-то зубы закусливые, У него-то глаза завистливые. Приходил тут бобр, богатый гость, У него-то, бобра, жирный хвост. Приходила ласточка дворяночка, Приходила белочка княгинечка, Приходила лисица подьячиха, Подьячиха, казначеиха, Приходил скоморох горностаюшка, Приходил байбак тут игумен, Живет он, байбак, позадь гумен. Прибегал тут зайка-смерд, Зайка беленький, зайка серенький. Приходил целовальник еж. Всё-то еж он ежится, Всё-то он щетинится.Будто вся тогдашняя Россия возникает в сказочной череде.
«Никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно с народом своим, как Пушкин», — сказал Достоевский.
Но и когда сказки текут параллельно устному рассказу, они не просто повторяют услышанное поэтом, не просто перелагают это в стихи.
Разве для одного лишь повторения доверена поэту судьба сказочника?
«Народность отражается не в картинах, принадлежащих какой-либо особенной стороне, но в самих чувствах поэта, напитанного духом одного народа... — говорил Веневитинов. — Не должно смешивать понятия народности с выражением народных обычаев: подобные картины только тогда истинно нам нравятся, когда оне оправданы гордым участием поэта».
Меняя установившийся исстари сюжет сказки, поэт не изменяет традициям народного творчества; тут все дело в чистоте его дара.
Ведь и лучшие сказители чаще всего передают сказку не слово в слово, а так, как она запомнилась, как соединилась с мыслью, памятью, пониманием жизни.
Множество веков существовала на земле сказка, когда впервые появились цари. И кто-то — неведомый — первым ввел в нее злого и доброго царя и красавицу царевну и первый сказал слова, сразу наполняющие тебя ожиданием необычайного: «В некотором царстве, в некотором государстве...»
Уже множество веков жила сказка, когда люди научились делать зеркала. И кто-то впервые в воображении своем создал волшебное зеркальце. Оно поселилось в сказке, будто существовало в ней вечно, рядом с избушкой на курьих ножках, родившейся гораздо раньше.
Поселившись в сказке зеркальце преображалось, пока череда сказителей не подарила ему самое главное свойство — правдивость.
Помните у Пушкина в «Сказке о мертвой царевне»:
Вот царица, наряжаясь Перед зеркальцем своим, Перемолвилася с ним: «Я ль, скажи мне, всех милее, Всех румяней и белее?» Что же зеркальце в ответ? Ты прекрасна, спору нет; Но царевна всех милее, Всех румяней и белее.» Как царица отпрыгнёт, Да как ручку замахнет, Да по зеркальцу как хлопнет, Каблучком-то как притопнет!.. Ах ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло».Да, не легко быть правдивым. Но на то и сказка, чтобы научить нас преодолевать все испытания...
А еще задолго до создания зеркала люди приручили коня. Первый волшебный конь, пращур Конька-горбунка, вошел в сказку привычно, как в теплое стойло, будто и всегда был там, покосил умным глазом на хозяина, разгадал его сердце и стал верно служить.
Гордое свое участие, опыт жизни, веселую, а то и горькую усмешку, а то и слезы внесли в сказку тысячи неизвестных сказителей. И Пушкин не изменил древней традиции. Он только шагал по этой же дороге семимильными шагами, как пристало гению...
Теперь, когда приближается окончание главы, пора вернуться к спорам о пушкинской сказке.
Записать сказки, пришедшие из далекого прошлого, слово в слово, как требовали некоторые критики, дело ученых — фольклористов, этнографов. И этот великий научный труд, как мы знаем, при Пушкине и еще в допушкинские времена сам собой начался по всей стране.
Словарь и собрание пословиц Даля, собрание песен Киреевского, собрание сказок Афанасьева — все это завершало первый этап работы, не имеющей, в сущности, конца; ведь и словотворчество никогда не прекратится. Наука следовала главному для нее условию — точности. Поэзия избрала другой, единственно для нее возможный путь — творчества; пожалуй, отношение поэзии к народной сказке глубже всех определил Веневитинов.
Пушкин, как и до него несчетный ряд безымянных сказителей, внес в сказку идеи, которыми жил, свой опыт, видение жизни и свой поэтический гений. Для него, как и для народных сказителей, сказки были не просто собранием занимательных сюжетов, а драгоценным выражением и общечеловеческой мудрости, накопленной столетиями и столетиями выверенной, и собственного жизненного опыта.
С народной мудростью мысль и душа поэта соединяются так, чтобы ничто выстраданное людьми не потерялось. В естественности соединения творчества поэта со стихией народного творчества — величайшее чудо пушкинской сказки.
Когда цари вошли в сказку, образ этот вобрал в себя и черты корыстной жадности, вздорного властолюбия.
Вот и царь Дадон сластолюбив и жесток; как Александр Первый предал сподвижников первых лет царствования, как Николай Первый казнит декабристов, с тем же нечеловеческим равнодушием Дадон, только увидел Шамаханскую царицу,
И забыл он перед ней Смерть обоих сыновей.Царь лжив. Пушкин ощущал не только обман окружающего, но и призрачность, обреченность того, что на этом обмане возникает. Дадон обманул скопца.
Вдруг раздался легкий звон, И в глазах у всей столицы Петушок спорхнул со спицы: К колеснице полетел И царю на темя сел, Встрепенулся, клюнул в темя И взвился... и в то же время С колесницы пал Дадон — Охнул раз, — и умер он. А царица вдруг пропала, Будто вовсе не бывало.И так же, «будто вовсе не бывало», развеивается добытое одной лишь жадностью в «Сказке о рыбаке и рыбке».
Помните?
«Захотела старуха, которую золотая рыбка сделала царицей, стать владычицей морскою. Ничего не сказала рыбка». Воротился рыбак домой.
Глядь: опять перед ним землянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею разбитое корыто.«Сказка о золотом петушке» завершает сказочный мир Пушкина. Но и в «Медном всаднике», последней его поэме, как и в сказке, грозно звучит пророчество зыбкости того, что куплено страданиями людей.
Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На город кинулась. Пред нею Все побежало; все вокруг Вдруг опустело...Не только бешенство природы возникнет в воображении. Волны окрашиваются кровью.
Гроба с размытого кладбища Плывут по улицам! Народ Зрит божий гнев и казни ждет.Наводнение — напоминание о замученных; они похоронены не на кладбище, стали частью земли, которую попирает «кумир на бронзовом коне». И никогда не успокоится эта земля.
Царь Дадон замыкает ряд враждебных человеку образов. В ряду этом завистливые сестры и сватья баба Бабариха, и поп, толоконный лоб, и царица, для которой нет ничего дорогого, кроме собственной красоты. О всех них можно сказать пушкинской строкой: «Вы равнодушны, злы, коварны». Это чернь; вряд ли есть в языке еще такое же несказочное слово, но иного не подберешь.
Образы зла возникают и в других произведениях поэта, и прежде всего в «Маленьких трагедиях».
Скупой рыцарь, склонившись над грудами золота, рассказывает себе нечто вроде сказки — безжалостной, как его душа:
«... Читал я где-то, Что царь однажды воинам своим Велел снести земли по горсти в кучу, И гордый холм возвысился — и царь Мог с вышины с весельем озирать И дол, покрытый белыми шатрами, И море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося Привычну дань мою сюда в подвал, Вознес мой холм — и с высоты его Могу взирать на всё, что мне подвластно. Что не подвластно мне? как некий демон Отселе править миром я могу; Лишь захочу — воздвигнутся чертоги; В великолепные мои сады Сбегутся нимфы резвою толпою; И музы дань свою мне принесут, И вольный гений мне поработится, И добродетель и бессонный труд Смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко Вползет окровавленное злодейство, И руку будет мне лизать, и в очи Смотреть, в них знак моей читая воли. Мне всё послушно, я же — ничему...»Неутолимая страсть скупца. Но уже близка смерть... «Вольный гений» не поработится, а передаст грядущим поколениям страшный, но и жалкий образ того, кто все человеческое в себе отдал за призрачную власть над миром.
В трагедии «Моцарт и Сальери», отвергая слух, что Бомарше кого-то отравил, Моцарт говорит Сальери:
Он же гений, Как ты да я. А гений и злодейство — Две вещи несовместные. Не правда ль? — Ты думаешь? —отвечает Сальери, бросая яд в стакан Моцарта.
Пушкин убежден, что гений и злодейство несовместимы; устами Моцарта говорит сам поэт. Зло может убить гения, но оно обречено. И истинная красота тоже несовместна со злом.
Мир пушкинских сказок гармоничен и прекрасен тем, что ненависть, корысть, зависть, тирания — все зло людского существования в этом мире — презренны и обречены гибели. Всегдашнее торжество истинной разумности роднит пушкинские сказки со сказками народными гораздо больше, чем сходство сюжета.
Первоначальное в жизни не зло, а материнская любовь, и вообще любовь; первым ребенок произносит слово «мама» — самое нежное на земле, первые его ощущения — тепло рук матери.
Солнечный луч и море, самое синее и безбрежное из всех поэтических морей, красота природы и женская красота, увиденные как бы впервые, освещают пушкинские сказки.
И тем самым — нашу жизнь.
... Старуха осталась «у разбитого корыта». А старик рыбак? Он, как и прежде, будет жить «у самого синего моря». И если снова попадется в его сеть золотая рыбка, он поступит как в первый раз.
Отпустил он рыбку золотую И сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка! Твоего мне откупа не надо; Ступай себе в синее море, Гуляй там себе на просторе».Рыбак и природа — одно, и в этом счастье рыбака.
В пушкинских «Сценах из рыцарских времен» Бертольд, посвятивший жизнь науке, говорит богатому купцу Мартыну:
«— Золота мне не нужно, я ищу одной истины.
— А мне черт ли в истине, мне нужно золото», — отвечает Мартын.
Бертольд и Мартын, как рыбак и его старуха, — в них воплощена вековечная борьба истины и корысти. Золото кажется иногда всесильным, но, говорит Пушкин, это только временное и обманное могущество.
Человек — часть природы, и природа придет на помощь человеку, если он в согласии с ее мудростью. Из моря выйдут к Гвидону «в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря», чтобы верно ему служить. И с ними царевна Лебедь.
Из сказки в сказку переходит поэтическая тема торжества любви. В «Сказке о мертвой царевне» неутешный королевич Елисей скачет по белу свету, ищет невесту:
И кого ни спросит он, Всем вопрос его мудрен; Кто в глаза ему смеется, Кто скорее отвернется...Только ветер помогает влюбленному.
...«Постой, — Отвечает ветер буйный, — Там за речкой тихоструйной Есть высокая гора, В ней глубокая нора; В той норе, во тьме печальной, Гроб качается хрустальный На цепях между столбов. Не видать ничьих следов Вкруг того пустого места; В том гробу твоя невеста».Пошел королевич, куда указал ему ветер, «на прекрасную невесту посмотреть еще хоть раз». Увидел — «спит царевна вечным сном». И в отчаянии
... О гроб невесты милой Он ударился всей силой. Гроб разбился ... Дева вдруг Ожила. Глядит вокруг Изумленными глазами...Красота жизни, гордое торжество разумности, добра, любви рано входит в сознание — и не одного человека, а в сознание народа, человечества — вместе со сказками Пушкина и других великих сказочников. И до Пушкина были в России замечательные сказки. Но не каждому дано начинать жизнь «под шепот старины болтливой». Иные сказки доживали свой век только в одной деревне, даже в одной, покосившейся, вросшей в землю избе, затерянной среди лесов и полей. С явлением Пушкина страна — прежде всего дети страны, но не они одни — услышала сказку, всем близкую и внятную.
Общее счастливое переживание вошло в судьбу не одного ребенка, и даже не одного только поколения — в детство народа.
Будто вместе со своим гениальным поэтом народ впервые всей грудью вздохнул, и уже второе столетие воздух пушкинской правды струится от человека к человеку — от матери к дочери и сыну.
Пушкин завершил многовековый труд создания живого литературного языка. Но язык — не простое собрание слов, подобное наваленным в сокровищнице драгоценным камням. Главное в словах — что они живые и связаны между собой.
Как в географическом пространстве есть направления — север и юг, восток и запад, — без них человек блуждал бы, так и в «нравственном пространстве» языка, в каждом нравственном понятии существуют направления к правде и ко лжи, к добру и злу, к любви и ненависти; одни — общие для всех языков и всех стран, другие — продиктованные историческим опытом различных эпох общественного развития именно этого народа.
Постижение направлений главных нравственных понятий впервые входит и утверждается в сознании ребенка вместе с пушкинской сказкой.
Младший современник Пушкина Иван Александрович Гончаров почти столетие назад писал: «Я по летам своим старше всех современных писателей; принадлежу к лучшей поре расцветания пушкинского гения, когда он так обаятельно действовал на общество, особенно на молодые поколения. Старики еще ворчали и косились на него, тогда как мы все падали на колени перед ним... 15—16-летним юношам приходилось питаться Державиным, Дмитриевым, Озеровым, даже Херасковым... И вдруг Пушкин...»
Мы счастливее школьника Гончарова. С детства к нам приходят лучшие писатели нашей страны и всего мира — от Андерсена и Диккенса до Толстого, от Сервантеса до Чехова.
И все-таки, вступая в пушкинскую поэзию, вначале в сказки его, потом, тоже на всю жизнь, в мир «Цыган» и «Бахчисарайского фонтана», «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», в мир «Медного всадника» и пушкинской лирики, мы каждый раз заново испытываем ни с чем не сравнимое чувство восторга и благодарного преклонения перед светлым гением; то чувство, которое Гончаров выразил в простых словах:
И вдруг Пушкин...
Глава девятая. Тайны сказки.
Страница за страницей движется роман, отражая в зеркале своем города и села, образы современников, мечты, обычаи, надежды — а порой и безнадежность — поколения. И вдруг, по прихоти своего создателя — но точно ли, по прихоти? — течение сюжета как бы остановится, и вот уже, оглянувшись, мы видим вместо знакомых пейзажей страну «за тридевять земель»; в волшебном свете ее перед глазами вновь проходят герои романа, понятные и близкие, но вместе и совсем иные.
И кажется, что в этом, таком естественном проникновении сказки в реальное повествование, заключена одна из важнейших ее тайн.
Вещая сказка
Он возникает не вдруг — «Татьяны милый идеал». Может быть, ни в кого другого из длинной череды своих героев не вглядывался поэт с таким нежным и неотрывным вниманием... Закончена вторая глава романа, и Татьяна уже обрела независимое существование; ничего нельзя «придумать», поэт может только открывать ее для себя, счастливый каждым признанием, каждой угаданной чертой. Лист бумаги с невысохшими еще чернилами, вновь и вновь перечеркнутые строки, наконец найденные единственные слова...
Татьяна видит жизнь словно скрытой цветной пряжей вымысла. «Ей рано нравились романы; они ей заменяли всё; она влюблялася в обманы...» Ночи напролет она читает: «... Вертер, мученик мятежный» сменяется сентиментальным Малек-Аделем; душа ждет любви, доверчиво раскрыта каждому ее предвещанию. И вот появляется Онегин.
Воображаясь героиней Своих возлюбленных творцов, Кларисой, Юлией, Дельфиной, Татьяна в тишине лесов Одна с опасной книгой бродит, Она в ней ищет и находит Свой тайный жар, свои мечты, Плоды сердечной полноты,Письмо написано и отправлено, безмолвно выслушан приговор. Как подстреленная птица спасается в глубине леса, Татьяна из призрачного мира вымыслов уходит в самое для себя заветное, сбереженное с детства. В разговорах с няней, в песнях, доносящихся из девичьей, в святочных гаданиях возвращаются к ней «преданья старины глубокой». Сейчас это единственное убежище; только печали в нем больше, чем радости.
И вот
... Снится чудный сон Татьяне. Ей снится, будто бы она Идет по снеговой поляне, Печальной мглой окружена...Тревога, горькие предчувствия охватывают читателя с первых строк сна. Мертвящая ночная стужа и боль оскорбленного сердца сливаются в одно.
Где же, в чем истоки причудливых этих, но очень важных для дальнейшего движения романа сновидений Татьяны?
Существовал в России, кое-где в глухих деревнях севера бытует и сейчас обычай: утром, накануне венчания, прощаясь с девичеством, предугадывая испытания подневольной жизни, песней — «плачем» невеста рассказывает сон прошедшей ночи, будто, назвав беду, можно отвести ее. В книге о творчестве Пушкина Г. А. Гуковский приводит такие плачи. Они пришли к нам из далекой старины и их, или сходные с ними, мог слышать Пушкин.
Среди глухого ночного леса — изба; девушка входит в нее и видит: там
Медведь со ведьмедицей, Вороны черные, Сороки-то вещицы...Так поется в плаче («вещицы» в старорусском языке означало — колдуньи).
Сходным запевом начинается и сон Татьяны: медведь схватил ее когтистыми лапами и несет —
Вдруг меж дерев шалаш убогой; Кругом всё глушь; отвсюду он. Пустынным снегом занесен... Медведь промолвил: «Здесь мой кум: Погрейся у него немножко!» И в сени прямо он идет И на порог ее кладет. Опомнилась, глядит Татьяна... И что же видит?.. за столом Сидят чудовища кругом...«Всякий, несколько знакомый со взглядом крестьян на медведя, с поверьями о нем и с его ролью в сказках, невольно почувствует, откуда появился медведь в воображении Пушкина, а затем во сне Татьяны, заснувшей... после святочных гаданий», — писал в конце прошлого века известный русский фольклорист В. Ф. Миллер.
Плачи близки сну Татьяны не только отдельными сходными образами, но и всей, из стародавних времен услышанной, музыкой своей.
Середи да ночки темноей Подневольна красна девушка Мало спала, много видела, Мне ночесь во сне казалося, Будто я, да молодешенька, В темном лесе одиношенька... В этом горькоем осинницку Стоит маленька избушецка...Страшно в лесной избе, так напоминающей жилище Бабы-Яги или Кощея Бессмертного.
Там сверлом окна просверлены, Решетом свету наношено... Там зима стоит холодная.Тот же мертвый лес, предвещающий неотвратимое горе, привидится и Татьяне:
... Сквозь вершины Осин, берез и лип нагих Сияет луч светил ночных; Дороги нет; кусты, стремнины Метелью все занесены, Глубоко в снег погружены.Плач обращен к будущему. И сон Татьяны — плач о будущем; в горькие минуты Татьяне открывается то, что должно произойти, что ждет дорогих ей людей.
Ясновидением любви, не наяву, не допуская еще этого в дневное сознание, она видит, чувствует холод души своего героя; и жестокость, таящуюся в его безразличии к судьбе даже самых близких — а есть ли у него истинно близкие? — в беспощадном безразличии к другим, равно как и к самому себе.
Пируют страшные чудища.
... Вдруг Ольга входит, За нею Ленский; свет блеснул; Онегин руку замахнул И дико он очами бродит... Спор громче, громче; вдруг Евгений Хватает длинный нож, и вмиг Повержен Ленский...Глазами, сердцем, воображением любимой своей героини, безошибочностью ее чувств поэт словно бы выверяет судьбу Онегина.
Исследователи творчества Пушкина давно уже отметили близость сна Татьяны стихотворению «Жених», которое Пушкин в подзаголовке назвал «Простонародной сказкой». Наброски «Жениха» были найдены среди черновиков четвертой главы «Онегина», законченной 3 января 1826 года; уже назавтра, как бы влекомый той же волной вдохновенья, поэт начинает главу пятую, в которой — сон.
Рога и пальцы костяные, Всё указует на нее, И все кричат: мое! мое! Мое! — сказал Евгений грозно...Татьяне не суждено забыть единственную свою любовь, уйти из-под ее власти. Придет день, когда страстное чувство охватит и сердце Онегина. Во все годы создания романа Пушкин вглядывался в такого близкого ему героя и пророчил: он еще «проснется»; нетерпеливо искал приметы духовного воскрешения: наступило оно?
Что движет Онегиным в последние его встречи с Татьяной? Ревнивое чувство, так точно выразившееся грозным и властным восклицанием «Мое!»; чувство, тоже беспощадное к Татьяне, пусть и по-иному, чем в давние встречи их; или, наконец, пришла к нему редкая и прекрасная, все меняющая в человеке любовь?
... Роман приближается к концу.
Промчалось много, много дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней Онегин в смутном сне Явилися впервые мне — И даль свободного романа Я сквозь магический кристалл Еще не ясно различал.А что, если для Пушкина «магический кристалл» — или, вернее, какая-то грань его — и эта вещая сказка?
Заговор детей
Откроем роман Достоевского «Идиот».
С первых минут, когда князь Лев Николаевич Мышкин только появляется, он производит сильное, а на иных даже поражающее на всю жизнь впечатление какой-то чарующей странности; и как же она привлекает каждого, кто встретится с князем. Правда, потом многие, преимущественно люди практического склада, но не только они одни, спохватываются и, как бы устыдившись неподвластного уму, против их воли возникшего чувства, торопятся отомстить за него князю; и мстят очень жестоко.
Может быть, впечатление странности происходит от того, что князь много лет страдал тяжелой нервной болезнью, и сейчас, не исчезнувшей, а затаившейся, болезнь угадывается, лишь только встретишь взгляд его больших голубых и пристальных глаз. Или это чувство возникает потому, что вот он лечился — далеко, в Швейцарии, — возвращается домой в Петербург среди зимы, а на нем только плащ с капюшоном и в руках тощий узелок. Поражает явное неблагополучие — болезнь, почти нищета, — вместе с не идущей к этому неблагополучию душевной силой.
И вот уже в самый день приезда в Петербург князь сидит в гостиной генеральши Епанчиной, дальней родственницы, с которой, впрочем, знаком прежде не был, и рассказывает, как деревенские дети и он вместе с ними, там, в горном кантоне, пытались спасти Мари, одинокую, сломленную судьбой девушку. Эту историю — или эту сказку-быль — можно было бы так и назвать: «Заговор детей».
Вместе с генеральшей князя слушают три ее дочери. И на прекрасном лице младшей, Аглаи, выражение напряженного внимания, почти восторга, сменяется насмешливой улыбкой; без слов, только по лицу ее, чувствуешь — как спасительно для нее, для всего ее жизненного благополучия было бы вырваться из луча непонятного, необъяснимого света, который все сильнее охватывает ее; но вырваться, пожалуй, невозможно.
«— Наконец Шнейдер мне высказал одну очень странную свою мысль, — это уж было перед самым моим отъездом, — он сказал мне, что он вполне убедился, что я только ростом и лицом похож на взрослого, но что развитием, душой, характером и, может быть, даже умом я не взрослый, и так и останусь, хотя бы я до шестидесяти лет прожил. Я очень смеялся: он, конечно, не прав, потому что какой же я маленький? Но одно только правда: я и в самом деле не люблю быть со взрослыми... и это я давно заметил, — не люблю, потому что не умею... С ними мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были дети...»
Что ж, в этом и есть отгадка странности князя? Просто он — ребенок среди взрослых?! Ребенок, для иных отчасти и опасный — именно опасный! — тем, что выглядит, как взрослый, «притворяется» взрослым. Опасный тем, что в мир, где властвуют выгода, карьера, борьба честолюбий, в мир, не очень нравственный, но прочный, устоявшийся, в котором хоть как-то можно существовать, он, независимо от сознательной воли, вносит идеи справедливости, любви; да и любви иной, чем у других — детской, любви жалостью, состраданием. И этим посягает на устойчивость реального мира. Ребенок среди взрослых — вот и все; в этом приговор ему и предсказание: те, кто окружают его, не простят этой несходности.
И пока длится рассказ князя, может быть, уже тогда Аглае впервые приходит на ум баллада Пушкина, в которой заключена и эта мысль, и многое другое:
Жил на свете рыцарь бедный, Молчаливый и простой, С виду сумрачный и бледный, Духом смелый и прямой.Будто насмешливые и ласковые и еще такие грустные эти строки сами собой рождаются в воздухе романа; они станут звучать на всем его протяжении. И когда житейская вьюга, жестокая, несущая гибель, закрутит князя и всех, чьи судьбы соприкоснутся с его судьбой, они станут доноситься из-за злой крутоверти, где и на шаг не видно, предвещая, что где-то там путь есть, должен быть путь и для «рыцаря бедного»; только откуда доносятся слова надежды? То покажется — справа, то — слева, то из близи, то из недоступной дали; где этот путь?
Князь рассказывает, как бродячий торговец соблазнил Мари, а после — бросил. Мари возвращалась в свой кантон — куда еще идти? — побираясь, в лохмотьях, со стертыми в кровь ногами; ночевала в поле и очень заболела. А дома ее встретили, как отверженную, с презреньем и злобой, будто она больше и не человек. Даже мать до самой своей смерти не говорила с дочерью, гнала спать в сени, почти не кормила. И пастор, который ведь должен был верить во всепрощение, на похоронах матери проклял Мари — больную, обреченную, доживающую последние месяцы. Мари преследовали все, и сначала дети даже еще больше, чем взрослые. Они ей проходу не давали, грязью кидались — продолжал князь свой рассказ: «Гонят ее, она бежит от них со своею слабою грудью, задохнется, они за ней, кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить, говорил каждый день, когда только мог... Я им рассказал, какая Мари несчастная; скоро они перестали браниться и стали отходить молча. Мало-помалу мы стали разговаривать, я от них ничего не таил... Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари... Однажды две девочки достали кушанья и снесли к ней, отдали, пришли и мне сказали. Они говорили, что Мари расплакалась и что они теперь ее очень любят... Потом все узнали, что дети любят Мари и ужасно перепугались; но Мари уже была счастлива. Детям запретили даже и встречаться с нею, но они бегали потихоньку... носили ей гостинцев, а иные просто прибегали для того, чтобы обнять ее, поцеловать...»
... Странно, много дней неотрывно думаешь о князе Мышкине, и вдруг мысль сама собой перебрасывается на Сервантеса и его Дон Кихота, на Януша Корчака, на Сент-Экзюпери; будто и для них звучат эти пушкинские строки, не уставая повторять, что есть, есть путь, предназначенный «рыцарю бедному». Но отчего же, когда рыцари столетье за столетьем в одной стране за другой выходили на этот путь, он так трагически пресекался?
Дети придумали, рассказывал князь, что он любит Мари; и думать так «было для них ужасным наслаждением... И вот в этом одном, во всю тамошнюю жизнь мою, я и обманул их. Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали...».
Так ведь скоро князь и полюбит нравственно искалеченную подлыми людьми Настасью Филипповну любовью, одному лишь ему ведомой, вся внутренняя суть, основа которой — жалость.
«Заговор детей» представляется сказкой, но совсем особенной, и роль ее и для писателя и для нас, читающих роман, огромна. Может быть, Достоевский прежде рассказал ее сам себе и только тогда вполне увидел уже заключенную, сжатую в ней главную линию романа, как в сказке-сне Татьяны увидел движение своего романа Пушкин.
Эта история близка ко многим сказкам о Золушке, только Мари была унижена неизмеримо более, чем ее сестры, а потом, правда, уже перед смертью, стала, может быть, и счастливее их. Во всяком случае, счастлива совсем по-иному; из всех сказочных принцев только князь Мышкин подарил своей избраннице любовь жалостью, состраданием, такую любовь, которая, быть может, во всей своей красоте, величии, значении и была вполне осознана человечеством лишь с появлением романа Достоевского.
Заговор детей возникает и завершается далеко-далеко от чиновного Петербурга второй половины девятнадцатого века, вне понятий о выгоде, деловых расчетов, беспощадных, жадных страстей, вне страшных нравов поколений безвременья, воссозданных в гениальном романе; заговор детей рождается совсем в другом, именно в сказочном пространстве, где живут одни дети, где властвуют от природы свойственные человеку законы добра. Правда, иногда, даже часто, изначальные законы скрываются, как река подо льдом; то же происходит с чувствами ребенка под тяжестью безжизненного холода; но если суметь согреть ребенка — а этот дар был первым, что открыл Достоевский в самом любимом и таком несчастливом своем герое, — душевный лед истает, как по весне исчезает лед на реке; и ребенок вновь становится чутким и отзывчивым, щедро дарит нежность и сострадание. В этом и заключен главный смысл сказки о Заговоре детей.
Кто знает, хватило бы Достоевскому сил написать роман, провести своего героя через сужденные ему муки, если бы не свет сказки; и достало бы у князя Мышкина сил вновь и вновь подниматься после непоправимых жизненных крушений, если бы не мерцала где-то в глубинах памяти эта сказка; и смогли бы мы, читатели, пережить трагедию романа и сквозь тьму его, все сгущающуюся, вынести и сохранить немеркнущий свет истинной человечности — свет во тьме.
Марья Моревна
Тайные страхи окружают маленького Михаила Пришвина, Курымушку, как зовут его домашние. Вот он стянул со стола сушеную грушу, старший брат заметил и приказывает: «Отдай, а то расскажу. А теперь сухарик стяни, конфету. А теперь — двугривенный из маминого кошелька».
Страхи соединяются, словно звенья Кащеевой цепи («Кащеева цепь» — так и назвал писатель свой прекрасный автобиографический роман); они всё нарастают, становятся невыносимыми. Кто поможет мальчику? Нет ему заступника рядом, в реальной жизни. «Какой-то старший, большой и добрый, и Голубой, чудится иногда Курымушке, ему бы все это как другу сказать, и он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы и все с него снял». И тут судьба, обернувшись сказкой, выручает мальчика.
Голубой услышал Курымушку, улыбнулся ему: в дом вошла прекрасная девушка, ребенку кажется, будто у нее солнце и месяц во лбу и звезды в тяжелых косах — настоящая Марья Моревна!
— Ты умеешь читать? — спрашивает Курымушку Марья Моревна, дочь прежних владельцев имения, и дает ему Андерсена, свою любимую детскую книжку.
... В саду, возле старой беседки, куда забрался Курымушка читать, стоит Марья Моревна с венком из лиловых колокольчиков. И вдруг налетает ястреб и уносит сойку, что спокойно спала на яблоне.
«— Что с тобой? — спросила Марья Моревна.
— Как что? Ты разве не слышишь: это ястреб уносит птицу.
— Чего же ты дремлешь? Слышишь и стоишь, беги скорей, отбивай!»
Летит за ястребом Курымушка на своих крыльях. Потом вспоминает, что нет у него крыльев и ястреба ему не догнать. Но крик птицы снова придает ему силы, опять забывает он, что бескрылый, и летит вдогонку за ястребом... И вот камень сшибает ястреба. Сойка спасена!
«Марья Моревна идет по полю, она встречает, обнимает, целует Курымушку, надевает на голову мальчика венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит:
— Ты — герой!»
И, научив его сражаться за слабых, Марья Моревна рассеивает страхи Курымушки — разбивается в осколки Кащеева цепь.
Глава десятая. Владимир Федорович Одоевский.
«Всё в жизни к великому средство»
Он был писателем, ученым, философом, теоретиком музыки, и во все эти миры человеческой мысли, а не только в милые свои детские сказки, вносил нечто очень свое — странно не чуждое волшебству, но одновременно и реальное.
В музыке он слышал второй язык человечества, которому суждено стать равным по значению языку слов; понятный всем людям, всем народам, он объединит и сдружит их.
Думая о вулканах — а его глубоко занимали все явления природы, особенно малоизученные и те, где проявляется безграничное могущество стихий, — он вообразит вулканы Камчатки гигантской подземной печью; из нее — наступит такое время! — во всю суровую нашу северную страну потечет по трубам тепло, распространится вечная весна; идея эта и сейчас кажется сказочной.
Даже слову «философия», сухому и отвлеченному, он и его друзья найдут замену — любомудрие; здесь в самом звучании любовь соединена с мудростью.
И в том, что в Одоевском как бы слились два древних сословия России — мать происходила из крепостных крестьян, а отец потомок княжеского рода Рюриковичей, — предвещается нечто сказочное: кто, как не сказка, выдает золушек замуж за принцев, а крестьянских сыновей женит на принцессах.
А как необычна вся его писательская судьба! Любимый и почитаемый современниками, он был потом надолго забыт; лишь теперь книги его просыпаются после столетнего сна, оживают, с каждым годом становясь ближе, современнее, необходимее. И непонятно, как можно было так долго обходиться без этого богатства.
... Промелькнуло детство, двенадцатилетие свое, преддверие отрочества, Владимир Одоевский встретил в Московском университетском благородном пансионе; школу эту, как и Царскосельский лицей, нарекут — «питомник гениев»: тут в разные годы учились Грибоедов, Вяземский, Чаадаев, Лермонтов.
Так уж настроены были умы Одоевского и его друзей — на высокое, мечтательно-романтическое, — что из всего созвездия талантов тогдашней литературы властителем их дум стал Василий Андреевич Жуковский, тоже питомец пансиона.
— В трепете, едва переводя дыхание, мы ловили каждое его слово, повторяли целые строфы, страницы, и новые ощущения нового мира возникали в юных душах, — вспоминая те годы, скажет Владимир Одоевский.
Представим себе зеленую, сложенную из дерна скамейку в дальнем уголке пансионского садика и сгрудившихся вокруг нее мальчиков. Прислушаемся, может быть, и к нам донесется приковывающий внимание по-детски беспредельной убежденностью тихий голос Одоевского: «Всё небо нам дало, мой друг, с бытием; всё в жизни к великому средство». Повторяя эти строки Жуковского, Одоевский и его друзья словно клянутся:
— Мы посвятим себя «прекрасной, возвышенной цели» — иное недостойно человека!
Только скорее бы осознать: в чем твое призвание.
Как свободно мечтается, когда звучат заветные строки. И будто во сне, картины сменяет одна другую...
Восседая на полукруглых скамьях, внимают ему седобородые старцы. Парламент? В России — парламент?
Или это вече: гудит вечевой колокол.
Или он с кафедры университетской аудитории обращается к юношам с призывным словом. Но чему он учит их, куда поведет?
Перед ним — нотная бумага; он пишет; каким-то чудом музыка сама собой начинает звучать.
Или он среди взволнованных друзей: в руках журнал, он читает вслух первую свою статью; она непременно все высветлит — другого и писать не к чему. Но о чем статья?
Или это не статья, а рассказ, повесть, сказка?
Многому из детских мечтаний суждено осуществиться. И в зрелые годы Одоевский останется центром притяжения, каким был в пансионе. Владимир Александрович Соллогуб так запомнит его литературный салон: «Пушкин слушал благоговейно Жуковского, графиня Ростопчина читала Лермонтову свое последнее стихотворение, Гоголь подслушивал светские речи; Глинка расспрашивал графа Виельгорского про разрешение контрапунктных задач; Даргомыжский замышлял новую оперу и мечтал о либреттисте. Тут перебывали все начинающие и подвизающиеся в области науки и искусства — и посреди их хозяин дома то прислушивался к разговору, то поощрял дебютанта, то тихим своим, добросердечным голосом делал свои замечания, всегда исполненные знания и незлобия».
И в главную свою книгу «Русские ночи» он войдет не в одиночестве, а вместе с друзьями, чтобы на просторе печатных страниц продолжить размышления, для которых одной жизни мало.
Братья
Одоевский писал: «В истории встречаются лица вполне символические, которых жизнь есть внутренняя история данной эпохи».
Среди его друзей были Пушкин, Грибоедов, Гоголь, Глинка, Белинский, Кюхельбекер, Лермонтов — те, в ком «внутренняя история эпохи» отразилась полнее всего — прекрасно и трагически. Если и можно увидеть Владимира Одоевского, каким он был, — то именно их глазами, в свете их взгляда на него, никогда не мимолетного, не равнодушного.
... О двоюродном брате, поэте Александре Одоевском, Владимир писал в юношеском дневнике: «Он стал эпохою в моей жизни. Ему я обязан лучшими минутами своими».
Александр был человеком открытым, уж если любящим, то всем существом. Когда 7 ноября 1824 года Нева, «как зверь остервенясь», ринулась на Петербург, он метался по обезумевшему, полузатопленному городу: Грибоедова дома не оказалось, и потрясенному воображению представилось, что в эти самые минуты тот гибнет.
«Помнишь, мой друг, во время наводнения, как ты плыл и тонул, чтобы до меня добраться и меня спасти», — через годы, когда декабрист Александр Одоевский был на каторге, напоминал ему Грибоедов.
При первом знакомстве с братьями могло показаться, что «лед и пламень не столь различны меж собой». Подобное впечатление возникло было и у проницательного Грибоедова, но вскоре он понял свою ошибку и в письме к Владимиру с чувством радости в этом признался. На поверку оказывалось, что «лед» — лишь тонкая защитная пленка благородной и очень ранимой души.
Несогласие между братьями, никогда не мешавшее дружбе, сводилось к вечному спору между действием и умозрительной мыслью. Однажды, добродушно поддразнивая многодумного брата, Александр прочел ему монолог Фауста, где подведен насмешливый итог жизни, растраченной на схоластическое философствование:
— Я богословьем овладел, Над философией корпел, Юриспруденцию долбил И медицину изучил. Однако я при этом всем Был и остался дураком... Не тешусь мыслию надменной, Что светоч я людского роду И вверен мир моему уходу...Александр оборвал чтение, помолчав минуту, сказал серьезно, даже грустно:
— Что ж, сделаешься русским Фаустом? Жизнь — штука строгая, как бы и тебе не остаться в дураках... Жаль было бы.
С «тщетой знаний» Владимир никогда не согласится, идеалом его останется Ломоносов, человек, который «знал все, что знали в его веке: об истории, грамматике, химии, физике, металлургии, навигации, живописи, и пр. и пр., и в каждой из этих областей сделал свое открытие, может, именно потому, что все обнимал своим духом».
Владимир Одоевский выведет себя в романе «Русские ночи» под именем Фауст. Фауст — Одоевский, как бы отвечая брату в давнем, так и не закончившемся споре, скажет: «Некоторые считают, что Гёте изобразил страдания человека всезнающего. Но знание природы, которое никогда не может достигнуть крайних пределов, не производит чувства страдания; грусть лишь о том, что пределы не достигнуты».
Александр верил, что Россия станет счастливой — завтра, через год, через пять лет — во всяком случае, на его веку. Он думал: «Я буду среди тех, кто принесет моей стране свободу!»
Владимир измерял расстояние до намечтанного будущего не годами, а столетиями, тысячелетиями даже. Утопию свою он назовет «4338 год».
Немыслимо долго?! Что же поделаешь, если слово, музыка и наука так медленно изменяют человеческую суть, даже если это слово — Пушкина и Жуковского, музыка — Баха и Глинки, наука — Ломоносова.
В одном из споров Александр Одоевский сказал брату:
— Тысячелетия бери — не жаль, а вот мгновенья оставь на мою долю.
Всю жизнь Владимир Одоевский то надеялся, что не оружием, а одной лишь силой мысли рассеется рабский мрак окружающего, то разочаровывался; и снова загорался надеждой, снова душа его находилась «в ее естественном, т.е. вдохновенном состоянии». Мысль холодную и равнодушную он презирал.
Достоевскому дано было открыть людям, что самое человечное в нас — способность любить жалостью.
Владимиру Одоевскому, что это — дар мыслить любовью.
... С той же прекрасной, не оглядывающейся, не поверяющей себя скептическим разумом отвагой, как в день наводнения, только теперь надеясь спасти не одного человека — друга, гения, — а всю страну, Александр Одоевский вступил в Северное тайное общество. Из каторжной Сибири, не сломленный, ни в чем себе не изменивший, он писал в ответ на «Послание» Пушкина:
Мечи скуем мы из цепей И пламя вновь зажжем свободы! Оно нагрянет на царей — И радостно вздохнут народы!... В начале двадцатых годов Владимир Одоевский со своими друзьями организовал небольшой кружок Общество любомудрия. Любомудры ночи напролет спорили о романтической поэзии, о немецкой философии — главным образом, о трудах Шеллинга, их кумира. Порой им представлялось, что этим — изучением и распространением философии — они приблизят торжество справедливости; истинная наука всемогуща.
А порой Шеллинг нетерпеливо отбрасывался; тогда — к учителю фехтования, в манеж — брать уроки верховой езды. Что, если эти умения понадобятся больше всего другого? Потом Владимир Одоевский напишет: «В одной руке шпага, под другой — соха, за плечами портфель с гербовою бумагою, под мышкой книга — вот вам русский литератор».
Общество любомудрия тоже было тайным; участники его дружили с некоторыми декабристами — Кюхельбекером, Пущиным, Рылеевым, Александром Одоевским, — и хотя о заговоре, вероятно, не подозревали, но, помимо предметов отвлеченных, думали и с болью говорили на своих собраниях о рабстве крестьян и других бедах России. Владимир Одоевский мог сколько угодно повторять:
«Напрасно иные боятся дурных мыслей; всего чаще общество больно не этим недугом, но отсутствием всяких мыслей и особенно чувств», — иных это не убеждало. Чем тупее и нравственно ниже человек, тем больше непонятного ему в мире идей и тем опаснее кажется все непонятное. В Третьем отделении лежал уже донос Фаддея Булгарина, где любомудры называются «бешеными либералами», даже карбонариями.
О днях после того как в Москву пришли известия о событиях 14 декабря, один из друзей Владимира Одоевского, Кошелев, вспоминал впоследствии: «Князь нас созвал и с особой торжественностью предал огню в своем камине и устав, и протоколы нашего Общества любомудрия». И еще: «Мы, молодежь, менее страдали, чем волновались, и даже почти желали быть взятыми и тем стяжать и известность, и мученический венец».
«Владимир, как мне помнится, был сумрачен, но спокоен, только говорил, что заготовил себе медвежью шубу и сапоги на случай дальнего путешествия», — рассказывала родственница Одоевского, Е. В. Львова.
Но опасность прошла мимо.
Сохранилась короткая дневниковая запись Владимира Одоевского о декабрьском восстании: «В заговоре участвовали представители всего — талантливого, образованного, знатного, благородного, блестящего в России — им не удалось, но успех не был безусловно невозможен».
Не был безусловно невозможен успех, когда горстка самоотверженных храбрецов пыталась оружием уничтожить тиранию. Но сам он избрал иной путь. «В конце концов ночной мрак рассеется и наступит утро. Наш долг — торопить рассвет, светить вопреки ночи, сквозь ночь, освещать, просвещать, быть просветителями», — говорил он себе.
Уже стариком, он напишет: «Я не один, и не безвестен я перед моими собратиями — кто бы они ни были: друг, товарищ, любимая женщина, соплеменник, человек с другого полушария. Мысль, которую я посеял сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет: я привел в колебание одну струну, оно не исчезнет, но отзовется в других струнах...»
В это он верил, в надежде на это — жил.
Начало пути
В 1831 году альманах «Северные цветы» напечатал рассказ «Последний квартет Бетховена», подписанный странным псевдонимом: «ь, ъ, й». Рассказ посвящен предсмертной поре гениального композитора.
В нищей комнате — только фортепиано с разорванными струнами. Бетховен, глухой, одинокий, покинут друзьями.
— Понимаешь ли ты, что значит не слыхать своей музыки? — с отчаянием обращается он к Луизе, бедной девушке, единственной из учеников, кто не бросил его в тяжелое время.
Чтобы работать, художник должен чувствовать необходимость своего творчества. Нельзя творить «ни для кого».
И вот исполняется квартет, которому суждено стать последним. С надеждой и страхом Бетховен вглядывается в глаза исполнителей, но читает в них равнодушие, может быть, и насмешку. За непроницаемой стеной, которая отделила его от музыки своей, видится другая стена — непонимания. Исполнители глухи к его новой музыке, глухи по-иному и страшнее, чем он сам.
Прошло всего три года со дня смерти Бетховена; рассказ прозвучал словно реквием, прощальное слово над могилой гения, и призыв: «Пока не поздно, защитите тех, кто так необходим людям».
Вслед за «Последним квартетом Бетховена» в журналах и альманахах появляются другие произведения, где в повествование смело врываются картины фантастические, заставляя Вспоминать Гофмана и Гоголя. Они подписаны также «ь, ъ, й». А рядом публикуются повести В. Безгласного, рисующие московский свет той поры, нравы фамусовских гостиных. И сказки для взрослых, насмешливо подписанные: «Ириней Модестович Гомозейко, магистр философии и член разных учебных обществ». И статьи о музыке, агрономии, медицине и о множестве других предметов — опять под разными псевдонимами.
Но за всеми этими псевдонимами читатели уже узнавали одного автора — по силе и оригинальности мысли, своеобразию слога, смелой фантазии. Сочинения его переходили из рук в руки.
— Читали Одоевского, — скажет впоследствии Белинский, — с восторгом, жадностью, и благодатны были плоды этого чтения.
Друзья, друзья. Грибоедов
Александра Сергеевича Грибоедова в сочинениях неизвестного автора сперва привлекли бытовые зарисовки; были здесь открытия такие новые, неожиданные даже, что возникала настоятельная потребность чтение дополнить беседой с глазу на глаз. Идя по следам «ь, ъ, й», Безгласного, много мудрого магистра Гомозейки, Грибоедов встретился с прежде знакомым ему только по имени Одоевским (как просто расшифровывалось загадочное «ь, ъ, й»: последние буквы слов «Князь Владимиръ Одоевский»). Этой встрече суждено было перейти в дружбу.
Грибоедов в ту пору находился на вершине славы, но, боже, какой неприютной была эта вершина. «Горе от ума» разошлось по России в тысячах списков, а разрешение на постановку и напечатание комедии все откладывалось; цензоры вычёркивали строку за строкой в монологах Чацкого, стараясь, чтобы бунтарь выглядел просто отвергнутым влюбленным, фигурой почти жалкой. И в устных толках, и в дешевом красноречии журнальных статеек все отчетливее и чаще звучали скрытая угроза, донос. А донос и клевета рано или поздно бывают услышаны; в этом снова убедился создатель Чацкого, когда после событий 14 декабря был арестован специально посланным за ним на Кавказ фельдъегерем.
Но может быть, страшнее и омерзительнее всего Грибоедову были благодушные «почитатели», с улыбкой слушавшие строки, которые писались кровью сердца.
Как-то Одоевский зашел к Грибоедову, чтобы сказать, что задумал статью — в ответ клеветникам. Грибоедов пожал плечами:
— Охота была ввязываться в журнальные баталии. — И после долгой паузы: — Нельзя и часа тратить помимо...
Он выглядел усталым, постаревшим. Потом многим, и Одоевскому в том числе, казалось, что Грибоедов задолго до конца предвидел свою судьбу; иногда гению дано бывает это необъяснимое «чувство будущего».
На столе лежали две книги: «Летописи» Нестора, с которыми Грибоедов, влюбленный в древний язык, не расставался, даже спал, доложив их под подушку, и немецкое издание «Фауста». Он листал трагедию, при чтении шевеля губами.
С мгновенно возникшим новым — ребячливым, озорным, но и гневным — выражением перевел взгляд с книжной страницы на Одоевского и сказал:
— Тут есть закорючка.
Пушкинское слово это привилось тогда в приятельском кругу; означало оно нечто скрытое в глубине литературного произведения, не открывающееся поверхностному взгляду и заслуживающее особо пристального внимания.
Через несколько дней Одоевский слушал грибоедовское переложение пролога к «Фаусту»; «закорючка» заключалась в том, что перевод, сохранив всю силу оригинала, зазвучал совершенно по-русски — как монолог Чацкого:
О гордые искатели молвы! Опомнитесь! — кому творите вы?.. Что возмечтали вы на вашей высоте? Смотрите им в лицо! — вот те Окременевшия толпы живым утесом; Здесь озираются во мраке подлецы, Чтоб слово подстеречь и погубить доносом; Там мыслят дань обресть картежные ловцы; Тот буйно ночь провесть в объятиях бесчестных; И для кого хотите вы, слепцы, Вымучивать внушенье Муз прелестных?Перевод задуман был в ответ на бессчетные удары из-за угла: под прикрытием Гёте легче миновать цензорские рогатки. Но, перечитывая стихи — уже вне власти вдохновения, разумом холодным и спокойным, — Грибоедов сознавал, что язвительная сила их обращена на него самого и на его друзей: «...Для кого хотите вы, слепцы, вымучивать внушенье Муз прелестных?» На что надеяться?
Ну, а чернь — «окременевшия толпы», «живой утес», о который столько художников разбилось насмерть? Чернь имеет средства для самосохранения, способностью не слышать и не воспринимать искусство она защищена и от самой гневной сатиры; она инстинктом ощущает предназначение — сохранить в памяти поколений все ненависти и предрассудки, возникшие когда-либо в темные эпохи, чтобы в благоприятную минуту выбросить их на поверхность. Это Грибоедов знал, как мало кто из современников.
У Одоевского была от годов юности сбереженная вера, что некогда существовал золотой век, когда все обладали врожденным пониманием музыки, — потому и назван век золотым; между отдельными людьми и племенами, между человеком и природой не возникало вражды — ведь существовал единый язык.
— Золотой век вернется! — говорил он.
— Через тысячелетия? — переспрашивал Грибоедов, как когда-то брат Александр.
— Пусть так!
Это была сказка Одоевского — из тех, заветных, которые повторяешь самому себе. Грибоедов не спорил: мечта была прекрасна, и прекрасно, что друг искренне верит в нее. И ведь его-то с Одоевским теснее всего сближала именно музыка.
Друзья, друзья (продолжение). Пушкин
С Одоевским Пушкина первоначально сдружили общие литературные начинания. Когда поэт задумал издание летописей — журнала или альманаха, обнимающего все отрасли духовной жизни не только России, но и других стран, — за советом и помощью он обратился к Одоевскому: «Современный летописец» не мог осуществиться без участия такого истинно энциклопедического ума.
И Одоевский делился с Пушкиным замыслами. В сентябре 1833 года он писал: «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что делает наш почтенный г. Белкин? Его сотрудники Гомозейко и Рудой Панек, по странному стечению обстоятельств, описали: первый гостиную, второй чердак; нельзя ли г. Белкину взять на свою ответственность погреб? Тогда бы вышел весь дом в три этажа... с различными в каждом сценами. Рудой Панек даже предлагал самый альманах назвать таким образом: Тройчатка, или Альманах в три этажа... Что на это скажет г. Белкин?»
Все, решительно все было продумано Одоевским и Гоголем: чердак — Рудому Паньку, чтобы удобнее было следить за полетом всяческих ведьм, озорных и страшных; Гомозейко в гостиной продолжит изучение светского общества; ну, а Иван Петрович Белкин в самом основании этого нового дела, нового дома русской литературы.
И как же радовались друзья своему плану. Предвидели они и трудности. Читающая Россия знала со слов самого Пушкина, что Иван Петрович Белкин еще «осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного... лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то: мозолей и тому подобного».
Но ведь могло так быть, что в этот единственный раз уездный лекарь ошибся?!
Однако Пушкин, хотя и с сожалением, отказался от заманчивого плана. В октябре 1833 года он из Болдина написал Одоевскому: «Не дожидайтесь Белкина; не на шутку, видно, он покойник, не бывать ему на новосельи ни в гостиной Гомозейки, ни на чердаке Панька. Не достоин он, видно, быть в их компании... А куда бы не худо до погреба-то добраться...»
Сказочный дом промелькнул в литературных мечтаниях только, как и «Современный летописец». А поселиться под одной крышей было все-таки суждено. В пушкинском «Современнике» печатается все самое талантливое; и лучшие произведения Одоевского в том числе. Когда кажется, что рукопись не поспеет в срок, Пушкин с осторожной нежностью торопит Одоевского: «У меня в 1 № не будет ни одной строчки вашего пера — грустно мне».
Читаешь журналы и альманахи той поры и иногда представляется, что «Современник» — осажденная крепость, и весь огонь обращен на редактора. В 1836 году «Северная пчела» публикует заметку о Пушкине: «Мечты и вдохновения свои он погасил срочными статьями и журнальною полемикою, князь мысли стал рабом толпы; орел опустился с облаков, чтобы крылом своим ворочать тяжелые колеса мельниц».
За громкими словами — призыв сбросить Пушкина «с трона». В ответ гонителям Одоевский пишет гневную статью: «О нападениях петербургских журналов на Русского поэта Пушкина». Как важно было поэту в то гнетущее время услышать голос друга; но опубликовать статью удалось только через двадцать восемь лет: редакторы журналов и цензоры преграждали ей путь.
А в 1837 году страна прочитала:
«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался в цвете лет, в средине своего великого поприща. Более говорить о сем не имеем силы, да и не нужно; всякое русское сердце знает свою цену этой невозвратимой потери, и всякое русское сердце будет растерзано. Пушкин! Наш поэт! Наша радость, наша народная слава! Неужели... нет уже у нас Пушкина? К этой мысли нельзя привыкнуть! 29 января. 2 ч. 45 м. пополудни».
Недавно исследователями пушкинского времени выдвинуто предположение, что эти скорбные строки последнего прощания написаны Одоевским.
Друзья, друзья (окончание). Гоголь
Гоголь любил Одоевского и очень доверял сильному и честному уму друга. Как-то Гоголь пересказал ему суждение Погодина о «Мертвых душах»:
— В поэме — нет движения. Словно бы выстроен длинный коридор, и Чичиков ведет по нему читателя, отворяя двери направо и налево, показывает сидящего в каждой комнате урода. — Подумав, сказал еще: — Тут все верно, однако в уроде вы всегда сколько-нибудь почувствуете идеал того же, чего карикатурой был урод.
— «Идеал»? — переспросил Одоевский. — И в Плюшкине, и в Ноздреве, и в Собакевиче тоже? — Помолчав, напомнил другу суждение о Собакевиче: — Казалось, в этом теле совсем не было души.
— Душа есть; только она похоронена, — возразил Гоголь, — недвижима; в летаргическом сне. Жизнь вывернула моих героев наизнанку — от того и не видно души. Но идеал можно вернуть — без этого поэме не быть. Люди содрогнутся от ужаса, когда прочтут во втором и третьем томе, какими муками вспомнят себя, возвратят себе образ человеческий и Собакевич, и Плюшкин; все, все герои моей поэмы.
Потом на глаза Одоевскому попадут отрывки из черновиков заключительной главы второго тома «Мертвых душ» и вспомнится этот разговор.
«Какие-то неведомые дотоле, незнакомые чувства, ему необъяснимые, пришли к нему, — писал Гоголь о Чичикове. — Как будто хотело в нем что-то пробудиться, что-то далекое, что-то заранее подавленное из детства суровым, мертвым поученьем, бесприветностью скучного детства, пустынностью родного жилища, бессемейным одиночеством, нищетой и бедностью первоначальных впечатлений, и как будто то, что (было подавлено) суровым взглядом судьбы, взглянувшей на него скучно, сквозь какое-то мутное, занесенное зимней вьюгой окно, хотело вырваться на волю».
«Найдутся ли в России силы, способные вызвать в Плюшкине стремление снова стать человеком? — думал Одоевский. — Замысел Гоголя прекрасен, а вот — осуществим ли? Но если невозможно вернуть тому, кто уже прошел почти весь жизненный путь через обманы и низкие расчеты, эту его первоначальную идеальность, то помочь сохранить чистый детский взгляд — возможно ведь?! Возможно защитить ребенка от «суровых мертвых поучений», наполнить «пустынность родного жилища» мечтами, чувствами, фантазиями. Как это сделать? Сказкой».
Дедушка Ириней. Городок в табакерке
И только лишь эти мысли о сказке, без которой не заполнить «пустоту и бедность первоначальных впечатлений», утвердились в сознании Одоевского, совершилось волшебство: он, тридцатишестилетний русский Фауст, превратился в старика с седой бородой. Дедушка Ириней — как отныне будут называть его дети — обвел медленным взглядом умных и зорких глаз весь кабинет, где вдоль стен стояли шкафы со старинными музыкальными инструментами, книгами, древними рукописями, физическими, химическими и астрономическими приборами, оглядел все это собрание — книгу за книгой, инструмент за инструментом, у всех выспрашивая одно:
— Какую сказку вы можете рассказать?
Все задумались, только одна из книг, самая толстая, поспешила ответить:
— Я знаю только науки. А сказки...
— Нет, нет, — перебил дедушка Ириней. — Все имеет свою сказку — горы и реки, деревья и цветы, бабочки и птицы, книги и научные приборы. Словом, все... Подумайте и вы непременно вспомните.
Старик еще говорил, когда раздался перезвон колокольчиков; под чудесную эту музыку стены кабинета сделались совсем прозрачными, и стали видны дети, словно бы они снова собрались, как когда-то давно собирались, вокруг Володи Одоевского у заветной зеленой скамейки в садике Московского благородного пансиона; только теперь круг их был неизмеримо шире, обнимал чуть ли не всю Россию; дети приближались и приближались к Одоевскому — дедушке Иринею с тем беззаветным доверием, которое мало кому из взрослых дано вполне завоевать.
Один из них, мальчик Миша, даже шагнул в кабинет и остановился перед музыкальной шкатулкой — музыкальной табакеркой, — откуда доносился неумолкающий перезвон колокольчиков. Он увидел на ее крышке башни, домики, золотые деревья с серебряными листьями, и поверилось, будто все это просвечивает изнутри.
Он сказал себе: «Как хорошо было бы оказаться там, в этом городке, где рождается музыка; как обидно, что самое желанное неисполнимо», но не успел огорчиться, как то ли табакерка выросла в сто раз, то ли он сам уменьшился в сто раз; в табакерке открылась боковая дверца, которую раньше он не заметил, показался мальчик-колокольчик с золотой головой, в стальной юбочке и приветливо зазвенел:
«Дин-дин-дин, дин-дин», — что означало: «Иди к нам! Скорее! Мы тебе очень рады!»
И если бы тут, перед Городком в табакерке, рядом с Мишей вдруг оказался Александр Сергеевич Грибоедов, может быть, он улыбнулся бы и продолжил свой давний разговор с Одоевским;
— Это и есть человечки, которые понимают язык музыки? Как серебристо и нежно, в каком верном тоне звучат голоса мальчика-колокольчика, что стоит в воротах славного Городка, и других, пока еще невидимых, чей перезвон доносится из глубины. Да, они говорят на языке музыки — пока, правда, только в сказке, однако, кто знает... порой страшные сны превращаются в явь, еще более страшную; но ведь и сказки, бывает, становятся явью?!
Может быть, Грибоедов спросил бы мальчика-колокольчика:
— Ну что же, твой народ стал счастливее теперь, когда понимает язык музыки?
Но Грибоедова нет; он убит в далеком Тегеране. На долю Владимира Федоровича Одоевского выпало великое, ни с чем не сравнимое счастье: дружить с Пушкиным, Грибоедовым, Лермонтовым, Гоголем, идти в литературе рядом с ними; и великое, ни с чем не сравнимое горе: провожать друзей, одного за другим, в раннюю могилу...
— Дин-дин-дин! — зовет мальчик-колокольчик.
Миша переступает порог; он шагает по перламутровой мостовой, мимо стальных домиков, крытых разноцветными раковинками; из каждого дома выглядывают мальчики-колокольчики — мал мала меньше, и звенят, звенят; в какой же согласный мотив сливаются их голоса.
А по небу ходит солнышко. Миша поманил его рукой, не очень-то, по правде говоря, веря, что оно отзовется: «Хватает ему дел и без меня». Но солнце кивнуло, улыбнулось и тоже под музыку приблизилось к мальчику. Обошло вокруг руки его — и обратно на небо.
Может быть, солнце успело шепнуть:
— Поднимись со мной: из моих владений ты увидишь и не такие чудеса.
— Но как попасть в твои владения? Я ведь не умею летать.
— Не беда, смотри — вот башня, и вот другая, еще выше, а эта — уж совсем высокая. Взберись на ее вершину.
Миша поднялся на башню.
— Смотри, там за чертой городка, — сказал ему чей-то голос, — массивная лава металлов борется с могучим пламенем внутри земли... Она может пугать, но и самый испуг этот велик для души. Лава ревет, клокочет с шумом неподражаемой глубокой октавы и с изумительным грохотом и великолепием извергается из бездн своего тайного жилища... Вот глубь океана. Чувствуешь ли ты, что океан можно только любить? что душе хотелось бы его измерить, постигнуть и заглянуть в пропасть морей? душе весело, упоительно, что эта глубь воды не лежит в мертвой тишине, что в ней родина целой половины существ одушевленных, быстрых, могучих, им легок путь сквозь плотнослиянную массу волн... Вот могущественный, вечносвободный ветер, возметающий прах земли, он изумляет своими музыкальными вихрями и быстротою самую скорую мысль, волнует вершины лесов, поднимает горы среди океана, несет на своем хребте дикие облака, улетает из-под громов с воем и свистом и исчезает.
Что это? Откуда взялись эти живые картины? Просто книги вспомнили свои сказки и теперь уж станут рассказывать их одному поколению детей за другим.
А мальчик спускается с башни — пора: «Солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось; и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городке стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи».
Мальчик идет по перламутровой улице, прислушиваясь к сонному бормотанию колокольчиков, доносящихся из-за окошек. Перед ним в тревожном ночном свете виднеются своды, еще и еще своды. Мальчик догадывается: там, должно быть, миры сказочника, все то, чем он хотел ободрить меня и моих друзей, и то, от чего хотел предостеречь.
Мальчик ускоряет шаги: путь предстоит дальний, нельзя терять времени. Он идет, с каждым шагом становясь взрослее, — ведь это сказка; и переступает порог, как границу, отделяющую детство от юности... Сказочное видение Петербурга открывается юноше.
— Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет все. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! — писал Гоголь. — Я знаю, что ни один из бедных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта».
Невский проспект! А тут еще ярко осветило его солнце, чему ж удивляться, если три строгие маменьки вывели на прогулку стайку — одиннадцать девушек, одна другой краше.
Девушки погуляли бы сколько положено да и вернулись домой, и не написал бы Одоевский «Сказку о том, как опасно девушкам ходить толпою по Невскому проспекту», но «новоприезжий искусник», а в действительности — злой чародей! — открыл недавно на Невском модную лавочку.
Девушки забежали в нее, а чародей стал расстилать и расставлять перед ними свои заморские диковинки: «то газ и паутины с насыпью бабочкиных крылышек, то часы, которые укладывались на булавочной головке, то лорнет из мушиных глаз... то башмаки, сделанные из стрекозиной лапки».
Нехотя и нескоро, но вышли, наконец, десять милых девушек на улицу, а вот одиннадцатую чародей отвел в глубину лавочки, показал ей еще нарядных куколок, заговорил, она и не заметила, что осталась одна.
Маменьки, там, на Невском, пересчитали своих красавиц, «но, по несчастию (говорят, ворона умеет считать только до четырех)... маменьки умели считать только до десяти».
Чародей — двери лавки на запор, схватил пленницу за косу, поставил на полку и накрыл хрустальным колпаком. Махнул рукой и, когда по его велению явилась стеклянная реторта, доверху наполнил ее модными романами, страницами из какой-то «нравственной арифметики», отрывками письмовника, обрезками случайно хранившихся у него дипломатических писем, оканчивающихся всегда уверениями в «глубочайшем почтении и истинной преданности», поставил реторту на огонь, а когда выпарилась «бесцветная и бездушная жидкость», зачерпнул еще сквозь раскрытое окошко полную горсть городских сплетней и слухов да и их опустил в реторту.
Ну, а потом вынул из красавицы живое ее сердце, как она ни билась, долго, долго выпаривал его в жидкости этой, вытягивал, выдувал, чтобы уж быть уверенным — «ничего прежнего не осталось», да и вклеил на свое место.
С того дня девушка красовалась в витрине среди других куколок, пока один славный молодой человек — одинокий, мечтательный — ни загляделся на нее да и купил, принес домой, поставил на видном месте, одел, обул, целовал ей ножки и любовался ею, как ребенок.
А когда он накрыл куклу хрустальным колпаком, та рассердилась — и чу прыгать, кричать, стучать об колпак, так и рвется из-под него.
— Неужели ты в самом деле живешь? — спросил молодой человек, не веря своим глазам, — если ты в самом деле живая, я тебя буду любить больше души моей; ну, докажи, что ты живая, вымолви хотя словечко!
— Пожалуй! — сказала кукла, — я живу, право, живу.
— Как! ты можешь и говорить? — воскликнул молодой человек. — О, какое счастье! Не обман ли это? Дай мне еще раз увериться...
— Да об чем мы будем говорить?
— Как о чем? на свете есть добро, есть искусство!..
— Какая мне нужда до них! — ответила кукла. — Это все очень скучно.
— Скучно? Разве до тебя еще не доходило, что есть на свете мысли, чувства?..
— А, чувства! Чувства? знаю, — скоро проговорила кукла, — чувства почтения и преданности, с которыми честь имею быть, милостивый государь, вам покорная к услугам...
— Ты ошибаешься, моя красавица; ты смешиваешь условные фразы, которыми каждый день переменяются, с тем, что составляет вечное... ты даже не знаешь того чувства, которое должно составлять жизнь... это святое чувство называют любовью; оно проникает все существо человека; им живет душа его, оно порождает рай и ад на земле.
— Когда на бале много танцуют, то бывает весело, когда мало, так скучно, — ответила кукла.
— Ах, лучше бы ты не говорила! — вскричал молодой человек, — ты не понимаешь меня, моя красавица!»
... Да, ужасно трудно влюбленному передать свои мысли и чувства существу, которое прежде умело мыслить, но вот, на беду, разучилось. Слова летят, как перелетные птицы, но если все в сознании вытоптано, вырублено, как вырубают порой зеленую рощу, уничтожено, не сбережено, негде свить гнездо — слова пролетят мимо, и красавица только поморщится от неясного шума, досадно напоминающего нечто, что вспомнить для нее невозможно.
И ведь чародей, подменив душу, еще повернул маленькими щипчиками язычок девушки, так что теперь все, что бы она ни сказала, будет значить иное, а только звучать по-прежнему.
Вспомни хоть одно слово, выражающее нравственное понятие, которого бы смысл не изменялся почти с каждым годом... — скажет Фауст Одоевского в романе «Русские ночи». — Добродетель язычника была бы преступлением в наше время; вспомни злоупотребление слов: равенство, свобода, нравственность. Этого мало; несколько саженей земли — и смысл слов переменяется... вендетта, все роды кровавой мести — в некоторых странах значат: долг, мужество, честь».
Для юноши, с которым только что познакомил нас Одоевский, чувство — это рай и ад, то, что обещает высшее счастье или невознаградимое горе; а для куклы оно — «звук пустой». Бедная кукла! Несчастный юноша!
Когда сказка будет напечатана, мать Владимира Одоевского, особо дорогой для него критик, пожалеет куклу и напишет в письме к сыну: «Девушка, из которой вынул сердце француз, слишком зла, я думаю, тебе достанется за нее».
«Слишком зла». Точно ли? — задумается Одоевский. Человеку великодушному трудно даже поверить, что существуют такие куклы. А они есть.
Всю жизнь Владимир Одоевский будет тревожно думать о том, что станет с человеком, если злыми чарами, тайной наукой, а то и по собственной его воле — для большего житейского уюта, — сердце ему заменят искусственным.
Или оно по-прежнему останется в груди, но оледенеет.
Или, устав откликаться на чужие горести — ведь это и на самом деле не только утомительно, но и вредно для здоровья, да и расходы увеличивает, — человек приобретет в волшебной аптеке особые порошки; будет аккуратно принимать их четыре раза на дню, пока сердце не станет биться чуть медленнее, как во сне, и всегда, что бы ни случилось, биться ровно: «Я никому не мешаю, и меня пусть оставят в покое!»
Бывает и так!
Или сердце не замерзнет, а только сделается пустым, как лесной орех без ядрышка. Оно больше не будет вызывать к жизни неведомые силы, непокорные мысли, слова дружбы и любви; не чувства, а шелуха расхожих слов бесцельно и бессильно всплывет из пустоты, чтобы в следующую секунду в пустоту опуститься.
И оттого, что опасность подмены сердца подстерегала и подстерегает нас не в одно какое-то время, а во все века, хочется прервать рассказ об Одоевском и вспомнить другого писателя, нашего современника Юрия Карловича Олешу, и его сказку «Три Толстяка», также посвященную этому древнему людскому горю.
Юрий Карлович Олеша
Он походил на гнома — это больше всего поражало тех, кто видел его первый раз. Он походил на гнома не ростом — не таким уж маленьким он был, — а скорее, необыкновенно удивленным выражением глубоко посаженных и как бы светящихся из этой глубины глаз; именно так, все замечая, и больше всего то, что не видят другие, должен смотреть на мир гном, только что выбравшийся из расщелины скалы, где гномы, как известно, чаще всего обитают.
Знакомый мальчик спросил Олешу:
— Мама говорит, вы умеете увеличиваться и уменьшаться. Вправду умеете?
— Это не так уж трудно; то есть, я хотел сказать — не самое трудное. А разве ты не умеешь?
— Во сне?! — не то ответил, не то спросил мальчик.
— Какая разница? Все, что было во сне, когда-нибудь случается и наяву.
— Да?! — снова не то спросил, не то подтвердил мальчик.
... В то раннее весеннее утро мы бродили по дачному подмосковному поселку, и на лице у Юрия Карловича было это особое его выражение — «от темноты к свету», возникающее, когда темнота надоела, совсем замучила, и свет так радует.
Он ступал осторожно и мягко; даже прошлогодняя листва не шуршала под ногами; остановился у высокого дуба и тихо спросил:
— Видите?
Перед глазами была длинная, свешивающаяся почти до земли разлапистая ветка. Между листьями замер солнечный блик. После долгого молчания, когда слышны были только голоса птиц, Олеша подсказал:
— Жук-рогач и Гусеница!
Теперь я увидел их: жука в черных рыцарских доспехах и невдалеке — длинную зеленую гусеницу, медленно ползущую по ветке. Солнечный блик стал ярче. Гусеница переползла с ветки на ствол и скрылась по другую сторону дерева. Оттого, что Олеша говорил чуть задыхаясь и выглядел очень взволнованным, почудилось, что, пока длилось молчание, он не просто стоял рядом и смотрел, а куда-то исчез и теперь откуда-то вновь появился.
— Да, — сказал Олеша, — странная история... — Мы снова шли по лесной тропинке; он несколько впереди, не оглядываясь. — Очень странная, не правда ли?! Жили они себе на дереве — Гусеница — студентка в очках, всегда в этом своем немодном бархатном зеленом платье, еще от бабушки, некрасивая. И никто не обращал на нее внимания. Только Жук-рогач ползал за нею по веткам с утра и до ночи. Потом Гусеница затаилась в листве, закуталась в тайное покрывало. А Жук все ползал, не находя покоя, тоскуя, искал свою ненаглядную. Даже ночью он не мог уснуть Миновал предназначенный срок, покрывало разорвалось, и на свет божий вылетела Бабочка неописуемой красоты. Лес зашелестел, запел, заговорил о том, Какое чудо возникло в мире. Только Жук-рогач ползает по веткам, все не может отыскать свою милую студентку в очках. Почернел, тоскует...
Домой я вернулся только к вечеру, записал историю о Жуке и Гусенице и принялся вновь перечитывать «Трех Толстяков».
Может быть, оттого, что на прощание Юрий Карлович обронил несколько грустных фраз о Тубе-ученом, знакомая почти наизусть сказка-роман показалась несколько иной.
Город виделся сквозь огромный прозрачный купол — тот самый, что венчает площадь Звезды.
Люк на вершине купола был открыт: гимнаст Тибул, неустрашимый канатоходец, только что спасся через него от винтовочного огня гвардейцев Трех Толстяков.
Люк был открыт, и, значит, можно было проникнуть внутрь сказки; такое если и выпадает на долю, то уж не часто. Отчего-то погас свет, и комнату освещали только звезды; пришлось закрыть книгу и спрятать ее под подушку. Впрочем, беды в этом не было. «Сказки тем-то и отличаются от других книг, что их даже лучше читать так — глаза закрыты, голова на подушке, а книга под нею, — сказала однажды мудрая старая сказочница Александра Яковлевна Бруштейн. — Можешь поверить мне, я ведь только так и читала те долгие годы, пока у меня болели глаза и я ничего не видела».
Как всегда, и на этот раз Александра Яковлевна оказалась права.
Итак я очутился внутри сказки, а это совсем не то, что наблюдать за событиями ее извне... Гвардейцы привезли Туба, знаменитого ученого, во дворец Трех Толстяков. Туб увидел крошечных детей: девочку Суок и мальчика Тутти. Прошлой ночью их похитили из родного дома. Они стояли посреди тронного зала, прижимались друг к другу и горько плакали.
Толстяки сказали Тубу:
— Видишь девочку? Это — Суок. Сделай куклу, которая бы совсем не отличалась от нее. И пусть она растет, как и живая Суок.
Туб выполнил приказ Трех Толстяков.
В тот самый день, когда кукла была готова, брата и сестру разлучили: Три Толстяка оставили Тутти во дворце и объявили своим наследником, а Суок променяли в бродячем цирке на попугая.
— Вынь живое сердце мальчика и замени его железным, — приказали Тубу Три Толстяка.
— Я не знал, что помогаю разлучить детей. Теперь мне известно все, ни за что на свете я не позволю вам совершить второго преступления; ни железное, ни ледяное сердце не будет дано мальчику вместо настоящего, человеческого, — ответил Туб.
Гвардейцы бросили Туба в клетку. Его заставили проглотить какое-то снадобье, и он разучился говорить.
— Ты больше не человек, — сказал Тубу капитан гвардейцев. — Ты зверь; до самой смерти будешь жить как зверь и умрешь как зверь.
Тутти, после разлуки с сестрой, не видел детских лиц. Ему читали книги только о жестоких царях и полководцах. Тем, кто окружал его, было запрещено улыбаться. На каждом уроке учителя и воспитатели лгали ему: «У тебя железное сердце. Помни об этом и будь всегда жестоким». А ночью, когда учителя и воспитатели отдыхали, попугай, тот самый, которого выменяли на Суок, пронзительным голосом кричал над постелью Тутти то же самое: «У тебя железное сердце. Помни об этом и будь жестоким!»
Лицо наследника Тутти становилось все угрюмее.
Но оно и теперь не было злым.
Три Толстяка, заметив отблеск человеческих чувств в мальчике, так перепугались, что стали толстеть прямо на глазах. Они всё толстели и толстели, пока одному из них не пришло в голову:
— Устроим наследнику Тутти зверинец. Вот у него есть мертвая, бездушная кукла, и вот у него будут злые звери. Пусть он видит, как кормят тигров сырым мясом и как удав глотает живого кролика. Пусть он слушает голоса хищных зверей и смотрит в их красные дьявольские зрачки. Тогда он научится быть жестоким!
— Да! — согласились другие два Толстяка. — Должен же этот упрямец Тутти забыть когда-нибудь, что он человеческий мальчик. Должен, иначе мы просто лопнем от жира.
По приказу Трех Толстяков в дворцовом парке построили зверинец и свезли туда самых свирепых хищников, какие только есть на земле, — удавов и питонов, пантер и тигров, носорогов и крокодилов.
Между пантерой и львом поставили клетку, в которой был заключен Туб.
Однажды воспитатель по дороге в зверинец захватил стальной прут, просунул его между прутьями клетки и стал колоть Туба — в грудь, живот, даже в лицо, даже в глаза.
— Смотри! Смотри! Как уморительно прыгает эта глупая обезьяна! — крикнул он мальчику.
Тутти, задумавшийся было, взглянул на Туба, по лицу и по телу которого текла кровь, подбежал к воспитателю, вырвал у него прут и швырнул на землю.
— Не доноси на меня Трем Толстякам, — тихо и как бы против воли попросил он воспитателя, когда немного успокоился. — Я знаю, что должен быть жестоким, но что же делать, если железному моему сердцу так больно видеть жестокость.
Туб услышал эти слова и подумал: «Ты еще человек, мой мальчик!» И спросил себя: «Ну а теперь ты бы согласился подменить железным сердце наследника Тутти?» И сам себе ответил: «Нет!» — «Даже в обмен на свободу?» — «Ни за что на свете!»
И когда эти слова прозвучали в нем, он подумал: «Пожалуй, и я, Туб, который был ученым, имею еще право называть себя человеком».
Прошло четыре года. Туб оброс шерстью и зубы у него стали длинными и желтыми. Однажды воспитатель снова повел в зверинец наследника Тутти, а там, в зверинце, бросился к клетке Туба, чтобы вволю подразнить, поколоть его стальным прутом; это было любимым занятием воспитателей — дразнить и мучить тех, кто не в силах защищаться. Он бросился к клетке Туба, но не добежал до нее, Тутти преградил ему дорогу, обеими руками вцепился в прут и не отпускал.
Глядя на мальчика, Туб подумал: «Я знал, пожалуй, не меньше моего старого друга Гаспара Арнери — где-то он сейчас? — и то, как из камня сделать пар, и то, как достать с земли до звезд. Все, все забылось. Но зато тут, в клетке, я открыл другое: не так-то просто превратить ребенка в механическую куклу. Не так-то просто, как бы ни старались все «воспитатели» и все ученые попугаи мира».
... Трем Толстякам не удалось подменить у мальчика Тутти живое сердце. Но кукла из сказки Одоевского и без того уже имела множество братьев и сестер. Да и разве могло быть иначе, если однажды, как знаем мы со слов Андерсена, злющий-презлющий тролль смастерил зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, а негодное и безобразное выглядело еще омерзительнее. Лица искажались так, что нельзя было их узнать, а смелая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой.
— Только теперь, — говорили ученики тролля (у него была своя школа), — можно увидеть людей в их настоящем свете.
Тролли-школяры носились со своим зеркалом повсюду, пока однажды не выронили его. Зеркало разбилось вдребезги; но миллионы и миллиарды осколков принесли еще больший вред. Они попадали человеку в глаза, и с той поры несчастный видел вокруг себя одно только дурное. Или они проникали в сердце, и это было самое худшее: сердце становилось ледяным.
Как мгновенно и непоправимо менялась тогда жизнь. Будто мертвенный вихрь, налетев неведомо откуда, распахнул окна и вытянул, выдул тепло, которое было в тебе, в твоем жилище, твои воспоминания и надежды. Будто и двери затянуло льдом, так что теперь никто не достучится; а если кто-нибудь, почувствовав, что ты в беде, пробился бы все-таки сквозь ледяную преграду, разве ты бы узнал его? Даже лучшего друга?
Или ты шел, окруженный близкими, милыми людьми, но порыв бури разметал их. И еще можно бы догнать, вернуть, спасти хоть кого-нибудь, а не хватило сил, смелости, да и впору было думать только о себе. Или ты просто забыл о друзьях и близких, а когда опомнился... Когда ты опомнился — вокруг простиралась лишь бескрайняя пустота.
... Было уже очень поздно, наступил час возвращаться из сказки, а то как бы не закрыли люк, ведущий с площади Звезды в обычный ночной звездный мир.
Мертвые души
На светских приемах Одоевскому бывало тоскливо и одиноко; мать писала ему: «Я думаю, нет гостиной, в которой тебе не душно было». Он приходил на балы, как исследователь, не имеющий права пренебречь удобным полем наблюдения; смотрел на разгоряченные лица танцующих, прислушивался к обрывкам разговоров, угадывая судьбы, несложные жадные желания, этими судьбами управляющие.
Он как будто воочию видел: все больше становится тех, кто не без осмотрительности обменял чувства любви, дружества, жалости, сострадания на умения выгодно жениться, отхватив хорошее приданое, занять «теплое местечко», вовремя подставив ножку сопернику, сделать карьеру, умножить состояние; обменял свою душу, в делах совершенно бесполезную, обременительную даже, на то, что приносит реальную пользу.
Однажды, вернувшись после бала домой, Одоевский записал в дневнике: «Свечи нагорели и меркнут в удушливом паре. Если сквозь колеблющийся туман всмотреться в толпу, то иногда кажется, что пляшут не люди... в быстром движении с них слетает одежда, волосы, тело... и пляшут скелеты, постукивая друг о друга костями... Но в зале ничего этого не замечают... все пляшет и беснуется как ни в чем не бывало».
Прочитав впоследствии стихотворение Александра «Бал», он так обрадовался общности его с братом видения.
Открылся бал. Кружась, летели Четы младые за четой; Одежды роскошью блестели, А лица — свежей красотой. Усталый, из толпы я скрылся, И, жаркую склоня главу, К окну в раздумьи прислонился И загляделся на Неву... Стоял я долго. Зал гремел... Вдруг без размера полетел За звуком звук. Я оглянулся, Вперил глаза — весь содрогнулся, Мороз по телу пробежал. Свет меркнул... Весь огромный зал Был полон остовов... Четами Сплетясь, толпясь, друг друга мча, Обнявшись желтыми костями, Кружася, по полу стуча, Они зал быстро облетали. Лиц прелесть, станов красота — С костей их все покровы спали; Одно осталось: их уста, Как прежде, все еще смеялись; Но одинаков был у всех Широких уст безгласный смех. Глаза мои в толпе терялись, Я никого не видел в ней: Все были сходны, все смешались... Плясало сборище костей.И рождается сказка о том, как легко и просто — незаметно даже — можно перестать быть человеком, превратиться в бездушное его подобие.
Коллежский советник Иван Богданович Отношенье, — в течение сорокалетнего служения своего в звании председателя какой-то временной комиссии, — провождал жизнь тихую и безмятежную», — повествует Одоевский. С 9 часов утра и до 3 часов пополудни он, «не трогаясь ни сердцем, ни с места, не сердясь и не ломая головы понапрасну, очищал нумера, подписывал отношения, помечал входящие»; а по вечерам играл в бостон с тремя любимыми своими чиновниками — двумя начальниками отделений и одним столоначальником.
И вот однажды, да еще в праздник, когда добрые люди поздравляют начальников, ходят в церковь, отдыхают среди домашних, случилось необычайное происшествие.
Час, другой, третий, не замечая времени — сидит Иван Богданович со своими подчиненными за карточным столом. Давно наступило утро...
«Но в комнате игроков все еще ночь; все еще горят свечи; игроков мучит и совесть, и голод, и сон, и усталость, и жажда; судорожно изгибаются они на стульях, стараясь от них оторваться, но тщетно: усталые руки тасуют карты... приходят игры небывалые.
Наконец догадался один из игроков и, собрав силу, задул свечки; в одно мгновение они загорелись черным пламенем; во все стороны разлились темные лучи, и белая тень от игроков протянулась по полу; карты выскочили у них из рук: дамы столкнули игроков со стульев, сели на их место, схватили их, перетасовали, — и составилась целая масть Иванов Богдановичей, целая масть начальников отделения, целая масть столоначальников, и началась игра, игра адская... Короли уселись на креслах, тузы на диванах, валеты снимали (нагар) со свечей, десятки, словно толстые откупщики, гордо расхаживали по комнате, двойки и тройки почтительно прижимались к стенкам».
Да, пренеобычайные события описаны Одоевским в «Сказке о том, по какому случаю коллежскому советнику Ивану Богдановичу Отношенью не удалося в светлое воскресенье поздравить своих начальников с праздником».
Но необычные только на первый рассеянный взгляд. А если подумать, можно представить себе: наутро Иваны Богдановичи карточные вместе со своими подчиненными отправились на службу. А там, пожалуй, никто и не заметил бы подмены, потому что и прежний Иван Богданович давным-давно перестал быть действительно одушевленным.
Что же заменяет души у тех, кто даже не то чтобы продал свою душу дьяволу, — как бывало в давние времена, — а просто потерял ее ненароком, словно мелкую монету или носовой платок? Потерял, да и не заметил; либо заметил, да поленился поискать — не велика потеря.
... Проверяя себя, как привык он, Гоголем, Одоевский мог подумать: вот Собакевич, была у него душа — должна была быть, — да тихо почила в своем обиталище, со всех сторон стесненная салом и мясом. А Чичиков спрятал душу в знаменитую свою шкатулку, между купчими. Или душа Плюшкина; задохнулась она в пыли, в тлении, а паук заткал ее своей паутиной. А Ноздрев? Нагулялась душа его на веселой ярмарке, Ноздрев поймал беглянку и хорошо, если не прибил под пьяную руку, да и выменял на лошадь, на собаку какую-нибудь брудастую, проиграл в шашки...
Души, забытые в придорожных кабаках, утонувшие в канцелярских чернильницах, заложенные в ломбардах, износившиеся, траченные молью. А чаще — проданные их владельцами за недорогую цену.
Борьба с эпидемией «обездушивания», этой нравственной чумы, становится главным в творчестве Одоевского. В развитие темы один из героев романа «Русские ночи» читает своим друзьям записки последних уцелевших жителей фантастического «Города без имени» — некогда богатого и могущественного.
Бентамиты
«Давно, давно, в восемнадцатом столетии, все умы были взволнованы теориями общественного устройства; везде спорили о причинах упадка и благоденствия государства; и на площади, и на университетских диспутах, и в спальне красавиц, и в комментариях к древним писателям, и на поле битвы.
Тогда один молодой человек в Европе был озарен новою, оригинальною мыслию. Нас окружают, говорил он, тысячи мнений, тысячи теорий; все они имеют одну цель — благоденствие общества, и все противоречат друг другу... Говорят о правах человека... но что может заставить человека не переступать границ своего права?.. Одно — собственная его польза!..
Что бесполезно — то вредно, что полезно — то позволено. Вот единственное твердое основание общества! Польза и одна польза — да будет вашим и первым и последним законом! Пусть из нее происходить будут все ваши постановления, ваши занятия, ваши нравы; пусть польза заменит шаткие основания так называемой совести, так называемого врожденного чувства; все поэтические бредни... — и общество достигнет прочного благоденствия».
Так проповедовал английский философ Иеремия Бентам. Ученики его — бентамиты — отыскали необитаемый остров и там, «вдали от мечтателей», принялись осуществлять систему учителя.
«Колония процветала, — говорится далее в этих записках. — Общая деятельность превосходила всякое вероятие. С раннего утра жители всех сословий поднимались с постели, боясь потерять понапрасну и малейшую частицу времени, и всякий принимался за свое дело: один трудился над машиной, другой взрывал новую землю, третий пускал в рост деньги... В обществах был один разговор — о том, из чего можно извлечь себе пользу? Появилось множество книг по сему предмету... Девушка вместо романа читала трактат о прядильной фабрике; мальчик лет двенадцати уже начинал откладывать деньги на составление капитала для торговых оборотов.
... Одно считалось нужным — правдою или неправдой добыть себе несколько вещественных выгод. Этому искусству отцы боялись учить детей своих, чтоб не дать им оружия против самих себя... Но юный бентамит с ранних лет из древних преданий, из рассказов матери научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Великие явления природы не погружали его в ту беспечную думу, которая отторгает человека от земной скорби. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца... Все отвлеченные... мысли, связывающие людей между собой, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезною роскошью. От прежних славных времен осталось одно слово — польза».
Бентамитов сгубили не эпидемии и не голод — все это обрушилось на город позднее, а сама невозможность существовать без того, что их пророку казалось бесполезным, а на самом деле составляет смысл жизни.
«Неужели и вправду неизбежно, что раньше или позже люди увидят себя среди развалин города бентамитов? — думал Одоевский. — Или развалины эти все же на окольной тропе, а есть истинная дорога, человеческая?»
Пожалуй, единственный способ ответить на этот вопрос — представить и изобразить будущее. Одоевскому это не кажется неосуществимым: «Я уверен, — пишет он, — что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в эту минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предастся инстинктивному свободному влечению души своей, — тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху».
С этой верой во всесилие мечты Владимир Одоевский отправляется в долгое свое воображаемое путешествие; присоединимся же и мы к нему.
Все дарования — мыслителя, философа-любомудра, фантаста, сказочника — объединились в стремлении увидеть будущее; именно увидеть, а не придумать.
И дата выбрана. «По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землей, — пишет Одоевский. — Действие романа происходит за год до сей катастрофы».
Сказка будущего
Итак, в 4338 год!
С поверхности Земли люди вырвались во внеземное пространство — это первое, что поражает в России сорок четвертого столетья чужеземца-путешественника, от имени которого ведется повествование. «Нашли способ сообщения с Луною; она необитаема и служит только источником снабжения Земли... Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне».
И вместе с завоеванием надземного пространства другим станет само мышление наше, — предсказывает Одоевский. «Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десяток страниц и... поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна».
Когда комета Вьелы столкнется с Землей, люди как-то (вероятно, при помощи летательных аппаратов) на время покинут нашу планету и избегнут гибели.
Они сильны, они подчинили себе природу; «огнедышащие горы в холодной Камчатке... употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны. Построены теплохранилища... машины гонят по трубам тепло — с юга на север. Вся страна превратилась в сад, где растут плодовые деревья, изобретенные здешними садовниками».
Но что случится с человечеством? Каким оно придет в тот бесконечно далекий век; ведь чтобы выдержать самое грозное испытание, необходимы не только изобретательность техники, мудрость науки, но и все силы сердца — сплоченность, самоотверженность.
— Нет, мы не стали бентамитами, — словно бы отвечает Одоевский из бесконечной дали времени. — Увеличившееся чувство любви к человечеству достигло того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же, как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов».
С самых первых месяцев жизни ребенка учат выражать свои мысли и чувства не только словами, но и на языке нот. От этого увеличивается понимание людьми друг друга, и Министру примирений остается не так уж много работы.
Музыка и любомудрие в тот далекий век станут сопровождать человека от детства до старости; точно так же, как от детства до старости они сопровождали Одоевского.
Возникли новые удивительные музыкальные инструменты. Вот чужеземец, от имени которого ведется повествование, вместе с другими гостями попадает в сад первого министра. Одна из дам в платье из эластического хрусталя подошла к бассейну, и в то же мгновение «журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию»...
И вот мы в Кабинете Редкостей — огромном здании, построенном на самой середине Невы и имеющем вид целого города... Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров... занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот сад есть чудо искусства! Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного; словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света».
Своды, своды, звуки необычайных инструментов, доносящиеся со всех сторон.
Что все это напоминает нам? Да конечно же — Городок в табакерке; ведь и там за сводом виднеется, манит другой свод, третий... десятый... И там не умолкают звонкие голоса мальчиков-колокольчиков:
Дин-дин-дин — идите за нами!
Теперь-то мы понимаем каждое слово серебряного их языка.
Дин-дин-дин-дин. Смелее! Идите, и вы познаете все чудеса Земли. Если придется увидеть странное, даже страшное — не бойтесь! Учитесь смотреть прямо в глаза беде, опасности! Учитесь оберегать живое свое сердце от корысти, выгоды, бездушности. И через город бентамитов, через мертвые эти развалины надо суметь пройти. Дин-дин-дин — впереди Будущее, оно принадлежит вам; впереди 4338 год!
Звенят, зовут, ободряют, звучат надеждой, через столетия доносясь до нас вот так необычно — из прошлого и одновременно из далекого будущего, — милые голоса родившихся в сказке Одоевского мальчиков-колокольчиков.
«Всё наше лучшее...»
В 1845 году Кюхельбекер из ссылки, из Кургана, писал Одоевскому: «Ты — наш: тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали все наше лучшее; ты перед потомством и отечеством представитель нашего времени, нашего бескорыстного стремления к художественной красоте и к истине безусловной. Будь счастливее нас!» Все уже было решено Одоевским: он вступил в литературу в рядах пушкинского поколения и теперь вместе с другими писателями своего времени, вслед за ними расстанется с нею: как и каждому человеку, поколениям людским тоже отмерены свои сроки.
Один только замысел, возникший еще в юности, а точнее — в 1825 году, он мечтает осуществить: роман о Джордано Бруно. Одновременно реальный, сказочный и фантастический мир, который Владимир Одоевский создавал во всю жизнь, не будет завершен пока в череду населяющих его образов не вступит подлинный герой — идеал не одного только времени, не одного из вечно спорящих течений, — а общечеловеческий.
Джордано Бруно — ученый, мыслитель, постигший бесконечность Вселенной и миров, в ней существующих; бесстрашный бунтарь, который предпочел мученическую смерть отречению от своих идей. В образе этом разрешался вечный спор мысли с действием, спор, с юности шедший между братьями Одоевскими. Для Владимира Одоевского бесконечно важно сближение их позиций. Потому еще, что и Александра уже нет в живых.
Мыслитель. Борец за истину. Но и этим не исчерпывалась суть личности Джордано Бруно.
Одоевскому вспомнились пушкинские строки:
И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал.Он написал набросок к заключительной главе романа: «Дня через два после казни два старика с молодою женщиной собирали хладный пепел Бруно и плакали. «Что вы плачете над еретиком?» — сказал кто-то из прохожих. «Если бы ты знал его — ты бы не сказал это: он был истинно добрым человеком».
И мысль, и действие, осененные и поверяемые добром, — вот что значит «все наше лучшее».
Глава одиннадцатая. Тайны сказки.
«Изголодавшееся воображение»
И вот колония бентамитов, почти такая же, какою создало ее воображение Одоевского, возникает наяву. В романе «Тяжелые времена» Чарльз Диккенс переносит нас в дымный и душный город Кокстаун. В похожем на склеп, холодном классе образцовой школы один из столпов города Гредграйнд произносит поучение, адресованное не только детям, но и их наставнику со зловещей фамилией «Чадомор»: — Итак, я требую фактов. Учите этих мальчиков и девочек только фактам. В жизни требуются одни факты. Не насаждайте ничего иного и все иное вырывайте с корнем. Ум мыслящего животного можно образовать только при помощи фактов, ничто иное не принесет ему пользы. Вот теория, по которой я воспитываю своих детей...
Дети его, Томас и Луиза, сидят тут же в классе среди других учеников; взгляни Гредграйнд на них глазами не правоверного бентамита, а человеческими, отцовскими, он бы сразу понял то, что так тревожит автора романа: «В обоих детях, особенно в девочке, чувствовалось какое-то угрюмое недовольство; сквозь хмурое выражение ее лица пробивался свет, которому нечего озарять, огонь, которому нечего жечь, изголодавшееся воображение».
Но ведь чувства — это нечто эфемерное, а не факты, и Гредграйнд не станет терять времени на угадывание их.
Образцовый урок сменяется другим, не менее образцовым. И кажется, что дети под наблюдением Гредграйнда и Чадомора растут вполне образцовыми, но однажды вечером они пробираются к деревянному балагану бродячего цирка Слири, чтобы хоть через щели в сосновых досках поглядеть на удивительную «конно-тирольскую пляску цветов». Отец настигает их за этим предосудительным занятием.
— Подумай! — восклицает он в крайнем негодовании. — Томас и ты, которые, можно сказать, насыщены фактами; Томас и ты здесь!.. Уму непостижимо.
— Мне было скучно, отец, — ответила Луиза. — Мне уже давно скучно. Надоело.
— Надоело? Что же тебе надоело?
— Сама не знаю. Кажется, все на свете.
Придя домой, Гредграйнд скажет забитой своей супруге, тоже утопающей (или уже утонувшей) в море фактов:
— Еще не хватало, чтобы я увидел своих детей за чтением стихов.
... Да, цирк, а там еще сказочки и стихи; нечто такое открытое, хрупкое — против железной логики фактов; совсем, совсем неравные силы!
Но ведь что удивительно: несмотря на всю свою хрупкость и бесполезность иногда они побеждают. Ведь так?! Иногда им удается отвоевать у этих самых железных фактов хотя бы первые шесть-семь лет существования ребенка, а то и все его детство; а то — бывает и так — всю жизнь! Они окружают ребенка незримой оболочкой волшебства, этого самого воображения, — защищают как щитом. Недаром люди начали создавать сказки, лишь только возникли на земле.
Иногда стихи, сказка, игра побеждают. А если этой оболочки волшебства нет? Если она разорвана в клочья и растоптана? Что,если «воображение задушено еще в колыбели»? — спрашивает Диккенс.
Уже взрослой девушкой, прежде чем по родительской воле выйти замуж за низкого и тупого, однако вполне преуспевающего бентамита, Луиза скажет отцу:
— Вы так заботливо берегли меня, что сердце мое никогда не было сердцем ребенка. Вы так образцово воспитывали меня, отец, от колыбели до сего часа, что я никогда не знала ни детской веры, ни детского страха.
Человеческое, отцовское пробудится в Гредграйнде, но боже, как поздно это произойдет. Жизнь Луизы искалечена. А Томас? Он совершил кражу и попадет на каторгу. Да он и заслужил жестокое наказание. Заслужил? Но ведь он и сам жертва отца, Чадомора, тех, кто вытоптал в его душе все живое.
Битцер, воспитанник той же образцовой школы, гонится за товарищем школьных лет: им движет надежда на щедрую награду. Он гонится за Томасом и не упустит свою жертву, если только...
Если не перенести действие в сказку. А единственное владение сказки в Кокстауне — это бродячий цирк Слири; вот уж кто никогда не изменял и не изменит миру воображения.
Там-то, на арене цирка, — находившегося в ту ночь как раз на полпути между Кокстауном и Ливерпулем, откуда можно бежать за море — уже волей сказки, а не реального романа встретятся главные герои его, и Гредграйнд обратится к Битцеру с мольбой пожалеть и отпустить Томаса.
— Есть у тебя сердце?!
— Без сердца, сэр, — ответит Битцер, усмехнувшись несуразности вопроса, — кровь не могла бы обращаться. Ни один человек, знакомый с фактами, установленными Гарвеем относительно кровообращения, не мог бы усомниться в наличии у меня сердца.
И еще он скажет:
— Всегда и во всем нужно опираться на присущее человеку стремление к личной выгоде. Это единственная прочная опора. Уж так мы созданы природой. Эту догму мне внушили с детства, сэр, как вам хорошо известно.
И, прислушиваясь вместе с потрясенным горем Грэдграйндом к монотонному голосу Битцера, мы понимаем: иногда слова, тобой же для личной твоей выгоды придуманные или даже тобой только повторенные, возвращаются, чтобы без всякой жалости ранить или даже убить тебя; может быть, для того и написал Диккенс «Тяжелые времена», чтобы напомнить людям эту простую, однако не стареющую с годами истину.
Когда переговоры с Битцером оканчиваются безуспешно, из мрака, окружающего арену, выдвигается — как раз вовремя — хозяин цирка старый Слири и услужливо предлагает Битцеру свой экипаж, чтобы подвезти его вместе с конвоируемым Томасом к железнодорожной станции.
Неужели и он предал?
Возница, Битцер и Томас вместе с огромной цирковой собакой, предназначенной заботливым Слири для охраны пассажиров — «время ночное, всякое может приключиться», — занимают свои места. Экипаж катится по безлюдной дороге, пока вдруг не останавливается.
— Лошади вообразилось, что она на цирковой арене, и вздумалось танцевать польку, тут уж ничего не поделаешь, — объясняет услужливый возница негодующему Битцеру.
А тем временем экипаж настигает повозка, запряженная пони; Томас перескакивает в нее и исчезает в темноте. Битцер решает преследовать беглеца пешком, но путь преграждает огромный пес с оскаленной пастью; ему тоже что-то такое вообразилось и вздумалось...
Да, лошадь — это не только четвероногое травоядное. И собака не только... А человек лишь тот, кто наделен воображением: для того и даровано нам длинное-длинное детство, которое так быстро проходит, чтобы в трудную взрослость мы вошли, уже обладая этим волшебным даром.
Правда сказки — оболганная и восторжествовавшая
Ранней весной 1895 года в Вятском крае, неподалеку от села Старый Мултан, в глухих лесных и болотистых местах, где жили удмурты (вотяки, как их тогда именовали), было найдено изуродованное тело крестьянина-нищего Конона Матюнина. Следствие велось с ужасающей небрежностью, и, по мере того как исчезала надежда раскрыть преступление, все шире распространялся подлый слух, будто вотяки втайне продолжают поклоняться жестоким языческим богам, требующим человеческих жертв.
Так бывало, что подозрительность, даже ненависть к «инородцам», к маленькому мирному племени, веками живущему рядом, вдруг охватывала окрестных жителей; потом все успокаивалось, должно успокоиться, если только этот внезапный взрыв не станут поддерживать власти и люди просвещенные. Какой же опасной становится ненависть, преследующая свои жертвы уже не ощупью, а в черном свете ложного знания!
Следствие, а за ним и суд ухватились за слухи. По грубо сфабрикованным уликам, «в убийстве... с целью принесения в жертву языческим богам» была обвинена группа вотяков. Страшно прозвучал приговор, словно продиктованный другими, темными веками. За полной необоснованностью он дважды отменялся сенатом. Теперь, когда дело слушалось в последний, третий раз, защиту мултанцев взял на себя Владимир Галактионович Короленко — для многих в нашей стране олицетворявший самое правду и справедливость.
Нелегкая задача выпала на долю защитников. Присяжные были предубеждены.
Предубеждение и враждебность! А тут еще профессор Смирнов, автор монографии о вотяках, приглашенный в суд экспертом, берется доказать, что сам народ признает необходимость человеческих жертв. Правда, в вотском фольклоре подходящих свидетельств профессору отыскать не удалось, но вот сказка о злой мачехе, бытующая у черемисов, народа родственного.
Злая мачеха прикидывается больной и говорит мужу: «Поди в лес к колдунье, она скажет, что сделать, чтобы я стала здорова». Муж отправляется в лес. А злая мачеха переодевается колдуньей, бежит сама в назначенное место и говорит от имени колдуньи, что для выздоровления жены нужно убить ее пасынка. С ужасом отказывается муж совершить это преступление; но злая мачеха делает вид, что совсем разболелась, опять посылает мужа к колдунье и обманом добивается, наконец, своего.
— Мы видим, что божества черемисского эпоса не прочь полакомиться человечиной, — заключает научный эксперт Смирнов.
Но ведь это фальшивое, насквозь ложное толкование сказки — с гневом отвечает Короленко. Если смотреть глазами Смирнова, то список «виновных» народов придется расширить так, что он охватит чуть ли не весь мир. Откроем хотя бы собрание народных сказок А. Н. Афанасьева, и мы сразу натолкнемся на сходные сюжеты.
Перечитаешь щемящие душу сказки о мачехе и падчерице, мачехе и пасынке (а они есть чуть ли не у всех народов мира), и не только умом — сердцем поймешь, что одна мысль в них: зло, кровавая жертва приводят только ко злу и крови. И сложены эти сказки для того, чтобы унизить и проклясть зло.
Во всех таких сказках, и в той, которая была приведена на суде, народ не признает, а с гневом, ненавистью отвергает бытовавший, может быть, тысячи и тысячи лет назад обряд кровавых жертвоприношений. Он не забывает этот давний, к счастью, навсегда умерший обряд только для того, чтобы и нынешние люди, мы с вами, всегда помнили: от зла — зло, от крови — только кровь, от жестокости — народное горе.
Вот что увидели в оболганной сказке присяжные, когда словом Короленко и других защитников и ярко просиявшим светом народной мудрости был рассеян туман предубеждения и враждебности. Увидели и вынесли оправдательный приговор.
Правда сказки победила ложь.
Глава двенадцатая. Прекрасный и трагический мир Перро.
Отец и сын
Пудреный парик, завитый по моде, обрамляет высокий лоб; голова несколько откинута, что придает Шарлю Перро гордое, даже надменное выражение, впрочем, объяснимое — он красноречивый адвокат, архитектор, служивший при дворе, в «ведомстве королевских построек», признанный ученый и поэт, член Французской академии.
Во Франции умы возбуждены спором между древними и новыми. Первые утверждают: литература, как и все искусства, достигла высшего совершенства в античные времена. А новым представляется, что писатели современные, идя своими путями, открыли и еще откроют человечеству многое, неведомое даже самым гениальным грекам и римлянам.
Наступил 1697 год; век Шекспира и Сервантеса приближается к концу. Шарлю Перро, автору четырехтомного исследования «Параллель между древними и новыми», признанному вожаку новых, 68 лет.
Случается, кто-либо из коллег, поговорив с Перро о его поэтических и ученых трудах с той уважительной серьезностью, которую предмет заслуживает, упомянет и о недавно вышедшем томике — «Истории, или Сказки былых времен (Сказки моей Матушки Гусыни) с моральными поучениями»:
— А знаете ли, «Матушка Гусыня» пользуется успехом; особенно у дам, разумеется.
Одна фраза, и разговор возвращается к темам серьезным. Так чего стоит, чем уж так примечательна небольшая книжечка с нарочито простонародным заголовком?
Разве только тем, что в ней Красная Шапочка впервые отправляется в опасное путешествие через лес, где бродит голодный волк, к больной бабушке, с гостинцами — пирожком да горшочком масла; и путешествие это с той самой поры будет повторяться в воображении каждого ребенка всех поколений и всех стран.
И в ней принцесса заснет ровно на сто лет. А когда минет срок, громадные деревья, выросшие вокруг замка, колючие кустарники и терновник расступятся перед принцем; он войдет в объятый сном дворец, в опочивальню принцессы и, пораженный ее красотой, опустится на колени; а она, открыв глаза, нежно взглянет на суженого и скажет:
— Это вы, принц? Долго же вас пришлось дожидаться.
И в этой самой книжке мельник оставит сыновьям наследство: старшему — мельницу, среднему — осла, а невезучему младшему — одного только кота.
— Ничего не поделаешь, — сам себе скажет младший сын, — съем кота, сделаю себе муфту из его шкурки, а потом придется умереть с голоду.
Но он не исполнит жестокого намерения, а, напротив, закажет для кота сапоги, чтобы тот мог с некоторым удобством бродить по свету, искать счастья. Кот в сапогах после многих приключений придет к людоеду в его замок и с самым простодушным видом скажет:
— Меня уверяли, что вы обладаете даром превращаться не только в самых больших животных, льва или слона, но так же точно и в самых маленьких, например, в крысу или мышь; должен признаться, я считаю это совершенно невозможным!
— Для меня нет невозможного, советую вам это запомнить, сударь, — ответит тщеславный людоед и в ту же минуту сделается мышью.
Хитрющий кот бросится на мышь и съест ее, а замок подарит своему хозяину, придумав ему в придачу громкий титул и звонкое имя: Маркиз де-Карабас.
... Когда почтенный коллега снисходительно похвалит «Матушку Гусыню», Шарль Перро ответит столь же небрежной, мимолетной улыбкой и, может быть, в глубине души обрадуется тому, что сказки подписаны именем сына: «П. Дарманкур».
— Юноша... — неопределенно отзовется он не то с просьбой о снисхождении, не то с гордостью.
И с того самого памятного для истории сказки 1697 года столетиями будет идти в науке спор: кто же в действительности автор сказок «Матушки Гусыни». Сам Шарль Перро, как считает большинство исследователей? Но тогда что побудило его скрыться за другим именем? Неужели одна лишь боязнь уронить себя во мнении света сочинениями, причисляющимися к жанрам «низким»? Или и вправду сказки написал сын Перро? Вот ведь и посвящение к книге начинается словами: «Ваше высочество. Вероятно, никто не найдет странным, что ребенку пришло в голову сочинить сказки, составляющие этот сборник; однако все удивятся, что у него хватило смелости вам их поднести». Но если автор — П. Дарманкур, то как объяснить, что, рано и блестяще начав литературный путь, он больше ничем выдающимся себя не проявил?
А можно представить, что было так: сказки создавались Шарлем Перро тогда, когда сын его (которому в год их опубликования восемнадцать лет) был ребенком; это слово не случайно возникло в посвящении. То, что детское воображение приняло, Шарль Перро через много лет записал. И в память о давних счастливых вечерах, совместных мечтаниях, общих поисках путей спасения героев, попавших в беду, в память об этом, записав сказки, рожденные любовью к сыну, отец дал им и сыновье имя. Значит — и отец и сын; мудрость и талант взрослого и наивная фантазия ребенка. А в благодарную память о том, что сказки писались гусиным пером, увековечена еще и матушка Гусыня. Что ж, возможно и такое решение давнего спора.
Мир сказки
Шарль Перро стал отцом будучи уже совсем немолодым и, готовясь к отцовству, долгие годы думал о тайной границе, отделяющей одно поколение от другого, детство от взрослости. Он говорил себе: нельзя взваливать на плечи ребенка наследие прошлого, где правда переплелась с ложью, вечное с отмирающим. В первые годы жизни надо оберечь его на торной дороге, по которой в грязи, в крови катится карета времени. Но как сберечь? Как подготовить ребенка ко встрече со взрослостью?
За столетие до рождения Перро соотечественник его Ноэль де Фейль нарисовал картину вечера в крестьянской семье. Когда домочадцы умолкали, занятые рукоделием, добряк Робен начинал рассказывать сказки — об аисте, о тех временах, когда животные разговаривали; о том, как лиса крала рыбу у рыбака; как собака и кошка отправлялись в дальнее путешествие; о льве, царе зверей, который сделал осла своим наместником; о вороне, которая каркала и потеряла сыр; о том, как он, Робен, увидел фей, водивших хоровод близ источника у рябины, и разговаривал с ними.
В долгой своей жизни Шарль Перро встречался со многими народными сказочниками, потомками добряка Робена; в голове Перро бережно хранилось не меньше французских народных сказок, чем собрано сказок восточных в «Тысяче и одной ночи». И так уж устроено его воображение, что запечатлевало оно не только волшебные истории, извека существовавшие, но и другие — те, что безмолвно поверяли ему древние замки, отражающиеся в спокойных водах Луары, и старые мельницы, старые деревья — всё, всё!
Мир сказки! Кто же будет обитать в нем? Какими чертами, дающими право войти в сказку, наделит создатель этого мира своих героев: принцесс и принцев, дровосеков и людоедов, говорящих котов и волков?
Через много лет в другой стране несчастливая, очень больная девушка Мэгги попросит Крошку Доррит, милую героиню романа Чарльза Диккенса:
— Теперь сказку, только интересную.
— Какую же тебе рассказать сказку?
— Про принцессу. Но чтобы про настоящую. Каких на самом деле не бывает.
... И Шарль Перро ввел в литературу героев настоящих, каких на самом деле не бывает; это одно из самых замечательных открытий, совершенных им в мире сказки.
Прочитаем стихотворное «поучение», которым, подобно остальным сказкам у Перро, оканчивается «Кот в сапогах»:
И если мельников сынишка может Принцессы сердце потревожить, И смотрит на него она едва жива, То значит молодость и радость И без наследства будут в сладость, И сердце любит и кружится голова.Что ж, в жизни такого не бывает, как бы слышится голос Перро в этих и ласковых и шутливых строках, ну, а вот сказка без бескорыстной любви невозможна. И обычаи века меняются, а сказка вечна; по одному этому если обычаи и сказка вступают в спор, победа будет за сказкой...
— Жил-был когда-то славный король, — рассказывает Крошка Доррит. — И у него было все, чего только может пожелать душа, и даже еще больше. Было у него золото и серебро, алмазы и рубины и много-много других сокровищ. Были дворцы, были...
— Больницы, — вставит Мэгги. — Пускай у него будут больницы, там ведь так хорошо. Больницы, где дают курятину...
Это открытие тоже первоначально совершено Шарлем Перро: чем дальше сказочное отдалено от реального, тем необходимее ему нечто, соединяющее мечту с действительностью, небо с землей; правда жизни, пусть даже и самая тяжелая, одна только способна родить истинную поэзию, в том числе и поэзию сказочную; цветок жив, потому что имеет корни.
Таинственная игра
Я стараюсь разбудить в памяти впечатление, которым сказки Перро поразили меня в тот бесконечно давний год первого с ним знакомства; потом я окрестил его для себя «Годом Перро».
В день рождения я, как всегда, проснулся среди ночи, увидел рядом с постелью на стуле подарок — тускло и таинственно, как клад, блиставшую из темноты красным с золотым книгу, — поднялся и, на носках ступая по холодному полу, подошел к окну; свет фонаря услужливо проникал в комнату.
Я читал торопливо, перескакивая через строки, заглядывая в конец, но очень скоро почувствовал ужасный страх, что вот не успеешь оглянуться, книжка окончится, и начал «экономить», заставляя себя каждую фразу перечитывать по нескольку раз, да еще шепотом повторять вслух; прежде я знал одну только сказку Перро — «Красную Шапочку».
Конечно, я не замечал ничего вокруг, но это ощущение уже было мне знакомо по чтению других сказок и книг приключений, а тут к нему прибавилось нечто поражающе новое, что на долгом своем семилетием веку я переживал впервые. Будто книга втягивала меня в какую-то пока еще не совсем понятную, но очень интересную волшебную игру.
Будто, читая, я всем существом сливался не только с героями сказок, но и с волшебником, создавшим этих героев, то есть сам вдруг получил дар волшебства и теперь имею право, даже должен, управлять судьбами героев Перро, как управляю отрядами оловянных солдатиков или кораблями в военно-морской игре.
И книга, как ни хитри, как ни экономь, окончится, и даже очень скоро, а игра, в которую я вступил, продлится до бесконечности; все дети мечтают о бесконечной сказке, бесконечной игре.
Удивительное ощущение вдруг возникшего дара волшебства вызывалось, как представляется сейчас, тем, что судьбы некоторых, самых любимых героев Перро не определял окончательно. И от меня тоже, также и от моего воображения зависело, как сложится их жизнь.
Вот, например, Мальчик с пальчик. С ним может быть так: он подкрадется к спящему Людоеду, наденет его семимильные сапоги и, пока тот храпит, помчится, перепрыгивая с горы на гору, с одного берега реки на другой. И вот он в Людоедовом доме, говорит хозяйке:
— Вашего мужа схватила шайка разбойников, которые поклялись убить его, если он не отдаст им все свое золото и серебро. Они уже приставили ему кинжал к горлу!
Людоедова жена поверит Мальчику с пальчик, и тот, нагрузившись сокровищами, вернется в дом своего отца — бедного дровосека.
А может быть и совсем по-другому.
Мальчик с пальчик даже не подумает о награбленных сокровищах, не станет хитрить и обманывать Людоедову жену. Он возьмет себе только семимильные сапоги — ведь Людоед надевал их, чтобы ловить маленьких детей; бог с ними — с сокровищами; идет война, и Мальчик с пальчик станет курьером короля; много раз под огнем неприятеля он доставит войскам за сто миль от столицы королевские приказы и обратно, в столицу, донесения о сражениях.
В первой из этих историй в Мальчике с пальчик угадываются черты будущего Робин Гуда, во второй — д’Артаньяна.
Исключают ли эти две истории одна другую? Тогда, в детстве, мне так не казалось; пожалуй, и сейчас не кажется. Напротив, мне представлялось, будто перед Мальчиком с пальчик открыты еще и третья, и четвертая, и сотая дороги, на каждой встретятся другие чудесные приключения. И каким путем пойти, выбирает не один Мальчик с пальчик, а и я вместе с ним — в этом самое главное!
И так как дорог бессчетное множество, то мы с Мальчиком с пальчик никогда не расстанемся: каждую ночь будут сниться все новые и новые истории о его, о наших приключениях; они уже теснятся где-то близко, в преддвериях воображения.
Снились мне такие сны? Не помню, не знаю. Но что в свой «Год Перро», вообще-то очень трудный в ряду других трудных лет детства, я стал несколько иным, несколько более счастливым — это знаю твердо.
Рике с хохолком и тайна красоты
Немного обжившись в сказках Перро, замечаешь, что пути, которые открывает своим героям автор, избраны не случайно. Идя по одному из них, мы встретимся с чудесами, каких в обычной, обыденной жизни не бывает. А когда, вслед за сказочником, изберем другой путь, как бы нарочито огибающий страну чудес — первоначально даже к некоторому нашему, читателей, огорчению, — мы увидим те же события, но уже как бы не во сне, а наяву, близко, рядом даже, и освещенные обыкновенным солнцем, тем самым, которое каждый день на наших глазах поднимается на востоке и садится на западе.
Вспомним сказку «Рике с хохолком». Принц, которого так зовут, столь же умный, сколь и уродливый, просто ужасно уродливый и ужасно несчастный от этого, встречается с принцессой, которая, напротив, столь же прекрасна, сколь и глупа — и тоже ужасно несчастлива.
Но так как Перро пока ведет нас по первой из двух дорог, в дело вмешивается фея. Рике с хохолком в день его рождения она подарила способность сделать умницей ту, которая ему понравится, а принцессе — способность сделать красавцем того, кого она полюбит.
Так славно и именно по-сказочному складывается судьба героев, которых мы успели полюбить. Но только мы обрадовались их счастью, Перро открывает перед нами другую дорогу: «Иные, правда, уверяют, — скажет он, — что дело тут вовсе не в чарах феи, но что одна любовь виновата в таком превращении. Говорят, что когда принцесса хорошенько подумала о постоянстве своего возлюбленного, о его скромности и о всех добрых сторонах его души и ума, она после этого больше уж не видела ни кривизны его тела, ни уродства лица». Ей казалось, что принц вовсе не горбат, а дурит и горбится в шутку; и он не хромой, а только по милой привычке, очень ей нравившейся, немного припадает на одну ногу. И неправильность косых глаз принца считала она признаком сильнейшей любовной страсти, а в толстом, красном носе виделось ей нечто воинственное и героическое».
Так увидит принцесса Рике с хохолком в конце этой второй дороги — дороги без чудес, а мы попробуем с самого начала пройти ее всю рядом с принцем.
Вначале нам представится, что Рике с хохолком в эти минуты, решающие его судьбу, еще уродливее, чем был когда-либо прежде; представится так — тревожно, страшно даже — от того, что он весь, с головы до пят, залит солнцем — хоть бы затмилось оно ненадолго! Хоть бы вспомнило, что оно в сказке все-таки, а не в обычном мире!
Принц залит полуденным солнцем, беспощадно высветляющим каждую черту; ведь солнце тем и гордится, что говорит только правду, ее одну: красавице — что она красива, цветку — что он цветок. Чем же ему, не отступая от своего обычая, утешить бедного Рике с хохолком?
Принц все замедляет и замедляет шаги; может быть, даже несмотря на ум и храбрость, он обратился бы в бегство; но что делать, если нет для него иного пути, кроме как к принцессе, нет жизни без нее. И отражением этой мысли, этого чувства возникнет на лице принца вначале почти неприметная, робкая, нежная и молящая улыбка.
Только и всего; но хотя лицо Рике с хохолком по-прежнему освещено солнцем, резкими тенями подчеркивающим каждую ошибку природы, теперь оно еще и озарено этой улыбкой; принцесса угадала ее раньше нас и шагнула навстречу Рике с хохолком.
Если счесть чудом, что еле приметное сияние любви сильнее, достовернее свидетельств полуденного солнца, тогда и на второй дороге сказки, куда над вывел Шарль Перро, без чудес не обойтись; только это волшебства иного рода: не волшебства фей — с ними в обычной жизни встречаешься не часто, — а человеческие волшебства.
И мы вспомним мудрые слова Льва Толстого, что красиво только то лицо, которое хорошеет от улыбки; вот и еще одна истина сказки осознается как истина реальной жизни.
«Красная Шапочка»
В детском саду трех летние ребята слушают «Красную Шапочку»; впервые, может быть.
Уже волк съел бабушку, Красная Шапочка постучалась в дверь, услышала, как волк спросил: «Кто там?», удивилась, что у бабушки такой странный голос, а после подумала, что, верно, у нее насморк, и ответила: «Это ваша внучка!»
Дети сидят не дыша. Слышен только скрип ножек маленьких табуреток; сами того не замечая, дети приближаются к воспитательнице, будто некая сила тянет их ближе к сказке.
— Бабушка, да какие же у вас большие руки!
— Это, чтобы покрепче обнять тебя, внучка!
— Бабушка, да какие же у вас большие зубы!
— А это, чтобы тебя съесть!
Злой волк бросился на Красную Шапочку и съел ее.
Вспоминаешь — у Перро сказка так и оканчивается гибелью Красной Шапочки
Полный доверия к уму и сердцу детей, Шарль Перро подарил им подлинные сказочные трагедии; однако при этом он всюду четко обозначил границы трагического. Синяя Борода точит нож, чтобы убить жену. Еще минута, и она погибнет, но появляются ее братья, храбрые рыцари, и спасают сестру. Кипит вода в котле, Людоед хочет сварить и съесть Мальчика с пальчик вместе с братьями, но детям удается бежать.
Перро был убежден, что трагедии-сказки необходимы для воспитания детской души, только они не могут, не должны оканчиваться смертью героев хотя бы по одному тому, что за детством следует не смерть, а взрослость, за взрослостью — старость, а лишь за старостью — отдаленно, нереально и непостижимо для ребенка — смерть.
Почему же в «Красной Шапочке» сказочник был так беспощаден к милой своей и, как потом оказалось, истинно бессмертной героине?
Перро сам в стихотворном «нравоучении» дает ответ на этот вопрос. Сказка предназначалась им прежде всего не детям, а читательницам светских салонов — «особенно девицам, и стройным и прекраснолицым»; она должна предостеречь наивных девушек от коварных обольстителей — волков:
Совсем не диво и не чудо Попасть волкам на третье блюдо. Волкам... но ведь не все они В своей природе откровенны. Иной приветливый, почтенный. Не показав когтей своих, Как будто бы невинен, тих, А сам за юною девицей До самого крыльца он по пятам стремится. Но кто ж не ведает и как не взять нам в толк, Что всех волков опасней льстивый волк.В первый, да и в последний раз придворный, привыкший блистать в светском обществе, победил в Шарле Перро... Кого победил? Да раньше всего — отца. Впервые салонное красноречие было предпочтено тайному разговору с детьми, продолжающему те давние доверительные беседы с сыном — один на один, в сумерках детской.
Но жизнь сказки продолжалась уже независимо от автора. И если до сих пор мы много раз в этой книге могли проследить, как писатели перенимали у народа созданные им сказочные сюжеты и по праву «гордого участия поэта» творили свои сказки, то теперь представилась редкая возможность воочию увидеть, как сказку, первоначально сочиненную писателем, с рук на руки перенимает и пересоздает народ. Она исчезает с печатных страниц, скрываясь в медлительном и неуловимом течении народного творчества; от сказителя к сказителю, от матери к ребенку, от поколения к поколению, из страны в страну.
Осторожно, заботливо растит народ смелую, раз и навсегда полюбившуюся ему девочку-героиню.
И вот прошло немногим больше столетия, а это по сказочному счету времени совсем малый срок, и немецкие фольклористы братья Якоб и Вильгельм Гримм среди множества других бытующих в народе сказок записывают и «Красную Шапочку». Какой же предстает она во второй раз, возникнув на печатных страницах?
Красная Шапочка стала не взрослее, а ребячливее; теперь сказка обращена только к детям, навеки подарена им одним. Неуместные «взрослые» слова, лукавые полунамеки отброшены, забыты; отброшено и заключительное «нравоучение». Зато в сказку, как мы знаем, вступил храбрый охотник: злой волк убит, а бабушка и Красная Шапочка невредимые выходят на свет божий.
... Какая радость отразилась на детских лицах, когда воспитательница прочитала последние строки. И спрашиваешь себя: нужно ли было детям пережить такое потрясение, трагедию, пусть и со счастливым концом? Но, глядя на ребят, понимаешь: сказка рождает не страх, а совсем иное чувство — сострадание. И вспоминаются удивительные слова Достоевского: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечеству»; сострадание у Достоевского, милость, милосердие у Пушкина, самоотверженное добро у Шарля Перро.
Глава тринадцатая. Тайны сказки.
Как рождается страх и как он умирает
Бывают ли драконы детьми? И еще — как родился страх, если было время, когда его не существовало, и как он умирает, если страх смертен? Вот каким тайнам сказки посвящена эта главка.
В древнегреческом мифе, пересказанном для детей нашей страны Корнеем Ивановичем Чуковским, храбрый Персей, странствуя по свету, однажды увидел несчастную девушку, прикованную к береговой скале. Персей хотел освободить ее. Но девушка взмолилась:
— Уходи! Уходи! Скоро вынырнет из моря дракон, страшное чудовище. Он проглотит и тебя и меня! Каждый день он подплывает сюда, взбирается на гору, рыщет по городу и пожирает без разбору и старых и малых. Чтобы спастись от него, жители города приковали меня к этой скале: дракон проглотит меня, насытится, и все остальные горожане останутся живы.
Персей не послушался девушки, говорит древний миф, он победил дракона.
Но жители города... Почему они, вместо того чтобы защитить девушку, приковали ее к скале? Почему они ждут героя, а пока покорно и подло отдают на съедение девушек? Или они и не ждут никого, даже и не мечтают об освобождении?! «Что ж, и к чудовищам привыкают», — думают они.
И тут пришло время переселиться в сказку замечательного современного сказочника Евгения Львовича Шварца, которая так и называется «Дракон».
... В несчастливый день постучался Ланцелот в двери дома архивариуса Шарлеманя. Завтра Эльзу, милую и прелестную дочь архивариуса, отдадут Дракону, который уже четыреста лет властвует над городом.
Вовремя, как раз вовремя пришел Ланцелот. Такая уж судьба у него: ходит он, бродит по миру и заступается за обиженных, за девушек и детей особенно, — ведь они вечно попадают то в плен к разбойникам, то в мешок к великану, то на кухню к людоеду.
Он участвовал в несчетном множестве сражений и был девятнадцать раз ранен легко, пять раз тяжело и три раза смертельно. Не так уж много крови осталось в его жилах. И кто поможет ему в битве? Недаром Дракон говорит:
— В моем городе только безрукие души, безногие души, глухонемые души, цепные души, легавые души, окаянные души.
Четыреста лет учил Дракон людей унижаться, продавать и предавать. И научил.
Собственно, горожане не так уж и ненавидят своего Дракона. Конечно, приходится раз в год отдавать ему девушку, но глухонемая душа на то и глухонемая, чтобы не слышать чужого горя, и слепая — чтобы не видеть его.
И ведь этот, свой Дракон защищает от других драконов, а они, может быть, еще куда хуже.
Да, никто не поможет Ланцелоту.
Боязливые жители города кричат вслед ему:
— Уезжайте прочь от нас! Скорее! Сегодня же!
Даже травят его собаками.
И все-таки он вызывает Дракона на бой.
И тогда... Тогда страх возникает в самом Драконе. В этом нет ничего удивительного. Истинная храбрость не уживается с жестокостью. Драконы трусливы, даже и огнедышащие. Запомним на всякий случай и эту тайну, которую столько веков повторяют сказочники.
Чтобы избежать сражения, Дракон передает Эльзе отравленный ножик. Один укол — Ланцелота не станет, и он будет править спокойно, как и все прошедшие четыреста лет.
Дракону необходимо, чтобы именно Эльза убила Ланцелота, — во всем городе, может быть, только у нее живая душа. А живые души опасны драконам, драконьей власти, всему проклятому драконьему делу; только они смертельно опасны ему.
Ядовитый нож в руках Эльзы.
Еще неизвестно, на что она решится, она и сама не знает этого. Не глухонемая, не мертвая душа у нее, но уснувшая. Ведь и Эльза долго дышала воздухом лжи. Уснувшая, озябшая, замерзшая душа.
— Эльза, я всегда говорю правду. Мы будем счастливы, поверь мне, — убеждает ее Ланцелот. — Ах, разве знают в бедном вашем народе, как можно любить друг друга? Страх, усталость, недоверие сгорят в тебе, исчезнут навеки, вот как я буду любить тебя.
Только теперь Эльза совсем оживет. И, прозрев, она швыряет в колодец отравленный Драконий нож: лучше умереть, чем предать любимого.
Дракону приходится сражаться с Ланцелотом. Одна за другой падают все три головы Дракона. Но и Ланцелоту не легко. Где-то далеко в горах лежит он, смертельно раненный.
И как это ни странно, как это ни страшно — ведь в городе ничто не переменилось после гибели Дракона. «Люди, раз примирившись с рабством, нелегко привыкают к свободе», — сказал мудрец.
Был у Дракона презренный холуй, готовый на все слуга — Бургомистр. Теперь ему приписывают победу. Бургомистр становится правителем города. «Да здравствует победитель Дракона!» — кричат горожане, когда он проходит по улицам. Садовник даже цветы приучил кричать эту здравицу. Правда, львиный зев каждый раз, крикнув «Да здравствует победитель Дракона!», показывал язык. Но кто обратит внимание на дерзкий цветок.
Ах, как быстро иногда души уродуются и гибнут; насколько медленнее и труднее воскресают они. Но все-таки ведь осмелилась Эльза швырнуть в колодец отравленный нож, осмелился львиный зев показать язык.
Осмелиться! В этом все дело. Видели же люди, как сражался Ланцелот: подвиг его отзовется в сердцах.
Дракон — тень труса на земле. Он рождается вместе со страхом и исчезает, когда рассеивается страх.
И, думая об этом, мы раскрываем мудрую сказку замечательного чешского писателя Владислава Ванчуры «Кубула и Куба Кубикула».
Сто лет назад, когда земля была молода и все верили сказкам, бродили по чешской земле из поселка в поселок медвежатник Куба Кубикула со своим ручным медвежонком Кубулой. Как-то расшалился медвежонок и, чтобы унять его, Куба Кубикула рассказал сказку о медвежьем страшилище Барбухе, у которого голова как у шершня, вместо когтей жала, а шуба из дыма.
Ночью проснулся медвежонок — что-то примерещилось ему, — страшилище тут как тут. И пахнет от него гарью; чем не дракон, только что маленький.
И уже не один глупый Кубула, но и славная его подружка, дочка кузнеца Лизанька, побаивается Барбухи. Пройдут годы, превратится медвежонок во взрослого медведя и Лизанька вырастет; что, если и страшилище это, Барбуха, вырастет в их сердцах? Как им жить тогда?
«Пчелы жалят того, кто их боится», — напоминает старая чешская пословица. «Твой страх делает смелым врага», «Страх больше самой беды», «Трусливый подгоняет убегающего», — вторят ей другие пословицы.
И еще: «Страх страшнее смерти!»
... Тихо в древнем государстве чехов и словаков. Если прислушаться к мертвой тишине, покажется, будто из-за каменных стен, из глубоких подвалов гестапо доносятся стоны тех, кого пытают фашисты.
Это уже не сказочный сон, а явь.
Год сменяется годом: сороковой, сорок первый, сорок второй... Ванчура мог бежать из порабощенной страны, но как оставить родину в самую тяжелую годину?!
По радио передают списки расстрелянных фашистами. Значит, надо работать и за тех, кого нет больше в живых. Ванчура помнит: «Трусливый подгоняет убегающих», но верно ведь и другое: один смелый останавливает тысячу потерявших надежду.
Пишет ли в эти тяжкие годы сказки Владислав Ванчура, лучший чешский сказочник, придумывает ли их? Или все его силы поглощены борьбой с фашистами? Но даже если мысли его сейчас бесконечно отдалены от сказок, каждый чех, взглянув в глаза Ванчуры, пожав его руку, без слов вспомнит историю о Кубуле и Кубе Кубикуле, и надежда затеплится в сердце.
... Нет, говорит сказка, не суждено Барбухе вырасти в дракона. Поумнела Лизанька, да и медвежонок подрос и кое-что начал понимать.
— Разве ты не знаешь, что я расплывусь и мне конец придет, как только ты меня бояться перестанешь? — жалуется страшилище Барбуха медвежонку.
Жалуется Барбуха, но никто не поможет ему. «Мы ведь знаем, что страшилища питаются страхом». Страхом, только им одним, питаются все страшилища на земле, а не только такие безобидные, как медвежий Барбуха, напоминает Ванчура среди ночи, какая опустилась на его страну и еще на половину мира. И напоминание его передается от человека к человеку.
А Барбуха из сказки, что с ним?..
— Я уже был с порядочную собаку ростом и сил набрался, а теперь еле двигаюсь.
И вот уже Барбуха меньше хорька.
— Я появился на свет на скорую руку, — жалуется он. — Приятели мои сделали меня кое-как тяп-ляп — из страха и воображения. Это не жизнь. Поглядите на эти ноги, на мою дымовую шерстку! Ну, могу я так ходить? Прошу вас, пошлите меня в какую-нибудь больницу либо в школу для страшилищ; пускай я тоже чем-нибудь приличным стану.
Барбуху увязывают в носовой платок — ведь он стал совсем крошечным — и отправляют к колдуну Бурдабурдеру. И хотя это не такая уж легкая работа даже для самого умелого колдуна, в конце концов злая шмелиная головка преобразуется в добродушную собачью морду, дымная шерстка — в теплую мохнатую шерсть. Кто бы теперь узнал в пуделе, помахивающем хвостиком — так на земле появились пудели, — вчерашнего Барбуху?!
Веселая сказка? Только ли веселая?
Вчитайтесь в нее, и вы услышите скорбный и гордый голос Владислава Ванчуры, повторяющий:
— Уничтожь страх в собственной душе, только тогда исчезнут, истают, подохнут с голоду все страшилища.
Еле слышный голос сказочника... Как пробиться этой правде в мире, превратившемся в нескончаемое поле сражения: взрываемом бомбами, расстреливаемом тысячами орудий, сожженном, распятом...
Но она пролетит из сердца в сердце, из страны в страну — и в этом, может быть, самое великое чудо из всех, какие знает старая Земля.
... В осажденном Ленинграде сказочник Евгений Шварц на минуту отложит перо и сам себе скажет:
— Да, в этом самое главное. Фашистского дракона люди победят, как бы тяжко ни приходилось нам сейчас. Но если страх останется в сердцах, рано или поздно появится другой дракон, может быть почти похожий на человека, как мой Бургомистр, но от этого еще более опасный. Самый главный подвиг — победить труса в самом себе: без этого бесцельны другие подвиги. Ванчура и его народ правы: страх страшнее смерти.
Евгений Шварц снова погрузится в работу, занимающую дни и ночи, отнимающую все силы, чтобы успеть предупредить людей.
Он закончит сказку, и на земле будет чуть светлее. Сказка его, как Ланцелот, придет вовремя и, обнажив меч, станет рядом со сказкой Ванчуры, бросая вызов врагам.
А голос Ванчуры вдруг пресекся.
Гестаповцы выследили его и 12 мая 1942 года арестовали.
O последних днях Ванчуры мы узнаем из рассказов его товарищей по заключению: «Он умирал так, как жил: гордо... с презрением к любым уверткам или компромиссу, с ненавистью ко всему подлому и нечистому. Умирал, как Владислав Ванчура. Двадцать дней его мучили, били плетью, пытали, но, возвращаясь в камеру, он слова никому не сказал о своих страданиях. Фашистские палачи не добились от него ни звука...»
1 июня 1942 года гитлеровское радио в Праге передало очередной список казненных; начинался он именем Владислава Ванчуры.
Нет, голос сказочника не прерывается; с каждым годом он разносится все дальше. И смерть не заставила его умолкнуть; значит, он бессмертен.
Каждый год он приходит к людям. Приходит в детстве, когда страх еще не утвердился в душе и уничтожить его легко, во всяком случае не нужно для этого проливать потоки крови, и возникают поколения, где не только герои, подобные Ланцелоту и самому Ванчуре, а тысячи людей с самого детства знают, что страх страшнее смерти.
И знают, что страх не вечен: он рождается, но он и умирает, исчезает в мире бесстрашных.
О мудрости
Настало время поговорить о мудрости. Конечно, речь идет о мудрости сказочной.
Когда Ланцелот пришел в дом архивариуса Шарлеманя и узнал, что несчастье нависло над семьей, живущей тут, он спросил Кота — больше никого не было:
— Им грозит беда? Какая? Ты молчишь?
— Молчу, — ответил Кот.
— Почему?
— Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем.
Но ведь тот мальчик в сказке Андерсена не молчал, а крикнул:
«А король-то голый!» Значит, есть по меньшей мере два вида мудрости: мудрость Кота — назовем ее так в честь открывателя, хотя множество почтенных мудрецов, спокойно проживших век и почивших в глубокой старости, могли бы претендовать на честь ее открытия; и есть мудрость андерсеновского мальчика — мудрость прямодушия, простодушия; как правильнее ее назвать?
И есть еще другие виды мудрости, о которых нельзя умолчать.
Жил-был Король, рассказывает Мэри Поппинс, героиня английской сказочницы Памелы Трэверс. У него была красавица жена, Первый Министр, который помогал ему управлять королевством, Паж, который наливал чернила в королевскую чернильницу, и был хрустальный дворец; словом, он ничем особенным не отличался от других сказочных королей.
Однажды он сказал Королеве: «Твои глаза ярче звезд» — и взглянул на небо.
— Интересно, — задумался он, — сколько там звезд? Я, наверное, сумею их сосчитать. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь...
И он считал до тех пор, пока Королева не уснула.
— Тысяча двести сорок девять, тысяча двести пятьдесят, — считал он, когда Королева проснулась.
С той поры Король только и делал, что считал, думал, собирал Сведения, Данные и Факты. И все сановники его, слуги, даже повара помогали ему считать и собирать Факты. Некому стало приготовить обед и вытереть пыль, так что хрустальный дворец скоро стал черным, как кусок угля, и ужасно печальным.
Король был так занят — всегда, дни и ночи, — что не оставалось даже секунды, чтобы выслушать жалобы подданных или взглянуть на Королеву. Шутка ли — сосчитать и продумать все на свете! Он думал о том, сколько в мире кроликов. Какой полюс больше — Северный или Южный. Можно ли научить свиней петь. Верно ли, что индюки происходят из Индии...
И, разумеется, он был ужасно раздосадован, когда однажды услышал шорох, отвлекающий от таких важных мыслей, и, взглянув, увидел прямо перед собой, на столе, Кошку.
— Кто ты такая? — сердито спросил Король.
— Просто Кошка, — ответила Кошка. — Четыре лапки, пятый хвост. Ну, и еще усы...
— Это я сам вижу! — оборвал ее Король. — Внешность для меня не имеет значения! Важно только одно — много ли ты знаешь.
— О, все на свете! — спокойно возразила Кошка, облизывая кончик хвоста.
— Как? — Король чуть не подавился от возмущения. — Тебе придется это доказать! Раз ты такая умная, как говоришь, я задам тебе три вопроса. И мы увидим... то, что увидим!
— Отлично! — согласилась Кошка. — Но потом буду задавать вопросы я. Это справедливо, верно? И кто из нас победит, тот и будет править Королевством.
— Прекрасно, — надменно сказал Король.
Кошка ответила на вопросы Короля — по-своему, конечно. Надо ли говорить, что это была особенная Кошка. Она совсем не походила на благоразумного шварцевского Кота; последнее обстоятельство никого не удивит.
Сказки всегда утверждали, что не может случиться такого, чтобы все кошки были серы. В мире нет ничего одинакового, этим он и прекрасен.
И наступил черед спрашивать Кошке. На первый вопрос вместо Короля ответил старик Министр, на второй — юный Паж.
— Я думала, вы умнее! — сказала тогда Кошка Королю. — Вот мой третий, и последний, вопрос: что сильнее всего на свете?
На этот раз у Короля не было никаких сомнений в правильности ответа.
— Тигр, — начал он неторопливо, — конечно, очень силен. Силен и слон, и лев. Не забудем о вулканах. И о морских приливах. Сильны, конечно, и лавины, и горные обвалы... И, пожалуй, землетрясения, а может быть...
— А может быть, и нет, — перебила Кошка. — Итак, кто скажет, что сильнее всего на свете?
На этот раз заговорила Королева.
— Я думаю, — сказала она негромко, — что сильнее всего — терпение. Потому что в конце концов терпение побеждает все.
Зеленые кошачьи глаза пристально взглянули на Королеву.
— Да, это так, — подтвердила Кошка.
И, обернувшись, она положила лапу на корону.
— Королевство — уже не ваше, — сказала Кошка. — И, поскольку вам они, видимо, вовсе не нужны, я беру к себе на службу этого мудрого старика — Министра, эту разумную женщину — вашу жену, и способного мальчика — вашего Пажа. Вчетвером мы прекрасно сумеем править Королевством.
— Но что станется со мной? — вскричал Король. — Куда мне идти? Как я буду жить?
— Сударыня, — поклонившись Кошке, сказал Министр, — выслушайте меня. Да, вы завоевали корону в честном поединке. Но я должен отклонить ваше предложение. Я честно служил Королю с тех дней, когда я был Пажом при дворе его отца. Будет ли он по-прежнему Королем или станет простым бродягой, я люблю его и останусь ему верен. Я не пойду с вами.
— Как и я, — сказала Королева, поднимаясь с золотого трона. — Я была с ним рядом, когда он был молод и красив. Я молча тосковала по нему все эти долгие, долгие годы. Мудр он или глуп, богат или нищ — я люблю его, и он мне нужен. Я не пойду с вами.
— Как и я, — сказал маленький Паж и заткнул пробкой бутылку чернил. — Этот дом — мой дом. И Король — это мой король, и мне жалко его. Кроме того, мне нравится наливать чернила. Я не пойду с тобой!
— Что ты скажешь на это, о Король? — спросила Кошка.
Но ответа не последовало. Потому что Король плакал.
— О мудрец, почему ты плачешь? — спросила Кошка.
Ах, вероятно, так горько он плакал оттого, что столько лет стремился к этой странной Мудреной Мудрости — как еще назвать ее? Плакал оттого, что чуть было не прошел мимо простой мудрости, которая ведома мальчику Пажу, старику и любящей женщине — Королеве. Мудрость любви, мудрость верности, простая человеческая мудрость.
... Две с половиной тысячи лет назад жил царь Кир. Он покорил Лидию, греческие колонии в Малой Азии, Вавилон и уничтожил тысячи вражеских воинов.
Об этом царе можно прочитать в каждом учебнике истории.
И в это же самое время на маленьком островке посреди Средиземного моря правил своим народом король Пансо. Он ничего не завоевывал, никого не уничтожал, и учебники истории не упоминают о странном короле.
Только, старая-старая притча — или сказка — донесла до нас его имя.
Однажды, рассказывает притча, на море разразилась буря, и царский корабль поспешил укрыться в тихой бухте маленького зеленого острова. Когда царь Кир спустился на берег, навстречу ему вышел седой старик с румяным, круглым лицом.
— Кто ты такой? — спросил царь.
— Пансо, король, — приветливо ответил старик и показал на маленькую корону, нарисованную золотым карандашом на старой соломенной шляпе, которую он держал в руке.
— А я — великий и непобедимый царь Кир! Тебе, конечно, знакомо мое имя? Во всем подлунном мире гремит хвала моей воинской доблести и мудрости правителя.
— Не извольте гневаться, ваше величество, но что мы можем знать — тут, на острове... Днем работаешь в поле, а вечером, когда сядешь отдохнуть, слышен только прибой, да шум ветра, и крики чаек...
— Покажи нам свои сокровища, что ты хранишь в королевской кладовой, — нахмурившись, перебил царь.
— Изволь! — ответил Пансо. И они спустились по земляным ступеням в подвал, где в углу стояла бочка с вином, лежали круглые сыры и румяные хлебы, а на крюках, вбитых в стену, висели окорока и колбасы.
— Это все твое королевское достояние? — спросил царь.
— О да! До осени хватит, а там поспеет виноград, и мы надавим нового вина.
— Вижу, ничего ты не скопил, — презрительно сказал царь, когда они вышли. — Но, может быть, ты обладаешь хоть мудростью?! Покажи мне Законы, по которым живет твой народ.
В это время двое пришли судиться.
— Король Пансо! — сказал один из пришедших. — Я купил у этого человека пустошь, стал там рыть землю и нашел клад. «Возьми себе, — говорю я ему, — этот клад: я купил у тебя пустошь, но не золото».
Другой отвечал:
— Я, как и ты, боюсь греха присвоения чужого. Я продал тебе пустошь вместе со всем, что находится на ней, от недр земных до высот небесных.
— Имеешь ты сына? — спросил король одного из них.
— Имею.
— А у тебя дочь есть? — спросил король другого.
— Есть.
— Пожените их друг на друге, а клад отдайте им в приданое.
Видя удивление царя Кира, король Пансо спросил его:
— Разве нехорошо я рассудил этих людей? А как в вашей стране решили бы подобный спор?
— Я, — ответил Кир, — отрубил бы обоим жалобщикам головы, а клад забрал бы в царскую казну.
— Светит ли солнце в вашей стране? — спросил Пансо.
— Светит, — ответил Кир.
— И дожди идут?
— Идут.
— А есть ли скот у вас?
— Есть.
— Проклятья достойны люди у вас, и только ради животных солнце светит и дожди идут у вас, — тихо сказал Пансо, бесстрашно глядя в глаза грозному царю.
... Хотя это не имеет прямого отношения к мудрости, может быть, следует заключить главку тем, что говорил о сказке музыкант и писатель Эрнст Теодор Амадей Гофман, известный всем детям, потому что он написал много прекрасных сказок, в том числе сказку «Щелкунчик», и известный взрослым, потому что все мы были детьми.
Одному человеку сказка нужна просто для отдыха, «чтобы потом, — как говорил Гофман, — с удвоенным вниманием вернуться к настоящей цели своего существования, — быть зубчатым колесом и исправно мотаться и вертеться». А другому?.. Другой — музыкант.
Первому не так уж важно, для чего именно «мотаться и вертеться», важно, чтобы исправно.
А второй слышит — для чего.
Первый нарежет лозняка у тихой речки, отнесет на рынок и продаст. Не все ли ему равно, замочат ли этот лозняк в соленой воде и из него получатся прочнейшие розги. Или чуткие и нежные пальцы сплетут из лозняка корзину, куда будут опускаться звонкие ягоды земляники, матовая брусника, черная, как агат, черника и цветы — ведь не так давно в лозняке пели соловьи.
Первый просто делает свое дело: исправно мотается и вертится. А второй? Второй — сказочник и музыкант. Он слышит, слышит музыку того, что творят человеческие руки, он слышит и свист розог, и песню цветов.
Как знать, может быть, и это поможет нам понять, кто же на свете безумен, а кто мудр...
Глава четырнадцатая. Антуан де Сент-Экзюпери.
Из страны детства
Он говорил:
— Я из моего детства. Я пришел из детства, как из страны.
Он поверял это лучшим друзьям, словно самую большую тайну. И, прислушиваясь к тому, как он произносил «я из моего детства», люди понимали, что этим он объясняет — и самому себе, и всем, кого любит, — почему разумным советам он так часто предпочитает решения, на взгляд многих, почти безрассудные.
Он шел по жизни такими трудными путями вовсе не оттого, что любил риск.
«Суть не в том, чтобы жить среди опасностей. Это всего лишь громкая фраза. Тореадоры мне не по душе. Я люблю не опасности... Я люблю жизнь», — писал он.
В Африке Сент-Экзюпери четырнадцать раз спасал друзей, потерпевших аварию над пустыней и захваченных в плен дикими племенами. Он писал тогда домой, во Францию: «Говорят, будто в кочевых племенах брожение. И пилота, который попадет в аварию, убьют кочевники.
«Убьют кочевники». Не хочу, чтобы эту фразу бормотала ночь. Ночью все мне кажется таким хрупким. И то, что связывает меня со всеми, кого я люблю, кто спит. Я тревожнее сиделки, когда я бодрствую в постели по ночам».
Когда его друг Гийоме разбился в Кордильерах, он день за днем кружил над мертвыми горными пиками, ныряя к самому дну ледяных ущелий.
— Лежа в снегу, я тебя видел, но ты меня не замечал, — сказал потом чудом спасшийся Гийоме.
— Как же ты мог знать, что это я тебя ищу?
— Кто еще решился бы летать так низко в этих горах?! — ответил Гийоме.
Сент-Экзюпери потерпел в жизни пятнадцать аварий. Первая из них произошла, когда во время народного гулянья в Версале он проделывал головоломные трюки. Машина начала разваливаться в воздухе.
«Мне-то крышка, но не падать же на праздничную толпу», — успел подумать он и нашел в себе и самолете силы дотянуть до места, где в случае катастрофы пострадал бы только он один.
Как-то ему передали слова полубезумной старухи: «Боги уже слишком стары, и теперь я должна заботиться о мире».
Как близка была ему мудрость этих слов. Перед концом жизни он вложил их в уста одному из своих любимых героев, вождю берберского племени: «Сердце мое обременено тяжестью всего мира, словно на меня легла забота о нем».
Сент-Экзюпери сотни раз встречался с опасностью, но когда справедливости можно было достигнуть иначе, это доставляло ему огромную радость. Много лет без надежды томился в неволе негр Барк, похищенный кочевниками. Экзюпери выкупил Барка и помог ему уехать на родину — к жене и детям. Как-то в Южной Америке он случайно встретил нищего старика француза, эмигрировавшего в поисках счастья в Новый Свет и доживающего свой одинокий век на чужбине. Он купил бедняку билет на корабль в Марсель и отдал последние деньги.
Может быть, единственный способ убедиться в реальности чудес — самому их творить; пусть это будут даже самые малые чудеса.
В Орконте фермерша тащила упирающуюся Сесиль, маленькую девочку, с которой Экзюпери дружил, рассказывает биограф писателя Марсель Мижо.
— В чем дело? — спросил Антуан, склоняясь над малышкой.
Вместо плачущей девочки ответила мать:
— «Дай ей зонтик»! Для детей нет зонтиков! Не правда ли?
— Право, не знаю, мадам! — с таким сомнением в голосе ответил Антуан, что девочка тотчас же перестала плакать.
На следующий день он пришел на ферму с маленьким зонтиком.
Может быть, ему вспомнилась и встреча с Сесиль, когда в последние годы жизни он писал: «Маленькая девочка в слезах. Эту девочку надо утешить. Только тогда в мире порядок».
Он научил трехлетнего мальчика пускать мыльные пузыри. Но, ударяясь о стену, пузыри лопались. Мальчик плакал. Несколько дней Экзюпери ходил сумрачный. Потом прибавил в мыльную пену каплю глицерина. Теперь пузыри отпрыгивали от стены, как мячики; они стали ярче и прекраснее. Ему принадлежало много «взрослых» изобретений, но прыгающими мыльными пузырями он гордился больше, чем всеми другими своими открытиями.
В Нью-Йорке, куда Экзюпери приехал после оккупации фашистами Франции, он ночью поднимался от письменного стола, где лежали страницы «Маленького принца» — приходилось работать по ночам, чтобы закончить сказку к рождеству, в тот 1942 год рождественский подарок был особенно необходим людям, — подходил к окну и отсюда, с пятнадцатого этажа, один за другим пускал в свободный полет игрушечные бумажные вертолеты.
Иногда их подхватывал ветер и уносил вверх, к звездам. Иногда они устремлялись в море, или даже за море, на его родину, или, медленно снижаясь, плыли между домами спящего города.
Как-то он вышел погулять вместе со своей женой Консуэло. Впереди шел ребенок и бережно нес вертолет. Антуан сразу узнал творение своих рук и, просияв особой своей, мальчишески победительной улыбкой, взглянул на жену.
Собственно, вся его жизнь протекала, как один долгий-долгий полет из старого замка Сен-Морис с круглыми башнями, где он жил ребенком, к той маленькой звездочке, астероиду В-612, где родился созданный его воображением Маленький принц. Чем дальше и безвозвратнее отдалялось детство реальное, тем ближе становилось детство волшебное; и как они повторяли одно другое...
Он писал матери, навсегда оставшейся для него самым близким человеком: «Мир воспоминаний детства, нашего языка и наших игр... всегда будет мне казаться безнадежно более истинным, чем любой другой.
Сказки матери, воздух старины, которым дышали камни замка, собственное воображение маленького Сент-Экзюпери — Тонио, как звали его домашние, — и его сестер наполняли детство видениями.
Вечером дети забирались в темный коридор и, тесно прижавшись друг к другу, усаживались на одном из огромных, окованных железом сундуков. Мимо несли в гостиную лампы, и каждая отбрасывала причудливые тени, похожие на листья пальмы. В детской растапливали печурку.
«Ничто и никогда так не убеждало меня в полнейшей безопасности мира, чем эта печурка, — вспоминал Экзюпери. — Когда я просыпался ночью, она гудела, как шмель.
Сундуки таили чудеса — каждый свои. Вот в этом Синяя Борода из сказки Перро хранил угасшие закаты, безмолвные свидетели его преступлений.
Вот в этом ботфорты, плащи, шитые золотом перевязи времен трех мушкетеров или гораздо более древние».
Род Сент-Экзюпери ведет начало от рыцарей Грааля. Согласно легенде, эти рыцари жили тысячу лет назад. В старой «Книге об ордене рыцарства» Рамона Лулля говорилось, что «обязанность рыцарей в том, чтобы защищать вдов, сирот, обиженных и бедняков». Рыцари Грааля по очереди отправлялись из своего замка в странствие по миру, чтобы совершать подвиги добра. Для этого, говорит легенда, им была дарована вечная юность.
Тонио закутывался в плащ, пахнущий пылью, нафталином, другими столетиями, и погружался в сны наяву.
Иногда представляется, что граалевский плащ навсегда незримо остался на его плечах, храня от осмотрительной и себялюбивой взрослости и даря силы до последнего дыхания воевать за справедливость, что этот плащ на плечах Маленького принца из его сказки.
От рыцарских мечтаний осталось одно из важнейших слов его языка (помните — «наш язык», писал он матери) — учтивость. Оно привлекало Тонио, как и взрослого Сент-Экзюпери, негромкостью, затаенностью.
Когда в войну Экзюпери уговаривали, почти умоляли перестать летать: «Вам нельзя и по возрасту, и потому, что вас так изломало в предыдущих авариях — в случае беды вы не сможете даже воспользоваться парашютом, — и потому, главное, что ваш талант так необходим людям», он отвечал: «Не летать? Это было бы неучтиво по отношению к моим товарищам-пилотам».
В одной из книг он написал об этом же: «Единственное действенное орудие — самопожертвование».
Вспоминая детство, он писал матери: «Вы склонялись над нами, над нашими кроватками, в которых мы отправлялись навстречу завтрашнему дню, и, чтобы путешествие было спокойным, чтобы ничто не тревожило наши сны, вы разглаживали волны, складки и тени на наших одеялах. Вы смиряли наши кроватки, как божественный перст смиряет бурю на море».
На смену вечерним и ночным приходили чудеса утренние и дневные.
«Мы заключали союз с липами, стадами... певуньями-лягушками, — вспоминает сестра Тонио, Симона Сент-Экзюпери. — С сеновала, где черная кошка кормила котят, мы переселялись в огород. Мы пытались воспитывать кузнечиков — воинов в латах, мы ловили их по вечерам на окраине их владений и сажали в коробки с отверстиями для воздуха, но они хирели и умирали. Улиток ничуть не привлекали домики, слепленные из глины, — они решительно уползали, оставляя за собой скользкие дорожки».
Так пришло другое познание детства, и оно выразилось в важнейшем слове его языка — приручать. Надо не только давать живому существу вволю корма, строить удобные жилища, а приблизиться к нему, понять его, сделать так, чтобы оно радовалось тебе, чтобы ты приносил ему счастье; не просто давать то, что необходимо для жизни — это может всякий, — а приручать — это всегда требует таланта, и не обычного, а самого редкого — таланта сердца.
Потом, в течение жизни, он приручал тюленя и пуму, прилетевшую с ним из Южной Америки, африканского львенка — зверей, как и людей, маленьких и больших.
Работая начальником аэродрома в Кап-Джубе — поселке, затерянном в африканской пустыне, он писал матери: «Приручать — это здесь моя задача. Мне она подходит — славное слово! Хамелеон похож на допотопное чудовище. У него чрезвычайно медлительные жесты, почти человеческая осторожность. Он погружен в бесконечное созерцание, часами оставаясь неподвижным. Он выглядит так, словно явился из тьмы времен. По вечерам мы с ним вдвоем мечтаем... Мамочка, ваш сын очень счастлив, он нашел свое призвание».
«Приручать»... Вслушайтесь в это слово, и вы почувствуете его мудрость: дружить, влюблять и влюбляться, связывать живой мир с людьми, и людей связывать между собой — верностью, готовностью в любое время прийти на помощь.
Он писал: «Я люблю, когда могу дать больше, чем сам получаю... Я люблю в человеке то, что могу приподнять его лицо, погруженное в воды реки. Люблю извлечь из него улыбку. Только душа, стремящаяся вырваться из заточения, волнует. Стоит продержать погибающего хоть три секунды над водой — и в нем просыпается доверие. Ты не представляешь себе, каким становится его лицо. Возможно, у меня призвание открывать родники».
Кочевники, привыкшие отстаивать свою правоту пулями, опускали ружья, завидев вдалеке, среди песчаных барханов, его высокую, неуклюжую фигуру: они были приручены.
Он писал одной из своих подруг — Ринетт: «Вы меня приручили, и я сразу стал таким кротким».
После вынужденной посадки в Патагонии он нашел приют в домике, как будто бы заблудившемся на этой неласковой земле. Там хозяйничали две милые девушки. Потом он вспоминал о них:
— Девушки смотрят и думают: «Стоит ли принять меня в число ручных зверей». Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лису, обезьяну и пчел.
В сказке Сент-Экзюпери мудрый Лис скажет Маленькому принцу:
— Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мной. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь точно озарится солнцем. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав людские шаги, я всегда убегаю и прячусь под землю. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом — смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И так чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру... Я узнаю цену счастья.
Удивительная сила заключена в словах. Из старых, возникших тысячелетия назад слов вновь и вновь слагаются клятвы в дружбе, признания в любви, стихи, сказки.
Но иногда, очень редко, появляются люди, меняющие саму основу бессмертных слов, открывающие в них новый смысл.
Таким человеком был Антуан де Сент-Экзюпери.
И, повторяя слово «приручать», все мы, живущие на земле, будем вспоминать Экзюпери.
И заново будем задумываться над тем, что главное наше предназначение — сокращать расстояния, приближаться ко всему живому на земле.
Повторяя простое слово «учтивость», мы будем думать о том, что ответственны не только перед человечеством и своей страной, ее обычаями, но и перед каждым, с кем оказались рядом. Учтивость советует, открывая дверь, пропустить друга в дом впереди себя, но, когда идет бой, та же учтивость велит быть впереди друга.
«Наш язык». Когда думаешь об этом языке, из многих его слов выступает еще и третье, тоже такое важное для Тонио, — бежать.
Мудрость бегства
Вспоминая детство, Экзюпери писал: «Бежать — вот самое главное. И в десять лет мы находили прибежище среди чердачных стропил... Внизу в гостиных болтали гости, танцевали красивые женщины... А мы тут, наверху, видели, как в раздавшиеся швы крыши просачивалась синяя ночь. Этого крошечного отверстия было достаточно, чтобы через него могла просочиться одна-единственная звезда. Сокровище взрывало балки. Быть может, звезда — это маленький твердый алмаз. В один прекрасный день мы отправимся в поиски за ним на север, или на юг, или внутрь самих себя. Бежать».
«Бежать»
Куда, зачем?
Бежать из дома — единственного твоего, — где каждый камень, каждая половица, скрипнувшая под ногами, рассказывает свое предание, а ночью гудит накаленная печь и ласковое ее бормотание входит в сон; суждены ли тебе еще такие сны...
Бежать из дома, где мама — источник всего. Бежать, чтобы вечно мечтать вернуться, даже если это станет невозможным; в войну военный пилот-разведчик Сент-Экзюпери будет просить командование все полеты к району Аннеси, в ту сторону Франции, где прошли первые годы жизни, поручать ему.
«Завтра я полечу километров на пятьдесят в вашу сторону, к Сен-Морису, чтобы вообразить, что я и в самом деле направляюсь домой», — напишет он с фронта матери.
Он и погибнет над этой «домашней» землей, оккупированной фашистами.
Бегство — стихия детства. Только успел мастер Вишня выточить из обыкновенного полена длинноносого Пиноккио, о котором рассказано в чудесной книге итальянского писателя Коллоди, как деревянный человечек бежал от доброго своего отца. И вовсе не оттого, что он такой уж очень неблагодарный. Просто он ребенок, мальчик, хоть и деревянный.
И разве странствия — настоящие или мечта о них — входят в судьбу одних лишь деревянных человечков? Послушный Сид останется под боком у доброй тетушки Полли с ее сахарницей. А Том Сойер и Гек Финн убегут на необитаемый остров, а потом спустятся на плоту по Миссисипи, спасая от рабства негра Джима.
Принц меняется судьбою с нищим, не страшась того, что предстоит ему в новом существовании. Юноша Алеша Пешков, будущий писатель Максим Горький, начинает странствия по Руси, испытания которых он потом назовет «мои университеты».
Взрослый — речь идет о сытом взрослом, никуда не стремящемся, — войдет не спеша в предназначенную ему квартиру, оглядится и останется там навсегда: «От добра добра не ищут». Ребенок — человек, поднимающийся вверх. Жизнь ему драгоценна именно тем, что каждый день, даже каждый час она приносит новое.
Летчик Сент-Экзюпери ехал на автобусе к аэродрому и, взглянув на соседа, старого чиновника, подумал: «Никто никогда не помог тебе спастись бегством, и не твоя в том вина. Ты построил свой тихий уголок, замуровал наглухо все выходы к свету, как делают термиты. Ты свернулся клубком, укрылся в обывательском благополучии, в косных привычках, в затхлом провинциальном укладе; ты воздвиг себе этот убогий оплот и спрятался от ветра, от морского прибоя и звезд. Ты не желаешь утруждать себя великими задачами, тебе и так немало труда стоило забыть, что ты — человек. Нет, ты не житель планеты, несущейся в пространство. Глина, из которой ты склеен, высохла и затвердела, и уже никто на свете не сумеет пробудить в тебе уснувшего музыканта, или поэта, или астронома, который, быть может, жил в тебе когда-то».
В неподвижном благополучии то светлое, моцартовское, что непременно есть в каждом и должно, должно прорваться, — засыпает; оно может и умереть. Значит — бежать от убивающего покоя, от сегодняшнего своего существования к тому, чем ты должен быть завтра.
«Медленно развиваясь наподобие дерева, жизнь передавалась из поколения в поколение, и не только жизнь, но и сознание, — писал Экзюпери. — Какая удивительная эволюция! Из расплавленной лавы, из звездного вещества, из чудом возникшей живой клетки появились мы, люди, и мало-помалу достигли в своем развитии того, что можем сочинять кантаты и взвешивать далекие светила... Процесс сотворения человека далеко не закончился».
Мы еще в пути. Зеленой веточкой возникает из дерева жизни ребенок и устремляется в том же направлении — к свету.
В сказке Мориса Метерлинка «Синяя птица» сказано о Царстве Нерожденных Душ: там душа ждет своей очереди и, когда младенец первый раз крикнет, по требовательному его зову вселяется в него. Экзюпери мысль этой сказки чуть ли не враждебна. «Было бы слишком просто получать сразу готовую душу», — повторяет он; это было бы легко, но, пожалуй, и унизительно. Человек сам «выделывает» себя, говорит Достоевский, писатель, которого Экзюпери так любил и понимал. Бывает, что творение себя рано прекращается, душа замуровывается, отъединяясь от мира.
— Отчего человеку так больно расти? — спрашивает Экзюпери и отвечает: — Может быть, оттого, что привычки окружающих, стиль жизни, в которой играет главную роль стремление к удобству, к благам, тянут молодую душу назад, заражают ее эгоизмом, тщеславием, собственничеством? И живая душа, противясь ветхости привычного окружения, причиняет сознанию боль.
Но бывает, что самосоздание — прекраснейшее, на что способен человек, — продолжается до последнего часа. Тогда до самого конца человек остается в стране детства, самая суть которого в нетерпеливом движении вперед. Так сложилась судьба Сент-Экзюпери.
А пока он еще ребенок. И по мере того как слова в его сознании приобретают особый смысл, возникает потребность писать. Во время школьных каникул Тонио до глубокой ночи сочиняет стихи. Потом он, завернувшись в скатерть, врывается в спальню сестер:
— Вставайте! К маме!
— Но, Тонио, мама спит.
— Мы разбудим ее.
Если что-то возникло в тебе, оно должно вызвать ответное тепло.
«Я не умею жить вне любви», — писал Экзюпери.
И в Нью-Йорке квартира Экзюпери будет также пробуждаться среди ночи детски требовательным зовом:
— Консуэло, вставай! Мне скучно.
Консуэло — его жена — послушно поднимется, сыграет с ним партию в шахматы — но это только предлог, — а потом будет тихо слушать новые строки «Маленького принца», где поодаль от всех роз, существовавших в старых сказках, одиноко возникнет еще одна, дотоле неведомая: хрупкая, гордая, кто знает, какими ветрами занесенная на планету Маленького принца и в его сердце, беззащитная — но она никогда не признается в этом и гордо укажет на четыре шипа, которыми вооружила ее природа.
Роза приручила Маленького принца, как Консуэло приручила Экзюпери — своей красотой, гордостью и беспомощностью; самое прекрасное, что может подарить любимая, — это потребность в тебе, в твоей защите, слова «ты мне нужен».
«Мы очень скоро находим приятелей, помогающих нам, и лишь очень медленно заслуживаем друзей, требующих нашей помощи», — напишет Сент-Экзюпери. «Нужно долго-долго кормить дитя, прежде чем оно начнет предъявлять требования. Нужно долго дружить с человеком, прежде чем он предъявит к оплате свой счет дружбы».
Пока в памяти как бы звучат строки «Маленького принца», спрашиваешь себя: почему воображение так свободно переносит нас от детства Экзюпери к последним годам его жизни?
И догадываешься: все дело в том, что ничего главного не изменилось в Тонио, хотя он успел стать бесстрашным летчиком и писателем, известным всему миру.
... Тонио приходит к матери с пачкой страничек. Это сказка. Две сказки суждено было ему создать. В первой — предчувствие собственного жизненного пути; в последней, не похожей ни на одну другую, он подведет итоги жизни.
И как бы оставит людям завещание.
Вот первая сказка... Неспокойное существование суждено цилиндру, изготовленному на шляпочной фабрике. В роскошном парижском магазине нарядный головной убор покупает некий Матье. Когда Матье прогуливался по набережной Сены, налетел ветер, сорвал цилиндр с головы и швырнул в реку. Старьевщик выловил его из реки, и после многих приключений цилиндр попадает в Африку к царю Бум-Буму, где становится «священной реликвией» племени.
И жизненный путь Экзюпери приведет его в Африку. Но это пока еще никому не известно.
Тонио отрывается от рукописи и смотрит на мать широко расставленными, доверчивыми глазами.
— Ты станешь писателем? — спрашивает она.
Лицо его принимает отсутствующее выражение; недаром в колледже его прозвали «Лунатик».
— Прежде чем писать, нужно жить, — скажет он потом своей подруге Ринетт.
Когда жена Чарльза Линдберга, отважного американского летчика, первым пересекшего Атлантический океан, напишет книгу о своем муже, Сент-Экзюпери в предисловии скажет: «Она не рассказывает о самолете, а как бы самолетом пишет». Все, что ему суждено создать, Сент-Экзюпери прежде напишет самолетом, трудом гражданского летчика, завоевывающего для авиации ночь, и летчика военного, завоевывающего для человечества свободу.
«Прежде чем писать, нужно жить». «Слова не имеют ценности, если они не родились из долгого пути под звездами». Это сказал Экзюпери.
Славное ремесло
Наступило время выбрать дело жизни, «ремесло, достойное человека», как он говорил сам себе.
В 1780 году граф де Грасс собрал добровольцев, французских моряков, и на корабле «Тритон» отправился через океан, чтобы воевать за независимость Америки. Среди других под началом у де Грасса был Жорж Александр Сезар де Сент-Экзюпери.
Быть может, пример предка побудил Антуана Экзюпери принять решение стать морским офицером. Тщательно подготовившись, он идет экзаменоваться в военно-морское училище. Но кроме специальных предметов, предстоит написать сочинение, и это неожиданно оказывается самым трудным. Тема вступительной работы: «Впечатление эльзасца, возвращающегося в родную деревню после войны четырнадцатого года и присоединения Эльзаса к Франции».
Но откуда юноше, никогда не бывавшему в этих краях, знать, о чем думают эльзасцы? И, вероятно, очень различны переживания живущих в Эльзасе французов и немцев.
Инстинктом он понимает, что не настроения эльзасца и совсем не собственные его размышления интересуют училищное начальство, а единственно — способен ли будущий офицер всегда и во всех обстоятельствах думать согласно с тем, что предписано.
Так вот он решительно на это не способен.
— За всю мою жизнь я не написал ни строчки, которую мне нужно было бы оправдывать, замалчивать или перевирать, — скажет он впоследствии.
И когда перед войной с фашистами Сент-Экзюпери, попав в Германию, на все вопросы, обращенные к молодым немцам, услышит один ответ: «Наш фюрер сказал», он навсегда решит, что в мире, где воцарился бы Гитлер и ему подобные, для него нет места.
«Уважение к человеку! Уважение к человеку!» — напишет он. — «Это и есть краеугольный камень. Когда нацист уважает лишь подобного себе нациста, он вместо человека создает на Тысячелетия робота в муравейнике».
В войну товарищи с любовной насмешкой будут называть Антуана «мыслящая цель», «мечтающая цель», но полет за полетом убедит и самых маловерных, что тот, кто мыслит и мечтает, в десятки раз опаснее для фашистов, чем простой исполнитель приказов.
— По нему бьют скорострельные зенитные пушки, на его самолете скрещиваются трассы пулеметных очередей. А он — мыслящая цель, — искусно увертываясь от них и выписывая своей машиной крутые зигзаги, непрерывно все подмечает, — рассказывал о военных разведывательных полетах Сент-Экзюпери его друг Жорж Пелисье.
... Отвергнутый тогда, в юности, морским ведомством, Сент-Экзюпери становится летчиком и чувствует, что нашел истинное призвание.
— Я нуждаюсь в этом. Я испытываю в этом одновременно физическую и душевную необходимость. Какое славное ремесло! — будет он повторять.
В 1921 году французский авиапромышленник, талантливый инженер Латекоэр, организует почтовую линию Тулуза — Дакар, из Франции в Марокко через Испанию, а потом почтовые линии в Южной Америке. Сент-Экзюпери становится пилотом компании Латекоэра «Аэропосталь».
В основе замысла Латекоэра, казалось бы, простая экономия времени. Самолету, даже тогдашнему, понадобится в семь раз меньший срок, чтобы доставить письмо из Марокко во Францию. Но не только это принесли в жизнь почтовые самолеты.
Экзюпери родился в 1900 году. Наступающий век был крылатым. В войну четырнадцатого года люди впервые почувствовали, что крылья могут привести человечество и к гибели; надо открыть для них иные цели.
Друг Экзюпери по авиалинии, Дидье Дора, участвовал в июльском наступлении восемнадцатого года. Из шестидесяти четырех летчиков-бомбардировщиков одному Дора посчастливилось вернуться. После войны он и его друзья испытывали величайшую потребность доказать — самим себе прежде всего, — что самолеты не орудие убийства, не хищные птицы, что люди недаром столько столетий — еще от Икара — мечтали о крыльях.
Полеты над Сахарой и над морем очень опасны. Черт с ней, с опасностью, лишь бы во имя жизни.
— Они несли бомбы, — говорил Латекоэр. — Им надо скорее научиться перевозить почту.
На одном из самолетов Экзюпери увидел изображение аиста — значок военной эскадрильи.
«Пусть аист вспомнит свое предназначение», — подумал он.
И еще: век, с которым Антуану де Сент-Экзюпери довелось одновременно появиться на свет, был веком Скорости. Война и смерть подчинили Скорость себе. Наступал черед Скорости послужить жизни.
В сказке Маленький принц попадет на крошечную, очень быстро вращающуюся планетку.
— Тяжелое у меня ремесло, — скажет ему фонарщик — обитатель планеты, утирая пот со лба. — Когда-то это имело смысл. Я гасил фонарь по утрам, а вечером зажигал. Оставался еще день, чтобы отдохнуть, и ночь, чтобы выспаться...
— А потом уговор переменился? — спросил Маленький принц.
— Уговор не менялся, — ответил фонарщик. — В том-то и беда! Моя планета год от году вращается все быстрее, а уговор остается прежний.
Если подумать, в этом труде без отдыха есть прекрасный смысл. Прислушайся, вглядись: все приносит добрые вести тому, кто сумеет их разгадать, или предупреждает об опасности.
Человеку кажется, что лампа, которую он зажег, освещает только его стол. Но свет ее летит в пространство. «Как призыв», — напишет Экзюпери.
Ночью в пустыне он выйдет из дома. Бабочки и стрекозы ударятся о фонарик. «Эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока, она вымела зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена... Неистовая радость переполняет меня — я почуял опасность, как дикарь, чутьем...»
Все переговаривается между собой: человек с другим человеком, люди и природа; мир пронизан нитями взаимных общений, скреплен ими. Славно, что фонарщик на крошечной планетке выполняет уговор, как это ни трудно ему.
И славное ремесло у почтового летчика.
— Стоит ли рисковать жизнью ради бумажек — писем? — спрашивали себя пилоты линии.
«Понемногу они почувствовали, что среди писем непременно найдется по меньшей мере одно, которое сообщит хоть крупицу мира и надежды кому-то, охваченному отчаянием», — напишет Сент-Экзюпери.
Крылатый век выделывал свою душу; чем могущественнее он был, тем важнее это становилось для самого существования человечества.
Надвигался фашизм. «Поборники новой религии не допустят, чтобы многие... рисковали жизнью ради спасения одного, — предупреждал Экзюпери. — Эти люди прикончат тяжелораненого, если он затрудняет передвижение армии». И еще: «Мораль эта (фашизма) объясняет, почему личности следует принести себя в жертву обществу. Но она не сумеет объяснить, почему коллектив должен жертвовать собой ради одного человека — почему тысячи умирают, чтобы спасти одного от тюрьмы или несправедливости... А между тем именно в этом принципе, который так резко отличает нас от муравейника, и заключается прежде всего наше величие».
«Скорбь одного равна скорби всего мира», — писал Сент-Экзюпери.
В небе. Маленький принц
Две — такие короткие — жизни дано было ему прожить: одну на Земле Людей, другую — на небе; хочется сказать — Небе Людей.
Друг Сент-Экзюпери летчик Анри Гийоме учил Антуана видеть Испанию, над которой пролегала трасса, глазами пилота.
Странно, но, пожалуй, скорее всего, земля Гийоме походила на детский рисунок: ребенок словно не замечает ненужное, но выделяет самое для него главное — так кошка становится больше дома.
— Берегись ручейка западнее Мотриля, — говорил Гийоме, показывая еле различимую голубую жилку. — При неумелой посадке он превратит самолет в сноп огня.
«О да, я буду помнить мотрильскую змейку», — напишет Экзюпери.
Злая змейка еще раз мелькнет в воображении писателя, когда в войну, далеко от Испании, он станет думать о последних минутах Маленького принца.
Гийоме рассказывал не о Лорке — большом городе, но о маленькой ферме возле Лорки. О ее хозяине. И хозяйке. Их дом стоял на горном склоне, их окна светили далеко.
«Эти люди всегда готовы были помочь людям своим огнем», — писал потом Экзюпери.
— Он забирался в кабину самолета движениями немного тяжеловесными, движениями невозмутимого великана; казалось, он усаживается в кресло пилота, чтобы поразмыслить, — рассказывает лучший друг Антуана Леон Верт. — Самолет был для него способом вернуться в волшебное прошлое, частью волшебной сказки. Так однажды в летний день он взял на борт «симуна» моего сына Клода, которому было тогда двенадцать лет, поднялся с ним в воздух и, пролетев с полсотни километров, описал три или четыре круга над старым домом и садом, где играл и мечтал, когда был маленьким, — свое детство он соединял с детством восхищенного пассажира... Небо Людей. Небо Экзюпери. Кажется, что точнее всего назвать его — Небо Детства.
Да, Небо Детства... Страну детей, где есть все или почти все, о чем мечтает ребенок, и от которой всякого рода «воскресные школы» благопристойных детских книжек отдалены на космические расстояния, открыл флорентинец Коллоди — читатели его знают по книге «Приключения Пиноккио».
За это географическое открытие Пиноккио, первому герою сказки, вступившему на берег Страны Детей (она называлась «Страна Развлечений»), сооружен близ Флоренции памятник.
Уговаривая Пиноккио отправиться в Страну Развлечений, его друг Фитиль рассказывал этому доверчивому деревянному человечку:
— Там нет ни школ, ни учителей, ни книг. Там не надо учиться. В четверг там выходной день, неделя же состоит из шести четвергов и одного воскресенья. Представь себе, осенние каникулы начинаются там первого января и кончаются тридцать первого декабря... Так должно быть во всех цивилизованных странах.
Пиноккио убедился, что Фитиль не обманул его.
Население этой удивительной страны, свидетельствует Коллоди, состояло исключительно из детей. На улицах царило такое веселье, такой шум и гам, что можно было сойти с ума. Всюду бродили стаи бездельников. Они играли в орехи, в камушки, в мяч, ездили на велосипедах, гарцевали на деревянных лошадках, бегали переодетые в клоунов, глотали горящую паклю, гоняли обручи, разгуливали, как генералы, с бумажными шлемами и картонными мечами, смеялись, кричали, хлопали в ладоши, свистели и кудахтали. А на стенах домов можно было прочитать написанные углем лозунги: «Да здравствуют игружки», «Мы ни хатим ф школу!», «Далой орихметику!»
— Ах, какая прекрасная житуха! — говорил Пиноккио, когда встречал Фитиля.
Но прошло некоторое время, и нечто странное случилось с Пиноккио. На теле его выросла серая шерстка, уши удлинились, он стал ходить на четвереньках, и вместо слов из его горла вырывался пронзительный рев.
А еще через известный срок ко всем развлечениям, которыми так богата эта страна, прибавилось еще одно, и яркая цирковая афиша известила мальчиков:
Сегодня будет впервые представлен публике
прославленный ОСЛИК ПИНОККИО,
называемый «Звезда танца».
Да, ничего не поделаешь, и у Страны Развлечений свои недостатки.
Но все-таки первая Детская Земля была открыта. И люди уже не должны были забыть и не забудут о существовании отличного от Мира Взрослых Мира Детей, отныне владеющего странами, островами и полуостровами, а не только чердаками, пустырями и дворовыми закоулками. И, раз начавшись, история детских географических открытий не прервется. Вскоре английский сказочник Джеймс Барри откроет остров Гдетотам.
Летающему мальчику Питеру Пэну, хозяину острова, так же, как Пиноккио, воздвигнут памятник на его родине.
На острове все радует глаз. Лес, за ним прелестная лагуна.
Тут, рассказывает Джеймс Барри, нет скучных пауз между приключениями, тут чудесам тесно — словом, все как надо. В лесу и заливе — лето, а на реке — зима; на острове все четыре времени года могут смениться, пока кувшин наполнится родниковой водой.
Тут светящиеся пятнышки скользят в траве — это просто-напросто феи. Среди деревьев крадутся к водопою львы, а по глади залива скользит корабль пиратов, еще более опасных, чем звери; но Питер Пэн и его друзья победят пиратов. Тут обитают и благородные индейцы.
Но почему же, почему среди непрерывной смены удивительнейших приключений вдруг где-то там охватывает неясная тоска?
Может быть, дело в том, что на острове все совершается понарошку?
Задумывались ли вы, отчего ласточки вьют гнезда над нашими окнами?
— Так они могут услышать настоящие сказки, — отвечает Джеймс Барри.
И мальчиков острова Где-то там влечет настоящее: настоящая сказка и настоящая жизнь. Не та, что «понарошку», и даже не просто «взаправдашняя», — настоящая! Через некоторое время после Джеймса Барри польский сказочник Януш Корчак откроет реальное — хотя и сказочное — королевство, где правит король-ребенок Матиуш Первый; но об этом в другой главе.
Волей и фантазией Экзюпери над реальным детским миром, уже различаемым отчетливо, поднимается Небо Детства.
Король Матиуш и Маленький принц в нашем воображении сблизятся, как друзья, предназначенные друг другу, но, к беде, не встретившиеся.
... Шесть тысяч пятьсот часов провел Антуан де Сент-Экзюпери в самолетах — десять месяцев дневного и ночного полета, жизни в небе. Если вспомнить, насколько небесные скорости превосходят земные, десять месяцев обернутся годами.
Отчего мы стареем? Оттого, что живем среди других стареющих людей. Экзюпери обычно летал один.
Чувство разлуки, тревоги за близких начиналось с момента взлета и не оканчивалось посадкой: ведь всегда впереди новый полет, может быть, без возвращения на землю.
Он не взрослел — если взрослость измерять отдалением от детства — оттого, что, летая, жил в воспоминаниях, в образах прошлого. В небе мысли о друзьях и близких да еще управление самолетом занимали его настолько, что не оставалось времени стареть. Да и о самолете иной раз забывалось, хотя он был одним из лучших летчиков своего времени.
Однажды, когда самолет его набрал высоту, что-то обрушилось на землю и разбилось; товарищи с ужасом подумали: конец, самолет разваливается. Но оказалось, что просто он забыл запереть дверцу и ветер ее оторвал.
Нет, он не был рассеян, но поднимался он в небо особое, неведомое ни одному другому человеку, а там столько требовало его внимания.
Он набирал высоту, как в детстве взбегал на чердак Сен-Мориса, где между стропил проскальзывали и падали вокруг разноцветные звезды. Небо изгибалось Кровлей старого замка или расстилалось лугом, как бы тоже увлеченное воспоминаниями.
— Если бы среди облаков росли цветы, — сказал один из его друзей, — он бы бросил штурвал и сорвал один из них.
— Я родился, чтобы стать садовником, — повторял Экзюпери.
— Сейчас я подарю тебе собор, — говорил он пассажиру.
Смотрел на часы, нажимал на рукоятку, пронизывал самолетом слой облаков — и с улыбкой преподносил другу встающую под крылом готическую башню. Он играл.
— У него для всех на свете находились сокровища, — говорил поэт Леон Поль Фарг.
Счастлив он был, когда оставался в самолете, или его охватывала тоска? Тот, кто читал «Маленького принца», знает, что душа может быть одновременно переполнена и счастьем и бесконечной печалью.
Экзюпери писал: «С каждым из нас случалось так: в рейсе, в двух часах от аэродрома задумаешься и вдруг ощутишь такое одиночество, такую оторванность от всего на свете... и кажется, уже не будет возврата...»
И еще: «Вот тогда мы почувствовали, что заблудились в пространстве, среди сотен планет, и кто знает, как отыскать ту, единственную нашу планету, на которой остались знакомые поля и леса, и любимый дом, и все, кто нам дорог».
... Он пытался осуществить опасные, дальние полеты по неисследованным маршрутам: из Парижа в Сайгон и из Нью-Йорка на Огненную Землю.
Предстояло решить, взять ли с собой громоздкую тогда радиоустановку. Она необходима, но не хватило бы места для друга, механика Прево.
Радио оставалось на земле. Оба раза самолет терпел тяжелые аварии и экипаж чуть не погиб из-за отсутствия радиосвязи. Но если бы в самые отчаянные секунды Сент-Экзюпери спросили: что дороже — друг или жизнь? Что страшнее — одиночество или смерть? Жалеет ли он, что оставил радио? Кажется, он без тени колебаний ответил бы: друг дороже жизни, одиночество хуже смерти, и еще: «Я ни о чем не жалею».
«Друг нужен был ему, как горная вершина, где легко дышится», — писала его сестра Симона.
И механик Прево тоже сказал бы: «Я ни о чем не жалею».
... Очень скоро после гибели Экзюпери в борьбе с тем же врагом погиб в Веркоре Жан Прево — в армии Сопротивления его звали капитан Годервилль. Представляется, что и в последний перелет они отправились вместе.
Как-то, задолго до войны, он увидел — к отцу и матери, измученным, потерявшим надежду пожилым эмигрантам, прижимается ребенок, их сын. Он написал тогда: «Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание. Он совсем как маленький принц из какой-нибудь сказки... Но люди растут без садовника... Моцарт обречен».
Это мгновенное впечатление безысходности странно соединилось с собственными его первыми воспоминаниями и всеми мыслями о детях и детстве, никогда его не оставлявшими.
«Можно ли, можно ли избавить от гибели Маленького принца?» — с болью думал он, рисуя последнюю картинку сказки: одинокая звезда и пустыня под ней.
«Всмотритесь внимательней, чтобы непременно узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку, в пустыню, — говорит он в сказке. — Если вам случится проезжать тут, заклинаю вас, не спешите, помедлите немного под этой звездой. И если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой. Тогда — очень прошу вас! — не забудьте утешить меня в моей печали, скорей напишите мне, что он вернулся».
— Можно ли спасти короля Матиуша? — с такой же разрывающей сердце печалью спросит себя Януш Корчак, дописывая сказку.
Один из героев Сент-Экзюпери, глядя на огни летящего среди ночного неба самолета, подумал: «Я заблудился среди созвездий. Я единственный житель звезд».
Может быть, вот так, когда глаза провожали уходящего в рейс товарища, родилась мысль о Маленьком принце — единственном жителе звезды.
В ночном полете, оторвавшись от берега и блуждая над океаном, он вдруг очнулся от задумчивости и увидел россыпь огней.
«Берег? Селение? — подумал он и сразу с печалью осознал: — Селение, но только — селение звезд».
Он нашел дорогу, и когда самолет коснулся колесами земли, на борту был незримый груз: волшебная связь слов «звезда» и «селение» — место, где живут люди. Вспомним: «слова рождаются из дальнего пути под звездами».
В крутом вираже он увидел бортовой сигнальный огонь собственного самолета и ощутил машину небесным телом, светящейся одноместной планетой, совершающей путь среди селений звезд.
И может быть, на миг увидел самого себя жителем далекой планетки.
Однажды, взглянув на милую девушку, он подумал: «Она замкнулась в своей тайне, в своих привычках, в певучих отголосках воспоминаний, она далека от меня, точно мы живем на разных планетах».
И это родившееся на земле чувство тоски по людям и нежности к ним дарит горе и радость только что возникшей планетке. Астероид В-612 Маленького принца обретает жизнь.
... Постепенно все звезды в небе проявляют свое предназначение.
«Одна указывает путь к трудно достигаемому далекому колодцу.
И расстояние, отделяющее от этого колодца, действует подавляюще, как крепостная стена, — пишет Экзюпери. — Другая указывает направление засохшего оазиса. И сама звезда кажется засохшей».
Не на этой ли засохшей звезде живет Господин с багровым лицом, о котором так гневно говорит в сказке Маленький принц:
— Он за всю свою жизнь ни разу не понюхал цветка. Ни разу не поглядел на звезду. Он никогда никого не любил. И никогда ничего не делал. Он занят только одним: он складывает цифры. И с утра до ночи твердит одно: «Я человек серьезный! Я человек серьезный...» И прямо раздувается от гордости. А на самом деле он не человек. Он гриб.
А эта звезда, думал Сент-Экзюпери, указывает путь к неизвестному оазису, воспетому кочевниками, но путь прегражден повстанцами. И пески, отделяющие от оазиса, становятся заколдованной лужайкой; без волшебства по ней не пройдешь.
Звезды ожили; тогда-то сказка приняла их.
... Однажды, заблудившись в небе Сахары, Экзюпери увидел: слева на горизонте сверкнула огненная точка.
И в счастье спасенья, в мерцании этого далекого доброго огня, может быть, впервые возник фонарщик; ведь фонарщики живут не только на крошечных планетках.
Как-то в пустыне, летя вместе с кочевником, который приезжал для переговоров о выдаче взятых в плен летчиков, Сент-Экзюпери посадил самолет на площадку, со всех сторон отвесно обрывающуюся в бездну. Тут никогда не было и не могло быть человека.
«В небе сверкала звезда, я поднял к ней глаза, — пишет Экзюпери. — Сотни тысяч лет, думал я, эта белая гладь открывалась только взорам светил... И вдруг сердце замерло, словно на пороге необычайного открытия: на белой скатерти, в каких-нибудь тридцати шагах от меня, что-то чернело... С бьющимся сердцем я подобрал плотный черный камень величиной с кулак, тяжелый, как металл, и округлый, как слеза».
Он поднял камень и ощутил жгучую горечь этой слезы пространства. Быть может, именно тогда воображение предрешило, что тем же путем с неба на землю явится Маленький принц.
И в душу принца вошла неясная и неопределимая печаль, которая не могла не почудиться Экзюпери в увиденном им пришельце из космоса.
Он снова взглянул на неуступчивого, сурового мавра, и продолжались трудные переговоры о судьбе летчиков, захваченных кочевниками в плен, — о жизни их или смерти.
И это — тревога за любимых, ответственность, чувство опасности, нависшей над близкими, более страшное и ранящее, чем когда опасность угрожает тебе самому, — вошло в душу Маленького принца.
... Пожалуй, Маленький принц — единственный из героев волшебных сказок, дата рождения которого легко угадывается.
— Шесть лет назад, — говорит в сказке летчик, от имени которого ведется повествование, — пришлось мне сделать вынужденную посадку в пустыне. Что-то сломалось в моторе самолета.
«Маленький принц» закончен в 1942 году, работа над сказкой длилась два года; значит, Экзюпери начал писать сказку в сороковом году. «Шесть лет назад» — 1934 год.
«Итак, — рассказывается в сказке, — в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, — и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал:
— Пожалуйста... нарисуй мне барашка!
— А?
— Нарисуй мне барашка...
Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза. Стал осматриваться. И увидел забавного маленького человечка, который серьезно меня разглядывал... Не забудьте, я находился за тысячи миль от человеческого жилья. А между тем ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды...»
Итак, 1934 год.
29 декабря этого года Экзюпери вместе с механиком Прево вылетел из Парижа в Сайгон и потерпел аварию в Ливийской пустыне.
Эта пустыня — одно из самых страшных мест на земле. Здесь так мало влаги в воздухе, что если у человека нет воды, он неминуемо гибнет уже через восемнадцать часов; вспыхнет в глазах ослепительный свет, и наступит смерть.
Но оттого, что жизни осталось так мало, нет причин закрывать глаза; наоборот, каждое мгновение становится драгоценным.
«Меня донимает любопытство, — записывал Экзюпери. — Какое здесь, в пустыне, зверье и чем оно кормится? Скорее всего, это фенеки, песчаные лисицы, хищники ростом не больше кролика с огромными ушами. Не могу утерпеть — иду по следу одного зверька... Прелесть, что за узор оставляет эта лапка с тремя растопыренными пальцами, словно изящно вырезанный пальмовый листок... Как отрадно видеть, что и здесь есть жизнь. И словно уже не так хочется пить... Но вот, наконец, и кладовые моих лисиц. Поодаль друг от друга, по одному на сто метров, чуть виднеются над песком крохотные сухие кустики, не выше суповой миски: они сплошь унизаны маленькими золотистыми улитками. Мой лис задерживается не у каждого кустика, снимет две-три ракушки — и отправляется в другой ресторан. Что это — игра?.. Если фенек станет наедаться досыта у первого же кустика, за две-три трапезы на ветвях не останется ни одной улитки. Но он осторожен и не мешает стаду плодиться...»
Каждое движение под убийственным солнцем — шаг к смерти, а Экзюпери идет без устали по следам фенека, движимый неистребимым стремлением к постижению природы.
И пока он идет, ушастый предусмотрительный фенек превращается воображением в такого же ушастого, но безмерно более мудрого Лиса, который потом на страницах сказки откроет Маленькому принцу тайну приручения; от принца эта одна из самых важных человеческих тайн сообщится и нам.
— Сказка уводит от жизни, — повторяют иные люди.
Как? Куда она может увести, если ничего, кроме жизни, в мире нет?
— Сказка открывает самое драгоценное, что заключено в нашем существовании. Она как дверь в смысл существования. Следите, следите, чтобы дверь не захлопнулась, — говорят другие.
Как он был счастлив, как поглощен в минуты, когда Лис переселялся в его воображение из улиточных своих садов и впервые от лица всей природы рассказывал о важнейшем, чему научила его судьба.
Потом он все это запишет. Только неизвестно, будет ли это потом. Но все равно, даже если оно не суждено, нельзя упустить ни слова из неслышной исповеди Лиса.
Влажный ветер, который, бывало, годами не залетал в Ливийскую пустыню, в эти дни дует щедро и неутомимо, даря еще один час, еще, еще...
Вместе с Прево Экзюпери разводит костер и, когда пламя разгорается, думает: «Мы просим пить, но просим и отклика. Пусть загорится в ночи другой огонь; ведь огнем владеют только люди, пусть же они отзовутся».
В его широко раскрытых, воспаленных глазах возникает видение спасителя с флягой, полной воды, и видение фонарщика.
Что бы ни было впереди — жизнь или смерть, — сказка продолжает свой путь, рождаясь слово за словом.
... Проходят двадцать девятое, тридцатое, тридцать первое декабря, наступает новогодняя ночь тридцать пятого года — под звездами пустыни, более яркими, чем огни всех новогодних елок.
Тогда, как и должно быть, к нему является гость.
Он сразу узнает его: это золотоволосый Тонио — собственное его детство. Он хочет расспросить о Сен-Морисе, но знает, что на этот раз гость явился со звезды — вон с той маленькой звездочки над головой; прилетел, упал, возник, как та черная слеза на белой скатерти плоскогорья.
Он расспрашивает Маленького принца о розе, о ростках баобабов, грозящих разорвать своими корнями планетку. И о тех, кого принц встретил в пути.
И он знает, что гость явился из самой глубины его существа, дальней и такой трудной дорогой, которая могла открыться только в пустыне — на тысячи миль вокруг, и на бесконечность в глубину земли, и в глубину неба, — наполненной тишиной ожидания, мольбой об отклике.
Будь же благословенна тишина Ливийской пустыни!
... Ночь на первое января 1935 года; это и есть день рождения Маленького принца, хотя он и раньше много раз, может быть даже всю жизнь, возникал в душе сказочника.
Гость приходит в канун Нового года, когда у нас все покрыто белым снегом, а там убитая солнцем пустыня с трудом переводит дыхание в недолгой ночной прохладе. Он приходит не с пустыми руками. Подарок его — жизнь. Наутро появятся люди с водой.
Гость Маленький принц.
Последний полет
В Нью-Йорке сорок второго года — Сент-Экзюпери тогда оканчивал сказку — журналисты так писали о нем: «По внешнему виду он, пожалуй, простоват: более шести футов ростом, с круглым лицом, выразительным, но не отличающимся тонким рисунком ртом, с редкими волосами на голове и вызывающе вздернутым носом. Но у него замечательные руки, столь же изящные и красноречивые, как и его речь. Пожатие такое крепкое, что чувствуешь — он может вырвать руку». И еще: «Он передвигался похоже на пеликана — неуклюже и как бы сам испытывая неловкость».
С каким обидным, хотя и доброжелательным невниманием нарисован этот портрет; изящные руки да еще крепкое рукопожатие — вот и все особенное, что заметили авторы.
Но можно ли винить их? Помните, что сказал Лис?
— Вот мой секрет, он очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
— Самого главного глазами не увидишь, — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей всю душу.
— Потому что я отдавал ей всю душу... — повторил Маленький принц, чтобы лучше запомнить.
— Люди забыли эту истину, — сказал Лис, — но ты не забывай: ты навсегда в ответе за всех, кого приручил.
... В сороковом году, когда французское правительство еще не капитулировало и авиация вела последние отчаянные бои с гитлеровцами, во время коротких перерывов между заданиями Экзюпери, задумавшись, рассеянно рисовал на полетном листе бабочку и мальчика с крыльями — на облаке.
— Почему вы всегда рисуете мальчика и бабочку? — спрашивал летчик Ошеде, один из друзей по эскадрилье.
Экзюпери молчал. Вероятно, то, что могло быть ответом на вопрос, он тогда еще только предчувствовал.
Потом облако на рисунке исчезло, сменившись астероидом; и не стало у мальчика крыльев. Единственное, что делало Экзюпери похожим на этого мальчика, был длинный, длинный шарф, небрежно намотанный вокруг шеи, с концами, развевающимися по ветру; да еще что-то неуловимое в выражении лица.
... Однажды он слишком резко, как ему потом показалось, поспорил с другом и в извинительной записке вместо подписи нарисовал Маленького принца.
Друг узнал Экзюпери.
... Колыбелью Маленького принца был Сен-Морис, пустыня, звездное небо. Но возникла сказка во время войны; может быть, поэтому она не похожа ни на одну сказку в мире, потому такая печаль в ней и отчаянная мальчишеская надежда.
«Во Франции сейчас голодно и холодно. И люди там очень нуждаются в утешении», — писал Сент-Экзюпери, посвящая сказку своему другу Леону Верту, одному из пленников фашизма — «заложников», как он называл их.
Во всем мире в те трудные годы было голодно и холодно.
«Я посвящу эту книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг», — писал Экзюпери, нежно напоминая, что тем, кто очутился волей временных обстоятельств в рабстве, нельзя забывать о вечном, что заключено в глубине сердца и неподвластно тирании.
... Сент-Экзюпери ехал в Алжир, чтобы участвовать в битве за освобождение Франции, а в типографии печатали первые тиражи сказки; отныне она будет появляться в одной стране за другой и в каждой семье.
Он должен был вернуться в небо даже ценой жизни, как Маленький принц должен вернуться на астероид.
— Напрасно ты идешь со мной, — говорил в сказке Маленький принц летчику. — Тебе будет больно на меня смотреть. Тебе покажется, будто я умираю, но это неправда...
Летчик молчал.
— Видишь... это очень далеко, — продолжал принц. — Мое тело слишком тяжелое. Мне его не унести.
И у Экзюпери было тяжелое тело сорокачетырехлетнего человека, изломанное и неловкое после стольких аварий; вслед за Ланцелотом он мог бы повторить: «Я был пять раз ранен тяжело и три раза смертельно». Но что из того; он чувствовал, что должен воевать, как и Ланцелот должен сражаться с Драконом.
— Меня смогут услышать, — писал он, — только в том случае, если я и мои товарищи будем рисковать своей жизнью за наше дело».
Так важно быть услышанным, но и это не самое главное.
— Именно в застенках, именно под гнетом оккупантов и рождаются всегда новые истины, — писал он в «Послании заложнику». — Сорок миллионов заложников размышляют там (в оккупированной Франции) над своей новой правдой».
Быть там, где в муках рождается правда, — этого никому нельзя передоверить.
После долгих хлопот Сент-Экзюпери разрешили полеты на «лайтнинге», разведывательном самолете — летающей фотографической камере, как его называли. Это самая скоростная машина того времени и самая высотная; поднимаясь на восемь тысяч метров, она неуязвима.
Но у «лайтнинга» нет брони и вооружения, кроме разве фотообъективов, так что вынужденный снизиться даже при легкой аварии самолет беззащитен; как бабочка, которую Экзюпери рисовал на полетных листах.
... В войну он писал: «Главное, когда где-то продолжает существовать то, чем ты жил. И обычаи. И семейные праздники. И дом твоих воспоминаний. Главное — жить для возвращения».
Он и возвращался; и что бы ни предстояло впереди, он чувствовал себя счастливым.
После одной из первых тренировок Экзюпери неудачно сажает «лайтнинг», и командир с тайной радостью «вынужден» отстранить его от полетов.
— Этот дракон не для вас, — говорит он. — Да и ваши годы не по нраву двухвостому чудищу. Тут ничего не поделаешь.
Но Сент-Экзюпери не примирится с запрещением. И совсем не потому, что он безразличен к жизни. Просто, чтобы жить, ему необходимо чувствовать себя совершенно чистым: перед друзьями, перед теми, кто в фашистских застенках, перед словами, если ему суждено еще писать, перед собственным детством. Иначе жизнь не имеет цены.
Французский генерал Шассен заступается за него перед американским генералом Икерсом, и тот нехотя дает разрешение на пять боевых вылетов.
— Пять, ни одного больше. И то слишком!
Потом генерал Шассен с горечью скажет:
— Я сам помог ему помчаться навстречу смерти.
В один из полетов над озером Аннеси у Экзюпери испортился ингалятор — прибор, который снабжает пилота кислородом. Задыхаясь, он пикировал и потерял сознание. Когда он пришел в себя, стрелка показывала высоту четыре тысячи метров. Он выровнял курс самолета, утер кровь, сочившуюся из носа, и с трудом восстановил дыхание.
В небе показался немецкий истребитель.
В рапорте Экзюпери писал: «Я не мог терять времени и смотреть на бошей, с меня довольно было хлопот с моим самолетом».
Судьба дарила еще один день жизни, и еще, и еще — как когда-то дарил ему жизнь влажный ветер, чудом залетевший в Ливийскую пустыню.
В перерыве между полетами Экзюпери писал: «Если меня собьют, я ни о чем не буду сожалеть. Будущее термитное гнездо наводит на меня ужас, и я ненавижу их (фашистов) доблесть роботов».
Это как бы его предсмертное слово.
Погиб его друг Ошеде: отказал мотор, и самолет врезался в землю. У Сент-Экзюпери снова произошла авария. Над Альпами забарахлил мотор.
«Находясь в зависимости от доброй воли немецких истребителей, — как он потом запишет, — я со скоростью черепахи летел к долине По».
За ним погнался «мессершмитт», но сбился со следа. Может быть, немецкого истребителя ослепило солнце? В тот день оно горело особенно ярко.
Уже был перейден предел, назначенный Икерсом, — «пять боевых вылетов; ни одного больше!» — а майор Сент-Экзюпери добивался разрешения на новые и новые полеты.
— Восемь вылетов, — говорил ему генерал Шассен. — Надо остановиться. За три месяца вы сделали столько же, сколько ваши молодые товарищи за годы.
В тот день, 31 июля 1944 года, командир авиаэскадрильи Гавуалль, провожая Сент-Экзюпери, был спокойнее, чем обычно: от высшего командования получено разрешение, как только летчик вернется, сообщить ему дату высадки союзников во Франции; знающий военную тайну такого значения ни при каких обстоятельствах не допускается к полетам.
Экзюпери, который и не подозревал о «заговоре», был молчалив и задумчив. Несколько секунд он неловко, как медведь в берлоге, ворочался в тесной кабинке и в восемь тридцать поднялся в воздух.
Он снова летел в сторону Аннеси. У него было горючего на шесть часов, а вернуться предстояло через четыре с половиной.
В двенадцать пятьдесят Гавуалль и свободные от полетов летчики пришли на аэродром, чтобы встретить Экзюпери.
Текли минута за минутой, а самолет не показывался. Вначале пробовали шутками скрыть волнение: «Он заснул за штурвалом. Он дочитывает детектив».
Постепенно установилась тишина. Казалось, слышно, как невидимые часы отсчитывают секунды, обрушивающиеся все быстрее и быстрее, словно камни при горном обвале.
В четырнадцать тридцать надежды не стало.
— Вы выполните задание, порученное майору де Сент-Экзюпери, — сказал Гавуалль одному из летчиков.
Небо было пусто.
Кто-то окольными тайными путями вез во Францию последнее письмо Экзюпери.
«Дорогая мамочка, я так хотел бы, чтобы вы не беспокоились обо мне и чтобы к вам дошло это письмо. Чувствую себя очень хорошо. Я горюю, что так долго вас всех не видел. Я беспокоюсь за вас, моя дорогая старушка мама. Какое все же несчастное время! Когда, наконец, станет возможным сказать тем, кого любишь, что ты их любишь!»
И приписка, как прощанье и просьба о благословенье:
«Мамочка, поцелуйте меня, как я вас целую, от всей души.
Антуан»
Как бы хотелось иметь право закончить главу обращением, завершающим сказку о Маленьком принце:
— Если вы встретите его, не забудьте утешить всех нас, кто его любит, скорее напишите, что он вернулся.
Глава пятнадцатая. Тайны сказки.
Волшебники приходят к людям
Волшебники, феи, сказочные принцы и принцессы, короли и рыцари возвращались из тридевятого царства в страны, которые обозначены на школьной географической карте; возвращались к людям — ведь родились они среди людей.
Началось Второе Великое Переселение Сказки — самое важное событие ее истории. Оно не окончилось и посейчас.
Что его вызвало? Почему оно нарастает с каждым годом и даже с каждым днем, как весна от первого подснежника, от прилета первой ласточки.
Иные считают, что первая ласточка не делает весны. Она-то именно и творит весну; остальные только завершают то, что ею начато и что после ее появления не остановить никаким силам.
Второе Переселение Сказки...
Сто лет назад Эрнст Теодор Гофман предостерег:
— Близится то несчастное время, когда язык природы не будет больше понятен людям.
Вдумайтесь в эти горькие слова! Каменные города все дальше распространяли свои владения. Туда не проникал запах цветов, ветер обессилевал в теснинах улиц. Там дети росли, не постигая языка природы; а ведь языки природы и сказки — неотделимы, недаром король Матиуш избрал для флага детского государства зеленый цвет лесов.
Когда весть об одиночестве детей достигла тридевятого царства, духи сказки стали собираться в путь.
Но не все сказочные жители решились на трудное путешествие.
— Знаете, сосед, — в вечерний час говорила Баба-Яга Кощею, — конечно, мальчики с пальчик отбились от рук, так что я и не упомню, какой он на вкус, наваристый бульон; но в нашем возрасте мясо не так уж и полезно... И поселишься на новых местах, а тут возьмут да вырубят лес. И избу на курьих ножках, как там на человеческом языке выражаются, спишут...
— Да, да, — соглашался Кощей, — недаром говорится: «За шерстью пойдешь, как бы не вернуться остриженным». От зла зла не ищут...
В незапамятные времена злые духи первыми улетали из жилищ наших предков, испугавшись света и огня, покоренного первобытным человеком. И теперь они не хотели возвращаться.
А добрые духи торопились. Они летели с птичьими стаями, шли подземными ходами.
И вот уже доносятся до нас первые вести о путешественниках. В Богемских лесах, рассказывает замечательный немецкий сказочник Эрих Кестнер в книге «Мальчик из спичечной коробки», есть деревушка Пихельштейн, где жители не выше пятидесяти одного сантиметра ростом.
Откуда же могло появиться поселение маленьких человечков, если не из Гномландии, догадываемся мы, хотя автор ничего об этом не сообщает.
Пихельштейнцы — люди ловкие, сильные и смелые. Двое из них, муж и жена, стали воздушными гимнастами. Когда у этой пары родился сын Максик, врач посмотрел на новорожденного в лупу и сказал родителям:
— Да он же просто богатырь! Поздравляю вас!
Максик был таким крошечным, что спал в спичечной коробке. Как-то его родители поднялись на Эйфелеву башню — полюбоваться Парижем, а тут налетел порыв ветра и унес их. Тогда Максика усыновил цирковой фокусник, очень мудрый человек — профессор Йокус.
Мальчик решил тоже во что бы то ни стало стать цирковым артистом, хотя это казалось почти невозможным для человека такого крошечного роста. В конце концов профессор Йокус придумал замечательный номер: «Большой вор и его маленький помощник».
На арену приглашался какой-нибудь ужасно уверенный в себе важный господин. Несколько секунд — и часы, портсигар, бумажник господина в руках Йокуса. Господин, уже совсем не выглядящий таким важным, растерянно хлопает себя по карманам, потом жадно пересчитывает деньги в возвращенном ему толстом бумажнике, а тем временем Максик успевает, как верхолаз, взобраться к нему на воротник, и развязанный галстук падает на арену.
Господин нагибается, поднимая галстук, но Максик совершил головоломный прыжок и отстегнул подтяжки. И пока господин, поддерживая руками штаны, в ужасе удирает с арены под громовой смех цирка, с ног его сваливаются туфли: это Максик, которого никто не видит, ловко развязал шнурки.
После одного-единственного циркового представления Максик стал артистом, как он и желал, да еще артистом знаменитым.
Счастлив ли он? Да нет... Иногда так хочется ничем не отличаться от других людей, стать как все.
... Напишет эти два слова Эрих Кестнер и, может быть, с болью вспомнит время, когда на его родине страшные люди сжигали в кострах книги Шекспира и Андерсена, Толстого и Достоевского; исчезали в огне и его сказки.
Одно желание у Максика — превратиться в обычного мальчика. И тогда сказка приводит его к советнику медицины Конраду Ваксмуту, у которого на дверной табличке значится:
Специалист по недовольным собой
Лечение великанов и карликов бесплатное
Максик выбегает из кабинета советника медицины веселый и счастливый: Ура! он теперь обычный мальчишка.
Но почему никто не радуется вместе с ним? И вдруг он понимает, что никогда не сможет выступать в замечательном номере, придуманном специально для него. И — о ужас! — даже профессор Йокус равнодушно отворачивается от Максика, не узнавая его.
Когда, не в силах выдержать горя, Максик проснулся в слезах — все это происходило во сне, — профессор Йокус сказал ему:
— Ты мечтал стать обыкновенным мальчишкой, вместо того чтобы оставаться самим собой.
— Ага, — смущенно подтвердил Максик. — Ты как-то говорил, что надо кем-то быть и что-то уметь. А тут я вдруг стал никем.
— С нашим искусством много не сделаешь, — задумчиво сказал Йокус. — Мы можем добиться лишь двух вещей: удивить и развеселить людей.
— А что такое «много»? — спросил Максик.
— Предотвратить войну, — ответил Йокус. — Победить голод. Избавить человечество от неизлечимых болезней.
«Оставайтесь самим собой, десять раз подумайте, прежде чем превратиться в «таких, как все», если все — на одно лицо», — говорят волшебники людям.
Оставайся самим собой, и когда-нибудь ты сделаешь и то, что профессор Йокус считает самым важным.
Волшебницы
Не потеряй, не отдавай того, что природой доверено тебе, что, когда придет срок, только ты сможешь подарить людям.
Астрид Линдгрен была домашней хозяйкой — воспитывала детей, готовила обед, убирала квартиру.
Но родина ее, Швеция, — особенный край. Спросишь шведа, сколько жителей в его стране, а он ответит:
— Нас, людей, семь с половиной миллионов. — Оглядевшись по сторонам и понизив голос до шепота, он скажет еще: — Ну, а сколько троллей — кто знает? Известно только, что их очень много...
Тот, кто читал книгу Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» — а это одна из самых прекрасных книг на земле, — помнит, что родился Нильс Хольгерсон на юге Швеции, в маленькой деревушке Вестменхег.
Это был довольно несносный мальчишка.
— На уроках он считал ворон и ловил двойки, — рассказывает Лагерлёф. — В лесу разорял птичьи гнезда, гусей — дразнил, кур — гонял, в коров бросал камни, а кота дергал за хвост, будто хвост — это веревка от дверного колокольчика.
Так прожил Нильс до двенадцати лет, когда однажды, оставшись в воскресный день дома один, он увидел, что крышка заветного маминого сундука откинута и на краю его сидит маленький человечек: на голове — широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевным воротником, чулки у колен завязаны лентами с пышными бантами.
Недолго думая Нильс сдернул со стены сачок. Один взмах — и тролль забился в сетке, как стрекоза.
На этот раз шалость не прошла Нильсу даром. Тролль рассердился и заколдовал его в мальчика с пальчик.
Наказание не кажется очень уж жестоким. На спине гуся Мартина Нильс смог зато облететь всю Швецию до далекой Лапландии. И сколько же удивительного открылось ему, сколько испытал и узнал он в долгом пути, каких замечательных людей встретил...
И Астрид Линдгрен родилась на юге Швеции, в Смоланде, в крестьянской семье, только лет примерно через сто после того, как возник там мальчик Нильс из сказки.
Смоланд — страна озер и скал. Земля здесь покрыта гранитными валунами; их в древнейшие времена принесли на широких своих спинах ледяные поля. Прежде чем посеять хлеб, нужно убрать камни.
— Как они работали! — вспоминала Астрид Линдгрен о родных. — До сих пор мне видится длинная каменная стена, которую бабушка сложила своими руками.
Предоставленные себе, бесконечными северными вечерами дети рассказывали друг другу сказки. И так как истории Астрид, по общему мнению, были самыми таинственными, ее прозвали «Наша Сельма Лагерлёф».
Забыла ли она об этом, когда выросла?
Может быть, ей и казалось, что забыла, но на самом деле это только спряталось в ней.
Однажды тяжело заболела дочка Астрид. Надо было развеселить бедную девочку, метавшуюся в жару. Астрид сидела у постели больной, полная тревоги, и мысленно призывала всех, кто мог бы помочь утешить дочку; духов сказки тоже — их-то, конечно, прежде всего.
Тогда впервые явилась известная теперь всему миру веснушчатая девятилетняя девочка с рыжими косичками, проживающая на окраине маленького шведского города в доме, который она назвала вилла «Курица», вместе с обезьянкой господином Нильсоном и лошадью, — словом, явилась Пеппи Длинныйчулок, дочь капитана Эфроима Длинныйчулок.
Ее увидели одновременно и дочка и мама. Они ужасно обрадовались неунывающей одинокой девочке и улыбнулись ей; замечено, что если человека встретят улыбкой, он на всю жизнь останется как бы освещенным солнцем.
А потом все пошло само собой. Раз уж Пеппи появилась, она-то придумает такое, что не соскучишься.
Но все-таки как же она возникла?
Однажды в Копенгагене собрались трое писателей, награжденных премией имени Андерсена, высшим отличием сказочников: Памела Трэверс, Астрид Линдгрен и Эрих Кестнер.
Встречу они решили отпраздновать в кабачке. Астрид Линдгрен больше всего хотелось потанцевать.
Ведь и Пеппи без ума от танцев. Помните, когда воры Блом и Громила Карл попытались ограбить одинокую обитательницу виллы «Курица», Пеппи сперва связала их. А потом разрезала веревки, но с условием, что Громила Карл станет с ней танцевать, а Блом будет им играть на гребенке с папиросной бумагой.
Воры совсем выбились из сил, но Пеппи все не отпускала их:
— Нет, нет, дорогие мои, я не натанцевалась! О! Я могла бы плясать до четверга, — сказала она, когда пробило три часа ночи.
Но это был праздник Кестнера: в тот день именно он получил Андерсеновскую премию. Кестнер был настроен задумчиво и немного торжественно: хотелось ему поговорить о самом главном.
— Вот смотрите, — сказал он Линдгрен и Трэверс, — премией награждены вы — две женщины — и только один мужчина. Чем это объяснить? Может быть, тем, что вы, матери, видите, понимаете, чувствуете своих детей, а вот я знаю по-настоящему одного-единственного ребенка: себя самого, каким я был когда-то. К прошлому тянется бесконечно длинный и хрупкий колодец, чудом сохранившийся, — и это все, что позволяет мне писать. Со дна колодца видна звезда. А когда глядишь с вершины в глубь колодца, открывается твое детство.
— Вы правы, — согласилась Астрид. — Матери видят многое. Но так, до конца и изнутри, чтобы писать о нем, мы тоже знаем одного-единственного ребенка.
... Этот-то ребенок и явился из Смоланда, из детства Астрид, и тогда возникла Пеппи.
— Для маленьких детей очень необходимо, чтобы жизнь шла по размеренному порядку, а главное, чтобы этот порядок завели они сами, — говорит Пеппи.
Вот она и завела «размеренный порядок», куда, конечно, входит и побег на необитаемый остров и многое другое, что иному взрослому покажется странным.
Она твердо знает не только, как жить, но и для чего она живет. Блумстерлунд избивал лошадь, которая не могла стронуть с места телегу, груженную тяжелыми мешками. Пеппи попыталась усовестить его, а так как этот жестокий человек не унимался, несколько раз подбросила его в воздух, сыграла им в мячик; это помогло — взглянув на мир с высоты, он стал смирнее овечки.
Пеппи подняла лошадь, удивленную таким оборотом дела, и отнесла ее в конюшню; вспомним, что если есть в мире человек сильнее Пеппи, то только Эфроим Длинныйчулок. Потом она взвалила один из мешков на спину Блумстерлунду, подхватила оглобли и вкатила телегу во двор.
— Ты хорошо поступила, — сказала учительница, наблюдавшая за происшествием. — С животными надо всегда обращаться ласково, и с людьми тоже.
— Конечно, я была очень добра к Блумстерлунду: сколько раз кидала его в воздух и ничего за это с него не взяла, — ответила Пеппи.
— Для этого мы и родились на свет, — продолжала учительница. — Мы живем для того, чтобы делать людям добро.
Пеппи выжала стойку и принялась болтать в воздухе ногами.
— Я-то живу только для этого! — крикнула она. — А другие люди, интересно, для чего они живут?
И она ведь задала не праздный вопрос.
На первый взгляд учительница и Пеппи относятся к добру совершенно одинаково. Но разница существует. Учительница убеждена, что самое главное — вырасти прекрасно воспитанной дамой, добру же похвально посвящать часы досуга. А Пеппи только и живет для добра. И вот уж на что она не согласится ни при каких обстоятельствах — именно стать прекрасно воспитанной дамой.
Однажды фру Сеттергрен, мать Томми и Анники, лучших друзей Пеппи, позвала ее на чашку кофе. Когда гостьи фру Сеттергрен, чинно прихлебывая кофе, стали поливать грязью ближних — подневольных и зависимых, Пеппи испытала острейшее желание убежать, но не прежде, чем она проучит благовоспитанных дам, да так, чтобы они запомнили урок.
И то и другое она выполнила с полным успехом.
Нет, чем стать такой, как гостьи фру Сеттергрен, Пеппи лучше навсегда останется ребенком. Вот она и принимает вместе с Томми и Анникой пилюли против взросления — на вкус и на цвет напоминающие обыкновенные зеленые горошины. А что, если горошины не помогут? Но и тогда ни за что не превратится она в светскую даму, а станет лучше морской разбойницей, это решено!
Но, может быть, придёт время, и Пеппи разгадает тайну: как навсегда остаться ребенком, подобно Маленькому принцу, и одновременно сделаться такой, как Антуан де Сент-Экзюпери.
Сказка завоевывает новые владения
В «бедное, жалкое время внутреннего огрубения и слепоты», как выражается Э. Т. А. Гофман, духи сказки переселялись поближе к людям. Для того именно, чтобы по мере сил спасать от гибельного «внутреннего огрубения».
Поближе к детям.
И прежде всего они завоевывали детские комнаты, а где нет их — темное волшебное пространство под ветхой кроватью, под колченогим столом, если там поселилась хоть одна кукла, пусть даже тряпичная, сырой угол подвальной каморки, если там стоял на часах хоть один оловянный солдатик, пусть даже одноногий.
В то время историки — те из них, которые интересуются не только войнами, — могли бы заметить важные перемены в обширном народе игрушек. Они оживали; или так казалось, что они оживают.
Куклы научились отчетливо, с хорошим произношением выговаривать слово «мама», закрывали глаза, когда надо ложиться спать, а утром открывали их, кукушки на часах отсчитывали время, китайские болванчики кланялись, а искусственный соловей очень верно пел; правда, всегда одно и,то же.
Все это можно было приписать искусству игрушечных мастеров. Но как показало дальнейшее, если игрушки действительно оживали, а не притворялись живыми, дело было не только в умении тех, кто их смастерил, или, точнее, совсем не в этом.
... В тот год Мари Штальбаум, как рассказывает Гофман, исполнилось семь лет. Крестный ее, старший советник суда Дроссельмайер, подарил ей и старшему ее брату Фрицу замечательную игрушку. На зеленой, усеянной цветами лужайке стоял замок со множеством зеркальных окон и золотых башен. Заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что в залах прохаживаются крошечные, но очень изящные кавалеры и дамы. Внизу, в дверях замка, появлялся и снова уходил крестный Дроссельмайер, только ростом он был с мизинец.
— Крестный, а крестный! Пусть спустятся вниз кавалеры и дамы! — воскликнул Фриц. — Мне хочется получше их рассмотреть.
— Ничего этого нельзя, — раздраженно сказал старший советник суда. — Механизм сделан раз и навсегда.
— Ах та-ак! — протянул Фриц. — Послушай, крестный, раз человечки в замке только и знают что повторять одно и то же, так что в них толку? Мне они не нужны.
«Нет, даже самый искусный механизм не в силах одухотворить неживое», — думаешь, перечитывая сказку.
... И тут наступает срок снова переселиться из гофманской эпохи в наше время: в Англию, в Чудесный Лес, где жил английский писатель Алан Милн с пятилетним сыном Кристофером Робином, плюшевый медвежонок Винни-Пух, ослик Иа-Иа, кролик Кролик, поросенок Пятачок и все, все, все.
Очутившись тут, мы прежде всего замечаем, что хотя у медвежонка и его друзей совсем нет никаких механизмов, они ничуть от этого не страдают. Какие славные стихи — «бурчалки», «пыхтелки», «шумелки» — складываются в набитой опилками голове Винни-Пуха. Кристофер Робин порой повторяет, что Винни-Пух — глупенький. Ну и пусть! Ведь некоторые считают, что для поэзии это не помеха. Да и справедливо ли называть его глупеньким? Как хитро задумал Пух похитить мед у пчел, поселившихся на высоком дереве. Он поднимется на синем воздушном шарике; несомненно, пчелы примут шарик за клочок неба, а его самого — за черную тучку.
Когда пчелы все-таки заподозрили недоброе, Пух крикнул Кристоферу Робину:
— Скорей принеси из дому зонтик! Ходи с ним тут взад и вперед, а сам поглядывай на меня и приговаривай: «Тц-тц-тц, похоже, что дождь собирается». Я думаю, что тогда пчелы нам лучше поверят.
Чем не замечательный план?! А если он не удался, так ведь и взрослым не всегда все удается.
А когда Кристофер Робин вместе с друзьями отправился открывать Северный Полюс, что было известно о Полюсе даже ему, начальнику «икспедиции»?
Только то, что там находится Земная Ось. И ведь не кто иной, как Пух, отыскал эту самую Ось; с виду она походила на обычный деревянный шест, воткнутый в землю. И не только отыскал ее, но и перебросил через ручей, как раз вовремя, чтобы кенгуру Кенга могла перебраться на другой берег и вытащить сыночка Ру, свалившегося в воду.
Земной шар тем временем, вероятно, немного передохнул и, когда Ось возвратили на прежнее место, снова завертелся.
И тот же Пух не поленился заранее вылизать мед в самом большом горшке и поэтому во время наводнения смог использовать горшок как корабль, дав ему прекрасное имя — «Плавучий медведь».
Мы вглядываемся в друзей Кристофера Робина вначале просто с улыбкой, а потом — с нежностью, а после — с любовью, как сам Кристофер Робин, — да их и нельзя не полюбить, — и теперь замечаем, какие все они разные.
Пух — сладкоежка, поэт и великий хитрец.
Отличительные черты Совы — умение произносить такие длинные, трудные слова, как «рододендрон», и охота рассказывать длинные, немного скучные, но поучительные истории, о том, например, как ее тетка по ошибке снесла гусиное яйцо и что из этого произошло.
А ослик Иа-Иа прежде всего мыслитель и философ, да еще довольно редкого среди игрушек унылого направления. Только тот, кто способен делать самые глубокие выводы из самых простых наблюдений, мог сказать Кристоферу Робину, когда тот бережно вытер носовым платком озябший в воде хвост Иа:
— Спасибо, Кристофер Робин. Ты здесь единственный, кто понимает в хвостах. Остальные не способны думать. Вот в чем их беда. У них нет воображения. Для них хвост — это не хвост, а просто добавочная порция спины.
Да, все они, те, кто окружает Кристофера Робина, верные его друзья, не похожи друг на друга. И если мальчик отражается в них, то отражается не просто, а волшебно.
Кристофер Робин идет в школу. По утрам на его двери приколота записка, адресованная друзьям его: «УШОЛ. ЩАСВИРНУС К. Р.»; долго, долго предстоит ему «оболдевать знаниями», как выражается Иа-Иа, пока он станет тем, кого взрослые называют «грамотным и образованным человеком».
Но многое и, может быть, даже самое главное уже есть в нем и не исчезнет.
Мир, которым населил Кристофер Робин Чудесный Лес, — мир добрых существ; это и не удивляет тех, кто знает, что злые духи сказки остались за тридевять земель.
Но если люди — хочется написать так, хотя это может показаться не совсем точным, — если люди в Лесу столь различны, что же объединяет их?
Доброта. И дар понимания; пока я только записываю для памяти это слово, о котором еще будет время и необходимость не раз задуматься и мне на страницах этой книги, и всем нам.
Поросенок Пятачок — Очень Маленькое Существо; быть таким, в чем он сам признается, «иногда немного страшновато»; а мистера Букашку, самого младшего из многочисленных знакомых и родственников Кролика, очень просто незаметно раздавить при неосторожном шаге; ослик Иа, как отмечено, склонен к унылости и при других обстоятельствах мог бы превратиться в человеконенавистника или, лучше сказать, в «игрушконенавистника»; а тигр Тигра питает отвращение к меду, любимой пище Пуха, чертополоху, излюбленному Иа, и желудям Пятачка, так что — опять же при других обстоятельствах — он, пожалуй, вынужден был бы... Но в том-то и дело, что «другие обстоятельства» не наступят в Лесу.
Тигр Тигра поселится у Кенги и, к восторгу крошки Ру, будет на завтрак, обед и ужин поглощать рыбий жир, запасенный заботливой мамой для сына. Друзья построят Иа теплый дом и преподнесут ему на день рождения подарки: Пятачок — воздушный шарик, из которого, к сожалению, по дороге к имениннику вышел воздух, но был он круглым и красным, как больше всего любит Иа; а Пух подарит горшок с медом, из которого, к собственному сожалению, он по дороге вылизал мед.
И если Иа после всего этого не станет весельчаком, то, конечно, он и не ожесточится, а будет по-прежнему унылым, задумчивым осликом, каким создала его природа. А мистера Букашку никто не тронет, и он, взобравшись на вершину дерева, сможет по-прежнему с восторгом созерцать подвиги своего знакомого или родственника Кролика.
Понимание властвует в Лесу. Тут люди, как мечтала Пеппи, живут по порядку, который каждый завел для себя, и каждый из них уважает «порядок» другого. То самое понимание, которое так важно и в реальном мире — между очень маленькими, маленькими не очень, ну, скажем так: среднего и старшего школьного возраста, почти взрослыми и взрослыми.
... Пока Кристофер Робин торопится в школу, на ходу повторяя уроки и бормоча про себя, чтобы не забыть, «бурчалки» Пуха, мы тоже, как и Кристофер Робин, с грустью оглядываясь на Лес, отправимся по своим делам, чтобы еще раз понаблюдать бесконечную череду путешествующих героев сказки.
Чуть правее хвоста Большой Медведицы мы замечаем маленького, в меру упитанного человечка с быстро вращающимся пропеллером на спине и с таким сияющим лицом, что нечего и спрашивать, нравится ли ему летать.
А рядом с ним видим незнакомку с блестящими черными волосами, худую, с большими руками и ногами и пронзительными синими глазами.
Хотя она не очень похожа на фею, каких рисуют в книжках, очевидно, что это именно фея, или волшебница. Кого еще встретишь в ночном небе?
Сперва нас поражает — как же летит таинственная незнакомка? Ведь нет у нее ни крыльев, ни более современного пропеллера, как у ее соседа. Но скоро мы замечаем, что несет ее Восточный ветер. Ветер этот так стремителен, что чуть ли не сдувает звезды, попадающиеся на пути.
Незнакомку, как легко догадаться, зовут Мэри Поппинс, а человечка — Карлсон.
Мы последуем за ними, потому что до сих пор могли наблюдать, как сказка устраивается в отрогах Богемских гор, в деревеньках среди каменистых полей Швеции, в маленьких городах, а они держат путь в города огромные — одна в Лондон, где восемь миллионов двести пятьдесят тысяч жителей, а другой — в Стокгольм. Каково-то им придется там...
Ведь мы не забыли грустный рассказ Антония Погорельского о судьбе храбрых Подземных жителей, пытавшихся обосноваться в Петербурге.
Мэри Поппинс и Карлсон расстаются.
Карлсон, помахав на прощание рукой, круто сворачивает на север, где встретится с Астрид Линдгрен, которая и опишет его судьбу, а Мэри Поппинс поплывет дальше воздушной рекой, образуемой Восточным ветром, пока не опустится у дверей дома № 17 по Вишневому переулку, в центре Лондона.
Там живут мистер и миссис Бенкс и их дети: старшие, Джейн и Майкл, и младшие — близнецы Джон и Барбара, с которыми мы уже знакомы. Прилет ее как нельзя более своевременен, ведь Бенксы очень нуждаются в самой лучшей няньке с самым маленьким жалованьем.
Мэри Поппинс выбирает Вишневый переулок, потому что только отсюда открываются дороги к владениям Сказки — они сохранились и в огромных каменных городах.
Владения Сказки, и первое из них — Зоопарк.
Посчастливится ли вам хоть раз ночью пройти мимо Зоопарка? Вы услышите рев зверей: им снятся джунгли. И увидите, как над оградой поднимается прямо в небо длинный, как змея, хобот слона. Хобот мерно раскачивается между звездами, сбивая их, и они падают в черное недвижное озеро, где, засунув голову под крыло, спят черные африканские лебеди, пеликаны и другие птицы.
Все это можно увидеть в обычную ночь. А что, если вам доведется попасть в Зоопарк, как Джейн и Майклу, в ночь накануне Дня Рождения Мэри Поппинс, да еще когда эта ночь совпадает с полнолунием?!
Ведь Мэри Поппинс не только не простая няня, но она и не простая фея; недаром Царица Джунглей Кобра, троюродная ее сестра, так ее любит и так гордится родством с ней.
Все залито волшебным светом. У турникета Майкла и Джейн встречает бурый Медведь в парадной куртке с серебряными пуговицами.
Майкл напоминает Медведю, что однажды подарил ему банку сиропа.
— Это так, — соглашается Медведь. — Но ты забыл открыть банку, а у зверей нет ключа для консервов.
Как можно заключить из слов Медведя, добро делать не так уж просто.
Чудеса между тем обступают брата и сестру. Лев любезно соглашается проводить их по Зоопарку. Джейн несколько удивлена тем, что грива у него завита.
— Милая барышня, я, как известно, Царь Зверей, — с достоинством объясняет Лев. — Нельзя забывать о своем положении. Я считаю, что Лев всегда должен отлично выглядеть, где бы он ни находился.
Что тут возразить?!
У слоновника толстый пожилой джентльмен расхаживает взад и вперед на четвереньках, к величайшей радости восьми обезьянок, устроившихся на его спине. А немного дальше в клетках сидят леди и джентльмены; они заблудились в Зоопарке и оставлены на ночь. Идет час кормления; звери-служители просовывают через прутья решеток пищу, а другие тем временем дразнят леди и джентльменов. Звери ведут себя как люди; разница только в одном: люди наутро благополучно уйдут в джунгли города, а звери в свои джунгли не вернутся. Мчится ночь сломя голову — как ночь всякого настоящего праздника.
Кобра дарит Мэри Поппинс свое золотистое одеяние:
— Ты знаешь, что я время от времени меняю кожу; одной больше, одной меньше — для меня не имеет значения, — говорит она Мэри.
А потом Кобра произносит речь:
— Сегодня слабые не боятся сильных, большие защищают маленьких, — говорит она. — Даже я могу сегодня встретиться с Диким Гусем и не подумать об обеде. Такой это день. И, возможно, — продолжала она, молниеносно облизываясь страшным раздвоенным языком, — возможно, что есть и быть съеденным — в конце концов, одно и то же. Моя мудрость говорит мне, что это так. Вспомни: ведь все — и вы в городах, и мы в джунглях — сделаны из одного и того же вещества. Из того же материала и дерево над нами, и камень под нами; зверь, птица, звезда — все мы одно и идем к одной цели. Помни это, дитя, когда ты уже не будешь помнить обо мне.
Что ж, речь, достойная повелительницы джунглей.
И мудрость джунглей подсказала ей среди всех, кто собрался на праздник — львов, слонов, жирафов, страусов, гиппопотамов, обезьян, джентльменов и леди, сидящих в клетке, — среди всех обратиться к тебе, дитя человеческое. Тебе-то и необходимо, пока время не упущено, понять, что в самом конечном смысле действительно съесть и быть съеденным — одно и то же.
Подумаем об этом по дороге в Стокгольм, куда мы сейчас перенесемся.
Карлсон успел отлично устроиться на крыше самого обыкновенного дома, где живет самая обыкновенная шведская семья по фамилии Свантесон: папа, мама и трое самых обыкновенных ребят — Боссе, Бетан и Малыш. Впрочем, «я вовсе не самый обыкновенный малыш», говорит Малыш, и трудно не согласиться с ним.
Крыши! Что может быть прекраснее, чем Страна Крыш, Материк Крыш?! И Карлсон, который открыл эту страну, по справедливости должен быть признан одним из Колумбов сказочного мира, как Пиноккио и Питер Пэн, как предводитель подземных гномов Погорельского.
Подземелья, подвалы, чердаки, даже самые обычные погреба тоже хороши, но с крышами им не сравниться.
— Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, они бы давно перестали ходить по улицам, — скажет Малыш, подружившись с Карлсоном.
Города, которые со всех сторон ограждены — каменными воротами, стражами порядка, регулировщиками уличного движения, — отсюда, сверху, открыты волшебству. Ночью дома могут показаться горными пиками или деревьями с короткими ветвями труб.
Тот же ветер, что шумит между вершинами сосен в лесу, охлаждает головы домов, измученных заботами длинного городского дня; будто ветер осторожно прикасается губами ко лбу дома, чтобы узнать, не заболел ли он.
Иногда беспокойная звезда ринется в трубу и влетит через камин в комнату, притворившись искрой. Все задумаются, у кого-то неизвестно почему выступят на глазах слезы, кто-то вздохнет, кто-то улыбнется, кто-то вспомнит давно забытое, что никак нельзя забывать.
Итак, Карлсон поселился в Стокгольме и свел короткое знакомство с Малышом; говорят, что именно из-за Малыша он и предпочел этот город всем другим.
Малышу уже хорошо известно, что Карлсон — лучший в мире специалист по паровым машинам, лучший в мире собаковод, рисовальщик петухов, фокусник, истребитель пирогов, лучшее в мире привидение с мотором — «дикое, но симпатичное», лучший в мире строитель, больной, врач и т.д.
У кого-нибудь — только не у Малыша! — может быть, и мелькнет подозрение, что Карлсон просто-напросто хвастун. Но как это несправедливо! Конечно, игрушечная паровая машина Малыша в руках Карлсона взорвалась. Но ведь разные люди разного и требуют от игрушечных паровых машин, как и от всего другого.
Очень серьезный человек захочет, чтобы она давала наивысший коэффициент полезного действия или что-нибудь в этом роде. А Карлсону только нужно извлечь из нее все счастье, какое в ней заключено.
И как раз этого он достигает.
... Три человека подошли к роще. Самый деловой сказал:
— Деревья старые, дуплистые; кубометров сто дров — вот и все, что мы получим.
Самый ученый начал так:
— Данный биогеоценоз с точки зрения онтогенеза... — Ну и дальше в стиле известной нам Совы.
А что подумал и сказал третий, мы знаем, потому что третьим был Алан Милн...
Глава шестнадцатая. Януш Корчак.
Комната на чердаке
Больше всего времени Януш Корчак проводил в своей комнате со скошенным потолком на чердаке Дома сирот, который находился на Крахмальной улице в Варшаве; он построил этот дом и почти три десятилетия, до самой смерти, заведовал им.
Это была обыкновенная чердачная комната, и от всех других подобных отличало ее только то, что тут каждый чувствовал себя полновластным хозяином. На дощатом столе рядом с рукописями были насыпаны крошки, и в распахнутые окна то и дело залетали ласточки, возвратившиеся из дальних стран, и воробьи, квартировавшие у окрестных водосточных труб, и голуби.
По полу деловито сновали мыши.
В кровати, придвинутой близко к столу, лежала полупарализованная девочка Ниця; в Доме имелась комната-изолятор, но там Ниця плакала, тосковала. А здесь в любую секунду можно было, даже продолжая писать, протянуть свободную руку и положить на лоб больной: «Сегодня, слава богу, температура нормальная». Мысли о Нице — тревожные, неотложные — текли рядом с другими, которые в тот момент переходили на бумагу, и рядом с мыслями о девочках и мальчиках, доверенных и доверившихся ему, о каждом ребенке в отдельности, и с мыслями о всех детях земли.
Они текли рядом, не мешая друг другу.
Этот поток ночью превращался в сны, а потом в уроки, которые он вел, в педагогические решения, в диагнозы, согласно которым лечил больных детей, в научные труды, сказки, просто в слова, которые он шептал в темноте спальни ребенку, потрясенному одиночеством и горем: ночью детское сердце особенно беззащитно.
Этот поток стремился через всю его жизнь, ни на мгновенье не прерываясь, не останавливаясь, как не останавливается сердце, пока человек жив.
Однажды, когда Корчак работал, в комнату, двери которой были всегда открыты, как и окна, вбежала маленькая девочка и стала его теребить.
— Знаешь, Хелька, беспокойный ты человек, — сказал он.
— Я — человек? — переспросила девочка.
— Ну да. Не собачка же.
Девочка задумалась. После долгого молчания она сказала:
— Я — человек. Я — Хелька. Я — девочка. Я — варшавянка... Как я много всего!
Через минуту сказала еще:
— У меня есть бабушка, даже две бабушки, мой дедушка, платье, ручки, кукла, столик, канарейка, фартук. А ты — тоже мой?
Он кивнул. Конечно, он принадлежал и Хельке — весь, без остатка, — как каждому ребенку.
Он и о себе мог сказать подобно Хельке: «Как я много всего».
Он был замечательным детским врачом, вылечившим сотни детей; в Польше его с любовной признательностью называли «Старый доктор». Во время войны 1914—1917 годов он был военным врачом русской армии. Он был учителем, руководившим двумя детскими домами — Нашим домом и Домом сирот, автором мудрых педагогических трудов, в том числе книги «Как любить детей».
И был одним из великих сказочников, известных детям всего мира.
За несколько лет до смерти Корчак записал в дневнике: «Мой прадед был стекольщиком. Я рад: стекло дает людям тепло и свет».
Януш Корчак — Генрик Гольдшмит — родился в Варшаве в 1878 году в интеллигентной еврейской семье. Литературный псевдоним — Януш Корчак — он принял юношей, в первых своих писательских опытах, и под этим именем стал одним из самых любимых и самых почитаемых мыслителей, педагогов и сказочников не только Польши, но и других стран. Отец его был адвокатом и брался только за справедливые дела: подобно прадеду, но по-своему, и отец вносил свет в темные уголки жизни, это было как бы предназначением их рода.
Одни из тех, кто день за днем сталкиваются со злом, постепенно ожесточаются, другие гибнут; лишь немногие выходят победителями из неравной борьбы. Отец Януша Корчака тяжело болел и рано умер. В одиннадцать лет мальчик остался сиротой. Он знал, какой тяжелой была судьба отца, но и сам — очень рано — избрал отцовский путь: против темноты, нищеты и несправедливости; путь отца и матери, деда и прадеда.
Однажды он записал в дневнике: «Найдено магическое слово. Я — повелитель солнечного света».
Перечитал эту строку и с шутливой серьезностью сам себе сказал:
— Но что делать, если солнце не знает этого и не хочет слушаться.
В Доме сирот он вместе со своими воспитанниками поставил пьесу-сказку «Почта» очень любимого им индийского писателя Рабиндраната Тагора. Это история тяжело больного мальчика по имени Омуль.
И приемный отец Омуля Мадхоб Дотто, и дед его, мудрый старый факир, любят ребенка. Но когда мальчик вслух подумает: «Из моего окна видны горы. Мне очень хочется пойти за эти горы», как различно взрослые отзовутся на его мечту.
— Вздор, — скажет Мадхоб Дотто. — Без дела, без цели, неизвестно зачем он будет лазить по горам!.. Если горы подымаются такой высокой грядой, то совершенно ясно, что природа сделала это для того, чтобы через них не переходили.
А дед скажет:
— Я научу тебя заклинаниям, и ты сможешь путешествовать везде, где захочешь: по морям, по горам, по лесам.
Своим детям Корчак говорил то же, что и старый факир; чем-то волшебники похожи, хотя каждое истинное волшебство потому и волшебно, что раньше ничего ему подобного на свете не случалось.
Корчак презирал тех, кто возводит стены на человеческих путях, кто с детских лет как главной науке учит почитать святость стен.
Он создал детские летние колонии и из варшавских трущоб вывозил туда ребят, никогда не видевших настоящего леса.
Но шли годы, и стены становились всё выше. Гитлеровцы оккупировали Польшу, и Дом сирот переселили в варшавское гетто. Надежды не оставалось, но была еще сказка.
В полутемном зале мальчик, игравший Омуля, спрашивал Корчака, исполнявшего роль факира:
— Дедушка, расскажи мне про Журавлиный остров.
— Это удивительное место, — отвечал Корчак. — Это страна птиц, живущих в синих горах. Вечером на горы падает свет заходящего солнца, и зеленые птицы стаями возвращаются в свои жилища. Оранжевое небо, зеленые птицы, синие горы...
За окном было гетто, непреодолимая стена — на этот раз действительно непреодолимая, — отделяющая от мира живых «квартал обреченных». Все силы сердца вкладывал Корчак в сказочные слова, чтобы эти синие горы вопреки всему возникли в воображении детей, оттесняя то, что стояло рядом, — смерть.
В этом он был убежден: надо бороться не только за всю жизнь ребенка, но и за каждую секунду этой жизни — за ее счастье или хотя бы спокойствие, хотя бы за не такое непереносимое горе.
В одной из книг он писал: «Берегите день и час, каждую отдельную минуту, ибо умрет она и никогда не повторится. Раненая минута станет кровоточить, убитая — тревожить совесть... Мы наивно боимся смерти, не сознавая, что жизнь — это хоровод умирающих и вновь рождающихся мгновений».
Когда-то, работая в детской больнице, он дежурил у постели безнадежных больных, чтобы ребенок, в последний раз открыв глаза, не почувствовал себя покинутым; быть забытым тем, кого ты любишь, — страшнее смерти.
Теперь, когда умирал весь его Дом сирот, он был рядом, не только для того, чтобы проводить детей в последний путь, но и чтобы самому принять смерть; детям будет легче вместе с ним.
— Оранжевое небо, зеленые птицы, синие горы... — шептал он из последних сил.
На улицах стреляли, окна были черны.
... Но все это в конце. А пока мы снова переносимся к началу жизни Генрика Гольдшмита — Януша Корчака, ко времени, когда он избирал свой жизненный путь.
Взрослые и дети
Очень рано, еще в первые школьные годы, он ощутил свое призвание. В дневнике его появились строки: «Чувствую, что во мне сосредоточиваются неведомые силы, которые взметнутся снопом света, и свет этот будет светить мне до самого последнего вздоха. Чувствую, я близок к тому, чтобы добыть из бездны души цель и высечь счастье».
Позже он писал о себе проще и с каждым годом скупее, но тогда его заполнило нечто, еще непонятное ему самому, требовавшее необыкновенных, торжественных слов.
Ему дано было внести в жизнь человечества понимание того, что дети равны взрослым — во всем: в своем праве на свободу, любовь, справедливость. На любовь не снисходительную — сверху вниз, а непременно равных к равным. Мысль простая — так ведь почти всегда самое важное по сути просто, — но так медленно понимается; что может быть яснее слов — «свобода, равенство и братство» — и как трудно дается людям подлинное осуществление того, что выражено в этих словах.
Вспоминая о прадеде, Корчак еще школьником представлял себе, что леса и луга земли — как бы огромное зеленое окно, через которое солнечный свет должен литься на детей; важнейшее, что предстоит совершить солнечному лучу, — превратиться в детскую улыбку.
Он еще школьником осознал, что главная работа ребенка — построить миллиарды клеток, составляющих организм. И это именно работа, тяжкий труд, особенно когда одновременно приходится преодолевать болезни и нищету.
Чтобы помогать в этом труде, надо стать врачом.
И главная работа ребенка — сделать из себя человека, которому открыто все прекрасное: природа, музыка, поэзия, наука.
Чтобы помогать ребенку в этом труде, надо стать учителем.
И надо, чтобы ребенок по пути к взрослости не растерял естественного чувства красоты, понимания чудесного, доверчивости, безошибочного различения добра и зла. Поэтому тот, кто посвящает себя детям, должен быть еще и сказочником: детство — мир сказочный, и иначе в нем заблудишься; иначе все в воображении ребенка будет превращаться под твоим неумелым влиянием в черепки, как золото в заколдованном кладе.
Корчак и стал врачом, педагогом и сказочником.
Он писал: «Без ясного, пережитого во всей полноте детства искалечена вся жизнь человека». И еще: «Детские годы — это горы, из которых река берет начало и где определяет свое направление».
Но река может быть и буйной, сметающей все на своем пути.
— Пока мы не перестанем жестоко и безжалостно драться между собой, мы не имеем права требовать от взрослых, чтобы те не били нас, — скажет король Матиуш своим товарищам. — Пока мы не перестанем драться и швырять друг в друга камни, на земле не прекратятся войны, а значит, будут и сироты, потому что на войне убивают отцов.
«Кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо... тот уж поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях, — предупреждал Федор Михайлович Достоевский. — Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и отупеть до степени зверя».
Корчак перечитывал вещие строки Достоевского и думал, что болезнь тиранства порой начинается почти незаметно; когда спохватишься, лечить ее поздно.
Вероятно, трудно отыскать людей более различных — по складу души и характеру таланта, — чем Достоевский и Корчак. Но их объединяла одинаковая убежденность в том, что «в конце — ребенок» — «дитё человеческое».
Болезнь тиранства может возникнуть, когда брат ударит сестренку, испытывая при этом подлое наслаждение властью над беззащитным; когда в школе дразнят и мучают мальчика потому, что он хромой, или рябой, косой, потому что он заикается, вообще чем-то не походит на других; она, эта болезнь, возникает, когда ребенок «просто так» обрывает крылышки у мухи или у бабочки, бьет шелудивую собаку...
Корчак рано убедился, что безнравственно только любоваться детством, а надо прийти на помощь детям, чтобы рядом с ними завоевывать справедливость в их таком отличном от взрослого мире.
Детство — лучшее время жизни, но оно требует изобилия тепла, как земля, которая без солнечного света не зазеленеет.
Корчак писал, мысленно превращаясь в ребенка: «Вот небо для нас, для детей, устлало землю белым ковром, как птица выстилает для птенцов пухом свое гнездо». И еще: «Ребенок словно весна. То солнце выглянет — и тогда ясно, и очень весело, и красиво. То вдруг гроза — блеснет молния и ударит гром. А взрослые словно в тумане. Тоскливый туман их окружает. Ни больших радостей, ни больших печалей... Наши радость и тоска налетают, как ураган, а их — еле плетутся».
Детство не повторится, так жаль расставаться с ним, и все-таки надо поскорее вырасти, чтобы уже навсегда прийти к детям помощником их, врачом, наставником — и учеником тоже, думал Корчак.
Он занимался на медицинском факультете, а все свободное время отдавал детям Привисля, беднейшего района Варшавы.
В сочельник, переодевшись Миколаем — Дедом Морозом, с седой бородой, в вывороченном тулупе, с мешком дешевых игрушек за плечами, он пришел в каморку к «Рыжему» — беднейшему из бедных, «ублюдку», как дразнили его на дворе, и Рыжий спросил Корчака:
— Дедушка, ты в самом деле святой Миколай? Ты оттуда? — Мальчик показал рукой на небо.
— Конечно! — ответил Корчак.
— Возьми меня к себе.
— Тебе так плохо? — спросил Корчак.
Тогда-то он и решил создать Дом сирот, куда бы мог брать обездоленных детей.
Конечно, и прежде в Польше, как и во всем мире, существовали дома для воспитания детей: приюты для сирот, дома для ребят из нищих семей, которых горе и непредставимая нищета заставили отказаться от ребенка; и из семей вполне состоятельных, где родители с легким сердцем пошли на разлуку с ребенком просто потому, что сердца у них не было; и существовали дома, куда детей, еще не ведающих своего призвания, отдавали насильно, чтобы сделать из них то, что родителям представляется наиболее выгодным, — так отдают в кузню слиток металла, желая получить саблю, если понадобилось оружие, а то и кандалы, если большая нужда в кандалах, — всякого рода бурсы, иезуитские колледжи.
Все это были тюрьмы, как бы они ни назывались. И о детских тюрьмах разного рода в Англии гневно и прекрасно написал Чарльз Диккенс, в России — Помяловский и Погорельский, во Франции — Роже Мартин дю Гар. Но и самые великие книги не в силах уничтожить детские тюрьмы — мечта в кровь разбивается о железо и камень, как птица о зарешеченное окошко. Надо было противопоставить старым приютам нечто гораздо менее хрупкое, чем мечта, чтобы каждый человек воочию убедился: может быть иная жизнь для обездоленных детей, и значит, с тем, что есть, больше нельзя мириться.
В сказке Корчака один из наставников детского дома говорит о себе:
— Уважаемые родители, я директор приюта, а отнюдь не тюремщик. Перед вами ученый-педагог, автор книги под названием «365 способов, чтобы дети не шумели»... Мое другое педагогическое сочинение называется так: «Разведение свиней в приютах»... Я каждого ребенка вижу насквозь. По глазам, по носу, по ушам — словом, по всему могу с точностью предсказать, что из него вырастет...
Корчак мечтал построить детский дом без таких «ученых-педагогов», столь же ясно «видящих», что нужно сделать из ребенка, как видят они, какую свинью пустить на сало, а какую выгоднее использовать для получения мяса.
Он знал, как трудно в тогдашней Польше будет это осуществить, но ему помогали врачи и ученые, рабочие варшавских заводов горячо сочувствовали его идеям. И каждый рубль, который издатели платили Корчаку за его книги, шел на строительство. Сказка была в фундаменте этого дома в самом прямом смысле, она первой поселилась в нем и последней его покинула.
... Праздник открытия Дома сирот окончился. Корчак уложил ребят и остался наконец наедине со своими мыслями — за дощатым столом в чердачной комнате с распахнутым окном.
Шла первая ночь страны детей. Какой будет эта страна?
За окном в погруженном в темноту мире господствовало неравенство. Издревле те, кто властвовал, считали себя вправе унижать тех, кто не похож на них: бедных, потому что они не имеют денег, людей иных рас — потому что у них другой цвет кожи, не те верования и обычаи, женщин — потому что они слабее. В детях все эти несходства соединяются: дети слабее, они не имеют денег, у них особые интересы и обычаи, они иначе видят окружающее.
И были и долго еще будут взрослые, считающие, что ребенок как бы получеловек: надо поскорее сделать его «таким, как мы»; вся задача воспитания — уничтожить в ребенке эту странность, раздражающее несходство, непокорность; уничтожить, может быть, даже — выбить.
В 1876 году Петербургский окружной суд слушал дело некоего К., который до крови избивал семилетнюю дочь розгами, как били, а то и забивали насмерть солдат шпицрутенами; девочка была «виновна» в том, что «украла» несколько ягод чернослива и в страхе перед наказанием не признавалась в своем проступке, то есть «лгала».
Один из известнейших адвокатов, защищая К., говорил на суде:
— Когда обнаружилась в девочке эта дурная привычка (то есть привычка лгать), присоединившаяся ко всем другим недостаткам девочки, когда отец узнал, что она ворует, то действительно пришел в большой гнев. Я думаю, что каждый из вас пришел бы в такой же гнев, и я думаю, что преследовать отца за то, что он наказал больно, но поделом свое дитя, — это плохая услуга семье, плохая услуга государству, потому что государство только тогда и крепко, когда оно держится на крепкой семье... Если отец вознегодовал, он был совершенно в своем праве.
«Постойте, г. защитник, поговорим немного про эту «справедливость гнева отца», — писал тогда Федор Михайлович Достоевский. —
... Как же вы налагаете на такую крошку такое бремя ответственности, которое, может, и сами-то снести не в силах? «Налагают бремена тяжкие и неудобоносимые», вспомните эти слова. Вы скажете, что мы должны исправлять детей. Слушайте: мы не должны превозноситься над детьми... И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучшими, то и они нас учат многому и тоже делают нас лучшими уже одним только нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают нашу душу одним только появлением между нами».
Как и Достоевский, Корчак не уставал повторять:
— Немногого стоят слова о любви к детям, на которые так щедры иногда, если они не подтверждаются уважением прав ребенка и пониманием его чувств.
Он писал: «Ты хочешь, чтобы дети тебя любили, а сам должен втискивать их в душные формы современной жизни, современного лицемерия, современного насилия. Дети этого не хотят, они защищаются. Государство требует официального патриотизма, церковь — догматической веры, работодатель — честности, а все они — посредственности и смирения... Дети этого не хотят, они защищаются»
Впервые в мире, в варшавском Доме сирот, создавалась самоуправляющаяся детская страна. Чтобы жить и работать в ней взрослому, недостаточно только многое знать, думал Корчак.
«Что значит быть добрым? — спрашивал он себя и отвечал: — Вероятно, добрый — это такой человек, который обладает воображением и понимает, каково другому, умеет почувствовать, что чувствует другой».
Быть добрым к ребенку — это прежде всего уметь вообразить себя ребенком. Тогда замрет рука, занесенная для удара, не сорвется с губ непоправимое, унижающее слово, после которого между взрослым и детьми вырастет пропасть; ребенок безошибочно прочтет в твоих глазах уважение и понимание и ответит тем же.
Вообразить себя ребенком... Со школьных лет Корчак мечтал: а не могло ли быть так, чтобы человек становился то большим, то снова маленьким? Как зима и лето, день и ночь, сон и бодрствование. Если бы так было все время, никто бы даже и не удивлялся. Только дети и взрослые лучше бы понимали друг друга.
... Дом сирот спал. Наступило время, когда необходимо было ему, совсем взрослому человеку, снова стать ребенком, чтобы заново пережить счастье и горе детской жизни, а после вернуться в Дом сирот, как свой к своим — все понимающим.
Стать ребенком — в мечте, в сказке?
Да, конечно, но это должна быть совсем особенная сказка, как особенной будет и эта, прежде никогда не существовавшая детская страна.
Однажды в солнечный зимний день, играя в снежки, Матиуш сказал:
— Будь я королем, то непременно установил бы в своем Королевстве Праздник Первого Снега; и праздник этот начинался бы пушечным салютом. Да, много чего сделал бы я, будь я королем!
Сейчас надо было стать одновременно и ребенком и королем, чтобы иметь власть и силы создавать справедливую жизнь. Ведь в Доме сирот прежде всего придется установить разумные законы.
Может быть, превращаясь в ребенка, Корчак шептал эти свои слова:
— Удивителен мир. Удивительные деревья, как удивительно они живут. Удивительные маленькие червяки — живут так недолго. Удивительные рыбы — живут в воде, а человек задыхается в ней и умирает. Удивительно все, что прыгает и порхает: кузнечики, птицы, бабочки. И звери удивительны — кошка, собака, лев, слон. И на редкость удивителен сам человек... Удивительно все-все, что ты помнишь и о чем забываешь. И как человек засыпает, и что ему снится, и как просыпается, и что было и не вернется. И что будет...
Под сказочное заклятье усталая взрослость отступала, и в каморке на чердаке дома на Крахмальной улице возникал король Матиуш Первый — светловолосый мальчик с голубыми нежными и смелыми глазами, вглядывающимися в мир с этим прекрасным детским чувством: «удивительно все»...
Если сказочники дают напутствие своим героям, то Корчак в эту ночь должен был сказать Матиушу:
— Тебе предстоит править не королевством, которое за тридевять земель, а обычной большой страной, бедной и несчастливой, совсем как наша Польша. Трудно тебе придется, ведь ты даже не умеешь еще читать и писать, а феи и волшебники не придут на помощь... Феи и волшебники не придут, но верные друзья будут рядом, как бывает и в обычной жизни. На твою страну нападет не дракон — дракон хоть и о семи головах, но он один и у тебя в руке заколдованный меч, — в королевство вторгнутся десятки тысяч вражеских солдат, полки, дивизии, вооруженные пулеметами и пушками. Тяжкая вещь война. Тот, кто пережил ее, никогда не забудет. После изнурительного марша до поздней ночи рой окоп в замерзшей земле, иначе погибнешь от первой пули, от шального осколка. А потом дрогни под оледенелой шинелькой до рассвета, когда все начнется сначала. И так изо дня в день, из месяца в месяц...
— Но ведь я буду королем, а не обычным солдатом, — ответил Матиуш.
— Но не таким королем, какие в реальном мире; королем-солдатом; да еще королем-сиротой, мальчишкой; совсем особенным мальчишкой — прислушайся к собственному сердцу, разве удержишь тебя во дворце, если идет схватка, решающая судьбу страны и собственную твою судьбу?! Когда исполнится твоя мечта и ты отправишься в Африку — в царство львов, слонов, тигров и крокодилов, ты встретишь там не только добрых людей, готовых дружбой и любовью ответить на твою дружбу и любовь, — такие люди есть везде, и ты их непременно встретишь, — но и людей жестоких. Жрецы будут бояться, что ты научишь своих черных друзей жить не так дико, невесело, в вечном страхе перед злыми духами, как жили они в Африке тысячи лет. Ах, как боятся жрецы того, кто сам не боится и учит других не бояться. Золото они ценят гораздо меньше, чем страх, который так легко превращается во власть — над телом, душой, совестью того, кто поддался страху. И если ты не отступишь перед жрецами, может быть, они попытаются даже убить тебя... Но, как это ни странно, самое трудное начнется, когда ты из дальних стран вернешься домой и решишь перестроить жизнь в своем королевстве, чтобы все были счастливы. Ты скоро увидишь, что иногда взрослые хотят одного, а дети совсем другого. Да и дети — как не похожи они: девочки и мальчики, малыши и подростки, тихие дети и властные, стремящиеся всех подчинить своей воле. Где же отыскать, как создать миллионы разных «счастий»? Возможно ли это? Твоих намерений многие не поймут, а будут и такие в королевстве и за пределами его, которые даже возненавидят тебя за самое желание изменить жизнь. Ты придумаешь, чтобы дети имели свое зеленое знамя, а царь Пафнутий в соседнем царстве, прослышав это, издаст манифест: «Повелеваю, чтобы в месячный срок все деревья, цветы и травы в парках и лесах изменили цвет...» Из всех сказочных королей, которые были и еще будут, тебе придется труднее всего.
— Так мог бы говорить тот, кто посылал своего сына на муку и страдание за род людской, — дрогнувшим голосом сказал Матиуш.
Вспомним, что это происходило в первые десятилетия века, в католической Польше, где с начала сознательной жизни дети узнавали евангельские легенды.
— Мне сейчас ужасно тяжело, мой мальчик, — устало ответил Корчак. — Но я не могу ничего скрывать от тебя. Ты узнаешь много прекрасного, но горе суждено тебе тоже. И тут уж ничего не поделаешь. Не пережив вместе всего, что подстерегает нас на человеческом пути, не «испив чашу сию», как сможем мы избежать непоправимых ошибок, строя детскую страну на Крахмальной, которая не должна, не может быть страной сирот... И вспомни — ты будешь не один.
Он сказал это, и, очнувшись, Матиуш увидел, что рядом с ним профессор, знающий пятьдесят языков, храбрый безногий летчик, — и близко сверкают ослепительно белые зубы, смеются круглые глаза, а лица не видно, чернота его сливается с темнотой ночи: это негритянская принцесса Клу-Клу, неустрашимая, любящая и верная.
... Чердачная комната исчезла, глазам открылась анфилада белых с золотом дворцовых залов. Лица людей, глядящих на Матиуша, печальны, и огромные зеркала затянуты крепом. Он уже в сказке. Умер его отец, как прежде умерла мать. Матиуш стал сиротой; и стал королем.
... Светало. На белом листе бумаги Януш Корчак вывел три слова заголовка: «Король Матиуш Первый».
Матиуш становится королем
Дон Кихот родился в тюрьме; Маленький принц — в Ливийской пустыне, когда создатель его был на пороге смерти; может быть, первые сказочные видения пришли к Гансу Христиану Андерсену в общественном доме, где доживали век самые бедные старухи родного его Оденсе. Беда чаще, чем Богатство и Довольство, качала колыбель сказки и вскармливала ее; не сама Беда, а человек, встретившийся с ней волей судьбы и не отступивший.
Думая о сказке Корчака, мы не забудем, что и Матиуш возник в Доме сирот, среди таких, как Рыжий из Привисля.
Когда-то Достоевский писал о «Дон Кихоте»: «Во всем мире нет глубже и сильнее этого сочинения. Это пока последнее и величайшее слово человеческой мысли, это самая горькая ирония, которую только мог выразить человек, и если б кончилась земля и спросили там где-нибудь людей: «Что вы, поняли ли вашу жизнь на земле и что об ней заключили?» — то человек мог бы молча подать «Дон Кихота»: «Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?»
Перечитывая книгу о Дон Кихоте с улыбкой и со слезами, невольно набегающими на глаза, мы думаем, что всегда были на земле люди, которые, прежде чем вступиться за попранную справедливость, тщательно взвешивали в уме: разумно ли идти на бой с тем, кто может оказаться гораздо сильнее; и чья жизнь ценнее — твоя или того, чьи права топчут на твоих глазах?! Пока происходило это взвешивание — всякая работа требует времени, — ребенка успевали избить, бедняка посадить в тюрьму, а еретика отправить на костер.
И были люди — во всяком случае, один такой человек был, тот, кого в его родном селе в Ламанче называли Алонсо Добрый, а мы знаем под именем Дон Кихота, — были люди, которые очертя голову бросались на творящих зло. И часто они совершали поступки совершенно безрассудные — часто, не соразмерив силы, бывали избиваемы до смерти, а иные из них погибали.
И когда разумные люди пытались взвесить пользу, принесенную смелостью этих безумцев, чаши весов оставались неподвижными.
Чаши весов оставались неподвижными, но тысячи и тысячи людей, одно человеческое поколение за другим, думая об этих людях, чувствовали, как грудь сжимает то, что выражено в словах Корчака: «Тоска по жизни правды и справедливости, которой нет, но которая когда-то наступит»; прочитав это, мы вглядываемся в самих себя — не странно ли искать в своем сердце тоску, как некую драгоценность, без которой жизнь теряет смысл.
И иногда мы думаем, утешая и успокаивая себя, что ведь и три столетия назад, когда Дон Кихот первый раз выезжал из ворот своего бедного жилища на поля Ламанчи, большинству людей он казался безумцем, дерзко и безнадежно пытающимся воскресить то, что давно умерло, а может быть, и не существовало никогда.
Но мы узнавали жизнь Януша Корчака, Сент-Экзюпери, Ванчуры и понимали, что такие люди существуют всегда, и не только в книгах, — и частица их есть в каждом человеке, хотя иногда и самая малая частица. Вот ведь и Петр Ершов собирался «воздвигнуть падшие народы», вооруженный лишь своей флейточкой; иному и это покажется смешным, а иной, вспомнив Дон Кихота, с невольной гордостью повторит слова Достоевского: «Вот мое заключение о жизни и — можете ли вы за него осудить меня?»
Что же касается Матиуша, то он по справедливости должен быть назван — Матиуш Добрый; и вся длинная и прекрасная сказка о нем — это сказка о поисках добра, о постижении добра, борьбе за добро, о том, что добро — в основе человека; но об этом же и сказочная книга о Дон Кихоте.
Вначале Матиушу представляется, что делать добро просто: он приказывает раздать всем детям в королевстве шоколад и выполняет мечту дочери пожарника Иренки, которая хочет иметь куклу, большую, «до потолка»; но постепенно цель отодвигается и отодвигается... Потом она снова возникает, но на расстоянии, которое иначе не определишь как расстояние подвига.
Легко раздать шоколад детям, даже если их, как в королевстве Матиуша, пять миллионов. Насколько труднее дать хотя бы одному человеку счастье или хотя бы спокойствие, пока существует на земле неравенство.
Матиуш убегает на фронт. В войну с фашистами у нас было много таких отважных ребят, «сыновей полка», как их называли.
... Солдаты с ласковой насмешкой прозвали Матиуша «Вырвидуб». Но он и на самом деле не только с честью переносит все, что ожидает человека на войне — голод, холод, свист пуль над головой, эту неумолкаемую песню самой смерти, — но и совершает подвиги; узнает, где расположен вражеский склад боеприпасов, и снаряды, мины, пулеметные ленты, бомбы, вместо того чтобы убивать, фейерверком взлетают в небо. Пока Матиуш воюет, министры велят фабриканту игрушек, тому самому, который изготовил подарок для Иренки, сделать куклу, в точности похожую на Матиуша и умеющую отдавать честь и кивать головой.
По правде сказать, кукольный Матиуш нравится им несравненно больше, чем живой: в фарфоровую голову, слава богу, не приходят «вздорные» мысли, которые прямо-таки переполняют этого «несносного» мальчишку Матиуша; чем меньше мыслей, тем лучше — если не для королевства, то, во всяком случае, для королевских министров.
И если Матиуш еще некоторое время не объявится, министры снова призовут игрушечного фабриканта и скажут ему:
— Слушай, мы приказываем научить их величество фарфорового короля говорить, но, конечно, только то, что угодно нам.
— Пожалуйста! — ответил фабрикант. — Соблаговолите предложить четыре фразы, и их фарфоровое величество станет повторять эти повеления по мере необходимости и по вашему усмотрению.
— Казнить! — хрипло пробормочет Злой министр. — Самое королевское слово.
— Смирно! — отрывисто выкрикнет Военный министр. — Самая королевская команда!
— Наградить! — елейным голосом предложит Старший министр. — У их величества преданнейшие министры.
— И надо еще эдакое мудрое, поскольку подданные любят эдакое мудреное, — в свою очередь произнесет министр Просвещения. — Ну, например, гм... «Короли... не ошибаются, поскольку если бы они ошибались, то... гм... то не могли бы поступать безошибочно...»
Утопия возникает и гибнет
Говорящей кукле не суждено вступить на престол, хотя не одно королевство благополучно управлялось при помощи этих же четырех фраз. Матиуш не погиб на войне. Вернулся он и из опасного путешествия в глубины Африки, да еще привез с собой золото и диких зверей для зоопарка, подаренных ему королем Бум-Друмом. Он завоевал дружбу негритянского народа; а самое главное — с ним приехала черная принцесса Клу-Клу.
Прежде чем продолжать главу, мне хочется самому себе объяснить, почему эта история о короле Матиуше Первом — сказка, если все там происходит в самом что ни на есть реальном мире и если нет в этой истории ни волшебников, ни чудес.
Но верно ли, что нет?
Разве можно усомниться, что Клу-Клу волшебница, когда читаешь, как она помогла Матиушу воевать с вражескими королями, взявшими его в плен. И когда Матиуш все-таки оказался в заточении, она подняла на войну за него негритянских воинов.
Кто же она, если не волшебница? Друг? Так ли глубока граница между двумя словами — волшебник и друг? Кто скажет, какое из них «волшебнее»...
И разве не чудо — королевство, которым правит мальчик?
... Однажды после всех своих побед Матиуш, скрестив руки на груди, пройдет мимо дворцового зеркала и, взглянув на отражение в золотой раме, подумает: «Ого! Я совсем как Наполеон». Но, к счастью, он тут же рассмеется.
Тогда-то он придет к самым важным своим решениям.
Дарить приятно, но не справедливее ли, если жители страны сами станут распределять богатства, созданные их трудом и защищенные их мужеством, подумает Матиуш.
Легко представить себе, как такая прекрасная, но при этом простая и естественная мысль рождается в светлом разуме ребенка, если верить в то, что чувство справедливости — в основе человеческой натуры. Управлять судьбами людей приятно, но не справедливее ли, чтобы люди сами управляли собой, подумает Матиуш.
И вслед за этой ему придет в голову другая мысль. Кроме власти короля над подданными, есть власть сильных над слабыми, взрослых над детьми. Взрослый хочет сделать ребенка таким, как он сам, будто в этом высший идеал. И, забыв свое детство, он иногда всячески запрещает детям то, без чего когда-то, ребенком, не мог бы прожить и дня: часы шумных игр на дворе и мгновенья, когда, отвернувшись от школьной доски, смотришь на летящие снежинки...
И когда эта мысль окрепнет в нем, он решит создать детский парламент, какого никогда еще не было в мире.
... Три с половиной века назад в Англии, которой правил полубезумный король, великий мыслитель Томас Мор написал книгу об острове «Утопия», где нет ни богатых, ни бедных, собственность принадлежит обществу, все должны трудиться и государством управляют мудрые граждане, избранные отцами семейств.
Томас Мор окончил жизнь на плахе. Но и когда он писал свое сочинение, еще не предугадывая гибели, мог ли он надеяться увидеть осуществленным государство разума, равенства и труда? Поэтому-то он и назвал свой остров «Утопия», что на греческом языке означает: «место, которого нет».
С тех пор было написано немало книг о государствах будущего, и слово «утопия» приобрело общее значение несбыточной мечты.
И Януш Корчак писал утопию. Одну из многих в длинном ряду, но первую, которая пыталась предсказать законы не взрослой, а детской жизни. И первую, которой предназначено было осуществиться не в неведомые времена, а очень скоро — даже завтра, может быть. И не «где-то там», а в Варшаве, в этом самом доме на Крахмальной.
Но тут она, эта детская утопия, только начнет жить, думал Корчак, весть о самоуправляющемся детском обществе разнесется по миру и непременно вызовет отклик в сердцах.
Так и произошло. Минуло совсем немного лет, и самоуправляющиеся школы-интернаты, детские дома, детские коммуны возникли и далеко за границами Польши. Одни из этих школ родились как эхо замыслов Корчака, а другие — сами по себе. Дожди прольются везде, «когда весенний первый гром...».
Особенно много самоуправляющихся детских школ было создано у нас в стране после Октябрьской революции. И Антон Семенович Макаренко, построив в Харькове коммуну — для ребят тоже обездоленных, лишенных родительской ласки, раненных судьбой, — тут, в этой коммуне, придумал план создания союза детских коммун, детского государства, республики детей со свободно избранным правительством.
У Корчака — сказка, а у Макаренко — план. Но стоит приглядеться, и увидишь в корчаковской сказке черты плана, рассчитанного на немедленное осуществление, а в макаренковском плане — сказку.
Итак, детский парламент. Вот он уже возник под пером Януша Корчака — «скоро сказка сказывается...». Из широко распахнутых окон огромного, но при этом немного игрушечного здания несется шум и гам, как из школы во время большой перемены. А потом все разом смолкает, и Матиуш произносит первую речь перед депутатами-детьми.
Он говорит:
— Вы — представители всех детей страны. Я хотел так управлять, чтобы вам было хорошо. Но не в моих силах угадать желания и мечты всех. Вам легче: одни знают, что нужно малышам, другие — что нужно старшим детям. Когда-нибудь дети всего мира — белые, черные, желтые — съедутся, как собираются иногда правители взрослых, и скажут, что им нужно.
Депутаты этого парламента не любят длинных речей — они предпочитают выкрикивать предложения с места, да еще перебивая друг друга; может быть, сперва и не уловишь смысла в этой разноголосице, но вспомним, что и в птичьем гомоне есть смысл, и вслушаемся вместе с Корчаком в голоса детей, впервые — пока только в сказке — призванных решать свою судьбу.
— Я хочу держать голубей! — кричит один депутат.
— А я — собаку!
— И чтобы нам рассказывали сказки.
— Чтобы у каждого был свой шкафчик.
— У отца тринадцать карманов, а у меня только два; вот я и теряю носовые платки, а меня за это ругают.
— Хочу, чтобы каждый день была елка.
— И первое апреля. И Новый год.
— Чтобы был такой день в году, когда все взрослые сидели бы по домам, а в гости, и в театр, и в цирк ходили бы только дети.
— Хочу быть волшебником!..
— Хватит! Да это же вздор, — скажет серьезный человек и в сердцах захлопнет книгу. — Ха-ха, голуби... собаки... каждый день первое апреля...
Прав ли он? Не станем торопиться с ответом. Подумаем, перенесемся в безвозвратное время, которое называется «когда я был маленьким», и взглянем на сказку оттуда. Осудить — никогда не поздно, понять — никогда не слишком рано... Оно очень недолговечно, это детское правительство, и голос его трудно уловить в войнах, голоде, горе, переполняющих мир.
Но, вопреки всему, вслушаемся в этот слабый голос.
Собаки... голуби... Вспомни, вот ты впервые держишь в руках — «в горстях», говорил Аксаков, щенка, слепого, беспомощного. Тепло, мягкое, трепещущее, через ладони бьется в тебя. Что-то прежде никогда не испытанное переполняет грудь; потом ты поймешь: это чувство сострадания к слабому, ответственности за все живое. И когда появится в тебе это тепло, смотри не растеряй его.
Вспомни: голуби кружат в небе, оживленном таинственной птичьей жизнью. Чем они привязаны к тебе? Что заставит их прилететь к тебе даже за тысячи километров? Какое счастье, что существуют незримые нити, соединяющие тебя с природой.
Нет, вопрос о щенках и голубях, поднятый депутатами детского парламента, нельзя называть пустячным.
И вспомни, как ты лежал в постели, изо всех сил сжимая веки, но не мог уснуть, потому что ты остался один в доме. Как в темноте ты прислушивался к скрипу ступенек — ждал, ждал...
Подумай о том, что во времена Корчака хорошо если на тысячу театров, кино, клубов и других увеселительных заведений для взрослых нашелся бы один театр детский; вспомни это, и тогда предложение, чтобы раз в году взрослые сидели дома, а все театры, цирки, кино, клубы были отданы детям, не должно показаться нелепым.
Один денечек, когда все дети будут ходить друг к другу в гости, когда на улицах не станет машин и торопливых прохожих, так что даже на самых больших площадях можно будет играть в футбол и казаки-разбойники.
Один денечек, когда не дети, а взрослые будут с замирающим сердцем прислушиваться к тишине одиночества и ждать скрипа ступенек под ногами возвращающихся детей. Один денечек в году... Есть страны, где уже с шести лет ребенок работает в поле наравне с родителями. Но даже и не шесть, а шестнадцать лет — совсем короткий срок, если вспомнить, с какой ошеломительной, отчаянной быстротой летят детские годы.
Нет, это все не пустяки. И даже предложение, чтобы в году было не одно, а много «первых апреля», откроет свой глубокий смысл, если мы поймем, что потребность выдумывать, сочинять — да так, чтобы твоей выдумке верили, — одно из главных свойств детства.
Серьезный человек совсем не прав. Депутаты детского парламента занимаются важнейшими, неотложнейшими для детей вопросами. Парламент чудесно начинает свою работу. Но как сложится его судьба дальше? «Конец — делу венец» — говорит пословица. Каков же будет этот конец?
Сумеет ли и впредь детский парламент жить так, чтобы думать всем вместе, сообща решая общую судьбу, или на смену маленькому королю Матиушу, мудро отказавшемуся от единоличной власти, придет и навяжет свою волю парламенту какой-нибудь властный подросток? Ведь «сильные и слабые» означает не только «взрослые и дети»; среди детей тоже есть властолюбцы, стремящиеся подавить сверстников.
«Люди бывают спокойные и беспокойные», — запишет в своем дневнике Матиуш.
Он напишет это на необитаемом острове, куда сошлют его короли враждебных стран. Напишет и оторвется от пера, потому что на колени к нему вскарабкается и требовательно ткнется в ладонь крошечный зверек вроде крысенка. Он погладит ласкового крысенка, и в руке его окажется пустой орех с запиской от Клу-Клу; она-то не покинула его и в неволе. Он прочтет записку, и глаза его встретятся с блестящими, смелыми глазами зверька.
— Маленький почтальон-крысенок тоже беспокойный, но по-другому, чем, например, лев. Беспокойные люди бывают добрые и злые. Если на свете будет много беспокойных и добрых, это хорошо. А если много беспокойных и злых — плохо», — запишет он в дневнике.
Но вернемся в парламент. Так кто же одержит там верх — добрые или злые?
... Давно уже, а может быть, и никогда прежде не было так тревожно на душе у Януша Корчака, как в дни, когда он писал главы о недолгих днях правления детского парламента в королевстве Матиуша. Ведь он привел в сказку реально существующих ребят, которых знал и любил. Сейчас эти ребята спят под той же кровлей, где их сказочные воплощения совершают сужденный им путь; строка за строкой, как день за днем.
Ребята спят. Один улыбается во сне, другой неутешно всхлипнул: тени сиротского прошлого скользят по лицам. Этим теням не скажешь: «Сгинь, сгинь, рассыпься!» Они могут проникнуть и в будущее, рождая беды. Если не уничтожить их пагубного влияния...
Но как это сделать?
В чердачной комнате перед глазами Корчака снова и снова возникают ребята, и он должен угадать их судьбу; угадать судьбы, а не выдумать, не сочинить их. Ребята ведут сказочника за собой, и он не вправе отклониться от дорог, ими избираемых.
Фелек, первый друг Матиуша, сын вахмистра дворцовой охраны, просит, чтобы его назначили детским министром, почти что детским диктатором. Нет, он не просит, а требует.
И Матиуш не находит в себе сил, разума, предусмотрительности отказать ему.
Но кто же он такой, Фелек? Добрый он или злой? Да и можно ли этими двумя словами определить человека?
На необитаемом острове Матиуш попросит, чтобы взрослую охрану, приставленную к нему враждебными королями, заменили охраной из подростков. Он думает, что с подростками ему скорее удастся сдружиться, чем со взрослыми. Но оказывается по-другому. Новая охрана всячески изводит пленного короля. Как-то, доведенный до крайности, Матиуш подрался с одним из своих охранников, Филиппом, старшим и гораздо более сильным, чем Матиуш. Подрались и помирились. Пораженный бесстрашием Матиуша и добротой его Филипп после драки признался:
— Чего таиться. Дым в замочную скважину пускал я. Часы испортил тоже я. Я украл весла и лодку. Я нарочно делал назло, пакостил, мстил, потому что меня самого всю жизнь несправедливо обижали.
И Матиуш узнал, что Филиппа, когда ему было десять лет, обвинили в воровстве и отдали в исправительный дом. Там он голодал, терпел побои. Били его все кому не лень: надзиратель, сторож, мастер, ребята постарше. Слабые прислуживали сильным. Кто что бы ни набедокурил, а вину сваливали на слабого. Сильный отнимал у слабого хлеб и сахар. Там Филипп научился врать, выкручиваться, жульничать.
— Но что сделал тебе плохого я? Почему ты меня обижал? — спросил Матиуш.
— Сам не знаю, — ответил Филипп. — Просто зло брало, что на свете есть короли и воры. И потом, захотелось проверить, правда ли, что есть короли добрые, вроде тех, о которых пишут в сказках.
Это лживая мудрость: «За битого двух небитых дают». Это мудрость тех, кто охотно поменял бы всех свободных, гордых людей на рабов, тех, кому только и нужно, чтобы окружающие безропотно исполняли их волю. Кулаком можно отбить не только легкие, но и душу. Человек, униженный в детстве, когда он был совсем беспомощным, набравшись сил, может сам превратиться в насильника, самодура, тирана.
Нет, Фелек, которого отец беспощадно порол ремнем за самые пустячные проступки, все-таки не стал жестоким. Он храбрый, а смелость редко уживается с мстительностью; он великодушен и способен к бескорыстной дружбе. За это и полюбил его Матиуш. Но ученые знают, что один организм противостоит микробам — он обладает естественным иммунитетом, а другой легко поддается заразе. У Фелека нет естественного сопротивления злу, оно выбито отцовским ремнем. На горе, рядом с Фелеком оказывается фальшивый, продажный человек — наемник Молодого короля из соседнего государства, главного врага Матиуша. Этот шпион подсказывает Фелеку идею, которая вначале кажется детскому воображению такой заманчивой: пусть все будет наоборот — взрослые сядут за школьные парты, а дети станут работать на фабриках, водить поезда, готовить обед. Пусть взрослые вспомнят, каково оно учить уроки, получать двойки и стоять в углу.
И начинается в сказке эта странная «наоборотная» жизнь. Да, вначале она представляется веселой и милой. Девочка приготовила обед: на первое — кисель с молоком, на второе — варенье, ну, а на третье... На третье, конечно, мороженое.
Взрослые рады вспомнить школьные годы, а старая бабушка счастлива: она получила по родному языку пятерку и теперь сама прочтет письмо от внука.
Обо всем этом, славном и забавном, Матиуш узнает от Фелека — детского министра, и из газеты, которую редактирует тот самый журналист, наемник Молодого короля. Но в королевстве происходят и другие вещи, совсем не смешные: поезд сошел с рельсов, на фабриках сломаны лучшие станки, взорвался пороховой завод.
Трудно, ох как трудно вдруг стать взрослым и выполнять всю сложную взрослую работу... Да и кому это на пользу? Разве депутаты детского парламента мечтали заменить ребячью жизнь взрослой?
Непоправимо поздно доходит до маленького короля Матиуша правда. А тут еще предатель журналист сочинил поддельное письмо Матиуша, где детей всего мира призывают поднять восстание против взрослых и захватить власть. Предатель разослал это подложное письмо королям соседних государств, и три короля вторглись своими армиями в королевство Матиуша.
А пороха нет! Ведь пороховой завод взорван. Чем защищаться? В последние минуты, когда враг у стен столицы, Клу-Клу предлагает отчаянный план: выпустить против врагов львов, тигров и других диких африканских зверей.
Наступающие цепи дрогнули. Но несколько изменников поднимают над самыми высокими зданиями — может быть, и над детским парламентом? — белые флаги: столица сдается на милость врага.
Для Матиуша даже не так страшно это поражение и то, что он попадает на необитаемый остров, а после и в тюрьму. Страшно другое... Там, в тюрьме, один из каторжан спросит Матиуша, за что его лишили свободы.
— За ужасное преступление. Я хотел предоставить детям свободу, и из-за этого погибло много людей.
— Сколько? Трое, четверо? — спросит каторжник.
— Больше тысячи.
— Да, сынок, так в жизни часто бывает, — скажет каторжник. — Человек хочет одного, а получается другое. И я когда-то был маленьким мальчиком, ходил в школу, играл с товарищами, а по вечерам отец, возвращаясь с работы, приносил мне конфеты. В оковах никто не рождается. Человек человека заковывает в цепи.
Страшно, что может быть и так: идешь к справедливой цели, кажется, она уже близка, и вот перед тобой только поле боя, раненые и убитые.
Вторая часть жизни Матиуша была очень бедна радостями, но как щедра она оказалась счастьем узнавания, понимания — а это самое высокое счастье на земле. Так говорит сказка Януша Корчака, и поэтому такая проникновенная мелодия звучит даже в самых тяжелых ее страницах. «Печаль моя светла...» Корчак и Сент-Экзюпери имели бы право повторить слова Пушкина.
Счастье узнавания... Маленький Матиуш узнает, что «в оковах никто не рождается. Человек человека заковывает в цепи». Но в мудрых словах старого каторжника мальчику открылось и другое: часто человек сам для себя кует цепи — их-то разорвать труднее всего.
У величайшего немецкого поэта Гёте есть строки: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто ежедневно с бою их берет». Матиуш думал, что поэт говорит об ежедневном бое со злом не на войне — не может поэт так уж воспевать войны, — а в самом себе. Прежде чем победить того же Молодого короля на поле сражения, надо победить зло — даже не зло, в Матиуше его и нет, а непонимание — в самом себе. Иначе и полный разгром врага может обернуться горестным поражением.
Он думал: будущее покажет, могу ли я и должен ли быть королем, и нуждается ли королевство во властителе; но кто бы ты ни был, самим собой ты должен уметь властвовать и должен уметь жить с людьми, не нанося им обид.
Он думал: непонимание непременно рождает зло и горе. Вот он не разобрался в Фелеке и в предателе журналисте — сколько крови пролилось из-за этого; да и самого Фелека его, Матиуша, непонимание сделало несчастным.
На необитаемом острове Матиуш запишет в дневнике: «Какие разные бывают люди на свете».
Вот в этом главное. Как различны люди — простые слова, но все переменится, когда ты осознаешь их.
Рождаясь, мы видим один серый цвет. Лишь постепенно постигает ребенок бессчетное богатство всех красок, какие существуют на свете: растений и животных, морей и гор, восходов и закатов. Тогда он начинает рисовать удивительные картины... Все различно на земле, нет конца этому разнообразию красок, цветов, а больше всего — характеров человеческих.
Вот на маяке рядом с необитаемым островом живут крошечная девочка Ала и Ало — мальчик почти одних лет с Матиушем. Матиуш приплывает на маяк и знакомится с детьми. Вначале Ала кажется ему капризной, надоедливой, непонятливой. Но потом какая чудесная дружба связывает их.
Перед побегом с необитаемого острова Матиуш выложил на стол ракушку, которую подарил ему Ало, и камешек — подарок Алы. И сразу позабыл обо всех бедах.
Хотя на берегу тьма-тьмущая ракушек, думает он, но эта особенная. Ведь, даря ее, Ало сказал:
— На, возьми за то, что научил меня грамоте.
И второго такого камешка нет на свете. Его дала ему Ала и улыбнулась. Разве найдешь на свете камешек, у которого в середке запрятана улыбка Алы?
Подумав это, Матиуш запишет в дневнике: «Если к маленьким и беззащитным относиться бережно и с любовью, они все тебе расскажут, даже камень и ракушка заговорят».
На необитаемом острове водились дикие канарейки, и Матиуш выпустил к ним из клетки свою любимую домашнюю канарейку, с которой не разлучался ни во дворце, ни в тюрьме, ни в изгнании. Несколько секунд вольные птицы рассматривали гостью, перекликаясь на своем непонятном языке, и вдруг всей стаей набросились на нее. Потом, когда Матиушу приходилось жить с ребятами, привыкшими к тяжелой и несправедливой жизни, и те встречали его, как врага, он вспоминал бедную свою канарейку и ее диких собратьев с необитаемого острова: «Они тоже не понимали ее».
И ему становилось легче.
... Еще только один-единственный раз Матиушу суждено снова стать королем, но не королем-солдатом и не королем-полководцем, ведущим войска в сраженье, и даже не королем, одаривающим детей шоколадом, а истинно сказочным королем, наделенным единственным правом — просить людей помочь гибнущим и будить сердца для добра. Белые войска, вооруженные пушками и пулеметами, в конце концов разбили армию храбрых, но почти безоружных черных воинов и армию женщин, сменивших своих мужей и братьев в бою, и отчаянно храбрую армию негритянских детей, поднявшихся по призыву принцессы Клу-Клу на защиту Матиуша. Ужасающий голод и эпидемии самых опасных болезней распространились в Африке. Нельзя было ждать. Тогда, рискуя жизнью, Матиуш убежал с необитаемого острова и добрался до страны, пораженной несчастьем. Там он написал воззвание к детям всего мира:
«Дорогие братья и сестры, белые дети. Покажите, что вы добрые. Кто хочет пользоваться правами наравне со взрослыми, тот должен доказать, что у него есть ум и отзывчивое сердце. Помогите несчастным негритятам, они гибнут... У вас есть красивые платья, конфеты, игрушки, вы ходите в школу, поливаете цветы и даже едите хлеб с медом. А у бедных негритят ничего нет. Честное слово, я не лгу. Я побывал в разных странах и повидал много горя. Но такой беды не видывал. По сравнению с ней все человеческие несчастья меркнут. Негритята маленькие и слабые, к тому же — дикие, им самим трудно найти выход. Спешите на помощь».
Он подписал воззвание полным своим титулом — «Король Матиуш Первый», но это был последний раз, когда он назвал себя королем. Его просили снова вступить на трон, но он совершенно добровольно отказался и поступил работать на небольшую фабрику; ему необходимо было еще столько узнать и понять в жизни; и не издали, не из дворца.
Жил он в маленькой комнате на окраинной улочке столицы. Раньше эта захолустная улочка славилась скандалами, драками, кражами, рассказывает сказка на последних страницах, а теперь смутьяны и забулдыги приутихли. Какой-то мальчик выставил на подоконник горшок с цветком, и на другой день во всех окнах появились цветы; пусть Матиуш радуется, глядя на живую зелень, которую он всегда так любил. Даже дворники стали чаще мести мостовую. Словом, улица преобразилась, и полицейские с непривычки заскучали.
Однажды Матиуш нашел в ручке двери письмо:
Дорогой король Матиуш, — большими неумелыми буквами писала незнакомая девочка, — с тех пор как ты поселился на нашей улице, моего отца не узнать — он перестал пить, не бьет маму, не ругается. «Матиуш показал мне, как можно жить для других», — говорит он. Спасибо тебе.
Зося
... Андрей Платонов написал об одном из своих любимых героев, солдате гражданской войны: «И Никита понимал, что жизнь велика и, быть может, ему непосильна, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце, — она еще интереснее, сильнее и дороже в другом, недоступном ему человеке».
У того, кому суждено в конце концов после трудных испытаний стать вполне человеком, наступает время, когда он, как Никита, почувствует, что для того и даровано ему беспокойное бьющееся сердце, чтобы вмещать тех, с кем связала тебя судьба, так, чтобы их счастье становилось для тебя дороже собственного, чтобы слова «своя рубашка ближе к телу» казались тебе жалкими; это понимание, а не счастье удовлетворения желаний, счастье удовольствий, счастье власти — высшее и прекраснейшее из того, что может дать жизнь.
... Матиуш уже не был королем, перенес столько страданий, но теперь он, фабричный мальчишка с окраинной улицы, стал вполне человеком; как назвать его судьбу — счастливой или несчастливой?..
К Матиушу пришел Фелек — опустившийся, озлобленный. Снова Вырвидуб и Валигора, как звали их когда-то солдаты на войне, очутились вместе. Матиуш поселил Фелека в своей комнате и устроил на фабрику, в тот же цех, где работал сам. Иногда ему казалось, что Фелек успокоится, его захолодевшее сердце оттает. Но затишья проходили, на Фелека накатывали неудержимые порывы мстительного горя. Во время одного из таких припадков Матиуш попытался унять Фелека, тот с силой отшвырнул его; Матиуш попал в машину и был тяжело ранен. Врачи сделали все возможное, но им не удалось спасти мальчика.
Так страшно, даже безнадежно кончается сказка.
Значит, у сказки может быть и совсем печальный конец?
Так покажется, только если забыть о свете, который она излучает — далеко-далеко, через многие поколения. В этом свете рассеянный и беззащитный добрый чудак, может быть, разглядит все-таки, что наглый серый человек, который пытается командовать им, просто-напросто собственная его тень; а разглядев это, добрый чудак, может быть, и сумеет заставить тень занять положенное ей место. Может быть?! Вот и окажется, что даже у сказки «Тень», едва ли не самой печальной сказки Андерсена, счастливый конец — ведь она в какой-то мере предотвращает или пытается предотвратить власть теней.
И в сказке «Король Матиуш Первый» слезы и даже кровь пролиты не напрасно, а для того, чтобы, если только это возможно, в реальном мире не стало безвинных страданий детей или хотя бы стало их меньше. Сказочный свет правды струится из этой сказки в будущее — и в далекое и в самое близкое.
Каким чудом обретают эту таинственную силу слова сказочника?
Есть у Януша Корчака сказка-повесть «Койтусь чародей». Койтусь, обыкновенный мальчишка-школьник, получил дар творить волшебства. Вот он сидит в классе на задней парте, а у доски товарищ его не может решить простенький пример. Молоденькая учительница развернула журнал и занесла руку с пером, чтобы поставить единицу. Как помочь другу? «Пусть, — решает Койтусь, — на лицо учительницы сейчас же сядет муха». Желание чародея выполнилось. Учительница отмахнулась и снова взялась за перо, но уже десятки, сотни противных синих мух кружатся вокруг нее — жужжат, кусают. Несколько секунд учительница пыталась отогнать мух, беспомощно размахивая руками под смех всего класса, потом сгорбила плечи и горько заплакала. Тогда щемящая сердце жалость охватила Койтуся. «Пусть, — подумал он, — мухи исчезнут, и пусть на столе учительницы появится самая чудесная роза, какая есть на свете».
В то мгновение, пока это желание исполнялось, Койтусь почувствовал острую, почти непереносимую боль, будто роза, возникая, всеми своими шипами разрывала сердце волшебника.
Доброе волшебство всегда оплачивается дорого и только одним: кровью сердца, — вот о чем говорит сказка.
Из сказки — домой
Януш Корчак возвращался из королевства Матиуша в свою чердачную комнату на Крахмальной улице, постаревший, осунувшийся, будто перенес длительную тяжелую болезнь.
Трудно далась Старому доктору вечная разлука с маленьким королем-сиротой.
Теперь Корчак неотступно думал о главном: как предотвратить тут, в Доме сирот, все то, что привело к краху королевство Матиуша?
В Доме есть свой сейм — детский парламент. Передать власть ему?
А что, если и там, как в парламенте королевства Матиуша, всем станет заправлять сильный и властолюбивый подросток, слуга своих прихотей?
«Нет ничего хуже, когда многое зависит от одного, — писала «Школьная газета» Дома сирот. — Уж такова человеческая натура: когда кто-либо знает, что он незаменим, он начинает себе слишком многое позволять, а когда сознаёт, что без него обойдутся, скорее идет на уступки».
Чтобы предотвратить самую возможность господства властолюбцев — «террор злых сил», как выражался Корчак, — над сеймом должна существовать некая высшая власть: правда, справедливость. Должен быть создан закон, выражающий эту правду, и суд, следящий за соблюдением закона.
А что, если подростки, похожие на Фелека, возобладают и в суде?
Этого не произойдет, думал Корчак, раз состав суда будет назначаться по жребию из маленьких и больших ребят, из слабых и сильных.
Печальная история королевства Матиуша напоминала: одна правда должна стоять над всеми — и взрослыми и детьми, — населяющими маленькую детскую республику в Варшаве, Дом сирот. В законе о суде предусматривается право детей подавать жалобу и на воспитателя, если тот поступил несправедливо, и право, даже моральная обязанность, самого воспитателя просить суд дать оценку своему поступку при первом же сомнении в справедливости совершенного.
Если воспитатель никогда не сомневается в разумности своих действий, какой же он воспитатель, думал Корчак.
А если, усомнившись, он скроет свои колебания, как может такой человек учить правдивости; и все равно не уйдет он «от суда людского», все равно в спальнях, в темных углах, пусть тайком, шепотом, будет произнесен ребячий приговор, всегда менее обоснованный и более суровый, чем приговор открытого суда.
И с этим общим равенством перед законом в души ребят и в душу воспитателя — он ведь самого себя тоже продолжает воспитывать — входит сознание того, что хотя там, за стенами дома, в полуфашистской Польше Пилсудского, бесконтрольно правят жандармы, войты, большие и маленькие чиновники, те, кто обладает властью, деньгами, силой, тут все — обязательно все — подчиняются только закону справедливости.
Корчак сам несколько раз подавал на себя в суд: когда без достаточных оснований заподозрил девочку в краже, когда сгоряча оскорбил судью, когда выставил расшалившегося мальчишку из спальни.
Он давал показания, слушал выступления судей — маленьких и больших, — безропотно принимал приговор. В этом не было и тени позы, это каждый раз становилось для него серьезнейшей проверкой, важным личным событием, порой очень горьким и ранящим. Это позволяло ему еще и еще раз проверить себя; проверить, как его поведение воспринимается миром детей.
Один раз суд применил к нему семьдесят первую статью свода законов Дома сирот: «Суд прощает, потому что подсудимый жалеет, что так поступил». В другие разы была применена двадцать первая статья: «Суд считает,что подсудимый имел право так поступить».
«Я утверждаю, — писал Януш Корчак в книге «Дом сирот», — что эти несколько судебных дел были краеугольным камнем моего формирования как воспитателя, который не обижает детей не только потому, что хорошо к ним относится, а потому, что существует сила, защищающая детей от произвола, своевластия, деспотизма воспитателей».
Как пришел Корчак к идее детского суда?
В старинных польских хрониках говорится, что, если дети поспорят между собой и не смогут прийти к соглашению, надо назначить третейского судью. Он много раз перечитывал «хроники» и всегда глубоко задумывался над этими строками. У Достоевского в «Дневнике писателя» описывается суд, существовавший в одной из детских колоний для малолетних правонарушителей под Петербургом. Но там задача суда была только в том, чтобы определить меру наказания для несомненно виновного — чтобы осудить. И так как каждый подсудимый наказывался, осуждался, то само предание суду становилось унизительным.
И не было закона, стоящего над судом, а от этого участь подсудимого определялась иногда и произволом судей — ребят-колонистов и воспитателей.
Корчак пришел к мысли о своем суде еще совсем молодым учителем, задолго до Дома сирот, когда и король Матиуш существовал лишь в смутном замысле. В летней колонии в Михалувке, где он тогда работал, один из мальчиков загулялся в лесу, возвратился поздно и заставил изрядно переволноваться колонию. На собрании ребят, настроенных очень сурово, Корчак произнес замечательную защитительную речь, где доказывал, что хотя мальчик несомненно виновен, но ведь он был так поглощен лесом, природой, которую он, дитя городских трущоб, прежде совсем не знал, был так счастлив, что не смог совладать с собой и просто забыл обо всем на свете.
Вот это и должно было стать главным в детском суде: не осуждение, а рассуждение, разъяснение сути происшедшего.
Суд предупредит ребенка, если он совершил проступок, но главное, поможет ему понять самого себя. И даст возможность ребятам разобраться в поведении детдомовца, в чем-то дурном, а может быть, и не дурном, а просто непонятом другими, столкнувшимся с их волей.
Не осуждение, то есть и оно, но только в самом крайнем случае.
— Сейчас существуют суды, — писал Корчак о судах современной ему Польши, — эти суды нехорошие... Они назначают разные наказания: штрафы, аресты, каторжные работы, даже присуждают к смертной казни. И все время люди думают, как бы сделать так, чтобы суды были справедливые».
Наш суд и должен был быть таким справедливым судом.
Простить! Простить! Простить! — наперекор всему свету звучит почти во всех из тысячи статей закона Дома сирот. Вспомним, что Корчак вместе с детьми и другими воспитателями создавал этот закон в годы, когда не только отдельные люди, а целые государства, как Германия, становились на фашистский путь массовых убийств и пыток.
Доверие в корчаковском кодексе, обобщающем опыт детского отношения к миру, лишь постепенно, с боем, нехотя уступает место суровой необходимости осуждения.
Суть первых «прощающих» статей законодательства в том, что они помогают «подсудимому» разобраться в причинах совершенного им проступка и найти верные пути к исправлению. Они делают это с необыкновенной простотой, точностью и проникновением в психологию ребенка. Суд прощает А., потому что он сделал это (сказал) в гневе, он вспыльчивый, он исправится; потому что он сделал это из страха, он будет храбрее; потому что он слабый; суд прощает А., потому что полагает, что на него можно действовать только лаской; прощает — ведь А. этого так страшно хотелось, что не было сил удержаться; прощает, потому что А. в Доме сирот недавно и не может понять порядка без наказания; прощает, потому что А. скоро уйдет из Дома сирот, пусть он не покидает его обиженным; прощает А., потому что считает, что его портили чрезмерной доброжелательностью и поблажками. Суд предостерегает А., что перед законом все равны.
Есть в кодексе важнейшая девятнадцатая статья: «Суд усматривает в поступке А. не провинность, а пример гражданского мужества». Как важно, что суд независим и обладает правом и обязанностью выступить в защиту товарища, бесстрашно отстаивающего свои взгляды, свои решения и жизненные цели, даже если они расходятся с мнениями большинства.
Начиная с двухсотой статьи в кодексе все явственнее звучат гневные — нет, скорее, презрительные ноты. Ведь задача суда — не только воспитание человека, совершившего проступок, но и защита детского общества от ребят, обманувших доверие. Появляется очень важная девятисотая статья: «Мы потеряли надежду на то, что А. может исправиться сам, без посторонней помощи».
По поводу этой статьи Корчак писал: «Мы ему не верим», — говорит она. — «Мы его боимся». «Мы не хотим иметь с ним никакого дела». Другими словами, по статье девятисотой виновный исключается из интерната. Однако он может и остаться, если кто-нибудь возьмет его на поруки. И, уже исключенный, может вернуться, если найдет опекуна».
Когда к подсудимому применялась грозная девятисотая статья, в газете Дома сирот печаталось извещение: «Суд ищет для А. опекуна. Если в течение двух дней опекун не будет найден, А. исключается».
Опекун, которым становится либо воспитатель, либо кто-нибудь из ребят, отвечал перед судом за провинности осужденного.
Сильные духом и слабые...
Должен ли человек протянуть руку помощи товарищу, не просто раз оступившемуся, а такому, на которого махнула рукой вся детская республика? Вот ведь Матиуш так поступил и погиб, стал жертвой своей доброты... Статья девятисотая отвечает: должен, даже если это сопряжено с тяжелым трудом и опасностью.
Вдумайтесь в эту статью, и вы поймете, что и она, и все законодательство Дома сирот — это продолжение сказки о Матиуше, ее счастливый, потому что он несет людям радость, конец.
В бумагах Корчака, найденных после его гибели, сохранился дневник переписки девочки-опекунши с мальчиком, взятым ею на поруки. В нем словно присутствует сам Корчак, вслушивающийся и вслушивающийся в детство.
«Я хотел бы быть столяром, — пишет мальчик. — Когда я поеду путешествовать, я смогу тогда сделать сундук и в этот сундук положу разные свои вещи, и одежду, и уеду, и куплю саблю и ружье. Если на меня нападут дикие звери, я буду защищаться. Я очень люблю Гелю, но на девочке из Дома сирот я не женюсь.
Геля тоже тебя любит, — отвечает опекунша. — Но не очень, потому что ты хулиган. А почему ты не хочешь жениться на девочке из нашего детдома?
Я не хочу брать жену из нашего детдома потому, что мне будет стыдно. Когда я поеду путешествовать, чтобы открыть часть света, я научусь плавать даже в океане... А сначала я поеду к дикарям и проживу там три недели. Спокойной ночи.
Спокойной ночи. А ты будешь мне писать?
Я и Р. разговаривали о том, как мы жили дома. Я сказал, что у меня отец был портным, а у Р. отец сапожник... Я рассказал ему, как отец посылал меня за пуговицами, а Р. отец посылал за гвоздями. А остальное я забыл.
Пиши разборчивее.
Вот как будет. Когда я вернусь из путешествия, я женюсь. Посоветуй, на ком жениться: на Доре, на Геле или на Мане... Спокойной ночи.
Дора сказала, что ты еще сопляк, Маня не соглашается. А Геля смеется.
Ведь я не просил тебя их спрашивать, я только написал, кого я люблю. Теперь я ужасно расстроен, мне стыдно, я ведь только тебе одной написал, кого я люблю. И что теперь будет? Ведь мне стыдно к ним подойти. Пожалуйста, посоветуй мне, за какой стол лучше сесть, чтобы хорошо себя вести, и напиши мне какую-нибудь длинную-предлинную сказку. И, пожалуйста, никому не показывай мой дневник, а то я теперь боюсь писать. И мне очень нужно знать, как выглядит австралиец, какие они там.
Раз ни Доре, ни Мане, ни Геле не стыдно, так и тебе нечего стыдиться. В маленькой тетрадке сказки не пишут. Если ребята тебя примут, садись за третий стол. Австралийца я постараюсь тебе показать. А твой дневник я больше никому не стану давать читать.
Пожалуйста, посоветуй мне что-нибудь, у меня страшное горе: не знаю почему, но на уроках у меня из головы нейдет один мой недостаток — и боюсь я его, — как бы я не украл. Я никого не хочу огорчать и стараюсь исправиться. И чтобы об этом моем недостатке не вспоминать, я думаю о путешествиях. Спокойной ночи.
Ты очень хорошо сделал, что написал мне об этом. Я с тобой поговорю и что-нибудь посоветую; только, чур, не обижаться.
Я уже исправился. Я дружу с Г., и он меня исправил. И я очень стараюсь. У меня есть книжка о путешествиях, и я уже знаю 35 народов... А когда эта тетрадка кончится, мне дадут новую?.. Я буду писать обо всем, буду записывать всякие огорчения и о чем я думаю...
Мальчику было девять лет, опекунше — двенадцать. Девочка, чем-то удивительно похожая на Матиуша, как могла бы быть похожа сестра, если бы она у него была, и мальчик, из которого мог бы вырасти Фелек, если бы на пути его не встал суд и чуткое тепло другого ребенка.
— Судьи могут ошибаться, — говорил Корчак. — Судьи могут наказывать за проступки, которые и им самим доводится совершать. Но позор тому судье, который сознательно вынесет несправедливый приговор... Суд — это еще не сама справедливость, но он обязан стремиться к справедливости; суд — это еще не сама истина, но он жаждет истины.
Солнце остановить нельзя
Гитлеровцы оккупировали Польшу, и Дом сирот переводили в варшавское гетто. Корчак поднялся к себе на чердак, как всегда осторожно отворив железную дверь, чтобы не вспугнуть воробьев и голубей. Он попрощался с комнатой, где десятилетия жили птицы, и он, и больные дети, нуждающиеся в постоянном уходе, где родились король Матиуш и маленький чародей Койтусь.
К нему зашел пан Залаевский, сторож Дома сирот, и сказал, что решил переселиться за стену вместе с детьми и вместе с ним.
— Мы даем вам одно: тоску по лучшей жизни, которой нет, но которая когда-нибудь будет, по жизни правды и справедливости, — говорил Корчак своим воспитанникам.
Значит, тоска по правде и справедливости — сильная, сильнее смерти — входила и в сознание взрослых, сотрудников Корчака, так же, как в сознание детей.
Гитлеровцы избили Залаевского; полумертвый, он пробрался в варшавское гетто к детям. «Как же без детей. В конце — ребенок», — говорил Корчак. Это была как бы религия, которой жили взрослые в Доме сирот; благородная религия, не унижающая, а возвеличивающая человека.
В августе Залаевского расстреляли на дворе Дома сирот.
В гетто Дом сирот жил по-прежнему. Как всегда, действовали суд и сейм, издавалась газета. Стефания Вильчинская, ученица Корчака, тоже оставшаяся вместе с ним и ребятами, вела уроки с детьми. Корчак делал все невозможное — ничего «возможного» уже не оставалось, — чтобы каждое мгновение было для детей чуть счастливее; нет, не счастливее, а чуть менее страшным. До последнего дня в классах шли занятия, на сцене оживала сказка Рабиндраната Тагора.
В те дни Корчак писал в дневнике: «Пасмурное утро. Половина шестого. Кажется, день начинается нормально. Говорю Ганне:
— Доброе утро.
Она отвечает удивленным взглядом.
Прошу:
— Ну, улыбнись же.
Бывают бледные, чахлые, чахоточные улыбки».
Надо было «извлечь из своей души» силы жить и отдать их двумстам обреченным детям; насколько это труднее, чем умереть самому.
— Сотни людей пытались спасти Корчака, — рассказывает один из лучших его друзей. — На Белянах (район Варшавы) сняли для него комнату, приготовили документы. Он мог выйти из гетто в любую минуту, хотя бы со мной, когда я пришел к нему, имея пропуск на два лица. Корчак взглянул на меня так, что я съежился. Видно было, что он не ждал от меня такого предложения. Смысл ответа доктора был такой: «Не бросишь же своего ребенка в несчастье, болезни, опасности. А тут двести детей. Как оставить их одних — в запломбированном вагоне и газовой камере? И можно ли это пережить».
... В комнате Корчака — не той, на чердаке, откуда виден был весь мир, а в гетто — лежали больные дети и отец одной из воспитанниц — старый портной. Больных становилось все больше, и ширма, отгораживающая стол Корчака, надвигалась, вжимая хозяина комнаты в стену, надвигалась, как знак приближения конца.
Днем Корчак ходил по гетто, правдами и неправдами добывая пищу для детей. Он возвращался поздно вечером, пробирался по переулкам между мертвыми и умирающими — иногда с мешком гнилой картошки за спиной, а иногда с пустыми руками.
По ночам он приводил в порядок свои бумаги — бесценные тридцатилетние наблюдения над детьми, их ростом, физическим и духовным, — и писал дневник.
Он писал: «Последний год, последний месяц или час. Хотелось бы умирать, сохраняя присутствие духа и в полном сознании. Не знаю, что бы я сказал детям на прощание. Хотелось бы только сказать: сами избирайте свой путь».
Он еще надеялся, что умрет один, дети останутся. Не мог поверить, что есть кто-то, способный убивать и детей.
И, думая о детях, он повторял главную свою мысль: избирайте сами свой путь, не давайте подменить его чужими, навязанными вам путями.
Он писал: «Я поливаю цветы. Моя лысина в окне такая хорошая цель.
У часового винтовка. Почему он стоит и смотрит?
Нет приказа?
А может, в бытность свою штатским, он был сельским учителем, или нотариусом, дворником в Лейпциге, официантом в Кельне?
А что бы он сделал, кивни я ему головой? Дружески помаши рукой?
Может быть, он не знает, что все так, как есть?
Он мог приехать лишь вчера, издалека».
Это последняя дневниковая запись.
Значит, он еще верил тогда, что во всех людях, даже и в эсэсовце-часовом, есть человеческое.
Ненависть к злу необходима. Но человечеству необходимы и люди, до последней возможности не теряющие надежду, верящие, что «добро сильно и непобедимо».
Один из старших воспитанников Дома сирот совершил то, что казалось немыслимым — убежал из гетто. Через несколько дней, проходя по двору, Корчак встретил беглеца.
— Тебя поймали? — спросил он.
— Нет, — ответил мальчик. — Сам вернулся. Янек ведь слабак. Каково ему одному, да и привык я к нему...
Это было последнее узнавание светлого мира детства, сужденное Корчаку.
... Пятого августа сорок второго года по приказу гитлеровцев Дом сирот — дети и взрослые — выстроился на улице. Корчак и его дети начинали последний путь. Над детским строем развевалось зеленое знамя Матиуша. Корчак шел впереди, держа за руки самых маленьких мальчика и девочку. Фашисты невольно сторонились.
Вглядимся, в последний раз вглядимся в лица детей. Вот мальчик, дневник которого мы прочитали, так мечтавший путешествовать, «открыть часть света и побывать у дикарей». Ничего этого не исполнится. Вот его двенадцатилетняя поручительница. Вот Дора, Геля и Маня, между которыми разрывалось сердце маленького путешественника. Вот Хелька, сказавшая о себе: «Значит, я — человек». Вот мальчик, который совершил подвиг, бежав из гетто, и в тысячу раз больший и прекраснейший подвиг — вернувшись за стену, потому что там остался друг его — слабый и нуждающийся в помощи; вероятно, этот друг и сейчас рядом с ним. Двести ребят, двести неповторимых миров.
Сохранился рассказ очевидца о последних часах Дома сирот.
— Нам сообщили, что ведут школу медсестер, аптеки, детский приют Корчака. Стояла ужасная жара. Погрузка шла без перерыва, но места еще оставались. Люди двигались огромной толпой, подгоняемые нагайками. Вдруг пришел приказ вывести интернат. Нет, этого зрелища я никогда не забуду! Это не был обычный марш к вагонам, это был организованный немой протест против бандитизма!.. Началось шествие, какого никогда еще до сих пор не было. Выстроенные четверками дети. Во главе — Корчак, с глазами, устремленными вперед, держа двух детей за руки. Даже вспомогательная полиция встала «смирно» и отдала честь...
На Умшлагплаце к Корчаку подошел немецкий офицер и сказал:
— Вы можете остаться; мы знаем ваши сказки.
— А дети? — спросил Корчак.
— Дети поедут, — ответил эсэсовец.
Корчак молча вошел в вагон.
На следующий день он погиб вместе со своими детьми в одной из газовых камер лагеря смерти в Треблинке.
Накануне гибели детей Корчак писал: «Если бы можно было остановить солнце, то это надо было бы сделать именно сейчас».
Солнце остановить нельзя.
В Освенциме, Треблинке и других фашистских лагерях на вопрос: «Как выйти отсюда?» — отвечали: «Через трубу крематория, дымом».
Корчак вышел из Треблинки сказкой и заключенным в ней светом. Светом, по-новому озарившим больше всего нуждающуюся в свете, тепле, добре часть человечества. Светом, который сделал видимым для тех, кто этого хочет, невидимое раньше, светом, бесконечно необходимым людям, чтобы дети больше никому и никогда не казались «бедными лилипутиками».
Глава семнадцатая. Жизнь в сказке.
Мигель Де Сервантес Сааведра. Ганс Христиан Андерсен.
Я прихожу в библиотеку, как всегда, утром, к открытию читального зала. Горы сказочных книг — сказочные горы за эти годы не уменьшились, а, пожалуй, стали выше и, как в ущелье, сжимают стол с зеленой лампой, похожей на аиста. Как много сказок написали люди! Перед сказкой равны народы, обладающие высокой культурой, и самые бедные, не имеющие даже письменности, как равны они в таланте матери любить ребенка и в таланте ребенка воображать и жить мечтой.
Горы книг откидывают глубокую тень, но стоит взять один из томов и погрузиться в чтение, как синяя дорога расстилается перед тобой — через стены и пространства.
И ты летишь по ней, словно на диком гусе Мартине, прирученном Сельмой Лагерлёф.
Я уже готовлюсь отправиться в новое путешествие, торопливо собираюсь, волнуясь, как всегда волнуешься перед дальней дорогой, когда вдруг вспоминаю, что книга приблизилась к окончанию; и книги имеют свой срок: страницы — недели, главы — месяцы и годы.
Тут уж ничего не поделаешь, хотя далеко не все выполнено из задуманного и о стольких сказочниках надо было еще написать.
Непременно надо было написать о «Дон Кихоте» и его гениальном создателе. Ведь рыцарские романы, которые так презрительно высмеял Сервантес, были злыми сказками — есть и такие.
Эти злые сказки особенно жадно раскупались конкистадорами. В 1586 году, когда Сервантес создал первые главы «Дон Кихота», севильский книготорговец Диего Михея, один из распространителей рыцарских романов, отправил за океан, в Новую Испанию, много книжных посылок; в одной такой посылке было десять томов «Рыцаря Феба», четыре — «Амадиса Галльского» и шесть — «Подвигов Бернардо дель Карпьо».
У стен столицы инков солдат-конкистадор Берналь Диас дель Кастильо записал в дневнике: «Мы были поражены и говорили друг другу, что город этот походит на описываемые в книге об Амадисе очарованные места своими высокими башнями, шпилями и зданиями, поднимающимися из воды».
Сервантес мог отправить своего рыцаря Печального Образа в ту же «Новую Испанию»; там Дон Кихот легко завоевал бы остров для верного Санчо Пансы, там вместо бритвенного тазика и проржавелых доспехов он получил бы настоящее оружие и покрыл бы его кровью, что для многих равнозначно словам — «покрыл себя славой».
Но в тяжком рабстве и в тюремных мадридских стенах, где родина приютила величайшего своего писателя, что-то направило судьбу Дон Кихота по-иному, и он уже никак не мог превратиться в кровавого безумца, какими становились тысячи его современников и соотечественников, опьяненных, отравленных и оглушенных рыцарскими романами.
— Он не безумен, он дерзновенен! — говорил о Дон Кихоте Санчо Панса.
Все дело было в том, что Дон Кихот вобрал в себя, может быть даже помимо сознательной воли Сервантеса, всю жизнь этого неустрашимого человека: солдата, потерявшего в сражении руку и вознагражденного судьбой за подвиги многими годами рабства; раба, который, презирая пытки и смерть, организует один за другим дерзкие и безнадежные побеги; нищего, чья сестра, пытаясь скопить деньги на выкуп брата, продает себя; драматурга, отвергнутого театрами; фантазера, сто раз сталкивающегося с жизнью, чтобы каждый раз получить новую рану.
Однажды в Алжире, рассказывает биограф Сервантеса, талантливый немецкий писатель Бруно Франк, уже все было готово к побегу. Перед восходом солнца в заброшенном саду на берегу вместе со своим предводителем Сервантесом собралось пятнадцать рабов. Невдалеке осторожно крейсировал корабль, ожидая условного знака. Но одного из участников побега еще не было на месте, и Сервантес ждал.
— Скорее! Каждая минута дорога! — торопили беглецы.
— А Дорадор? — спросил Сервантес.
— Раз его нет... Пусть лучше один погибнет, чем все.
— Я никогда на это не соглашусь, — ответил Сервантес.
Вдруг в глубине сада послышался треск ломаемых сучьев и топот ног. Это был Дали-Мама, свирепый рабовладелец, с отрядом вооруженных стражников. Вел их Дорадор.
Ярость беглецов обратилась против Сервантеса. Столь велика была их ненависть, что они позабыли об изменнике, а, сжав кулаки, с дикими глазами, неистовствуя и проклиная, обступили Сервантеса. Тот отстранил исступленных рабов.
— Тебя я готов убить, — сказал он Дорадору, и было в лице этого обреченного на смерть, хрупкого человека нечто такое, что предатель скользнул за спину стражников и спрятался в чаще.
— Ты никого больше не убьешь, — сказал Дали-Мама. — Перед петлей тебе отрубят и правую руку. А твоим сообщникам — левую, чтобы впредь они были похожи на своего главаря.
— Увечить других — лишний убыток. Вам нет в этом надобности. Ни один человек не отважится на бегство, когда я умру.
— Это было сказано с убежденной и убеждающей серьезностью, — заключает Бруно Франк свой рассказ, — Сервантес сдался. Ему ничего не удавалось. Он больше не верил в свою звезду. Он погубил всех этих людей своим упрямством. И впредь он поступил бы так же...
«И впредь я поступил бы так же!» — думал и Дон Кихот, когда освободил закованных в цепи каторжников, а люди, обязанные ему свободой, обрушили на избавителя град камней.
Да, все дело было в том, что в печальном чудаке, вздумавшем восстановить давно забытые, а может быть, и никогда не существовавшие истинно рыцарские нравы, Сервантес вдруг увидел самого себя.
Над созданиями своего воображения художник не властен.
Он увидел себя в этом нелепом рыцаре, выведенном для осмеяния. И смех писателя, беспечальный в первых страницах романа, стал невыразимо горьким.
И если сначала Сервантес говорит от своего лица, то уже в девятой главе он словно вынужден придумать и ввести в роман «Сида Ахмета Бен-инхали, историка арабского», рукопись которого о приключениях Дон Кихота попадает в его руки.
Он делает это, как кажется, потому, что теперь, когда образ Дон Кихота раздвоился — безумец, фигура жалкая, пародийная, и самый прекрасный человек на земле, пытающийся жить по законам добра, хотя это и совершенно невозможно, — теперь Сервантесу необходимо отстраниться от своего героя, отдалиться от него, чтобы увидеть во весь рост эту чудную фигуру и описать ее, не поддаваясь чувствам, застилающим зрение; чтобы вполне постичь своего героя — самого себя? — и понять, может ли Дон Кихот существовать в этом мире и может ли мир существовать без него.
— Никто не отважится бороться с тобой, когда я умру, — говорил осужденный на смерть раб Сервантес не знающему жалости Дали-Мама.
Писатель ввел между собой и Дон Кихотом как бы беспристрастного свидетеля — не обвинения, не защиты, а самой истины. Он поручил эту роль сочиненному им арабскому историку, хотя на родине его, в Испании, так недавно закончилась реконкиста — отвоевание страны у мавров, и даже морисков — мавров, принявших христианство, — беспощадно изгоняли. Может быть, выбор Сервантеса объяснялся тем, что его пером запечатлевалась сама душа Испании, и тут ему тоже необходима была некоторая отдаленность, даже охлажденность, чтобы истинно почувствовать силу и слабость, заблуждения и высокие порывы этой души.
Роман как бы раздвоился на два великих произведения.
На последнюю книгу о вымышленных фальшивых рыцарских подвигах — эта книга развеивала мифы, скрывающие от людей истинную жизнь. В века завоеваний в стране, больше всего гордившейся покорением иноплеменных народов и чужих земель, она провозглашала, что нет разницы между Амадисом Галльским и конкистадором.
И на первую книгу о том, что если человек живет в эпоху инквизиции, господства насилия и неправды, он может примириться с насилием и неправдой («ничего не поделаешь») — примириться, убеждая себя, что ждет времени, когда они сами собой исчезнут, но может и создать вокруг себя особый сказочный мир без неправды и охранять его, не ведая сна, как охранял Дон Кихот свои доспехи в ночь рыцарского посвящения у колодца на дворе трактира — или замка, заколдованного в трактир; и может подняться на борьбу за свободу, даже зная, что враг сильнее.
Окружив себя сказкой, человек волен удалиться от мира, уйти в себя; подобным образом испокон веков поступали некоторые поэты и мудрецы.
Но в его воле и ворваться в реальный мир вместе со сказкой, вооруженным ею.
Так жил сам Сервантес, и такой же путь избрал созданный им Дон Кихот. «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него; ему суждено было действовать, мне — описывать...» — напишет Сервантес в конце романа.
То, что есть и такой путь — жизнь в сказке, когда эта сказка не переносится в безопасную даль, а остается в самой сердцевине мира, — с появлением романа о Дон Кихоте вошло в сознание человечества и знаменовало начало новой эпохи человеческой мысли.
Всюду хозяин, избивавший мальчика, прав, потому что он сильнее, и прав тюремщик, заковывающий людей в кандалы, и прав тот, кто презирает женщину, которую сам довел до нищеты, а потом предал и продал. А Дон Кихот просто не может пройти мимо, если избивают ребенка; и меч его не может остаться в бездействии, когда людей лишили свободы; и трактирная служанка для него — сказочная принцесса; сквозь черное клеймо, наложенное временем и несправедливостями жизни, он видит то, что составляет основу и сущность женщины — подруги, сестры, возлюбленной, матери, — все равно, богата она или бедна, счастливо или горько сложилась ее жизнь.
Вот так же не черное клеймо, первым бросающееся в глаза, а саму человеческую суть видели в тех, с кем сталкивала их судьба, и Погорельский, и Ершов, и Корчак, все те учителя и сказочники — призвания эти так близки, — о которых я писал в этой книге.
Везде вокруг Дон Кихота направление к истине и справедливости искажено предрассудками и жестокостью эпохи, а для Дон Кихота оно неизменно и вечно, как направление стрелки компаса.
Оболочка сказки, которой был окружен Дон Кихот, и создатель его, и Дон Кихоты всех последующих времен, — ужасно хрупка; она не спасает от побоев и ран, даже не облегчает их. Но, странное дело, все, кто выходит победителем в столкновениях с Дон Кихотом — тот же ученый, трезвый бакалавр Симон Карраско, те же герцог и герцогиня с их лакеями, так зло потешающиеся над Дон Кихотом и Санчо Пансой, — все они предстают перед нами мертвенными масками, лишенными того, что делает жизнь — жизнью человеческой; а Дон Кихот — Алонсо Добрый, даже испустив последний вздох, не покидает нас; где-то близко слышится спотыкающаяся, неверная поступь старого Росинанта.
Сто лет назад один мальчик — вернее, взрослый, заново переживающий впечатление раннего детства, — писал о Дон Кихоте: «Странно! «Жизнь и подвиги хитроумного рыцаря Дон Кихота Ламанчского, описанные Мигелем де Сервантесом Сааведра», были первой книгой, прочитанной мной в ту пору, когда я вступил уже в разумный детский возраст и до известной степени постиг грамоту. Я еще хорошо помню, как я однажды ранним утром тайком убежал из дому в дворцовый сад, чтобы без помехи почитать «Дон Кихота»... В детской своей простоте я все принимал за чистую монету; какие бы смешные шутки судьба ни играла с бедным героем, я был уверен, что так оно и должно быть, что все это связано с геройством — и насмешки и телесные раны; насмешки меня настолько же огорчали, насколько я живо чувствовал в душе боль от ран. Я был ребенок, и мне неведома была ирония, которую бог вдохнул в мир, а великий поэт отразил в своем печатном мирке, и я проливал горькие слезы, когда благородному рыцарю за все его благородство платили только неблагодарностью и побоями; и так как я, неискушенный в чтении, произносил каждое слово вслух, то птицы и деревья, ручей и цветы слышали все... и они также принимали все за чистую монету и проливали вместе со мной слезы над страданиями несчастного рыцаря; один старый заслуженный дуб даже рыдал, а водопад сильнее потрясал своей седой гривой и, казалось, выражал негодование на испорченность мира. Мы чувствовали, что геройский дух рыцаря заслуживает не меньшего восхищения оттого, что лев, не имея желания сражаться, повернул к нему спину и что его подвиги тем достохвальнее, чем слабее и худощавее его тело, чем более ветхи доспехи, его защищавшие, и чем плачевнее кляча, на которой он ехал. Мы презирали низкую чернь, так грубо расправлявшуюся с бедным героем, но еще более презирали чернь знатную, которая, щеголяя пестрым шелком плащей, изысканными оборотами речи и герцогскими титулами, издевалась над человеком, столь бесконечно превосходившим ее силой духа и благородством. Рыцарь Дульсинеи поднимался все выше в моих глазах и все больше завоевывал мою любовь... Никогда я не забуду дня, когда прочел о злосчастном поединке, в котором рыцарю суждено было претерпеть столь позорное поражение.
То был пасмурный день; отвратительные дождевые тучи тянулись в сером небе, желтые листья горестно падали с деревьев, тяжелые капли слез повисли на последних цветах... все являло мне образ тленности, и сердце мое готово было разорваться, когда я читал о том, как благородный рыцарь, оглушенный и весь смятый, лежал на земле и, не поднимая забрала, словно из могилы, говорил победителю слабым умирающим голосом: «Дульсинея — прекраснейшая женщина в мире, и я — несчастнейший рыцарь на земле, но не годится, чтобы слабость моя отвергала эту истину, — вонзайте копье, рыцарь!»
Мальчика, который, едва научившись грамоте, так читал и переживал эту первую и самую главную книгу, звали Генрих Гейне.
Рыцарь был распростерт на земле, но и поверженный он побеждал низкую равнодушную силу. И каждый, кто читает эти печальные и гордые страницы, каждый из нас, подобно великому поэту — одни на миг, а другие навсегда, — почувствует себя Дон Кихотом, рыцарем верности и добра.
... Да, надо было написать о Сервантесе и еще о многих других.
И конечно, о Гансе Христиане Андерсене; не только о некоторых его сказках, как сделано в книге, но и о жизни его, из которой сказки родились. Ведь сама книга впервые явилась мне в воображении много лет назад как мысль об Андерсене — прежде всего о нем.
Тогда же я достал его портрет и с тех пор постоянно ощущаю взгляд его маленьких, таких тревожных глаз, пристально глядящих с печального длинноносого лица.
В жизни Андерсена было много горького. Даже когда его полюбили дети и взрослые во всем мире, в том числе такие взрослые, как Чарльз Диккенс, Вольфганг Гёте, братья Гримм, Генрих Гейне, Виктор Гюго, на родине его очень многие говорили, что пишет он не серьезное — сказочки, да и сами эти сказочки пишет не так, а надо писать вот как.
В автобиографии, которую Андерсен назвал «Сказка моей жизни», он вспоминает, как некий кандидат богословия, автор водевилей и критических статей, решил «однажды в моем присутствии в знакомом доме разобрать одно из моих стихотворений, что называется, по косточкам; когда он кончил и отложил книжку в сторону, шестилетняя девочка, бывшая тут же и с удивлением прислушивающаяся к такой беспощадной критике, взяла книжку и сказала: «Вот есть еще одно словечко — «и»! Его вы не бранили». Кандидат покраснел и поцеловал девочку».
О первом выпуске сказок Андерсена датский литературный журнал «Деннора» писал: «Сказки эти могут позабавить детей, но считать их мало-мальски назидательными или ручаться за их полную безвредность нельзя. Вряд ли кто найдет особенно полезным для детей читать о принцессе, приезжающей по ночам на собаке к солдату, который целует ее...»
Когда была напечатана «Принцесса на горошине», тот же журнал заметил, что она «лишена соли».
Читая первые отзывы на сказки Андерсена и сравнивая их со статьями, которыми были встречены сказки Пушкина и Ершова, нельзя не подумать, что если сказочники в мире так прекрасно разны, то «не сказочники» — а это, должно быть, особая людская разновидность — до ужаса одинаковы.
Впрочем, тревогу и печаль в глазах Андерсена вряд ли можно объяснить лишь собственными его скорбями. В той же «Сказке моей жизни» он писал: «Мы посетили Помпею, Геркуланум и греческие храмы в Пестуме. Здесь я увидел слепую нищую — почти девочку еще, одетую в лохмотья, но дивную красавицу».
Прочитаем сказку «Девочка со спичками», и эта девочка возникнет перед нами — не надолго, чтобы в ту же ночь погибнуть. «В эту холодную и темную пору по улицам брела маленькая нищая девочка с непокрытой головой и босая. Правда, из дому она вышла обутая, но много ли было проку в огромных старых туфлях? Туфли эти прежде носила ее мать — вот какие они были большие, и девочка потеряла их сегодня, когда бросилась бежать через дорогу, испугавшись карет, которые мчались во весь опор. Одной туфли она так и не нашла, другую утащил какой-то мальчишка, заявив, что из нее выйдет отличная люлька для его будущих ребят».
Мир отражался в скорбных глазах Андерсена.
И тут вспоминается его детство, в котором главные истоки творчества.
Он родился в маленьком датском городке Оденсе, в бедной семье, рано лишился отца, завербовавшегося в солдаты, чтобы избавить семью от нищеты, и не вернувшегося.
Солдату суждено было вернуться только в сказках сына — веселым и неунывающим.
Горе утрат и разлук, преследовавших Андерсена, смягчалось, когда он призывал на помощь сказочные видения.
Кто-то из друзей сказал, что в обычной жизни он чувствовал себя как в театре, все время ожидая чудес, огорчаясь и досадуя, если чудес не случалось, а в театре ему казалось, что перед ним реальная жизнь; подобно Дон Кихоту, он не ведал разницы между мечом картонным, из театрального реквизита, и стальным.
В детстве он часами просиживал на берегу реки у кротовой норы, и когда хозяин выглядывал из своего жилища, ему ужасно хотелось расспросить его, что делается на другой стороне земли, куда, несомненно, ведут подземные ходы. Рядом с домом, где жили Андерсены, свил себе гнездо аист; веснами мальчик первым встречал мудрую птицу после возвращения ее из дальних стран. Больше всего тогда он желал бы выучить языки птиц и зверей. Нам, читавшим его сказки, известно, что эта его мечта исполнилась.
И больше всего на свете ему хотелось стать актером, работать, а правильнее было бы сказать — жить в театре. Тут невольно вспоминается, что и у Аксакова, и у Пушкина увлечение театром предшествовало их приходу в поэзию, а потом осталось навсегда. Видимо, если ремесло сказочника соприкасается с учительством, то так же неразрывно оно и с игрой, особенно с игрой в театр. В основе всех этих трех искусств, как кажется, одно — сила воображения. Вообразить судьбу своего героя; вообразить чувства ребенка, которого ты учишь, и будущее его, во многом зависящее от твоего слова; слиться в воображении с тем, чью судьбу тебе суждено представить на сцене.
Мать Ганса Христиана, видевшая у себя в Оденсе только канатных плясунов и странствующих актеров-бедолаг, сказала сыну, когда тот открыл ей свое окончательное решение стать актером:
— Вот когда попробуешь колотушек. Заставят тебя голодать, чтобы ты был полегче, станут тебя пичкать деревянным маслом, чтобы ты был гибче! Нет, ты пойдешь в портные. Посмотри только, как живется портному Стегману! Не житье, а масленица!
Но уже ничто не могло остановить его. Он должен был писать для театра, да так, чтобы самому исполнять главную роль. Мальчиком он сочинил пьесу «Карас и Эльвира» — об отшельнике и немыслимой красавице. Эльвира выражалась исключительно стихами, нежными, романтическими и отменно длинными, отшельник отвечал ей столь же пространно отрывками из священных книг.
Выслушав пьесу, соседка, подавив легкий вздох, сказала:
— Лучше бы не Карас и Эльвира, а карась и корюшка.
Критику эту он запомнил, а может быть даже, она была одной из немногих, оказавших влияние на его творчество.
— Я могу назвать только трех писателей, которые в юности как бы перешли в мою плоть и кровь, — это Вальтер Скотт, Гофман и Гейне, — говорил Андерсен.
Потом он прибавил к этому списку еще Шекспира.
В детских произведениях он подражал своим кумирам, но всякий раз пытался внести в сочинение нечто свое.
У Шекспира короли и принцессы говорили точно так же, как обыкновенные люди, но мне это показалось не совсем верным, — вспоминал Андерсен. — Очевидцы, видевшие короля в Оденсе, утверждали, что он «изъяснялся по-иностранному». Я достал датско-немецко-французско-английский словарь, и мой Король заговорил так: «Гутен морген, мон пер. Хорошо ли вы шлеепинг?»
Уже перейдя от мальчишеских опытов к серьезной литературе, Андерсен не сразу нашел единственно свой путь, но и тогда, в юности, в его творчестве чувствовалось нечто такое светлое — «чистый тон», сказал бы другой замечательный северный писатель, Халлдор Лакснесс, — что вызывало у лучших людей ответную волну нежности.
В 1823 году датский ученый и редактор «Восточно-Зееландских ведомостей» пастор Бастгольм, прочитав одно из сочинений восемнадцатилетнего Андерсена, писал ему: «Сделайтесь таким поэтом, как будто до вас не было ни одного поэта, как будто вам не у кого было учиться, и берегите в себе благородство, и высоту помыслов, и чистоту душевную. Без этого поэту не стяжать себе венца бессмертья».
В сказках он стал таким, «как будто до него не было ни одного поэта».
Он очень медленно взрослел и с годами не отдалялся от того, чем живет детство. В шестнадцать лет он так же самозабвенно играл в куклы — в куклы-артисты, как и шестилетним ребенком.
«Ежедневно, — вспоминал он, — я шил куклам новые наряды, а чтобы добыть для этого пестрых тряпок, ходил по магазинам и выпрашивал образчики материй и шелковых лент. Фантазия моя была до того поглощена кукольными нарядами, что я часто останавливался на улице и рассматривал богатых барынь, разряженных в шелк и бархат, представляя себе, сколько королевских мантий, шлейфов и рыцарских костюмов мог бы выкроить из их одежд. Мысленно я уже видел эти наряды у себя под ножницами».
Купчихи и чиновницы Копенгагена ловили на себе восторженный взгляд долговязого оборванца, столбенеющего при их виде, вряд ли догадываясь об истинной причине этого восторга.
Он сшил пуховую перину для одной тоненькой и грациозной куколки и уложил ее спать. Лицо у куколки было красивое, но кисточка дрогнула в руках Ганса Христиана, и уголки маленького красного рта образовали обиженную гримасу. Ночью он открыл глаза, в лунном свете досадливое выражение лица его любимицы очаровало и чуть рассмешило его. Он снова уснул с ощущением непонятной заполненности, вдруг счастливо посещавшей его иногда — каждый раз без предупреждения — радости, не имеющей названия, скрывающей до времени лицо под полумаской, как фея на балу. Утром кукла сказала капризным голоском:
— Я почти не сомкнула глаз! Бог знает, что у меня за постель! Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!
Принцесса на горошине родилась в то утро, но прошли годы, пока Андерсен записал ее историю.
Однажды весной в форточку залетела ласточка. Она билась о стекло, не находя выхода, и вдруг замерла на столе около самой маленькой куклы, которую так и звали Малышка. Он открыл окно, выпустил птицу и проследил за ее полетом. Странно, ласточки уже не было в каморке, когда юный Андерсен явственно услышал ее щебет:
— Кви-кви! Кви-кви! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь...
Судьба ласточки и Малышки связалась неразрывно; и тогда возникла Дюймовочка.
Андерсен рассказал историю жизни Штопальной иглы, Репейника, Жабы, Соловья и Розы, всех Дней недели, Великого Морского Змея — трансатлантического кабеля, протянувшегося по дну океана: «гудящий мыслями всего человечества, говорящий на всех языках мира и все же безмолвствующий, мудрый змей, вестник добра и зла, чудо из чудес...»; он написал сказки Бутылочного горлышка, Ночного колпака, Пера и Чернильницы, Дворового петуха и Петуха флюгерного, Навозного жука, Ключа от ворот, Подснежника, Воротничка, даже Тетушки зубной боли.
Для него не существовало деления на высокое и низкое, лишенное поэзии; в сказках его сточная канава, уж конечно, не менее достойна удивления, чем дворец китайского императора.
Андерсен много путешествовал — это всегда было одной из самых больших радостей для него. В странствиях он подружился с Гёте, Диккенсом, Виктором Гюго, и с людьми не столь знаменитыми, и со множеством детей; имя его открывало сердца.
Однажды в Париже на большом званом вечере Андерсена познакомили с кумиром его молодости — Генрихом Гейне. Оба очень обрадовались встрече, но разговор наладился не сразу; может быть, сказалась разница в возрасте — Гейне был на восемь лет старше. Но вскоре безразличный светский разговор сам собой перешел в доверительную беседу об одном из тех тайных предметов, который они так любили. К ним приближались красивые женщины, писатели, артисты, художники, но, еще издали услышав «эльфы, феи, гномы», спешили отойти, чтоб не помешать великим знатокам сказочных наук.
Гейне спросил Андерсена: не потому ли домовые так любят его страну, что там умеют готовить необыкновенно вкусную сладкую гречневую кашу?
— Нет, — ответил Андерсен, — ниссы, так у нас называют домовых, всего охотнее едят размазню с маслом. — Еще он сказал: — Если нисс поселится в доме — а делает это он, только получив согласие хозяина, — то уж остается навсегда. Иногда выходит накладно: ниссы любят плотно поесть, да еще вмешиваются не в свои дела. Одному бедному ютландцу так наскучило соседство с ниссом, что он решил бросить свой дом; нагрузил пожитки на телегу и поехал в соседнюю деревню. А по дороге, обернувшись, увидел головку домового в красной шапочке; тот, выглянув из пустого бочонка, дружески закричал ему: «Перебираемся!»
В свою очередь Гейне вспомнил занятную историю о немецком домовом по имени Гюдекен, то есть Шляпчонка. Хозяин дома, где жил Шляпчонка, часто надолго уезжал; такая была у него работа. Бывало, только он за порог, жена зазывает соседей, кормит и поит, так что в кладовке к возвращению хозяина остаются одни лишь крюки, на которых прежде висели окорока и колбасы, а в погребе — пустые бочонки. В довершение беды кое-кто из соседей оставался еще и ночевать. Вот хозяин и попросил Шляпчонку поберечь дом в его отсутствие. «Ладно!» — пообещал тот. Лишь только сосед, плотно поужинав и выпив, устроился в хозяйской постели, Шляпчонка стал трясти ее, да так, что незваный гость несколько раз крепко ударился о потолок, а потом и совсем вылетел из дома — через дверь? через окно? может быть, даже через печную трубу? Когда это повторилось и на другой день, и на третий, и на десятый, все стали обходить дом стороной. В день возвращения хозяина Шляпчонка встретил его за околицей и попросил: «Впредь никогда не поручай мне такую работу. Я охотнее стерег бы свиней во всей Саксонии, чем твою благоверную!»
Увлеченные разговором, Поэт и Сказочник и не заметили, как гости разошлись, как погасли огни. Часы пробили двенадцать раз, вежливо напоминая, что уже наступила ночь. Только тогда они опомнились и пошли к выходу.
Из путешествий, соскучившись по работе, Андерсен неизменно возвращался в столицу Дании — в свой любимый Копенгаген, где на самой большой площади Конгенс Нитров, недалеко от Королевского театра, с которым было связано столько надежд, разочарований, но и радостей тоже, находилась его квартира: маленькие комнаты с окнами, выходившими на площадь и похожими на витрины.
Когда окна загорались и показывалась знакомая длинная фигура, копенгагенцы, проходя мимо, замедляли шаги, а многие из них бессознательно улыбались.
Но однажды в такой торжественный день возвращения он — в ту пору уже старик и знаменитый писатель — услышал тяжелые уверенные шаги двух важных господ в богатых шубах и громкий голос одного из них:
— Наш знаменитый за границей орангутанг наконец-то, ха-ха, пожаловал домой!
Он отступил в глубь комнаты и прижался к стене, будто так можно сберечься от удара, уже нанесенного.
«Самым важным свойством таланта Андерсена была причудливая фантазия, придававшая его поэтическим произведениям свежесть и прелесть, — вспоминал один из близких друзей его, — но с фантазией бывает то же, что с людьми: они редко дают что-либо даром. Сколько должен был он вынести волнений и страхов, когда фантазия врывалась к нему без зова и вела, куда ей хотелось. Я видел его вне себя от волнения и страха из-за того только, что друг его опаздывал на полчаса против условленного срока. И чего-чего только не перенес он за эти полчаса! Сколько представлялось ему различных способов смерти, пока он не остановился поневоле на самом ужаснейшем. Он ясно видел, как привезли домой тело убитого друга, уже написал родным и друзьям на родину, возможно осторожнее подготовив их к страшной вести; он, наконец, уже оставил это страшное место, бежал от кровавого зрелища смерти, но оно все преследовало его; больше не было сил, он чувствовал, что захворает, пожалуй — умрет... Он чувствовал все это, когда дверь отворилась и друг вошел, здоровый и улыбающийся».
Беспокойство о близких наполняло его; «далеких» среди людей для него не было.
Охваченный этой вечной тревогой, он поднимался ночью и шел по гулкой Конгенс Нитров, мимо Королевского театра с погашенными огнями, где ветер шелестел старыми афишами, перечитывая и перечитывая их, по спящим пустым улицам. Кольцо из зеленых валов окружало старый город, и выйти из него можно было в ту пору только через ворота, запиравшиеся на ночь. Ключ от ворот каждый вечер доставлялся в замок Амалиенборг королю Дании Фредерику VI.
Андерсен открывал городские ворота своим — невидимым — ключом, и они бесшумно распахивались перед принцессой и свинопасом, соловьем и розой, феями и девочкой со спичками, эльфами и навозным жуком. Последней приползала улитка. Та самая, о которой Андерсен говорил: «Она была богата внутренним содержанием — она содержала самое себя».
Улица у городских ворот несомненно была бы запружена. Считается, что в «Человеческой комедии» Бальзака выведено больше действующих лиц, чем у любого другого писателя; но мир Андерсена еще населеннее. Улица была бы запружена, хотя свита Андерсена занимала не только мостовую: аисты и другие птицы парили над головой, черви и кроты прокладывали подземные ходы.
Андерсен усаживал на плечо маленького Оле-Лукойе, того самого, который навевает людям сны, и шел вперед. Тут возникает неотложная необходимость разглядеть Андерсена в темноте ночи; поэтому я решаюсь прибегнуть к помощи Вильяма Блока, современника и друга Андерсена, который в описаниях неизменно предпочитал восторженности точность: «Нельзя сказать, чтобы природа была особенно милостива к Андерсену по части внешности, — вспоминал Блок. — Фигура его всегда имела в себе что-то странное, что-то неловкое, неустойчивое, вызывающее и улыбку, и симпатию. Как бывают мальчики, с детских лет отличающиеся какой-то старческой степенностью, невольно внушающею к ним некоторое уважение, так бывают и взрослые люди, которые никак не могут избавиться от чего-то чисто детского в лице или в фигуре. Андерсен представлял удивительную смесь того и другого рода людей. Не знаю, каков он был ребенком, но я уверен, что его резко очерченное лицо с маленькими глазами и крупным носом и в детстве не представляло свойственных ребенку мягких и округленных форм, и я вряд ли ошибаюсь, предполагая, что люди, видевшие его в колыбели, так же удивлялись старчески мудрому выражению лица ребенка, как впоследствии — ребяческому отпечатку, лежащему на всей его фигуре взрослого человека. Он был высок, худощав и крайне оригинален в осанке и движениях. Руки и ноги его были несоразмерно длинны и тонки; кисти рук широки, а ступни таких огромных размеров, что ему, вероятно, никогда не случалось опасаться, чтобы кто-нибудь подменил ему калоши. Нос его был так называемой римской формы, но тоже несоразмерно велик и как-то особенно выдавался вперед. Уходя от него, человек скорее и лучше всего запоминал его нос, между тем как светлые и крайне маленькие глаза его, скрытые в своих впадинах за большими веками, не оставляли по себе впечатления. Выражение глаз было ласковое, добродушное, но в них не было той захватывающей игры света и теней, той жизни и выразительности, благодаря которым глаза становятся зеркалом души. Зато очень красив был его высокий, открытый лоб и необычайно тонко очерченные губы».
Может быть, думаю я, перечитывая это описание, глаза Андерсена были устремлены как бы внутрь, и поэтому не каждому дано было разглядеть их тайное, такое «не внешнее» сияние.
Андерсен шел по старому спящему Копенгагену, от дома к дому, из переулка в переулок. Очень, очень не спеша и неслышно. Остановился он и у дома господина в богатой шубе, своего давнего обидчика — ведь там тоже жили дети... Двери были заперты на десять засовов, окна закрыты ставнями.
Андерсен что-то шепнул Оле-Лукойе. Оле, кивнув, соскочил с его плеча, прошел сквозь обитые железом, запертые двери, поднялся по темной лестнице, так что не скрипнула ни одна ступенька, и очутился в маленькой комнате, где спал мальчик, внук хозяина дома. Было темно и душно, ах как темно и душно было здесь, и мальчик стонал в неспокойном, тяжелом сне.
Но Оле-Лукойе дунул, и темнота начала рассеиваться — из черной она стала чуть голубой, ветер, пахнущий цветами и травами, влетел в окно, откуда-то сверху спустились сны, как птицы, после перелета опускающиеся на гладь озера, и заскользили по прозрачному, просиневшему пространству ночи над изголовьем кровати.
Оле-Лукойе прилег рядом с улыбнувшимся во сне мальчиком — он тоже больше всего на свете любил смотреть такие спокойные и веселые сны — и подумал: «Вот уж удивится и обозлится этот важный господин, когда в его вороньем гнезде вырастет не вороненок, а славный человеческий детеныш».
... Волшебники приходят к людям из разных стран, из разных, даже самых отдаленных времен. Они идут, идут, представляясь нам рассеянными на огромном пространстве огнями, идут, чтобы помочь нам не заблудиться на долгом нашем пути, о котором недаром сказано: жизнь прожить — не поле перейти.




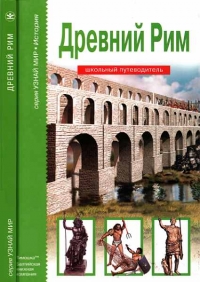



Комментарии к книге «Волшебники приходят к людям», Александр Шаров
Всего 0 комментариев