Соломон Владимирович Смоляницкий ТРИ ВЕКА ЯНА АМОСА КОМЕНСКОГО
Автор посвящает книгу своей жене Галине Смоляницкой.
СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ
23 марта в Чехословакии — День учителя. Это день рождения великого чешского ученого и социального мыслителя, писателя и общественного деятеля, основоположника современной педагогики Яна Амоса Коменского (1392—1670).
Коменский — один из великих представителей великой научной революции XVI—XVII вв. Вместе с другими своими старшими и младшими современниками — Бэконом и Декартом, Галилеем и Коперником, Ньютоном и Лейбницем — он был одним из строителей современной научной картины мира, общества и человека, картины, сменившей в ходе жестокой борьбы с церковью религиозную трактовку мироздания.
Судьба не подарила ему (как многим другим его великим современникам) тихой жизни кабинетного ученого, отрешенно от мирской суеты размышляющего о законах и устройстве бытия. Наоборот, лишения, выпавшие на долю этого человека, были чрезмерны. Жестокие преследования, гибель жены и малолетних детей, в тридцать шесть лет — пожизненное изгнание, многолетние скитания по чужбине, пожары и эпидемии, неотступные заботы о руководимой им общине чешских братьев, тревоги о судьбах порабощенной родины — такова была большая часть его жизни.
И вместе с тем это была жизнь, наполненная ярким творчеством и великими открытиями, упорной борьбой и радостными победами — победами человеческого разума. Не случайно крупнейшие государственные и общественные деятели Англии и Франции, Швеции и Голландии, понимая, с каким необычным человеком они имеют дело, настойчиво стремились заполучить его себе, чтобы использовать его удивительный ум и обширные и разносторонние знания на благо своих стран.
Коменский стал европейски знаменит еще в молодости — прежде всего своими педагогическими сочинениями. Молодой учитель, обладавший тонким аналитическим умом, колоссальной работоспособностью и строгой целеустремленностью, сначала в силу профессиональной необходимости переосмыслил обширную сферу современных ему различных педагогических, психологических, науковедческих и общефилософских знаний и синтезировал их в единый комплекс знания о человеке и его воспитании. Коменский при этом дал столь проницательные, глубокие и точные ответы на вопросы о природе человека, о смысле и целях его воспитания, о законах и искусстве последнего, что его ответы далеко перешагнули границы своего времени. Они и сегодня остаются сокровищницей педагогической мысли, многие ценности которой до конца еще не раскрыты.
Педагогика, однако, была лишь частью (хотя и самой известной) творчества Коменского. Жизнь изгнанника и любовь к родине дали пищу дальнейшим размышлениям о характере современного ему европейского общества и путях его переустройства. Ибо без этого, как понял Коменский, не могла быть решена судьба его порабощенной родины.
Поэтому другим направлением научных поисков Коменского стал анализ новой роли науки, переживавшей в этот период невиданный взлет. Коменский был одним из первых, кто почувствовал новое значение науки, науки об обществе в частности, не только как истолковательницы, но и как преобразовательницы мира. Именно в этом качестве он надеялся использовать науку о воспитании (и само воспитание) как инструмент изменения существующего несправедливого мироустройства.
Изменить общество можно, изменив человека. Изменить же человека может правильно поставленное воспитание. Это было ядро социальной теории Коменского, где он пытался постичь механизм развития общества и самого исторического процесса. И постиг взаимозависимость между обществом и воспитанием.
Конечно, до тех пор пока не были раскрыты структура общества и закономерности его движения (а это произошло спустя почти два века после Коменского), эта концепция исторического процесса была утопичной. Однако она означала смелый шаг вперед, подрывающий традиционную религиозную картину общественного миропорядка и утверждающий вопреки ей активную роль человека в жизни. (Заметим, что многие сочинения Коменского сами написаны языком философско-религиозной схоластики. Это не должно нас смущать: таков был язык обществознания той эпохи, еще не успевшего выработать равнозначную терминологию. Это отмечал в свое время Ф. Энгельс.)
Этой части творчества Коменского повезло меньше всего: его главный философский труд, над которым он работал последнее тридцатилетие своей жизни, не увидел света — остался в рукописи. Она была обнаружена лишь в 30-е годы нашего века и полностью опубликована тридцать лет спустя — в канун 300-летия со дня смерти ее создателя. XX век открыл Коменского как социального философа, так же как XIX век восстановил его как основоположника современной педагогики.
О судьбе самого Яна Амоса Коменского и о судьбе его творческого наследия читатель прочтет в этой книге. Это первая у нас художественно-документальная повесть о великом ученом. Она написана с большой любовью к ее герою и прекрасным чувством эпохи. Таким образом, в преддверии 400-летия со дня рождения Коменского, которое будет широко отмечаться во всем мире, наш читатель получит возможность соприкоснуться с жизнью и деятельностью замечательного сына чешского народа, великого чешского мыслителя и педагога.
Михаил Кузьмин
Глава первая. ДОРОГА, ДОРОГА!
Вторую неделю Ян Амос шел по чешской земле, и хотя неблизок путь до милой Моравии, но он почти дома. Казалось, что и солнце светит щедрее, и вся земля в пышном весеннем цветении встречает его приветливей, радостней. С того момента, когда он сделал на своей палке первую зарубку, означающую, что ступил на чешскую землю, и записал дату — 2 мая 1614 года, — прошло тринадцать дней. Сегодня на заре он поставил четырнадцатую зарубку. Позавтракав куском хлеба и напившись из ручья, Ян Амос тронулся в путь. Солнце уже поднялось довольно высоко. Дорога вилась среди мягко зеленеющих холмов, покрытых кудрявыми рощами. Оттуда неслось разноголосое птичье пение — пересвисты, щелканье, трели. В долинах на лугах среди травы пестрели цветы. Повсюду звенела, буйствовала весна. Свежий ветер кружил голову запахами лесов, полей...
Прошагав несколько часов, Ян Амос почувствовал усталость, снял с плеч котомку, опустился на мягкий мох под пушистой лиственницей. Вдохнув полной грудью густой, терпкий дух от нагретой солнцем земли, лег на спину, с наслаждением вытянулся... Огромное небо как бы наплывает на него, и он ощущает, как по всему телу разливается необыкновенный покой, легкость. Так уж было однажды — и весенний земляной дух, и безбрежная синева, и удивительное чувство, будто кто-то невесомой рукой снимает с души тяжесть...
Было, давным-давно... Холмик на кладбище, выросший на глазах рядом с другим, уже покрытым первой травой; там, в земле, мать и отец, умершие во время эпидемии... В ушах все стоит шершавый звук, когда лопата вонзается в землю и звенит, наткнувшись на камень, а затем тяжелый шлепок, с которым земля ударяется о крышку гроба, и звук этот все тише, мягче, и чей-то голос: «Поплачь, сынок, легче станет...» Потом провал, и он лежит, глядя в небо, и теплый терпкий дух нагретой солнцем земли струится над ним, и понемногу теплеет в груди, тает комок в горле, и катятся слезы, и тело сотрясается от плача... Затихнув, открывает глаза, видит над собой беспредельную синеву, и глубокий покой охватывает его...
Ян Амос смотрел в небо, вспоминал. Чем ближе была его Моравия, тем чаще мыслью и сердцем возвращался он к далекой поре детства, отрочества. Многое возникало перед ним в такие минуты — и так ярко, живо, словно по мере приближения к родным местам он сам снова становился то мальчиком, остро переживающим свое сиротство, то семнадцатилетним юношей, отправляющимся в далекий путь на чужбину за знаниями...
Когда умерли две сестры, потом мать, вслед за ней отец, из всей семьи остались старшая сестра да он. Ему не было и двенадцати. Горестный, горестный 1604 год! Он прошел как цепь серых, тоскливых дней, словно бы слившихся в один нескончаемый. Чувство одиночества, заброшенности не покидало Яна Амоса, хотя община чешских братьев,[1] в которую входила их семья, назначила опекунов, и он жил то у них в Нивнице,[2] то у тети в Стражнице. «Будь терпелив, мальчик, — внушали ему, — принимай сиротство со смирением. Община заменит тебе родителей, у нее ищи помощи и поддержки». А он не мог побороть тоски. Случалось, смутно, будто сквозь сон, привидится ему, как над ним склоняется мать, рука легко касается его волос, и ему становится хорошо, спокойно. А то представлялась большая комната в их доме в Угерском Броде, где вечерами за длинным дубовым столом собиралась вся семья; за окнами темнеет, отец зажигает и ставит ближе к себе светильник, бережно открывает старинную книгу в потемневшем от времени кожаном переплете. Он читает, а по его лицу пробегают отблески пламени светильника, за спиной на стене ломается нескладная тень...
О начальной школе в Угерском Броде вспоминать не хотелось, ничего, кроме страха, она не оставила по себе. Да и другая школа, которую он урывками один сезон посещал, живя у тети в Стражнице, была не лучше: та же бессмысленная зубрежка, та же беспросветность и страх. Стоило появиться на пороге холодной классной комнаты пану учителю с линейкой в правой руке, как все, что они хором повторяли прошлый раз, мигом вылетало из головы. Обучались они, разновозрастные подростки, чтению, письму, счету, но чаще всего пан учитель распевал с ними псалмы. А когда, прервав пение, он подходил к какому-нибудь ученику, у того невольно голова втягивалась в плечи: обязательно дернет за ухо или ударит линейкой. Вскрики, плач то и дело врывались в нестройный гул голосов, когда они вслух учили какое-то место из учебника. Позже Ян Амос пытался последовательно воспроизвести хотя бы один урок, но так и не мог: все словно тонуло в вязком тумане...
В Стражнице Ян Амос вспоминал свои разговоры с отцом. Мир вокруг был полон тайн — так хотелось их разгадать, узнать обо всем, что его окружает. Куда улетают осенью птицы? Откуда берется дождь? Молния? Гром? Что происходит с деревьями, когда они каждую весну одеваются новой листвой? А как живут люди — почему одни пребывают в радости и довольстве, а другие в бедности, горести? Отец охотно отвечал на многие его вопросы (вот если бы так в школе!), но случалось, что и он, вздыхая, говорил: «Не знаю, сынок, так уж повелось от века. Одно запомни: будь справедливым и люби правду, как завещал нам магистр Ян Гус,[3] честно трудись, помогай людям. Человек не может быть счастлив, если живет только для себя!» Крепко запомнил Ян Амос эти слова, на всю жизнь...
Когда он жил у тети Зузаны, в конце 1605 года, в Моравию вторглись венгерские войска. Родной брат императора Рудольфа,[4] сидевшего на чешском троне, король Венгрии Матвей[5] рвался к власти и постоянно затевал усобицы с Рудольфом; этот-то король Матвей, притворявшийся защитником протестантов,[6] и послал в Моравию солдат, чтобы показать силу и склонить на свою сторону моравское дворянство. Солдаты грабили, жгли, насильничали. А вслед за ними шли банды, специально нанятые купцами для грабежа. Войска оставляли за собой разграбленные города, выжженные деревни, кровь. Моравия словно застыла в горестном оцепенении. Из уст в уста передавались леденящие душу рассказы очевидцев о бесчинствах разгулявшейся солдатни и банд разбойников.
Дошла очередь и до Стражницы. Венгерские солдаты без боя захватили город, хотя он был укреплен и мог оказать сопротивление. Начались грабежи, пожары, и тетя Зузана спешно ночью отправила Яна Амоса лесной дорогой обратно в Нивницу, где он мог укрыться у своих опекунов. На всю жизнь запомнилось: ночной лес, за спиной кровавое зарево над городом, а в ушах гул бушующего пламени, треск обрушивающихся бревен, бряцание оружия, топот, хриплые выкрики солдат, стоны и мольбы жителей... Так впервые увидел Ян Амос безумный оскал войны. С той страшной ночи и поселилась в его душе ненависть к насилию, к войне, горячая мечта о всеобщем мире.
Что было потом? Когда ему исполнилось шестнадцать — это был 1608 год с ливневым грозовым летом, какого давно не видели в этих краях, — община послала его в латинскую школу в город Пшеров. Там готовили юношей для поступления в университеты, знакомили с различными ремеслами. В ту пору Ян Амос уже ощутил в себе жадный, неутолимый интерес к книгам, к знаниям, которые они содержали в себе. С волнением вошел он в класс латинской школы, но уже первый урок горько разочаровал его. Увы, горячее желание Яна Амоса узнать новое, овладеть латинским языком, чтобы читать мудрые книги, разбивалось о бесконечную зубрежку грамматических правил, исключений, определений, застывших форм, которыми забивал их головы учитель. А кто не мог выучивать наизусть, считался лентяем. Единственным же лекарством, излечивающим, по мнению учителей, от лени, по-прежнему были розги. Тягостные воспоминания оставили эти уроки.
...Вот учитель, упиваясь своим голосом, произносит грамматическое правило, и ученики хором повторяют. Для них это абракадабра, бессмыслица, ведь живой речи, к которой применимо это правило, они еще не слышали! После нескольких повторений длинный крючковатый палец учителя обычно указывает на Франтишека, земляка и товарища Яна Амоса, но бедняга, по своему обыкновению, не запомнил ни слова. Удар линейкой — и палец выискивает следующего. Потом весь класс на разные голоса повторяет за учителем латинские слова, так и не усвоив толком, что они означают, ибо их перевод многоречив, неясен. А к тому же нелегко и уловить в постоянном гуле голосов правильное произношение нового слова...
И все же Ян Амос сумел преодолеть все преграды — так велико было желание овладеть латынью, основой основ образованности, ключом, которым открывались врата мудрости.
И латинский язык не обманул его ожиданий — он открыл античных мыслителей и писателей, целый мир, поражающий воображение своим духовным богатством. Но латынь была не только языком книг, но и живым современным международным языком науки, философии, искусства. На нем писала, размышляла, говорила вся образованная Европа. Ян Амос очень хорошо понял, что тот, кто тянется к знаниям, не сможет обойтись без латыни.
В Пшерове он впервые и задумался над тем, что школа — и начальная и латинская — должна быть другой, вызывать не скуку и страх, а живой постоянный интерес к учению. Он уже испытал это ни с чем не сравнимое чувство радости, когда узнаешь новое, когда обогащенная знанием мысль сама ищет и находит правильные ответы на твои вопросы, и был убежден, что счастье познания доступно каждому, нужно только суметь заинтересовать учением. Учение, думал Ян Амос, можно сравнить с движением вверх, на гору. С каждым шагом взгляду открывается все большее пространство, и тебе хочется подняться еще выше, чтобы увидеть еще больше. Но как сделать так, чтобы дорога вверх, несмотря на трудности, сама тянула к себе, чтобы учение было увлекательным, будило мысль? Этого Ян Амос не знал...
Между тем его трудолюбие, жажда знаний, пытливый интерес к окружающему миру обратили на себя внимание епископа общины Ланецкого. Ян Амос стал его любимым учеником.
Осенью 1611 года Яна Амоса отправили на средства общины для продолжения образования в Германию, в Герборнский университет, славящийся знаменитыми профессорами и строгой дисциплиной. Увы, община не могла посылать своих студентов в чешский Карлов университет в Праге — уже не одно десятилетие им заправляли католики,[7] непримиримые противники и гонители чешских братьев, которые были протестантами, последователями Яна Гуса, религиозного реформатора, два столетия назад поднявшего знамя борьбы за народные права против иноземного засилья.
Герборнский университет. Три года напряженного труда — чтения, размышлений, работы над первыми собственными сочинениями. В беседах с профессорами, с которыми Ян Амос общался, он смело ставил самые сложные вопросы философии, науки. И уже тогда он понял, как труден, тернист путь к истине: чтобы ее обрести, мало одного даже самого горячего стремления, необходимо еще и мужество. За истину люди великого ума и великого сердца, подобные Яну Гусу, платили жизнью. Необыкновенно много дала Яну Амосу близкая дружба с самым молодым профессором университета — Иоганном Альстедом.[8] Он был всего на четыре года старше Яна Амоса, но уже успел громко заявить о себе в научном мире. Ян Амос восхищался личностью своего друга и учителя, а труд Альстеда «Энциклопедия курса философии» стал для него настольной книгой. Смелые идеи «Энциклопедии», критическое отношение к авторитетам, даже к почитаемому автором Аристотелю,[9] стремление к опытной проверке каждого утверждения расковывали мысль, учили не бояться неожиданных выводов, опровергавших общепринятые мнения.
Альстед утверждал, что источник истины — действительность и что она же является мерой всякой истины. Он призывал к изучению природы, которое должно быть построено на наблюдении и опыте и служить благу человека. «Мы живем в такое время, — говорил он, — когда наука к вящей пользе человечества, презрев мертвые догмы схоластов,[10] обращается к природе и человеку как венцу творения, познавая, открывая тайны всего сущего. Не пропускай великих открытий, обогащай ум знаниями и сам учись наблюдать, сопоставлять факты, проникать мыслью в неведомое!»
Эти взгляды Ян Амос воспринял с воодушевлением. Изучая античную философию — Платона,[11] Аристотеля, Сенеку,[12] Квинтилиана[13] и многих других, — он стремился, по совету Альстеда, выработать свое отношение, ничего слепо не принимать на веру, все проверять разумом, логикой, опытом и то, что не выдерживало проверки, смело отвергать, не боясь общепризнанных авторитетов.
Ян Амос вспомнил, с каким увлечением он готовился к диспуту, состоявшемуся в Герборне незадолго до окончания университета. Из его записей возникло целое сочинение «Спорные вопросы, собранные в саду философии». Иоганна Альстеда он изобразил великим садовником, а себя собирателем спорных вопросов. Тогда он размышлял об источнике и путях познания и сразу вслед за диспутом, чтобы окончательно уяснить себе этот вопрос, написал сочинение «Берет ли всякое познание исток из ощущения». Рассуждая об этом, он привел известное изречение: «Нет ничего в уме, чего раньше не было бы в ощущении» — и обосновал его. Так считал и почитаемый им философ Николай Кузанский,[14] утверждавший, что ничего нет в рассудке, чего не было бы в чувстве, и что между вещами и словами не должно быть разницы.
Да, человек, обогащенный знаниями, становится мудрее, сильнее, скорее отыщет дорогу к счастью. И тот, кто хочет добра людям, должен научить их, как овладевать полезными для жизни знаниями. С этой мыслью Ян Амос начал писать свои первые сочинения...
Быстро пролетели в Герборне три года! После окончания университета, как и было принято, Ян Амос отправился в путешествие по Европе. Шел он на запад, потом повернул на север, добрался до Амстердама, поразившего его кипучей жизнью, простым и свободным общением людей, неторопливых, но хорошо знающих свое дело. Именно там, слушая разноязыкую речь, глядя на корабли в порту, приходившие сюда со всего света, Ян Амос ощутил, как велик и многообразен мир. А то, что он увидел, шагая по дорогам Европы, расширило кругозор, обогатило живыми впечатлениями. Какое разнообразие природных условий, обычаев, ремесел, языков встретил он на своем пути! А ведь он прошел лишь малую часть Европы...
Из Амстердама Ян Амос возвратился в Германию. Он спешил попасть к началу занятий в Гейдельбергском университете,[15] чтобы не пропустить лекций знаменитых профессоров. Многое из того, что он видел, наблюдал, шагая по дорогам Европы, — ремесла, обычаи, взаимоотношения людей, — заинтересовало его. Захотелось узнать больше — он обратился к книгам и снова убедился, что все они (в том числе и те, что рекомендовали профессора студентам) на немецком языке. А как быть его соотечественникам, которые тянутся к знаниям? На чешском языке подобных книг почти не было. Вот если бы собрать воедино все научные сведения об окружающем мире! Он назвал бы этот труд «Зрелище Вселенной». Хватит ли у него сил написать столь обширное, всеобъемлющее сочинение? Время покажет, но Ян Амос чувствовал, что способен на многое, — горячее желание послужить своему народу придавало ему и смелости и силы.
Мысль создать такой труд зрела в нем давно, в Гейдельберге он взялся за работу. Первую главу Ян Амос переписывал множество раз, добиваясь, чтобы изложение было ясно, просто, доступно каждому, чтобы от страницы к странице возрастал интерес читателя. Да, учение должно быть увлекательным. Еще в Герборне он задумался над тем, как добиться этого, изучал дидактические сочинения, труды философов, размышлявших о воспитании и обучении. Большое впечатление произвели на него педагогические сочинения немецкого ученого Ратке,[16] выступившего в 1612 году на съезде немецких князей во Франкфурте-на-Майне с изложением новых педагогических принципов. Ратке утверждал, что преподавание нужно вести не на латинском, а на родном языке. Точно так же думал и Ян Амос.
В Гейдельберге Ян Амос не давал себе ни минуты отдыха — много читал, посещал лекции, работал над «Зрелищем Вселенной», спал урывками, питался скудно. Чрезмерные занятия подорвали здоровье. Болезнь, незаметно подкравшись, однажды свалила его и вцепилась мертвой хваткой. Отпускала медленно, неохотно, и как-то в одну из бессонных ночей пришло решение идти домой, на родину. Пора! Университет в Герборне окончен, а здесь, в Гейдельберге, продолжать эту изнурительную жизнь больше невозможно. Тут же, не откладывая, Ян Амос написал своим покровителям письмо. Ответ не заставил себя ждать, и с первыми весенними днями Ян Амос тронулся в путь.
Карман у него был пуст. Все свои скудные сбережения он отдал за рукопись Николая Коперника[17] «О круговращении небесных светил», которую купил у вдовы профессора Христмана, преподававшего в свое время в Гейдельбергском университете. Но Ян Амос не отчаивался, хотя путь лежал неблизкий и проделать его предстояло пешком. Ведь он шел на родину, навстречу солнцу, теплу, и каждый шаг приближал его к милой Моравии.
...И вот Ян Амос в Чехии, и скоро Прага, встречи с которой он ждал с таким нетерпением. И над ним тихо плывут облака. Одни тают на глазах, другие вновь рождаются. Вот так, сменяя друг друга, возникают в воображении образы, картины далекого детства и недавних лет... Пожалуй, пора идти дальше — усталость прошла, да и беспокойство рассеялось. Очень нужна была ему эта короткая остановка в пути, чтобы оглянуться на прошлое, что-то понять в себе, в своей судьбе. Как бы ни сложились обстоятельства на родине, он не должен плыть по течению — пришло время выбрать свой путь.
Ян Амос поднялся, надел на плечи котомку, взял палку и зашагал к проезжей дороге.
Вьется дорога среди холмов, спускается в долину, убегает к горизонту, манит, зовет за собой. Нигде в Европе не видел Ян Амос такой красоты, нигде так не радовала, так не трогала сердце природа, будто созданная в утешение многострадальному чешскому народу. Беспросветная бедность словно навечно поселилась в каждой крестьянской халупе. Да и как ей не быть? От зари до зари крестьяне гнули спину на панских землях — отрабатывали барщину, да еще были обязаны платить натурой, да еще денежный налог — «урок». К тому же паны присвоили себе право собирать с крестьян государственные налоги и беззастенчиво наживались на этом. Черные дела творились на его родной земле! Пользуясь полным бесправием своих крепостных, магнаты и паны захватывали общинные луга, сгоняли крестьян с их наделов, а взамен давали меньшие и худшие.
Измученные господским произволом, крестьяне уходили в город искать лучшей доли, бежали в леса. Ян Амос уже встретил два опустевших села, зарастающие дикими травами. Страшное это было зрелище — полуразвалившиеся халупы с пустыми окнами, откуда несло плесенью. И кругом ни души. Он долго стоял возле такой халупы, как стоят над могилой человека. До какого же отчаяния нужно было дойти, чтобы бросить дом и свой клочок земли, политый потом и слезами отцов и дедов, — земли, где они родились!
Случалось, в непогоду, на ночь глядя, Коменский заходил в крестьянскую халупу, просился переночевать, и его приглашали разделить скудный ужин — миску похлебки или кусок хлеба. Он слушал скупые разговоры о насущных заботах. Выхода из тяжелой нужды крестьяне не видели. Да и кому они могли пожаловаться? Суды оставались в руках господ, а сеймы[18] уже давно ввели наказание за так называемые необоснованные жалобы. И все же Ян Амос не мог расстаться с надеждой, что жизнь переменится к лучшему, хотя и понимал: для Чехии наступают трудные времена.
События последнего времени вызывали тревогу. Три с лишним года назад, казалось, утвердился мир между католиками и протестантами. «Грамота его величества»[19] давала протестантам, в том числе чешским братьям, свободу вероисповедания, право управлять церковной организацией и учреждать школы. Но не успел Ян Амос приехать в Герборн, как из Праги пришло тревожное сообщение: католический епископ немецкого города Пaccay Леопольд со своим войском вторгся в Чехию. Он был разбит наголову. Вскоре, однако, в Герборн и Гейдельберг земляки снова стали привозить дурные вести: король Матвей, сменивший на чешском престоле Рудольфа II, несмотря на обещания, и не думает выполнять «Грамоту его величества», силою вырванную у Рудольфа II. Говорили о происках пражского епископа Яна Логелия, преследующего протестантов, особенно чешских братьев, ненавистных католикам своим демократическим духом; спорили о будущем Чехии, которая опять, как двести лет назад, во времена великой народной войны, могла стать ареной кровавой борьбы.
Такие мысли приходили в голову и Яну Амосу. Действительно, ныне, как и тогда, католическая церковь, не гнушаясь никакими средствами, стремится утвердить безраздельное господство над душами и жизнью людей, жестоко преследует инакомыслящих. И снова растет народное возмущение ее безмерными, бесчеловечными притязаниями. Даже по отрывочным сведениям, доходившим до Герборна, можно было это почувствовать. А ведь именно всеобщая ненависть к католической Церкви с ее неслыханными богатствами, жадностью, лицемерием, с ее беспощадным угнетением крестьянства и связанным с ней немецким засильем — и породила великое народное брожение, которое подготовило почву для прихода Яна Гуса.
«Неужто с тех пор ничего не изменилось на родине?» — думал Ян Амос, слушая разговоры земляков-студентов. Каков же путь к установлению справедливости? Тот, на который вступил славный Ян Гус, подняв знамя освободительной борьбы? Но к чему привела война? Проявив мужество и героизм, изумившие Европу, одержав неслыханные победы, народ, преданный панами, потерпел поражение, принесшее ему на многие годы неисчислимые беды. Неужели теперь должны повториться эти кровавые испытания? И воображение рисовало страшные картины побоищ, казней, пожаров и разрушений, описанных в хрониках гуситских войн.[20] Что же остается делать? Не протестовать? Не бороться? Может быть, зло в самих людях? Но как их исправить? Ян Амос искал и не находил ответа на эти вопросы ни в книгах, ни в беседах с учителями и товарищами. Порой его охватывало отчаяние, и он обращался к Библии, стараясь найти облегчение в хилиазме[21] — туманных предсказаниях о втором пришествии Христа и установлении на земле тысячелетнего царства справедливости. Об этом с воодушевлением говорили в Герборне профессора Альстед и Пискатор.
Но когда оно наступит, это золотое время, которое человечество ждет веками? И Ян Амос снова мыслями возвращался к тому, что происходит на родине. Неужели наступающие времена бурного развития науки, рвущей путы схоластики, огромных перемен в производстве и ремеслах не принесут облегчения несчастному чешскому народу? Увы, надежда эта оказалась иллюзорной. В дороге ему открылась страшная картина бедственного положения, в котором находилось крестьянство и весь трудовой люд.
В университете Ян Амос стремился объяснить сложные явления действительности с помощью философии — оттого и рождались все новые вопросы. Но это был путь чистых размышлений, и вопросы возникали абстрактные. А в дороге жизнь открывалась по-другому: жестче, обнаженней. При мысли о голодных глазах крестьянских детей у Коменского сжималось сердце. Что ждет их впереди? А ведь эти дети ничем не отличаются от тех, что родились в богатых семьях...
Шум и голоса отвлекли Яна Амоса от его мыслей. Он увидел приближающихся вооруженных всадников и отошел в сторону Они были в шлемах, из-под плащей поблескивали кольчуги и мечи. Те, что впереди, смеясь, перекидывали друг другу флягу с вином. Потом потянулись телеги, нагруженные тюками. За ними в карете с открытыми оконцами промелькнуло лицо бородатого старика. Сзади ехало еще несколько вооруженных всадников. Несомненно, караван был купеческий, направляющийся в Прагу в сопровождении наемной охраны: на дорогах было неспокойно. Промышляли шайки разбойников. Грабежом не брезговали и обедневшие рыцари. Кого только не встречал Ян Амос! Пышную процессию богатого пана, едущего с многочисленной челядью, родственниками и телохранителями на праздник к такому же сиятельному господину. Крестьян, тащивших тележки с бедным скарбом, а то и просто идущих, как он сам, с палкой в руке и с котомкой за плечами. Странствующих монахов. Бродяг. Проповедников, обличавших, как во времена Гуса, черные дела католической церкви. Оборванных студентов – тех, что переходят из одного университета в другой, разуверившихся в пользе науки и решивших, что лучше дышать вольным ветром, нежели корпеть над латинскими книгами. Встретились однажды Яну Амосу и солдаты, ведущие связанных крестьян. Его случайный попутчик из здешних мест, шедший в ближнее село, проговорил, угрюмо поглядывая на солдат: «Ведут на расправу... Их односельчане убили барона Вальденхауза, своего господина, злодея. Дом его сожгли, сами скрылись в лесу. А этих-то за что? Изверги, никого не щадят — ни правых, ни виноватых, ни стариков, ни женщин».
Дорога, дорога! Она как открытая книга, только умей читать да думать над прочитанным... Ян Амос шел, поднимаясь в гору. Ветер трепал волосы, освежал разгоряченное лицо. Усталости он не чувствовал, нетерпеливое желание поскорее добраться до Праги заставляло ускорять шаг. Оказавшись на вершине холма, Ян Амос остановился, и сердце его вздрогнуло: далеко впереди в голубоватой дымке поднимался великий и славный город.
Глава вторая. ПРАЖСКИЙ НАБАТ
В Прагу Ян Амос вошел через западные ворота вместе с разношерстным людом — мастеровыми, мелкими торговцами, которые несли свой нехитрый товар, монахами, бедняками, идущими на промысел, — и довольно быстро оказался у крепостного рва, где проходила граница старого города. Еще издали он увидел Пороховую башню — там в прежние времена хранился порох для защиты укреплений старого города, а за ее воротами начиналась королевская дорога — путь следования королей из старого города в Градчаны, на холм за Влтавой, в королевский замок, вокруг которого ныне выросли дворцы знати и где высился устремленный в небо собор святого Вита.
Коменский лишь однажды был в Праге. На пути в Герборн из Пшерова он провел там день. Ошеломленный красотой великого города, его многолюдьем, пестротой, Ян Амос бродил по узким улочкам и неожиданно оказывался то на просторной площади перед порталом величественного собора, то перед низеньким домом ремесленника, над входом которого висели знаки его ремесла. Вскоре он вышел к Влтаве, плавной дугой огибающей старый город, к Карлову мосту и в открывшемся пространстве, синеве неба, блеске воды и света увидел на другой стороне реки зеленый холм града с королевским замком и силуэтом собора святого Вита на вершине...
Этот миг часто вспоминался ему в Герборне, когда он рассматривал гравюры, изображавшие Прагу, или читал о ней. Прага открывалась перед ним не только как колыбель Чешского государства, его столица, превосходящая своим богатством и могуществом многие знаменитые столицы Европы, но и как сердце чешского народа, чуткое к добру и справедливости, как его разум и совесть. Здесь обрел бесстрашие и великую силу Ян Гус, ставший всенародным вождем. Здесь звучало его вдохновенное слово, срывавшее лицемерные покровы со всех тех, кто именем бога обманывает и угнетает народ. Прага слышала страстные речи сподвижников и последователей Яна Гуса — Иеронима Пражского,[22] Яна Желивского,[23] видела многолюдные процессии, славного рыцаря Яна Жижку,[24] в первый же день восстания со своим отрядом ставшего на сторону народа. Это пражский набат возвестил начало великой освободительной войны, и его призывный гул услышала вся страна... И вот еще несколько шагов по небольшому мосту, перекинутому через ров, — и он в старом городе!
Пройдя через ворота Пороховой башни, Ян Амос остановился на перекрестке. Здесь люди растекались по трем расходящимся улицам. Справа он увидел королевский двор, обнесенный каменной стеной с тяжелыми воротами — конечно, теми самыми, на которых Ян Гус повесил свое воззвание. Он, отвергая обвинения в ереси, смело бросал вызов попам, требуя доказать эти обвинения публично. Он верил в торжество правды и справедливости. Ради этого принял мученическую смерть на костре. Потускнели ворота королевского двора, давно забытого королем, время источит эти стены, а может, кто-нибудь и совсем их снесет, дабы построить здание получше, но люди не забудут этого места...
Коменский пошел прямо по оживленной улице и оказался на Староместской площади, над которой горделиво возвышалась стройная башня Староместской ратуши. И снова, как в первый раз, когда он попал на эту площадь, Ян Амос невольно подумал, что она должна быть значительно больше, — на крутых переломах истории тут волновалось людское море, слышался грозный гул толпы. Во время восстания в ратуше был боевой центр гуситов, сюда стекались вооруженные отряды пражан. В парадном зале ратуши избирали чешских королей. В трудное для Чехии время здесь был избран Иржи из Подебрад,[25] при котором притихли мятежные паны и окрепло Чешское государство. В актовом зале судьи произносили приговоры — это к ним обращена латинская надпись возле стоящей здесь скорбной статуи Христа: «Будьте справедливы, сыны человека». Но сколько раз приговоры выносились с ожесточенным сердцем и бывали осуждены невинные, а суд превращался в расправу!
В ратуше был убит проповедник Ян Желивский, защитник бедноты, призвавший к борьбе против угнетателей народа. Здесь был замучен сподвижник Яна Жижки гетман Ян Рогач из Дубы,[26] прошедший с таборитами[27] весь славный путь многолетней борьбы. Это он после рокового поражения таборитов 30 мая 1434 года у села Липан близ Праги от численно превосходящих сил католических панов и чашников[28] три с лишним месяца во главе немногочисленных защитников оборонял крепость Сион. Она оставалась последним оплотом борцов за свободу, и черный день 6 сентября 1437 года, когда войска императора Сигизмунда[29] врываются за крепостные стены, считается концом великой освободительной войны. Перед ратушей на этой площади уже мертвого Яна Рогача повесили вместе с шестьюдесятью его боевыми товарищами.
Представив, как это происходило, Ян Амос остановился. Сердце его сжалось. Померк веселый солнечный свет раннего утра, стихли голоса, и на площади воцарилось тяжкое молчание, в котором слышны были лишь отдельные звуки, сопровождавшие казнь. Но все это длилось одно мгновение. Наваждение прошло, только ощущение от боли в сердце осталось. А вокруг гудела толпа, смеялись люди, светило солнце...
И все же Сигизмунду и его приспешникам не удалось сломить дух таборитов. Два с лишним десятилетия спустя после кровавой расправы, последовавшей за поражением, оставшиеся в живых табориты создали общину чешских братьев, во имя которой Ян Амос будет жить и трудиться. Несмотря на постоянное гонение, община просуществовала уже сто пятьдесят лет, сохранив многие традиции таборитов — труд, обязательный для всех, взаимопомощь, заботу о детях в семье и школе. Братья строго соблюдали принцип выборности церковной организации, вменяя духовным пастырям заботу о больных и бедных, а наиболее важные вопросы решали на общих собраниях.
Еще в Пшерове Ян Амос слышал, как вместе с Гусом и его ближайшими сподвижниками называлось имя Петра Хельчицкого,[30] философа, писателя, современника и почитателя Гуса. Но лишь в Герборне Коменскому удалось прочитать одно из главных сочинений Хельчицкого — «Сеть веры», направленное против светской и духовной власти, которые поддерживают друг друга, чтобы угнетать народ. Эти два кита, по образному выражению писателя, и рвут сеть веры.
Вслед за Гусом Хельчицкий бесстрашно обличает лживость католической церкви, ее таинства, отрицая церковную иерархию. Вслед за Гусом он объявляет папу римского источником грехов и соблазнов, с гневом обрушивается на торговлю индульгенциями,[31] на симонию,[32] Хельчицкий прямо говорит, что истинными христианами могут быть только трудящиеся — крестьяне и городские плебеи,[33] остальные слои общества, то есть богатые и власть имущие,— грешники и погибшие.
Замечательное сочинение! Оно расковывало мысль, о многом заставляло задуматься. Хельчицкий отрицает борьбу народа с оружием в руках. Моральное совершенствование людей, а не война — вот путь, по его мнению, к идеальному обществу, где не будет угнетения человека человеком. Так склонен думать и он, Ян Амос. Но если народ поднимется, разве вправе его духовные руководители отворачиваться от борьбы, оставлять народ в критические моменты его истории? Разве справедливо упрекать таборитов, как это делает Хельчицкий, за то, что, отстаивая свободу, они взяли в руки разящий меч? Ян Амос не мог найти ответа на эти вопросы. Любя и почитая Хельчицкого, он преклонялся и перед таборитами, их мужественной борьбой, одушевленной высокими идеалами.
Коменский много размышлял об общественном устройстве Табора — этого военного города-республики, стремившегося осуществить в повседневной жизни народные мечты о равенстве и братстве людей. В большинстве своем крестьяне и ремесленники, табориты смело и решительно порвали все путы, мешающие человеку чувствовать себя свободным и равным другим.
С гордостью называли табориты друг друга братьями и сестрами — ведь они вместе, помогая друг другу, утверждали новую жизнь и до последнего дыхания защищали ее. Они верили, что скоро должно наступить тысячелетнее царство справедливости (как и он сам, увлекшийся в Герборне хилиазмом!), исчезнет насилие, люди будут жить, как братья и сестры. Личной собственности также не будет, и потому всякий, имеющий собственность, впадает в смертный грех. Земными делами должен править народ. Долой неправедных властителей!
...Староместская площадь. Казнь предводителей таборитов. Память об этом событии увела Яна Амоса в глубь времен, и теперь он словно поднимался наверх, в день сегодняшний. Толпа зевак, среди которых было немало иностранцев — до слуха Яна Амоса донеслись немецкие, итальянские, французские слова, — задрав голову смотрела на диковинные башенные куранты. Они состояли из двух дисков. Верхний показывал положение солнца, луны и планет, дневное время, а нижний — дни и месяцы. Под курантами находился календарь с аллегорическими картинами знаков зодиака и месяцев. Каждый час в двух небольших оконцах над курантами показывались фигурки апостолов и Христа. Коменский, как и все, не сдержал возгласа восхищения, когда в оконцах появились фигурки святых. Этот час отзванивала Смерть с косой. По сторонам курантов, кроме нее, находились еще турок, скряга и спесивец. Жизнь скоротечна, как бы говорила Смерть, и каждый час убавляет ее. Бессмысленно копить богатство, бессмысленны власть, гордость. Рано или поздно все пойдет прахом. Лишь стремление к вечному приносит счастье... Так, по крайней мере, прочитал эту аллегорию Коменский. Впрочем, предупреждение Смерти особенного впечатления на него не произвело. Люди вокруг смеялись, шутили:
— Эй, Йозеф, посмотри-ка на скрягу, не узнаешь себя?
— Ты лучше посмотри на турка, — отпарировал Йозеф.
Что с того, что смерть отзвонила один час? — подумал Ян Амос. Впереди у него тысячи таких часов! Он вздохнул и двинулся дальше. Наблюдая уличные сцены, Ян Амос различал как бы разные пласты жизни. Вот спешат мастеровые с озабоченными лицами. Они сторонятся подвыпивших гуляк, сынков богачей. Медленно катят раззолоченные кареты знати. Опустив глаза, идут попы в шелковых шуршащих рясах, с сытыми, лоснящимися физиономиями. Городские бедняки бросают на них презрительные, а то и грозные взгляды... Колдовской город, где острее, глубже открывается жизнь!
Ян Амос уже подходил к набережной — легкий ветерок нес с Влтавы свежесть и прохладу. Не зная почему, он свернул влево и углубился в лабиринт узеньких улочек. Показалось, потерял направление, хотя шел недолго. Потом тесно прижатые друг к другу дома как бы чуть-чуть расступились, и Ян Амос увидел Вифлеемскую часовню.[34] Он не мог ошибиться — это была она: высокое, простое здание из серого потемневшего камня, крутой скат кровли, над нею крест. С двух сторон часовни были сооружены леса, оттуда слышались голоса, раздавался стук молотков. Очевидно, иезуиты,[35] овладевшие часовней после поражения гуситов и без конца перестраивавшие ее, снова затеяли какие-то работы. Что ж, они могут даже разрушить часовню, снести всю до основания, но никому никогда не удастся стереть ее из народной памяти. Двести лет прошло с тех пор, как Ян Гус произносил здесь свои пламенные речи, звал народ на борьбу — целых двести лет! — но слова и дела его не забыты.
С волнением Ян Амос вошел в часовню. Там царил полумрак. Не было зажжено ни одного светильника, и только сверху сквозь запыленные окна сочился тусклый свет. Откуда-то, видимо из подземелья, тянуло сыростью. Немного привыкнув к полутьме, Коменский огляделся. В часовне было пусто. Он подошел к стене и увидел частью стершиеся, частью умышленно испорченные, грубо замазанные изображения и гуситские надписи. Мрак. Разрушение. Ненависть католических попов, не утихшая и за два столетия, продолжала делать свое черное дело. Ненависть — и страх перед памятью, идеями Гуса, живущими в народе. Тяжело видеть, как уничтожается народная святыня.
И как горько, одиноко в этом беспредельном пустом пространстве!
Ян Амос закрыл глаза. В какой-то момент ему показалось, что снаружи исчезли голоса рабочих и удары молотков на лесах, а сама часовня осветилась множеством огоньков, стала выше. Люди стоят, тесно прижавшись друг к другу, вытянув шеи, чтобы хоть краешком глаза увидеть проповедника. Его слова, простые и ясные, западают в душу — именно так, как он говорит, чувствует и мыслит каждый из пришедших сюда услышать правду о развратной жизни попов, о своей обездоленной судьбе. У мужчин, тех, кто одет победнее, вспыхивают глаза, сжимаются кулаки, они готовы хоть сейчас посчитаться с жирными монахами и высокомерными святошами в шелковых рясах и драгоценностях, составляющих высший клир.[36]
«Клир не учит, а портит народ своим развратом, связанным с богатством, — гневно бросает слова Ян Гус. — Так надо отнять у него богатство! Преемники Христа должны быть бедны, как апостолы. А они, наоборот, только о том и думают, как бы еще увеличить свои богатства, для чего рассылают продавцов индульгенций и хищных монахов, которые устраивают никому не известные празднества, выдумывают чудеса и грабят бедный народ...
Даже последний грошик, — гремит проповедник, — который прячет бедная старуха, и то умеет вытянуть недостойный священнослужитель, если не за исповедь, то за обедню, если не за обедню, то за священные реликвии, если не за реликвии, то за отпущение грехов, если не за отпущение, то за молитвы, если не за молитвы, то за погребение. Как же не сказать после этого, что он хитрее и злее вора?»
Шепот одобрения прокатывается по часовне, кто-то из женщин всхлипывает...
«Отними у собак кость — они перестанут грызться, отними имущество у церкви — не найдешь для нее попа...» Теперь слова Гуса падают, как раскаленные камни. Обличая попов, он обрушивается на католические таинства. Вот одно из них: будто во время причащения хлеб превращается в тело Христово. И Гус продолжает: «Пусть поп возьмет на помощь своих товарищей и пусть все вместе сотворят хотя бы одну гниду». Мужчины с трудом сдерживают хохот.
...Делясь пережитыми чувствами, выходят пражане из часовни. Еще не остыло волнение, еще горят глаза у мужчин, и шарахаются в сторону, освобождая дорогу портным, сапожникам, пекарям, оружейникам, писарям те, что одеты побогаче, пришедшие сюда, чтобы убедиться и передать кому следует, каким бунтовским духом заряжают людей проповеди знаменитого магистра! А уж заряд этот, подобный заряду молнии, прокатится по Праге и выйдет далеко за ее пределы...
Прага, Прага... Вечный город, где сливается воедино энергия тысяч сердец и становится силой, способной сокрушить все преграды! Город, который ничего не забывает, где оживает история и время как бы перетекает одно в другое! Ян Амос чувствует это почти физически.
Выйдя из часовни, он двинулся направо, продолжая думать о Гусе, его великой трагической судьбе. Ничто не могло сломить его — ни угрозы, ни происки могущественных врагов, ни запреты короля, ни отлучение от церкви. Бесстрашно бросал он вызов всему католическому миру, самому папе, всем угнетателям. Обращаясь к народу, Гус призывал к борьбе: «Поистине, братья, настало время войны и меча». К нему тянулись сердца людей и из других сословий — обедневшие земаны,[37] бюргеры, страдающие от немецкого засилья.
Не напрасно народ беспредельно верил своему учителю и шел за ним. Какую взрывчатую силу несла в себе его мысль, что виноват не только плохой правитель, но и народ, который терпит такого правителя. Вывод напрашивался. Он подкреплялся учением Гуса об условном повиновении духовным и даже светским властям: если церковь или господин приказывают что-либо, противоречащее священному писанию и истинам веры, — такое повеление не должно выполняться! Призывы Гуса будили сознание, звали на борьбу.
Гус хорошо видел то, чего не желали видеть его сторонники из богатых и знатных сословий. Зло не только в немецко-католическом духовенстве, утверждал он, но и во всех, кто наживается на разорении народа.
Гус понимал, что церковники только и ждут удобного момента, чтобы расправиться с ним, но, несмотря на все предупреждения, с неослабевающей энергией продолжал свою деятельность. Что испытал он, получив вызов на Констанцский собор[38] на суд? Покидая родную землю, Гус оставляет завещание и в послании к сторонникам призывает их быть твердыми в защите своих убеждений.
Император Сигизмунд обещает ему охранную грамоту, обеспечивающую безопасность и возвращение на родину. Но Гус хорошо знает цену заверениям этого коварного человека. И все же в его душе не было и тени сомнения: он должен ехать, чтобы открыто опровергнуть все обвинения. Если за правду нужно заплатить жизнью — он к этому готов.
Наверно, за несколько дней до отъезда Гус пришел проститься с часовней и, зажигая светильники, обходил ее, вспоминал, останавливался, читая надписи на стенах, им же сочиненные, разгадывая изображения. А потом, уже отойдя от часовни, оглянулся — может быть, вот с этого места, где сейчас стоит он, Ян Амос...
Множество людей с плачем провожало в путь своего вождя. Все понимали: он едет на смерть. Последние прощания, последний взгляд на Прагу в печальном осеннем убранстве, словно застывшую в предчувствии несчастья, на тихие берега серебристой Влтавы...
Октябрь, 1414 год. Год в год двести лет назад...
О том, как развивались события на соборе, о вероломстве, предательстве титулованных попов, клятвопреступлении Сигизмунда, мужестве и величии духа, которые проявил Ян Гус, Коменский знал из многих достоверных источников — свидетели и участники происходящего в письмах, отчетах, хрониках не упустили ни одного факта. Как и следовало ожидать, суд превращается в позорное судилище. На Гуса клевещут, ему не дают говорить и вскоре заключают в тюрьму...
Ян Амос хорошо знал проповеди, сочинения и послания Гуса, написанные им в констанцской тюрьме, когда мученическая смерть с каждой минутой приближалась к нему. Много раз Ян Амос представлял себе Гуса, закованного в кандалы в сыром подземелье, полуослепшего, страдающего от мучительных болей, но не сломленного, с неистребимой верой, что правда победит. Его слабеющая рука выводила строки, источающие мужество, доброту, любовь к родине и народу.
...Вот произнесен предрешенный приговор. Предаются проклятию и обрекаются на сожжение все произведения Гуса, а сам он объявляется еретиком[39] и приговаривается к смерти на костре.
Начинается изуверская церемония расстрижения. С болью представил себе Ян Амос, как это происходило. Гуса облачают и одеяние священника, а затем срывают каждую часть одежды. Со словами «Вручаем душу твою дьяволу» его отдают в руки палачей. На него надевают бумажный колпак с изображением пляшущих чертей, на плечи набрасывают рубище... Со связанными руками Гуса проводят мимо костра, на котором горят его книги. Несколько тысяч вооруженных солдат сопровождают Гуса к месту казни за городом, народ туда не пропускают.
Палачи привязывают Гуса к столбу, обкладывают до плеч вязанками дров и соломы. Нашлась старуха, подложившая дрова в этот страшный костер. Гус проговорил: «О, святая простота!» Исповедаться он отказался: «Не надо, на мне нет смертного греха». В последний раз уполномоченные собора предлагают ему отречься. Гус отказывается и отвечает, что он хотел облегчить жизнь людям и готов принять смерть за правду. Палач поджигает костер...
Весть о гибели Гуса всколыхнула всю Чехию — в гневе сжимают оружие руки крестьян и ремесленников. Оскорблены чешские рыцари и феодалы. Они пишут Констанцскому собору протест с приложением своих печатей, обвиняя его в несправедливом и незаконном осуждении на смерть магистра Иоанна Гуса. А затем приходит известие о мученической гибели на костре в Констанце друга и ученика Гуса — Иеронима Пражского. По всей Чехии прокатывается волна народных возмущений: крестьяне и плебс в городах, часто при поддержке земанов и бюргеров, громят монастыри и церкви, избивают попов. И движение приобретает общенациональный характер: казнь Гуса воспринимается как надругательство над всеми чехами.
Но это еще не было началом великой войны. С момента казни Гуса понадобилось почти пять лет, чтобы созрела идея всенародного восстания, выковалось единство и вперед выдвинулись те, кто мог повести за собой народ...
...Да, немногим дано прожить свою жизнь, как Ян Гус, но разве заказано стремиться к идеалу? Не для того ли рождаются люди, подобные Гусу, чтобы показать дорогу, по которой нужно идти? Ян Гус говорил: «Не хлеб мой насущный, а хлеб наш насущный» — сказано в писании, а значит, несправедливо, чтобы одни жили в изобилии, а другие страдали от голода». «Разве это не относится к настоящему времени? — думал Ян Амос, вспоминая села, через которые он проходил. — До каких пор народ должен терпеть?» Солдаты, ведущие на расправу связанных крестьян, будто снова прошли перед его глазами. В Праге все напоминало о героическом прошлом и невольно заставляло сопоставлять его с днем сегодняшним...
Ноги сами несли Яна Амоса к тем местам, где вершилась история, словно для того, чтобы приблизить ее к себе. Удивительно, но, совсем не плутая, Ян Амос вышел к университету, знаменитому Каролинуму, где Ян Гус был студентом, магистром, ректором, где его смелая мысль зажгла пламя борьбы. За этими старыми стенами, под могучими сводами актового зала, битком набитого студентами, учеными мужами, людьми разных сословий, магистр бросал грозные обвинения католической церкви, ее лицемерным служителям, грабящим и обманывающим народ. Здесь гремел и голос его друга и ученика Иеронима Пражского. В этих стенах росла и крепла свободная мысль. Борьба за университет шла постоянно и всегда была борьбой за национальное достоинство, язык, культуру. Она не прекратилась и ныне...
Остановившись на перекрестке (лабиринт узких улочек снова вывел его, судя по всему, к черте старого города), Коменский увидел невдалеке храмовую кровлю, возвышавшуюся над другими, и понял, что это костел девы Марии Снежне. Вскоре Ян Амос оказался перед костелом. Здесь проповедовал священник Ян Желивский. Отсюда 30 июля 1419 года он повел горожан к Новоместской ратуше. Процессию сопровождал вооруженный отряд под командованием Яна Жижки. Идти было недалеко, и очень скоро те, кто находились в ратуше, услышали гул приближающейся толпы, топот, бряцание оружия. Когда коншелы[40] подошли к открытым окнам ратуши, в глубине улицы уже показалась голова шествия. Холодок страха пробежал по их спинам, но они сумели подавить его: злоба к разбушевавшейся черни, рожденной служить им, а теперь вздумавшей заявлять о своих правах, оказалась сильнее страха.
Светило солнце, синело чистое глубокое небо, и отсюда хорошо были видны крыши, сады, башни, костелы нового города, где они, коншелы, были хозяевами. Забывать об этом нельзя. Твердость — вот что им нужно в эту минуту...
Ян Амос словно шел в гуще процессии, ощущая, как растет в груди окрыляющая легкость, удивительное чувство единения. Топот, бряцание оружия, грозные выкрики... Наваждение? То камни Праги, впитавшие все эти звуки, отражают их, усиливают, множат. Немолкнущее историческое эхо...
На площади Ян Желивский, стоящий в первом ряду, громко и ясно потребовал освободить узников — гуситов, вся вина которых состояла в том, что они открыто выступили за правду. Затаив дыхание, люди, заполнившие площадь, ждут ответа. Коншелов, стоящих у открытых окон, охватывает ярость: требовать? У них? И на головы толпы сыплется град издевательств. Коншелы изощряются. Пусть эти голодранцы, наконец, поймут, что никто их не боится! И вот один из коншелов бросает в Желивского камень.
Взрыв возмущения прокатывается по площади. Те, что стояли впереди, рядом с Желивским, срываются с места. До входа в ратушу несколько шагов, и это небольшое пространство мгновенно заполняется бегущими людьми. Топот на лестницах, крики — все сливается, перерастает в грохот, словно лавина камней несется с вершины скалы, все сметая со своего пути. Коншелы стоят, оцепенев от ужаса. Бежать уже невозможно. Поздно. Кто-то, спохватившись, закрывает на задвижку тяжелую дубовую дверь. Но в тот же миг лавина обрушивается на нее...
Разъяренные пражане выбрасывают коншелов из окон на мечи и копья повстанцев[41]... Гудит набат, возвестивший начало восстания. Без промедления повстанцы собирают жителей Нового города, избирают четырех гетманов-чехов, вручают им власть в городе и передают печать ратуши. Городская беднота, ремесленники громят церкви, расправляются с ненавистными патрициями,[42] попами... Бушует, волнуется Прага. Плывет над чешской землей гул пражского набата, и вторят ему многие другие колокола...
Потом была многолетняя кровавая война. Был свободный и могучий Табор и его непобедимое войско во главе с Яном Жижкой. Была длинная цепь вероломства и предательства панов-чашников и богатой части бюргерства, стоившая тысяч жизней и многих поражений, было пять крестовых походов всей католической Европы против восставших, были великие победы таборитов, всего народного войска, и были Липаны, черный день в памяти чехов...
И все это словно бы вместила в себя Прага, подумал Коменский. Две площади — Новоместская и Староместская — начало и конец войны. Требование Яна Желивского с мостовой Новоместской площади, обращенное к коншелам, и его смерть спустя три года в застенках Староместской ратуши; захват восставшим народом власти в Новоместской ратуше и после пятнадцатилетней борьбы на всей чешской земле — казнь на Староместской площади предводителей таборитов, последних вождей восставшего народа. Начало и конец. Рождение и смерть... «Так что же? — вернулся Ян Амос к своей постоянной мысли. — Где же путь к справедливости, не обагренный пролитой кровью и не ведущий к бедам, к гибели?»
...Неумолимо отзванивает Смерть с косой на башенных курантах Староместской ратуши каждый прожитый час. Конечно, впереди много, очень много часов, но что значит человеческая жизнь в сравнении с часами истории? О, это как посмотреть, разве опыт давно прошедшего не становится достоянием живущих? Пусть так. Однако люди не склонны его использовать. Каждое поколение спешит, не оглядываясь, пройти свой путь и повторяет прежние ошибки и заблуждения. Если бы это было не так, на земле давно бы уже прекратились распри и войны. Разве не естественней мирно договориться о решении возникающих споров? А может быть, все происходит из-за несовершенства человека? Иначе разве могли бы разумные, свободные от низких страстей люди создать общество, где царствует ложь и несправедливость?
Свои размышления Ян Амос закончил вопросами, на которые не было ответа. Не чувствуя усталости, он бродил по Праге много часов, словно бы вместивших века. Солнце уже перешло зенит. Съев припасенный кусок хлеба, Ян Амос двинулся дальше, предполагая выйти к Влтаве, но через некоторое время снова оказался на площади у Староместской ратуши. Пришлось спросить у подмастерья, спешащего куда-то по поручению хозяина.
Парень махнул рукой, показывая в обратную сторону. Но Ян Амос его не послушал — и правильно сделал, потому что через несколько шагов улочка, по которой он шел, неожиданно кончилась и в открывшемся просвете показалась сверкающая серебром река.
Выйдя к берегу, Коменский увидел Карлов мост в обрамлении стройных мостовых башен и невольно залюбовался: так легко, красиво возвышался этот мост над Влтавой, словно сказочная дорога по воздуху, ведущая прямо в королевский замок! Расстояние до Града с королевским замком и собором святого Вита было небольшим, и он виделся отчетливо, в разнообразии живых красок возвышаясь над Прагой, как ее каменная корона дивной красоты в изумруде парков и садов, с серебристой каймой Влтавы у подножия. А на другой стороне Влтавы — стоило только повернуть голову — причудливо громоздились крыши домов, с волшебной гармонией соединяясь с зубчатыми башнями и башенками, высокими кровлями храмов и стройными колокольнями. Там шумел великий город, где рядом с нищетой сверкало богатство, тьму мракобесия разрывала свободная мысль, в ответ на угнетения вспыхивал мятеж.
Прага напоминала, учила, побуждала к размышлениям. И Ян Амос почувствовал: от встречи с Прагой что-то изменилось в нем, какая-то струнка в душе окрепла.
***
Дни сменялись днями, а дорога все уходила вдаль, теряясь среди холмов в густых, шумящих под ветром рощах. Случалось, вечер заставал Яна Амоса среди полей, вдали от жилья, и он устраивался на ночлег где-нибудь на пригорке под деревом, завернувшись в плащ и подложив котомку под голову. Просыпался с первыми лучами солнца, ежась от утреннего холода, и сразу пускался в путь. Туман, медленно растекаясь, плыл над полями, но солнце, поднимаясь все выше, быстро съедало белесые клочья, воздух теплел, насыщался лесными запахами, ароматами распускающихся цветов. И Яну Амосу казалось, что он, как живая частица сущего, участвует в этом вечном круговороте природы.
Оказавшись наедине с природой, Ян Амос с улыбкой вспоминал разглагольствования схоластов на университетских диспутах, для которых главный аргумент — цитата из Аристотеля. И это в то время, когда наука исследует природу, открывая ее великие тайны! Но схоластов, закосневших в своем высокомерном невежестве, уже ничто не переубедит. Беда в том, что они воспитывают себе подобных. Пока школа будет находиться в их руках, туда не проникнет и легкое дуновение жизни. А между тем детей надо учить реальным знаниям, а не забивать головы мертвыми догмами. Школа должна быть другой — не скопищем учителей-невежд и учеников-мучеников, а мастерской, где обучают труду и размышлению, приобщают к познанию окружающего мира. Школа должна воспитывать счастливых людей!
А что такое счастье? Стремление к нему заложено в каждом человеке, Ян Амос чувствовал его и в себе. В чем же оно? В единении со всем миром, с людьми, с жизнью? Он бы ответил так. Вероятно, много путей ведет к этому. Счастье же в том, чтобы найти свой. Где он, его путь?
В мечтах и мыслях быстро летели часы, и Ян Амос иногда не замечал, как солнце клонилось к западу. Голод и усталость возвращали его на землю. Хорошо, если на пути попадалась деревенская корчма, где он мог съесть тарелку похлебки. Но если ее и не было, Ян Амос не огорчался: с легкой душой он довольствовался куском хлеба и свежей водой. Ему полюбились ночевки в лесу, в поле, и, бывало, он просыпался среди ночи от шума ветра в ветвях и смотрел в звездное небо. Как и бездонная синева при свете дня, ночное небо, хотя и по-другому, притягивало его.
Однажды Ян Амос проснулся, вероятно, от потоков лунного света — полная яркая луна прямо над ним тихо плыла по чистому небу. Стояла глубокая тишина, даже воздух, казалось, застыл, чтобы не нарушать ее. В этой тишине мироздания он словно ощутил бесконечность Вселенной. Чувство это было так остро, что перехватило дыхание. Ян Амос закрыл глаза, земля куда-то плыла вместе с ним. Состояние полного покоя, растворения в окружающем, слияния с ним, пришло к Коменскому. Сами собой потекли мысли, одна рождала другую, и снова встали перед ним вечные вопросы, таившие в себе великие тайны бытия, — те самые, которые он нашел в книге Джордано Бруно[43] «О бесконечности Вселенной и мирах». Философ высказывал мысли о бесконечности Вселенной, о возможности существования жизни на других планетах, о том, что Земля не находится в центре Вселенной, а вращается вокруг Солнца. Многое мешало полностью воспринять эти идеи, но и невозможно было их отвергнуть. Это величайший взлет человеческого духа, за который бесстрашный мыслитель принял смерть на костре инквизиции.[44] Говорили, он бросил в лицо своим палачам: «Сжечь — не значит опровергнуть!» И был прав: мысли не горят в пламени костров. Но сколько глубоких мыслей, едва успев родиться, заглушены страхом, ибо топор инквизиции занесен над каждым, кто стремится найти истину! И не напрасно Николай Коперник, лишь будучи на смертном одре, решился отдать в печать свой труд, в котором опровергает геоцентрическую систему мироздания.
Возможно, думал Ян Амос, смотря на звезды, что Земля в сравнении с небом не более как точка или как бы определенное количество в сравнении с бесконечным. Так писал Николай Коперник. Но если мы с этим согласимся, то должны принять и другое его соображение: немыслимо, чтобы Земля представляла центр мира! Учение Коперника будоражило воображение, но и вызывало сомнение. Что ж, истина рождается в спорах, но мысль должна быть свободна!
...Таинственным светом мерцали над головой Яна Амоса звезды, а за ними, недоступные простому зрению, может быть, существуют и другие. И разумом мы заключаем о бесконечном количестве других. Природа беспредельна. Эти мысли встречаются и в философских трактатах Николая Кузанского, который утверждает, что бог — это и есть не что иное, как беспредельная природа...
Может быть, эти мысли дали толчок размышлениям Бруно о бесконечном множестве миров, подумал Ян Амос, ведь Николай Кузанский высказал их чуть ли не за сто пятьдесят лет до него! И этой цепочке, по которой движется мысль, нет и не может быть конца...
Погруженный в размышления, Ян Амос не заметил, как начали тускнеть и пропадать звезды, светлеть небо. Предрассветный ветерок, заставивший Яна Амоса поежиться, вывел его из задумчивости. Близилась заря наступающего дня. Ян Амос вдруг почувствовал волнение: по его расчетам, к исходу этого дня он должен добраться до Пшерова, славного моравского города, где предстанет перед руководителями братства, которые определят его судьбу.
Глава третья. КОРОЛЬ МАТВЕЙ БРОСАЕТ ВЫЗОВ
Юноша, который стоял перед графом Карелом Жеротинским,[45] был чуть выше среднего роста, строен и худощав. Его обветренное лицо с правильными чертами, спокойным серьезным взглядом было привлекательно и, пожалуй, необычно выражением сосредоточенности. Светлые, слегка волнистые волосы отброшены назад. Высокий лоб. Небольшая, редкая бородка, усы. Одежда скромная, но опрятная. Башмаки, куртка и штаны, изрядно выношенные, тщательно почищены. Белый воротник, лежащий поверх куртки, открывает загорелую шею.
Граф Карел Жеротинский, могущественный покровитель чешских братьев, жестом пригласил его сесть. Он почувствовал невольное расположение к этому молодому человеку, хотя еще не обменялся с ним ни одним словом. Как знать? Может быть, юному теологу столь блестящих способностей, как о том писали ему из Герборна, суждено сыграть важную роль в судьбе общины? Времена наступают трудные, гонения на чешских братьев усиливаются, король Матвей помышляет лишь о том, как покончить с протестантами, и сейчас особенно нужны верные, мужественные, образованные люди, способные стать на защиту братьев.
— Добро пожаловать на родину, Ян Амос. — Граф сделал широкий жест, как бы раздвигающий стены дома. — Я наслышан о твоих успехах. Мне писали из Герборна, что ты прослыл там своей ученостью и даже профессора признавали тебя равным себе. При этом они с похвалой отзываются о твоем добром нраве и трудолюбии.
При последних словах пшеровский епископ чешских братьев Ланецкий, сидевший чуть поодаль, наклонил голову в знак согласия.
— Простите, ваша милость, но я должен сказать, — Ян Амос взглянул в лицо графу, — что не могу сравниться в глубине и обширности познаний с моими профессорами — магистром Пискатором или магистром Альстедом.
Жеротинскому было приятно услышать имя Альстеда, известного в Европе философа, произнесенное юношей с таким неподдельным восхищением. Взгляды Альстеда во многом были близки чешским братьям, и не случайно известный философ посвятил ему, Жеротинскому, свой знаменитый труд. Да и ответ юноши был скромным и достойным.
— Это хорошо, что ты ощущаешь недостаток своих познаний, Ян Амос, — сказал Жеротинский, — значит, не остановишься на месте.
— Познанию нет предела, и путь к истине бесконечен, — ответил юноша. — А мы, люди, несем в себе божественный дар. Разве не является им наш разум, наша способность к безграничному познанию? — Юноша говорил почтительно, как бы соглашаясь и вопрошая, но смело.
«Молод и горяч, — подумал Жеротинский, — но сколько в нем внутренней силы! Если не растратит ее в борьбе с невзгодами, из него вырастет, быть может, муж великий, опора нашим братьям, гонимым и преследуемым. Пока же его надо определить. Но к чему тянется его душа?» Вслух Жеротинский сказал:
— О, если бы люди умели спокойно беседовать о религии и свободно, без боязни, высказывать свои мысли... — Он замолчал, задумавшись, и затем произнес: — Но, увы, это в нынешние времена невозможно! Пока к нашим разногласиям с католиками примешиваются политические и многие иные интересы, как видно, мирно договориться мы не сможем...
— Народ наш живет в тяжкой нужде, и нет предела алчности его властителей, выжимающих из него последние соки, — вырвалось у юноши, — но если пробьет грозный час, народ поднимется, как во времена Гуса, и покажет свою силу!
Жеротинский вскинул голову:
— Этого допускать нельзя! Только мир и добросердечие господ могут улучшить положение народа. Запомни это, Ян Амос!
— Мир — величайшее благо, — спокойно ответил молодой человек, — но он наступит, когда люди будут видеть друг в друге не слуг и господ, а братьев и вместе на едином совете решать свою судьбу.
— Увы, это время далеко и пока лишь прекрасная мечта.
— Да, ваша милость, мечта. Но не она ли помогала чешским братьям выдержать суровые испытания судьбы? Люди нашей общины всегда старались помогать друг другу в беде, и старшие передавали наши предания, язык, обычаи молодым.
— В этом ты, пожалуй, прав... — проговорил Жеротинский. — Но как мыслишь ты сам служить благому делу?
— Человек рождается для уразумения вещей равно, как и для добродетелей. Однако он нуждается в образовании и воспитании...
— Продолжай, Ян Амос. — Приготовившись слушать, граф откинулся в кресле.
— Как я думаю, цель школ должна состоять в том, чтобы человек, завершивший свое обучение, соответствовал своему назначению. Он должен уметь разумно управлять самим собою, уметь трудиться, обладать ясной, приятной речью. Школы же должны стать мастерской мудрости, трудолюбия, добронравия... — Ян Амос говорил с увлечением.
Епископ сидел по-прежнему неподвижно, положив руки на колени, лицо его оставалось невозмутимым. Жеротинский молчал, поглаживая темную с проседью бороду, но глаза выражали одобрение.
Ян Амос ощутил интерес и сочувствие двух этих людей, обладавших большим влиянием и авторитетом в общине. Как не кажется далеким, почти несбыточным достижение тех целей, о которых он говорил, школы необходимо изменять уже сейчас.
Словно угадав, о чем подумал юноша, Жеротинский спросил:
— И ты знаешь, как сделать так, чтобы школы стали мастерскими мудрости, трудолюбия и добронравия?
— О нет! — с живостью ответил Ян Амос. — Многого я не знаю. Но я твердо уверен: обучение должно быть иным, построенным сообразно природе ученика, его способностям к пониманию и запоминанию, которые нужно постепенно развивать. Учить же надо не на латыни, а на родном языке...
— Ты отказываешься от латинского языка? — удивленно спросил Жеротинский.
— О нет! Латинский язык — всемирный язык науки и философии. Он же приобщает нас и к мудрости древних. Но изучать его, я полагаю, нужно на последующей ступени обучения. Начинать обучение надо на родном языке, ибо лишь на родном языке могут быть усвоены первые необходимые для жизни представления и понятия. Думаю, что изучение родного языка не следует оставлять и в дальнейшем. Ведь все равно юноша будет мыслить на родном языке и, совершенствуясь в нем, приобщится к мудрости, ибо сам язык — неисчерпаемый кладезь мудрости. А как богат наш язык, как красив, звучен, приятен для сердца и ума!
— Я разделяю твою любовь к нашему языку, Ян Амос, — сказал Жеротинский, — но он хорош в обыденной жизни, прекрасны наши песни и сказки, но иное дело — язык науки. Полагаю, что для многих явлений, понятий, описываемых в науках на латыни, языке гибком и богатом, в чешском языке пока нет названий. Да и много ли ученых книг написано на нашем языке? И много ли существует тех книг, по которым ты хочешь обучать на родном языке?
— Подобные сомнения я слышал от своих товарищей по университету, ваша милость, и я возражал им. Сначала я просил их назвать по-латыни любую вещь и тут же произносил соответствующее слово на чешском языке. И не было случая, чтобы такого слова не нашлось в нашем языке! Вот я и подумал, что нужно составить чешско-латинский словарь, «Сокровищницу чешского языка», в котором собрать слова, поговорки, пословицы, выражения и обороты нашего языка. И если я смогу когда-нибудь завершить этот труд, то все увидят, что наш язык — это не только песни крестьян, лепет детей, бойкая речь купцов и ремесленников, а что он способен образно и ясно выразить все великое, существующее в мире, в нашем разуме и нашей душе, и восхитятся его изяществом, силой, красотой...
— Да свершится сие истинно прекрасное дело, сын мой, — произнес епископ. — Наш язык, на котором мы возносим молитвы и говорим друг с другом, в равной мере отчетливо и полно выражает возвышенное и обыденное. Но гонение на него иноземцев, чиновников короля, злостных священнослужителей-католиков совсем принизило его, и уже находятся люди, готовые променять свой родной язык на чужую речь, лишь бы получить тепленькое местечко.
Глубокая складка над переносицей прорезала лоб Жеротинского. Слова епископа Ланецкого снова вернули его к обычным заботам: как противостоять гонениям на братьев, как сохранить мир на моравской земле? Наиболее горячие головы готовы хоть сейчас выступить против короля Матвея, который не сдержал ни одного из своих обещаний. По-прежнему католические власти препятствуют свободному вероисповеданию протестантов. В народе кипит возмущение. Здесь, в Моравии, ему пока удается уживаться с католиками и ограничивать произвол чиновников — увы, всего лишь ограничивать! Но долго ли продлится этот непрочный, готовый в любую минуту взорваться мир? И как ему поступить, если в Праге начнется восстание?
Жеротинский провел рукой по лбу, как бы освобождаясь от донимавших его тревог. Надо продолжить беседу с юношей, принявшую такой интересный оборот. Рассуждения его убедительны, а главное, в них ощущается внутренняя энергия. В это тяжкое время народ особенно нуждается в людях, готовых отдать все свои силы ради сохранения и развития национальной культуры. А она прежде всего в сохранении языка. Отрадно, что в своем стремлении юноша следует великим примерам. Сколько надежды и мужества вселил во многие сердца труд славного Яна Благослава[46] «Чешская грамматика»! И какую гордость испытываешь, читая «Зерцало славного маркграфства Моравского» Бартоломея Пакрицкого,[47] эту правдивую историю нашей земли, повествующую о наших предках, их стремлении к достоинству и свободе! «Ах, — вдруг подумал Жеротинский, — если бы нам удалось в ближайшие годы сохранить мир, укрепиться! Ведь уже дают себя знать результаты сплочения протестантских сил. Удалось (пока тайно) договориться всем сословием провести на сейме закон, предусматривающий, что в число горожан должны приниматься только люди, знающие чешский язык, и что в суде дела должны вестись только по-чешски. Этот закон помог бы устоять чешскому языку, да и народу было бы легче защищать свои права».
Ни епископ, ни тем более Ян Амос не решались прервать затянувшееся молчание. Впервые за время беседы Ян Амос почувствовал неловкость, что так много и горячо говорил. Правда, он лишь отвечал на вопросы и слушали его с неподдельным интересом. И все же надо быть скромнее. О другом сочинении, тоже начатом в Герборне, он говорить не будет. Да и его самого порой одолевали сомнения: сумеет ли он завершить столь обширный труд, задуманный на годы? Он называл его «Зрелище Вселенной». В нем должны быть собраны новейшие открытия во всех науках, все реальные знания, которыми обладает человечество, и тогда у чешских студентов не будет нужды искать в латинских книгах повсюду разбросанные крупицы знаний.
— Что же, Ян Амос, продолжай, — неожиданно поднял голову Жеротинский. — Ты говорил о школах на родном языке. Исчерпываются ли этим перемены, которые ты хочешь внести?
— Конечно, нет, ваша милость. В чем нынешние школы видят свою задачу? Могут сказать — в изучении наук, искусства, языков. Но каких наук, каких искусств, каких языков? И в каком объеме? Все это нигде не определено. Учат, чтобы учить. Учатся, чтобы учиться. Давно уже прозорливые умы заметили, что образование, получаемое в школах, не отвечает своей цели, так как не дает знания того, что необходимо в жизни. Я испытал это на себе. Но какой смысл изучать то, что не приносит пользы?
— Кто же, по-твоему, Ян Амос, сумеет разъяснить эти вопросы?
— На некоторые — хотя и не на все — есть ответы в сочинениях различных педагогов. Но, увы, никто не собирал мысли ученых и мудрецов об обучении и воспитании, не подвергал их критическому рассмотрению, а затем не связал воедино, восполняя пустоты собственным опытом и собственными наблюдениями.
— Что же, — проговорил Жеротинский, — может быть, тебе, Ян Амос, суждено исполнить этот труд?
Епископу показалось, что в голосе графа прозвучала легкая ирония. Еще бы: многим прославленным ученым, даже если они соединят свои усилия, не под силу такое!
Юноша промолчал, и неожиданно граф сказал:
— Братство хотело бы поручить тебе управление нашей городской пшеровской школой. Управление и преподавание. Готов ли ты, Ян Амос, принять наше предложение?
— Я готов трудиться, насколько хватит сил и разумения.
Граф Жеротинский наклонил голову. Судьба Яна Амоса была решена. И отныне граф Жеротинский до самой своей смерти станет покровителем и защитником этого молодого человека, в котором он угадал его великое предназначение.
***
Декабрь, 1617 год. В венском дворце императора Священной Римской империи, чешского короля Матвея настороженная тишина. Придворные, собравшиеся в приемном зале, тревожно перешептываются. Некоторые растеряны, другим с трудом удается скрыть затаенную радость. А иные уже сумели придать своей физиономии приличествующую случаю скорбь.
Король Матвей опасно болен. Впрочем, болезнь началась не вчера. Последний год недуг, подтачивавший его силы, не однажды укладывал короля в постель. Но такого, чтобы он надолго лишился сознания, еще не было. Даже если он и выкарабкается на этот раз, долго ему не протянуть. «Подумать только — сорок минут без сознания, какой ужас!» — «Да нет, не сорок — час десять...» — «Увы, увы, это слишком, слишком дурной знак...»
Быстро проходит в глубину, к покоям короля, шурша кардинальской мантией, ближайший его советник и любимец всесильный венский архиепископ Мельхиор Клезель. Перед ним расступаются. Те, кто вчера искал его взгляда, еще издали заискивающе улыбался, сейчас опускают глаза. Не позавидуешь судьбе этого временщика, если господь бог примет грешную душу короля. «Сначала у него из носа и горла шла кровь, а уж потом он потерял сознание». — «Да это очень опасно! И на Клезеле лица нет».
Перешептываются. Бросают друг на друга многозначительные взгляды. Неожиданно замолкают, прислушиваются. А там, в королевских покоях, тишина. Оттуда не доносится ни звука, ни шороха.
Ощущая, как силы медленно возвращаются к нему после выпитого снадобья, приготовленного его лейб-медиком, король Матвей, прикрыв глаза, лежал на своей широкой постели под алым балдахином. Слабость была такая, что трудно шевельнуться, но внутреннее чувство уже говорило, что он поднимется. На этот раз обошлось, миновало. Тот нестерпимый, сжимающий все тело острыми когтями ужас, который он пережил, погружаясь в небытие, теперь как бы спрятался, притаился где-то в глубине сознания, лишь напоминая о себе колючей мыслью: так вот как умирают, как тяжко и мучительно дух расстается с телом! Может быть, лишь праведникам суждена иная смерть. А он грешник, с душой, запятнанной преступлениями и страстями. Там, на небесах, он предстанет перед богом какой есть, в своей исконной сути, без короны, королевской мантии и скипетра императора. А впрочем, есть ли что там, за гробом?.. Здесь же, на земле, он король, обязанный этим своему рождению, и потому он всегда поступал в соответствии с королевским долгом власти. А долг этот требовал твердости, а то и коварства — суровый, кровавый и сладостный долг. Ему он был предназначен свыше, и он исполнял его. Вот что он скажет, представ перед высшим судьей. Но то время еще не настало. И никому не ведомо, когда оно настанет для смертного.
Рассуждение это успокоило короля Матвея и постепенно вернуло к бренным заботам власти. Мысли потекли по привычному руслу, как всегда, вызывая то усмешку, то досаду, то раздражение; гнев он подавлял в себе, боясь нового припадка. Да, все реже в последнее время радость или торжество волновали его кровь, когда он думал о делах государственных. Со всех концов империи приходят дурные вести: то тут, то там вспыхивают бунты крестьян, волнуется городской плебс. Все чаще королевским чиновникам оказывают прямое сопротивление. Без надежной охраны они не рискуют появляться среди народа. Его тайные агенты доносят о сношениях немецких князей с внешними врагами, о сепаратных соглашениях высокородных панов, князей и графов-католиков с его противниками. Каждый из них заботится лишь о своекорыстных интересах, сильная королевская власть им помеха.
Но особенно беспокойно, как всегда, в Чехии. Представители чешских сословий за его спиной договариваются, сколачивают союзы против него с сословиями в Венгрии, даже в Австрии. Чехи не забыли о своих требованиях, которые они предъявляли ему перед коронованием. Он пошел (вынужден был пойти!) им навстречу лишь в одном пункте — религиозном, выполнение остальных четырех пунктов он отложил... Сословия не раз напоминали ему об этом — он прикидывался глухим. Пока он жив, эти четыре пункта выполняться не будут. Как, дать им право созывать свои съезды без его королевского соизволения? Дать им право свободно заключать союзы с сословиями других земель, мало того — заключать договоры с протестантскими князьями! Да неужто он добровольно откажется от своих королевских прав и будет зависеть от решения их сеймов?
При одной мысли об этом король Матвей почувствовал, как от волнения у него перехватывает дыхание. Все же усилием воли он заставил себя размышлять более хладнокровно. Несомненно, чехи объявили ему тайную войну. Впрочем, они не скрывают многих своих намерений. Сословия наглеют на глазах. Он хотел продолжить войну с турками, чтобы усилить свое влияние и в Европе и внутри империи, — сейм отказал ему в средствах, и планы его рухнули. А беспрерывные конфликты между католическими властями и протестантами, которые, ссылаясь на Грамоту его величества», открывают новые церкви? В любой момент эти конфликты могут перерасти в возмущение всех слоев против короля и католиков. А все это плоды политики его бесхарактерного братца императора Рудольфа, который за бесчисленными пирами, учеными увлечениями да собиранием всяческих художественных коллекций так и не понял, что происходит в его землях, в этой бунтарской Чехии, где при нем снова подняли головы протестанты, которые открыто готовились к борьбе против законной королевской власти и святой католической церкви.
Подумав о Рудольфе, король Матвей брезгливо поморщился. Мятежный дух возрос в непокорной Чехии из-за попустительства его слабодушного братца. Недаром же он, Матвей, всегда говорил, что Рудольфу пристала не королевская корона, а мантия ученого или, того лучше, прожженный фартук алхимика, которыми он наводнил свой дворец в Праге. Эти шарлатаны обещали ему добыть золото, но получалось наоборот: золото королевской казны текло в их карманы да в руки всевозможных ученых и художников, а больше всего — всяческих авантюристов и обманщиков, прикидывавшихся великими знатоками наук и искусств.
И находятся люди, которые говорят, что он поступил вероломно, с оружием в руках выступив против Рудольфа, своего родного братца, этого слабодушного меланхолика, фактически потерявшего власть над Чехией! Он долго терпел Рудольфа на чешском престоле, но всему наступает конец. Пришла пора, когда он не мог больше смотреть, как рвутся нити, связывающие воедино под властью Габсбургов Священную Римскую империю, как гибнет все содеянное их великим дедом Фердинандом I Габсбургом,[48] который благодаря политической мудрости сумел добиться своего избрания чешским королем, а затем силой и твердостью, а где обещаниями и милостью ограничил власть земства[49] и мятежных панов, заставив их признать верховную королевскую волю.
Но чешские сословия, почти сплошь протестанты, ненавидевшие короля-католика, немецкий язык и немецкие установления, лишь затаились до времени. При первом же удобном случае они восстали. Фердинанд сумел расправиться с ними. Суд его был мудрым и суровым, как и подобает королевскому суду. Зачинщики были примерно наказаны, их владения конфискованы, оружие, военные запасы отобраны, мятежные города лишились имений, передали доходы королевской казне и заплатили штраф. По окончании суда, в день святого Варфоломея, 20 августа 1547 года, король назначил сейм — при этом четверо осужденных были казнены на Градчанской площади. Кто-то назвал этот сейм кровавым — пусть! Но его решения утвердили мощь королевской власти Габсбургов. 1547 год, когда Чехия была поставлена Габсбургами на колени!
О, Фердинанд, как никто другой, умел пользоваться плодами своих побед во славу империи и святой католической церкви. Он возобновил указ о пикардах,[50] как в насмешку называли чешских братьев, запретил их сборища и повелел им присоединиться либо к католикам, либо к чашникам. В случае же отказа в течение шести недель покинуть страну. Многие еретики вынуждены были уехать — в Польшу, Пруссию, Силезию... Это он, великий их дед, призвал орден иезуитов, верных слуг католической церкви, чтобы они трудились ради искоренения лжеучения еретиков-протестантов, учредил в Праге, в этом осином гнезде еретиков, коллегию святого Климента и при ней теологическую и философскую школу; это он добился права назначения королем пражского архиепископа, который раньше избирался на земском сейме. И он, Фердинанд Габсбург, заставил признать своего старшего сына, Максимилиана,[51] будущим королем Чехии, законным наследником престола. А в последние годы своей жизни короновать его как Максимилиана II.
Король Матвей вздохнул. Он всегда вспоминал своего деда Фердинанда, когда ему было трудно. В его деяниях он черпал новые силы для борьбы. Увы, Максимилиану II, наследовавшему после Фердинанда корону Чехии и Венгрии (остальные земли империи по завещанию Фердинанда получили двое других сыновей), не хватало твердости. Правда, Максимилиан добился от сейма утверждения наследником престола своего старшего сына — Рудольфа, его, Матвея, родного братца, который, став королем Чехии Рудольфом II, временами впадал в полное слабоумие. Хотя Рудольф подтвердил все прежние указы Габсбургов против протестантов и даже распустил сейм, который отказался подтвердить его решения, все же у Рудольфа недоставало ни ловкости, ни решимости, чтобы не мешкая создать сильное войско — золото на это нашлось бы — и заставить подчиниться королевской воле всех этих панов, земанов и бюргеров, кичившихся своими старыми вольностями и привилегиями.
А в результате они собрали новый сейм и уже не просили, как им подобает, а потребовали у Рудольфа грамоту веротерпимости. Вот тут-то ему надо было согласиться, подписать этот клочок бумаги, обмануть их, выиграть время, выждать, укрепиться, а затем схватить их за горло. Но куда там! Братцу и на этот раз не хватило ума! Он отказался, а сейм постановил начать вооруженное восстание и избрал временное правительство — тридцать пылающих ненавистью к Габсбургам и католической церкви еретиков-дефензоров. Только после этого изрядно перетрусивший Рудольф подписал «Грамоту его величества», по которой чехи получили то, чего добивались, — право свободно исповедовать свою протестантскую веру, публично совершать богослужения, учреждать школы. Даже университет еретики прибрали к своим рукам!
Все это верно, прервал свои размышления Матвей, Рудольф никогда не заслуживал чешской короны, но (а зачем ему лукавить перед самим собой?) Рудольфу в трудные минуты приходилось больше опасаться его, Матвея, нежели упрямых чешских сословий. Сколько раз за спиной Рудольфа он заключал сделки с недовольными протестантскими князьями, угрожал, наконец, вторгся с войском в Чехию и не ушел, пока Рудольф, оказавшись в безвыходном положении, не уступил ему Венгрию, Австрию, Моравию и открыто, с согласия сословий, не провозгласил его наследником престола. Но ему, Матвею, не терпелось, он хотел всей империи еще при жизни Рудольфа — он знал свое предназначение!
Случай представился, когда Рудольф подписал эту грамоту веротерпимости, почва уже колебалась под ним. Почувствовав, что власть уплывает из рук Рудольфа, в Чехию с наемными войсками из Пассау ворвался их племянничек Леопольд Штирийский, и Рудольф вынужден был просить помощи у него, Матвея. Он, конечно, поспешил с войском в Чехию. С Леопольдом справились и без него, но разбушевавшееся мужичье и плебс начали громить католические монастыри и церкви, восстание разрасталось, и Рудольфу пришлось созвать сейм и отречься от престола.
Вот когда пробил его час: он, Матвей, законный преемник Рудольфа, стал королем, а не правителем, как прежде! Королем и императором! Разумеется, он обещал безмозглым панам и земанам выполнять «Грамоту его величества», но, разумеется, он и не собирался этого делать. Ложь, даже преступление ради великой цели дозволены, а порой и необходимы, как верно говорят иезуиты. Король Матвей вспомнил соответствующие места из «Духовных упражнений» славного Лойолы,[52] основателя ордена иезуитов, — книги, которую он любил перечитывать на досуге. «Если церковь утверждает, что то, что нам кажется белым, есть черное, — мы должны немедленно признать это!» Недурно сказано! Не беда, что не согласуется со здравым смыслом, зато несет в себе мысль о безграничности, абсолюте высшей власти, во имя которой дозволено все: ложь, предательство, смертный грех... Или вот еще! «Подчиненный должен смотреть на старшего, как на самого Христа! Он должен повиноваться старшему, как труп, который можно переворачивать во всех направлениях». Да, так и должно быть, именно так! Из-за чего он вспомнил об этой книге? Ах, да, «Грамота его величества», которую он обещал выполнять. Как бы не так! Чехи очень скоро ощутили тяжесть его королевской руки даже отсюда, из Вены, куда он перенес свою резиденцию из ненавистной Праги.
Король Матвей пошевелился.
— Что угодно вашему императорскому величеству? — раздался вкрадчивый шепот лейб-медика Якоба.
— Помоги мне приподняться. Но сначала раздвинь шторы. Я хочу света. Больше света.
— Вашему императорскому величеству лучше? — спросил Якоб и, так как король не ответил, поспешил прибавить: — Кризис миновал. Теперь вам нужен покой, и силы постепенно вернутся к вашему императорскому величеству.
Якоб подошел к окнам, раздвинул шторы — и серый свет хмурого декабрьского утра рассеялся в спальне. Потом лейб-медик осторожно приблизился к изголовью постели.
— Помоги же! — нетерпеливо бросил Матвей, пытаясь приподняться, но, обессиленный, упал на руки Якоба.
— Зеркало, — приказал король. Голос его едва прошелестел, но Якоб по движению губ угадал желание короля.
С низенького, украшенного инкрустацией столика, стоявшего у стены, лейб-медик взял овальное зеркало в серебряной оправе, в которое король имел обыкновение глядеться, лежа в постели, и поднес к лицу его императорского величества.
Король долго вглядывался в свое изображение. Одутловатое лицо, расплывшиеся черты, в которых читается бессилие, погасшие глаза, лишь где-то в самой глубине таится тревога, страх. Набрякшие мешки. Под усами опущенные углы рта. Лицо больного, может быть, неизлечимо больного старика. А ведь он и есть старик, — мелькнула мысль, — ему шестьдесят один. Какой срок ему еще отпущен — полгода, год, два? Сыновей у него нет. Кому же передать империю? Если он уйдет, не назначив наследника престола, быть большой беде. Поднимется смута, разгорится борьба за власть, чешские сословия с оружием в руках потребуют восстановления своих прав и привилегий, и сейм выберет угодного себе короля.
Нет, этого он не допустит! У него есть право назначить наследника и еще при своей жизни короновать его. Долгое время он откладывал это решение, но, как видно, пришла пора сделать выбор. Для себя он его почти сделал, но все же иногда колебался, поддаваясь на уговоры своего первого советчика Мельхиора Клезеля.
Архиепископ чуть ли не на коленях умолял его держать в тайне имя преемника — Фердинанда Штирийского.[53] Да, соглашался его преосвященство, Фердинанд Штирийский во многих отношениях достоин королевского выбора: решителен, в расцвете сил, предан Габсбургскому дому, ревностный католик. Но именно это последнее обстоятельство, добавлял Мельхиор, как ни парадоксально, оборачивается против него. Всем хорошо известна его нетерпимость к малейшим отклонениям в вопросах веры, его яростные гонения на протестантов. Одно его имя вызовет в Чехии всеобщее возмущение, возможно, войну...
Так на все лады повторял преданный Мельхиор Клезель, его преосвященство, венский архиепископ, и король Матвей понимал, что в этих рассуждениях есть немалая доля истины. До поры до времени доводы предусмотрительного архиепископа удерживали его от задуманного шага, но больше откладывать нельзя: будущее империи должно быть в твердых руках, и, пока он еще в силах, необходимо объявить преемника — Фердинанда Штирийского — и заставить чешский сейм короновать его. Конечно, это будет расценено как вызов, может вспыхнуть возмущение, но его сторонники достаточно сильны, и за ним войска, мощь всей империи. Решено: как только он оправится от болезни, немедленно объявит о своем намерении.
Король Матвей поднял голову; солнечный луч, пробившись через зимнюю хмарь, радужным веселым пятном упал на одеяло. Подобие улыбки тронуло его тонкие бесцветные губы. Как, в сущности, мало нужно человеку...
Человеку — но не королю.
***
...Вот уже два года Ян Амос Коменский преподает в городской пшеровской школе братства и управляет ею. Каждый уголок этой школы напоминает ему годы собственного учения — мучительные, беспросветные, заполненные бессмысленной зубрежкой и страхом перед учителем. В серой веренице дней отчетливо помнятся редкие счастливые часы, когда наперекор всему приходила радость от узнавания нового. А ведь все учение должно состоять из таких счастливых часов, рождающих веру в свои силы и горячее желание узнать еще больше.
С волнением входит Ян Амос в класс. Входит с улыбкой, приветливо здоровается с учениками, ведь самое важное — установить доверительные отношения. Дети должны видеть в нем не врага, не мелочного, бездушного придиру, а наставника и друга, справедливого, искреннего, умеющего их понять. Ни в коем случае ученики не должны его бояться — наоборот, пусть будут с ним откровенны, пусть задают любые вопросы. Долой линейку, с которой обычно не расстается учитель, дабы ударом по рукам привести в чувство нерадивого ученика. Долой бессмысленную зубрежку. Само обучение для учеников должно быть интересным, легким, приятным. Они должны понимать: все, что узнают в школе, будет необходимо в жизни.
С увлечением Ян Амос отдается работе учителя. Он тщательно готовится к урокам и для каждого из них ставит определенную задачу. Вечерами наедине с собой он подводит итоги дня, размышляет: все ли ему удалось из задуманного? В чем состояли его ошибки? А они, словно в зеркале, отражаются на учениках — на внимании, интересе, побуждающем к любознательности, или скуке, вызывающей апатию. Наблюдения за собой и за учениками помогают искать, проверять, совершенствовать новые приемы обучения. Весь учебный процесс он стремится строить в соответствии с природой детей, чтобы он протекал легко, как игра, но при этом планомерно, целеустремленно. Упорно Ян Амос ищет естественную взаимосвязь между целями обучения, средствами для достижения целей и тем, как применять эти средства.
Коменский любит проводить занятия на лоне природы, беседовать с учениками во время долгих прогулок, неожиданными вопросами пробуждать их любознательность. Он учит их всматриваться в природу, видеть и чувствовать ее бесконечное разнообразие; он строит занятия так, чтобы вызвать у своих учеников желание разгадать тайны природы, понять ее внутреннюю жизнь. Дети быстро распознают в нем доброго друга. Они откровенно рассказывают о себе, о своих заботах, желаниях.
Необычное поведение учителя поначалу вызывает у обывателей Пшерова недоуменные разговоры. Увидев молодого человека, легкой, стремительной походкой идущего по улице, они переглядываются, усмехаются, пожимают плечами. Но стоит кому-нибудь побеседовать с Яном Амосом, как недоумение исчезает: простота, сердечность, образованность наставника их детей покоряют каждого, и постепенно Коменский завоевывает всеобщее уважение...
Через два года после приезда в Пшеров братство посвящает двадцатичетырехлетнего Яна Амоса в священники, он становится помощником епископа. По традиции, установленной в общине, Коменский должен не только читать проповеди, но и посещать больных, бедных, хлопотать о помощи им. Изнанка жизни, ее противоречия открываются ему во всей драматичности. Контраст между бедностью, тяжкой участью одних, богатством и довольством других, даже внутри общины, которая поддерживает нуждающихся членов, разителен. В чем же корень зла?
Невольно Ян Амос вспоминает о таборитах. То, о чем мечтали лучшие умы — Томмазо Кампанелла[54] в «Городе солнца», Томас Мор[55] в «Утопии», рисуя картины справедливого счастливого общества, построенного на основе равенства, братства, общего труда, — табориты осуществили на практике. И все-таки, несмотря на великое мужество, они не выстояли. Отчего? Быть может, табориты опередили века и человечество не доросло до идеалов Табора? Ведь это был крохотный островок среди враждебного мира. А может быть, с помощью оружия нельзя установить справедливость? Но какой дорогой идти, чтобы приблизить то время, когда разум и совесть окажутся сильнее мракобесия и фанатизма? Может быть, то время могут приблизить лишь поколения просвещенных людей? Не война, сеющая ненависть, разорение, смерть, а мир, освещенный светом разума!
Если бы возможно было во всех странах широко поставить дело воспитания и образования в новых школах, гимназиях, университетах, если бы образование и воспитание смогло охватить всех и каждого! Мысль эта заставляет учащенно биться сердце. Сегодня это далекая мечта. Путь к ее осуществлению тернист, и не ему суждено дойти до конца, но его пример, быть может, увлечет других...
Мысль легко уносила его в будущее, но усилием воли он заставлял себя вернуться к повседневным заботам. Бедняки не могут ждать, когда настанет всеобщее благоденствие, им нужна помощь сейчас, немедленно. Думая о крестьянах и ремесленниках, Коменский с горечью видел, что некому было даже выслушать их. Община помогала, но ее возможности были невелики, а богатеи глухи к нуждам бедняков. Нужно сделать так, размышлял Ян Амос, чтобы голос обездоленных был услышан. Но как это сделать?
Коменский много работает. Он пишет «Правила более легкой грамматики», пополняет свою «Сокровищницу чешского языка», делает выписки из сочинений немецкого философа Иоганна Андреэ,[56] который в своих сатирических диалогах высмеивает схоластику и педантизм в школах. Яну Амосу близки педагогические взгляды Андреэ, проникнутые гуманизмом. Андреэ, как и он, считает, что школа зависит от учителя, обучение с семилетнего возраста должно быть всеобщим для детей обоего пола, что женщина должна получать то же образование, что и мужчина, ибо в духовном отношении она равна ему.
Снова перечитывает Ян Амос сочинение немецкого философа «Описание христианского государства». В этом государстве все равны, нет угнетения, всем управляют разум и справедливость. Андреэ видит успех преобразования государства на новых гуманистических началах в правильном воспитании молодежи. Такой вывод следует и из размышлений о природе человека Хуана Луиса Вивеса[57] в его сочинении «Введение к мудрости», где испанский философ-гуманист прославляет разум как высшее начало. Этот труд, как и его другой, «О преподавании наук», в университетские годы был среди самых любимых книг Яна Амоса. Мысли Вивеса о человеке, наделенном от рождения талантом и различными способностями, которые развиваются и совершенствуются путем воспитания, укрепляют его собственные взгляды.
Пройдут годы, и Коменский в «Великой дидактике» и других трудах будет неоднократно обращаться к Андреэ и Вивесу, с уважением и сочувствием цитировать их. Не оттого ли, что они помогли ему в молодости выбрать свой путь? На протяжении всей жизни Коменский никогда не забывал тех, кто одаривал его радостью познания и духовной поддержкой...
По делам общины Ян Амос часто бывает у пшеровского бургомистра. В его доме он знакомится с падчерицей бургомистра Магдалиной Визовской. Ее обаяние и красота производят на Яна Амоса большое впечатление. Девушка умна, образованна. Беседы их с каждым разом становятся все более интересными и желанными для обоих. Магдалина разделяет стремления Яна Амоса. Она сдержанна в проявлении чувств, но в его душе растет надежда. И чем больше он узнает Магдалину, тем яснее раскрывается ее благородный характер — в суждениях о жизни, о людях, в том, что она рассказывает о себе. Ее синие, как бы излучающие свет глаза не умеют лгать. И однажды, набравшись смелости и заглянув в них, Ян Амос прочитал свою судьбу...
В 1618 году епископ Ланецкий соединяет их руки и жизни. В этом же году Коменского переводят в Фульнек, цветущий городок на севере Моравии, священником общины и ректором школы. Полный сил и надежд, едет он туда с молодой женой. Он еще не знает, что император Матвей выбрал своим преемником на чешском престоле и решил короновать Фердинанда Штирийского, яростного врага протестантской Чехии, и что через несколько месяцев этот роковой шаг ввергнет Чехию в пучину кровавой Тридцатилетней войны.[58]
Глава четвертая. БЕДНЯКИ ВЗЫВАЮТ К НЕБУ
Нет на земле места милее Фульнека, расположенного в цветущей долине среди зеленых холмов, лесов и полей, с его звенящими на все голоса веснами, роскошными летними месяцами, прозрачными сине-золотыми осенними днями. Где, как не и Фульнеке, чувствовать себя счастливым? Здесь вместе с Яном Амосом была Магдалина, у них родился сын, крепкий и горластый, внесший в дом столько радости.
Ян Амос чувствует необыкновенный прилив сил. Время словно расширяет свои пределы. Он и не замечал раньше, что оно может быть таким многомерным, совмещать в себе противоречивые свойства: стремительно двигаться и одновременно как бы стоять на месте. Действительно, время летело, утро, казалось, моментально сменялось вечером, но при этом каждый отдельный миг, открывая что-то новое, необычайное, словно застыв, стоял перед ним, чтобы можно было его лучше ощутить, вглядеться. Пожалуй, только одна Магдалина знала обо всех делах и трудах мужа. Непостижимо, как Ян Амос мог справляться со всеми своими многочисленными обязанностями. Проповеди и службы в церкви, школа, дела общины, хлопоты о больных и бедняках — и при этом чтение, работа над несколькими сочинениями. Но Магдалина никогда не видела его раздраженным, у Яна всегда находилось для нее ободряющее слово. Красноречивей всех слов был его взгляд, когда вечером он входил в дом. Этого момента Магдалина ждала целый день. Она чувствовала, что нужна мужу, и была счастлива этим.
В маленьких городах все на виду, и нельзя было не заметить, как с приходом молодого проповедника и учителя многое изменилось. Прежде всего школа. Из нее изгоняются палочная дисциплина, механическая зубрежка. Ян Амос, опираясь на пшеровский опыт, развивает, обогащает новые методы обучения. Еще ближе связывает он уроки с окружающей жизнью и явлениями природы, стремясь научить своих учеников наблюдать, задавать себе вопросы, приходить к определенным выводам. По-прежнему он систематически записывает свои наблюдения над учениками. Предметы, которые преподает молодой учитель, как бы оживают.
...В этот день, как всегда, Ян Амос с улыбкой вошел в класс, приветливо поздоровался с учениками и, обращаясь ко всем сразу, спросил:
— Подумали ли вы над тем, что приносит природе, всему живому и нам, людям, весна?
— Подумали! — раздался ответ.
В этом хоре Ян Амос уловил и неуверенные голоса. Его это не удивило: еще не все смогли преодолеть и застенчивость, и неуверенность в своих силах.
— Наверное, о многом вы хотели бы спросить меня, не так ли? — продолжал он.
Ответ был единодушным, и это обрадовало Яна Амоса, ведь стоит задать хоть один вопрос, вызванный собственными наблюдениями, как он повлечет за собой второй, третий... Самое трудное — ступить на этот путь. И он стремился, как мог, подготовить первый шаг, разбудить у детей природную любознательность, научить их смотреть на обычные явления, к которым они привыкли и потому не замечали, новыми глазами, как бы впервые. Многое мешало этому, — разумеется, и укоренившееся недоверие к учителю, страх перед ним. Терпеливо, не смущаясь неудачами, искал он пути к сердцам своих учеников. Теперь — он это хорошо чувствовал — лед был сломан.
Ян Амос многого ждал от сегодняшнего урока. Отвечая на вопрос, столь широко поставленный, дети должны показать, какие знания они получили, а главное, в какой мере научились мыслить самостоятельно, связывать в единую цепь разнородные явления.
Толкаясь, подзадоривая друг друга, дети высыпали на улицу. Они были разного возраста — от десяти до четырнадцати лет. Его мечта собрать в класс учеников одного возраста пока была неосуществима: на практике это означало бы оставить за бортом школы тех, кто не смог раньше пойти учиться. В первую очередь это бы коснулось детей бедняков. Вот ему и приходилось так строить уроки, чтобы они были понятны всем, давая при этом детям постарше более сложные задания.
Солнце уже поднялось довольно высоко, но утро дышало свежестью, как это бывает в разгаре весны. Высокое чистое небо искрилось светом, чуть дрожала от прохладного ветерка нежно зеленеющая листва. Вслед за Яном Амосом дети гурьбой вышли за ограду школьного двора. И сразу открылась площадь перед ратушей — ее высокая башня с другой стороны четко рисовалась на фоне голубого неба.
Фульнек лежал в небольшой долине между холмами, поросшими лесом, и довольно крутой склон одного из них, на вершине которого высился замок, спускался прямо к южной стороне площади. У подножия этого холма прилепилась и школа. Надо было пройти всего несколько шагов, чтобы попасть на тропинку, которая мимо монастыря августинцев,[59] желтевшего среди листвы, вела на вершину холма. Это был излюбленный маршрут Яна Амоса для прогулок с детьми.
Ступив на тропинку, дети притихли, оказавшись в таинственном мире разбуженного весной леса. И по мере того как они поднимались, кипучая лесная жизнь все явственней проявляла себя в разноголосом пении птиц, в ровном гудении пчел, снующих от ульев к лесным полянам и обратно, в низком, как бы волнообразном гудении шмелей, в порхающих бабочках, в шорохе прошлогодней листвы и хрусте упавших веток — то пробежал еж или землеройка ищет место, где добыть земляного червя, — в терпеливом стуке дятла по стволу... Смотри, слушай, запоминай.
Урок уже давно начался — дети спрашивают и рассказывают сами, что знают, о прилете первых птиц, о проснувшихся после зимней спячки зверях, насекомых, о чудесных превращениях гусеницы в куколку, из которой вылетает блещущая цветными крыльями бабочка... Но вот они уже на вершине холма, на зеленой, залитой солнцем полянке, обрамленной высокими деревьями.
Ян Амос садится под могучим дубом, вокруг него устраиваются ученики: кто поменьше — ближе к нему, старшие — во втором, третьем ряду, так уж повелось. Он окидывает взглядом детей: лица оживленны, глаза блестят. Как много интересного они увидели по пути сюда! Что принесла природе, всему живому весна? Дети наперебой рассказывают — ведь сегодняшняя прогулка не первая в весенний лес, у них накопилось немало наблюдений. Незаметно Ян Амос управляет этим разговором и вот уже переходит к своему рассказу. Самые разные явления, о которых говорили ученики, оказываются в этом рассказе взаимно связанными и складываются в единую картину весеннего обновления, где все, от муравья и травинки до могучих деревьев, крупных зверей и хищных птиц, составляет единую цепь, все в равной мере важно и необходимо... Человек, говорит Ян Амос, тоже часть природы и живет по ее законам — рождается, проживает жизнь, в которой есть время расцвета и заката, умирает... Но он еще и наделен разумом, с помощью которого должен разгадывать тайны природы, постигать ее законы. Тогда человек сумеет воспользоваться и ее благами.
— Тот, кто знает, какую полезную работу совершает в лесу муравей, тот его не раздавит, верно? — спрашивает Коменский.
Ученики дружно отвечают.
— Еще его жалко, — добавляет маленький Николай.
— Правильно, — поддерживает его Ян Амос, — каждую жизнь мы обязаны беречь, охранять. На то мы и люди, на то нам и дан разум. А теперь скажите: что дает людям лес?
— Бревна, чтобы строить дома.
— Дрова, чтобы зимой топить печи.
— Ягоды.
— Орехи.
— Охоту на птиц и зверей.
— Цветы и травы, у которых пчелы берут нектар.
— Все это так, — заключает Ян Амос, — но лес еще и сохраняет почву, не дает иссякнуть рекам, защищает наши жилища и поля, на которых мы выращиваем хлеб, от холодных северных ветров. Лес дает жизнь многим его обитателям, без которых человеку пришлось бы очень плохо... А теперь идите за мной.
Вместе с учениками Ян Амос выходит из-за деревьев, образовавших вокруг поляны густую чащу, и оказывается на открытом пространстве. Еще несколько шагов — и они почти у самого края вершины. Удивительный вид открывается отсюда! Во все стороны, куда ни посмотри, до самого горизонта простираются зеленеющие поля и долины, пересеченные лесистыми холмами, словно бы кудрявыми вблизи, чуть дальше — сплошь густо зелеными, еще дальше — синеющими, а потом и совсем исчезающими в голубоватой дымке... Их плавные, ласкающие глаз очертания придают особую прелесть пейзажу, как бы смягчая легкой тенью сверкающие на солнце долины...
— Наша Моравия, наша земля, которую мы должны беречь и благоустраивать, — говорит Коменский.
Здесь, на вершине холма, он начинает рассказ о богатствах этой земли, ее промыслах, людях, которые много веков в суровой борьбе защищали ее от захватчиков, отстаивая свою независимость, свой язык, свои обычаи...
Природа — Человек — Родина...
И Ян Амос знает: этот день не пройдет бесследно. Семена, посеянные им, дадут всходы...
Пройдут годы, и на том месте, где Ян Амос проводил занятия, будет поставлен памятник, а весь этот лес на холме получит название Жаковского («жак» по-чешски — «ученик»).
...Коменский принимает большое участие и в хозяйственной жизни общины. Он насаждает пчеловодство, дает практические сонеты по агрономии. Труды его не пропадают даром: многие скудные хозяйства бедняков, которым молодой учитель помогает в первую очередь, начинают подниматься.
Вечера Ян Амос просиживает за книгами. С увлечением, находя новые глубины, перечитывает он Сенеку и Платона, Андреэ, Вивеса, Мора, Кампанеллу. После трудного дня, заполненного неотложными делами, ему необходимо это неторопливое общение с любимыми собеседниками. Надо завершить и два исторических труда — «О древностях Моравии» и «О происхождении рода Жеротинских».
В один из поздних вечеров, сидя в своей комнате, Ян Амос читает письмо, утром полученное с оказией из Герборна от магистра Альстеда, который всегда одним из первых узнает о значительных событиях в науке и духовной жизни Европы. Иоганн сообщает о процессе, начатом инквизицией над прославленным астрономом, физиком и математиком Галилео Галилеем,[60] выступившим с поддержкой гелиоцентрической системы Коперника, об осуждении католической церковью учения Коперника и запрещении его книги «О вращении небесных светил». Новость поражает Коменского. Против мысли должна быть мысль, а не топор, истина рождается в свободном споре! Но мракобесы хотят до скончания века держать людей в невежестве. Ради этого они не остановятся ни перед чем. Письмо Альстеда, всегда жизнерадостного, деятельного, было проникнуто горечью и усталостью. А заключительная часть вызывала тревогу. «Инквизиция свирепствует, — писал Альстед, — иезуитские шпионы окутали своей мерзкой паутиной все и вся, а на пороге стоит долгая и кровавая война. По существу, пока еще без военных действий, она уже началась, ибо король Матвей, жаждущий абсолютизма, не уступит требованиям чешских сословий былых привилегий и не отступится от своего преемника на чешский престол Фердинанда Штирийского, этого бесноватого католика, который желает быть святее папы римского. Мракобесы считают, что пробил их час, во главе с папой и католическими королями они хотят раз и навсегда покончить с протестантами. Не знаю, что ждет всех нас. Бедная Европа, в какую адскую пучину ввергают ее эти безумные фанатики! Тяжелее же всех придется нам с тобой, Богемии и Германии. Готовься к самому худшему».
Письмо взволновало Коменского. Его учитель и друг никогда не ошибался в прогнозах. Да ему и самому известно, как накалилась атмосфера в Праге, когда король Матвей объявил своим преемником Фердинанда Штирийского. Чешские сословия выразили протест. Король Матвей не принял его, но Ян Амос надеялся, что ему придется уступить, — сословия были большой силой, в любой момент они могли поднять всенародное восстание, которое может смести и самого короля. Неужели он этого не понимает? Или, как о том пишет Альстед, снова, как двести лет назад, сколачивается против Чехии дьявольский союз мракобесов и поэтому, зная о готовящейся поддержке, король Матвей не уступает? Если так, война действительно на пороге.
В доме стояла тишина. Неожиданно звякнуло окно. Ян Амос вздрогнул: показалось — кто-то постучал. Он подошел к окну, заглянул — там в беспросветной февральской темени бесновался ветер. Постоял, прислушиваясь. Никого. Снова сел за стол. Нельзя поддаваться тревоге, опускать руки. Это было бы малодушием. Надо жить, трудиться по-прежнему и надеяться, что беда минует их.
Рассвет застает Яна Амоса за столом. Слева лежат исписанные за ночь листы начатого труда «О древностях Моравии». Коменский поднимает голову, кладет перо. Он доволен, что заставил себя взяться за работу. А потом и не заметил, как пролетела ночь.
Время торопит, подхлестывает исполнение начатых трудов, порой Ян Амос физически ощущает его бег. Жизнь ставит перед ним все новые задачи. Однажды Коменский обнаруживает, как неточна существующая карта Моравии, и решает создать новую. С нетерпением ждет он летних каникул, чтобы отправиться пешком по Моравии. Только теперь, с наступлением майских дней, Ян Амос чувствует усталость: учебный год был легким для детей, но трудным для него. И все же первые итоги радуют. Его ученики ощутили вкус к учению, радость от познания, его пользу. А это главное. Они будут вспоминать школу с радостью. Да, себе он может сказать, что сумел кое-чего добиться. Но это не предел. Он убедился, как велики возможности восприятия знаний у детей, какой живой и гибкой памятью они наделены. Шагая по улице Фульнека, Ян Амос с наслаждением вдыхает теплый воздух, прислушивается к жужжанию пчел, звонким голосам птиц. Ясное солнце, кажется, согревает сердце, весна всегда обещает так много, но именно в один из таких дней, зайдя но делам к бургомистру, он узнает, что в Праге началось восстание.
У Яна Амоса холодеет сердце; сдерживая волнение, он расспрашивает о подробностях. Бургомистр снова повторяет то, о чем в общине много говорят: восстание стало неизбежным с того момента, когда король Матвей объявил наследником чешского престола и короновал Фердинанда Штирийского.
— Но как все произошло? — допытывается Коменский.
— Поводом послужила унизительная история с закрытием католиками протестантских церквей в Браумове и Грабе. Дело тянулось долго, горожане сопротивлялись даже после того, как последовало приказание короля, ведь они ссылались на его собственное слово. Узнав об этом, король еще раз потребовал закрыть церкви, а самых уважаемых горожан, не выполнивших его приказания, заключить в тюрьму. Можно ли это стерпеть?
— Да, чаша терпения переполнилась.
Бургомистр замолкает. Они сидят в канцелярии ратуши. Через открытое окно теплый ветерок приносит запахи влажной земли, оживших лесов и полей. Безмятежно искрящееся солнцем небо. А если опустить взгляд, видны красные крыши, нежно зеленеющие верхушки деревьев. Справа, у подножия могучей, поросшей густым лесом горы, как бы окаймлявшей площадь, видна его школа... Ян Амос не прерывает молчания. Он понимает, какие чувства испытывает бургомистр. Община всей душой с восставшими, но какими бедами многострадальной чешской земле грозит война!
— Так вот, — продолжает бургомистр после минутной задумчивости, — узнав о решении короля, сословия немедленно созвали сейм в Праге, в Карловой коллегии. Там было единодушно решено, что король Матвей нарушил свое слово и уничтожил «Грамоту» императора Рудольфа. Вслед затем было послано в Вену, к королю Матвею, требование вернуть все наши церкви и возродить силу «Грамоты»...
Коменский кивает головой: вести о мартовских событиях в Праге уже дошли до Фульнека. И вот, наконец-то, бургомистр сообщает новости. Король Матвей отверг справедливое требование сословий и запретил сам съезд. На следующий день после обнародования королевского манифеста, 23 мая 1618 года, представители сословий на сейме вместе с вооруженными пражанами вошли в Пражский замок и, как в прежние времена, выбросили из окон прямо в городской ров наместников короля — бургграфа карлштейнского Ярослава из Мартиниц и президента королевской палаты Вильгельма Славату, а за ним секретаря Филиппа Фабриция. Случайно все трое остались живы. В тот же день была избрана директория из тридцати человек, по десяти от каждого сословия — панов, земанов, горожан. Президентом директории стал пан Вилем из Роунова. А войско возглавил храбрый граф Генрих из Турна...
— Мой старший сын, — добавляет бургомистр, — приславший письмо из Праги, сообщает еще, что директория отправила послов в другие земли с приглашением соединиться с ними, а к немецким протестантским князьям обратилась с просьбой о помощи. Иезуитам же приказали убраться вон из Чехии...
— А мы? — заговорил Коменский. — Настал час, когда вся Чехия, все протестанты должны объединиться. Пора и чешским братьям сказать свое слово. Разве мы останемся в стороне?
Бургомистр молчит. Многое зависит от того, какую позицию займет могущественный покровитель братьев Карел Жеротинский.
— Время покажет, — вздыхает бургомистр.
— Спасибо за беседу, пан бургомистр. — Молодой священник поднимается. — Мне пора. Будем терпеливы и будем готовы встать за правое дело.
Коменский спокоен. На лице его нет и тени растерянности. И бургомистру становится легче. «Будем терпеливы и будем готовы». Это именно то, что он хотел услышать.
***
Что такое счастье? Кажется, никто еще не ответил на этот вопрос. Нарушая законы логики, запрещающей давать определение неизвестному через неизвестное, можно сказать, что счастье есть то состояние, когда ты, не зная об этом, чувствуешь себя счастливым, ибо стоит спросить себя, счастлив ли ты, как тотчас проявится все, что тайно или явно омрачает твою жизнь. Ян Амос усмехается этой мысли, неожиданно пришедшей в голову. Сейчас ему кажется, что еще недавно он жил счастливой жизнью, без тревоги смотря в будущее. Но так ли это? Разве у него не разрывалось сердце, когда он входил в халупу бедняка, сидел у постели больного, кормильца семьи, и видел отчаяние в глазах его жены, матери малых детей? И разве его бессилие не ложилось тяжким камнем на душу, когда ему не удавалось убедить господ улучшить положение своих крестьян в поместьях, освободить их от долгов, позаботиться о сиротах? Он не жалел красноречия на уговоры, порой решался на упреки, на открытое осуждение. Но бедняки оставались, и нужда оставалась, хотя многих он сумел поддержать, вернуть им веру в жизнь и в людей.
Так был ли он счастлив? Сознание, что он нужен, что от него ждут помощи и поддержки, прибавляло ему силы. А теперь?
В эти трудные дни ответственность его возросла вдвойне. На него смотрят, ему верят, и он должен быть спокоен, по-прежнему заниматься всеми делами и не допускать вражды, готовой вспыхнуть в любую минуту между католиками и протестантами. Но война уже пустила свои ядовитые ростки. Августинские монахи уже не встречают его, как раньше, с улыбкой, не останавливаются поговорить — опустив глаза, они спешат пройти мимо.
Отдает ли Ян Амос отчет в том, что в эти тревожные дни он избирает свой путь — невзирая на обстоятельства, на самые тяжкие удары судьбы сохранять самообладание и делать свое дело, черпая мужество в сознании долга, своей нужности людям? Вряд ли он задумывается над этим. Он поступает по велению совести, но каждый шаг неумолимо требует следующего, более трудного.
С наступлением лета Ян Амос отправляется пешком по Моравии. Налегке, с записными книжками в карманах, шагает он по дорогам и тропам, заходит в села и усадьбы, беседует с крестьянами, ремесленниками, господами. Страницы его книжек заполняются поговорками, преданиями, песнями — это для «Сокровищницы чешского языка». В особую книжку он заносит различные измерения для будущей карты Моравии, которую успеет составить еще в Фульнеке. Ее амстердамскими изданиями 1627 и 1664 годов будут пользоваться в течение всего XVII века. Эта карта и теперь во многих отношениях не утратила своего значения.
Существует глубокая внутренняя связь между различными работами этого периода, посвященными Моравии. Коменский как бы заново стремится открыть родину, богатства и красоту ее земли, ее людей, язык и поэзию, прошлое и настоящее. Словно предчувствуя разлуку, Ян Амос не может надышаться, наглядеться на свою милую Моравию. В приобщении новых поколений к ее культуре видит Коменский свой сыновний, учительский, гражданский долг.
В Моравии царит мир, но война неумолимо расширяет свои пределы, и если она придет сюда, то больше всего пострадают крестьяне, все бедняки. Мягкая, красочная, завораживающая красота родной земли, словно созданная для того, чтобы на ней жили счастливые люди, еще острее оттеняет бесправие, безысходную нужду крестьян.
Еще в Пшерове у Коменского родилась мысль рассказать о бедственном положении народа и обратиться ко всем христианам — всем, без различия состояния и сословия — с мольбой о помощи. Но тогда он не представлял себе, как это сделать. За два последних года, часто бывая в семьях бедняков, Ян Амос ближе узнал их. Когда он думал о крестьянах, то словно слышал их голоса, видел лица мужчин, из последних сил надрывающихся на поденщине; разбитых старостью и болезнями стариков; согнутых беспросветной нуждой женщин. Порой он не мог определить их возраст. Молодые женщины выглядели как старухи. Горькие жалобы стояли в ушах, отзываясь острой болью в сердце. А что, если и другие услышат их живой страдающий голос, если бедняки сами выскажут свои жалобы? Эта идея, неожиданно пришедшая в голову, взволновала Коменского. Теперь слова, которых раньше недоставало Коменскому, пришли сами, речь его полилась свободно, естественно, стремительно. Прислонившись спиной к дубу, в тени которого он присел отдохнуть после долгого пути, Ян Амос быстро пишет.
«Прежде всего, разреши нам, милосердный боже, открыться тебе во всем и рассказать, что лежит у нас на сердце, когда мы видим в этом мире нелепость, нас угнетающую, появляется желание размышлять, твоя ли это воля в том, что между нами — людьми — водворилось неравенство, что одни живут в изобилии, а другие в нужде прозябают; одни вечно в роскоши утопают, а другие от голода и жажды умирают; одни беззаботно живут без всякого труда, другие же — волы и в изнурительном труде дни и ночи проводят. Разве не всех нас ты, единый создатель наш, сотворил? Не всех ли нас ты сотворил по образу твоему?.. О боже вечный! Взгляни на то, что творится кругом, и заступись за нас или же отрекись от нас, если не считаешь нас своими созданиями. Но чем же те лучше нас, раз ты их так возвысил над нами и дал им повод для их чванства?»
Рука Яна Амоса еле поспевала за мыслью. Когда прошла первая горячка, он подумал о том, кому же обратят бедняки свои жалобы? Господам? Но, сделав так, он покривил бы душой. Крестьяне давно уже ничего, кроме самого худого, не ждали от своих господ, глухих к их нужде. Господа лишь из года в год ужесточали свои требования. Да, на земле не к кому обратиться беднякам, не у кого искать защиты! Вот они и посылают свои жалобы богу — а их сетования переходят в упреки. Отчаяние побуждает их вопрошать бога. Поэтому и надо назвать это сочинение «Письма к небу». Может быть, ужасающая правда, высказанная бедняками, пробьется сквозь эгоизм, алчность господ и тронет их заскорузлые сердца? А если нет, пусть знают: те, кто угнетает народ, не вправе считать себя христианами.
Возвращаясь в Фульнек, Коменский вспоминает прочитанные им еще в университете «Разговоры бедных с богатыми» Лукиана.[61] Замысел его расширяется: почему бы и ему не воспользоваться подобной формой и не дать высказаться и богатым? Ведь «Письма» предназначены в первую очередь им. Наверняка у них найдутся возражения, наверняка они захотят повторить свои извечные обвинения крестьян в лени, упрямстве, неповиновении, которые не раз Ян Амос слышал от них, когда защищал бедняков. Пусть выскажут! Со всей точностью и беспристрастностью изложит он позицию господ. Читатель сам поймет, на чьей стороне правда.
На одном дыхании Коменский создает это произведение, в котором со всей остротой и правдивостью показывает социальную несправедливость, ужасающую пропасть между людьми. «Письма» обличают, они проникнуты духом протеста против социального неравенства. Никогда еще Ян Амос не испытывал такого удовлетворения от своей работы. Он знал, какой могущественной силой обладает слово, и был счастлив, что использует его в защиту народа.
Пражское восстание взбудоражило всю Чехию. Оно могло бы стать прологом к всенародной войне, недаром с новой силой вспыхнула в народе память о гуситах и Таборе. На юге Чехии стали стихийно возникать крестьянские отряды. Поднялись города. Готовы были выступить ремесленники. Однако граф Турн в первые же дни восстания заявил, что ремесленники должны вернуться к своим ремеслам, а подданные — крестьяне — к своему труду. С этого момента руководители восстания будут систематически оттеснять от участия в восстании народные массы, которые могут повернуть его против чешских помещиков. Главной силой восстания стало дворянство, рыцари и часть панов, находившихся в оппозиции к Габсбургам. Их программа была изложена в 100 статьях акта конфедерации, принятого на сейме в июле 1619 года. Цель выступления, говорилось в акте, — «сохранение своих свобод».
В статьях подробно расшифровывалось, что это означает. Во-первых, подтверждались старые права, нарушенные Габсбургами после поражения восстания 1547 года: свободное избрание короля, ограничение его власти. Верховный чешский канцлер обязан был следить, чтобы король ничего не предпринимал против интересов чешской короны. Немало статей касалось церковных дел. Отменялись все указы Габсбургов, направленные против протестантов, подтверждалась «Грамота его величества», духовенству запрещалось приобретать земельные владения. Иезуиты изгонялись из страны, запрещалось основывать новые монашеские ордена. Дворянство не забыло и о своих интересах: статьи акта подтверждали зависимое положение крестьянства. Недоверие к народу выразилось в предписании прятать от своих подданных оружие. Конфедерация не учитывала интересы городов.
С горечью и негодованием читал Ян Амос статьи, усиливающие закабаление народа. Какая преступная слепота! Именно сейчас, в дни грозной опасности — ибо нельзя обольщаться первыми успехами, — наступила пора осуществить чаяния народа и призвать его к действию. Успех правого дела — в единении сил страны. Коменскому уже известно, что на юге Чехии, где всегда бережно сохранялись заветы таборитов, собралось большое крестьянское войско и предложило руководителям восстания свою помощь. В награду крестьяне просили даровать им волю, но крестьянские послы возвратились из Праги с отказом.
Мучительные раздумья охватывают Яна Амоса. Вслед за Петром Хельчицким, великим учителем чешских братьев, Ян Амос был убежден, что лишь моральное усовершенствование человека приведет к исправлению нравов и к всеобщей справедливости, а для этого нужен мир, ибо война ожесточает сердца, развязывает низкие инстинкты. Но как быть, когда народ с оружием в руках поднимается на защиту своей свободы и достоинства? Как быть, когда война уже началась и поражение грозит разорением всей страны, гибелью духовной культуры, а народу новым, еще худшим закабалением?
Свои мысли Ян Амос доверяет прежде всего бумаге и пишет воззвание, обращенное ко всему народу чешскому, где говорит о необходимости объединения, о связи гуситских традиций с современностью. Дошло ли оно до сословий? Во всяком случае, Ян Амос смело высказывает свое мнение. К его великому огорчению, оно расходится с позицией графа Жеротинского, искренне преданного идеям Реформации[62] и все же употреблявшего все свое влияние на то, чтобы Моравия осталась в стороне от схватки. До Фульнека доходят слухи, что когда Жеротинский в начале восстания в Праге попытался убедить дворянство воздержаться от борьбы, ему ответили насмешками и обвинениями в трусости.
Весной 1619 года граф Турн входит с войском в Моравию и, несмотря на усилия Жеротинского, склоняет моравские сословия присоединиться к конфедерации, заключенной с Силезией и Лужицами, а также признать верховную власть Пражской директории. Коменский поддерживает это решение. Снова он повторяет свой призыв к единению всех земель страны, всех сил народа.
Неожиданно умирает король Матвей. Его наследник Фердинанд Штирийский преемлет власть и шлет из Вены в Прагу грамоту, в которой подтверждает прежние вольности чешских сословий и «Грамоту его величества». Теперь он — Фердинанд II Габсбург, но директория не признает его, рьяного католика, королем Чехии.
Восстание набирает силу. После первых побед при Часлове и Лошнице чешские войска под командованием графа Турна быстро продвигаются и в июне 1619 года занимают предместье Вены — там тоже поднимается восстание против Габсбургов. Однако военная необходимость заставляет графа Турна вместе с войском вернуться в Чехию. В августе в Моравии он наносит поражение войскам габсбургского генерала Дамивера, и директория объявляет о низложении Фердинанда II Габсбурга. Чешские сословия на генеральном сейме всех земель избирают королем Чехии одного из вождей Протестантской унии[63] курфюрста Фридриха Пфальцского.[64]
С пышной свитой прибывает он в Прагу, где его ждут делегации от всех земель и сословий, чтобы торжественно короновать в соборе святого Вита. Все протестанты Чехии, и особенно чешские братья, связывают с ним свои надежды на национальное возрождение страны. Они полагают, что одно его имя, сына основателя Протестантской унии и главы ее после смерти отца, сплотит всех протестантских князей Европы. Теперь-то Чехия останется не одна перед лицом Католической лиги, которую под эгидой папы римского привлек на свою сторону Фердинанд Габсбург! А силы этой черной лиги значительны. Во главе ее становится вождь союза католических князей Германии Максимилиан Баварский.[65] Готовятся и другие ее члены — Испания, Польша. Даже протестант Ганс Георг, курфюрст Саксонский,[66] претендовавший на чешский престол и оскорбленный тем, что ему предпочли Фридриха Пфальцского, присоединился к лиге. Чехии грозит вторжение десятков тысяч иноземных солдат, приученных убивать, грабить, уничтожать. Но теперь, благодаря Фридриху Пфальцскому, на помощь Генриху фон Турну должны прийти войска князей Протестантской унии.
Надо полагать, подобные мысли занимают представителей сословий, земель и городских властей, медленно идущих сквозь сплошной живой коридор пражан в процессии, сопровождающей Фридриха Пфальцского. Среди них и Ян Амос Коменский. Он считает, что Чехия сделала правильный выбор, и специально приехал в Прагу, чтобы присутствовать на коронации. Нескончаемая процессия двигается через всю Прагу по королевской дороге в собор святого Вита.
Ян Амос поднимает голову, всматривается в ликующие лица пражан — там, за спинами богато одетых горожан, мастеров и купцов, занявших первые ряды живого коридора, толпится простой трудовой люд, его почти не видно, он оттеснен, и горькая мысль камнем ложится на душу: вот так оттеснен от участия в восстании народ. Войско директории составляют наемники, готовые разбежаться от первых же неудач. А народ, который во времена таборитов одними своими песнями нагонял ужас на отборные войска папистов, теперь в стороне. Директория его боится не меньше, чем Фердинанда Габсбурга. А ведь крестьянам горше всего придется в случае поражения. Так было всегда: народ платит за поражения и за победы, но никто не протягивает ему руки — против него все.
Нарастает колокольный звон. И вот перед ними величественный и легкий собор святого Вита. Ярко светит солнце. Над Прагой синее августовское небо. Праздничный звон смешивается с говором толпы.
Фридрих Пфальцский вступает в собор.
Война разливается по Европе. Руководители восстания создают конфедерацию во всех землях чешской короны. Моравский сейм принимает, наконец, решение о выступлении против Габсбургов и выбирает свою директорию. Присоединяется к Праге и Силезия. Против Габсбургов вспыхивает восстание в Венгрии и Словакии. Чехия заключает военное соглашение с повстанцами. Война приносит с собой волны ненависти. Ян Амос не скрывает, что он сторонник Фридриха Пфальцского. Веротерпимость и доброта священника-протестанта, вызывавшие к нему всеобщее уважение, теперь воспринимаются католиками как личина. Ведь он последователь Гуса, тесно общается с простыми крестьянами и низким людом. Слишком хорошо известно, как ведут себя холопы и плебеи, когда их ненависть против святой католической церкви вырывается наружу. И вслед Коменскому летят ругательства. Он опасается выводить детей на прогулку в лес — однажды их закидали камнями. Чьи-то злобные руки разрушили привезенные им ульи.
На большее католики пока не решаются. Но что будет, если восстание потерпит поражение? В своих проповедях Коменский призывает к спокойствию. Он осуждает дух вражды. Чешские братья не должны поддаваться ему. Ведь они выступают за свободу вероисповедания, за святость своих обычаев и достоинство народа чешского — как же могут они при этом ненавидеть инакомыслящих? Пусть братья всемерно помогают правому делу, но не дадут чувству ненависти овладеть своими душами, ибо нельзя творить добро с помощью зла.
Сам Коменский подает пример выдержки и спокойствия. И лишь одна Магдалина знает, какая тревога за будущее обуревает его. По-прежнему горит светильник на его столе в ночные часы, но порой он кладет перо и сидит в глубокой задумчивости. Иногда встает, чтобы взглянуть на спящего сына. Магдалина прижимается к его руке, она готова перетерпеть все, что выпадет на ее долю, лишь бы он всегда был с ней. Ян Амос молча гладит ее волосы. Ему представляется гигантский водоворот, который втягивает в себя все, что находится около него, и низвергает в пучину. Это война. Человек — песчинка в этом водовороте...
До Фульнека доходят сведения о выступлениях вооруженных крестьян против иноземных войск. Снова проявляют они мужество в защите родной земли, но в Праге по-прежнему не хотят их признавать. Положение осложняется тем, что наемные солдаты директории грабят, мародерствуют, творят бесчинства. Они ведут себя точно так же, как солдаты Фердинанда. Крестьяне вынуждены защищаться и от тех и от других. На юге Чехии вооруженные крестьяне численностью до четырех тысяч выступили с протестом против разрушений, учиненных наемниками директории, и потребовали освобождения от личной зависимости. Несколько тысяч вооруженных крестьян близ Праги, возмущенные грабежами наемников, направились в Прагу, и Фридрих Пфальцский вынужден был признать за ними право защищаться от насилий солдат — подумать только! — призванных сражаться против войск Фердинанда.
Грабежи и насилия вызывают широкие крестьянские волнения, направленные против панов — и сторонников и противников Габсбургов. Крестьяне требуют отмены барщины, освобождения от кабалы. Правительство вынуждено бросать войска на подавление этих волнений. Оно продолжает противиться велению времени — пойти навстречу требованиям народа и призвать его на борьбу с иноземными врагами. Назначенные при Фридрихе Пфальцском «высшие земские служащие» берут в армию лишь каждого десятого крестьянина и каждого восьмого жителя города. Как бывало уже не раз, размышляет Коменский, эгоистические интересы знати и дворянства взяли верх над общенациональными интересами страны. На что же рассчитывает правительство? На поддержку Протестантской унии? Пока она направила в Чехию небольшое войско под командованием графа Мансфельда. Это все, что мог сделать Фридрих Пфальцский. Но никак не ответили на просьбу Франция, Англия, Голландия. Все очевидней, что надежды чешской директории на помощь извне не оправдываются. А любезный образованный Фридрих Пфальцский в эти критические месяцы занят пирами. И вскоре на Чехию обрушивается тяжелый удар: Протестантская уния заключает договор о мире с Католической лигой! Теперь Чехия останется одна против мощной коалиции католических государств. Австрия, Испания, Бавария, Польша, папская курия вводят на территорию Чехии все новые отряды своих войск.
Стремительно близится развязка. Решающее сражение между войсками директории и армиями Фердинанда Габсбурга происходит 8 ноября 1620 года у Белой Горы под Прагой. Оно длится всего два с половиной часа и заканчивается сокрушительным поражением чешских правительственных войск.
Наступает последний акт трагедии. Фридрих Пфальцский объят страхом. Он и не думает продолжать борьбу. Униженно просит он у Максимилиана перемирия на сутки. Словно издеваясь над ним, Максимилиан дает ему восемь часов, и то с тем условием, чтобы он отказался от Чешского королевства. Потерявший от страха голову Фридрих Пфальцский на следующее утро бежит из Праги в Бреславль, в Силезию, бросая государство и доверившихся ему людей на произвол судьбы. Дворянство и знать, стоящие во главе восстания, верят лживым обещаниям Максимилиана о помиловании, потому что хотят верить, и открывают ворота Праги врагу. Фердинанд II Габсбург становится полным хозяином чешской земли, а вместе с ним и свора его военачальников и придворной знати, жаждущих богатых поместий, городов, замков.
Отчаяние и гнев охватывают Коменского. Вот так, теми же людьми — дворянами, панами, патрициями — были преданы и табориты. Настанет ли время, когда любовь к своему народу, к ближнему достучится в их сердца! Коменский ужасается своим сомнениям: вера в то, что не борьба и насилие, а добро исправит людей и приведет к такому обществу, где все будут равны и составят единое сердце и единый дух, вела его по жизни. Ян Амос прекрасно сознавал, что нужна работа многих поколений, чтобы прийти к цели. И он был счастлив сделать хотя бы несколько шагов по этому пути. Но можно ли думать о далеком будущем, когда несчастье неслыханной тяжестью придавило народ?
Ян Амос совещается с уважаемыми членами братства. Все потрясены трусостью и предательством Фридриха Пфальцского. Ведь еще можно продолжать борьбу. Моравия и Силезия вооружены, и в других местах осталось значительное количество правительственных войск. В тылу Максимилиана во главе союзного войска стоит Мансфельд, имея в своих руках Пльзень, Табор, Эльбоген, Фалькнов. В Брандис, лежащий на моравской земле, на помощь восставшим прибыло восемь тысяч венгров. Если бы правительство призвало волонтеров и вооружило народ, проявив при этом решительность, положение можно было бы спасти. Однако правительство вслед за Фридрихом Пфальцским поспешило разоружиться и сдаться на милость победителя. Гнусное предательство!
И все же еще не все потеряно. Помощь венгров вдохновляет Моравский сейм, и он решает продолжить борьбу. Навстречу армии Фердинанда, вторгшейся в Моравию под командованием Бюкуа, сословия посылают свое войско. Оно храбро сражается, но противник многочисленнее и сильнее. В конце 1620 года Бюкуа сламывает сопротивление моравского войска и затем двигается дальше в Венгрию. Все новые и новые войска Католической лиги, почти не встречая сопротивления, наводняют Чехию. Единственная сила, которая могла бы еще изменить ход борьбы, — вооруженный народ по-прежнему не призывается к действию.
Между тем наступает расплата. 20 февраля 1621 года в Праге хватают и заключают в тюрьму руководителей восстания, которым Фердинанд обещал помилование, а 21 июня на площади перед Староместской ратушей их казнят. Отвратительная жестокость Фердинанда — четвертование, повешение, надругательство над телами казненных — приводит в ужас всю Европу. Казнь эта становится как бы сигналом: на Чехию обрушиваются безумные вакханалии убийств, грабежей, насилия.
Торжествующие горожане-католики Фульнека готовятся к встрече победителей. Они не скрывают своих намерений разделаться с протестантами. Однажды кто-то стучится в дом Коменского и сообщает, что за ними идут испанские солдаты — завтра утром они будут в Фульнеке. Солдаты без пощады убивают протестантских священников. Коменский должен немедленно уходить. Магдалина умоляет Яна Амоса послушаться этого совета. Она с сыном ушла бы вместе с ним, но Ян Амос знает, что она ждет второго ребенка, и не решается тронуться с места.
Коменский в тяжелом раздумье. Он понимает, что ему грозит кровавая расправа. Молча сидят они с Магдалиной у кровати спящего сына. Никогда за все годы совместной жизни они не чувствовали такой душевной близости. Одна жизнь. Одна судьба. Разорви нить, незримо связывающую их, — жизнь рухнет. Незаметно летят ночные часы. Ян Амос не в силах подняться. Раздается стук в дверь. На пороге стоит закутанный в плащ вооруженный человек. Поклонившись, протягивает конверт. Коменский пробегает глазами коротенькое письмо. Граф Жеротинский просит его немедленно покинуть Фульнек. Если он не уйдет до утра, ему грозит смерть.
Человек, который передал письмо, отвезет его в надежное место. Магдалина, едва взглянув на Яна Амоса, сразу догадывается, с каким поручением пришел ночной посланец. Метнувшись к мужу, срывающимся голосом повторяет Магдалина уже сказанное-пересказанное много раз: Ян должен уйти! Она не вынесет ежеминутного страха за его жизнь. Если она будет спокойна за него, то сумеет перенести все несчастья.
И вот наступает миг прощания. Ян Амос наклоняется над кроватью и целует спящего сына. Последний раз обнимает Магдалину. Он не может отпустить ее, не может тронуться с места. Магдалина сама отстраняется от него. С трудом Ян Амос заставляет себя сделать шаг к двери, останавливается, оглядывается, встречает прощальный взгляд Магдалины...
Уже прокричал первый петух, когда два человека, пробравшись по пустынным улицам, оказываются за пределами города. А с первыми лучами солнца в Фульнек врываются испанские солдаты.
Глава пятая. СВЕТ В ЛАБИРИНТЕ
Долгие месяцы не утихает расправа над участниками восстания. Имения, замки и земли чешских панов и рыцарей, замешанных в антигабсбургском движении, конфискуются и отдаются ставленникам императора. Многострадальную Чехию рвут на куски. Идут бесконечные суды, казни, разрастаются грабежи, убийства. Священники-протестанты изгоняются из страны. Горят костры из чешских книг. Месть Фердинанда мятежному народу не знает пределов.
Коменский находится в Жеротине под Штернбергом, в землях графа Жеротинского. Но террор Фердинанда принял такие размеры, что Жеротинский, хотя и не числится среди его врагов, не может открыто давать приют протестантам. Вокруг шныряют иезуитские шпионы. Стоит им пронюхать, кого прячет граф, — и Коменскому не сносить головы. На случай особой опасности люди Жеротинского нашли для Яна Амоса тайное убежище в дупле старой липы в ближнем лесу. Там он может писать, в случае необходимости провести ночь.
Что происходит в его душе? Гибнет родина, в смертельной опасности его близкие. Тысячи людей в изгнании. Льется кровь. Целый народ отдан на поругание победителю. Отчаяние Коменского так велико, что он думает о смерти. Если так хрупки принципы христианской нравственности, можно ли после этого жить? Но ведь живут другие люди, возражает он сам себе, живут, страдают, борются. Уйти в такой момент было бы постыдным малодушием. Его долг в том, чтобы быть с теми, кто находится в несчастье. Мысль эта всегда придавала Яну Амосу силы, звала к действию. Но чем он может помочь таким же изгнанникам, как он сам?
Как дальше жить? Мучительные раздумья не оставляют Коменского. Тревога за Магдалину рвет ему сердце. Он уже знает: солдаты сожгли его дом в Фульнеке, погибло все их достояние, богатая библиотека, его рукописи. К великому счастью, Магдалина успела скрыться с детьми у добрых людей. Каково ей там, в опасности, без средств к существованию?
Именно эти дни тревоги и горьких сомнений, постоянной душевной боли, ибо невозможно видеть торжество и безнаказанность зла, бросающего вызов всему человечеству, Коменский пишет сочинение «О совершенстве христианском», посвящая его Магдалине. Мысленно обращаясь к ней, он страстно хочет в этом сочинении убедить ее и себя, что исполнять волю божью — значит терпеливо переносить любые беды даже тогда, когда непонятен божий умысел. Чем же еще он может укрепить ее дух? Ян Амос надеется, что они еще будут вместе, но надо обрести силы и мужество, чтобы не согнуться под ударами судьбы. Закончив работу, он заказывает копию для Магдалины и себя.
Между тем и сам Коменский находится в постоянной опасности, то и дело приходится ему менять тайные убежища. В конце концов он бежит в Брандис-на-Орлице, где в это время жил Карел Жеротинский. В его большом городском доме поселилось несколько священников общины. Королевские чиновники пока не решаются без разрешения хозяина совать свой нос в дом влиятельного богатого графа. В небольшой церкви, недалеко от могилы магистра Григория, основателя общины чешских братьев, они могут, правда тайно, совершать и богослужения. Именно здесь, в Брандисе-на-Орлице, Коменскому суждено испытать самое сильное потрясение в своей жизни: человек, посланный к Магдалине, возвращается с вестью о ее смерти и вместе с ней смерти двух детей, один из которых едва увидел свет. Магдалину не тронули ни солдаты, ни горожане. Но испанцы принесли чуму, опустошившую Фульнек. Чума не пощадила Магдалину с детьми. Все сошлось в один трагический узел: боль за поруганную родину, за страдание народа, жизнь в изгнании словно со связанными руками, стиснутым сердцем. И вот — гибель жены и детей...
В эти черные дни товарищи по несчастью не знают, как облегчить горе Яна Амоса. Они избегают его взгляда, боясь прочитать безысходное отчаяние. Но Коменский не замыкается в своем горе, с большей энергией он участвует в делах общины. Откуда он черпает силы? В чем видит опору его мощный дух?
Глядя на него, поднимают головы и другие. Самое страшное— опустить руки, поддаться унынию, а они должны бороться. Есть подвиг терпения, подвиг надежды. Братья общины, живущие в Брандисе-на-Орлице, и особенно те, кто находится рядом с Коменским, видят, как ежечасно, ежеминутно совершает этот подвиг молодой священник.
Оставаясь наедине с собой, Ян Амос в отчаянии берет в руки копию своего сочинения «О совершенстве христианском». Глаза сухи, в горле стоит комок. Нет, ему не достичь христианского совершенства! В сердце — гнев и боль. Где взять силы для покорности и смирения? Медленно перелистывает Ян Амос рукопись, читает отдельные места. Какая трагическая ирония судьбы! Он предназначал это сочинение прежде всего для Магдалины, теперь он сам ищет в нем опору. Исполнять волю божью — это значит самоотверженно переносить любые невзгоды, даже тогда, когда нам неизвестен или непонятен божий умысел. Если он был искренен, когда писал эти строки, то должен обрести в этой мысли силы, чтобы жить и помогать другим переносить несчастья.
Изгнанники, живущие в Брандисе, среди которых много вдов, одиноких, предоставленных произволу судьбы женщин, обращаются к Коменскому за помощью: как обрести силы, чтобы пережить невзгоды и беды? Ян Амос отвечает сочинением «Град незавоеванный есть имя господне». Убеждая других, Коменский убеждает себя.
Яну Амосу часто снится Магдалина, и всегда одинаково — одаривающая его последним взглядом, когда он обернулся у порога. В этом взгляде вся ее душа, любовь, самоотречение, прощание... Сердце подсказало Магдалине: больше им не увидеться. И в то мгновение, когда он встречается с ней глазами, острая тоска охватывает Яна Амоса, ибо во сне он уже знает: еще один шаг — и Магдалина исчезнет навсегда. И все-таки помимо своей воли, Ян Амос делает этот роковой шаг — и с ужасом летит в пропасть... Просыпается... За окном хлещет дождь. Хижина дровосека в горах сотрясается от ударов ветра — кажется, вот-вот разлетится в щепы. Ян Амос вглядывается в подслеповатое оконце: непроглядная тьма. Ветер. Дождь. Мрак над всей чешской землей, мрак в душе...
Коменский переживает глубокий душевный кризис. И в жизни, и в своих помыслах он всегда был до конца искренен. Лишь стремление к истине, к правде, к справедливости двигало им. Но справедливость и правда поруганы, а истина — обладает ли он ею? Искренен ли, когда учит других покорности и смирению, а сам полон сомнений и гнев против не знающих пощады захватчиков раздирает сердце? Он не сможет жить дальше, пока не разберется в себе самом, пока не узнает о себе полной правды. Он должен написать исповедь, проникнуть в глубины души, не страшась обнажить ее до конца. Ничего не утаивая, он должен рассказать о своей внутренней борьбе, о сомнениях, терзающих душу, самых страшных сомнениях — в божественной справедливости, о своем отчаянии и бессилии. Он должен это сделать, иначе не сможет жить. Для своей исповеди он выбирает форму диалога. В нем можно передать спор с самим собой, показать разные точки зрения, движения мысли, ее борения, мучительный поиск истины.
Свое сочинение Коменский называет «Печальный». Это он сам, скорбящий о трагедии, переживаемой родиной. Он не видит выхода — лучше смерть, чем такая жизнь. Вера напоминает Печальному о божьем милосердии. Печальный с болью высказывает свои сомнения. Он произносит слова, которые могут ужаснуть искреннего христианина: «Бог? Когда мы призываем его, он не слышит и слышать не хочет». Тогда появляется сам Христос, чтобы вселить в него веру в божью благодать. Печальный открывает ему душу. «Ты думаешь, у меня железное сердце?» — спрашивает у Христа Печальный. Откровенно высказывает он свое отчаяние: «Конца мы не видим, но видим перед собой бездонную пропасть, в которую падаем, чем дальше, тем глубже. Ведь сколько людей за это время перебито! Сколько схвачено и брошено в тюрьмы! Сколько от голода, чумы, холода и наготы, горя и скорби, страха и ужаса вымерло! И нет в этом мире надежды на помощь никакой!» Христос утешает Печального, говорит о необходимости смирения, обещает, что наступят новые времена, когда восторжествует справедливость, порок и грехи будут наказаны. Последнее слово остается за Христом. Коменский не может расстаться с верой в божье милосердие, но он и сам чувствует: слова не убеждают Печального...
Это сочинение привело Коменского к новым, более глубоким размышлениям о мире, об обществе, о тех порочных основах, на которых оно построено. Там, где господствует обман, жестокость, угнетение, бессмысленно искать справедливость. Подобная надежда только погубит, ибо она не осуществится. Расстанетесь с надеждой — и тогда вы найдете опору в себе, в своем сердце. Неизбежно возникают эти мысли, как продолжение тяжких раздумий Печального. Вслед за безысходным отчаянием приходит настойчивое желание понять причины бедствия. «Печальный», таким образом, становится прологом к новому сочинению, в котором Коменский хочет анатомировать человеческое общество, обнажить его тайные пружины — всю изнанку власти: государственного аппарата, суда, церковного управления. Он покажет положение различных сословий, состояние науки, философии, ремесел, мотивы поступков людей, истоки их заблуждений...
Коменский рисует картину необъятного города, погруженного в кромешную тьму. Каждая улица города заселена одним сословием, и все они ведут к площади, на которой расположен замок Фортуны. Этот город и есть образ мира, представляющий собой запутанный лабиринт. Так он и назовет свое сочинение «Лабиринт мира и рай сердца». В сопровождении Всеведа (Всюдубуда) и толкователя отправляется автор в путешествие по этому лабиринту. Но прежде проводник и толкователь надевают на него узду и очки, ибо их роль в этом мире такова, что они не должны допускать, чтобы кто-либо увидел вещи такими, какие они есть. К счастью, очки не закрывают глаза целиком, и Путник, глядя поверх очков, может увидеть мир своими глазами.
Страшная картина открывается взгляду Путника! Коменский не щадит никого. Вот сословие ученых. Чтобы попасть в него, «первым долгом проверяли, какой у каждого кошелек, какой задок, какая голова, какой мозг (что по соплям судили) и какая шкура. Если голова была стальная с мозгом из ртути, задок оловянный, шкура железная и кошель золотой, одобряли и тотчас охотно вели дальше». Если же у кого не оказывалось этих пяти данных, то приказывали ему вернуться или, сомневаясь в его успехе, так, наудачу, принимали его. Столь же неприглядным видит Путник и все остальные сословия, в том числе духовенство, предающееся пьянству, ссорам, воровству и грабежу. При этом Путник наблюдает угнетение других верований господствующей церковью, бессмысленные распри между представителями различных вероисповеданий и применяемые хитрости, чтобы завладеть более выгодными местами.
Отвратительную картину являет собой и сословие правителей. Поверх очков Путник замечает, «что некоторые покупают места, другие выпрашивают, третьи приобретают их лестью, четвертые самовольно садятся». К тому же Путник видит, что у каждого из правителей недостает чего-нибудь необходимого: «У некоторых не было ушей, которыми могли бы они выслушивать жалобы своих подданных, у других не было глаз, которыми могли бы видеть беспорядки перед собою, у третьих не было носа, которым могли бы вынюхивать плутовские противозаконные уловки, у четвертых не было языка, которым можно было бы говорить за бессловесных угнетенных, у пятых не было рук, которыми могли бы выполнить суд правый, многие не имели даже сердца, чтобы исполнить то, что указывает справедливость». Судьи называются Себялюб, Златолюб, Малознай, Предубежденный, Неопытен, Сухосуд, Легкомысл, Поспех, Кое-как; наивысшим судьей состоял Хочутак. Правду эти судьи приговорили к наказанию.
Путник приходит к выводу, что все сословие правителей сеет полный беспорядок и несправедливость. Увы, и доступ в замок Фортуны происходит через входы, которые называются Лицемерием, Ложью, Лестью, Пороком, Ловкостью, Насилием... Секретарь же Фортуны — Случайность. Немудрено, что в этот замок попадали и разбойники, мучители, лиходеи, убийцы, поджигатели, что поощряло подобных людей на преступление. Попадает Путник и в замок Мудрости. Она пытается выслать из своего царства различные пороки, но ничего у нее не выходит. Остается без последствий и челобитная от «людей бедных сословий». Ответ царицы метко пародирует словесную эквилибристику сильных мира сего, отделывающихся от нужд трудового народа пустыми словами...
Всевед и Обман увещевают Путника покориться существующему порядку мира. Путник же отвечает: «Тысячу раз предпочитаю умереть, чем быть там, где происходит подобное, и смотреть на беззаконие, подлость, ложь, разврат и жестокость. Смерть для меня более желанна, нежели жизнь». Он вырвался от Всюдубуда и Обмана, но увидел, как люди «с ужасом, рыданием, страхом и содроганием отдавали свою душу, не зная, что с ними будет и куда они попадут из сего мира». Оказывается, участь умерших — тьма, разложение, смрад. И тогда Путник в изнеможении падает на землю. «Лучше бы мне никогда не родиться и никогда не проходить через ворота жизни, если после всех сует мира мне суждено быть добычею кромешной тьмы и всяких ужасов».
И Путник возвращается «в дом сердца своего». Успокоение он находит во всеобщей любви и самоотречении. Он мысленно рисует идеальное христианское общество (совсем как Петр Хельчицкий), где все братья, где нет угнетения, сильных и слабых, богатых и бедных и господствует единомыслие и единочувствие. Так живут подлинные, «внутренние» христиане. Автор противопоставляет их «ложным» христианам, живущим в мире, основанном на угнетении, лжи, обмане.
За этой страстной мечтой о всеобщей справедливости и единодушии, хотя и облеченной в религиозную форму, нельзя не почувствовать горького опыта поражения восстания; мысль об единстве в широком смысле, единстве всенародном, основанном на справедливости, к которому так горячо призывал Коменский, становится главной в определении жизненных основ «внутренних» христиан. Снова, как в «Письмах к небу», Коменский страстно обличает социальное неравенство. Его стрелы направлены против господствующих сословий. Ведь это они, погрязнув в своем эгоизме, оттолкнули народ от участия в восстании и тем самым обрекли восстание на поражение.
«Вернись в дом сердца своего и затвори за собой дверь» — вот к чему он приходит. Мысль эта, обретенная в таких муках, перекликается с философией античных стоиков,[67] с Марком Аврелием,[68] Сенекой, высоко ценимых Коменским, а затем и с Монтенем.[69] Все они создавали свои произведения во времена тираний, войн и смут, когда человек казался ничтожной песчинкой в водовороте грозных событий, которым он не в силах был противостоять.
Найти опору в самом себе — сколько раз и после Коменского люди обращались к этой мысли, стремясь почерпнуть в ней силу, чтобы выстоять, не согнуться в пору преследований и несчастий! И сколько раз проклинали свое одиночество, когда чувствовали, как рвутся их связи с теми, кого постигает та же участь!
Но Коменский никогда не замыкался в себе. Для него жизнь обретала свой смысл лишь в единении со своими преследуемыми братьями, в общей борьбе за справедливость и достоинство человека. «Затвори за собой дверь» — жест отчаяния. Противореча собственному совету, Коменский рисует затем жизнь «внутренних» христиан, идеальное общество в духе христианского коммунизма, вся сила которого как раз в общности судьбы его членов, в духовном единстве.
«У них создается взаимная приязнь, откровенность и святая дружба — все считают, все признают себя за братьев, несмотря на различные дарования и звания... Ни у кого нет больше, чем у другого, кроме вещей случайных».
Нет, он не приемлет холодного одиночества схимника-мудреца! Душа его рвется к людям. Об их счастье помышляет он. Утолить их боль, помочь в беде, показать дорогу к лучшей жизни — его постоянное стремление, придающее единственный смысл всему существованию.
Мечта Коменского, отталкиваясь от действительности, устремляется в будущее. Сочинение, задуманное как исповедь, одушевленная страстным поиском истины, вырастает в глубокий, проникнутый гуманистическими идеями, морально-философский трактат и беспощадную сатиру на нравы общества, раздираемого социальными противоречиями. Ничего подобного по меткости наблюдения, страстному пафосу в защиту обездоленного человека и разящему обличению социальных уродств в современной Коменскому европейской литературе не было.
Ян Амос заканчивает «Лабиринт мира и рай сердца» 23 декабря 1623 года в хижине на краю леса. Смотря на объемистую рукопись, словно не веря, что труд завершен, пишет на заглавном листе посвящение графу Жеротинскому. Могущественный покровитель Коменского читает «Лабиринт» не отрываясь. Он понимает, что перед ним выдающееся произведение. Он восхищен не только глубиной содержания, его пленяет язык, поэтичный в выражении чувств, меткий в обличениях, красочный в описаниях. Небольшим тиражом граф издает «Лабиринт», но сочинение Коменского быстро распространяется в списках.
Правда об обществе, основанном на угнетении и гнусных пороках, высказанная так ярко и смело, расковывает мысль, побуждает по-новому увидеть действительность, многое понять...
К этому времени в Брандис-на-Орлице доходит весть, что сочинение Коменского «Печальный», изданное в тайной типографии в Праге, вносится в папский «Индекс запрещенных книг»[70] — отныне оно должно без жалости предаваться огню. Такова судьба многих книг Коменского. Иезуиты точно так же расправились бы и с самим автором, попади он им в руки. Тревожно в доме Жеротинского. Словно что-то пронюхав, вокруг под разными личинами вьются иезуиты. При появлении чужих людей Ян Амос скрывается в одиноком домике у клопотского леса или еще дальше, в хижине дровосеков в горах.
Суровая зима ухудшает и без того тяжелое положение беженцев. Солдаты Католической лиги изощряются в издевательствах и кровавых бесчинствах. С ужасом передаются по всей округе из уст в уста рассказы о том, как разнузданная солдатня собирает мужчин и женщин, заставляет раздеться и потом гонит по снегу в лес, пока они не падают без сил и не замерзают...
Коменский пишет проповедь «О сиротстве» — необходима срочная помощь детям, которых война сделала сиротами; затем новое сочинение, «Испытание божие», где снова пытается укрепить дух братьев. Он знает, какая могучая сила заключена в слове, и готов бороться этим единственным оружием, оставшимся у него в руках, до последнего вздоха.
Однажды к Жеротинскому являются посланцы императора. Они объявляют графу, что, если он не отречется от своего вероисповедания, ему придется покинуть родину. Они же сообщают, как бы конфиденциально, что готовится императорский указ, который запрещает всем без исключения дворянам и горожанам иного, нежели католического, вероисповедания оставаться в Чехии. Граф, разумеется, понимает, добавляют посланцы, что к крестьянам указ не относится. Они должны быть на земле, как деды их, дабы исполнять то, что им предназначено. Вера их господ, согласно установившемуся обычаю, станет их верой. Чья земля, того и вера. Что же касается свободных сословий и даже высокородных дворян, пусть граф знает: император тверд в своем решении. Велика его милость, радеющего о процветании святой католической церкви. Прощая чехам их прегрешения, император, осененный благословением его святейшества, денно и нощно помышляет о спасении заблудших душ своих подданных-протестантов.
По ханжеским речам Жеротинский без труда узнает в посланцах императора иезуитов. С трудом скрывая свои чувства, граф благодарит гостей за визит и просит передать императору свои всеподданнейшие изъявления. Дать же ответ он пока не может. У него еще есть время на размышление. Стоя, склонив седую голову, он прощается с ними. Когда стихает стук колес отъехавшей кареты, граф Жеротинский бессильно опускается в кресло и закрывает лицо руками.
В тяжкую зиму 1623 года, когда Коменскому приходится скрываться в тайных убежищах, связной от общины приходит к нему Мария-Доротея, или Доротка, как она просит себя называть, дочь епископа Яна Цириля, с семьей которого Ян Амос сближается во время пребывания в Брандисе-на-Орлице. В непогоду, ночью мужественная девушка пробирается в лесную хижину или еще дальше в горы, чтобы передать Яну Амосу сообщение, принести еду, взять у него письма и деловые бумаги. Она активно участвует в подпольной деятельности, с готовностью берет на себя опасные поручения. Обычно Доротка бывает первой читательницей сочинений Коменского, вызывающих ее горячий отклик. Волнуясь, говорит она о нравственном значении «Лабиринта», из которого люди будут узнавать правду о себе, о действительности, а правда укрепляет сердце. С удивлением слышит Ян Амос из уст юной девушки слова, которые пристало говорить зрелому человеку. Невольно он замечает, как необычно серьезны ее глубокие темные глаза. Но через минуту, улыбаясь, Доротка красочно рассказывает о том, как по дороге в лес ее чуть не схватили солдаты Фердинанда. Хорошо, что они были пьяны и ей удалось скрыться в лесу! Пришлось еще порядочно проплутать, пока она не убедилась, что слежки нет. Поэтому пусть Ян Амос не сердится за опоздание. Сердится? Да он счастлив, что она цела и невредима! Коменский восхищен ее бесстрашием и волей, твердым и одновременно живым характером. В его горестном одиночестве приход Доротки — целое событие. Он и не замечает, с каким нетерпением каждый раз ждет ее.
Однажды ночью Коменский проснулся от необычного шума. Прислушавшись, понял: капель. Неужто конец зиме? Набросив плащ, вышел наружу. В лицо ударил тугой, влажный ветер. Лес при полном свете луны, казалось, весь шевелился, вздыхал, трещал, гудел. Сквозь многоголосый перестук капели Ян Амос уловил шорох оседающего снега. Весна, весна! Неужели она не принесет облегчения? Впервые за многие месяцы он почувствовал, что оживает надежда, словно шальной весенний ветер растопил своим теплом лед в его груди. В эти минуты, сам не зная отчего, Ян Амос подумал о Доротке — и не так, как обычно: с волнением, с радостью...
Вернувшись в дом, он садится за стол — теперь уже ему не уснуть. Новое состояние пугает его. Вот уже три года, как погибли Магдалина и дети. С их смертью что-то умерло в нем. С той поры он и не помышлял о своем счастье. Горе других, нужда в его помощи заставляла его жить. Три года мучительного одиночества, борьбы с самим собой. Радость, если он увидит Магдалину во сне, лишь память о ней и согревала его. Магдалина — это часть его души, она всегда будет с ним, до конца, до гробовой доски. А Доротка? Его чувство к этой девушке иное, он еще не разобрался в нем. Но знает, что Доротка нужна ему. Нужна ее верность и мужество, ее веселость и серьезность, ее нежность и беззащитность, которые таятся в ее глубоких темных глазах. Сейчас, слушая капель и вдыхая ночной весенний ветер, он понял это...
С тайной надеждой ждет Ян Амос прихода Доротки. Встреча проходит, как обычно, в оживленной беседе, он не решается признаться ей в своих ночных мыслях, однако чуткая девушка улавливает перемену в его состоянии. Она теряется в догадках, но о подлинной причине не смеет и подумать. Даже самой себе боится признаться она, что давно любит этого удивительного человека. И все же раз от разу нечто новое, нежданно появившееся в их отношениях, все отчетливее проявляет себя. Внутренние преграды, которые Доротка поставила своему чувству, вот-вот готовы рухнуть.
Раньше чем Доротка Ян Амос понимает, что творится в ее душе. Он все еще медлит, но решение созрело — теперь в любую минуту он готов сказать ей слова, которые часто повторял в одиночестве. Однажды летом, гуляя с Дороткой в лесу в один из тех дней, когда синева неба, кажется, омывает тебя, Коменский спросил, согласна ли она связать свою жизнь с ним, изгнанником, у которого нет даже постоянной крыши над головой.
— Да, согласна, — словно одним вздохом, не задумываясь, отвечает Доротка. Справившись с волнением, произносит: — Бедный Ян Амос, как много горя выпало на твою долю! Я сделаю все, чтобы ты был хоть немного счастлив.
В ее голосе звучит сила — сила любви. У Коменского теплеет в груди.
— Обопрись на мою руку, — тихо говорит он, — мы вместе пройдем наш путь до конца.
Они молчат. Слова не нужны. Потом Ян Амос задумчиво продолжает (это уже мысли вслух, ибо отныне ничего не должно быть скрыто от нее):
— Иногда мне кажется, что я прожил долгую жизнь, хотя мне тридцать два года, и все, что было в этой долгой жизни радостного, заключала в себе Магдалина.
— Знаю, тебе ее не забыть. И для меня будет священна ее память.
Ян Амос сжимает ее руку: Доротка сказала то, что он больше всего хотел от нее услышать.
Осенью состоялся свадебный обряд, на котором были самые близкие люди — всего несколько человек. Будущее не обещало молодым счастья — подполье, изгнание, постоянная опасность и бедность. Но Ян Амос стоял с высоко поднятой головой, а глаза Доротеи сияли.
Осень 1624 года. Уже в действии королевский указ, по которому все некатолическое духовенство изгоняется из страны. Населению предписывается участвовать в католическом богослужении. Всякий, кто не признавал себя католиком, лишался гражданских прав и не допускался к занятию ремеслами, торговлей или какой-либо другой деятельностью. Некатоликов запрещалось венчать, хоронить на кладбищах. За непочитание праздников, несоблюдение постов, нехождение в церковь налагался денежный штраф. Пока указ не касается рыцарского и панского сословий, но, очевидно, дойдет очередь и до них.
Ян Амос и Доротка отдают все силы укреплению общины, заботясь о сиротах, о больных, об одиноких женщинах. Они достают деньги и одежду, вовлекая в деятельное участие в общей судьбе братства каждого его члена. Каждый, не раздумывая, должен делиться с нуждающимися последним, не устает повторять Коменский, не считаясь с опасностью, давать приют, оказывать необходимую помощь. Пример Коменского, его слова сплачивают людей, помогают преодолеть страх и отчаяние, но годы жестоких преследований, мучительной жизни в подполье уже подточили силы общины. Они на исходе. Все больше становится тех, кто нуждается в немедленной помощи, все меньше возможностей ее оказать. А надвигаются еще худшие времена. Необходимо было решить, как уберечь людей от уничтожения. Весной 1625 года в деревне на склоне Крконошских гор состоялся тайный съезд священников братства, на нем Коменскому и еще двум проповедникам поручается выяснить, можно ли в Польше найти место для поселения чешских братьев.
Тайная миссия сложна и опасна. Переговоры придется вести в условиях кровавой войны, в которую втянута Польша на стороне Католической лиги. Понятно, что в любой момент Коменский и его товарищи могут быть схвачены и переданы польскими властями в руки Фердинанда. А это означало казнь.
Правда, в Лешно, куда направились посланцы братьев, издавна находили прибежище чешские протестанты, еще с прошлого века, после поражения первого антигабсбургского восстания, основавшие там свои общины, и, несомненно, изгнанники могут рассчитывать на их помощь, тем более что правитель города граф Лещинский — протестант. Но как далеко простирается его власть в это жестокое время?
Ян Амос знает, успех дела спасет жизнь многим тысячам беззащитных людей, и ночью, переходя тайными тропами границу Чехии, он думает о том, что, если они выполнят поручение, жизнь его будет оправдана. Коменскому и его товарищам удалось договориться с графом о поселении членов общины с семьями в Лешно. Несомненно, Лещинский учитывал, что приход чешских братьев, среди которых было много ремесленников, чье мастерство и трудолюбие были общеизвестны, принесет городу процветание. А чешские семьи оказывались в атмосфере терпимости и дружелюбия. Отсюда дворяне-протестанты могли беспрепятственно уйти (что и происходило) в шведское войско, выступавшее против Фердинанда.
Вернувшись на родину, Ян Амос деятельно занимается подготовкой общины к переселению, но пока вместе с Дороткой ему приходится искать новое убежище. Летом 1626 года Коменский с женой и тестем Яном Цирилем находят приют в Биле-Тржемешне, в северо-восточной Чехии, в замке чешского дворянина Иржи Садовского. Здесь Ян Амос встречает своего старого товарища по Герборнскому университету протестанта-священника Яна Стадия, который приглашен сюда в качестве воспитателя троих детей хозяина замка, и Ян Стадий просит Коменского дать советы, как ему обучать детей Садовского, он просит даже написать для него дидактические правила.
Коменский охотно соглашается и обращается с письмами-запросами по этому поводу к известным в то время ученым, чьи педагогические идеи он разделял, — сначала к Ратке, затем к Андреэ. Ратке, ревностно берегущий свой приоритет, не отвечает. Андреэ откликается теплым письмом, в котором сердечно приветствует преемника. Но и он ничего не говорит о вопросах, поставленных Коменским. Яну Амосу, следовательно, приходится рассчитывать лишь на себя. Разыскивая необходимые для работы источники, Каменский вместе с Яном Стадием пересматривает богатую библиотеку Зильберштейнов, находившуюся поблизости в Влчицком замке, вскоре переходящем во владения имперского полковника. Там он находит написанную по-немецки книгу Элиаша Бодина,[71] содержащую дидактические правила обучения латинскому языку. Этот труд побуждает Коменского задуматься об общих законах дидактики и взяться за сочинение, которому суждено стать прологом к его «Великой дидактике».
Вероятно, внешне все выглядело именно так, поскольку речь идет об обстоятельствах сопутствующих и, по-видимому, ускоривших созревание замысла. Подлинные же причины, побудившие Коменского задумать и завершить уже в Лешно «Великую дидактику», разумеется, более глубоки. Вот что говорит об этом сам Ян Амос в «Привете читателям», который он предпосылает своему сочинению. Рассказав, как он без успеха обращался за советами к известным ему философам, Коменский добавляет:
«Только один из них (знаменитейший И. В. Андреэ) ответил нам любезно, что передаст нам факел, и несколько даже воодушевил меня на смелое дело. И я, поощренный этим, чаще стал размышлять о своей попытке, пока, наконец, неудержимое стремление принести пользу всем не побудило меня взяться за дело основательно».
Всем — это значит всему обездоленному народу чешскому. Всем — означает и каждому, ибо в лексиконе Коменского это слово получает конкретный социальный и общественный смысл: всем, без каких бы то ни было сословных, имущественных и прочих различий. Всеобщее образование и воспитание — вот сила, как убеждал Ян Амос, которая приведет человечество к свободной счастливой жизни.
Именно в Биле-Тжемешне, когда уже идет подготовка общины к отъезду в Лешно, Ян Амос лихорадочно набрасывает план и пишет первые главы «Чешской дидактики», которая содержит все основные идеи будущей «Великой дидактики».
Автор чувствует, что здесь необходимо небольшое отступление. Оно бы не понадобилось, если бы речь шла о гениальных открытиях естествознания. К примеру, законы «небесной механики» Ньютона,[72] жившего в ту же эпоху, что и Коменский, известны каждому. Иное дело — педагогика. Ее удел и безмерно велик и безмерно скромен. Она всю жизнь сопровождает нас, незримо нам служит, а в то же время ничем, ни единым намеком педагогика не напоминает о себе, о том, чем мы ей обязаны.
В самом деле, все мы учимся, овладеваем знаниями, умениями, наконец, профессией. Но как это происходит? А между тем чему обучать и как обучать — сложная наука, именуемая педагогикой, вобравшая в себя духовный опыт, накопленный человечеством. При этом, как никакая другая наука, педагогика связана с общественными и социальными устремлениями своего времени, ибо ее конечная цель — формирование человеческой личности, отвечающей национальным традициям, потребностям времени, определенного класса, его историческим задачам. Естественно, что педагогика опирается прежде всего на этику, дающую нравственный идеал личности, и на ту область философии, которая решает проблемы познания, — гносеологию — ведь для того, чтобы решить, чему и как учить, необходимо представить себе, какими путями мы познаем окружающий мир и себя, каковы возможности человеческого познания.
На протяжении столетий педагогика развивалась, менялась в соответствии с историческими переменами и устремлениями новых поколений, но, как в каждой науке, есть в ней труд, определивший ее развитие на века, — это «Великая дидактика» Яна Амоса Коменского. Можно сказать иначе: именно в «Великой дидактике» педагогика осознает себя как теория обучения и воспитания, становится наукой в современном смысле этого слова. Достаточно сказать, что существующей сегодня системой образования и обучения, а прежде всего школой в ее современном виде человечество обязано Коменскому. Он провозглашает и разрабатывает принцип единой системы образования — начального, среднего, высшего, где каждая новая ступень продолжает предшествующую. Идея общеобразовательной школы на родном языке, единой для всех, без различия пола, сословий, происхождения, имущественного положения, выдвинута и обоснована Коменским. В размышлении, чему учить, он обращается к природе, к материальному миру, окружающему человека, и призывает познавать его. Он изгоняет схоластику, ибо «человек живет не для учения, а для деятельности». Он создает учение о школе как о мастерской обучения и нравственного воспитания.
Школа Коменского просвещает, воспитывает, образовывает, готовит для практической деятельности. А в то же время он подчиняет образование великой задаче воспитания человека: «Пусть никто не думает, что тот может стать истинным человеком, который не научен исполнять роль человека, т. е. наставлен в том, что делает человека...» Коменский ратует за создание в городе и деревне таких школ, где «все юношество того и другого пола, без всякого где бы то ни было исключения, могло обучаться наукам, совершенствоваться в нравах, исполняться благочестия и таким образом в годы юности научиться всему тому, что нужно для настоящей и будущей жизни. Кратко, приятно, основательно».
Коменский отрицает науку, не открывающую новых тайн, не имеющую практического применения в жизни. Впервые он обращается к учителям с такой любовью и уважением, ибо учителя ведут по дороге знания, они воспитывают человека и поэтому «должны быть убеждены, что занимают самый достойный пост и что им доверено величественное учреждение, выше которого уже ничего нет под солнцем».
А далее Коменский указывает путь для осуществления своих гуманистических и демократических идей. «Чему учить» подкрепляется разделами, раскрывающими, «как учить». Цели и задачи воспитания и обучения органично, естественно связываются со средствами, проистекающими из природы человека, из его безграничных возможностей к познанию. Здесь Коменский подробно обосновывает каждый шаг. Это он устанавливает понятия: учебный год, учебная четверть, учебный день, урок, школьный класс. Коменский впервые выдвигает и подробно объясняет новые принципы обучения, опирающиеся на сознательность и активность учеников. Он ведет детей в широкий мир от знакомого к незнакомому, от простого к сложному, легко, с помощью наглядности, систематичности закрепляя новые знания упражнениями. Это Коменский ввел существующую ныне классно-урочную систему обучения в школе, определил роль и место учителя, его методы работы в зависимости от возраста детей.
Много воды утекло с той поры, когда «Великая дидактика» начала свое триумфальное шествие, и немало открытий науки во всех областях человеческого знания, сыграв свою роль, ушло в область забвения, а труд Коменского живет. Более того, каждая эпоха в поступательном развитии человечества не увеличивает, а сокращает расстояние между своей школой и школой Коменского. Время не отдаляет, а приближает нас к нему. Парадокс здесь кажущийся, ибо до школы Коменского в ее полном объеме, опередившей свое время на века, нужно дойти. Вспомним: лишь Октябрьская социалистическая революция разрушила старую гимназию с ее сословными ограничениями, зубрежкой, палочной дисциплиной, унижением человеческого достоинства учеников — словом, все то, чему нет места в школе Коменского. И только революция проложила путь в нашей стране к всеобщему образованию, одному из главнейших принципов школы Коменского. А ведь и по сей день всеобщее образование, обеспеченное социальными условиями, — далекая мечта для многих народов мира.
Двигаясь вперед, мы идем к Коменскому...
Но пора возвращаться к лету и осени 1626 года, когда Коменский, успешно завершив свою миссию в Лешно, набрасывает план и первые главы «Чешской дидактики», явившейся прообразом «Великой дидактики». Он размышляет о будущем народа, о судьбах национальной культуры, находящейся на грани гибели. И именно в это время Коменский дает первоначальное название своей «Дидактике», которую он пишет на чешском языке, — «Чешский рай».
Ян Амос верит: изгнанники вернутся на родную землю, народ обретет родину и свободу. И когда начнется великое дело возрождения, его «Дидактика» станет настольной книгой каждого учителя, тем ключом, которым легко и просто отпираются врага, ведущие к человеческому совершенствованию путем воспитания и образования, «ибо, если мы хотим иметь благоустроенные, озелененные, расцветшие города, школы, жилища, надо прежде всего основать и благоустроить школы, чтобы ученостью и упражнением в науках они зазеленели и чтобы мастерскими настоящего искусства и добродетели стали». Коменский трудится с огромным напряжением. Великое дело воспитания нельзя откладывать, и оно не должно прерываться, ибо лишь через воспитание человека и гражданина осуществится возрождение родины. А затем и возрождение всего мира, которым будут править Разум, Справедливость, Гуманность.
Человек — родина — весь мир.
Несомненно, сам замысел «Чешской дидактики» и работа над ней означали перелом во внутренней жизни Коменского, выход из душевного кризиса. Впервые после поражения восстания он сумел перебороть в себе отчаяние и пессимизм и создать произведение, полное света и надежды, веры в человека, в его разум и сердце. Образ мира, невольно возникающий в воображении, когда закрыта последняя страница «Чешской дидактики», — это не лабиринт, погруженный во тьму, а цветущая земля, на которой трудятся свободные, счастливые люди.
От «Чешской дидактики» — к «Великой дидактике», от своего народа — ко всему человечеству!
Глава шестая. ГОРЬКИЙ ХЛЕБ ИЗГНАНИЯ
Они шли всю ночь. Дорогу замело, и мужчины, увязая в снегу, то и дело толкали нагруженные скарбом повозки. Тоскливо завывал ветер. Впереди простиралась снежная равнина. Когда забрезжил тусклый рассвет, движение прекратилось. Оставив женщин и детей, мужчины пошли вперед узнать, что случилось. Они увидели, как Ян Амос опустился на колени и, разгребая снег, ломая ногти о мерзлую землю, выкапывал ее и насыпал в платок. Землю Чехии. И вот, следуя ему, один за другим опускаются на колени все в этой цепочке. Каждый берет горсть земли и бережно прячет ее.
1 февраля 1628 года. Уже полгода в действии указ Фердинанда, по которому единственной религией в Чехии объявляется католицизм. Протестантам свободных сословий предлагается в этом указе в шестимесячный срок перейти в католичество или покинуть страну. Император Фердинанд цинично заявил, что предпочитает царствовать в пустыне, чем среди еретиков. Тем не менее крепостным крестьянам выбора не представляется: под угрозой жестокого наказания они обязаны принять католичество. Господа не могут обойтись без рабочих рук. В конце января срок, предоставленный свободным сословиям, истек — и вот более тридцати тысяч семейств уходят с родной земли.
Последний взгляд с горы туда, где в сумрачном свете начинающегося дня вьется, исчезая в глубине снегов, дорога на родину. Прощай, милая родина! Нет, не прощай — до свидания! Мы вернемся! Тысячи людей, как клятву, мысленно повторяют это слово. Слезы от ветра высыхают на лицах...
***
Узенькие, кривые улочки. Небольшая площадь, мощенная битым камнем, ратуша с часами на башне. Костел. Дома побогаче, как и всюду, подталкивая друг друга, стремятся занять свое место возле площади или, того лучше, высунуть свои окна на саму площадь. Ремесленники занимают коротенькие, стиснутые улочки-проходы подальше. Здесь издавна живут чешские братья рядом с польскими ремесленниками. То тут, то там возле дверей на затейливо сработанном крюке висит изображение сапога, кренделя, скрещенных шпаг, молота, щипцов... За городом, занесенные снегом, простираются поля и леса. Если выйти на южную окраину, можно увидеть вдали холмы, совсем как в Моравии. Привет тебе, Лешно, славный город, приютивший изгнанников!
Домик, который занимает Коменский, расположен недалеко от гимназии, где вскоре он становится учителем, — иначе не прокормить семью. Доротея родила ему дочь — Дороту Христину, с ними живут ее престарелые родители и дочь священника братства Христина Понятовская. Девушку считают ясновидящей. В минуты «откровения» она пророчествует, предрекая скорое избавление от несчастий. Изгнанники, цеплявшиеся хотя бы за призрак надежды, верят ей. Хочет верить и Ян Амос. Услышав в Лешно предсказания кожевника Христофора Коттера о падении «ненавистного Вавилона» (империи Габсбурга) и возвращении в Чехию Фридриха Пфальцского, Коменский переводит эти предсказания на немецкий язык и позже в Голландии передает самому Фридриху Пфальцскому.
Как мог Коменский с его ясным реалистическим мышлением увлечься ясновидцами? Не забудем, в его век, несмотря на успехи наук, многое лежало за пределами познаваемого. Великий современник Коменского Исаак Ньютон комментировал Апокалипсис[73] Иоанна, а знаменитейший астроном Иоганн Кеплер[74] занимался астрологией. Даже когда человек на века опережает время, он остается его сыном...
У Коменского есть над головой крыша, близкие люди живут вместе с ним. Он испытывает радость, входя в класс и видя устремленные на него глаза детей. У него есть стол с горящим светильником в ночной тишине. Раскрытая рукопись «Дидактики». Это его надежда, его свет. Он взялся за нее во всеоружии педагогических знаний и знаний точных наук — иначе бы не осмелился начать труд, который должен вобрать в себя и то и другое. Учить всех всему. Эту мысль он и вынесет в заголовок и добавит: «Для всего, что предлагается в этом сочинении, основания черпаются из самой природы вещей; истинность подтверждается параллельными примерами из области механических искусств; порядок распределяется по годам, месяцам, дням и часам, наконец, указывается легкий и верный путь для удачного осуществления этого на практике». А затем следует сказать, что обучение наукам и совершенствование нравов должно происходить кратко, приятно, основательно.
Ян Амос понимает, что идеи, высказанные им, одних отпугнут своей необычностью, новизной, другим будут непонятны его дидактические принципы — поэтому их нужно разъяснить и подробно обосновать. Что ж, он обратится к прославленным авторитетам в науках и философии и там, где возможно, подкрепит свои размышления цитатами. Он не забудет никого, кто из горячего желания видеть человека совершенным и счастливым, подарил последующим поколениям хотя бы одну плодотворную мысль. Античные мыслители будут соседствовать с христианскими философами. Пусть читатель знает, что его «Дидактика» воплотила стремления лучших умов человечества.
Коменский изучает, перечитывает десятки авторов. Как со старыми добрыми друзьями беседует он с Платоном, Сократом, Аристотелем, Демокритом,[75] Эпикуром,[76] Сенекой, Парменидом,[77] Пифагором,[78] Квинтилианом, Цицероном[79]... Тетради Яна Амоса заполняются выписками. С горечью он думает о том, с каким высокомерием тупицы-схоласты только потому, что они считают себя христианами, третируют античных философов — «язычников», среди которых есть мужи великой мудрости. Снова Ян Амос обращается к Бодину, Фрею,[80] Ратке, Лубину[81] и к своим давним любимцам — Андреэ, Вивесу.
Именно в это время Ян Амос впервые знакомится с сочинениями английского философа, своего старшего современника Бэкона Веруламского.[82] Они восхищают, окрыляют его. Бэкон не ограничивается критикой схоластики. Он разрабатывает новую научно-философскую методологию, помогающую проникнуть в глубины познания. Постижение этих глубин даст человеку эффективные знания, и с их помощью он сможет достичь господства над внешней и даже собственной природой. Бэкон призывает сосредоточить внимание научной мысли на выявлении материальных и действующих причин явлений — ведь именно они могут быть точно установлены в опытном исследовании природы.
В противоположность аристотелевскому «Органону», считающемуся непререкаемым авторитетом у схоластов, Бэкон называет свое сочинение «Новый органон», где и разворачивает свой метод познания, основанный на опытно-экспериментальном исследовании природы с помощью ощущения. Свои «Афоризмы об истолковании природы и царстве человека» он начинает с главного: «Человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько постиг в порядке природы делом и размышлением, и свыше этого он не знает и знать не может». Английский философ в деле познания природы решительно отстраняет священное писание. «...Некоторые из новых философов, — говорит он в «Новом органоне», — с величайшим легкомыслием дошли до того, что попытались установить естественную философию по первой главе книги «Бытие»[83], по «Книге Иова»[84] и на других священных писаниях. Они ищут мертвое тело среди живого. Эту суетность надо тем более сдерживать и подавлять, что из безрассудного смешения божественного и человеческого выводится не только фантастическая философия, но и еретическая религия. Поэтому спасительно будет, если трезвый ум отдаст вере лишь то, что ей принадлежит».
Безусловно, схоласты и мракобесы обвиняют Бэкона за эти слова в еретизме, а то и в безбожии, размышляет Коменский, но разве не божественные предначертания руководят человеком в его безграничном стремлении к познанию? Величайший грех совершают не философы, проникающие в глубины познания, а те, кто хотят остановить мысль. Перелистывая книги, к которым он постоянно возвращается, Коменский думает о бесстрашных философах, бросивших вызов времени и своим правителям. Их смелая мысль, проникнув через завесу будущего, создала образ грядущего мира, где все равны, нет частной собственности, а всеобщее благо является естественной и самой главной заботой каждого, где человек гармонично развивается как духовно богатая личность. В трактате «О наилучшем государстве» Кампанелла говорит: «Мы же изображаем наше государство не как государственное устройство, данное богом, но открытое посредством философских умозаключений и исходим при этом из возможностей человеческого разума...» Вот так: Кампанелла убежден, что сам человек, руководствуясь своим разумом, способен построить государство свободных, мудрых, счастливых людей. Неужто это всего лишь утопия? Если и так, то лишь до тех пор, пока человечество нравственно не дорастет до нее. И путь к тому один — школы, которые должны терпеливо воспитывать людей, способных возвыситься до великой мечты. Его «Дидактика» объяснит, как построить такую школу. И все же сомнения в том, поймут ли его современники, порой одолевали Яна Амоса. Он вспоминал в такие минуты, с какой печальной иронией отозвался о Томасе Море и Кампанелле учитель Ян Ковач. «Пустые мечты! — сказал он. — Богатый никогда не поделится с бедным, сильный не уступит слабому! На том стоит свет. Разве войны, насилия, вся скверна, которой полон мир, не являются его сущностью?» — «Войны не вечны. И, несмотря на них, человечество просвещалось, двигалось вперед. Будет время, когда настанет и мир. А мы, учителя, каждым часом своей жизни должны приближать его», — примерно так ответил он Ковачу. Его коллега вздохнул: «Ты одарен большим сердцем и светлым умом, Ян Амос, но что можешь ты сделать? И что изменили своими книгами Мор и Кампанелла?»
Похожие слова говорили многие. Людям жилось трудно. Все силы уходили на то, как добыть кусок хлеба, как выжить, как сохранить детей, — до сказок ли им? И все же Ян Амос замечал, что в сердцах людей всегда жила мечта о справедливости. И лишь тем, кого устраивал существующий порядок, были ненавистны философы, указывающие людям дорогу в лучшее будущее. Сколько отравленных стрел было пущено в одиноких мыслителей, дерзнувших подняться над своим временем! И что же? Что передали грядущим поколениям все эти императоры, папы, кардиналы? Что осталось от них, живших во времена Яна Гуса? Остался Ян Гус. Остался Табор, предвосхитивший самые смелые картины счастливого общества Мора и Кампанеллы, остались вожди Табора, их дела. Осталась в народе память, которая слилась с мечтой о справедливой жизни, достойной человека.
Нет, склоняясь в ночной тишине над рукописью «Дидактики», он, Ян Амос, не одинок. Книги, несущие людям свет, не умирают. Рушились города и государства, на их обломках возникали новые, народы рассеивались, а бессмертные творения разума живы! Мысли мудрецов не погибли — они дают все новые всходы.
Ян Амос подходит к книжному шкафу, достает небольшую книжку, бережно перелистывает ее. Это сочинения итальянского гуманиста Паджо Браччолини.[85] Как смело отбрасывает он различия между людьми, узаконенные властителями! «Тот, кто хвалится своим родом, чужое хвалит, а насколько выше давать свет другим, чем сиять чужим блеском, настолько лучше самому рождать свое благородство, чем получать его заслугою другого». Золотые слова! Имя Паджо Браччолини Яну Амосу особенно дорого. Будучи секретарем папской курии, он едет в Прагу с поручением вручить Яну Гусу приглашение прибыть на собор и вместе с ним возвращается в Констанц. Браччолини сумел подняться над предубеждениями, в плену которых он сначала находился. В своих письмах он дал правдивое описание позорного судилища над Гусом. Он был покорен личностью Яна Гуса, его душевным величием, бесстрашием, благородством.
Здесь, в Лешно, оторванный от родины, Ян Амос чувствует особенно остро духовную общность с мыслителями разных народов и времен, указывавших человечеству новые пути. Они будоражат мысль, укрепляют дух, побуждают к работе. Леонардо Бруни[86] с его трактатом «Против лицемеров», бесстрашный Ульрих фон Гуттен,[87] благородный Эразм Роттердамский,[88] за свою широту взглядов и терпимость запрещенный фанатиками-католиками, любимые Франсуа Рабле,[89] Мишель Монтень... Все они его союзники. Порой одна улыбка Эразма Роттердамского или шутливое поучение Монтеня, полное блеска, возвращают ему бодрость в минуты уныния. А что стоит хотя бы одна страница несравненного Рабле, гуманиста, мудреца, врача и великого писателя, умеющего, как никто другой, с веселым озорным смехом повествовать о вещах серьезных, в пух и прах изничтожить убожество и бессмысленность схоластического обучения и воспитания!
Утром Ян Амос входит в класс. Бессонной ночи как не бывало. Коменский приветлив, радуется, когда урок идет легко и задачи, поставленные им, выполнены. А после школы, посещая семьи изгнанников, он внимательно присматривается к маленьким детям, наблюдает за их играми. Ян Амос не может спокойно смотреть, как сурово обращаются взрослые с детьми, наказывая их за малейшую провинность. Слезы детей, их забитость рвут ему сердце. Как часто родители бывают несправедливы и жестоки, когда мерят их поступки своими мерками! А между тем детство — это особый мир, требующий уважения, понимания. Семейное воспитание столь же важно, как и школьное, ведь именно в детстве формируется характер, определяется судьба будущего человека.
Но занимаются ли родители семейным воспитанием? Да и знают ли они, как к этому приступить? Ведь многие убеждены, что страх, который они внушают детям, побои, унижения — единственное средство воспитания! Они не понимают, что калечат душу детей, губят в зародыше данные им природой способности. Родители должны проникнуться мыслью, что ребенок есть драгоценность дороже золота, но и хрупок он более, чем стекло. Ему легко повредить, и вред этот будет безмерный. Он объяснит всем — и прежде всего родителям — необходимость воспитания в семье, основанного не на страхе, притеснении, побоях, а на любви к ребенку, на уважении его личности, на чутком понимании его запросов.
Он должен написать книгу, в которой во всех подробностях развернет новую систему семейного воспитания. Это тоже будет школа, но только материнская. «Прекрасное сочетание — материнская школа», — отмечает про себя Коменский — и верно передает главную мысль. Ян Амос записывает: «Школа материнского лона, или О заботливом воспитании юношества в первые шесть лет». И адресует он эту книгу ко всем родителям, воспитателям, опекунам, ко всем, на кого падает какая-то часть попечения о детях. «Материнская школа», таким образом, будет предшествовать «Великой дидактике», а вместе они охватят жизнь человеческую от рождения до зрелости. В «Великой дидактике», где будут рассматриваться в единой системе ступени низшего, среднего и высшего образования, он поместит и очерк «Материнская школа».
Ян Амос увлечен своим замыслом. Он постоянно обдумывает его и вскоре набрасывает план и название двенадцати глав. В ходе работы они меняются и в конце концов выстраиваются в логическую стройную систему. Глава I — «Так как дети являются драгоценнейшим даром божьим и ни с чем не сравнимым сокровищем, то к ним нужно относиться с величайшей заботой». Он начинает с главной мысли, с основания, на котором покоится все, ведь и в «Великой дидактике» главный посыл содержится в первой главе: «Человек есть самое высшее, самое совершенное и превосходнейшее творение». В «Материнской школе» он развивает свои дидактические идеи в применении к детям до шести лет. Он определяет содержание учения и воспитания, классифицирует знания и навыки, которые возникнут у детей в процессе занятий. Как и в «Великой дидактике», в естественной взаимосвязи он рассматривает «что» и «как», «каким образом», утверждая принцип новой педагогики, которая строится с учетом возраста и психологии детей. Работа над «Великой дидактикой» еще продолжается, а «Материнская школа» уже написана. Он сам переводит ее на немецкий язык, и через несколько лет она издается сначала в Лешно, затем в Лейпциге.
Ян Амос не замечает, как идет на убыль зима — вторая зима в изгнании — и как теплые ветры с юга стучатся в окна тихого города. С каждым днем ярче светит солнце, меньше остается грязного, осевшего снега. Лешно встречает весну оживлением на улицах, где журчат и пенятся ручьи, колокольным звоном, далеко разносящимся в ясном воздухе. Весна приносит облегчение от зимних тягот, вызывает прилив сил, что-то обещает. Но к этому чувству у изгнанников примешивается грусть. Каждый из них вспоминает мирную весну на родине, приносившую столько радости. Суждено ли им вернуться? Войне не видно конца... Продолжается беспощадное разграбление Чехии. По новому «обновленному земскому устройству», введенному Фердинандом II, сословия лишались всякой законодательной власти. Еще раньше сам сейм, прозванный «похоронным», состоявшийся в Праге в 1627 году, признал утрату Чехией всех ее привилегий. Император вскоре после этого заявил, что отныне только он будет решать, возвращать или нет Чехии старые привилегии и даровать ли новые.
Страна оказалась в подчинении у высших государственных учреждений габсбургской монархии — тайного совета, придворного совета и дворцовой коморе, которые были послушны малейшему желанию императора. Королевский совет присвоил себе роль высшего суда. Разумеется, чехам нечего искать у него справедливости. Может ли существовать суд там, где нет законов? Их теперь заменяют императорские указы, официально разрешающие грабежи и насилие. Самый недавний из них, так называемый «Реституционный эдикт»[90], возвращает католической церкви все церковные земли в империи, занятые протестантами после 1555 года. В том числе, следовательно, и те, что были отторгнуты от церкви почти семьдесят пять лет назад! Уже три поколения чехов трудились на этих землях, поливая их своим потом. Теперь все они останутся без средств к существованию.
А в Лешно по-прежнему тихо: в церквях идут службы, дети ходят в школу, заседает городской совет, в мастерских трудятся ремесленники. На рыночной площади идет бойкая торговля. Обыватели за кружкой пива обмениваются новостями о смертях, болезнях, свадьбах, выгодных сделках. Вздыхают, жалуются на повышение цен из-за этой «проклятой войны», втихомолку поругивают Фердинанда. А вот известия из Чехии приходят одно хуже другого. Не прекращаются грабежи. Страна наводнена войсками, разорившими ее вконец. Заглохли ремесла, пришло в полный упадок сельское хозяйство. Голод и болезни косят людей. Рассказывают о случаях людоедства. Пустеют города. Пустеют села. Новые господа из немцев бесчинствуют. По своему произволу они увеличивают барщину и подати. Крестьянам ничего не остается, как разбегаться. Их ловят с собаками, беспощадно наказывают. В ответ крестьяне собираются в отряды, расправляются с ненавистными хозяевами, смело вступают в бой с войсками Фердинанда.
После поражения под Белой Горой крестьянские восстания, не прекращаясь, полыхают по всей стране, но действия крестьян разрозненны. И в конце концов имперские войска жестоко подавляют каждое выступление. Но никакие расправы не могут сломить волю народа. Позорно преданные соотечественниками-дворянами и бюргерством, крестьяне продолжают из года в год мужественно сражаться с иноземными угнетателями. Какая ирония истории: задавленные вековым гнетом, не ведавшие от своих господ, таких же чехов, как они, ни жалости, ни снисхождения крестьяне смело поднялись на защиту родины, столь суровой и несправедливой к ним! Тяжкой ценой расплачивается страна, весь народ за историческое недомыслие ее правителей!
Несколько крестьян, которым удалось пробраться в Лешно, рассказывают, что их село полностью сожжено, большинство мужчин погибло от рук солдат, женщины с детьми спасаются в лесах... В молчании Ян Амос слушает их сбивчивые рассказы, вглядывается в почерневшие от горя и голода лица. Страшные вести приходят со всех сторон. Да и чего можно ждать от победителей, если они с первых же шагов показали свою не знающую пределов ненависть к чешскому народу! Они разрушили Вифлеемскую часовню, а день памяти Гуса вычеркнули из календаря. Почитание памяти Яна Гуса и Иеронима Пражского запретили, их портреты сжигали. Они дошли до того, что выбросили из могилы гроб с останками Яна Жижки...
Из всего, что Ян Амос видел своими глазами, что ему стало известно здесь, в Лешно, складывается ужасающая картина планомерного уничтожения народа, национальной самобытности. Габсбурги не скрывают, что стремятся подавить малейший проблеск чешской государственности. Всюду насаждается немецкий язык — и не только в судах, учреждениях, законодательных органах, но и в школах, в литературе. Образование в стране передано в руки иезуитов. Пражский университет в глубоком упадке — оттуда изгнаны все прежние преподаватели. Нетерпимость и фанатизм душат живую мысль. Уже сожжены десятки тысяч чешских книг, но пламя костров инквизиции разгорается все сильнее...
Чехия видится Коменскому огромной тюрьмой во мраке, где свора палачей в разных обличиях набрасывается на беззащитных людей и мучает, истязает, убивает. А спасения ждать неоткуда. И вдруг во мраке вспыхивает свет. Новость ошеломляет изгнанников. Снова и снова переспрашивают они друг друга: достоверны ли сведения? Но свет горит, приближается. Порой Яну Амосу кажется, что он слышит голоса освободителей, идущих в Чехию с оружием в руках, и тюремщики в ужасе разбегаются. Но не сон ли это?
Весть, вдохнувшая надежду в сердца изгнанников на скорое освобождение родины, пришла с севера. 4 июля (по старому стилю) 1630 года шведский король Густав Адольф[91] с большим войском высадился в Померании и начал открытые военные действия против Фердинанда. Стремление австрийских и испанских Габсбургов, поддерживаемых Римом, создать в Европе могущественную католическую империю вызвало отпор со стороны других держав — Франции, Швеции, Дании, Голландии, образовавших антигабсбургскую коалицию. Против Фердинанда выступила и Россия. К тому же к моменту вторжения шведов в Германию крайне обострились противоречия внутри Католической лиги. Немецкие князья, уставшие от войны, были обеспокоены и неслыханным усилением удачливого полководца Альбрехта Валленштейна,[92] чешского пана-католика, перешедшего на службу к Фердинанду II. Став во главе стотысячной армии и одерживая крупные победы, Валленштейн лелеял далеко идущие честолюбивые планы. Фердинанд, отдав ему в наследственное владение герцогство Мекленбургское, восстановил против него многих немецких князей, своих союзников, и прежде всего самого Максимилиана Баварского.[93] На сейме в Регене князья потребовали отставки Валленштейна. В это время объявилась в Померании сильная шведская армия, двинувшаяся в глубь немецких земель. Опасаясь потерять союзников, Фердинанд вынужден был уступить. Валленштейн получает отставку и, оскорбленный, удаляется в свои владения в Чехию.
Войска Фердинанда терпят поражение. Императору кажется, что с уходом Валленштейна ему изменило военное счастье, на самом деле начало меняться соотношение сил в пользу антигабсбургской коалиции. Но война продолжается, льется кровь, разрушаются села, города. Заняв в течение года почти всю Северную Германию, шведы быстро продвигаются на юг. Изгнанники ликуют. Многие эмигранты идут навстречу шведским войскам, чтобы стать под знамена Густава Адольфа. Он склоняет на свою сторону и немецких князей.
Фердинанд спешно собирает в один кулак многочисленную армию под командованием старого генерала Тилли[94] и высылает навстречу шведам. 17 сентября 1631 года близ Лейпцига, при Брейшенфельде, разгорается кровопролитная битва. В рядах Густава Адольфа мужественно сражаются чешские патриоты. Хорошо вооруженные и обученные шведские войска действуют решительно и смело. Тилли терпит сокрушительное поражение. Армия его уничтожена. Победа шведов столь значительна, что она вносит перелом в общий ход военных действий. Разгромив австрийцев, Густав Адольф поворачивает свои войска на запад, к Рейну, чтобы овладеть землями князей, входящих в Католическую лигу, а его союзник курфюрст Саксонский вторгается в Чехию и вскоре занимает Прагу.
В Чехию возвращаются многие чешские эмигранты. В их числе Генрих из Турна, находящийся на военной службе у шведского короля, и другие известные люди, дворяне, рыцари, купцы. Отовсюду изгоняются иезуиты. Собирается синод протестантских священников для восстановления в стране протестантизма. В апреле 1632 года шведы громят войска Максимилиана Баварского. Кажется, не за горами долгожданная победа над Фердинандом.
Коменский спешно дописывает две последние главы «Дидактики». Он мечтает, что его труд поможет создать новые школы соотечественникам, которые вскоре вернутся на родину. Целыми часами изгнанники обсуждают последние события, строят радужные планы. Но силы Габсбургов еще не сломлены. Фердинанд вновь призывает Валленштейна. Император не скупится на милости: Валленштейн объявляется генералиссимусом всей Римской империи, австрийского дома и испанской короны. Армия его растет не по дням, а по часам. В мае 1632 года Валленштейн вторгается в Чехию, вытесняет саксонцев и штурмом берет Прагу. Снова чешские земли подвергаются разорению, на этот раз — и с той и с другой стороны: шведы оказались такими же грабителями, как и австрийцы, испанцы, немцы.
Изгнанники тяжело переживают крушение своих надежд. В беседах с отчаявшимися людьми Коменский ищет необходимые слова поддержки, утешения. Он напоминает об ответственности за будущие поколения, за будущее родины. Как бы ни было тяжело, нужно выдержать все испытания, ниспосланные судьбой. Жить и трудиться несмотря ни на что, не сгибаться, не терять веры в освобождение родины. В голосе Коменского звучит глубокая убежденность. Но его собственная жизнь убеждает красноречивей слов. Погрузившись с головой в дела общины и школьную работу, он трудится не покладая рук. Коменского избирают ректором гимназии, где в старших классах он преподает физику, ему поручается опека над учащейся молодежью. В его ведении находится типография, которую прислал граф Жеротинский. Коменский вносит поправки в школьные программы в соответствии со своими идеями приближения обучения к реальным потребностям жизни, разрабатывает латинскую грамматику. И все это помимо его работ.
Война между тем идет с переменным успехом. В сражении под Лютценом шведы одерживают победу над Валленштейном, но в бою погибает шведский король Густав Адольф. Это большая потеря для протестантов. Валленштейн собирается с силами и снова действует успешно. Фердинанд, однако, уже не верит ему, подозревая в сношении со своими врагами. Валленштейна обвиняют в государственной измене и по приказу Фердинанда тайно убивают в Хебе. Вскоре в битве у Нордлингена объединенные императорские войска наносят шведам тяжелое поражение. Не видно конца войне, не видно конца смертям, страданиям, уничтожению сел и городов. И даже смерть Фердинанда II Габсбурга, принесшего чехам и всей Европе столько несчастий, не примиряет враждующие стороны. Безумная кровавая война продолжается...
Каково состояние Коменского после нового поражения чехов? Что он думает о будущем? Продолжает ли надеяться, что своими глазами увидит освобожденную родину? Этого не знают даже близкие друзья. Внешне он остается, как обычно, спокойным, приветливым. Удивительное чувство испытывают изгнанники в общении с Яном Амосом. Это чувство трудно выразить словами, но каждый мог бы сказать одно: пока есть такие люди, как Ян Амос, верится — зло не может победить, ибо существует еще добро, человечность, мужество. Надо думать, душевный кризис, пережитый Коменским в двадцатые годы, закалил его дух и волю. Оказалось, простую истину, известную ему смолоду, что жизнь обретает свой высший смысл лишь в служении людям, нужно было выстрадать. Новые удары судьбы, когда развеялась надежда на скорое возвращение в Чехию, Ян Амос встречает, как испытанный боец, который при любых обстоятельствах не складывает оружия. А его оружие — слово, пример жизни и работы.
Поразительно, как много Коменский успевает за эти годы! Его постоянный интерес к естествознанию, реальным наукам находит свое выражение не только в философских и педагогических трудах. Он пишет новый учебник физики. Работая над ним, Ян Амос руководствуется девизом: «Познание предметов природы должно происходить не из книг, а из самой природы». Новый школьный учебник содержит сведения почти из всех отраслей естествознания, даже из натурфилософии.[95] Изданный в 1633 году в Лейпциге, он вскоре становится известным во всей Европе, имеет исключительный успех, переводится на многие языки. Его переиздают даже спустя тридцать лет. В Лешно Коменский пишет учебники: «Геометрия», «Краткая космография», которая состоит из двух частей — астрономии и географии, работу для наблюдения за движением небесных светил, учебник по древней истории для шестого класса латинской школы — «Гражданская или политическая история», еще одну книгу по естествознанию — «Открытая дверь предметов», школьные пьесы, которым он придавал большое педагогическое значение, наконец, свой прославленный учебник латинского языка «Открытая дверь языков», поразивший современников.
В нем Ян Амос решительно отвергает единственный в те времена путь изучения языка на основе изложения множества непонятных и неодолимых правил, приносивших мучение детям. Коменский строит учебник, опираясь на открытые им дидактические принципы. Каждое грамматическое положение или необходимое правило искусно раскрывается в живом, интересном рассказе. В «Открытой двери языков» 100 подобных рассказов из разных областей знания, не только охватывающих необходимый грамматический материал и словарный запас, но и ведущих в мир разнообразных знаний об окружающей жизни. Учебник — и в то же время своеобразная, занимательно написанная энциклопедия.
Успех «Открытой двери языков» небывалый. Книга переводится почти на все европейские и многие восточные языки. И неожиданно для Коменского она становится событием в культурной жизни Европы. Отовсюду Коменский получает поздравления. В чешском издании он дополняет книгу разделом пословиц «Мудрость старых чехов» — пусть вместе с латынью, которая приобщает к общеевропейской науке и культуре, чешские дети и взрослые прикоснутся к мудрости своего народа!
Коменский озадачен: скромная книга получила неслыханный резонанс, в то время как другие его работы, более значительные, остаются в тени. Судьба книг неисповедима! И все-таки успех «Открытой двери» подтверждает правильность его дидактических принципов — в этом главное. И он должен познакомить всех, кто хочет создавать новые школы, со своей педагогической системой в ее полном виде. На порабощенной родине пока это невозможно. Пусть же начнут другие.
Ради этой цели Коменский переводит, дополняя и расширяя, свою «Чешскую дидактику» на латинский язык — международный язык культуры и науки. Отныне его труд будет называться «Великая дидактика» и представлять собой «всеобщее искусство, как научить всех всему, то есть надежный систематизированный метод, как во всех местах, городах и селах какого угодно христианского королевства основывать школы». Девиз «Дидактики»: «Пусть все течет произвольно, без вмешательства насилия» — выражает существо педагогического метода Коменского, основанного на естественных природных качествах и склонностях человека, его безграничных способностях к познанию. Работу над «Великой дидактикой» Ян Амос завершает в 1638 году и посылает копии рукописи немногим людям, на чье понимание он мог рассчитывать. С опозданием приходят отзывы — и все критические. Идеи, высказанные Коменским, оказались не по плечу даже его просвещенным друзьям, цели гениального труда были восприняты как чрезмерные.
Коменский ошеломлен. С горечью думает он о том, что небольшая книжка «Открытая дверь языков» принесла ему мировую славу, а «Дидактика», в которую он вложил все свои заветные помыслы и знания, открывающая человечеству новые пути, не принята, не понята! Хмурясь, перебирает Ян Амос письма из многих стран Европы от издателей, ученых, государственных деятелей с выражением восхищения «Открытой дверью языков» и горячей признательности автору за его труд. А рядом холодноватые, вежливые письма по поводу «Дидактики»: недоумение, несогласие, непонимание...
Ян Амос готов защитить свой труд, он легко сможет опровергнуть мнения оппонентов и доказать правоту своих утверждений многими бесспорными аргументами, но собственное сочинение — не предмет для диспутов. Книга должна говорить сама за себя; если этого не происходит, она либо не ко времени, либо не удалась... Так он считает и, разумеется, не будет вступать в спор, но в глубине души Ян Амос убежден: «Дидактика» — это путь к лучшему будущему для всей Европы. И все же он не решается отдавать ее в печать. Только через двадцать лет Коменский опубликует ее в полном собрании своих дидактических сочинений! Можно представить себе, что он пережил, пряча свою рукопись, а затем, перечитывая ее, вспоминая, как, торопясь, писал ее ночами и был уверен, что она нужна людям. Нужна немедленно...
Коменского избирают в совет старейшин общины с обязанностями секретаря, он завоевывает симпатии жителей Лешно. Но теперь Ян Амос не обольщается: он знает по Фульнеку, как круто способна война изменять настроение людей. Как раз в это время тяжкое испытание обрушивается на Лешно: в город приходит эпидемия чумы. Смерть и страх стучатся в двери домов. Паника охватывает жителей. Для заболевших почти нет шансов на спасение. Их вывозят за город и оставляют на произвол судьбы. Мертвых хоронят наспех.
Чехи пытаются бороться с эпидемией, предлагают разумные меры, а их обвиняют в умышленном распространении заразы. Страх мутит людям рассудок, они ищут виновных, вместо того чтобы бороться с бедствием, и виновные находятся — как всегда, это «пришлые». Терпимость оборачивается подозрительностью, ожесточением, ненавистью. Коменский со словами увещевания обращается к населению, но его не слушают. В течение ночи он пишет наставление о борьбе с чумой. Наутро его печатают и раздают населению: простой и ясный смысл наставления, конкретные действия, которые там перечислены, говорят сами за себя. Наставление играет большую роль в объединении усилий, противостоящих эпидемии, и бургомистр города Георг Шлихтинг первым оценивает энергию и мужество чехов.
Постепенно эпидемия отступает, но ее тяжелые последствия еще долго дают себя знать, а в то же время общее несчастье и общая борьба сближают поляков и чехов. Снова Ян Амос убеждается: истина пробивается сквозь глухоту, непонимание, косность мышления. Надо только не опускать руки, трудиться несмотря ни на что с полной отдачей сил... По поручению общины вместе с помощниками он готовит к изданию на чешском языке с переводом на латинский «Устав братства» и «Историю преследований чешской церкви», но Коменского захватывает новая работа, мысль о которой волновала его с юности. Это труд, в котором он мог бы собрать воедино и расположить в стройном порядке все знания о реальном мире, последние научные открытия. Будущая книга должна стать своеобразным продолжением «Двери языков». И если с помощью «Двери языков» юношество, изучая слова, учится различать предметы по внешнему виду, размышляет Коменский, то задуманный труд должен открывать сущность предметов. Пока же мы произносим слова, не зная ничего о предметах, которые называем. Мы являем собой как бы «звучащий металл» или «звенящий колокольчик».
В разгар работы Коменский узнает, что в Ростоке профессор Лауренберг издал книгу под названием «Всеобщая мудрость, или Философское воспитание», которое выражало его собственный замысел. Прочитав эту книгу, представляющую собой всего лишь общий обзор аристотелевской философии, Коменский решает, что вправе взять это название и для своего труда. Так он и называет свое сочинение: «Пансо́фия», что означает «Всеобщая мудрость». Он хочет научить юношество постигать «внутреннюю сторону вещей и исследовать, что есть каждая вещь по своей сущности», то есть научить самостоятельно мыслить, изучать внутренние свойства вещей, закономерности явлений, их развитие, причинную связь. Как всегда, кратко и точно формулирует он свою заветную мысль о неразрывной связи обучения и нравственного воспитания: «...чтобы обнять все, что необходимо знать, делать, во что веровать и на что надеяться».
Замысел Пансофии, хотя и не сразу, вызывает одобрение совета старейшин общины, и Коменский получает разрешение поселиться для продолжения работы в Скоке или Остороге. Коменский пишет сочинение «Дорога покоя», где блистательно защищает общину от необоснованных обвинений, разъясняет ее нравственные принципы и правила жизни. Когда умирает правитель Лешно Рафаэль Лещинский и его место занимает сын Богуслав, община поручает Коменскому приветствовать его. Коменский пишет сочинение «Кузнец счастья, или Искусство советовать самому себе», где разворачивает проникнутые здравым смыслом нравственные принципы практической жизни.
В каждом шаге Ян Амос до конца верен себе: трудится во имя братьев, ибо, помогая общине, он думает и обо всем народе и еще шире — о человечестве. Идут дни, наполненные трудом, размышлениями, повседневными делами общины. Коменский и не подозревает, что в это время вдали от его родины, в Лондоне, происходит событие, которое сыграет огромную роль в его судьбе.
***
Самуил Гартлиб[96] медленно прохаживается по обширному кабинету своего лондонского дома. Время от времени он бросает взгляд на бронзовые часы с фигурой рыцаря, стоящие на камине. Ему не терпится, хотя он знает, что два молодых человека, приехавшие из Чехии для продолжения образования и представленные ему накануне, будут точны. Гартлиб думает о том, каким мужеством и какой верой в будущее должны обладать чешские братья, если, будучи изгнанниками, терпя во всем нужду, они все же посылают на свои скудные средства молодых людей в иностранные университеты! Да, лишь благодаря убежденности в истине своих нравственных принципов, дисциплине, трудолюбию чешские братья, подвергающиеся беспрерывным гонениям, смогли выстоять и сделать много для сохранения и развития чешской культуры.
Мысли о чешских братьях вызвали другую — о Яне Амосе Коменском, чье имя было в последнее время на устах у образованных людей Европы. Его замечательные книги «Дверь языков» и «Физика» поражают новизной подхода к предмету, свежими мыслями, необычайным искусством изложения. О нем идет добрая слава не только как об ученом, педагоге — говорят о его доброте и в то же время твердости в защите интересов общины. Прославленный автор, он, как и все изгнанники, живет бедно, кормит большую семью, да еще помогает нуждающимся.
Несомненно, «Физика» и «Дверь языков» свидетельствуют о широте научных интересов чешского философа, — лингвистика, педагогика, точные науки, натурфилософия, богословие, знание ремесел... Возможно, справедливы слухи, что он готовит труд, где собирается объять все достижения науки. По-видимому, Ян Амос один из тех, кто мог бы совместными усилиями с другими учеными создать великую Пансофию, которая открыла бы для человечества путь к всеобщему знанию. Может быть, сама судьба посылает ему Коменского как друга и единомышленника, Чтобы осуществить давнишнюю мечту — основать академию для воспитания ученых? Кто знает... Собственно, из-за Коменского он и пригласил к себе двух молодых людей из общины чешских братьев, которым он поможет поступить в Оксфордский университет. Здесь, в своем кабинете, он сумеет как следует расспросить о Коменском.
Часы на камине пробили десять — время, назначенное молодым людям. Они вошли друг за другом — первый невысокий, с живым лицом и темными веселыми глазами; второй худой, голубоглазый, с чистым лбом и каштановыми волосами до плеч (поэт или музыкант, определил для себя Гартлиб). Усадив обоих, Гартлиб осведомился, удобно ли они устроились и нет ли в чем нужды. Молодые люди дружно выразили свою признательность, прибавив, что ни в чем не нуждаются. Глядя на юношей, Гартлиб невольно вспомнил свои далекие университетские годы. На кого же из двух он больше был похож? Скорее, на того, кто вошел первым. Юноша назвался Даниилом Эрастом.
Надо полагать, он более земного, практического склада ума, нежели его голубоглазый товарищ, витающий в облаках. Да и решительней. Пожалуй, сам он был именно таким — энергичным, жадным до жизни, торопящимся все успеть. Увы, это неизбежно приводило к скольжению по поверхности. Он был способен к наукам, но разбрасывался, ему не хватало глубины, может быть, необходимого самоотречения — ведь иначе ничего значительного не создашь.
Самуил Гартлиб вздохнул. Что ж, каждому свое. Он сумел немало сделать для развития науки, издал на свои средства многие замечательные сочинения, помогал ученым, с которыми был дружен, содействовал у себя на родине развитию и улучшению ремесел, земледелия, руководил школой для молодых людей. Положа руку на сердце, он может сказать, что искренне служит распространению нравственности, науки, просвещения.
Прерывая молчание, Гартлиб спросил:
— К чему же у вас лежит душа, молодые люди? Вот ты, например? — повернулся он к голубоглазому юноше, отрекомендовавшемуся Самуилом Бенедиктом.
— О, он у нас великий математик! — сразу откликнулся Даниил.
Юноша, к которому был обращен вопрос, смущенно улыбнулся.
— А ты? — продолжал допытываться Гартлиб.
— Мое дело — свободные искусства, — ответил Даниил, — но я еще не решил, какому из них отдать предпочтение. Успею еще! — беспечно закончил он.
— Наш учитель и брат Ян Амос Коменский, — заметил Самуил Бенедикт, — сказал, что у Даниила способности к музыке и поэзии.
— Но ему, то есть мне, не хватает терпения и трудолюбия! — озорно закончил Даниил.
— Если бы не Ян Амос, — проговорил Самуил, — ты сейчас был бы не здесь, а стрелял в нашем лесу ворон.
Имя Коменского, с такой любовью произнесенное его учениками, помогло Гартлибу повернуть разговор в нужное русло. Как бы мимоходом он начал расспрашивать о Коменском, его семье, образе жизни, педагогической работе, деятельности на благо общины. Поначалу молодые люди отвечали коротко, помня о том, что им не пристало выносить суждения о своем наставнике, как не пристало сыновьям судить о своем отце. Но Гартлиб сумел повести беседу доверительно, и юноши разговорились. Дополняя друг друга, они рассказали о Коменском много любопытного, иногда забавного. Они простодушно вспоминали, что вспоминалось, а получился своеобразный портрет учителя и друга. Молодые люди не скрывали, что не всем из старейшин общины по сердцу прямота Коменского, когда он выступает против несправедливости, особенно по отношению к тем, кто не может защитить себя. Учитель и в классе, и на совете, и в проповедях открыто и смело провозглашает то, что считает истиной, хотя бы это и шло вразрез с мнением других уважаемых людей братства.
Между прочим, Самуил рассказал, с каким интересом они, ученики старших классов гимназии, готовили к постановке под руководством Коменского написанную им пьесу «Воскресший киник Диоген,[97] или О сокращенном искусстве философствовать». Он это хорошо помнит, потому что сам играл Диогена.
— Спектакль всем понравился, — продолжает юноша, — а потом мы узнали, что члены синода[98] стали упрекать учителя в том, что он выбрал языческий сюжет и что главный герой — философ-язычник. Но учитель с ними не согласился.
— Мудрость, как и философия и искусство, не перестает быть мудростью от того, что она исходит от язычника, — проговорил Даниил, видимо повторяя мысль Коменского. — Жаль, что нам с Самуилом, — добавил он, — уже не придется сыграть и другой пьесе учителя, «Патриарх Авраам»[99].
— А над чем работает сейчас ваш учитель после издания «Двери языков»? — спросил Гартлиб.
— Пишет новое сочинение — «Дверь предметов», — ответил Самуил. — Я это знаю, потому что помогал ему. Другое его название — «Всеобщая мудрость христианская, содержащая классификацию и подлинные свойства всех предметов». Это будет золотая книга, книга всех книг!
Книга всех книг! Гартлиб улыбается горячности молодых людей. Но быть может, они правы. Кому, как не их учителю, пристало создать Пансофию — книгу всеобщей мудрости?
— Вы можете устроить, чтобы к вашему учителю попало мое письмо? — спрашивает он.
— Конечно, можем! — отвечают Даниил и Самуил одновременно. — Ведь мы обязаны извещать его о наших успехах.
Прощаясь с молодыми людьми, Гартлиб уже мысленно произносит первые фразы письма к Коменскому. Оно должно быть дружеским и сердечным, прочь обычные условности! А вместе с письмом он пошлет и какую-то сумму денег.
Глава седьмая. ЕВРОПА ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В ответ на дружеское письмо Гартлиба Коменский благодарит за внимание, заботу и подробно отвечает на вопросы. Завязывается переписка, и Ян Амос по просьбе Гартлиба посылает ему набросок Пансофии, к которому прилагает оглавление «Великой дидактики». С нетерпением он ожидает, что скажет просвещенный меценат. В этот трудный год Ян Амос особенно нуждается в поддержке — на свой страх и риск начал небывалый труд, который едва ли по плечу и нескольким ученым. Но Самуил Гартлиб молчит. Проходит месяц, второй, третий... Ян Амос не знает, что и думать. Неужто первый набросок будущей Пансофии так ничтожен, что не заслуживает ответа? А может быть, его пакет потерялся в пути? Но как это часто случается, когда надежда была почти потеряна, Коменский получает посылку. С волнением разворачивает он ее и не верит глазам: перед ним новая хорошо изданная книга на латинском языке, озаглавленная: «Введение к опытам Коменского из библиотеки С. Г., открытые врата мудрости, или Семинариум христианской Пансофии».
В предисловии Гартлиба говорится, что сочинение издано в Оксфорде с одобрения университетского канцлера.
«С одобрения канцлера, но не с одобрения автора!» — негодует Коменский, осознав, наконец, что произошло. Он посылал свои материалы не для печати, а лишь для личного ознакомления. Никогда он не решился бы представить на всеобщее обозрение эти первые наброски. В какое же положение его поставил Гартлиб, опубликовав их без его ведома! Несомненно, мысли очерка натолкнутся на предубеждения, которые он предвидел, но не ответил на них, так как не собирался в этом виде издавать свой набросок.
Быстро пробегает глазами Коменский приложенное к книге письмо Гартлиба. Он и не думает оправдываться, лишь извиняется за поспешность издания, объясняя это тем, что ученые жаждали скорее познакомиться с наброском, а переписчики не успевали, вот и пришлось его напечатать. Кроме того, прибавляет Гартлиб, необходимо собрать об этом замысле суждение ученых европейских стран, дабы возбудить интерес и найти покровителей для осуществления его идеи создания Пансофии. А так как один человек не в силах выполнить такую задачу, было бы разумно подобрать помощников, 6—8 ученых, которые смогли бы отбирать наиболее существенное из всех наук и давать ему отобранный материал. И поскольку одно поколение не в состоянии осуществить весь гигантский план работы, то следует основать, как то и желал славный Бэкон Веруламский, коллегию ученых.
Ян Амос ошеломлен: замысел Гартлиба увлекает своей грандиозностью. Объединение усилий ученых разных стран, а затем и всего человечества единством знания, которое развеет мрак невежества, предрассудков, предубеждений, — это ли не самый верный путь к лучшему будущему всего мира! Самое же удивительное состояло в том, что этот поистине грандиозный план при чтении письма Гартлиба показался реальным. Доказательство тому — лежащая перед ним книга.
Она производит большое впечатление, будоражит умы, вызывает ожесточенные споры.
Завоевывая все больше сторонников, а тем самым усиливая огонь противников, «Введение к опытам Коменского» быстро распространяется по всей Европе. В 1639 году книга выходит вторым изданием под названием «Предвестник Пансофии», вскоре он издается в Париже и в Лейдене, а затем, в 1642 году, появляется в английском переводе. Снова, как во времена необыкновенного успеха «Двери языков», к Коменскому со всех сторон идут письма, на этот раз, однако, далеко не все восторженного характера. «Как осы напали на меня не только философы, но и теологи», — скажет он позже. Одни говорят, что всеобщая мудрость, которую предлагает Коменский, не что иное, как коварное средство для тайного распространения кальвинизма;[100] другие — что вся эта мудрость есть опасная смесь божьих дел с человеческими, христианства с язычеством, света с тьмой...
Идея Пансофии привлекает внимание и знаменитого философа Декарта.[101] Прочитав «Предвестник Пансофии», он дает всестороннюю оценку этому наброску, а вместе с тем — таланту и личности автора. Декарт заявляет, что Коменский является «человеком сильного ума и большой идеи и, сверх того, обнаруживает благородную ревностность к общественному благу». Ученый считает, что «Коменский мог бы разрешить проблему, которую изложил, лучше, чем кто-либо другой; только образцы, которые он представил, недостаточны, чтобы подать большую надежду». Да, у Декарта есть свои критические замечания, и они существенны. Он, например, сомневается, «чтобы только в одной книге можно было изложить все знания в целом», он сомневается также, что Коменский изображает какую-то универсальную науку, к которой склонны и которую были бы в состоянии усвоить школьники в возрасте до двадцати четырех лет. Декарт не одобряет далее намерения автора «соединить религию и истины откровения со знаниями, которые добавляются естественным разумом».
В конце письма Декарт говорит, что «его (Коменского. — С. С.) намерения обнаруживают столько хорошего, что, если даже ему что-либо еще недостает, он не лишается права на высокое уважение».
Несомненно, несогласие Декарта с Коменским по некоторым важным пунктам объясняется различием в складе мышления, во взгляде на мир. Возможно, не последнюю роль сыграла здесь неполнота изложения идеи Пансофии. Поспешность издания, как и предполагал Коменский, оборачивалась лишними упреками. Но как бы то ни было, плодотворность многих мыслей Коменского признавал и сам Декарт, и другие философы и ученые.
Гартлиб торжествует. Он не ошибся в оценке сочинения Коменского, в его личности! Безусловно, Ян Амос должен стать во главе великого дела создания Пансофии международной коллегией ученых. С присущей ему энергией Гартлиб принимается за осуществление своего плана. Ведь только английский парламент правомочен принять решение об организации ученой коллегии для разработки Пансофии под руководством Коменского. Гартлиб не жалеет на хлопоты ни сил, ни времени. Он убеждает влиятельных друзей в парламенте, обращается за помощью к известным ученым, к общественному мнению.
Между тем громкий успех Пансофии вызывает оппозицию в среде чешских братьев. В адрес Коменского раздаются обвинения в том, что он способствует расширению кальвинизма, что ради своей Пансофии он отступает от канонов веры. Находятся люди, не брезгающие оскорблениями и клеветой. С болью и горечью Ян Амос выслушивает обвинения. Порой он видит, как некоторые люди при встрече с ним опускают глаза, порой ощущает за своей спиной шепоток. Он упорно защищается. «Я хочу сплотить людей единством знания, — повторяет он, — способствовать их просвещению». Глухота тех, к кому он обращается, причиняет ему страдания. По ночам он не может уснуть — тяжелые мысли не дают покоя. Судьба всегда была к нему сурова, но он преодолевал себя и не сгибался, чтобы продолжать борьбу во имя общего дела, ради гонимых братьев. Он всегда чувствовал себя частицей общины. Ему верили, на него надеялись, и это давало ему силы, чтобы продолжать жить, даже тогда, когда отчаяние хватало за горло. И вот теперь...
Неужто так мало надо, чтобы братья забыли обо всем? Нет, возражает себе Ян Амос, держать на сердце обиду на простых людей нельзя. Разве они виноваты, что не разбираются в богословских спорах и не могут отделить ложь от правды? «Святая простота!» — воскликнул Ян Гус, когда богобоязненная старушка подложила хворост в костер, на котором его сожгли... А ведь ради бедных людей, как эта старушка, Ян Гус принял мученическую смерть!
Дело, однако, доходит до того, что Коменский вынужден публично отвечать на обвинения. Дважды — перед знатными покровителями церкви в замке Лешно, а затем, два месяца спустя, перед синодом в лешненском храме — Коменский обосновывает, защищает свой труд. И дважды он получает одобрение и пожелание успехов в благом начинании.
Отныне Коменский не одиночка, втайне творящий неведомое, за ним авторитет и поддержка общины. В ходе подготовки к защите рождается новое сочинение: «Освещение пансофических опытов, сделанное в интересах критики», где он отвечает на каждый пункт обвинения, с присущей ему энергией разворачивает убедительную аргументацию в защиту своих идей.
Многие члены синода испытывают неловкость: их знаменитый брат вынужден оправдываться! Не слишком ли далеко зашли его обвинители? Даже недоброжелатели Коменского покорены логикой аргументов философа, величием идей Пансофии. Коменский, его труд оказываются выше зависти, интриг, недоброжелательства. Ян Амос продолжает работать, но дело подвигается медленно. Облыжные обвинения даром не проходят...
Именно в это время по настоянию общины и правителя Лешно Коменский становится ректором лешненской гимназии — на его плечи ложится руководство гимназией со всей массой неотложных и разнообразных дел. Ян Амос переживает трудную пору: ректорские обязанности занимают все его время и силы, для работы над Пансофией остаются ночи, но и тут сомнения охватывают его, и часто он сидит с пером в руке, неподвижно глядя в одну точку.
Идут письма от Гартлиба. Он сообщает, что уже нашел двух, а затем трех людей для совместной работы над Пансофией, и настаивает на встрече для распределения обязанностей — в Лондоне, Амстердаме, Гамбурге, где удобнее Коменскому. Можно еще ближе — в Щецине или Гданьске... Ян Амос вынужден отвечать отказом: должность ректора не позволяет ему отлучиться. С горечью повторяет Коменский свой отказ в ответ на новые приглашения Гартлиба, понимая, что энтузиазм мецената может иссякнуть — тогда рухнут все планы, связанные с пансофическими трудами. Где же выход? Остается надеяться разве что на чудо...
И оно происходит. В один из июньских дней 1641 года Коменский получает сразу три письма — все от Гартлиба, одинакового содержания, но посланные тремя разными путями, чтобы застраховаться от дорожных случайностей. Он настаивает на немедленном приезде Коменского в Лондон на совещание, чтобы обсудить план работы над Пансофией. Гартлиб не просит, как обычно, а настаивает. Из письма явствует, что того требуют новые благоприятные обстоятельства. Ян Амос сообщает об этом письме священникам и старейшинам церкви. Чудо продолжается: после короткого совещания Коменского отпускают, а руководство гимназией во время его отсутствия передается проректору и соректору.
С радостью собирается Ян Амос в дорогу. Он словно выпрямляется, сбрасывает с себя путы. Только сейчас со всей остротой Коменский чувствует, каким мучительно тяжелым был прожитый год, как безмерно устал он от постоянных тревог и сомнений, как необходимо ему освобождение. Но когда наступает час прощания, грусть сжимает сердце: как одиноко будет без семьи, без Доротеи, ставшей как бы частью его самого! И без братьев общины. Без тех, чью поддержку он ощущал в самые тяжелые минуты жизни.
***
...В Гданьске Коменский сел на корабль, отправляющийся в Англию. Стоя на палубе и вглядываясь в необозримые морские просторы, среди которых терялся его корабль, Коменский испытал чувство, пережитое им в юности, когда, глядя в бездонное звездное небо, он ощутил бесконечность Вселенной, а себя ничтожной пылинкой, затерянной в ее пространствах. Да, ничтожным кажется человек перед лицом вечной природы, ее могучей стихии. Поднимись эти валы повыше — и они, как песчинку, подхватят корабль и низвергнут в пучину. Но эти мысли не вызывают страха. Коменский любуется величием и мощью свободной стихии. Он ощущает свою слитность с природой. Пусть он всего лишь песчинка в этих просторах, но душа его готова вместить их. Человек ничтожен, но и велик, ибо, будучи частицей природы, он обладает разумом, способным постичь ее внутренние законы. И не в этом ли постижении, столь же бесконечном, как и сама природа, состоит высшая мудрость человеческого бытия?
И, словно испытывая волю Коменского, разражается шторм. Искусство и мужество капитана и матросов спасают корабль — и в борьбе со стихией человек способен на многое, — но парусник снова прибивает назад, к Гданьску. Коменскому приходится отправляться в путь вторично. С интересом наблюдает он за работой матросов, беседует с ними, прислушивается к их языку. Постоянные опасности укрепили их волю и характер, развили чувство взаимопомощи, но не сделали жестокими. Коменский давно заметил: жестокость — удел трусливых. Она и есть проявление трусости. Наемники Фердинанда, издевавшиеся над безоружными крестьянами, бежали в панике, когда встречали организованный отпор. Торжество грубой силы — это торжество тьмы.
Закутавшись в плащ, Коменский всматривается в наплывающий берег. Все ближе лес мачт, а за ним, где-то там, вдалеке, огромный многолюдный город. Волнение охватывает Коменского, когда в потоке пассажиров он спускается по трапу и ступает на пристань. В глазах рябит от множества лиц, но, к его удивлению, чьи-то руки подхватывают его багаж, и от группы нарядно одетых людей отделяются двое и идут к нему. Ничего подобного Ян Амос не ожидал, но, оказывается, его имя здесь на устах у всех. Потом он узнает, что его и пастора Дюри,[102] выступающего за объединение протестантских церквей, пригласил парламент и что этого добилась сильная парламентская группа, стоящая в оппозиции к королю Карлу I[103] и его клике. Выдающиеся умы, ученые и писатели, в их числе поэт Джон Мильтон,[104] примкнули к этой группе, которую возглавляет влиятельный политик Джон Пим.[105]
Гартлиб устраивает Коменского в своем доме на Дюк Плейс. Он приглашает портного, чтобы тот сшил Яну Амосу платье, принятое у английских священников. Начинается жизнь, отнюдь не похожая на «ученое затворничество», к которому готовился Коменский. В Лондоне на него своеобразная мода. Наперебой приглашают знаменитого чеха духовные пастыри, государственные деятели, знатные господа. Яна Амоса принимает епископ Линкольнский, недавно освобожденный парламентом из тюрьмы. Он спрашивает, привез ли Коменский семью, и, получив ответ, просит это сделать, обещая хорошее обеспечение.
В одну из последующих встреч, проникшись к Коменскому доверием, епископ с полной откровенностью раскрывает перед Яном Амосом всю остроту внутренней борьбы между королем и парламентом и предрекает кровавую гражданскую войну.
— Наш король Карл I — слабый, двоедушный и тщеславный человек, — говорит он, — который не заботится о подданных, о государстве и даже не может понять, в чем состоят его подлинные интересы. Он не видит и не желает видеть новых людей, составляющих силу и цвет нации. Под стать королю глава английской церкви архиепископ Дод, слепо исполняющий королевскую волю.
— Кто же эти новые люди, за которыми будущее? — спрашивает Коменский.
— Это те, кто обладает энергией и трудолюбием, производит необходимые вещи, развивает сельское хозяйство, посылает корабли с товарами в дальние страны, строит, прокладывает дороги. Это предприниматели, купцы, юристы, ученые, врачи — все, кто заботится о просвещении и развитии наук... Они не хотят внутренних раздоров, они лишь просят у короля восстановления исконных вольностей, дарованных парламенту Великой хартией вольностей. Однако недавние события показали, что король и его приспешники глухи к голосу разума. Они способны на все... Я и сам не знаю, — неожиданно признается он Коменскому, — что меня ждет. То же самое могут сказать многие люди, чье благородство и добропорядочность хорошо известны. Ужасные времена! Никто не чувствует себя в безопасности... — Епископ обрывает себя, откидывается в кресле.
Ян Амос не прерывает молчания. Ему понятно волнение священника, пострадавшего от произвола.
— Я хочу, чтобы ты понял, что у нас происходит, — продолжает епископ после минутного молчания. — Я предвижу страшные события. Борьба между королем и парламентом не кончится миром. После казни главного королевского советника Стаффорда, обвиненного парламентом в государственной измене, парламент провел постановления, которые ограничили власть короля и укрепили демократические основы государства. Были отменены незаконно взимавшиеся налоги и пошлины, реформирован тайный совет короля, уничтожены «звездная палата»,[106] «палата прошений», «высокая комиссия» — они были слепым орудием в руках короля, — реформирован также Северный совет и совет Уэльса, сделано и многое другое, полезное для государства и народа...
— Но мне говорили, что как раз этой весной были волнения среди крестьян и ремесленников...
— К сожалению, это так, и парламенту пришлось принимать меры, чтобы восстановить в стране спокойствие. Народ пребывает в темноте и всегда готов идти за смутьянами.
— Народ — бедный ремесленный люд и крестьян — угнетают все сословия, поэтому он всегда готов подняться за лучшую долю. Сословия борются за власть, а о народе не думает никто.
Коменский вздохнул:
— Беднякам остается взывать к небу...
Брови епископа слегка поднялись:
— Народ неразумен, его надо просвещать и учить уважать законы. Именно к этому мы и стремимся. Упаси нас боже от его разрушительной темной силы, которая все сметает со своего пути.
Только сейчас, слушая епископа, Ян Амос ощутил всю остроту борьбы враждующих лагерей. Ясно, что новые люди, какими бы они ни были, рвут старые феодальные путы, мешающие свободному развитию государства, и будущее принадлежит им. Они и поддержали Гартлиба, энтузиаста развития наук и объединения ученых. Эти люди понимают, какую пользу человечеству может принести наука. Но события внутренней междоусобицы развиваются стремительно. До Пансофии ли сейчас его друзьям?
Остаток дня Коменский бродит по Лондону. Его захватывает многолюдный город, кипучая уличная жизнь, обилие торговых лавок, где продаются товары со всего света, множество деловых контор. Ян Амос заходит в книжные лавки, наблюдает, с какой тщательностью выбирают книги люди разных сословий — священники, врачи, юристы, студенты, дворяне, даже знатные господа. Большинство из них те, что относятся к классу энергичных деловых людей, составляющих опору парламента и готовящихся к решительной схватке с королем. Этим людям принадлежат мастерские, где работают многие десятки тружеников.
В Лондоне немало таких мастерских, построенных иначе, чем устаревшие цеховые (здесь их называют мануфактурами), но еще больше за городской чертой. Централизованные мануфактуры — это большие производства с разделением труда, которым тесно в цеховых объединениях с их строгими регламентациями. Ян Амос подумал об этом, так как недавно прочитал балладу, изданную отдельной брошюркой, в которой прославляется мануфактура «достославного и почтенного суконщика Джека из Ньюбери». Читая эту балладу, можно подумать, что нет ничего более приятного на свете, чем целый день без устали чесать шерсть или ткать шерстяную пряжу ради обогащения «достославного и почтенного суконщика Джека из Ньюбери» и ему подобных.
Яну Амосу рассказали, что бурное развитие шерстяной мануфактуры привело к разорению деревень, к полному обнищанию крестьянства. Еще Томас Мор в «Утопии» заметил, что овцы стали такими прожорливыми и неукротимыми, что поедают людей. Огораживатели, сгоняющие крестьян с земли и занимающие пашни под пастбища, как говорил Томас Мор, обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделанной земли. Богатства и нищета взаимосвязаны: чем больше одни богатеют, тем глубже, безысходней становится нищета бедняков. А в то же время те же люди, что богатеют от разорения других, поддерживают Пансофию, способствуют развитию наук.
Жизнь запутана и противоречива. Ведь именно единомышленники Джона Пима готовят для него, Коменского, удивительное предложение: начать разработку системы Пансофии вместе с двенадцатью другими учеными. И тогда осуществится особенно близкая англичанам мечта Бэкона о создании коллегии ученых, занимающихся исследованиями на пользу человечества. Вот тогда сам процесс познания окружающего мира объединит людей, размышляет Коменский. Неужто это действительно произойдет? От одной этой мысли у Яна Амоса замирает сердце. Он живо представляет себе, как идеи о мирном преобразовании человеческого сообщества распространяются по всем странам, как повсюду основывают подобные коллегиумы и открывают новые школы. Стремление к свету, к знаниям, одушевленное высокими нравственными идеалами, постепенно объединяет всех людей, исправляя, очищая нравы...
Пока же тягостные впечатления охватывают Яна Амоса, когда он бродит по Лондону, городу великих контрастов, нищеты и богатства, просвещения и невежества, демократии и произвола.
Миновав респектабельные кварталы знати и богачей, он оказался в грязных, полутемных, кривых улочках, где жил бедный люд. Здесь не было ни школ, ни лавок с витринами, ни церквей. Из подвалов доносились пьяные голоса, крики, ругательства. Раздался свист, и чумазые дети в лохмотьях мигом окружили его, прося милостыню, стараясь перекричать друг друга. Коменский роздал все, что у него было. С тяжелым сердцем продолжал он свой путь. Пьяная женщина в разорванной одежде, с растрепанными волосами, покачиваясь, стояла у стены полуразрушенного строения без окон, где когда-то, вероятно, был склад. Оттуда слышался детский плач. В этих трущобах находили пристанище бродяги, нищие, воры, грабители — все, кого выбросил на дно великий город. Джентльмены появляться здесь не рискуют.
Добравшись до Дюк Плейс, где за чугунной решеткой возвышался богатый дом Гартлиба, Ян Амос словно оказался в другом мире. Светило солнце, шагали нарядно одетые люди, катились красивые экипажи. Коменский торопливо прошел в отведенную ему комнату и сразу же сел за письменный стол. Он почувствовал настоятельную потребность осмыслить разноречивые впечатления, понять, что происходит в этой стране, где ему предстоит жить и работать.
Между тем напряжение борьбы парламента с королем нарастает. Тяжелое положение, в котором оказался английский абсолютизм после поражения в шотландской войне, подъем революционного движения в самой Англии ослабили ее позиции и в Ирландии, где копилось возмущение захватнической политикой Стюартов. Оно вылилось в открытое восстание. Национально-религиозное движение (местное население было католическим и выступало против английских протестантов-колонизаторов) возглавил ирландский парламент, объявив в особой декларации, что ирландцы — свободный народ, который должен управляться на основании общего права Англии и ирландских статусов и обычаев.
Весть об ирландском восстании вызывает в Англии тревогу. Парламент увидел в нем угрозу для английских колонистов и возможность католической реставрации. Поползли слухи, что мятежники действуют от имени короля, что ведутся тайные переговоры с католическими державами. Политическая атмосфера накаляется.
Гартлиб пребывает в нервном напряжении. Его друзья, возглавляющие в парламенте оппозицию против короля, готовят «Великую Ремонстрацию», то есть требования о восстановлении конституционных прав парламента, нарушенных и нарушаемых королем и его правительством. Вокруг Ремонстрации завязывается острая борьба. 1 декабря 1641 года Ремонстрация, наконец, принимается парламентом и представляется королю. Одновременно палата общин выносит постановление об ее печатании и распространении. В парламенте прекрасно понимают, какой взрывчатой силой обладает этот документ. Друзья Гартлиба торжествуют. Новый покровитель Коменского епископ Линкольнский становится архиепископом Йоркским. Полная победа близка, и Гартлиб просит Коменского еще немного подождать. Как только в стране установится порядок, они немедленно приступят к осуществлению задуманного. Речь идет о нескольких неделях!
Однако именно в этот срок происходят события, приблизившие начало открытой вооруженной борьбы. Получив «Великую Ремонстрацию», Карл I приходит в ярость. Он отчетливо сознает, что ситуация чревата революцией. Раздраженный выдвинутыми против него обвинениями в заговоре против свободы королевства и в поддержке ирландского восстания, Карл I в свою очередь обвиняет пятерых членов парламента — вождей оппозиции Пима, Гэмпдена, Гэлльса, Гезильриджа и Строда — в государственной измене, в поддержке шотландских мятежников и приказывает их арестовать. Но его план срывается. Карл I так и не в состоянии до конца понять глубину революционной ситуации. Даже палата лордов отказывается отдать распоряжение об аресте пятерых членов парламента. Карл I с вооруженным отрядом появляется в Уэстминстере, но палата общин не выдает своих депутатов. Пятеро вождей оппозиции укрываются в лондонском Сити, решившим их защищать силой оружия. На помощь военному отряду, охраняющему Сити, спешат матросы из доков. Карлу приходится отступить, и неделю спустя пятеро членов парламента торжественно возвращаются в Уэстминстер. Народ их шумно приветствует. А Карла I уже нет в Лондоне: за день до победного возвращения депутатов парламента он покидает столицу и Уайтхолл. Вызов брошен: на пороге стоит гражданская война...
О созыве коллегиума ученых уже никто не помышляет. Пансофия, которая еще месяц назад была реальностью, снова становится недостижимой мечтой. Мысль об отъезде все больше укореняется в сознании Коменского. Друзья просят его подождать: победа парламента заставит замолчать роялистов, говорят они, в стране воцарится спокойствие, и тогда они осуществят свой план. Коменскому приходится согласиться переждать в Лондоне хотя бы зиму, тем более он еще не решил, куда ехать. Не теряя времени, Ян Амос продолжает напряженно трудиться. Он изучает литературу, нужную для Пансофии, и пишет сочинение «Путь света», где обосновывает идеи мира между народами, всеобщей гармонии, универсального языка, который помог бы общему взаимопониманию, намечает главные направления для деятельности коллегиума ученых.
Мысли о создании Пансофии как пути к лучшему будущему человечества, ее значении для объединения людей выливаются в целостную картину. Казалось бы, удивительный парадокс: в стране начинается гражданская война, бушуют политические страсти, а Коменский пишет сочинение о всеобщей гармонии, о пути к миру, к единению людей. Он словно всматривается в даль, в будущее, где видит то, что скрыто от других.
Друзья высоко оценивают фрагменты из «Пути света», но об издании сочинения не может быть и речи. Теперь они и сами считают, что Коменскому до лучших времен следует уехать в более спокойное место. Об отъезде говорят в своем письме и старейшины общины, об этом умоляет жена. Ян Амос перечитывает приглашение из Франции от кардинала Ришелье.[107] Несмотря на советы друзей, Коменский не решается на эту поездку. Франция сама сотрясается от внутренних раздоров, спокойствия там ждать нечего, да и найдет ли он единомышленников в католической стране? Ян Амос просит поехать во Францию своего друга Иоахима Гюбнера и хорошенько разузнать, в чем дело. С рекомендательными письмами и ответом Яна Амоса Гюбнер отправляется в путь. Однако он застает кардинала умирающим, а от его секретаря узнает, что Ришелье был готов основать для Коменского пансофическую школу. Кардинал стремился возвести здание просвещенной могущественной Франции, долженствующей занять в Европе главенствующее положение. А усиление Габсбургов этому мешало, поэтому Франция и выступила на стороне антигабсбургской коалиции.
Эти мотивы понятны Коменскому, и все же для прибежища своих трудов он мысленно обращается к Швеции. Приглашение в эту страну он получил от богатого голландского купца и промышленника де Геера, доверенного человека могущественного шведского канцлера Оксеншёрны.[108] Коменский отвечает ему извинительным письмом за отказ приехать, мотивируя его взятыми на себя обязательствами перед англичанами. Но теперь он освободился от них. Не принять ли приглашение де Геера? Поездку в Швецию одобряли и английские друзья. Конечно, спокойнее всего было бы в Голландии, ранее других сбросившей с себя путы фанатизма и мракобесия. Но лютеранская Швеция активно выступила против Габсбургов, и у Коменского появится возможность что-то сделать для облегчения судьбы чешских изгнанников. Это соображение решает дело, тем более что Людовик де Геер обещал увеличить размеры помощи чешским братьям. Завершив работу над книгой «Путь света», в июне 1642 года Ян Амос покидает английскую землю. И все же по дороге он непременно должен заехать в Голландию, куда давно зовут его единомышленники. Сердце тянется к этой стране, где дышится вольнее всего.
Английские друзья произносят последние напутствия. Снова повторяют они, что, как только в стране воцарится спокойствие, Коменский должен вернуться в Англию и продолжить великое дело. Поэтому там, в Швеции, ему не следует отвлекаться на второстепенные занятия, а нужно сосредоточиться на Пансофии. Зная его неутолимый интерес к книгам, они советуют не терять времени на чтение и целиком посвятить свое время самостоятельным исследованиям. Кроме того, он не должен искать сотрудников и передавать кому-либо это дело до возвращения в Англию.
Коменский еле заметно улыбается: ну вот, на него уже предъявляют права, чуть ли не видят в нем свою собственность! А он принадлежит истине и всем людям. Никому в отдельности — всем! Но прежде — братьям, родине. Ради нее, ради истерзанной Чехии взваливает на себя он бремя обязательств. Но человеку необходима и свобода. Свобода мысли, научного поиска. Ведь и выполнение долга имеет своей конечной целью свободу. Как же совместить долг и свободу, когда они вступают в противоречие? Вечная дилемма, встающая перед философом, если он считает себя не вправе отрешиться от людских забот.
Да, да, повторяют друзья Яну Амосу, не следует никому передавать дело Пансофии до возвращения в Англию. В их настойчивых пожеланиях сквозит уверенность, что лишь славная передовая Англия предназначена для обитания истины. «Друзья мои, — мысленно отвечает Коменский, — истина принадлежит всем. Какая разница, где она будет открыта?» Но он не произносит этих слов. Они могут быть неверно истолкованы, а Коменский не хочет обижать людей, близких ему по духу, оказавших ему гостеприимство.
Последние минуты прощания на пристани. Самуил Гартлиб обнимает Коменского. Ему искренне жаль расставаться с этим замечательным человеком, обладающим глубоким умом, сильной волей и добрым сердцем. В глазах Яна Амоса Гартлиб прочитывает ответное чувство. Свидятся ли они когда-нибудь?
И пока, скользя взглядом по морской глади, Коменский думает о будущем, в Голландии, которую он должен посетить по дороге в Швецию, готовятся к встрече. К Коменскому, продолжающему считать себя скромным учителем общины, пришла мировая слава. Предложение англичан стать во главе международного коллегиума ученых дало ей новый мощный импульс.
...Спускаясь с корабля в Гааге, он еще не верит, что делегация почитаемых горожан в красивых одеждах встречает именно его. Слушая их торжественные речи, Коменский вспоминает, как четырнадцать лет назад он приезжал сюда к Фридриху Пфальцскому посланцем чешских братьев. Тогда никто не обращал на него внимания, теперь он в центре выражающих неподдельный интерес людей. Его голос услышан, значит, возросла ответственность перед братьями. Коменский не успевает оглядеться, как на него уже сыплются заманчивые предложения. Ян Амос выслушивает их с признательностью, но, увы, он давно не принадлежит себе. Есть обязательства, долг. Жизнь в покое не для него, пока томятся в изгнании братья, пока под солдатским сапогом стонет Чехия.
В Лейдене Коменского также встречают видные профессора, священники города. Снова все повторяется: приветственные речи, лестные предложения. Магистр Геереборд сопровождает Коменского в его встречах с коллегами. На одной из них профессор Голий сообщает, что получил письмо от брата, путешествующего по Азии, где говорится, что «Открытая дверь языков» переводится на арабский, турецкий, персидский, монгольский языки...
Новость вызывает восхищение присутствующих. Перевод книги на восточные языки — явление редкое и означает исключительное признание.
Быстро летит слава впереди Коменского. В Амстердаме имя Яна Амоса было известно и раньше. Местная консистория с давних пор оказывает чешским изгнанникам постоянную помощь. И вот теперь Ян Амос должен лично встретиться с ее руководителями, от имени общины выразить благодарность. Среди встречающих находится и Лаврентий де Геер, старший сын Людовика де Геера, поддерживающего чешских братьев. С ним его воспитатель Готтон, с которым Коменский переписывался, живя в Лешно, и чешский священник Ян Рулик, друг де Геера. Все они искренне рады Коменскому. Ян Амос вспоминает счастливые годы, когда в Европе царил мир, и он, полный сил и надежд юноша, завершивший учение в Герборнском университете, добрался до Амстердама и без устали бродил по городу, восхищаясь его каналами, домами, многолюдным разноязыким портом, и ему казалось, что попутный ветер, сильный, добрый, ветер вольности и надежды, подхватив, несет его и весь мир в своей необозримости щедро распахивается перед ним, как это море, лежащее у порога города. С той поры порт расширился, да и сам Амстердам заметно приосанился, а вот мир, в который пришла война, как бы сузился, и ветер, обещавший так много, дует в лицо, колет иголками, норовит сбить с ног...
В словах Коменского звучат горькие ноты. Лаврентий де Геер удивлен: что может печалить знаменитого ученого, перед которым открыты двери во многих странах Европы? По недоумению, отразившемуся на лице молодого человека, Коменский догадывается об этих мыслях. Что ж, вероятно, Лаврентий еще не понимает, что нельзя быть счастливым, когда родина переживает трагедию. Да, вздохнув, продолжает Коменский, словно освободившись от тягостных мыслей, Амстердам он полюбил с той молодой поры. Здесь легко дышится, он бы с радостью остался в этом славном городе, но есть обязательства. Чем человек становится старше, обращается Ян Амос к Лаврентию, тем больше появляется обязательств. Таков закон жизни... Незаметно пролетает день, а на следующее утро — отплытие судна, делающего остановку в Бремене. Коменский выглядит утомленным, было много встреч, — ни от одной из них Ян Амос не считал себя вправе уклониться.
...И вот уже Бремен. Голландия позади. Снова торжественная встреча. Профессора, священники, значительные лица города. По просьбе магистрата Коменский задерживается на несколько дней для разъяснения принципов «Дидактики» и Пансофии. Латинский язык здесь изучают по его «Двери языков». Ян Амос беседует с профессорами, учителями, без устали отвечает на многочисленные вопросы. Отцы города приглашают его остаться для педагогического руководства школами. Ян Амос ищет слова для отказа — с каждым разом ему все труднее произносить их. Вечером накануне отъезда к нему приходят соотечественники. Ян Козак, врач из Гораздевиц, представляет Коменскому чехов, учившихся в городской латинской школе. Многие из них сами стали учителями.
Ян Амос рассказывает о последних событиях, происходящих на родине. Страшная картина разворачивается перед соотечественниками. В истории бывают моменты, когда борьба за человека, его достоинство сосредоточивается больше всего в каком-то одном месте. Ныне в Европе это Чехия. Слова Коменского западают в душу, заставляют задуматься, может быть, принять какие-то новые жизненные решения... Незаметно разговор переходит на профессиональные темы. Коменского засыпают вопросами. Он отвечает, мысленно обращаясь к «Великой дидактике», лежащей мертвым грузом. Как она была бы полезна сейчас молодым учителям!
Наутро Ян Амос отправляется в Гамбург, там ждут его профессора Юнг и Тасс, которых Коменский хотел бы видеть своими сотрудниками в работе над Пансофией. Ян Амос долго беседует с Юнгом, сетующим на разноречия и конфликты среди теологов-протестантов. Его привлекают идеи Пансофии, но пришло ли время для их осуществления? Европу сотрясают войны. Но если усилия Коменского будут успешны, он, Юнг, готов идти за ним... В Любек Ян Амос едет вместе с шестью польскими дворянами, которые на почетных условиях просят его поселиться в Польше. Ян Амос вынужден без конца повторять о данном шведам слове.
Лишь на корабле, плывущем в Швецию, у Яна Амоса появляется, наконец, время, чтобы спокойно разобраться в своих впечатлениях. Вспоминая встречи в городах Европы, Коменский пытается понять причины столь неожиданной для него громкой славы. Вероятно, его идеи отвечают пусть смутному, но все более крепнущему ощущению людей, что человечество — одна семья. Европа устала от войн, от розни между народами и странами, от жестокости, деспотизма, несправедливости, грядет новый век — век науки, просвещения, и его современники, почувствовавшие необходимость перемен, ищут новые пути. И все-таки не следует обольщаться! Новые времена несут с собой не только стремление к свободе и знаниям. Рядом идут своекорыстие, жестокость, беспощадная борьба за власть. Появился новый могущественный класс людей энергичных и предприимчивых. Они требуют новых законов, дающих всем равные права, они за гласность, за демократический парламент. Но они, так же как короли и их приспешники, готовы без зазрения совести угнетать несчастный народ! Новые времена... Кто возвестит об их приходе? Те, кто провидит будущее дальше других, властью не обладают. Большинство из них замыкаются в своих одиноких размышлениях. Если бы ученые, объединившись, подняли свой голос! Но и будет ли он услышан?
Невеселые мысли обуревают знаменитого человека, когда он, стоя на палубе трехмачтового судна, плывущего в Швецию, прислушивается к свисту ветра в парусах, часами наблюдает, как вал за валом катятся свинцовые волны. Как сложится его пребывание в Швеции? Сумеет ли он там повлиять на отношение могущественной страны к Чехии, к братьям?
Море своей безмерностью напоминает Коменскому о великих вопросах бытия и в то же время о бесплодности одиночества (человек, затерянный в морских просторах, — прекрасная аллегория одиночества и отчаяния). Но тут же возникает мысль, что одиночество философа не бесплодно, ибо рождает истины, необходимые людям. Теперь, когда Ян Амос может без помех предаваться своим мыслям, он снова возвращается к беседе с великим отшельником, знаменитым французским естествоиспытателем и философом Рене Декартом, чье местонахождение скрывается от посторонних. Когда же Ян Амос оказался в Лейдене и выразил желание посетить Декарта, друзья устроили эту встречу и проводили его в уединенный замок Энджест, где мыслит и живет прославленный ученый и философ. Именно так — мыслит и живет, ведь это ему принадлежат крылатые слова, облетевшие весь мир: «Мыслю — следовательно, существую».
...Как только они вышли за черту города, показался силуэт замка, стоящего в живописном месте на зеленом холме. И вот Коменский со своими спутниками в молчании поднимается по лестнице, ведущей в покои Декарта. Невольно думает он об этом замечательном человеке. Восхищает блеск его ума, скептического, острого, беспощадного. Как и весь ученый мир, Ян Амос преклоняется перед математическими и физическими работами великого натурфилософа и естествоиспытателя. Декарт решительно пересматривает все установившиеся научные понятия. Для того чтобы объяснить явления природы, происхождение Земли и всего сущего, ему достаточно первого толчка, а затем все в природе движется, развивается по своим внутренним законам, объясняет он и выдвигает свою теорию эволюции мира.
Да, Декарт не верит ничему, чего не познал и не определил сам. Именно сомнение, полагает ученый, должно привести философию к положительным исходным аксиомам; сомнению, критике следует подвергнуть все области знания. Как много Ян Амос хотел бы спросить у великого человека, как хотел бы поделиться мыслями! Ведь Декарт верит в то, что человек способен познавать мир с помощью разума и интуиции, и эта вера не может не сблизить их. Декарт, как и он сам, стремится объединить усилия ученых в познании мира. Ради этой великой цели Декарт предлагает свой научный метод познания. Его замечательное сочинение «Рассуждение о методе для хорошего направления разума и отыскания истины в науках» указало и расчистило, подобно «Новому органону» Френсиса Бэкона, путь для развития науки. Поистине это сочинение дает в руки исследователя ключ к раскрытию тайн природы. А какое богатство содержания, какая стройность в его «Размышлениях о первой философии»!
Прошло несколько минут, как Коменский и его друзья поднялись на второй этаж замка и, следуя за молодым человеком, вероятно учеником Декарта, двинулись по длинной галерее. Всего несколько минут — но сколько мыслей вызвало одно сознание, что сейчас он встретится с самим Декартом! Но вот вся группа вступает в небольшой зал, уставленный книжными шкафами. Сопровождающий их молодой человек знаком просит подождать и скрывается за дубовой дверью. Через несколько минут сам Рене Декарт, стоя на пороге, просит всех войти. После первых приветствий друзья оставляют Коменского наедине с Декартом, чтобы не мешать их беседе...
Худощавый, с аскетическим лицом и чуть заметной скептической улыбкой, Декарт поначалу не располагает к откровенности, но вскоре скованность исчезает и возникает живая беседа. Декарт понимает, как трудно Яну Амосу. Нелегка доля изгнанника, но еще горше сознание бессилия: хозяева положения те, у кого в руках сила. Что остается мыслителю?
— Не бросать свой народ, — отвечает Коменский, — вместе с ним бороться за лучшее будущее.
Декарт наклоняет голову. Ему по душе мужество философа. Но что может он противопоставить грубой силе? А уж как проявляет себя разнузданная солдатня, Декарт знает. И ученый рассказывает, что в молодости он пошел в армию, находился в войсках католиков, принимавших участие в битве под Белой Горой. В сражении, правда, не был. Оказавшись в Праге, он провел много дней в беседах с астрономом Кеплером. Это были прекрасные часы. Они говорили о законах небесной механики, вспоминали Тихо де Браге.[109] Потом вместе с баварцами он пошел в Моравию. К сожалению, военный мундир отпугивал от него местных жителей, и не случайно: баварцы и наемники показали себя жестокосердным отребьем. К счастью, он быстро понял, что армия и война не для него. И все же эти годы он не считает потерянными.
— Я придерживаюсь того мнения, — заключает Декарт, — что философ должен знать жизнь. Это помогает ему не слишком отрываться от грешной земли и стремиться во всем к ясности и определенности.
— Философ не должен забывать, — соглашается Ян Амос, — что он человек и не отторгать себя от людей.
— Да, человек... — задумчиво повторяет Декарт. Неожиданно он говорит, что недавно у него умерла пятнадцатилетняя дочь. Голос его срывается: — Францина...
Ян Амос, помолчав, говорит, что пережил такое же горе, забыть его нельзя... Декарт поворачивается к окну. Проходит несколько минут, пока он, овладев собой, готов продолжать беседу. Спокойным тоном (хотя лицо его бледно, а в глазах таится боль) он говорит, что читал книгу, изданную Гартлибом, и разделяет стремление Коменского к созданию Пансофии, но полагает, что к открытию истин надо идти другим путем, пользуясь тем методом, который он излагал в своих сочинениях. Ни шагу вперед, если нет твердого основания, — все подвергать сомнению и проверке.
В ходе обмена мнениями некоторые точки зрения сближаются, другие расходятся. Коменский, так же как и Декарт, убежденный сторонник реальных знаний о мире, добытых путем исследования, опыта и размышлений, но он полагает, что, познавая природу, человек познает бога. Декарт решительно отрицает эту связь. Их мнения различны и по другим вопросам, но любой убедительный довод оппонента каждый выслушивает с желанием понять. Спор разворачивается, но крепнет взаимное расположение. Декарт делится своими последними открытиями в математике, которые по достоинству оценивает Коменский.
— Нельзя медлить с публикацией, — говорит он.
Декарт скептически усмехается:
— А если я признаюсь, что после осуждения Галилея уничтожил одну свою рукопись, которую церковь признала бы еретической? Не знаю, что бы произошло, попадись она в руки инквизиции...
Бьют настенные куранты...
Оказывается, они проговорили четыре часа. Коменский поднимается. Прощаются они сердечно, и Декарт искренне желает своему гостю удачи в его многотрудных делах...
Корабль на всех парусах идет к шведским берегам. Ян Амос, закутавшись в плащ, стоит на палубе. Вокруг, куда ни взгляни, закручиваются белые барашки. Свистит в парусах ветер, поскрипывают мачты. Ян Амос свободно отдается то потоку воспоминаний, а то его внимание привлекает чайка, касающаяся крылом гребня волны, или ловкая работа матросов с парусами... Постепенно уходят тревожные мысли, исчезает усталость и остается море с шумом волн и вольным соленым ветром. Таинственная, всесильная природа, как всегда, передает ему частичку своей неиссякаемой энергии, укрепляет сердце и волю.
Жизнь — великий дар, и она стоит того, чтобы за нее бороться.
Глава восьмая. СИЛЬНЫЕ МИРА СЕГО СТАВЯТ УСЛОВИЯ
Шведский берег наплывает в тумане. Город, скрывающийся там, в глубине, кажется загадочным. Маневрируя, судно медленно входит в порт. Все вздыхают с облегчением, когда корабль благополучно пришвартовывается к пристани. Туман редеет, но плотная завеса моросящего дождя скрадывает очертания Норчёпинга — важного военного и торгового порта шведов на Балтике. Вот так неясно, в тумане и хмуром дожде, представляется Коменскому будущее.
На пристани Ян Амос видит спешащего к нему человека. Это посланный от Людовика де Геера. Ему поручено устроить гостя в гостинице. Сам же хозяин будет рад видеть Коменского в любое время, когда гость отдохнет после утомительного морского путешествия. Поднявшись в темноватую комнату с низким сводчатым потолком, Ян Амос устало опускается в деревянное кресло. Сквозь окно просачивается тусклый свет дождливого дня. Коменский закрывает глаза. У него возникает ощущение, что здесь он никому не нужен. Контраст с тем, что происходило в Англии, Голландии, немецком Бремене, польском Любеке, разителен. Сумеет ли он здесь чего-то добиться?
Немного отдохнув, Ян Амос отправляется к Людовику де Гееру. Хозяин богатого дома радушно приветствует Яна Амоса, осведомляется, каково его самочувствие, — ведь их судно как следует потрепало. Да, отвечает Коменский, на половине пути их застиг шторм. К счастью, капитан и матросы хорошо знают свое дело.
— А ты, Ян Амос, смелый человек, — замечает Людовик де Геер.
— Гораздо больше, чем морские штормы, меня тревожит то, как пойдут мои дела в Швеции. Поймут ли меня ваши священники-лютеране? Поймут ли, что я здесь ради развития науки, просвещения, а не для богословских споров?
— Не тревожься, в Швеции считают тебя прежде всего педагогом, реформатором школы. Кроме того, здесь знают, что ты гусит, а к гуситам наши священники относятся хорошо. У нас приняты открытые широкие диспуты. Иди на них смело. Весь вопрос в том, сумеешь ли ты убедить оппонентов. Я же со своей стороны буду выполнять обязательства относительно чешских братьев.
Разговор продолжается за обедом. Людовик де Геер дает необходимые советы. Прежде всего ему следует нанести визит Иоанну Маттие, учителю латинского языка королевы Христины,[110] ее духовнику и ближайшему советнику. Он находится сейчас в свите королевы в Оребро. И кто знает, может быть, и сама королева соизволит принять его? Это было бы полезно для Коменского — в Швеции об этом сразу станет известно.
— Не сомневаюсь, что беседа с прелестной Христиной будет интересной, — прибавляет де Геер, — но думаю, что встреча с канцлером Акселем Оксеншёрной важнее: нет человека в Шведском королевстве могущественней его. Он определяет политику государства и видит далеко вперед, недаром его называют «орлом Севера». Если канцлер тебя поддержит, то ты, безусловно, сумеешь достигнуть своих целей.
Настает вечер, когда Коменский прощается с де Геером. Беседа с меценатом развеяла некоторые опасения, но она же укрепила в мысли, что Яну Амосу придется нелегко. Итак, решено: утром он отправляется в Оребро.
Оребро встречает Коменского ярким солнцем. Голубеет ясное небо, отражаясь в прозрачных водах озера Ельмарен. Живописный городок с высокими черепичными кровлями и колоколенками, раскинувшийся на зеленых берегах озера, дышит тишиной и покоем. Иоганн Маттие радушно принимает Яна Амоса и тотчас же начинает говорить о его книгах. Он сам учитель и знает, как много зависит от методов обучения. Он в восторге от новых дидактических принципов Коменского и советует продолжать их разработку, постепенно охватывая все новые, более сложные области знания. Неожиданно Маттие спрашивает, не желает ли Ян Амос обратиться к королеве. Коменский отвечает, что такого поручения он ни от кого не получал. Чуть улыбаясь, доверенный советник королевы говорит:
— Я сообщил королеве, что ты завтра уезжаешь и что, пожалуй, она не должна отпускать тебя без почести поцеловать ей руку.
Помедлив, Ян Амос спрашивает:
— На каком языке она обратится ко мне?
— На языке образованных людей. — Маттие произносит это с гордостью: ведь именно он обучал королеву латинскому. — Итак, до завтра, — говорит он, прощаясь, — о часе аудиенции тебе сообщат.
...В парке, в глубине которого стоит замок, где разместилась королева со свитой, весело пересвистываются птицы. Под ногами Яна Амоса, идущего по дорожке вслед за дежурным офицером, поскрипывает песок. Они поднимаются на второй этаж, проходят анфиладу комнат и оказываются в зале, где на возвышении стоит роскошное кресло, оно пустое, а тонкая белокурая девушка с живым привлекательным лицом легкой походкой спешит навстречу.
— Приветствую тебя, Ян Амос! — обращается она к нему на чистейшей латыни. — Я давно хотела побеседовать со столь знаменитым философом и рада, что вижу тебя.
Коменский смущен. Он слышал об уме, образованности и экстравагантности юной шведской королевы, но не мог предположить, несмотря на предупреждение Маттие, что она так свободно владеет латынью.
— Ты удивлен, — смеется королева, — но я научилась латинскому языку по твоему учебнику, да, да по «Открытой двери языков». Прекрасная книга! Там так много интересного! Я не только изучала язык, но и узнавала много нового.
Коменский, поклонившись, произносит слова благодарности, но королева перебивает его:
— Нет, нет, Ян Амос! Это я должна благодарить тебя!.. Иоанн, — поворачивается она к советнику, стоящему за ее спиной, — усади же, наконец, почтенного философа. Я хочу о многом расспросить его.
Маттие приглашает жестом Яна Амоса сесть на золоченую банкетку, стоящую у стены, тут же для королевы появляется кресло, и она, удобно устроившись, задает свой первый вопрос о планах будущих работ Коменского.
Ян Амос рассказывает о Пансофии, ее целях. Христина умеет внимательно слушать. Коменский чувствует, что она заинтересована, в ее высказываниях проявляется природный ум и начитанность, редкостная для столь юной девушки. Коменский испытывает к ней симпатию и доверие, это чувство усиливается и тем, что она дочь отважного короля Густава Адольфа, погибшего в сражении с войсками Фердинанда. Ян Амос делится с ней своими опасениями: как-то примут его, чешского протестанта, шведские священники и ученые?
— В Швеции никто не станет мешать твоей деятельности, — отвечает королева. — Учебник твой хорошо известен, и наши учителя и священники будут приветствовать твои усилия.
— Твоя деятельность, Ян Амос, — добавляет советник, — очень важна для нас... Однако, — Маттие делает небольшую паузу, — ее успех будет зависеть от канцлера Оксеншёрны. Мой добрый совет: постарайся расположить его к себе.
Опять Оксеншёрна! «Орел Севера», «душа Швеции», «человек, значащий для страны больше, чем ее короли». Со всех сторон Ян Амос слышит, как превозносят этого деятеля, стоящего у руля правления государства, одни с почтением, даже со страхом, другие с восхищением. Кто же он на самом деле: диктатор, просвещенный правитель, великий честолюбец?
Звонкий голос королевы Христины прерывает его мысль:
— Советую тебе, Ян Амос, прислушаться к Маттие, я неоднократно убеждалась в его предусмотрительности. — Королева улыбается. — Что же касается нас, то мы... — Она выпрямляется в кресле, принимая царственную осанку, хотя глаза ее по-прежнему озорно блестят. — То мы готовы всегда оказать тебе нашу королевскую милость. — Словно подтверждая свои слова, королева протягивает Коменскому руку для поцелуя.
Канцлер Оксеншёрна принимает Коменского не в своей официальной резиденции, а у себя дома, в библиотеке. Он без церемоний усаживает Коменского в глубокое кресло, сам же предпочитает прохаживаться по просторной, устланной ковром комнате.
Канцлеру за шестьдесят, но он подвижен, походка его легка, уверенна. На лице с глубокими морщинами вдоль щек, окаймленном седеющей бородой, кажутся неожиданными светлые, полные жизни глаза. Взгляд их необыкновенно изменчив: проницательный, пытающийся схватить невысказанные мысли собеседника, ироничный, вспыхивающий раздражением, победный, как бы ставящий точку в споре.
Оксеншёрна начинает разговор о книгах Коменского. Он читал не только «Открытую дверь языков», но и «Физику» («превосходный, единственный в своем роде учебник»), и затем «Предвестник Пансофии». Эта книга, заявляет канцлер, свидетельство благородного направления мыслей и всеобъемлющих знаний автора. Лично он, Аксель Оксеншёрна, прочитал ее с большим удовольствием. Ян Амос благодарит за столь щедрую похвалу его скромных трудов. Но, как и следует из названия, добавляет он, «Предвестник Пансофии» действительно всего лишь предвестник. А он мечтает о Пансофии полной. Какую великую роль она смогла бы сыграть в объединении народов, в утверждении разума и справедливости в отношениях между людьми и странами! С увлечением Коменский раскрывает свой замысел, говорит о том, что сделано, о накопленных материалах, о написанных главах. Эту работу необходимо продолжить. Если бы ему дали двух-трех толковых помощников, то, может быть, через три-четыре года он смог бы в первом приближении завершить начатое. Не следует забывать, что работа эта и после первого издания Пансофии будет продолжаться, привлекая к себе все новые силы, ибо бесконечно познание, открывающее все новые тайны природы. Успехи науки прибавляют блага, дарованные природой, несказанно приумножают всеобщее достояние человечества.
Канцлер кивает головой. Ему понятен благородный энтузиазм Коменского. Однако он политик, обязанный думать о близкой, конкретной пользе для государства.
— Война в Европе подходит к концу, — вещает Оксеншёрна, расхаживая по комнате. — После возобновления нашего союза с Францией ее войска начали активные военные действия. Франция сумела привлечь к войне против Фердинанда Голландию, Мантую, Савойю, Венецию. В Каталонии и Португалии, как вы знаете, произошло восстание против испанских Габсбургов. Но это еще не все. Продолжая политику своего предшественника Бетлена Габора, правитель Трансильвании Георгий Ракоци,[111] наш верный союзник, уже объявил войну Фердинанду. В Северной Германии и на Рейне наши шведские войска под командованием победоносных генералов Банера и Торстенсона наносят сокрушительные удары имперским армиям.
Да, война, по существу, проиграна Габсбургами, — продолжает канцлер, — недалек час, когда Швеция утвердится на Балтике, получит новые территории в Померании, новые города. Мы будем контролировать устья великих немецких рек Одера, Везера, Эльбы и, следовательно, распоряжаться всей торговлей севера и запада Европы. Но мы не собираемся, подобно Габсбургам, узурпировать власть, — спохватился Оксеншёрна. — Мы за свободное развитие государств! Могущественная Швеция станет оплотом мирного развития и равновесия в Европе. Чтобы нести свою миссию в мир, нам нужны не только крепости и корабли, но и образованные люди, совершенные школы, реформированные и построенные по твоим проектам, Ян Амос! Не Пансофия с ее безбрежными устремлениями, а школы с реальной программой. — Аксель Оксеншёрна остановился возле Коменского и устремил на него твердый взгляд.
— Господин канцлер, — ответил Ян Амос, выдержав этот взгляд, — обрисовав картину послевоенной Европы, вы ничего не сказали о моей несчастной родине. А она на грани полного уничтожения. Неужели, первой начав войну с Габсбургами, самоотверженно сражаясь вот уже двадцать третий год, понеся в этой войне неслыханные жертвы, народ чешский не заслужил свободы и справедливого решения своей судьбы?
— О, разумеется, заслужил! Коалиция держав, которая сбросит иго Габсбургов, вернет Чехии самостоятельность, свободу вероисповедания и все былые привилегии ее сословий. Народ чешский сам решит свою судьбу. Твою тревогу я понимаю и разделяю. Могу заявить со всей искренностью, что я, так же как и господин де Геер, сочувствую чехам, которые более всех других пострадали от тирании Габсбургов. Швеция знает и помнит о тяжелой участи изгнанников, близких нам по духу чешских братьев. Ныне мы намерены оказывать им помощь в больших, чем прежде, размерах.
Коменский молча слушает. Он прекрасно понимает, о чем здесь не говорится прямо, но что имеется в виду. Помощь общине будет не в малой степени зависеть и от его позиции, от его сговорчивости. Если он согласится на условия шведов, займется тем, что их интересует, то и Оксеншёрна, и де Геер будут добрее к чешским изгнанникам. Что ж, он потому и принял предложение шведов, что они воюют против Габсбургов и могут помочь чехам — сейчас и в будущем. И все-таки надо постараться убедить Оксеншёрну, что Пансофия — не пустая мечта, что работа над ней принесет и Швеции, и всему человечеству реальную пользу.
— Я убежден, — продолжает Оксеншёрна, — что существующие школы никуда не годятся. В методах обучения есть что-то насильственное, однако в чем причина и каким способом ее можно устранить, я не знаю. Всюду, где я бывал, я обсуждал с учеными этот вопрос, но никто не мог рассеять мои сомнения. В конце концов мне называют Вольфганга Ратке. — Канцлер останавливается возле Коменского и закладывает руки за спину. — Я разыскал этого ученого. И что же? Он предлагает мне прочитать том своих «Наблюдений». Я это сделал, и мне показалось, что пороки школ он вскрывает в общем хорошо, но средства, которые он предлагает для их устранения, меня не удовлетворили, твои совсем иного сорта — они соответствуют всем требованиям в этой области... — Канцлер прерывает себя, взглядывает на часы, спохватывается, приносит извинения: у него неотложные дела. Он провожает Коменского до дверей и назначает встречу на завтра.
Во вторую встречу канцлер начинает сразу о деле. Без обиняков предлагает он Коменскому возглавить переустройство школ в Шведском королевстве. Регенты королевства избрали для этой цели его, Яна Амоса Коменского, торжественно заявляет Оксеншёрна. Дал свое согласие и епископ.
— Но это так неожиданно, — отвечает Ян Амос.
— Твои дидактические правила прекрасно обоснованы, — продолжает Оксеншёрна, — а учебники твои выше всяких похвал.
— Но без разрешения общины я ничего не могу обещать.
— Разрешение мы получим, — парирует Оксеншёрна.
— Но я обещал свое сотрудничество в Англии, как только там обстановка станет спокойнее.
Канцлер чуть усмехается:
— Там еще лет десять не будет покоя.
Коменский раздумывает. Оксеншёрна, слегка подняв брови, ждет. Ян Амос говорит, что он должен откровенно высказать свои опасения.
— Конечно, — кивает головой канцлер, — конечно.
— Ясновельможный господин, взять на себя преобразование школ всего королевства для иностранца — дело опасное, чреватое завистью. Лучше вот что: пусть будет выбран из вашего народа один или несколько человек, которые несли бы это бремя на своих плечах. Я же обещаю, что буду делиться всем, что уже найдено и что будет дано найти в этой области в результате размышлений.
— Значит, все-таки ты к нам придешь, чтобы быть с нами! — восклицает Оксеншёрна. — Пожалуй, будет разумно, — добавляет он, — если ты сосредоточишь свои силы на дидактических сочинениях. Я говорю о новых учебниках. Без них мы не тронемся с места.
Разговор продолжался до обеда. Канцлер неохотно отпускает Коменского, уславливаясь с ним о продолжении беседы утром следующего дня.
Оставшись один, Коменский подводит первые итоги. Ясно, что идея Пансофии чужда этому политику. Улучшение нравов, объединение людей с помощью знания кажутся ему химерой. Убедить его в обратном, по-видимому, невозможно. А отказаться от сотрудничества со шведами Ян Амос не имеет права: на помощь шведов рассчитывает община, а после победы над Габсбургами они смогут оказать влияние на решение чешского вопроса. Да, согласившись на предложение Оксеншёрны, он поступил правильно.
Утром все повторяется: Аксель Оксеншёрна рассыпается в любезностях, хотя его проницательные глаза, как всегда, остаются холодноватыми.
— Итак, в главном мы договорились, — резюмирует канцлер. Он делает паузу и уже другим, доверительным тоном продолжает: — Меня просил де Геер уговорить тебя переехать к нам, он готов на свои средства содержать ученых мужей, которых ты привезешь с собой. И он заслуживает похвалы за то, что, как примерный гражданин (ибо получил у нас дворянство), жаждет для своей второй родины той славы, которую может принести новая деятельность. Пламя, которое ты зажжешь, должно разгореться. От нас пойдет свет, который охватит Европу. Но я, уважая твои обстоятельства, напишу де Гееру, чтобы он больше не настаивал. Но прошу тебя, поселись недалеко от нас, переезжай жить в Пруссию или Померанию, дабы мы могли призвать тебя всегда, когда это будет нужно.
К такому предложению Коменский готов. Он называет Торунь, Гданьск. Канцлер рекомендует Эльблонг: этот польский город, где живет и много немцев, пока принадлежит Швеции.
— Это очаровательное, спокойное, подходящее для твоих занятий место, — продолжает он, — в магистрате большинство мужи ученые, тебе не будет недоставать их благосклонности. В религии они беспристрастны.
Что ж, у Коменского нет возражений против Эльблонга. Оксеншёрна удовлетворен. И теперь, когда деловые вопросы решены, Оксеншёрна предлагает продолжить разговор о Пансофии. Вещь эта очень серьезная, говорит канцлер, ибо он, как и Коменский, полагает, что лишь в условиях мира возможно торжество добра и справедливости. Но наступит ли время, когда не будет борьбы и противоречий?
— Мне кажется, — говорит Оксеншёрна, стараясь по выражению лица Яна Амоса проникнуть в его мысли, — что ты веришь в какой-то просвещенный, благочестивый, миролюбивый и, как говорят, золотой век. Это так?
— Да, так, ясновельможный господин, — отвечает Коменский, — верую.
— Умоляю тебя, как человека ученого и богослова, скажи мне, ты говоришь серьезно или шутишь?
— Будь проклят тот, кто бы посмел в таком важном деле шутить. — Коменский произносит каждое слово спокойно и твердо.
— Мы, сидящие у кормила событий, — говорит Оксеншёрна,— наблюдаем ежедневно, как легко и по сколь ничтожным причинам возникают споры, а возникнув, как нелегко они улаживаются. Следовательно, ныне, когда все на свете находится в крайнем противоречии, откуда у тебя надежда на столь всеобъемлющее примирение? Власть имущие добровольно не откажутся от своих прав и борьбы. Поэтому Пансофия не может принести мир. Его возможно лишь завоевать, да и то весьма далекий от золотого века!
— И все-таки, — отвечает Ян Амос, — человечество, сколько себя помнит, искало и другой путь. Путь братства и единения. Во все времена находились люди, которые вступали на него и вели за собой других. Их призыв всегда находил отклик, ибо в человеческой душе живут идеи справедливости и милосердия, иначе как могли бы люди отличать добро от зла? И чем иначе объяснить, что, пройдя через многие войны, люди еще сохранили человеческий облик? Но семена добра в человеческой душе надо оберегать, взращивать. Этой способностью обладает знание, обогащающее душу и разум, так как приобщает человека к тайнам бытия, приближает к постижению смысла существования.
— Ты меня не убедил. — Канцлер слегка наклоняется к Коменскому, холодок в глазах его растаял. — Да, не убедил, но беседа с тобой была интересна. Ты прав, добро привлекательно, и хорошо, что есть такие мужи, как ты. Полагаю, что так на эти вещи никто другой до сих пор не смотрел; иди же дальше по этому пути. Тогда мы достигнем, наконец, соглашения либо будет ясно, что надежды нет... — Неожиданно он выпрямляется, как бы освобождаясь от минутной слабости и снова становясь твердым, как и полагается канцлеру: — Пока же будем реформировать школы. Здесь мы сходимся. Это прежде всего.
Коменский удивлен неожиданной метаморфозой, происшедшей на его глазах с Оксеншёрной. На мгновение человек заглушил в нем голос политика, но перемена была поистине мимолетна. По-прежнему он останется прежде всего канцлером, ибо, как никто другой, знает, что нужно для вящей пользы государства. А стоит ему усомниться в своем знании, как тотчас же сработает механизм власти и выбросит его из своей орбиты. Удивительна эта таинственная сила государства, создающая типы нужных ему людей!
— Итак, мы обо всем договорились, — завершает беседу Оксеншёрна.
Он еще раз повторяет, что ничем другим, кроме составления учебников и методик, в первую очередь для изучения латинского языка, Коменский не должен заниматься. Никаких поручений из Лешно, никакого научного обмена с английскими пансофистами. На прощанье Оксеншёрна вручает Коменскому собственноручно написанное рекомендательное письмо, адресованное де Гееру. Таким образом всесильный канцлер как бы берет знаменитого ученого под свое покровительство.
Проводив Яна Амоса до дверей, Оксеншёрна опускается в кресло. Что ж, он может быть собой доволен. А к тому же и сам философ с его глубокой верой в добро и правду ему симпатичен. От знаменитого педагога действительно исходит какая-то непонятная сила. Да, такие люди, как Ян Амос, нужны, но их деятельность нужно направлять. Мысль эта как бы поставила точку в размышлениях. С Коменским он поступил мудро и дальновидно. Прекрасный день. Прекрасный вечер. Есть от чего прийти в хорошее расположение духа.
***
Вернувшись в Норчёпинг, Ян Амос рассказывает де Гееру о своих беседах с королевой и канцлером и вручает ему рекомендательное письмо Оксеншёрны. Де Геер удивлен: канцлер дорожит каждой минутой, разговаривает с людьми в присутствии секретаря, которому немедля диктует распоряжения, а тут встречается с Коменским три дня подряд, пишет собственноручно длинное рекомендательное письмо, — поистине удивительно! С интересом читает де Геер это письмо, в котором Оксеншёрна воздает должное учености и личным качествам знаменитого философа. Однако, прося де Геера о всемерном содействии Коменскому, канцлер ясно говорит об обязательствах, взятых на себя философом. Оксеншёрна подчеркивает, что они должны неукоснительно выполняться.
Итак, Коменского ждет Эльблонг. Судно, которое отправляется туда, только что пришло из Ливонии, разгружается и должно простоять в Норчёпинге несколько дней. В ожидании его Ян Амос и де Геер совершают прогулки. Письмо канцлера сыграло свою роль: де Геер предлагает оплатить расходы, связанные с пребыванием в Эльблонге не только Коменского с семьей, но и его сотрудников. Он расспрашивает о судьбе братьев, рассеянных по Европе. Коменский представляет список проповедников, вдов и сирот, находящихся в Польше и в Венгрии; не соизволит ли де Геер распространить христианскую любовь и великодушную щедрость и на этих несчастных людей? Пусть часть того, продолжает Ян Амос, что предназначено его коллегам, идет в помощь просящим.
— Не будем смешивать это, — говорит де Геер, — пусть каждое дело будет отдельно! Тебе и твоим сотрудникам я дам то, что обещал, а тем каждый год буду посылать тысячу талеров до тех пор, пока тебя оставят при этом деле. Половина пусть достанется тем, которые живут в Польше, половина — тем, кто в Венгрии. Я напишу письмо, чтобы тебя отпустили, а ты передашь его с подарками.
Коменский, таким образом, оказывается как бы заложником. Но об этом он не думает. Ради помощи нуждающимся братьям он готов трудиться без отдыха от зари до зари. И поэтому Ян Амос преисполнен к де Гееру горячей благодарности. С присущей ему отзывчивостью на добро воздает он де Гееру должное. А его покровитель, прощаясь с ним, считает не лишним еще раз повторить условия, выдвинутые Оксеншёрной. Вероятно, тогда же, перед отъездом в Эльблонг, Коменский занес их в свой дневник: «1. Чтобы я, отложив на время общенаучные работы, посвятил себя целиком окончанию дидактических сочинений. 2 Чтобы я не изменял совету, который мне дали насчет Эльблонга. 3. Чтобы в компаньоны своих трудов я предпочитал брать старательных молодых людей, а не зрелых мужей с семьями, ибо молодых легче уволить, если бы вдруг какой-то из них не годился». Де Геер, как и свойственно деловым людям, оказывается предусмотрительным. Он хочет, чтобы его деньги тратились с максимальной пользой.
Собираясь в дорогу, Коменский с надеждой смотрит в будущее. С ним будет его семья, ассистенты, и, может быть, судьба подарит ему несколько лет спокойного труда в этом тихом городке, пока Чехия не станет свободной.
Глава девятая. МОЛНИЯ В НОЧИ
Эльблонг, издавна отстаивавший свою независимость в боях с немецкими рыцарями, не обманул ожиданий Коменского. Город был красив и живописно расположен. Там царила атмосфера терпимости. Священникам различных направлений запрещалось восстанавливать верующих друг против друга — этому научила их постоянная борьба с общим врагом.
Городской магистрат радушно встречает Коменского. Старейшины обещают всемерную поддержку. Член магистрата Кой, куратор школ в Эльблонге, — горячий сторонник дидактических методов Коменского. Ян Амос начинает верить, что в Эльблонге ему улыбнется удача. И к братьям здесь он близко. Не мешкая, Ян Амос снимает дом, который ему любезно предоставляет магистрат, и спешит в Лешно, чтобы передать общине дары де Геера, денежное пожертвование и его письмо.
В Лешно его принимают с радостью и почтением. За последний год как бы по-новому, в подлинном масштабе, открылась перед всей общиной самоотверженная деятельность Яна Амоса. Братья связывают с ним свое будущее, свои надежды: ведь имя Коменского открывает двери власть предержащих — королей, государственных деятелей, епископов. Видно, сама судьба в эти гибельные времена избрала его хранителем общины, ее полномочным представителем. Выполнив поручение де Геера, Коменский готовится к отъезду. Старейшины освобождают его от всех обязанностей и дают (как о том просит в письме де Геер) для работы в Эльблонге четырех семинаристов, среди которых любимый ученик и друг Коменского Пьер Фигул. Каждому ясно, какую роль в судьбе общины может сыграть Коменский, будучи связанным с де Геером и Оксеншёрной — канцлером Швеции, которая — все верят в это — в недалеком будущем продиктует условия мира поверженным Габсбургам. И вот наступает час прощания. Напутствуемый добрыми пожеланиями, Коменский со всей своей семьей, помощниками отправляется в путь. Многие люди провожают за город дорожную карету и возок и машут руками, пока они не исчезают вдали.
Едва устроившись в Эльблонге, Коменский принимается за работу. Он прекрасно осознает, какого напряжения потребует от него выполнение обязательств перед шведами, и прерывает переписку с друзьями, никого не принимает, отстраняется от всех дел. Ему дорог каждый час, ибо и час работы над учебниками для шведских школ приближает его освобождение от обязательств и, следовательно, возможность заняться Пансофией, о которой он не перестает помышлять. Но борьба Реформации с католицизмом, которая с ожесточением ведется и на полях сражений, и средствами тайной дипломатии, и в открытых теологических диспутах, не обходит и тихий Эльблонг. И Коменский не может оказаться в стороне. Обстоятельства так складываются, что он вынужден печатно, в большом сочинении, защищать духовные установления и традиции чешских братьев. Вместе с тем он утверждает право каждого человека следовать голосу своей совести и призывает противоборствующие стороны к миру и согласию...
Время идет, а работа над учебниками продвигается медленно. Коменский совершенствует в первую очередь «Открытую дверь языков» и пишет к ней третью часть — «Дворец». Его помощники оказываются малосведущими; кроме Пьера Фигула, никто не может самостоятельно и шагу ступить.
Ян Амос не теряет надежды, что, завершив для шведов дидактическое сочинение «Новейший метод преподавания языков», вернется к Пансофии. Но слишком медленно подвигается вперед работа! Да и к тому же Коменский вынужден давать частные уроки, иногда выступать с публичными чтениями. К этому побуждает его материальная нужда, так как содержание де Геера оказывается для большой семьи весьма и весьма скудным.
Многие обыватели Эльблонга удивлены, узнав, как нищенски живет прославленный философ, которого, едва он приехал, избрали почетным членом профессорского совета. На его чтения в городской школе собираются самые уважаемые в городе лица: члены магистрата, старейшины церковной общины, профессора. Говорят, с философом состоит в дружбе сам правитель сиятельный граф Герхард Денгоф! А в доме нечего есть! Лавочники, частенько поставлявшие провизию в дом Коменского в долг (а иной раз там довольствуются одним хлебом), не делают из этого секрета. Одни пожимают плечами, другие самодовольно улыбаются: у них-то полная чаша, хотя они и не ученые и не знаменитые...
Шведам становится известно, что время от времени Коменский выступает с публичными чтениями, дает частные уроки и что, выполняя свое обещание властям Эльблонга, уже приступил в городской школе к объяснению своей «Двери предметов». Считая, что время Коменского принадлежит только им, шведы шлют запрос за запросом. Их интересует, что сделано, сроки окончания намеченных работ. Они торопят, упреки становятся все более резкими. Английские друзья, напротив того, хотят лишь знать, насколько Коменский продвинулся вперед в пансофических трудах. Гартлиб, которому Ян Амос сообщил, что, выполняя договор со шведами, прервал занятия Пансофией, в ответном письме к Коменскому разражается филиппикой: «В какую пропасть ты катишься, занимаясь делом, не стоящим твоих сил?» Человек умный, искренне привязанный к Коменскому, Гартлиб все же не в состоянии понять глубины его патриотического самопожертвования; ведь он работает для шведов, потому что они помогают братьям.
Ян Амос посылает это письмо де Гееру, прося принять во внимание доводы Гартлиба. Но де Геер не признает никаких резонов, теперь уже он не настаивает, а приказывает продолжать работу над дидактическими сочинениями. Коменский чувствует себя в тисках, и все же, ночами дополняя написанное прежде, он создает пансофический очерк и в 1643 году публикует это сочинение в Гданьске, стремясь тем самым хоть частично удовлетворить запросы тех, кто ждал от него трудов по Пансофии. Очерк вызывает большой интерес, вскоре переиздается в Лондоне, Париже, Амстердаме, но в то же время дает повод к новым упрекам со стороны шведов.
Преодолевая отчаяние, Коменский продолжает напряженно трудиться. Жизнь его похожа на нескончаемый хмурый осенний день. Дни незаметно слагаются в недели, недели в месяцы, месяцы в годы. А время необратимо, и никому не дано ни остановить, ни замедлить его бег, ибо остановить время — значит остановить жизнь. Да, время — часы жизни, и что бы ни происходило, они идут, отмечая рождение, рост, смерть, и потом снова бесстрастно отмеривают следующий круг жизни... Жизнь вечна, но человек смертен, и он обязан совершить то, для чего рожден, главное дело своей жизни. Горькие эти раздумья заставляют Яна Амоса торопиться, подхлестывать себя: время уходит, а пансофические работы стоят на месте.
Однажды ему вспомнился сияющий солнечный день и он сам, двадцатидвухлетний, в Праге, на Староместской площади, в толпе зевак смотрит, как на знаменитых часах на ратуше появляются в окошечках фигурки святых, а затем сбоку возникают турок, скряга и Смерть с косой, отзванивающая прошедший час. Да, Смерть с косой отзванивает часы жизни! В ту пору он был полон сил, Смерть с косой казалась такой далекой, что ее как бы и не было. С того дня много воды утекло. Смерть унесла близких, и коса ее не однажды чудом не задевала его. Где его надежды? На что ушли его силы? Что он сумел сделать? Двадцатидвухлетний юноша, беспечно глазеющий на диковинные часы, стал пятидесятитрехлетним человеком, обремененным тяжкими заботами и обязательствами, не принадлежащим себе, который тщетно пытается угнаться за бегущим временем... Мрачные мысли терзают Коменского, порой он близок к отчаянию, бывают минуты, когда у него опускаются руки.
Обстоятельства между тем складываются для Коменского все хуже. Он слишком известен, чтобы его обошли стороной европейские политические и религиозные события. И когда польский король Владислав IV,[112] стремясь прекратить раздоры между церквями в Польше, рассылает послания, приглашающие и евангелистов и католиков на мирный диспут в Торунь, Ян Амос не может устраниться от этого. Он не в силах отказать настойчивым просьбам братьев в Польше и протестантской церковной общине в Эльблонге. Прервав свои занятия, Коменский участвует в предварительных совещаниях протестантов, надеясь, что лютеране и чешские братья найдут общий язык и в Торуни будут выступать вместе против католиков, по крайней мере, по большинству пунктов.
Наиболее значительное совещание протестантов происходит в Литовском Орле, куда по приглашению литовского князя Януша Радзивилла съезжаются представители многих церковных общин. Чешские братья в Польше, а также эльблонгский магистрат посылают Коменского. Его речь производит на многочисленных участников съезда большое впечатление. Князь Радзивилл, покоренный глубокой убежденностью и красноречием Коменского, приглашает его переехать в Литву и поселиться в замке в Любече на Немане. Беседа с Коменским, поделившимся своими пансофическими замыслами, укрепляет князя в его намерениях. Он создаст все условия для работы над пансофическими сочинениями, говорит Радзивилл, к услугам Коменского богатая библиотека; более того, в случае нужды Коменскому будет доставлено из какой угодно страны любое нужное ему сочинение. Князь так увлечен своей идеей, что обещает содержать необходимое количество ученых мужей в помощь Яну Амосу и готов тратить на это благое дело четверть своего дохода. Коменский искренне благодарит, но вынужден отказаться. Он уже взял на себя обязательства и не может считать себя свободным, пока их не выполнит.
Вернувшись в Эльблонг, Коменский прежде всего сообщает магистрату о происшедшем в Литве и пишет подробные письма де Гееру и Оксеншёрне. А затем снова погружается в работу над учебниками. Ответ из Швеции не заставляет себя долго ждать: Оксеншёрна выражает недовольство тем, что Коменский отвлекается от своих основных занятий, и, по существу, запрещает участвовать в торунском диспуте. В приказном тоне всесильный канцлер предлагает Коменскому прибыть в Швецию. Ян Амос не может игнорировать его пожелания. Он просит братьев освободить его от поездки в Торунь. Принимается компромиссное решение: «Коменский будет присутствовать лишь при начале диспута, он должен своим авторитетом способствовать тому, чтобы братья и лютеране в тех пунктах, в которых они не расходятся, выступали сообща против папистов».
На предварительные обсуждения уходит драгоценное время. Ян Амос не в силах устраниться от церковных споров, которые по мере приближения диспута идут с нарастающим ожесточением. Обе враждующие стороны — католики и протестанты — готовятся не к мирному обмену аргументами, а к настоящему сражению, ибо за теологическим диспутом кроется противоборство политических сил. К тому же остаются разногласия и внутри протестантизма. Как и следовало ожидать, диспут превращается в ожесточенную перебранку, ни одна из сторон и не помышляет о примирении. Усилия Коменского ни к чему не приводят. С тягостным чувством покидает он Торунь.
Угасает и эта надежда на прекращение религиозной вражды.
И снова дни и ночи за столом над рукописями. Из своего окна Ян Амос видит облетевшие деревья, покрывающиеся за ночь изморозью, серое, вязкое, без просвета небо. Однажды утром посыпался мокрый снег. В Эльблонг пришла зима. Она принесла с собой новые беды и заботы. Заболела Доротея, постоянно простужаются, болеют дети. В доме холодно и голодно. Как всегда, когда наступает тяжелая пора, еще острей ощущается нужда. Превозмогая себя, Доротея пытается бороться с нездоровьем, но силы ее слабеют...
Коменский решает на год отложить поездку в Швецию: он не может оставить семью, да и учебники не готовы. Он пишет письма Оксеншёрне и де Гееру, прося отсрочки на год, и посылает в Швецию своего верного Фигула, чтобы тот разъяснил, как далеко продвинулась работа по составлению учебников, и напомнил бы им об обещаниях Оксеншёрны относительно Чехии, ведь конец войны близок. Он готов к невзгодам. Жизнь не баловала его ни покоем, ни благополучием. Но наступающая зима кажется особенно мучительной. Такой тоски Ян Амос не испытывал с той поры, когда посланец принес ему из Фульнека в Брандис-на-Орлице весть о гибели Магдалины и двоих детей. Тогда свет померк в его глазах, и лишь общее дело, судьба сотен беженцев, с которой он был тесно связан, спасли его от бездны, куда влекло его отчаяние. Но в ту пору он был молод. Теперь же и сил остается меньше. Все острей сказываются застарелые болезни, полученные в холодных, сырых убежищах, порой боли в суставах становятся невыносимыми. Устала от бед и нужды Доротея. Она мужественно борется с недугами, но до каких пор ей жить из последних сил, неужто и в конце жизни он не сумеет дать ей ни отдыха, ни покоя?
Кругом смута, ожесточение политических и религиозных распрей. Куда же идут ослепленные ненавистью люди? Среди этих горестных раздумий Ян Амос обращается к своей вере в будущее родины, не раз спасавшей его от отчаяния. Избавление Чехии от ига Габсбургов не за горами. Война на исходе, и Швеция обещает народу чешскому независимость, свободу вероисповедания. От одной этой мысли прибавляются силы. И все же смутные предчувствия томят душу. Слишком часто в прошлые годы, когда в туманной дали загорался робкий огонек надежды, ледяные ветры гасили его. Ожидание становится все более тягостным. Несчастье в том, что Чехия не будет участвовать в решении своей судьбы, хотя многие ее сыны храбро сражались с Габсбургами, хотя никто так не пострадал от войны, как чешский народ. Его судьбу будут решать победители, и неизвестно еще, какие новые обстоятельства возникнут, когда начнутся мирные переговоры. Но что он может сделать? Что ему остается, кроме ожидания и надежды?
И вот, как это уже бывало в самые тяжелые минуты жизни, мысль Яна Амоса вырывается из тисков порочного круга и свободно устремляется вдаль, чтобы там, с высоты будущего, найти выход не для него одного — для всех, для человечества!
Да, именно в это тягостное время Коменский тайно начинает работать над сочинением, призванным указать путь к исправлению дел человеческих, к преобразованию общественных и социальных отношений на новых началах, чтобы человечество стало единой семьей, в которой все народы и все люди будут свободны и равноправны, одушевлены общими целями и идеалами, исключающими войны и любые формы насилия и угнетения. В этой семье братство и дружба народов, их бескорыстная взаимопомощь друг другу во всех сферах — научной, государственной, экономической, культурной — будут гармонически сочетаться со свободным развитием каждого народа.
Величие задачи, как только она осознается им во всей своей необъятности, приводит Яна Амоса в глубокое волнение. Оно рождает нетерпение к работе, дает силы преодолевать свои недуги, согревает в холод, когда он сидит в нетопленой комнате, склонясь над своим столом. Но он не может не думать и о том, как воспримут его сочинение те, к кому оно обращено, — ученые, государственные деятели, власть имущие в европейских странах, да и каждый, кто умеет читать, весь род человеческий. Не испугаются ли грандиозности планов? Не сочтут ли их за несбыточную мечту, за красивую сказку? Поэтому ради прояснения замысла он назовет свой труд «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих», и на первых же страницах, в обращении к роду человеческому, к ученым и правителям, он должен не только очертить задачу, но и сказать, что она разрешима, что автор укажет верные средства, чтобы ее выполнить.
Много раз Коменский переделывает обращение, стремясь к абсолютной ясности и простоте, смело рассеивая возможные опасения, сомнения. «Вы видите, к чему мы приступаем! — восклицает он. — Будем совещаться об исправлении дел человеческих всеобщим образом... то есть всеохватно и всенародно, как еще не делалось от начала мира... Вплоть до сего дня никогда еще не замышлялось исправление всех пороков всеми сообща — к чему вас и побуждаю, возможность чего на благо всему миру и доказываю... В самом деле, он поистине всеобъемлющ и направлен на высшие в этой области цели человеческих — да, скажу больше, и божьих стремлений; он открывает или показывает и средства, способные прямо, надежно и безошибочно привести нас к целям; он, наконец, предлагает настолько простые способы применения этих средств, что остается лишь захотеть и, призвав на помощь бога, приняться за веками ждавшее наших рук дело».
Ян Амос вкладывает в эти строки всю силу убеждения, всю страсть своей души. И далее указывает путь, по которому следует идти. Он говорит, что условием всеобщего исправления дел человеческих должно быть исправление в трех областях: познании (наука, просвещение), государственном устроении (общественные и социальные отношения, политика), вере (религия, нравственность). Как этого добиться? На основании каких принципов? Какими методами? Какие создавать организации, регулирующие отношения между людьми и между народами? На все эти вопросы отвечает сочинение в целом. А в начале, в обращении, Ян Амос показывает, как бы сверху, весь предстоящий путь, кратко поясняя, как он выражается, «семь предметов», составляющих этапы всеобщего преобразования и одновременно части обширного труда. Уже одно название этих «предметов» говорит о всеобщности, всеохватности замысла: панегерсия — всеобщее пробуждение; панавгия — всеобщее просвещение; пантаксия — всеобщая картина мира во всех взаимосвязях, иначе — всеобщее упорядочение мира (что раньше обозначалось именем Пансофии, добавляет Коменский); пампедия — всеобщее обучение и воспитание; панглотия — всеобщая культура языка; панортосия — всеобщее преобразование (познания, веры, общественного устройства), то есть наступление века просвещения, веры и мира; наконец, панутесия — всеобщее увещевание «всерьез приступить ко всем этим столь желательным и желанным трудам».
Продолжая свое обращение, Коменский высказывает глубочайшие мысли, осуществление которых станет возможным, лишь когда народы проведут демократические преобразования в жизни стран и государств. «Пусть всенародное совершается всенародно, — говорит он, — пусть все делают или, по крайней мере, знают то, что касается всех. Право вести свои дела — не только привилегия и основание общественной свободы какого-то одного племени, таково богоданное право всего человеческого рода...»
Во всех трех областях — познании, государственном устроении, вере — Коменский предлагает создать международное объединение для того, чтобы страны и народы совместно, помогая друг другу в рамках международного сотрудничества, могли осуществлять необходимые преобразования во имя достижения высоких общечеловеческих целей и идеалов. Принципы взаимоотношений стран и народов строго определяются: полное равноправие, взаимный культурный и экономический обмен, бескорыстная экономическая, культурная и всякая иная помощь развитых и богатых стран слаборазвитым. Рассматривая во «Всеобщем исправлении» (шестая часть «Всеобщего совета») преобразования общественных отношений внутри государства, а также отношения между государствами на новых основах, Ян Амос утверждает, что свобода — самое ценное, что есть у человека, и, следовательно, самое главное, что должно обеспечить идеальное государство. На основании законов, для всех одинаковых, оно обязано защищать неотъемлемые права своих граждан и обеспечивать их безопасность. Должны быть исключены казни и насилия. Мир, свобода, равноправие, труд, законность воцарятся на земле.
Возможны ли отношения между государствами и народами, основанные на братстве, взаимном доверии, взаимной помощи? Они не только возможны, убеждает Коменский, они естественны, ибо соответствуют природе людей, которые рождены братьями. «Человеческая природа создана свободной, — заявляет Ян Амос, — она никаким способом не хочет или не может допускать насилие над собой... она сотворена с полным равенством со своими ближними во всем... Свобода самое ценное, что имеет человек... Мы требуем для всех свободу мысли, религии, свободу гражданства...» Коменский верит в будущее человечества. Он убеждает своих современников начинать работу немедленно.
Несомненно, многие его идеи проникнуты социальным утопизмом, но они будили мысль и совесть, звали вперед. Спустя столетие, в век просвещения, они станут живой программой целых поколений, а мысли Коменского о естественном праве людей, их равенстве от рождения и всеобщем братстве, подхваченные идеологами грядущей революции, выкристаллизируются в лозунги, с которыми восставший народ Франции пойдет на штурм Бастилии.
Пройдет триста лет — и осуществятся идеи Коменского о создании международных организаций, основанных на принципах равноправия, сотрудничества и взаимопомощи народов, высказанные и обоснованные им во «Всеобщем совете». В 1945 году, сразу же после разгрома фашизма, угрожавшего человечеству рабством и гибелью, была создана ООН — Организация Объединенных Наций. В ее уставе — в полном соответствии с мыслями Коменского! — говорится, что целью ООН является поддержание мира и безопасности путем принятия коллективных мер, развитие дружественных отношений между народами и осуществление сотрудничества в разрешении экономического, социального, культурного и гуманитарного характера, а также развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
Какой же прозорливостью, какой смелостью мысли надо было обладать, живя в эпоху массовых казней, бесконечных войн и беспощадного попрания элементарных человеческих прав, чтобы так верно предугадать не только направления в демократических устремлениях человечества, но и живые формы, в которые они отольются! Коменский предвосхитил и такие организации ООН, как постоянный международный суд справедливости, как ЮНЕСКО (с какой любовью Ян Амос описывал «Общество света», которое бы объединило усилия народов в области науки, просвещения, культуры!); Коменский размышлял о многих реформах в различных областях человеческой деятельности, осуществленных лишь в XX веке...
Но вернемся в Эльблонг, в год 1645-й, в ту холодную, тягостную зиму, принесшую в семью Коменского болезни, новые испытания и материальные затруднения, когда, казалось бы, вопреки всему происходило формирование замысла «Всеобщего совета». Ян Амос исступленно работает. Порой в ночные часы он откидывается на спинку кресла, закрывает глаза. И тогда в его памяти возникают образы — лица обездоленных войной людей, измученных страхом, унижениями, голодом, горящие дома, всадники, трупы замерзших в лесу... Когда он это видел? Где? И из каких-то глубин поднимается боль, постоянно живущая в нем, словно переданная ему безутешными матерями, вдовами — всеми, оказавшимися в пучине страданий и несчастий? Какими ничтожными и преступными кажутся ему в эти минуты религиозные раздоры, бесконечные споры, игра самолюбий, глухота духовных наставников к доводам рассудка! Бросить бы им всем в лицо: «Остановитесь! Забудьте о ваших спорах, оглянитесь вокруг! Неужто страдания людей, гибнущих на ваших глазах, не трогают ваши сердца? Прозрейте, протяните руки погибающим!»
Замысел «Всеобщего совета» зрел медленно, исподволь вбирая в себя пережитое, итоги и выводы самых значительных трудов — «Великой дидактики», пансофических работ, «Пути света», других сочинений, которые как бы переплавлялись, обогащались новыми идеями, — и будущее произведение приобретало как бы новую высоту, иной масштаб. Все это шло постепенно. Но миг, когда «Всеобщий совет» увиделся в целом, был подобен удару молнии в ночи. Испытав потрясение, Коменский остается один на один со своим великим сочинением, еще не написанным, но уже диктующим ему свою волю. Никто, ни один человек, не знает, что его труд укажет всему роду человеческому дорогу к миру и благоденствию.
Никогда еще Ян Амос не переживал такого сладостного и страшного чувства, от которого перехватывает дыхание. Не в силах избавиться от него, он пишет де Гееру в начале апреля 1645 года: «Дела, если богу будет угодно, воспоследуют, хотя и не так скоро, как хотелось бы людям, настаивавшим на ускорении работы. Пока нет ни одной души, которая понимала бы, о каких задачах здесь идет речь. Я сам раньше тоже не понимал подлинного основания этого труда, воздвигаемого богом. Но день ото дня мне удается лучше рассмотреть его, и в конце концов я вижу то, что превосходит самые надежды... Наступит время, когда после расчистки развалин обнаружится разрозненная площадка для новостройки. Тогда подойдет, наконец, пора и нам выступить из нашего укрытия и вынести на свет то, что послужит всеобщей радости... Труд, над которым я работаю, несет название «Всеобщий совет об улучшении человеческих дел», обращенный к роду человеческому, прежде всего к ученым Европы».
Однако Ян Амос не должен забывать о своих обязательствах перед шведами. Оксеншёрна недоволен не только тем, что Коменский отвлекается от работы над учебниками, но и самим фактом участия Яна Амоса в таком деле, как примирение католиков с протестантами на торунском съезде. Теперь, когда уже почти достигнута военная победа над Габсбургами и Католической лигой и, следовательно, католицизм теряет свое былое политическое влияние, преждевременное примирение с ним было бы, с точки зрения политика, невыгодно. Гораздо умнее, будучи победителями, продиктовать свои условия при заключении мира, на что и рассчитывал Оксеншёрна. Разумеется, о подобных планах в его письмах к Коменскому не говорилось, но догадаться об их существовании, выслушивая отповеди всесильного канцлера, было не так уж трудно. Ян Амос оправдывается: только по настоятельной просьбе общины он присутствовал на съезде, да и то лишь в начале заседаний, а затем удалился, чтобы продолжать работу над учебниками. По прибытии в Швецию он представит результаты своих трудов, и тогда — он уверен в этом — отпадут все упреки. Тон ответа Коменского смиренный. Он не имеет права ссориться с Оксеншёрной, хотя чувствует себя глубоко уязвленным. Но канцлер будет участвовать в решении судьбы чешского народа, а ради этого дела он готов стерпеть все обиды, перенести все невзгоды.
И Коменский трудится, пытаясь поспеть за временем, с каждым днем словно убыстряющим свой бег, ибо ему приходится разрываться между «Всеобщим советом» и учебниками. Но Ян Амос не позволяет себе ни малейшей небрежности — каждая страница нового дидактического сочинения «Новейший метод преподавания языков» насыщается богатым материалом. Летят дни. Ясное солнце рассеивает свинцовую хмарь, закрывавшую так долго низкое небо, уже поднялась молодая трава. Пришла весна, принесла тепло, пробудила новые надежды. Первые главы «Новейшего метода преподавания языков» наконец написаны и могут быть отданы на высокий суд. Ян Амос считает, что пришла пора отправиться в Швецию. Он хочет засвидетельствовать, что не терял времени даром, и напомнить великому канцлеру о его обещаниях относительно решения чешского вопроса.
...В Стокгольме Коменскому приходится ждать, когда Оксеншёрна будет в состоянии его принять: канцлер тяжело болен. Пока же де Геер отдает дидактические работы Яна Амоса на суд ученых мужей. На удивление быстро, меньше чем за две недели, они выносят свое суждение: сочинения Коменского достойны всяческих похвал, их, несомненно, следует опубликовать. При этом было бы полезно философу остаться на зиму в Стокгольме, дабы в случае необходимости внести какие-то исправления. Де Геер удовлетворен. Коменский же с волнением ждет выздоровления канцлера и аудиенции у королевы.
Настала пора снова — и на этот раз со всей настойчивостью — поднять вопрос о будущем Чехии после победы над Габсбургами; переговоры о мире воюющих сторон в Мюнстере и Оснабрюке идут уже почти три года. Говорят, они близятся к завершению. И теперь каждый месяц, неделя, может быть, даже день могут иметь решающее значение в определении судьбы чешского народа.
Мучительно тянутся дни ожидания. Болезнь Оксеншёрны отступает медленно. А противники протестантов, особенно братьев, не теряют времени: плетут интриги, пытаясь посеять подозрения у шведов в причастности Коменского к кальвинизму. Ползут клеветнические слухи... Наконец Оксеншёрна принимает Коменского. Бледный, изможденный, словно сразу постаревший на десяток лет (Ян Амос не видел его четыре года), Оксеншёрна сидит в кресле, бессильно положив руки на подлокотники. Едва ответив на почтительный поклон Коменского, он вдруг взрывается упреками: почему Ян Амос не послушался его совета и не уклонился от торунского диспута? В ответ на объяснения канцлер хватает лежавшую на столе книгу — изданные в Варшаве протоколы диспута — и показывает среди участников имя Коменского.
— А почему ты дал записать себя в список совещающихся? — Голос Оксеншёрны срывается, на лбу выступает испарина — видно, эта вспышка гнева стоит ему недешево.
Ян Амос говорит, что его внесли в список без его ведома, и снова повторяет, как могла возникнуть эта ошибка.
— Что было, того не вернешь, — замечает канцлер. — Взгляд его становится пристально-холодным. — Сейчас будет лучше, если ты вернешься в Эльблонг.
Оксеншёрна утомлен, встреча близится к концу, и Ян Амос спешит сказать самое главное. Переговоры в Мюнстере и Оснабрюке идут полным ходом. Отныне в руках его светлости будущее Чехии. Неужто, принеся такие неслыханные жертвы, чешский народ не выстрадал столь естественного права, принадлежащего ему искони, как государственная самостоятельность, великодушно обещанная его светлостью, равно как и свобода вероисповедания? Дарование этих прав было бы величайшей исторической справедливостью, христианнейшим актом, снова возвращающим многострадальный народ чешский как равного собрата в семью европейских народов. Имя же государственного мужа, осуществившего это великое деяние, будет сиять в веках, с благоговением произноситься потомками. Оксеншёрна слушает с непроницаемым лицом. На прощание он слегка наклоняет голову, как бы подтверждая свои прежние обещания. Со смешанным чувством надежды и смутной тревоги покидает Коменский покои канцлера. Впереди аудиенция у королевы.
В отличие от Оксеншёрны, королева по-прежнему любезна и расположена к Яну Амосу. Снова с живейшим интересом расспрашивает она о пансофических работах и просит поспешить с их завершением, а затем предлагает переехать в Швецию. Присутствовавший при этом де Геер говорит, что готов выплачивать Коменскому стипендию.
— Хочешь? — спрашивает королева.
— Сейчас это невозможно, — отвечает Ян Амос.
Королева не настаивает. Благосклонно выслушивает она напоминание и просьбу одновременно о решении чешского вопроса, которую с волнением произносит Коменский.
В ее глазах он прочитывает сочувствие, но сумеет ли она в случае необходимости проявить твердость?
Двухчасовая аудиенция закончена. Королева, как и в первый раз, милостиво протягивает руку для поцелуя. Выйдя из дворца, Коменский уже думает о возвращении в Эльблонг. Теперь Яна Амоса тяготит каждый лишний день, проведенный в Стокгольме, но не так-то просто освободиться от захлестнувших его забот и дел. И все же в конце октября он отплывает из Швеции.
Эльблонг встречает Коменского нескончаемым дождем. Зябко, мутно, беспросветно. Увидя родные лица, он чувствует облегчение: как трудна была разлука! И вдруг острая тоска по Моравии охватывает Яна Амоса. Неужто он никогда больше не увидит ее? Неужто после стольких мук Чехия не станет свободной? Мысли о ведущихся переговорах в Мюнстере и Оснабрюке ни на минуту не оставляют его. В Эльблонг доходят разноречивые слухи, а сведения, которым можно доверять, чрезвычайно скупы и неутешительны. И все же ничего другого не остается, как ждать и надеяться. Ян Амос не в силах повлиять на ход переговоров. Все, что он мог, сделал. Ради этого он живет здесь, вдали от братьев, ради этого много лет, не зная ни отдыха, ни срока, трудится, как на галере, понукаемый окриками из Швеции, терпит нужду, обиды. И лишь надежда увидеть родину свободной да горячая, заставляющая учащенно биться сердце мысль, что, завершив «Всеобщий совет», он укажет человечеству путь к миру, ко всеобщему благоденствию, дают ему силы жить.
Тянутся дни, похожие один на другой, нескончаемые, как серый шелестящий дождь. Коменский лихорадочно работает. Он спешит окончательно завершить «Новейший метод преподавания языков». С этим сочинением в первую очередь связано выполнение обязательств перед шведами, освобождение от рабских оков, которое даст ему возможность целиком отдаться «Всеобщему совету».
Однако продолжаются наветы на Коменского некоторых шведских и немецких епископов, обвиняющих его в кальвинизме. К тому же Ян Амос получает из Швеции письма, как он заметил, «содержащие громы и молнии», де Геер теряет к нему доверие и отказывает в материальной поддержке...
Нужда хватает за горло. Пребывание в Эльблонге с каждым днем становится тягостней. Но Ян Амос продолжает упорно трудиться: что бы ни происходило, он обязан как можно скорей рассчитаться со шведами. Снова зима приносит с собой тусклые холодные рассветы в выстуженном за ночь доме, долгие ночи, когда за окном беснуются северные ветры и на столе колеблется пламя светильника. Ухудшается состояние Доротеи. Она не жалуется, но Ян Амос чувствует, каких усилий стоит ей каждый шаг. От холода и сырости — ибо не всегда удается в доме поддерживать тепло — у Яна Амоса обостряются боли в суставах. Доротея втихомолку отмечает каждый прожитый день — он как небольшое выигранное сражение, еще один шаг на пути к теплу, к новой жизни...
Проходит, наконец, и эта мучительная зима. И когда в один прекрасный день дерево под окном Яна Амоса покрывается нежно-зелеными клейкими листочками, а легкий утренний ветер несет с собой запахи оживающей земли, Ян Амос чувствует, что самое трудное позади. Зиму они пережили. Теперь он может и оглянуться назад: многолетние труды почти завершены, в начале лета учебники будут отданы в печать. Теперь он может и решить, куда переезжать, так как жизнь в Эльблонге лишается всякого смысла.
Коменский раздумывает, советуется с Доротеей. Почитатели и друзья давно зовут его в Голландию, обещая обеспеченное существование, возможность спокойной работы. Предложение более чем заманчиво: наконец-то без спешки и заботы о куске хлеба он сможет сосредоточиться на «Всеобщем совете», на пансофических трудах. Но все настойчивее звучат просьбы братьев из Польши вернуться, чтобы в это трудное время быть рядом с ними. Ведь епископы братьев Юрий Эрастус и Лаврентий Юстинус умерли, а третий — близкий друг Коменского Павел Фабриций тяжело болен.
Итак, на одну чашу весов как бы ложится спокойная жизнь, любимый труд, а на другую — долг перед братьями, чувство общей исторической и человеческой судьбы. И, как всегда, долг побеждает все другие доводы, усталость, болезнь. Ян Амос выбирает Лешно.
Глава десятая. И ВСЕ-ТАКИ — ЖИТЬ И БОРОТЬСЯ!
Лешно, 24 августа 1648 года. Скорбный этот день навсегда останется в памяти Коменского. Умирает Доротея. С заострившимся лицом, с закрытыми глазами лежит она на кровати, с которой так и не встала с тех пор, как они приехали из Эльблонга. Ян Амос держит ее холодную руку, вслушивается в ее дыхание — оно почти неразличимо, — вглядывается в лицо, такое родное и уже изменившееся, на которое близкая смерть уже наложила свою печать. А он помнит это лицо молодым, полным жизни, с сияющими глазами, каким оно было в ту далекую весну, когда с поручениями от общины она приходила к нему в лесную избушку у клопотского леса и, бывало, смеясь рассказывала, как ей удалось скрыться от пьяных солдат. Помнит прогулку в лесу, когда он спросил, не хотела ли бы она связать свою судьбу с его горестной судьбой. Ни секунды не раздумывая, она ответила «да» и добавила, глядя ему в глаза, что сделает все, чтобы и он нашел свое счастье.
— Тогда обопрись на мою руку, — сказал он, — эта рука никогда не оставит тебя, так мы и будем идти, поддерживая друг друга, пока живы...
И вот Дорота уходит... Ян Амос смотрит на ее лицо: какие тяжкие годы она прожила — изгнание, бедность, опасности, одиночество, бесконечные зимние вечера, холодные тревожные ночи... Но ни разу он не слышал от нее ни единой жалобы, ни единого упрека. Она растила детей, вела дом, стараясь сводить концы с концами, и еще помогала другим, находила для нуждающихся и кусок хлеба, и доброе слово. У нее было великое мужество и великое терпение. Она умела ждать и никогда не теряла надежды, что увидит Чехию свободной, а вот не дождалась...
— Ну, жизнь моя, силы мои, перейдите в нее, перейдите, — говорил Ян Амос, держа холодную руку Доротеи, и так было сильно это желание, что ему показалось: рука еще шевельнулась, а веки дрогнули.
Из ее горла вместе с дыханием вырвался хрип, и он услышал, даже не услышал — почувствовал, как ее губы произнесли:
— Ян...
Его имя было последним прощанием Доротеи с этой жизнью, ее последним приветом...
Когда тело покойной было предано земле и Ян Амос в сопровождении трех дочерей и маленького сына Даниила вернулся в опустевший дом и сел за стол в свое кресло, дети не узнали отца — так изменился он за те страшные сутки, которые прошли со смерти матери. Волосы его поседели, взгляд потух, как бы ушел в себя, лицо и вся фигура словно окаменели. Несколько часов просидел он неподвижно, подперев голову руками, и ни дочери, ни даже Даниил не решились потревожить отца в этом его молчаливом отчаянии...
Но прошел этот день. Прошел и следующий за ним. Спешит время, увлекает людей за собой. Время приносит перемены, оно требует действия и решений, и тот, кто не отзывается на его голос, рискует остаться в одиночестве. Коменский погружен в дела общины. Он спокоен, неторопливо беседует с молодыми людьми, которые готовятся в различные университеты, с женщинами и мужчинами, приходящими к нему за советом. Никто не знает, какого внутреннего напряжения стоит ему это спокойствие. Только глаза, ставшие сухими, выдают его горе.
Спешит время. Ощущение близящихся перемен словно витает в воздухе. Солнечный сентябрь в Лешно сменяется хмурыми октябрьскими дождями. Обыватели сидят по своим углам, но лешновские братья, как никогда прежде, ищут встреч друг с другом, чтобы обсудить новые известия с полей сражений. Шведы упорно осаждают Прагу, она вот-вот падет. Французские войска повсюду одерживают победы. Наступили решающие дни — это ясно всем. И хотя война проиграна Габсбургами и могущество их основательно подорвано, все же силы империи окончательно не исчерпаны, поэтому там, в Вестфалии, — Мюнстере и Оснабрюке, — на переговорах о заключении мира вот уже три года идет самый настоящий торг. Что дадут европейским странам эти переговоры? Как решится судьба Чехии?
Слухи ходят разные. Из уст в уста передаются в Лешно слова могущественного Оксеншёрны, будто протестанты, в том числе братья, повсюду в Европе станут после заключения мира полноправными гражданами своих стран. А затем приходит другая новость: якобы послы Фердинанда III решительно отклонили попытки шведов начать разговор о Чехии. К этому добавляют, что император по чешскому вопросу твердо придерживается политики своего отца и на все предложения отвечает категорическим отказом. Достанет ли у шведов твердости и упорства, чтобы выполнить обещания, данные Чехии?
Размышляя над этим, Коменский вспоминает свои беседы с канцлером. Оксеншёрна давал многократно обещания настоять на справедливом решении чешского вопроса и никогда не отказывался от них. Но Ян Амос уже знает, как может меняться настроение этого циничного политика, готового без особого разбора поверить инсинуациям и ложным слухам, когда это отвечает каким-то его расчетам. И Ян Амос хорошо помнил, каким ледяным блеском вспыхивали его глаза, когда Оксеншёрна говорил о могуществе Швеции и ее притязании на роль великой державы. Этой цели канцлер будет добиваться всеми силами и ради нее поступится чем угодно, даже своим словом. Мысль эта, всегда тревожившая Яна Амоса, сейчас возникает с новой силой, словно, затаившись, она ждала момента, когда придет ее время. Но ведь речь идет о судьбе целого народа, отвечал на свои сомнения Ян Амос, неужели одно это сознание не преисполняет Оксеншёрну чувством исторической ответственности?
Ночами Коменский ходит по своей комнате. Его мучает бессонница. Работа валится из рук. Со смертью Дороты дом опустел, из него словно вынули живую душу, и теперь он разрушается: то где-то тихонько треснет, то раздастся звук, похожий не то на вздох, не то на стон.
Каким-то непостижимым глубинным образом мысли о Доротее переплетаются в сознании Яна Амоса с раздумьями о будущем родины. Ведь Дорота была ее живой частицей. В ее судьбе борца, изгнанницы, матери и жены, в ее мужестве и терпении, в ее любящей, самоотверженной душе отразилась судьба и душа родины. И не оторвать их друг от друга. И вот Дороты нет. Но есть ли это горестный знак того, что вместе с Доротой погибла и последняя надежда и уже не восстать, не подняться из пепла его несчастной родине?
Ян Амос ходит из угла в угол, останавливается и снова шагает, шагает — иногда до самого рассвета. Те, что видели Коменского днем, сейчас с трудом бы его узнали: отрешенный, как бы углубленный в себя взгляд, обострившиеся черты лица. Тени от колеблющегося огонька светильника подчеркивают худобу щек, морщины на лбу. Яну Амосу необходимы эти часы одиноких раздумий, когда обнажается душа и он предъявляет себе суровый счет, ибо свое горе мешает ему видеть страдания других. Ему необходима эта суровая и горькая самоисповедь, чтобы одержать победу над собой, над своей скорбью и снова обрести силы для борьбы...
В первые дни ноября приходит радостная весть: война окончена, мир заключен! Долгожданный мир! Лешновские братья ликуют. Им еще не известны доподлинные статьи Вестфальского мира, подписанного 24 октября — благословенный день! — но как бы то ни было, а Габсбурги повержены, и, значит, императорские солдаты больше не будут хозяйничать в Чехии, издеваться над людьми, вытаптывать поля, сжигать жилища, грабить, значит, близок час, когда все они смогут вернуться на родину, чтобы заново отстраивать свой общий дом. Всеобщая радость кружит головы, рождает новые планы. Люди собираются, делятся мечтами — все, все кажется им достижимым в эти первые счастливые минуты!
Проходит несколько дней, проходит хмель всеобщего ликования, и все настойчивее возникает вопрос: что же именно в условиях заключенного мира сказано о Чехии? И вот начинают просачиваться слухи, но странным образом в них ничего не говорится о Чехии. Что это должно означать? Какой это признак — хороший, дурной?
Коменский узнает правду одним из первых. Да, Габсбурги повержены, и произошел новый дележ Европы, соответствующий изменившейся в ходе войны расстановке сил. Планы Оксеншёрны осуществились. Действительно, Балтийское море шведы превратили в шведское озеро, а устья почти всех судоходных рек Северной Германии оказались под их контролем. Получила свое и Франция. Увеличили свои владения немецкие князья — курфюрст Бранденбурга, властители Мекленбурга, Гессен-Касселя, Саксонии. За баварским герцогом был признан титул курфюрста. Протестанты повсюду получили свободу вероисповедания и равные гражданские права. Разумеется, это относилось лишь к государям и властителям: чья страна, того и вера.
А Чехия? Ее просто предали. Забыты все обещания, которые давали восставшим чехам Швеция, Франция, Англия, забыты все жертвы, понесенные чехами в борьбе с Габсбургами, все усилия народа, его муки и страдания. Уничтожение десятков городов, сотен сел, уменьшение населения более чем на четверть! Вытоптанные поля, одичание людей, вынужденных скрываться в лесах, эпидемии. Все, все было забыто! Страна по-прежнему осталась под властью Габсбургов. Вестфальский мир сохранил их права в чешских землях в том же виде, какими они были установлены после белогорского поражения. Даруя свободу исповедания протестантам — кальвинистам и лютеранам, — о чешских братьях не вспомнили, даже не позаботились о том, чтобы дать возможность изгнанникам вернуться на родину. «Чья страна, того и вера», — и, значит, Чехия, снова оставшаяся под властью чужеземных Габсбургов, рьяных фанатичных католиков, должна исповедовать католицизм, с которым в живой памяти народа были связаны кровавые расправы Тридцатилетней войны, угнетение и бесправие в годы относительного мира.
Снова и снова, не веря своим глазам, перечитывает Коменский кратко изложенные условия Вестфальского мира, которые передал ему правитель Лешно, прибавив, желая смягчить удар, что будут еще добавления, что окончательное утверждение мирного договора еще предстоит и состоится, как поговаривают, в Нюрнберге.
Ян Амос потрясен. Так обмануть, так предать! Есть ли предел человеческой подлости, цинизму и коварству политиков! Обречь на духовное одичание и вымирание целый народ, понесший такие неслыханные потери во имя победы над габсбургской тиранией! Нарушить собственные обещания, предстать перед историей лжецами и предателями! Неужто погибнет народ чешский, его язык, песни, культура — все, что веками создавалось, копилось, береглось и передавалось из поколения в поколение! Неужто изгнанники, живущие на чужбине одной надеждой, не увидят больше своей милой родины — ни они, ни их дети и внуки?
Коменский не находит себе места. Трагедия народа — это и его трагедия, крах всей жизни. Под свежим впечатлением прочитанного он теряет способность спокойно размышлять. Возмущение и скорбь переполняют его. И он должен их высказать — во имя правды и справедливости, во имя достоинства народа чешского! В этом состоянии Ян Амос садится за письмо к Оксеншёрне. Он пишет не останавливаясь, как это бывает с ним в часы творческого озарения. В начале письма он напоминает Оксеншёрне его многочисленные обещания, и вот — все забыто, народ чешский брошен на произвол судьбы! Справедливо ли, что чехи, которые жертвовали собой, чтобы предостеречь и спасти всех других, пали и никто не протянет им руку помощи? Двадцать лет со дня изгнания, терпя бедствия, с горячей надеждой следили они за далекой звездой вольности, и теперь, едва замерцал ее бледный свет, она закатилась! Земля чешская остается в габсбургском рабстве, а ее лучшие сыновья обречены и дальше на скитания в чужих землях... Европа презрела справедливость. Погнавшись за покоем, она забыла о своих обещаниях, о чести, о долге...
Письмо написано и наутро отправлено. Вряд ли оно что-либо изменит. Надежда, что в Оксеншёрне может заговорить совесть, слишком слаба, но в любом случае он, Ян Амос Коменский, должен был сказать правду в лицо. Этого требовало его сердце, его честь.
Проходит время, и условия Вестфальского мира в главном для них, в том что касается Чехии, становятся известными братьям в Лешно. Глубокое уныние охватывает всю общину. У многих опускаются руки. Находятся и слабодушные — они готовы отступиться от установлений, которые строго соблюдались поколениями братьев, даже разорвать свою связь с общиной. Они устали жить без надежды, без будущего, в вечном изгнании.
В эти тяжелые дни многие люди приходят к Коменскому. И как это уже бывало, поддерживая их словом и делом, вселяя в них надежду и мужество, Ян Амос обретает силы, необходимые ему самому, чтобы преодолеть свои страдания и выстоять, — ведь на них всех лежит общая ответственность за жизнь будущих поколений. Ян Амос знает, какие могучие духовные силы заложены в человеке, и верит, что братья победят отчаяние. Он продолжает заботиться о школе, занимается с юношами, которые готовятся в университеты, посещает семьи нуждающихся. Он живет так, словно надежда на будущее не потеряна. На школьных советах и собраниях синода Ян Амос настойчиво выступает за укрепление дисциплины, пошатнувшейся от разочарования и сомнений, охвативших братьев. В это трудное время, говорит он, дисциплина особенно необходима, чтобы сохранить общину, которая в течение веков в дни горя и несчастий, преследовавших многострадальный народ чешский, была прибежищем, спасением, несла свет истины, защищала честь и достоинство людей, готовила детей к будущей жизни. Голос Коменского звучит твердо, но сильнее слова действует пример его поведения, обаяние и нравственная сила его личности, вызывающая стремление стать лучше, чище, мужественнее. Как важно, когда рядом живет человек, к которому тянется сердце, человек, уже одним тем, что он есть, не дающий угаснуть вере в людей, в жизнь, в лучшее будущее!
Бывает, что Коменский возвращается домой к вечеру. Усталость как бы углубляет морщины на лице, сгибает спину, когда он тяжело опускается в свое кресло, но в глазах словно еще живет прошедший день со всем его шумом, хлопотами, встречами. И дочери уже знают: лишь потом, после ужина, после беседы за столом погаснут его глаза и, оставшись один, отец долго будет сидеть неподвижно, устремив остановившийся взгляд в пространство...
В эти месяцы, отдав в печать дидактические сочинения и, таким образом, окончательно выполнив обязательства перед шведами, Коменский спешно готовит для издания рукопись польского священника Яна Ласицкого «История братьев». Книга должна как можно скорее выйти в свет, чтобы те, кого одолели сомнения, смогли бы почерпнуть из нее силы для борьбы. Пусть узнают, что бывали периоды, когда преследования братьев доходили до крайней степени ожесточения, но каждый раз община находила в себе силы, чтобы противостоять мраку, сохранить себя и передать грядущим поколениям надежду и свет.
Ян Амос размышляет о пути света — пути истины, справедливости. Наперекор всему, наперекор обстоятельствам — он верит в это — свет развеет мрак. Люди познают истину. Его «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих» должен открыть всем глаза. Как могучее ветвистое дерево, разрастается вверх и вширь это огромное, всеобъемлющее сочинение, призванное спасти человечество. Коменский не оставляет эту рукопись ни на один день. Каждая страница радует его сердце. С волнением Ян Амос видит, как его замысел, и самому порой казавшийся фантастическим ввиду его громадности, обретает плоть, становится реальностью.
Условия Вестфальского мира, позорное предательство Чехии снова подтвердили его глубокое убеждение, которому он следует всю жизнь: исправление мира возможно лишь через исправление человека. Да, лишь человек, с помощью знаний и опыта овладевший действительностью, может преобразовать полный зла и насилия мир. и само преобразование должно быть делом всех и каждого в отдельности — лишь тогда оно может осуществиться.
Эту мысль обо всех, участвующих в совете об исправлении дел человеческих (а не только лиц выдающихся), он вынесет в Панегерсии — всеобщем пробуждении — в заголовок III главы в виде вопроса, а главу начнет так: «К вам обращаюсь, все причастные вместе со мной человеческой природе и гнетущим ее бедам! Давайте вместе рассмотрим состояние мира, повсюду тонущего во зле, вместе ужаснемся, вместе восплачем о неизменно повторяющихся, а вернее, постоянных и страшных разорениях мира — или лучше посоветуемся о том, как помочь делу, если только можно ему помочь!» И, как бы отвечая на сомнения читателя, Ян Амос продолжает: «Никто не думай о себе так дурно и низко, чтобы не считать себя достойным войти в совет о всеобщем спасении; никто не предавайся гордому отчаянию и не гнушайся выслушивать чужие советы и прибавлять к ним свои». Он выразил то, что хотел. И так, проникая в сердце каждым словом, должен разворачиваться весь труд. Ведь его цель не только учить, советовать, но и ободрять, привлечь к совету других, давать надежду.
Переделывая, добиваясь ясности, простоты, Ян Амос как бы беседует с читателем, убеждает, внушает ему веру в себя, выслушивает возражения и силой своих доводов опровергает их: «Сперва все кажется несбыточной мечтой, но нет! Ведь, если мы не можем собраться все в одно место телесно (да и не надо), нас соединят духовная общность, обмен взаимными посланиями и само это солнце, ежедневно пробегающее по всему кругу земель от одних к другим и всем равно дающее возможность совершения полезных дел».
Да, солнце, перед которым все равны, ибо оно одинаково светит всем, соединяет всех, — ведь природа у людей одна! Впечатления последних месяцев в Лешно, заполненных общением с братьями, как бы концентрируются, отливаются в точные слова, яркие образы. Коменский пишет новые главы, расширяет прежние. Решительно, без колебаний, зачеркивает он посвящение «Всеобщего совета», которое в первом варианте было обращено к «могущественной тройке североевропейских государств, Польше, Швеции и Великобритании, а через их руки — ко всем королевствам и королям, государям и государствам христианских земель». Эти руки — и Швеция, и Англия — предали Чехию! Он должен обращаться прямо к «роду человеческому, и прежде всего ученым, верующим и власть имущим Европы», как у него и сказано, а вместо зачеркнутой «могущественной тройки» написать другое: «Светочи Европы, ученые, благочестивые, высокие мужи, приветствую вас!» Так будет справедливо — приветствовать тех, кому он передает свой факел, чтобы они несли его дальше.
Этот факел должен светить всем. Снова Коменский обращается к Пампедии — всеобщему обучению и воспитанию людей. Пампедия — его любимое детище, ядро «Всеобщего совета», ибо без исправления человека через обучение и воспитание нельзя исправить мир. Пампедия охватит всю жизнь человека, дабы, постоянно обучаясь и нравственно совершенствуясь, он постиг «все необходимое для достойной жизни и достойной смерти».
«...Первое наше желание в том, чтобы до полноты человечности были развиты не отдельные, или немногие, или многие люди, а все и каждый, молодые и старики, богатые и бедные, знатные и незнатные, мужчины и женщины — словом, каждый, кому было суждено родиться человеком, чтобы в конце концов весь род человеческий пришел к культуре независимо от возраста, сословия, пола и народности». И если каждый человек осознает себя составной частью человечества (а для этого он должен изучить, понять, полюбить, уметь делать то же самое, что и любой другой человек в любом месте земли), тогда не будет войн, междоусобиц и люди сумеют создать новый мир, новое общество, основанное на отношениях равноправия и дружбы между народами и между людьми.
И как всегда бывает, растет сочинение, меняется и автор, ведь в процессе работы автор открывает новое, ранее ему неведомое, творит новую действительность, и она как бы в благодарность обогащает его. И порой Яну Амосу кажется, что, идя по той дороге, которую он прокладывает человечеству, и сам становится мудрее, дальше видит и с каждым шагом силы не убывают, а, наоборот, прибавляются.
Январь 1650 года. В Нюрнберге окончательно утверждается Вестфальский мир. В него внесены подробные уточнения и дополнения, касающиеся изменения границ государств и прав стран-победительниц на отдельные города, но относительно Чехии все остается неизменным. Она отдана под власть Габсбургов, следовательно, ей отказано и в свободе вероисповедания. Развеялись последние надежды. Предательство, подтвержденное и при зрелом размышлении, почти полтора года спустя после первого подписания мирного договора, становится вдвойне тягостнее, вдвойне отвратительнее.
Беспросветная ночь опустилась над чешской землей на многие годы, может быть, на века. Ян Амос физически ощущает эту тьму. Мрак в душе. Мрак вокруг — ведь и предательство черного цвета. Уныние охватывает братьев. Что им делать дальше? Может ли существовать община без надежды на будущее?
Теперь эти вопросы прочитываются в глазах каждого, с кем встречается Коменский. И он испытывает глубокую потребность найти ответы на них — ведь иначе нельзя жить. А ответив для себя, поделиться ими со всеми. Но как их найти? Доводы разума молчат. Еще раньше, размышляя о будущем, он обращался к общине, как к хранительнице духа народа, называя ее мысленно матерью. Это было привычно. Но когда умерла Дорота, образ матери в его сознании как бы ожил, обрел конкретные дорогие черты. Ведь и Дорота была матерью, и не только своих детей — она страдала, видя, какие беды терпят изгнанники, и, покуда хватало сил, помогала нуждающимся. Сердце ее было полно любви и горя — сердце страдающей матери.
Ян Амос не мог забыть прощальные слова, сказанные До- ротой детям в свой смертный час: «Любите друг друга, помогайте бедствующим, будьте добрыми и терпеливыми, не забывайте о нашей родине. Я верю, вы еще увидите ее...» И для Коменского эти слова умирающей жены и друга стали ответом на мучительные вопросы, которые поставила перед всеми братьями жизнь. Первые недели после ее смерти горе словно парализовало волю Яна Амоса, но память и сердце сохранили эти слова. Теперь они возвратились, наполненные новым, значительным смыслом. И сама Дорота как бы слилась с образом Матери-общины.
Воображение уже рисовало Яну Амосу картину: умирает Мать-община и зовет к себе детей, чтобы проститься с ними и передать свое завещание. Она утешает одних, ободряет других, наставляет сомневающихся, убеждает опомниться отступников. Она завещает единство, скромность, дисциплину, терпение. Народу своему она оставляет драгоценное наследие, которое просит беречь как зеницу ока, — любовь к правде, заботу о родном языке и о воспитании молодежи, ее будущем...
Необыкновенно быстро, словно на одном дыхании, рождается это сочинение. Мысли и чувства Коменского свободно изливаются на бумагу. Личное справляется с общим, глубокое лирическое самовыражение — со страстью проповедника. Горестную повесть поведал Ян Амос, так и назвавший ее «Завещание умирающей Матери-общины братской», — но смириться с ее смертью он не может. Надежда в его душе побеждает печаль и уныние, и Ян Амос находит заключительные слова, которые вскоре будут передаваться из уст в уста и станут заповедью грядущих поколений: «...Верю, что после урагана гнева власть над делами твоими вернется в твои руки, о народ чешский!»
Сочинение завершено. Оно помогло Коменскому преодолеть душевный кризис и стало, как это уже было не раз, событием в духовной жизни братьев.
В Лешно между тем идут совещания. Что сказать, что предложить братьям? Большинство считает (это мнение высказывается и в письмах из других мест), что необходимо созвать представителей общин братства, существующих в Польше, Пруссии, Силезии, Венгрии, чтобы сообща принять решение, как же им быть. Лешновский синод так и поступает — рассылает послания, и вот на исходе зимы отовсюду, где живут изгнанники, съезжаются в Лешно видные люди общин. Лишь братья из Венгрии никого не прислали, ссылаясь на старость и болезни своих руководителей, которым трудно преодолеть некороткий зимний путь. Они просили посетить их, сообщить, какое будет принято решение, выслушать их мнение.
Посланцы братьев сообщают новые сведения о закулисной стороне политических событий, которые привели к новой расстановке сил в Европе. Предательство имперских князей и Оксеншёрны предстает во всей гнусности. Оказывается, после смерти шведского короля Густава Адольфа и «зимнего короля» Фридриха Пфальцского имперские протестантские князья с целью совместных действий создали особый совет во Франкфурте-на-Майне и сделали председателем канцлера Оксеншёрну. Чешские государственные деятели, живущие в большинстве своем в изгнании в Мейсене, послали к этому совету торжественное посольство, дабы заручиться его защитой (восемь магнатов, восемь рыцарей и столько же из мещанского сословия). Князья и Оксеншёрна дали им обещания — и не только устные, но и подтвержденные грамотой, заверенной имперской печатью, — что Чехии, как видному члену империи, должны быть в любом случае возвращены ее свободы, независимо от того, окончится ли война победой оружия или мирными переговорами. И вот итог: забыты обещания, забыта грамота. Что же стоит слово, подпись, печать сильных мира сего?
Что должны в этом случае предпринять братья? Отказаться от надежд на будущее и слиться с другими народами и церквями? А священникам, следовательно, распустить консисторию, предоставив каждого собственной совести и собственной судьбе? Или оставить все по-старому? Но это значит — обречь людей на новые испытания, без срока, без надежды. Посланцы общин совещаются. Говорят с болью — иного на таком совете, где решается судьба братьев, быть не может. Все понимают: сказанное здесь слово отзовется на будущих поколениях. Многие видные люди, бывшие на родине покровителями общины, связанные с нею из рода в род, горячо возражают тем, кто высказывает сомнение в необходимости сохранения общины. Разрушить то, что в самые трудные времена свято берег народ чешский? Нет, наоборот! Надо укрепить слабеющую дисциплину, вместо почивших епископов поставить других, могущих поднять дух братьев, и так поступать впредь, завещая общее дело потомкам нашим.
Мысли эти на разные лады повторяются во многих речах, и становится ясно, что они отвечают настроению большинства. Сохранение общины с ее демократическим духом особенно важно — и об этом здесь не забывают — и для простых людей, ремесленников, крестьян. Если они лишатся моральной и материальной поддержки общины, то окажутся в положении еще более тяжелом — в тисках нужды, без духовной опоры, без надежды на обучение детей...
Решение принято. Община остается. Как молитву, повторяют, запоминают, записывают, чтобы передать другим, слова Коменского: «...Верю и я богу, верю, что после урагана гнева власть над делами твоими вернется в твои руки, о народ чешский!» Слова эти согревают душу, они необходимы, как глоток воды истомленному жаждой путнику, как соприкосновение с вечно живой родиной. Бывает, важные исторические решения в слове поэта обретают второе дыхание, вторую жизнь.
Коменский становится епископом чешских братьев, и синод поручает ему поехать к братьям в Венгрию, объявить о решении сохранить общину, а затем по своему усмотрению выбрать (если будет в этом необходимость) новых старейшин, укрепить дисциплину и порядок, вдохнуть в растерявшихся людей новую жизнь. Да и сами братья в Венгрии, среди которых у Коменского было много друзей и знакомых, бежавших из Моравии, настойчиво звали именно его. К этому прибавилось еще одно обстоятельство: он получил приглашение приехать в Венгрию для консультаций по вопросам школьного дела и пансофических изысканий от семиградского князя Сигизмунда Ракоци,[113] младшего брата государя Трансильвании. К княжескому приглашению было приложено соответствующее письмо ректора школы в Шарош-Патаке Яна Толная, друга Гартлиба.
В марте Коменский отправился в путь. Но прежде он позаботился, чтобы оставить семью под присмотром верного человека. Ян Амос вступает в третий брак с Яной Гаюсовой, дочерью чешского священника из Тына, нашедшего приют в Голландии. Яна Гаюсова самоотверженно берет на себя заботы о семье. В трудной жизни Коменского, человека необыкновенного — Яна это понимает, — она хочет стать его верным другом и надежной опорой. (Вскоре обе старшие дочери Яна Амоса выходят замуж: Альжбета за молодого друга Коменского Пьера Фигула. Дорота Христина — за Яна Молитора, сына священника в Пухове.)
Во время поездки в Венгрию Коменский снова со всей полнотой ощущает, какая великая сила заложена в духовном единении. В Скалице — первом венгерском городе возле моравской границы, где издавна существует община моравских изгнанников, — Коменского торжественно встречают. Имя знаменитого земляка здесь произносят с любовью. Среди простых людей, среди священников, вельмож и шляхтичей он находит знакомых и друзей молодости по Пшерову, по Фульнеку... Всматриваясь в их лица, которые каждое на свой манер обточило время, оставив неизгладимые меты пережитого, Ян Амос с грустью, но и с гордостью думает о том, как сурово обошлась с ними жизнь, как трудна была дорога. Но они сумели пройти ее, не отступаясь от заветов отцов, потому что чувствовали силу и помощь рядом идущих. Ян Амос не может наговориться с друзьями.
Воспоминания, когда один перебивает другого, сменяются молчанием. Тяжкие мысли, от которых никуда не уйти, как бы сами собой врываются и в прошлое, в молодость...
Но вот собирается совет старейшин, на котором присутствуют многие съехавшиеся в Скалице влиятельные члены общины. Ян Амос рассказывает о положении дела, излагает решение лешненского синода и спрашивает мнение старейшин. Оно единодушно и полностью совпадает с лешненским решением. Коменский беседует со священниками, именем синода утверждает епископом в Скалице Яна Ходниция, избранного еще раньше голосованием. Миссия его не окончена. Вместе с Яном Ходницием, взявшимся сопровождать Яна Амоса, ему предстоит посетить в разных городах Венгрии братьев, живущих в изгнании, повсюду словом своим и авторитетом общины укрепляя единство и дисциплину.
Поездка была плодотворной, но очень утомительной, и в конце ее Коменский усомнился, не отложить ли ему свидание с Сигизмундом Ракоци? В Лешно его ожидали неоконченные труды... Однако братья, с которыми он встречался на своем пути, настойчиво просили его не менять прежнего намерения: ведь они жили во владениях князей Ракоци и пользовались их покровительством. Отказ Коменского посетить Сигизмунда, возвращение с половины пути может обидеть его. А расположив к себе князя, Ян Амос сумеет помогать изгнанникам. На посещении Шарош-Патака настаивает и Ян Ходниций. Снова его миссия священника братства и педагога сливается с миссией политика. Да, он не принадлежит себе. Но не это ли чувство общности судьбы с братьями наполняет его жизнь особым смыслом, дает ему силы для борьбы?
До Шарош-Патака остается примерно девять дней пути. Коменский крайне устал. Весенние ветры пронизывают до костей. Особенно тягостны ночи на постоялых дворах. Комнаты попадаются сырые. К утру, когда уходит тепло, Яна Амоса начинает лихорадить, ноют суставы. А солнце с каждым днем светит ярче, вокруг все зеленеет, и чем ближе они к Шарош-Патаку, тем живее окрестные долины с силуэтами лесистых холмов, синеющих на горизонте, со вспаханными полями, над которыми поднимается беловатый парок, напоминают цветущую Моравию... Городок они увидели неожиданно. Когда дорога поднялась вверх, горы как бы расступились — и открылись дома в окружении деревьев, а чуть в стороне над ними показался красивый замок из желтого камня, окаймленный синеющей рекой.
Коменский был принят Сигизмундом Ракоци в первый же день приезда. Молодой князь, увлекающийся физикой и астрономией, производит на Коменского хорошее впечатление. Он любезен, образован, полон желания способствовать просвещению и просит Яна Амоса, учебники которого приняты во всем мире, по своей системе преобразовать обучение в шарош-патакской гимназии. Беседа их продолжается от обеда до ужина, Сигизмунд покорен широтой ума и глубокими познаниями Коменского во всех областях знания, каких они касались в своем разговоре. В заключение он настоятельно просит Яна Амоса остаться в Венгрии навсегда.
От Сигизмунда Яна Амоса провожают в покои княгини-матери Сузаны, вдовы князя Георга, участвовавшего в Тридцатилетней войне на стороне антигабсбургской коалиции. Мечтающая о просвещении венгерского народа, обескровленного в беспрерывных войнах с турецкими завоевателями, о приобщении его к передовой европейской культуре, она встречает Коменского, как знаменитого педагога, способного осуществить ее планы. Эта просвещенная женщина проникается к Коменскому глубочайшим доверием, восхищается его личностью. Это доверие не смогут поколебать противники Коменского, в которых здесь, как, впрочем, и в других местах, не будет недостатка.
Пока же он окружен всеобщим почтительным вниманием. Самые знатные люди из окружения княгини и князя ищут с ним встреч. Княгиня ласкова и щедра, не забывает и о людях, сопровождавших Коменского. Просьбу сына она подкрепляет новыми доводами, рисуя богатые перспективы для педагогической и просветительской деятельности Коменского, которому будет предоставлено все, чего он пожелает. Целые дни Ян Амос проводит в увлекательных беседах с княгиней и Сигизмундом. В конце концов, склоняясь к тому, чтобы принять их предложение, он говорит, что не волен распоряжаться собой — все должна решить община, а кроме того, есть у него и обязательства (также по желанию братьев) перед де Геером. Княгиня Сузана уверена, что эти препятствия можно преодолеть. Она обратится к общине в Польше с просьбой разрешить Коменскому поселиться в Шарош-Патаке, а князь Сигизмунд — к де Гееру, чтобы договориться об освобождении от обязательств.
Что оставалось делать? Отворачиваться от людей, всегда оказывавших братьям покровительство, от тех, кто стремился к просвещению и на этом пути видел в нем своего наставника? Коменский соглашается, с тем, однако, что его отпустит община и освободит де Геер. Перед отъездом Коменскому вручается пригласительный лист, заверенный княжескими печатями, в котором оговариваются условия его пребывания. Ракоци щедры. Ему назначается хорошее жалованье. Столь же щедро оделив Коменского деньгами на дорогу, княгиня и ее сын дают ему верхового провожатого до самого Лешно, чтобы в случае нужды узнать к нему дорогу и охранять его в пути.
В Лешно Коменский отчитывается перед общиной. Он передает послания от многих церквей, проповедников и от княгини. Главный итог его поездки — община существует, живет, борется. Снова, как и прежде, братья едины перед лицом несчастий и готовы стойко перенести новые испытания. Успех его миссии превосходит все ожидания. Он необыкновенно важен и для поддержания духа братьев. Что же касается отъезда в Венгрию, было решено подождать ответа де Геера, который, скорее всего, освободит его: во-первых, ему трудно будет отказать князю Сигизмунду Ракоци; во-вторых, он пойдет навстречу и самому Коменскому, которому не только покровительствует, но и считает его своим другом.
Уехать... Опять оставить близких, оставить в Лешно братство, давно уже ставшее его второй семьей? А что его ждет в Венгрии? Одиночество? Да, это так. Но кто знает, возможно, именно там ему удастся осуществить свою давнюю мечту — построить новую пансофическую школу, которая станет прообразом школ будущего. Понимая, что удача может прийти лишь в том случае, если она будет хорошо подготовлена, Коменский ставит перед Ракоци условия. Прежде всего высокая по тем временам плата учителям, затем стипендия для бедных способных студентов (несколько мест, в том числе и для юношей, из лешненского братства). Со временем Ян Амос надеется получить и типографию для печатания учебников. Княгиня и молодой князь согласны на все.
Проходит месяц, другой. Покровитель Коменского молчит. Дважды в течение лета Ракоци посылает верхового в Лешно за Коменским. С нетерпением ждут они его приезда. Отказывать уже невозможно без риска лишиться благосклонности Сигизмунда к братьям, живущим в Венгрии, и община отпускает Яна Амоса — пока временно, надеясь, что за зиму он сумеет поставить учебное дело в Шарош-Патаке. Таков и наказ: ехать одному, без семьи, вернуться к весне.
Ян Амос пишет де Гееру еще одно письмо, в котором уверяет, что все происходит не по его воле. Де Геер не должен гневаться, ведь и в Венгрии Коменский будет делать то, что отвечает достойным уважения стремлениям де Геера. Простившись с семьей и братьями, Ян Амос в сопровождении своего верного друга и ученика Пьера Фигула поздней осенью вместе с проводником, присланным княгиней и князем, отправляется в путь.
Впереди была неизвестность. Как солдат долга и совести, Коменский снова вступал в бой, чтобы на деле доказать справедливость истин, которые он утверждал.
Глава одиннадцатая. БУДЬ СЛАВЕН ШАРОШ-ПАТАК!
В первые же дни приезда в Шарош-Патак Коменский почувствовал, как ему будет трудно. Вокруг него создалась атмосфера настороженного любопытства. Разговоры о его фантастических педагогических возможностях будоражили воображение обывателей. Видимо, многие всерьез полагали: стоит ему только приняться за дело, как дворянские недоросли в мгновение ока превратятся в образованных молодых людей, перед которыми откроются разнообразные пути к блестящей карьере. Знатные господа, не стесняясь, торопят Коменского: им кажется, что каждый прошедший день — это упущенная возможность. Нетерпение Ян Амос читает даже в глазах коллег — учителей и кураторов школы. Их шестеро, в числе кураторов личный советник княгини ведущий проповедник шарош-патакской церкви Андрей из Клобусиц и сам ректор Ян Толнай, горячо ратовавший за приезд Коменского.
Однако Ян Амос не спешит с открытием школ, ведь успех будет во многом зависеть от степени подготовленности; он требует, чтобы все латинские учебники имели венгерские тексты, и следит за их печатанием в типографии; ему удается настоять, чтобы были названы наблюдатели и каждое его действие фиксировалось в протоколах. Он как бы ставил небывалый эксперимент, который должен был доказать жизненность его педагогической системы.
Осторожность и неторопливость Коменского вызывают раздражение, пересуды: если он действительно способен творить чудеса наподобие волшебника, как о том твердит молва, то чего же медлить? Может быть, таким образом он поднимает себе цену? Нетерпение растет, а вместе с ним и ожидание чуда. Ян Амос отдает себе отчет, в какой сложной психологической ситуации он оказался. Виною тому не только нелепые слухи и легенды, которыми окружено его имя, но прежде всего необразованность самих дворян. Вот им-то, вместе с тем и всем другим, либо искренно заблуждающимся, либо упорствующим, он должен объяснить, что же такое воспитание человека, каковы его цели, средства достижения этих целей, каких следует ждать результатов и почему воспитание должно быть делом не одного педагога, будь он хоть семи пядей во лбу, но и семьи, и всего общества.
Случай для этого представляется — на открытии школы, согласно традиции, он произнесет речь. Заранее Ян Амос начинает работать над этой речью, которая постепенно вырастает в целый философско-педагогический трактат, ведь по существу он должен кратко и ясно изложить свои педагогические воззрения и внушить всем присутствующим веру не в чудеса — нет! — а в способности человека путем воспитания и образования достигнуть идеала, ибо все необходимые для этого качества заложены в нем самой природой, и цель образования заключается в том, чтобы бережно, умело взрастить их и довести до степени совершенства. Именно эту мысль как основополагающую следует прежде всего развернуть в речи, которую он так и назовет: «О развитии природных дарований».
Но у присутствующих может возникнуть вопрос: каков же этот идеал человека, личности? Какие именно дарованные ему природой свойства следует культивировать и развивать? «Образованные люди, — записывает Коменский, — суть истинные люди, т. е. человечные по своим нравам...» Это главное, пункт первый. Но что это за нравы, что считать человечным? Сравнивая для наглядности людей образованных с варварами, то есть людьми необразованными, он нарисует широкую картину нравов и взаимоотношений людей в образованном народе, «где все служат друг другу, каждый на своем месте выполняет то, что полезно ему и другим». Это будет картина нового идеального общества, основанного на равенстве и справедливости, разумном распределении труда, на законах, обязательных для всех, и личной свободе. Общества, где процветают искусство, наука и ремесла, где каждый являет собой гуманную, духовно богатую личность, а все вместе — счастливый, единый в своих устремлениях народ. Путь к нему — воспитание и образование человека.
Показав, что дает каждому народу образование, поднимающее его на высшие ступени процветания духовной и материальной культуры, он укажет средства, ведущие к достижению цели образования, и раскроет его содержание, отвечающее потребностям жизни. В заключение он произнесет слова, ободряющие венгров в их благом начинании, и повторит, что образование нужно для всех и заниматься им должно все общество. Он обратится ко всем присутствующим — к власть имущим, к профессорам и учителям, к ученикам.
24 ноября 1650 года на торжественном открытии в шарош-патакской гимназии новых двух классов в присутствии многочисленной публики, знати, уважаемых граждан, должностных лиц и общественности Коменский произносит эту речь. Ее гуманистический и демократический пафос, смелость и новизна педагогических взглядов, искренность тона и необычная эмоциональность производят на слушателей большое впечатление.
Однако далеко не всем она приходится по душе. Кое-кто из высокопоставленных дворян раздосадован, возмущен. Так вот к чему призывает этот новоявленный педагогический мессия — ко всеобщему образованию! Он не делает различия между благородными отпрысками знатных семей и детьми простонародья! Он осмеливается утверждать, что, независимо от происхождения, все, будь то высокородные дворяне или мужики, в равной мере наделены природой качествами, которые делают людей «маленькими богами». Сыновья наших кучеров, лакеев, смердов — «маленькие боги»? Да, к тому же он и не обещает быстрого результата. Похоже на то, что и не стремится к тому, чтобы в краткие сроки обучить юных дворян латыни и всему прочему необходимому для почетной службы при дворах государей. А вместо этого рассказывает сказки об обществе, которого никогда не существовало и не может существовать, ибо не было и не будет сплошь образованного народа. В противном случае кто же будет делать черную работу?
Речь, вдохновившая сторонников широкого просвещения, вызвала раздражение других и дала пищу для новых кривотолков и пересудов. Четырьмя днями позже, 28 ноября, перед началом занятий Коменский произносит вторую речь — «Об искусном пользовании книгами — первейшим инструментом развития природных дарований». С воодушевлением, которое передается ученикам, Ян Амос говорит о книгах: «Словно задушевные друзья, они охотно беседуют с нами и, искренне, без обмана рассказывая по нашему желанию о чем угодно, учат нас, наставляют, ободряют, утешают и как бы зримо являют нам самые далекие от наших глаз вещи. О дивное могущество книг, их величие и чуть ли не божественная сила!»
Ян Амос не только передает свою любовь к книгам, стремясь воспламенить ею своих учеников, он призывает учителей учить, как надо работать с книгами, делится своим опытом, дает советы и рекомендации. Он учит и различать книги, говоря, что надо читать прежде книги реальные, нежели наполненные пустыми словами, то есть те, что толкуют о вещах, нужных для жизни. Гимн Коменского книгам — это гимн человеческой мудрости, культуре, знаниям, постоянному стремлению к совершенствованию. Тем, кому не понравилась первая речь, вторая добавила масла в огонь. Коменский старается не замечать ни разговоров за спиной, ни косых взглядов. Он целиком отдается школьной работе. Пока он пользуется благосклонностью князя и княгини-матери, никто из недоброжелателей и прямых завистников не смеет открыто поднять против него голос.
Занимаясь школьными делами, Коменский одновременно работает над новым сочинением, которому суждено занять видное место среди его трудов. Уже из одного названия, если привести его полностью, очевидно, с какой целью пишется этот педагогический трактат: «Пансофическая школа, то есть школа всеобщей мудрости, — и затем более мелким шрифтом, — учреждение которой было желательно уже многие годы у всех народов и которая теперь под покровительством сиятельного господина Сигизмунда Ракоци счастливо призвана к жизни у Венгров в Шарош-Патаке в 1651 году спасения нашего». Чтобы построить такую школу на практике, Коменский в своем трактате создает проект этой новой пансофической школы второй ступени, дающей полное среднее образование. Он подробно разрабатывает все вопросы организации и работы школы, обосновывает ее цели и задачи, последовательно раскрывает содержание, методы и формы обучения, выдвигает требования к учителям и ученикам. Он предусматривает все, каждую мелочь, могущую иметь практическое значение. Коменский хочет, чтобы не осталось никаких сомнений, чтобы с полной верой в реальность проекта все принялись за дело.
Однако явные и скрытые противодействия Коменскому возрастают. Его противниками становятся даже кое-кто из кураторов школы, в ком он видел своих единомышленников, и среди них ректор школы сам Ян Толнай! И все-таки Ян Амос не сдается, хотя каждый следующий шаг дается со все большим напряжением. Открытую оппозицию среди некоторых влиятельных лиц родовитого дворянства вызывает, например, его требование предоставить равные права на обучение в школе мальчикам и девочкам, всем детям, независимо от происхождения. Совсем другого ждали они от Коменского! Невиданная раньше школа отпугивает демократизмом, новым духом обучения и воспитания, побуждающим учеников — и в их числе детей простонародья! — самостоятельно мыслить, ощущать свое человеческое достоинство! Во всем этом мерещится крамола, даже некая скрытая угроза.
Атмосфера недоброжелательства, сопротивление ректора школы Яна Толная и некоторых учителей заставляют Коменского думать об отъезде. К тому же прошел почти год пребывания в Шарош-Патаке, и Ян Амос получил напоминание из Лешно о возвращении. Он решает уехать и обращается с этой просьбой к Сигизмунду Ракоци. Но молодой князь не хочет об этом и слышать. Предстоит его свадьба с Генриеттой Пфальцской, дочерью последнего чешского короля, и он желает, чтобы венчал их только Коменский.
Бракосочетание состоялось в июне 1651 года. Глядя на Генриетту, стоящую перед ним рядом с Сигизмундом, Коменский вспоминает такой же солнечный летний день тридцать два года назад, когда ее отец Фридрих Пфальцский короновался в Праге, а он сам, молодой, полный сил и надежд, шел в рядах торжественной процессии, со всех сторон несся колокольный звон и толпа пражан приветствовала их радостными криками... Кто мог тогда предположить, что чехи вскоре потерпят это ужасное поражение под Белой Горой, которое ввергнет народ в пучину страданий и бедствий на целые десятилетия, а Фридрих, спасаясь паническим бегством, трусливо примет все условия победителей? Процарствовав лишь одну зиму, он и остался в народной памяти «зимним королем». Может быть, молодой Сигизмунд Ракоци, беря в жены дочь последнего чешского короля, так и не сумевшего вернуть себе власть, осуществит его миссию и явится спасителем чешского народа? С этой мыслью Ян Амос соединяет руки жениха и невесты.
Но надеждам Коменского не дано осуществиться: Сигизмунд не склонен бороться за чешскую корону. Молодому князю, влюбленному в свою жену, довольно богатств и власти, принадлежащим ему по праву рождения, он упивается своим счастьем и ни о чем ином не помышляет. Увы, счастье его кратковременно: через три месяца супружеской жизни от болезни Генриетта умирает. Сигизмунд неутешен. Об освободительном походе в Чехию он не желает и думать, а еще через несколько месяцев от эпидемии оспы, охватившей все княжество, погибает и он сам. А вместе с ним хоть и слабая, но все-таки реальная надежда на близкое освобождение Чехии.
Теперь, кажется, Коменского ничего не держит в Шарош-Патаке, тем более что князем становится Георг II, человек, не приверженный к наукам и просвещению, больше всего занятый своими удовольствиями. Ян Амос обращается с просьбой к княгине-матери — единственной, с кем он считает себя связанным словом, — отпустить его. Она настойчиво уговаривает его остаться. Коменскому приходится уступить. Но бороться за школу становится все труднее. Уже дает свои плоды противодействие ректора Яна Толная и тех, кто идет за ним. Рутина и косность снова захлестывают учителей — одни сдаются от усталости, ибо требования Коменского выполнимы лишь при постоянном напряжении всех сил; другие, приверженцы Толная, намеренно предаются привычной беспечности. Ученики теряют интерес к учению.
Ян Амос должен защитить пансофическую школу — и не только перед гражданами Шарош-Патака, но и перед современниками, перед будущим. Для этого ему необходимо проанализировать причины, ведущие школу к упадку, указать, что их порождает и как преодолеть зло. Перо всегда было самым сильным его оружием, и он пишет своеобразный памфлет-трактат «Воскресший Форций, или Об изгнании из школ косности», в котором страстно обличает косность, нерадивость, некомпетентность учителей, что и приводит к развалу всей учебной работы. Уже одно обращение этого сочинения — «Ко всем гражданам всех школ, особенно же к проницательным попечителям в Патаке» — имеет свой подтекст, ибо «проницательные попечители славной школы в Патаке» равнодушно взирают, как косность, нерадивость губят школу и учеников. «Мне же, — говорит Коменский в самом начале, — предстоит теперь вступить в бой с язвою школы — косностью, повод к чему подает нам поднятая давно одним мудрым человеком жалоба на небрежность и на поверхностное только исполнение обязанностей почти всеми, кто учит в школах, не исключая наших. Казалось, можно было надеяться, что, раз возможен свет лучшего метода, господствующая в школах рутина тем самым хоть до некоторой степени будет вытеснена. Но что пользы зажигать факел, когда люди не хотят открывать глаз?»
Эти стрелы бьют в конкретную цель, в конкретных людей, ибо обрисована конкретная ситуация, сложившаяся в Шарош-Патаке, да Коменский несколько раз прямо говорит о «нашей», то есть шарош-патакской школе. Но вместе с тем это сочинение, написанное в форме яркой, темпераментной речи, имеет общее значение, поскольку в нем раскрывается учебный процесс во всех его звеньях. Анализируя формы и методы обучения, Ян Амос сосредоточивает внимание на учителе как на главной фигуре в школе. Впервые в педагогической литературе так полно и подробно во всех аспектах рассматривается труд учителя. Коменский не упускает ни одной из сторон жизни и деятельности учителя: его роль во всем учебном процессе, требования к нему, взаимоотношения с учениками, поведение, материальное положение, общественное и психологическое самочувствие, необходимость постоянного самообразования, осуществление связи школы с семьей, наконец, контроль за его работой.
Ян Амос исследует, размышляет, утверждает. Яркими красками рисует он идеальный образ учителя — человека высокой культуры, высоких нравственных и интеллектуальных качеств, мастера своего дела, постоянно совершенствующегося. Ведь от учителя зависит все: отношение учеников к учению, их успехи, дисциплина, нравственный облик. Учитель должен в совершенстве овладеть искусством «учить всех, всему, приветливо и приятно», учитывая особенности каждого возраста, побуждая детей личным примером к активности, самостоятельности, постоянному интересу к знаниям.
Коменский необычайно высоко ценит учителя, если он соответствует своему призванию и назначению, но как меняется его тон, когда он говорит об учителе-рутинере («раб полуобразованности»), проводнике косности, которая разлагает школу! Трактат «Воскресший Форций», в котором пафос утверждения соседствует с иронией, язвительностью, стал одновременно и обличением, и назиданием, и программой действия. Название точно передает его смысл: воскресить Форция (Коменский чрезвычайно ценил сочинения Иоахима Форция Рингельберга «Об основах учебных занятий» и переиздал его в Шарош-Патаке) — значило возродить новую школу, следовательно, изгнать из нее косность.
Издать это сочинение в Шарош-Патаке Коменскому не удается. Однако главные его положения он неоднократно высказывает в беседах со школьными учителями, и хотя бы таким образом идеи его получают распространение.
В это же время Коменский пишет свой знаменитый учебник «Мир чувственных вещей в картинках». Это для самых маленьких, для тех, кто собирается идти в школу, а затем в школе делает первые шаги в овладении грамотой. Ян Амос давно мечтал написать эту книгу. Он словно видит перед собой малышей, любознательных, с широко открытыми глазами, перед которыми он распахивает в картинках и описаниях красочный многообразный мир. Не раз в своих дидактических сочинениях он высказывал ту принципиально важную мысль, что слова нужно преподавать и изучать не иначе как вместе с вещами. Ведь вещь есть сущность, а слово — кора и шелуха. Следовательно, то и другое нужно представить человеческому уму одновременно.
Коменский стремился осуществить этот принцип в учебнике латинского языка «Открытая дверь языков», но все же он считал его слишком трудным для первоначального усвоения языка и написал «Преддверие к открытой двери языков». И вот, когда оба учебника, один продолжая другой, легли перед ним на стол, у него и возник замысел «Чувственного мира в картинках» — первой книжки, с которой должно начаться изучение азбуки и основ латинского языка (параллельный язык — родной) одновременно с постепенным расширением сведений о жизни, о предметах, явлениях, образующих в своих взаимосвязях картину мира в целом. Первый этот учебник, попадающий в руки ребенка, должен стать путеводным факелом к «Преддверию» и «Двери языков». В нем в определенном порядке следует показать все — да, все! — сущее и притом представить не только сами вещи, но и их отношение друг к другу и к миру в целом. Ах, если бы ему удалось описать все это ясно, просто, красочно, открывая при этом истинную сущность каждого предмета!
Закончив несколько глав, Ян Амос просматривает сделанное, читает вслух, размышляет над общим планом, последовательностью изложения. Придирчиво разглядывает он картинки, эскизы, которые сам рисовал с такой любовью, добиваясь простоты, точности, выразительности. Вот первая картинка к введению: учитель и мальчик. Над ними небо с облаками, светит солнце, на заднем плане виден город. Первый краткий диалог. Справа — первые латинские слова. Он перебирает страницы. Неодушевленная природа — девять картинок, растительный мир — шесть картинок, мир животных — шестнадцать картинок и затем все о человеке, его происхождении, возрастные ступени, его организм, деятельность людей, их моральные качества, отношения в семье, в городской общине, в государстве, в церкви...
Здесь необыкновенно важна последовательность — от простого к сложному, от конкретного к абстрактному. Наиболее подробно, точно и всесторонне описывает он человеческую деятельность: сначала различные виды сельскохозяйственной обработки земли — садоводство, земледелие, скотоводство, — потом производство, включая, например, добычу руды, получение из нее металла, далее идут главы: «Кузнец», «Столяр», «Токарь», «Гончар», «Искусство письма», «Бумага», «Типография»... Более сложные сферы интеллектуальной деятельности (наука, искусство) — в конце... «Книга, — записывает Ян Амос в предисловии, — как видите, небольшого объема. Однако она содержит краткий обзор всего мира и всего языка и наполнена рисунками, наименованиями и описаниями предметов».
Итак, эта книга будет школой или театром видимого мира, преддверием школы интеллектуальной, хотя Ян Амос дает и отвлеченные понятия, не усвоив которые нельзя стать человеком, такие, как трудолюбие, мудрость, этика, мужество, терпение, человечность, справедливость, щедрость... Он раскроет их содержание с помощью сравнений, живых образов, понятных слов. Несколько раз Ян Амос переписывает главу «Человечность», уточняя, дополняя, сокращая лишнее, чтобы как можно точнее и полнее выразить сущность понятия.
Работается легко, но книга все-таки медленно подвигается к своему завершению — так тщательно, взвешивая каждое слово, он отделывает текст. Однако наступает момент, когда на стопку исписанной бумаги Ян Амос кладет последний заполненный четким убористым почерком лист с главой заключения. Он счастлив. Книга написана так, как ему хотелось, как мечталось. С чистой совестью он может сказать читателям в предисловии, что цель учебника — дать краткий обзор всего мира и всего языка, чтобы изучить предметы, полезные для жизни, — достигнута. И еще он выскажет свою любимую мысль, освещавшую его труд: образование будет полным, если ум обрабатывается для мудрости, язык для красноречия, руки для искусного исполнения необходимых в жизни действий. Эти три вещи — разум, действие и речь — и есть соль жизни человека.
Коменский распахивает окно. Прохладный ветерок доносит шелест деревьев, а там, в безбрежной вышине, льется звездный дождь. Окно во Вселенную, в бесконечные миры.
Майская ночь 1654 года.
***
Ян Амос трудится ради школы не покладая рук, но не видит просвета. Он тоскует по братьям. Отсюда, из Венгрии, где у него немало недоброжелателей, Лешно представляется ему как бы маленькой частичкой родины, перенесенной в Польшу. Здесь в постоянной борьбе прошло почти три года. «Чего я сумел добиться?» — порой спрашивал себя Коменский. Он не смог даже полностью переломить привычку учителей обращаться с учениками, как с рабами. Его требование к учителям заинтересовать учеников, сделать занятия легкими, привлекательными воспринимались с насмешкой, как по меньшей мере чудачество. Его дидактические принципы, которые он не уставал разъяснять, игнорировались. А дворянство — он уже давно убедился в этом — смотрит на образование как на необходимую подпорку для карьеры своих отпрысков. О том, чтобы они получили основательные знания и нравственные понятия, которыми бы руководствовались в жизни, отцы и не помышляют. Неужели время потрачено впустую? А оно неумолимо отсчитывает на своих часах отпущенные ему судьбою дни...
В конце 1653 года Коменский узнает о смерти Людовика де Геера. Ушел из жизни еще один друг, своенравный, деспотичный, но разделявший его устремления и по-своему искренне преданный ему. Ян Амос остро ощущает эту потерю и перед собранием дворян, священников и студентов произносит надгробное слово. С искренними чувствами он воздает должное де Гееру как меценату, способствовавшему просвещению, как другу и покровителю. Напечатав свою речь, он отсылает ее в Амстердам и вскоре получает ответ от Лаврентия де Геера, сына покойного Людовика де Геера, в котором, спрашивая Коменского о пансофических трудах, молодой де Геер обещает дальнейшее покровительство. Это важное известие побуждает Коменского к более решительным действиям, чтобы ускорить свой отъезд из Венгрии. Он пишет в Лешно письмо, в котором просит общину обратиться к княгине с требованием отпустить его.
Получив такое послание («Знай, Ваше высочество, что Коменский у нас — лицо, принадлежащее общине, — писали братья, — его отсутствие терпеть больше нельзя»), княгиня приглашает к себе Коменского и ректора школы со всеми кураторами. Она догадывается, в чем причина его столь настойчивого желания уехать, но хочет знать, что скажет Коменский, и упорно его расспрашивает. Ян Амос отвечает, как всегда, со всей откровенностью. Этот разговор он считает настолько важным, что целиком записывает его в дневник и много лет спустя почти полностью приведет в своих воспоминаниях.
— Ведь здесь не происходит ничего достойного моего присутствия, — говорит Коменский княгине, — я по существу переношу насмешки над своими дидактическими усилиями и должен буду переносить еще больше, если останусь здесь долее. — Затем, уступая просьбам княгини, он поясняет: — Весь мой метод направлен на то, чтобы школьная подневольщина превратилась в игру и забаву, этого никто здесь не хочет понять. С юношеством, даже дворянским, здесь обращаются совершенно как с рабами, учителя основывают свой авторитет на хмуром выражении лица, грубых словах, даже побоях и предпочитают, чтобы их боялись, нежели любили. Сколько раз публично и частным образом я делал замечания, что это неправильный путь, — все тщетно...
Коменский говорит даже, что для изгнания душевной вялости и возбуждения живости он предлагал театральные представления, но встретил решительное противодействие.
Княгиня упрашивает Яна Амоса остаться еще хотя бы на одну зиму, чтобы испытать действенность своего метода (имея и виду театральные представления), она дает ему для этого все полномочия и резко бросает в сторону кураторов:
— Приказываю, пусть никто не смеет противодействовать!
В тот же день княгиня на зиму уезжает в Трансильванию.
Коменский с согласия Толная, отвергнувшего другие сюжеты, останавливается на инсценировке «Двери языков». В течение нескольких дней из первых двадцати глав он составляет диалоги для представления, отбирает учеников-исполнителей, распределяет роли и начинает репетиции.
Единственным условием участия в этой заманчивой игре Коменский ставит хорошую успеваемость. Объяснив задачи актерам, он предоставляет им полную свободу. И если порой поправляет их, то делает это незаметно, как бы советуя. Занятия-репетиции увлекают учеников. Латынь, вызывавшая у многих из них страх и отвращение, становится увлекательной. Она как бы оживает, когда они произносят звучные фразы, наполненные смыслом, — ведь на сцене происходит действие, в котором они сами участвуют. Исчезают скованность, робость, лень. Ян Амос не узнает этих увальней с сонными глазами, считавших минуты до окончания урока.
...На исходе декабрь. Уже месяц в свободное от школьных занятий время идет подготовка к драматическому представлению, в котором занято 52 ученика. Коменский не жалеет ни сил, ни времени. Он чувствует, что вокруг него сплотился дружный коллектив. Да и сами репетиции доставляют ему удовольствие, а кроме того, он понимает, как ревностно следят противники за его действиями, желая ему провала, и как важно выиграть это сражение, ибо победа будет означать победу его педагогической системы, тех новых принципов, которые он утверждает.
Наконец наступает день премьеры. Для начала Коменский выбирает небольшую аудиторию, которая сплошь заполняется публикой — учениками старших классов, официальными лицами, членами школьного совета. Не без труда Ян Амос сохраняет обычное спокойствие. Но вот, кажется, все приглашенные в сборе. Пора начинать...
Успех превосходит все ожидания. Актеры играют с таким увлечением, что вызывают восторг публики. Даже самые застенчивые и косноязычные держат себя на сцене свободно и естественно, произносят без запинки длинные монологи. По мере того как развертывается действие, растет изумление взрослых.
Коменский одерживает очень важную победу. После окончания представления один из попечителей школы публично высказывает слова восхищения.
— Признаемся, — говорит он, — что до сих пор мы не знали, сколько тайн содержит твоя книга «Дверь языков» и сколько пользы она приносит юношеству, ныне же мы были очевидцами этого... Умоляем тебя, Коменский, — продолжает он, — не уходи от нас до тех пор, пока всю «Дверь языков» не переработаешь в такие приятные пьесы. Мы обещаем, что эти упражнения будут прославляться в наших школах на вечную память твоего имени.
Коменский благодарит и выражает надежду, что отныне ученики будут заниматься с еще большим усердием.
Весть о представлении быстро расходится по всей округе. Приходят письма от родителей, чтобы их заранее предупредили, когда будут последующие представления. Теперь аудитория уже не может вместить всех желающих, приходится играть под открытым небом на школьном дворе. Успех возрастает с каждым новым представлением. На предпоследнее представление (в нем действующие лица обсуждают нравственные проблемы) съезжаются уже все и отовсюду — вельможи, магнаты, предпочитающие обычно не вылезать из своих поместий, дворяне, лица, занимающие общественные посты, члены магистрата, чиновники, даже Ян Толнай счел достойным для себя присутствовать на нем. Представление снова проходит с большим успехом и выливается в торжественное чествование Коменского...
В мае возвращается княгиня Сузана. Она хочет, чтобы прощальное представление состоялось во дворе замка. Коменский и артисты готовятся к нему с особенным волнением — все прекрасно понимают значение этого дня. В распоряжении артистов целый месяц. Они готовят заключительную сцену, где появляется египетский фараон Птоломей со свитой и где в общей беседе говорится об огромном значении Пансофии. Все свободное время отдается репетициям. Но никто не устает, никто не жалуется, ученики готовы работать день и ночь.
Наконец наступает 1 июля. Ясный солнечный день как бы предвещает удачу. Задолго до назначенного часа двор замка заполнен зрителями. Сюда съехались все, кто мог попасть на это представление. Подмостки, заменяющие сцену, установлены почти в центре замкового двора. Ближе к ним сидят вельможи, богатые магнаты, знатные дворяне, затем священники, важные городские чиновники, уважаемые в городе лица, еще дальше — студенты, ученики старших классов. Но вот под центральной аркой крытой галереи появляется княгиня со свитой. Можно начинать... И снова необыкновенный успех, да еще более громкий, нежели прежние! И снова — и на этот раз при благосклонном участии княгини и всего двора — торжественное чествование Коменского...
Когда оно завершается, советники княгини по ее поручению уговаривают Коменского остаться в Венгрии. Но Ян Амос непреклонен. Он считает себя свободным, ибо все последние условия княгини им выполнены. Полная сценическая обработка «Двери языков» закончена, переписана набело для печати и передается княгине, как она и пожелала. Новое сочинение он назвал «Школа — игра, или Живая энциклопедия». Он надеется, говорит Ян Амос, что оно с пользой послужит учащейся молодежи в Венгрии. Перед уходом Коменский просит господ советников послезавтра пожаловать на его прощальную речь...
Выйдя из замка, Коменский оказался во внутреннем дворе. Двор был пуст, слуги успели убрать скамейки, подмести мусор, и только пустые подмостки напоминали о том, что полтора часа назад здесь гремели аплодисменты, раздавались восторженные речи. Все проходит — труды, поражения, праздники, победы... Что же остается? Лишь только то, что живет в сердцах и памяти людей. И тогда содеянное не умирает, а передается от одного к другому и какими-то неведомыми путями переходит к последующим поколениям, воплощается в их стремлениях и делах. Если бы было не так, жизнь человеческая лишилась бы смысла. Культура не могла бы существовать.
Что же оставляет он в Венгрии? Полностью осуществить свой проект пансофической школы ему не удалось: шарош-патакская школа ныне имеет один подготовительный и пять последующих классов вместо семи. И все же школа действует. Остается традиция, ученики, учителя, которые шли за ним, хотя их было и немного. Какую-то искру заронил он и в сердца родителей, чьи дети учились в его школе.
Оказавшись за воротами замка, Коменский пошел не в сторону города, где при школе была его квартира, а налево к реке, которая с трех сторон плавно огибала замок. Ему хотелось побыть одному, проститься с местами, где совершал далекие прогулки, любуясь цветущей природой, напоминавшей Моравию, где встречал крестьян, наблюдал за их работой в поле.
Небольшая быстрая река, берущая начало в горах, сверкала на солнце. Ее чистая голубизна отражала небо, по поверхности медленно скользили тени облаков. Коменский перешел через деревянный мостик и углубился в поле. Тропинка, поднимаясь все выше, привела Яна Амоса на холм. Он оказался в буковой роще, где, сидя под деревом, любил в летние дни читать и писать. Здесь под легким ветерком шелестела листва, и, казалось, ничего в мире не существует, кроме зеленеющих внизу полей, высокого синего неба и солнечных лучей, пробивающихся сквозь листву. Как награду за самоотверженный труд и искреннее желание добра и счастья венгерской земле и народу, живущему на ней, воспринимал Коменский этот дивный день, вместивший в себя торжество его идей, тепло благородных сердец и незабываемые минуты единения с вечной прекрасной природой...
Свои чувства к Венгрии и венгерскому народу Коменский выразил в небольшом трактате «Счастье народа», над которым он работал последнее время. Наброски уже готовы, осталось связать их воедино, снова пройтись пером по всей вещи в целом. Он это сделает уже в Лешно. Он хочет надеяться, что, будучи изданным, трактат окажет воздействие на правителей и мысли, высказанные им, станут достоянием многих государственных и ученых мужей, священников, проповедников, учителей и той просвещенной части дворянства, которая понимает нужды народа и стремится к облегчению его участи. Овладев многими людьми, идеи трактата, может быть, будут оказывать влияние и на ход событий. А Венгрия нуждается в глубоких переменах. Ее плодородные земли почти безлюдны, крестьяне пребывают в оковах рабства, трудятся из-под палки. Они не умеют, да и не хотят, правильно ухаживать за полями, ибо земля принадлежит не им. Господа же не заботятся ни о культуре земледелия, ни о развитии ремесел, ни о воспитании молодежи. Нужда, голод, болезни опустошают этот край, который мог бы быть счастливым. Невежество и эгоизм власть имущих губят многострадальный народ.
Что же необходимо сделать, чтобы наступило всеобщее благополучие? В чем же счастье народа? Размышляя над этим, Ян Амос развивает свои излюбленные идеи о естественном праве народов, о великой силе просвещения. Народ должен быть свободным от рабства и иметь равные права со всеми членами общества. Эти права должны охранять само государство, единые для всех законы. Государство обязано заботиться и об образовании народа, одинаковом для всех, без каких-либо различий.
Опережая свое время, Коменский бесстрашно ставит самые острые социальные и политические проблемы, рассматривая нужды народа во всех сферах — законодательной и правовой, социальной, экономической, религиозной и нравственной. Он мечтает увидеть Венгрию счастливой, процветающей страной и в конце трактата обращается к Георгу II с призывом освободить чешский народ от ига Габсбургов. Трактат, проникнутый демократическими и гуманистическими идеями, становится источником вдохновения для многих поколений.
...Зеленые, усыпанные цветами луга, кое-где колосящиеся поля; чуть дальше то выше, то ниже среди густой листвы виднеются красные крыши, колокольня собора, недалеко от нее три здания, образующие как бы прямоугольник без одной стороны, — там находится школа с аудиториями, актовым залом, библиотекой; школьный двор, общежитие студентов, его квартира. А над городом, омываемые солнечной синевой, высятся зубчатые стены и башни замка из желтого камня, кажущиеся золотистыми под лучами солнца. Сверкающая голубизной лента реки, мягко огибая холм, на котором стоит замок, спускается вниз и скрывается за невысокой грядой, ближние горы со всех сторон замыкают долину, за ними видны другие, уходящие к горизонту и чуть темнеющие на фоне неба... Коменский долго смотрит на город. Легкий ветерок шевелит волосы, освежает лицо.
Прощай, славный Шарош-Патак!
В актовом зале школы произнесена прощальная речь. Вслед за крытой повозкой, сопровождаемый всей школой, многими дворянами, священниками, идет Коменский. За чертой города он останавливается, снова прощается — и так несколько раз, пока не остается несколько студентов, провожающих его далеко за город. Так бывало не раз в его скитаниях: покидая город, где ему приходилось бороться, порой терпеть нужду, обиды, Ян Амос оставлял там и многих верных друзей, частицу своего сердца. Глядя на удаляющиеся фигуры, Коменский испытывает грусть: кончилась целая полоса в его жизни...
Глава двенадцатая. ОГОНЬ ПОЖИРАЕТ ВСЕ
По пути в Лешно Коменский делает небольшие остановки в городах. Он мечтает хотя бы немного отдохнуть с дороги, но слава опережает его. Члены магистрата, профессора устраивают торжественные встречи, студенты провожают до дверей гостиницы. Имя его широко известно в Европе, даже обывателям любопытно взглянуть на знаменитого философа, способного — стоит лишь ему захотеть — любого дурака в короткие сроки обучить разным премудростям. В Прешове и Левоче его приветствуют с особенной сердечностью — ведь там в школах занимаются по его методу.
Но популярность Коменского оборачивается и против него. Предстоящий маршрут известен, он не скрывает, какие города намерен посетить (те места, где живут изгнанники-братья), и вот, следуя через Нижнюю Венгрию, он видит скачущего навстречу всадника, который предупреждает, что в том месте, куда направляется Коменский, его ждут, чтобы арестовать. Известно, что Габсбурги давно охотятся за Коменским, а царствующий император Фердинанд III объявил его даже своим личным врагом. Однако друзья Коменского оказались хитрее шпионов Фердинанда. Ян Амос благополучно прибывает в Лешно другим путем.
Он чувствует себя счастливым в семье, в окружении родных людей. Только теперь он понимает, как все эти годы не хватало ему Яны и детей. С гордостью смотрит он на повзрослевшего Даниила. Мальчик здоров, сообразителен и сердечно привязан к Яне, заменившей ему мать. Радостным встречам нет конца, но настают и суровые будни. Совет старейшин общины с нетерпением ждал его приезда. Дело в том, что в связи с переходом в католичество правителя Лешно Богуслава Лещинского положение общины значительно осложнилось. Атмосфера веротерпимости, испокон века господствовавшая в городе, резко меняется: в ней преобладает теперь дух ненависти и вражды. Иезуиты чувствуют себя хозяевами города. В этих условиях особенно требуются сплоченность и дисциплина, к тому же тяжело болен первый епископ Вацлав Лохар и, видно, дни его сочтены...
Ян Амос с головой погружается в дела общины. Читает проповеди, ободряет упавших духом людей, его поддержку и помощь ощущают многие, и прежде всего бедняки, больные, вдовы... Вскоре Вацлав Лохар умирает. Община выбирает первым епископом Коменского. Он отказывается, ссылаясь на то, что собирается ехать в Голландию, чтобы окончить начатые труды и издать их. Но старейшины непреклонны, тем более что они готовы дать ему помощника, который будет посещать больных, обслуживать крестины, похороны и прочее в этом роде; за Коменским же останется общая ответственность за всех. Яну Амосу приходится согласиться. Правда, он ставит условие: старейшины должны собираться в определенные дни для обсуждения его пансофических работ в присутствии нескольких студентов богословия, чтобы эти студенты переписывали одобренные части набело, причем каждый отдельно (ради их сохранения в случае каких-либо несчастных происшествий). Разумеется, это условие единодушно принимается.
В трудное время становится Ян Амос духовным главою общины, объединяющей изгнанников, теряющих последние надежды обрести родину, которую могут не увидеть и их дети, выросшие на чужбине. В среде братьев возрождаются пророчества и хилиастические мечтания...
Вестфальский мир принес лишь временное успокоение. Борьба протестантских стран, где к власти пришла буржуазия, с реакционными католическими монархиями продолжается — в торговом и дипломатическом соперничестве, в политических и дипломатических столкновениях. Англия завоевывает в Европе небывалое влияние, захватывает морские торговые пути, новые рынки для сбыта своих товаров.
Неожиданно шведская королева Христина переходит в католичество и отрекается от престола. Королем становится Карл X Густав.[114] Он молод, честолюбив, мечтает о славе великого полководца. В любую минуту он готов встать во главе шведских войск ради новых завоеваний. А тут польский король Ян Казимир[115] предъявляет права на шведский престол. Шведско-польская война становится неизбежной.
Коменский все еще не теряет надежды на освободительный поход Георга II Ракоци. Между ним и трансильванским князем идет оживленная переписка. Из Лешно Яну Амосу виднее, что происходит в Северо-Западной Европе, похожей в эти дни на закипающий котел. Домика Коменского не минуют и венгерские послы, отправляющиеся в Англию или Швецию, — Ян Амос вручает им рекомендательные письма, проекты деклараций, послания. Для него ясно, что порукой освобождения Чехии может быть лишь единство протестантских стран, и прежде всего Англии и Швеции, противостоящих на мировой арене католическим государствам.
В Англии и Швеции у Коменского немало влиятельных друзей. В письмах и посланиях к ним Коменский стремится убедить в необходимости прочного единства всех протестантов и срочной помощи Венгрии, готовой выступить против Габсбургов. Идея нового союза протестантских стран вдохновляет Коменского. Он убежден, что лишь такой союз способен уничтожить габсбургскую тиранию. Письма, которые Ян Амос пишет тайнописью или невидимыми чернилами, он рассылает со специальными курьерами, ибо шпионы Фердинанда бдительно следят за ним: Вена отдает себе отчет, какого могущественного врага она имеет в лице Коменского, и дорого бы дала, чтобы схватить его.
Весной 1655 года приближающаяся война разразилась — шведы вторглись в Польшу. Они стремительно продвигаются. Польский король — и это похоже на паническое бегство — отступает в Силезию и там собирает силы. Как развернутся события дальше? Они могут привести к войне протестантских стран с Австрийской империей и в конечном счете к освобождению Чехии, но все может ограничиться и польско-шведским конфликтом. Пока же крупная польская знать, фактически предавая своего короля, вступает со шведами в переговоры. Могущественные магнаты готовы отдать несколько укрепленных городов, лишь бы остались в неприкосновенности все их привилегии, равно как и все земли и поместья. Переговоры ведет от католиков управляющий Лешно барон Георг Шлихтинг. Этот город в числе прочих отдается шведам. Коменский с представителями муниципалитета Лешно выезжает навстречу шведам и добивается обещания не чинить обид жителям и не наносить вреда городу.
Общая ситуация благоприятна для выступления Ракоци против Габсбургов. Теперь Венгрия будет поддержана могущественной Швецией. В Шарош-Патак идет очередное послание Коменского. Снова он оказывается в центре событий. О продолжении пансофических трудов нечего и думать. Все начатые рукописи отложены до лучших времен. По совету Георга Шлихтинга Коменский пишет панегирическое сочинение, посвященное шведскому королю Карлу Густаву. Восхваляя короля, Ян Амос рисует образ, который больше соответствует его идеальному представлению, нежели подлинному королю. Это панегирик и как бы наглядный урок Карлу Густаву: вот таким он должен быть. В виде просьбы, обращенной к нему, Коменский излагает свою гуманистическую программу: освобождение преследуемой церкви (чешских братьев), справедливость по отношению к Польше, свобода совести и вероисповеданий для всех, установление мира в Европе.
И все же он долго не решается опубликовать это сочинение: какой политический резонанс оно вызовет? Есть ли в нем необходимость? И как поведут себя шведы в завоеванных городах? Сумеют и захотят ли их военачальники удерживать и дальше солдат от грабежей? Ян Амос не может с уверенностью ответить ни на один из этих вопросов и, лишь уступая настойчивым просьбам Шлихтинга, передает свое сочинение в типографию...
Однако время показывает, что сомнения Коменского имели реальное основание, оправдываются его худшие опасения. Начались грабежи и разбои. Шведские солдаты бесчинствуют. Польские горожане и крестьяне разбегаются при приближении шведов, уходят в отряды, которые собирает дворянство, готовое защищать свою землю от захватчиков. Патриотический порыв сплачивает разные слои населения вокруг польского короля, который, собравшись с силами, начинает отвоевывать свои города. Идут кровопролитные бои. Ожесточение войны рождает у королевского войска ненависть к городам, вступившим в соглашение со шведами. Ян Казимир беспощадно их карает.
Коменский предвидит надвигающуюся опасность. Он отсылает в Нюрнберг рукопись «Мира в картинках», в Гамбург — часть своих пансофических книг. Друзья настойчиво советуют ему покинуть город, даже сам шведский король Карл Густав предлагает переехать в безопасное место. Но Ян Амос считает себя не вправе оставить общину: в эти тяжелые дни он должен быть с братьями, чтобы разделить с ними общую судьбу. Он все еще не теряет надежды, что развитие событий приведет к столкновению Швеции с Габсбургами, союзниками Польши, и что тогда выступление Георга Ракоци освободит, наконец, Чехию.
Пока есть хотя бы какие-то реальные основания, он страстно хочет верить в осуществление этой многолетней мечты.
В конце апреля 1656 года под стенами Лешно показались отряды Яна Казимира. Становится известно, что солдаты намерены предать огню город, как гнездо ереси. Небольшой шведский гарнизон отваживается завязать бой за стенами города, но, кроме потерь, это ни к чему не приводит. Горожане из тех, кто способен держать оружие, давшие по требованию Шлихтинга присягу верности, сторожат бастионы, однако они не верят в возможность отстоять город. В королевских отрядах немало бывалых воинов, они хорошо вооружены, а за ними во второй линии расположились вооруженные крестьянские формирования. Сопротивление, полагают защитники, бессмысленно. В страхе и напряженном ожидании проходит ночь...
Наутро выясняется, что Шлихтинг тайно бежал из города. Сообщение вызывает повальное бегство. В несколько часов город пустеет. Ян Амос спустя много лет вспомнит: «...вся община, все охваченные паническим страхом, как будто все мы забыли обо всем, с единым помыслом остаться лишь только в живых бежали мы, куда кто мог, намереваясь искать спасение в соседней Силезии». Поляки, приготовившиеся к длительной осаде, отходят подальше — они уверены, что гарнизон будет сражаться до конца. Но вскоре разведчики доносят, что из города без конца тянутся телеги, кареты, верховые, пешие... А затем Лешно покидают шведы, стража, муниципалитет, уходят все, кто может. Коменский с семьей и несколькими братьями уходит последним. Он решается на это, чтобы спасти семью. Ян Амос успевает лишь спрятать наиболее ценные из оставшихся рукописей и книг в яме, вырытой в полу его спальни, и взять лишь самое необходимое из того, что можно унести. Ежеминутно рискуя жизнью, небольшая группа братьев вместе с семьей Коменского с трудом выбирается из города и затем по лесам и болотам выходит в относительно безопасные места. Их путь лежит в Силезию, где также живут братья и где Коменский вместе с семьей находит приют у Вацлава из Будова.
Ворвавшись в город, солдаты находят его почти безлюдным.
Три дня бушует пламя в Лешно, оставляя на месте домов груды развалин, обугленные камни, пепел.
Коменский, узнав, что город сгорел, в отчаянии: он знает, как ведут себя победители по отношению к жителям. Он думает и о том, сохранился ли его дом. Целы ли его рукописи? Вацлав Будовец через несколько дней после пожара посылает в Лешно всадников и телегу, чтобы увезти то, что осталось.
Страшная картина открывается перед ними, когда они въезжают в Лешно, — города не существует. Есть гигантское пепелище, страшное черное место смерти, над которым с криком лениво летает воронье. Правда, кое-где они встречают людей. Кто-то вернулся, надеясь, что осталась хотя бы крыша над головой, кого-то пощадил случай. Они видели над пепелищем застывшие фигуры. С трудом находят они то место, где стоял дом Коменского, и видят лишь обгоревшие развалины.
Пожар уничтожил дом до основания, а вместе с ним и все имущество, богатую библиотеку, собранную Яном Амосом за многие годы.
В яме они обнаруживают часть обгоревших рукописей, от других остался пепел...
Коменский дрожащими руками перебирает обгоревшие листы немногих сохранившихся рукописей. Он не верит своим глазам. Это все, что осталось? А «Метафизика»? А собрание проповедей более чем за сорок лет? А «Сокровища языка чешского и латинского»?
Сорок лет слово за словом собирал он эту сокровищницу для живущих и грядущих поколений — и все пошло прахом, все погибло!
А «Пансофический лес, или Сокровище определений, аксиом и идей»? Эта рукопись была бы единственной в своем роде книгой — как комментарий к пансофическим трудам, плод многолетних размышлений, отлитый в краткие формулы. От нее не осталось ни одного листочка!
Ян Амос в отчаянии: «Сокровище» — и он прекрасно понимает это — огромная потеря для всего чешского народа; «Пансофический лес» — для мировой науки. Ушло то, что невозможно восстановить. Сгорел его труд, открытия, мысли, которые помогали бы людям найти путь к лучшему будущему. Погибли не рукописи — погибла, сгорела его жизнь!
Ян Амос безутешен. Руки его механически поглаживают покореженные от жара листы, по щекам текут слезы. На этот раз он оплакивает самого себя.
Но Коменский еще живет — опустошенный, обкраденный, словно бы с вынутой душой, но живет, и рядом живут родные, близкие люди и ждут его слова лешненские братья, рассеянные по Силезии и другим землям. И Ян Амос, как это бывало с ним не раз, прячет свое горе и заставляет себя вернуться к действительности с ее жгучими проблемами. Прежде всего — что делать дальше и где жить? Здесь, в Силезии, он всесторонне обдумывает положение, советуется, рассылает письма и предпринимает шаги, чтобы определить для братьев постоянное местожительство, ибо ясно, что оставаться дольше в Силезии, находящейся под властью Фердинанда, опасно. Ян Амос посылает верного человека в Венгрию сообщить, какая тяжкая участь постигла лешненских братьев. Вскоре посланец возвращается с вестью, что князь зовет братьев во главе с Коменским в Венгрию. Некоторые, воспользовавшись этим приглашением, уезжают. Яна Амоса же влечет к себе мирная, спокойная Голландия, которую он всегда любил и где надеется восстановить душевные силы и заняться изданием своих пансофических трудов.
Коменский не дает себя сломить несчастью и ни на минуту не забывает о своих обязанностях первого епископа общины в такое страшное время — он хлопочет об устройстве братьев, ведет интенсивную переписку, заботится об оказании помощи нуждающимся, и многим людям, даже давно знающим его, внешне он кажется прежним, спокойным, неторопливым, отзывчивым на чужую беду. Но близкие люди со страхом ощущают: лешненская трагедия не прошла бесследно, словно вместе с рукописями погибла, отмерла какая-то часть его души. Ян Амос не в состоянии скрыть постоянно терзающее его страдание, прячущееся в глубине глаз, и порой ненароком в разговоре он вдруг прикроет лицо рукой, будто острая боль пронзает его...
Так проходит около трех недель, и Коменский получает от княгини, матери курфюрста Бранденбургского (сам курфюрст находится в отъезде в Пруссии), приглашение поселиться братьям в Красне и во Франкфурте-на-Одере. Ян Амос едет туда вместе с семьей и братьями, пожелавшими последовать за ним, а остальным, обитающим в разных местах Силезии и Лужицы, пишет, чтобы они тоже приезжали в эти города. Во Франкфурте, где у него есть знакомые профессора, Коменский останавливается в ожидании приезда курфюрста. Профессора не сомневаются в расположении государя-протестанта к столь знаменитому философу и теологу. Ян Амос чувствует бесконечную усталость. Теперь, когда он сделал все, что мог, чтобы найти приют для братьев, наступает полное истощение душевных сил.
На этот раз о нем не забывают. Коменский получает письмо из Пруссии от зятя, который сообщает, что его разыскивает Лаврентий де Геер, чтобы передать свое приглашение приехать в Амстердам. Оно как нельзя более соответствует желанию Яна Амоса, и, сообщив о своем намерении братьям в Силезии и Венгрии, Коменский отправляется в Гамбург. Здесь он задерживается на несколько недель — приводит в порядок оставшиеся рукописи, некоторые части отдает в переписку, готовя их для издания в Амстердаме. В Гамбурге Ян Амос в небольшом сочинении описывает гибель Лешно. Он считает своим долгом рассказать об этом бессмысленном злодеянии и вызвать сочувствие к несчастным изгнанникам, лишившимся всего. Они, как никогда, нуждаются в помощи, которую — Коменский надеется на это — им окажут.
Яну Амосу удается получить денежное вспомоществование от альтонской и англиканской[116] церквей, которое он немедленно посылает польским братьям. Среди протестантов авторитет Коменского необыкновенно высок. На его обращение откликаются почти всюду на пути в Амстердам — Эмдене, Гронингене (где он выступает на собрании сословий, приехавших на сейм, и благодаря этому получает самую щедрую поддержку) и, наконец, в самом Амстердаме. Правда, в Гааге и Утрехте его усилия оказываются безрезультатными, и тогда Ян Амос пишет братьям, чтобы они «послали иных просителей». «...И таковые были посланы», — замечает Коменский в своем дневнике. Совесть его чиста. Все, что было в его силах, сделано.
Может быть, теперь, когда он уже оказался в Амстердаме, судьба даст ему хотя бы короткую передышку, и он сможет прийти в себя, подумать об издании своих сочинений, об устройстве семьи и своем будущем?
Глава тринадцатая. ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ, ИЛИ КОМЕНСКИЙ УХОДИТ В БУДУЩЕЕ
Встреча с Амстердамом, как с юностью: узнаются знакомые дорогие черты и как бы вспыхивает прежнее молодое чувство надежды, ощущение беспредельности сил — все, что было связано с этими местами более тридцати пяти лет тому назад, — но в то же время горечь настоящего и грусть по ушедшему сжимают сердце...
Ветер несет над городом запахи моря, они всегда ассоциировались с Амстердамом, его башнями и каналами, его портом с лесом мачт, длинным рыбным рынком в старой части города, и, как прежде, волнует этот удивительный свет, быстро меняющийся, то жемчужно-прозрачный, с голубоватым отливом, то зеленоватый, то золотисто-розовый. Но Ян Амос замечает и новое: город сильно разросся, особенно порт, появились новые красивые дома, улицы стали многолюднее, толпа разнообразнее, пестрее. В Амстердаме отчетливо ощущается расцвет промышленности, ремесел, торговли, которых достигла Голландия, сбросив иго Испании. Для предпринимателей и купцов открылись огромные возможности. Они богатеют буквально не по дням, а по часам. Беднякам же, рабочему люду приходится надрываться, чтобы прокормить себя и семью. Проницательный взгляд быстро отличает среди пестрой толпы рабочих людей.
Заокеанские товары дали несметные богатства стране, освободившейся от пут феодализма, вызвали к жизни многие производства. Решающую роль в самоуправлении городов стала играть новая буржуазия. Она всячески способствует развитию наук и искусства, бдительно охраняет ту атмосферу терпимости, которая привлекает в Голландию многих выдающихся людей, преследуемых в своих странах за религиозные и гражданские убеждения.
Коменский жадно дышит воздухом свободы. Он хотел бы найти здесь приют для себя и своей семьи на ближайшие годы. Загадывать дальше он не решается: кто знает, сколько ему еще отпущено лет? Начало его пребывания в Амстердаме обнадеживает. Лаврентий де Геер рад встрече с Коменским. Он подтверждает свое приглашение поселиться в Амстердаме и предоставляет в его распоряжение двух помощников, целый дом в прелестном месте на улице Принцеграхт.
Де Геер расспрашивает Коменского о последних событиях его жизни. С изумлением слушает он его рассказ. Многое кажется невероятным, особенно бегство из Лешно в последнюю минуту, скитания по лесам и болотам. Когда-то в молодости Лаврентия удивляло, что столь знаменитый философ, перед которым открыты все двери, терпит нужду, вынужден жить в изгнании, скрываться от преследований. Теперь он понимает, что побудило Коменского избрать свой путь и какая великая сила духа таится в этом больном старике. Лаврентий и сам чувствует себя другим в его присутствии. Помогая Яну Амосу, он становится как бы лучше. Вглядываясь в похудевшее лицо Коменского, на котором переживания последних месяцев оставили свой горький след, Лаврентий думает о тяжкой судьбе людей, пожертвовавших всем ради своих убеждений, постоянно преследуемых, оставшихся без родины, в нужде, но и в этом отчаянном положении сохранивших честь и достоинство. Не будь Коменского, с которым его соединяет память об отце, он никогда не узнал бы о существовании этих людей, их борьбе, мужестве, благородстве.
Счастье, думает Лаврентий, что в нашем жестоком мире живет такой человек, как Коменский. Он идет вперед, высоко подняв факел, освещая дорогу другим. Увы, не многие следуют за ним. Человечество разбрелось по многим дорожкам и тропинкам. Одни из них ведут в болото, другие — в пропасть, третьи — неизвестно куда. Но каждый, кто зовет за собой, уверен, что лишь его путь правильный, лишь себя он считает непогрешимым и глух к голосам, предупреждающим об опасности. Подобные люди стремятся к власти и признают только одну опасность — эту власть упустить.
Узость мысли, ненависть к инакомыслящим — вот что губит человечество! А Коменский широк в воззрениях, его мудрость выше тщеславия и жажды господства. Он готов выслушивать возражения, свободно дискутировать, убеждать. Главное для него — истина. Его оружие — разум и совесть.
Видя, что его собеседник задумался, замолчал и Ян Амос. Но пауза продолжается недолго. Лаврентий де Геер, вздохнув, возвращается к беседе. Да, чудовищные беды принесла слепая жестокость королевского войска в Лешно. Узнав об убийствах, о гибели города, он немедленно начал разыскивать Коменского и испытал огромное облегчение, когда получил сведения, что Ян Амос жив.
— А это главное, — добавляет он, — об остальном мы позаботимся.
Как и отец, Лаврентий немногословен, но взгляд его выражает больше, чем могли бы сказать слова.
С необыкновенным интересом молодой де Геер расспрашивает Коменского о трудах последних лет, о задуманном, о свершенном. Все больше увлекаясь, Коменский излагает замысел «Всеобщего совета». Ян Амос слушает себя как бы со стороны. Не обманулся ли он, испытав восторг, когда однажды увидел еще не написанное сочинение в целом? Это чувство было подобно удару молнии, разорвавшей тьму глубокой ночи. Много раз потом он проверял себя, перечитывая готовые, отстоявшиеся главы, желая еще и еще раз убедиться в истинности своих мыслей, убедительности аргументов, ибо этот труд, вобравший в себя его нравственные, религиозные, педагогические, общественно-правовые идеи в самом полном и завершенном их изложении, он считает самым главным деянием своей жизни, ее итогом. Нет, он не ошибался, полагая, что «Всеобщий совет» укажет путь человечеству к спасению. Излагая главные мысли сочинения де Гееру, Коменский снова испытывает волнение...
Де Геер заинтересован. Ян Амос показывает две первые части — «Панегерсию» и «Панавгию», переписанные набело в Гамбурге и приготовленные для типографии. Де Геер оставляет их у себя. Он намерен отдать эти части для перевода на французский (так как недостаточно хорошо владеет латинским языком), а затем, ознакомившись с ними, отдать в печать, если, разумеется, сочтет это необходимым. Впоследствии так и произойдет: де Геер станет издателем «Всеобщего совета» и всех пансофических работ Коменского.
В Амстердаме Ян Амос встречается с коллегами, священниками, членами магистрата. Перед ним открыты все двери, с ним ищут знакомств и встреч — одни из сочувствия и солидарности, другие ради обмена мыслями, третьи из тщеславия, ведь повсюду гремит его слава всемирно известного ученого, апостола совести, «князя и творца образованности». И всех, каковы бы ни были мотивы общения с ним, привлекает обаяние его личности, широта и глубина ума, необыкновенная доброта.
Коменский охотно показывает свои книги, делится планами. Большое впечатление в Амстердаме производит его «Школа-игра», изданная в Шарош-Патаке после его отъезда. Эту книгу передали Коменскому венгерские студенты, которых он встретил в Утрехте по пути в Амстердам. По просьбе члена магистрата Витсона в присутствии школьных попечителей Ян Амос делает обзор всех работ, написанных в Венгрии. Все эти книги оставляются для изучения. Принимается решение, чтобы Коменский выступил с тем же обзором перед большим собранием. Вскоре «Школа-игра» отдается в печать.
Ян Амос впервые после стольких лет суровых испытаний и борьбы ощущает незамутненную атмосферу полного благоприятствования. Витсон спрашивает, почему он не привез семью. Долгое, а может, и постоянное пребывание или, вернее, местожительство Коменского в Амстердаме как бы само собой разумеется. Как раз в это время Ян Амос получает письмо от жены, в котором она сообщает, что, спасаясь от чумы, выехала с детьми из Франкфурта и направляется к нему. Сейчас она уже в Гамбурге и ждет от него весточки. Коменский обращается к де Гееру, и тот с улыбкой отвечает:
— Пусть приедет сюда, и ты будешь у нас целиком.
Вскоре приезжает Яна с детьми. Они поселяются в просторной квартире, окна которой выходят на тихую улочку. Налаживается быт, неторопливая, размеренная жизнь. Неужто, порой думает Ян Амос, после всех страданий пришел в старости покой? И он может не торопясь собирать сделанное за всю жизнь, размышлять, подводить итоги? Правда, в материальном отношении он остается в зависимости от де Геера, но молодой меценат и покровитель Яна Амоса полон глубокого уважения к нему, и нет оснований сомневаться в его постоянстве. Ян Амос не может отказать в частных уроках сыновьям лиц, оказывающих ему гостеприимство. Эти уроки получают вскоре большую известность, у Коменского просят разрешения посещать их и учиться и те, кто хотел бы ознакомиться с его методами преподавания.
Между тем слава Коменского (он по своей скромности не замечает ее и продолжает удивляться благоприятному стечению обстоятельств) делает свое дело. Магистрат предлагает ему почетную профессуру. Это большая честь, которой удостаиваются немногие, знак глубочайшего уважения и, кроме того, порядочное содержание. Но Ян Амос отказывается: ему нельзя забывать, что он пастырь рассеянных по свету братьев, и поэтому не может полностью отдаться воспитанию юношества. Тогда магистрат просит Коменского остаться в Амстердаме хотя бы еще на год (заботы о его обеспечении вместе с семьей магистрат берет на себя) уже не для педагогической деятельности, а для издания книг. О таком предложении Ян Амос мог только мечтать! Как всегда и во всем простосердечный и искренний, он и не думает скрывать своей радости и во всеуслышание восхваляет отеческую заботу славного сената, принявшего такое решение...
Ян Амос спешит посетить советников, чтобы выразить свою благодарность. Те принимают его с необыкновенной любезностью и в один голос рекомендуют оставаться в Амстердаме, пока не будут напечатаны его произведения, причем де Геер берет на себя расходы на издание пансофических работ, а сенат — дидактических.
— Чтобы это случилось к чести нашего города, — замечает один из советников господин Тульп.
— Чтобы наше юношество извлекало из них пользу, — прибавляет первый советник, господин Грааф.
В заключение беседы Коменского приглашают в следующий вторник явиться в ратушу. В назначенный день в ратуше на заседании членов магистрата Яну Амосу торжественно сообщают, что ему назначено содержание 200 золотых на каждые четверть года. При этом сенат хочет, чтобы в первую очередь был напечатан том «Дидактических сочинений». Лаврентий де Геер благосклонно принимает это небольшое отклонение от его намерений издать сначала «Всеобщий совет» и пансофические труды: в конце концов, непринципиально, какое из сочинений философа публиковать раньше.
Все складывается на удивление хорошо. Однако кто-то упорно распускает слухи, будто «Открытая дверь языков» кишит варваризмами. Ходит по рукам даже список этих «варваризмов», Коменский вынужден защищаться. Он пишет сочинение «Защита чистоты языка «двери» Коменского», которое препровождает советникам. Не однажды перо выручало Яна Амоса. Его блестящий полемический дар, безупречная логика и глубокие лингвистические познания сослужили свою службу и на этот раз. Слухи прекращаются сами собой, лишь только становится известным это сочинение, а Коменскому советуют впредь не обращать на них внимания...
Коменский перечитывает сочинения, которые должны составить дидактический том. Они естественно складываются в нечто цельное, значительное. Да, дидактические труды, написанные в Лешно, Эльблонге, Шарош-Патаке, готовы к печати, нужны лишь небольшие поправки. Три города. Три страны — Польша, Швеция, Венгрия. Три периода его жизни. И с каждым из них связаны свои мечты и стремления, горести и радости. Преодолевая обстоятельства, которые постоянно складывались против него, терпя нужду и бедствия, он писал свои сочинения вперегонки со временем, а оно бежало слишком быстро, и обязательства тяжелым бременем ложились на его плечи. Он жил как бы в оковах, его понукали, заказчики требовали своего, а он писал о светлых мастерских человечности, о том, как сделать учение легким, привлекательным, радостным, как научить юношество всему, что полезно для жизни, как научить человека быть человеком. Он утверждал и доказывал равенство всех людей, без каких бы то ни было различий, и, следовательно, единые для всех школы-мастерские...
Три города. Почти целая жизнь в изгнании. Сумел ли он высказать то, что хотел, чтобы его поняли? В некоторых школах передовых стран ныне распространяется его новый метод обучения, но не целиком, а по частям, да и то встречая постоянное сопротивление. Можно ли ждать в этом случае хороших результатов? Подлинный успех может прийти, лишь когда будет осуществлена вся его система, раскрытая в «Великой дидактике», когда в соответствии с ее принципами построят школу.
«Великая дидактика»... Ян Амос перебирает листы рукописи, переписанные набело и приготовленные для типографии. Одно из двух его самых важных творений; он все еще не верит, что увидит книгу опубликованной. Двадцать пять лет она ждала своего часа! Он писал ее в Лешно по-чешски и сначала хотел назвать «Чешским раем», его пером двигала надежда на скорое освобождение родины — вот тогда его «Чешский рай» или, как он назвал это сочинение, «Чешская дидактика» стала бы важнейшей частью программы обновления государства. Этой мечте не дано было осуществиться. И сколько раз потом вспыхивала и гасла надежда на освобождение родины, сколько сил было затрачено, чтобы способствовать этому великому делу! Надежда жива и сейчас и будет жива, пока бьется его сердце. «Великая дидактика» писалась для чешского народа, но предназначается она всему человечеству. Заметят ли ее теперь, когда выйдет в свет его том дидактических сочинений? Заметят ли? Поймут ли?
Оценят ли? Он поместит ее в самом начале, сразу после привета христианским читателям, в котором расскажет о своей жизни. Итак, под номером вторым — «Великая дидактика, заключающая искусство учить всех всему...» А затем к тому, что было сказано раньше, за годы изгнания в Лешно, Эльблонге и Шарош-Патаке, Ян Амос присоединяет работы, написанные уже в Амстердаме, их тоже немало.
Том дидактических сочинений находится еще в печати, когда в Амстердаме выходит в свет «Школа-игра», которую швейцарский священник Редингер сразу же переводит на немецкий язык. И почти одновременно в Нюрнберге издается «Мир в картинках», единственный в своем роде иллюстрированный учебник. Он вызывает всеобщий интерес, его обсуждают, о нем говорят, имя Коменского произносится не только в среде ученых, педагогов, священников, но и в домашнем кругу образованных людей во многих европейских странах. А Ян Амос с волнением ждет выхода заветного тома, который должен стать своеобразным итогом его постоянных размышлений, напряженной, почти тридцатилетней работы. Он сам частенько наведывается в типографию. Книга рождается на глазах, искусство голландских книгопечатников превосходит все ожидания...
И вот наконец на его стол ложится еще пахнущий типографской краской, тяжелый, объемистый — свыше 1000 страниц — том его дидактических сочинений. Один из пятисот экземпляров. Коменский ошеломлен: он знает толк в издательском деле, но этот том — чудо искусства! Ян Амос рассматривает тяжелый переплет из тисненой кожи. На нем имя автора и заглавие: «Полное собрание дидактических трудов». Открыв книгу, он видит на титульном листе гравюру, изображающую его самого в докторской мантии, за столом, с пером в руке, перед раскрытым фолиантом на фоне картин, иллюстрирующих в различных сюжетах его педагогические идеи. На обороте титульного листа он перечитывает свое посвящение: «Превосходнейшему городу Амстердаму, славному рынку мира и его мудрому сенату — всякого процветания!»
Медленно перелистывает Коменский страницы — он знает книгу как самого себя, но хочет еще раз убедиться, что все так, как задумывалось, готовилось. Том состоит из четырех частей, и каждая часть имеет свой титульный лист. На его лицевой стороне помещена необыкновенно красиво выполненная заставка с надписью на ободке овала: «Пусть все течет свободно — прочь насилие в делах». А внутри овала изображены яркое солнце, льющее свои лучи на землю, звезды, луна, облака, а под солнцем, под небом с луной, звездами и облаками две горы, покрытые лесом, водопад, между ними — цветущая долина. Все в движении, в гармонии, все проявляет себя свободно, естественно, без насилия, — так должны поступать и люди, так надо и обучать, сообразно природе, не насилуя, а развивая, культивируя природные свойства. На обороте титульного листа оглавление каждой части — читатель легко найдет то, что ему нужно, а тот, кто прочтет всю книгу, поймет, чему посвятил он всю свою жизнь, как развивались, обогащались, оттачивались его идеи, как он боролся за их осуществление. Вот оглавление первой части: здесь написанное с 1627 по 1642 год. Это — Лешно. Часть вторая — Эльблонг, с 1642 года по 1650-й. Третья — Шарош-Патак, с 1650-го по 1654 год. И четвертая часть — Амстердам, то, что уже написано, пока он находился в этом городе, где, может быть, ему предстоит окончить свои дни, где он размышляет о пройденном пути, подводит итоги и думает о тех, кто последует за ним, кому передать лампаду. Ян Амос надеется: может быть, теперь он будет понят, услышан...
Первые дни после выхода книги он живет с ощущением праздника.
На людей, с которыми Коменский встречается, «Полное собрание дидактических трудов» производит большое впечатление. Книга издана с такой любовью и с таким уважением, даже пиететом к автору, что высокая значимость ее содержания как бы подразумевается сама собой. Посвящение Амстердаму и его мудрому сенату, а также еще и особая надпись автора: «Жемчужине городов, славе Нидерландов, гордости Европы» — знаменитого на весь мир философа — льстит господам советникам, они прекрасно понимают, что имя Коменского способствует распространению славы Амстердама как одного из крупнейших европейских центров науки, культуры, просвещения.
Ян Амос получает щедрое вознаграждение. Кроме того, советник Витсен по поручению сената сообщает Коменскому, что его работы и посвящение очень приятны сенату, поскольку их чтение показывает, сколь великое доброе дело подготавливается для христианского юношества. Поэтому советники желают, чтобы плоды столь замечательных размышлений могли созреть в этом городе и отсюда распространяться ко всем народам. Господин Витсен сообщает также, что с Яном Амосом будут вести переговоры избранные советом люди, которые хотят его просить составить некое «Ядро Пансофии». В заключение Коменскому оказывается небывалая честь: ему вручается ключ (такой имеют все советники) от магистратской общинной библиотеки. Теперь Ян Амос может в любое время брать нужную книгу. Муниципалитет позаботился также и о том, чтобы был написан портрет, достойный творца образованности, написать портрет поручено известному художнику Юрсену Оуенсу.
Коменский искренне благодарит за щедрость, за оказанную ему честь, за столь высокие эпитеты, которыми награждает его сенат по доброте своей. В глубине души он надеется, что будет сказано о «Великой дидактике», — ведь это программа создания новой школы. Где же сегодня, как не в Амстердаме, строить ее? Но поток общих слов как бы обтекает важные проблемы обучения и воспитания, поставленные в его трудах. Что ж, видимо, надо подождать, пока том не будет прочитан учителями, учеными, государственными деятелями. И Коменский ждет. Проходят месяцы, а он почти не получает откликов. Невольно вспоминается ему, какой шумный успех выпал на долю «Двери языков». Он был буквально завален письмами, поздравлениями А вот самое главное его педагогическое сочинение — «Великая дидактика», публикующаяся впервые, словно не существует, вернее, продолжает не существовать. Коменскому так и не удается дождаться момента, когда на «Великую дидактику» обратят внимание.
Действительно, произошло на первый взгляд странное явление: величайшее творение педагога, увидевшее свет, когда он был окружен всемирной славой, проходит почти незамеченным. В чем тут причина? Вероятно, не последнюю роль сыграл характер издания, чрезвычайно объемистого и дорогого, доступного лишь немногим. Да и сама «Великая дидактика» как бы потонула среди других дидактических сочинений и переизданных учебников. И все же главная причина, думается, в другом: «Великая дидактика» настолько опередила свое время, что понадобилось свыше двухсот лет, чтобы ее заметили, как бы заново открыли и поняли ее огромное значение.
Судьба книг неисповедима!
Ян Амос с горечью видит, как распадается община. После гибели Лешно, где находилось ядро братства, люди рассеиваются по разным уголкам Европы. Их уже не сплачивает общее место жительства, устои, дисциплина. Многолетние испытания на чужбине истощили силы общины. Многие устали, разуверились. И все-таки нельзя сдаваться: ведь еще теплится огонек надежды на освобождение Чехии. Венгерский князь Ракоци воюет с Габсбургами, он уже перешел границу Польши: это огромное событие, и Ян Амос стремится поддержать в сердцах братьев угасающую веру.
Коменский делает все, чтобы сохранить общину, собирает средства для материальной поддержки братьев, обращается к ним с письмами, ведет обширную переписку с государственными деятелями, которые могут способствовать освобождению родины. Здесь, в Амстердаме, он издает также и чешские книги, которые должны помочь изгнанникам, оставшимся в одиночестве. Книги эти должны напоминать о родине, поддерживать в трудные минуты, внушать дух надежды и борьбы. Ян Амос признается в письме к голландскому издателю Монтану: «Еще в ранней молодости овладела мной мечта написать на родном языке именно для своего народа несколько книг и тем самым способствовать его дальнейшему образованию. И мечта эта не покидала меня целые пятьдесят лет».
Несмотря на болезнь, на тоску, порой охватывающую его, Коменский борется. Искренне, правдиво выражает он свои чувства в сочинении, которое не может не написать. Он называет его «Грустный зов пастыря рассеянной гибнущей пастве». По мыслям и настроению оно созвучно «Завещанию», где он передает современным и грядущим поколениям свои заветы любить родину, ее язык, бороться за ее свободу. Силы Коменского на исходе, он не скрывает этого и тем не менее не сдается: «Так оставайтесь с богом, друзья дорогие! А на меня иначе, как если бы вы меня в гроб положили, оглядывайтесь! Ибо хотя дыхание мое еще не угасло сегодня, завтра оно подымет ли мою грудь — не знаю». Это прощание, но это и завет не падать духом, держаться до конца. И пока он жив, думают те, кто прочитал «Зов» своего пастыря, жива истина, жива правда, и, значит, нельзя сдаваться.
Однако события разрушают последние надежды изгнанников. В войну вступает Дания. Шведы вынуждены отступать. Они терпят от поляков жестокое поражение и уходят из Польши. Георг Ракоци, лишенный поддержки сильного союзника, вынужден заключить с поляками мир на унизительных условиях. Спешно его армия покидает Польшу, но тут ее неожиданно атакуют турки. Султан находит подходящий момент, чтобы разделаться с венграми, которые всегда мужественно противостояли турецкому проникновению в Европу. Удар султана рассчитан точно. Армия Ракоци частью уничтожена, частью взята в плен, а сам он с небольшой горсткой воинов чудом успевает пробиться домой.
Коменский предпринимает отчаянные действия, чтобы спасти Ракоци. С помощью Гартлиба и других английских друзей он обращается к Кромвелю, который пытается вести переговоры с султаном, однако турецкий властитель настаивает на свержении Георга Ракоци. Переговоры, едва начавшись, оканчиваются безрезультатно. Венгерский князь спешно собирает новое войско и выступает против турок. Он горит желанием рассчитаться с противником, но, так ничего и не успев добиться, погибает в одном из боев...
Снова гаснет робкий, колеблемый ветром огонек, снова разбиты последние надежды. Последние... Сколько раз они были последними, рассеивались в прах и сколько раз возрождались? Но теперь Ян Амос чувствует, что ему уже не увидеть родину свободной, силы его с каждым днем тают, а впереди, в обозримом будущем, он не различает ничего, что может внушить надежду. Тьма вокруг, тьма в душе...
Именно в это время, повинуясь желанию найти хоть какую-то, пусть даже призрачную опору для оптимизма, Коменский обращается к предсказаниям своего друга юности Николая Драбика, который посылал Яну Амосу свои пророчества. Они почти никогда не сбывались, и много раз Коменский уговаривал своего друга оставить это занятие. Драбик обещал, а потом начинал снова, говоря, что видения являются к нему сами и он пророчествует независимо от своей воли. И, бывало, в тяжелые минуты Коменский невольно поддавался убеждениям провидца, который клялся в истинности своих предсказаний. Иногда человек, даже сильный и мудрый, хватается за соломинку...
Драбик по-прежнему присылает в Амстердам свои прорицания, требуя, умоляя их опубликовать. После размышлений и колебаний Ян Амос решает напечатать небольшим тиражом сборник, куда входят предсказания ремесленника Коттера (его он также знал), Понятовской (она жила в его семье до своего замужества) и Драбика. Ян Амос не ставит на книге своего имени как издателя и называет ее «Свет во тьме».
Что подвигнуло Коменского к этому шагу? Ответить трудно. Но по-видимому, в этих предсказаниях Ян Амос увидел заветные стремления народа, хотя и выраженные столь фантастично. И если считать, что прорицания исходят из глубин народной души, то пусть они будут еще одним аргументом за продолжение борьбы за политическую независимость Чехии — так, скорее всего, думал Коменский, надеясь, возможно, хотя бы таким путем повлиять на позицию сильных мира сего. Наивная несбыточная надежда! Известно, простосердечие и наивность часто сопутствуют мудрости. А утопающий хватается за соломинку...
Прибавив к этой книге видения Штепана Мелиша, портного из Лешно, Ян Амос обращается к немецким протестантским князьям с просьбой, которая разворачивается в политический трактат, чтобы были внесены исправления в условия Вестфальского мира. Одновременно он посылает Яна Редингера к Людовику XIV,[117] а затем и к великому визирю. Сам же завершает издание нового сборника, который называет теперь «Свет из тьмы». Коменский торжественно провозглашает, что настала пора всем народам сплотиться ради мира, для искоренения вражды, междоусобицы.
Коменский продолжает питать наивные надежды, что властители могут прислушаться к его голосу, к выраженной в пророчествах воли народа к свободе, справедливости, миру. В полной мере здесь сказывается утопичность его идей. О себе же, о последствиях своих поступков он мало заботится. Но, как и следовало ожидать, издание «Света во тьме», а в особенности второй книги, где он ставит свое имя, вызывает отрицательное отношение в среде ученых, теологов, просвещенных людей, не без основания усмотревших в самом факте опубликования этих книг влияние суеверия, противостоящего знанию, даже религии.
Публичная критика не заставляет себя ждать. Коменский невольно втягивается в крайне невыгодную для его научной репутации полемику. Он пытается доказать, что выступает лишь переводчиком, истолкователем прорицаний, но это объяснение никого не устраивает. Публичные споры на эту тему становятся для него мучительными. Против Коменского выступают даже те, кто прежде считал его непререкаемым авторитетом.
Все, что делает Коменский в эти последние годы, одушевлено страстным желанием найти пути к миру между народами и к освобождению родины. Несмотря на то что его политическая деятельность не дает видимых результатов, он находит в себе силы продолжать ее с неослабевающей энергией. Он живет как бы в двух измерениях — в настоящем и в будущем. Для будущего он готовит к печати первые две части «Всеобщего совета по исправлению дел человеческих», над которым работал последние двадцать лет своей жизни. В этом сочинении, обращаясь к ученым, благочестивым, высоким мужам и к народам, он указывает путь ко всеобщему миру и благоденствию. Пусть находят ошибки в его полемике с философскими взглядами Декарта, которую опубликовал, пусть обвиняют в поддержке суеверия и других грехах, он поднимается над своими обидами, продолжая трудиться на благо человечества и своей милой родины. Благодаря де Гееру небольшим тиражом выходят две первые части «Совета»: «Панегерсия» — всеобщее пробуждение и «Панавгия» — всеобщее просвещение.
1662 год. Коменскому семьдесят лет, но голос его для всего мира звучит молодо, мощно, бодро. Внемлет ли человечество его призыву? Пробудится ли?
Превозмогая болезнь, Ян Амос упорно работает над остальными частями «Совета». К этому сочинению он шел всю жизнь, его он обязан оставить людям. Но по-прежнему старый мыслитель оказывается в центре политических событий своего времени. Морское и экономическое соперничество Англии и Голландии, двух протестантских стран, вновь приводит к войне. Несомненно, это выгодно Габсбургам и усиливает католический лагерь. Коменский понимает, что, как бы он этого ни желал, не в его силах примирить эти страны, раньше других вступившие на путь просвещения и борьбы со средневековым варварством. Но когда в Бреде в 1667 году на мирном конгрессе европейских стран послы Англии и Голландии садятся за стол переговоров, он вручает им свое сочинение «Ангел мира», в котором философски обосновывает необходимость мира как основы благосостояния человечества.
Это сочинение, в котором автор выдвигает на первый план нравственные категории, странно звучит для уха многих приехавших на конгресс видных государственных деятелей, привыкших оперировать понятиями политическими и экономическими, цифрами прибылей, стоящими за хитроумными расчетами. Усмехаясь, покачивая головой, читают они страницы, где престарелый философ обличает жадность, корыстолюбие, безудержное стремление к богатству и личным выгодам как истинную причину войн, угнетения, всяческого зла. «Придет час, — предупреждает он крупнейшие города мира, наживающиеся на чужих богатствах, — когда ваше сводничание со всеми королевствами мира подвергнется воле рока... Надо, чтобы не какие-нибудь единоличники для собственного своего благополучия сокровища умножали, но чтобы все люди на земле работали, ели, пили, одевались и радостно проживали свою жизнь. Блаженное это будет время, доведется ли кому-нибудь его увидеть?»
Коменский пользуется мировой известностью, и на конгрессе ему предоставляется слово. Перед собравшимися он излагает свои замыслы относительно будущего Европы в духе идей «Всеобщего совета». И хотя они кажутся несбыточными, но призыв к терпимости, к объединению народов в борьбе за мир и свободу брошен. Эти мысли поражают, вызывают иронию, скепсис, но и восхищение одновременно. Даже будучи утопическими для своего времени, они становятся достоянием человечества. Пройдет около трехсот лет, прежде чем многие идеи Коменского станут делом практического осуществления...
Однако политические прогнозы, сделанные Коменским на ближайшие годы, вызывают интерес участников конгресса. Выступление мыслителя становится своеобразным событием в духовной жизни Европы. В этом же году Ян Амос издает свое сочинение «Путь света», написанное им для Англии больше двадцати лет назад, но с новым посвящением, где дается краткое введение в Пансофию. Обращаясь к Королевскому обществу наук в Лондоне, Коменский надеется, что это общество станет международным научным институтом.
Силы Яна Амоса убывают. Общественная, политическая борьба, которой он отдал всю свою жизнь, как ему кажется, не принесла результатов. Чехия по-прежнему томится под игом Габсбургов, братья преследуются, община распадается. Временами глубокое уныние охватывает Яна Амоса. Где же искать утешение? Он склоняется к пиетизму[118] — абсолютному углублению в веру вне церкви и сект. Ему близко утверждение пиетистов, что настоящий христианин должен провести реформацию прежде всего в самом себе. В этом настроении в 1668 году Коменский пишет сочинение, трогательное и глубокое по искренности мыслей и чувств, названное им «Единственно необходимое». В нем философ, окидывая мысленным взором свою жизнь, прожитую в борьбе и тяжких испытаниях, хочет передать опыт грядущим поколениям. Он не отказывается от прошлого, несмотря на усталость от вечных поисков и горечи разочарований. Но когда-нибудь мы должны найти выход из лабиринтов, ведь существуют причины неустройства! Суметь отличать в жизни нужное от ненужного — значит выбраться из бед. Ян Амос призывает найти истину в себе, жить, познавая действительность, изучая науки, идти путем мира к благоденствию человечества. «Война, — говорит Ян Амос, — должна отвергаться как что-то зверское, ибо людям к лицу человечность, а споры могут быть разрешены судом, веденным по правилам».
«Единственно необходимое» — это и исповедь, и завет мыслителя, исполнившего свой долг перед людьми, миром, родиной. Коменский посвящает его Рупрехту Пфальцскому, сыну Фридриха, находящемуся при английском дворе. Смысл посвящения ясен: Рупрехт должен продолжать дело освобождения Чехии.
Болезнь вырывает Яна Амоса из активной жизни иногда на недели, месяцы. Он рад, когда его посещают старые друзья, сын Даниил. Жизнь завершает свой круг. Вспоминая былое долгими ночами, когда сон не идет к нему, Ян Амос как бы беседует с дорогими людьми, оставлявшими его на длинной жизненной дороге, всматривается в лица... Память — вторая жизнь. Самые радостные минуты, когда перед ним, возрожденная силой любви, возникает милая Моравия, ее холмы и цветущие поля, шумящий лес, полный звонких птичьих голосов, широкий могучий дуб, возле которого он занимался со своими учениками. И всегда рядом Магдалина, юная, прекрасная, с лучистыми глазами, устремленными на него. В ее взгляде нет печали прощания, как в том последнем взгляде, который он встретил, обернувшись у порога, когда ночью уходил из дома, оставляя в Фульнеке Магдалину с детьми, — нет, в видениях Яна Амоса этот взгляд сияет радостью встречи.
Увы, спокойные минуты размышлений и воспоминаний, когда боли оставляли его, были отравлены клеветой. Тяжко больной, почти без сил, в эти последние полтора года своей жизни он вынужден снова взяться за перо, чтобы защитить самое важное свое творение и показать тем, кто способен видеть, что каждый его поступок, каждый шаг был продиктован одним-единственным стремлением к освобождению родины и установлению на земле мира, справедливости, благоденствия.
А началось с того, что по приезде в Амстердам он знакомит со «Всеобщим советом» Самуила Маресия (Коменский всегда прислушивается к мнению коллег), профессора теологии университета в Гронингене. Протестант кальвинистского направления, человек нетерпимый и резкий, Маресий в ядовитом памфлете обрушивается на «Всеобщий совет», а вместе с тем и на другие пансофические, педагогические, теологические работы Коменского. Его удар был рассчитан точно. Маресий обвиняет Яна Амоса в политических тенденциях, способствующих революции. Памфлет отдает политическим доносом. Клевета и предвзятость извращают каждую мысль Коменского. Автор памфлета не гнушается ничем, лишь бы найти повод для обвинения. Маресий выискивает в произведениях Коменского общее со взглядами католического монаха Кампанеллы. Он видит даже атеизм, поскольку в книгах Коменского мирно сосуществуют христианские взгляды всех направлений и язычество. Маресий приписывает Коменскому фанатизм, одержимость...
Ян Амос вынужден ответить сочинением «О рвении без знания и любви, братское увещание Я. А. Коменского к Самуилу Маресию ради уменьшения ненависти и увеличения благосклонности». Оно выходит в 1669 году — за год до смерти автора. Но Маресий не успокаивается, да и сам Ян Амос испытывает необходимость продолжить защиту своих взглядов, уже в иной плоскости. Он пишет «Продолжение братского увещания об умерении рвения любовью», в котором, кратко повествуя об основных биографических фактах за последнее тридцатилетие — период, когда создавался «Всеобщий совет», — показывает глубокую внутреннюю связь своей жизни с общественно-политическими событиями эпохи, ее научными, религиозными, философскими задачами. Вся жизнь Коменского — и это становится очевидно непредвзятому читателю, — все его побуждения, поступки, дела были ответом на запросы времени. Но времени нового, идущего на смену старому, несущего в себе идеи гуманизма и свободы. Какое удивительное по нравственной глубине и правдивости доказательство истинности, жизненности, человечности устремлений философа!
Ян Амос не успевает закончить это произведение, которое чешский исследователь Й. Гендрих при первой публикации на чешском языке назвал «Автобиографией». Она обрывается знаменательным 1658 годом. В этом виде «Продолжение братского увещания» выходит в 1670 году. Чувствуя приближение конца, Ян Амос заклинает сына Даниила и своего ближайшего помощника Нигрина позаботиться об издании всех остальных томов «Всеобщего совета», ибо мысль, отлитая в печатное слово, не исчезнет, она прорвется через барьеры времени и рано или поздно придет к людям.
Ян Амос Коменский умирает, чтобы стать бессмертным. Человечество помнит эту дату — 15 ноября 1670 года. Его прах покоится в Валлонской церкви в Наардене, недалеко от Амстердама.
С той поры прошли годы, десятилетия, столетия, но они не отдалили, а, наоборот, приблизили к нам великого мыслителя и педагога. Так, наверное, скажут и люди двадцать первого века...
Вместо эпилога. КОМЕНСКИЙ И МЫ
Стоит задать себе вопрос: «Чем близок и дорог Коменский каждому из нас?», как сразу же возникает необходимость дополнения: «И для всех нас вместе», ибо, мечтая о счастье человека, Коменский не мыслил его вне деятельности ради общего блага, ради счастья для всех. «Весь человек в целом должен воспитываться для человечества», — говорит он, и эта мысль, обращенная к современникам, обрела столь великую нравственную силу, что без нее немыслима духовная жизнь человечества во все времена.
Личность Яна Амоса Коменского, его произведения, удивительная жизнь, его титаническая деятельность вот уже три века волнуют, будоражат воображение человечества, приковывая внимание педагогов, философов, историков, писателей, да и всех людей, независимо от их профессии поставивших перед собой вопрос о смысле жизни, о своем назначении на земле.
В чем же секрет неослабевающей притягательной силы Коменского? Какие нравственные, исторические уроки извлекаем мы из этого живого неиссякаемого источника?
На крутых переломах истории, когда в борьбе и страданиях решается судьба народа, вперед выходит тот, кто готов взвалить на свои плечи всю тяжесть испытаний, уготованных суровым временем. Он жертвует всем, чем владеет, если требуется, и самой жизнью, но поступить иначе не сможет: оставаться в стороне не позволит совесть. Любовь к родине призовет его, а история выведет на авансцену событий. Неизвестно, как происходит этот таинственный процесс, в котором, казалось бы, так много случайных, привходящих обстоятельств, но история безошибочно выбирает того, кто сумеет вместить в своем сердце все горе и муки народа, чей голос будет услышан и отзовется в веках.
Такой фигурой для гонимых, преследуемых огнем и мечом чехов-протестантов в эпоху Тридцатилетней войны, когда Чехию жгли, терзали, грабили войска государств, объединенных в Католическую лигу, стал Ян Амос Коменский, великий чешский мыслитель и педагог.
Не странно ли — всего лишь скромный учитель и священник общины чешских братьев, прямых наследников гуситов, — именно он становится полномочным представителем гонимых чехов. Он, более всего склонный к созерцанию и размышлению, прерывает работу над сочинениями, которых ждет от него просвещенный мир, оставляет учеников, школу и отправляется в путь по дымным дорогам Европы, наводненным шайками разбойников и мародеров, чтобы вести переговоры с правителями городов, королями, канцлерами о предоставлении убежища тысячам чешских семей, об их защите и правах, о мире.
Кажется, словно для того, чтобы Коменский пережил всю боль и страдание народа, эта кровавая многолетняя война обрушивает на него самые тяжкие испытания. Но ничто не может сломить его волю к борьбе, поколебать веру в высокое предназначение человека. В это страшное время, когда льются потоки крови, Коменский провозглашает гармоничную личность главной целью всех педагогических усилий, а свободу — высшим благом, неотделимым от человека. Страстно обличает он социальную несправедливость, призывает к равенству людей и народов, уничтожению сословных привилегий, равноправию мужчин и женщин.
Защитник обездоленных, угнетенных, Коменский провозглашает естественное право на счастье всех людей и народов. «Все люди, в какой бы части земли они ни жили, — заявляет он, — обладают одной и той же природой, в равной степени обладают способностью чувствовать и мыслить, волей и инстинктом, способностью к труду». Размышляя о человеке, он видит человечество, открывая исконные нерасторжимые связи между людьми, так как не может быть человек счастливым, если другие вокруг него несчастны.
Представления Коменского об идеальном государстве утопичны, ибо он не видел, что причина социального зла лежит в классовом антагонизме эксплуататорского общества, но подлинный глубокий демократизм и гуманизм его воззрений расковывали мысль, открывали путь к самосознанию, будили чувство человеческого достоинства и звали на борьбу. «Почему свобода всех сословий не должна быть составной частью счастья? — бросает он этот сакраментальный вопрос, чтобы тотчас же решительно и прямо ответить на него: — Без сомнения, она является счастьем, и чем более всеобща эта свобода, тем лучше».
Каков же путь достижения всеобщей свободы и всеобщего счастья? Коменский видит его в воспитании труженика, деятеля, способного к познанию всего сущего, осознавшего свою глубокую общность с человечеством. «Поэтому нужно старательно внушать юношеству назначение нашей жизни, — говорит он, — а именно — что мы рождаемся не только для самих себя, но и для всего человеческого рода... Итак, — продолжает Коменский, — тогда лишь наступило бы счастливое состояние в делах частных и общественных, если бы все прониклись желанием действовать в интересах общего благополучия, знали бы и умели, как везде друг другу помогать. Люди будут уметь и хотеть делать это, нужно только их этому научить».
Глубокой верой в людей, в их безграничные творческие возможности проникнуты эти строки. Отсюда проистекает и оптимистический характер педагогики Коменского. Обретая свою высшую цель — сделать людей свободными и счастливыми, она поднимается на новую ступень, охватывает все науки, все достижения человеческого гения. Именно эту необъятную задачу — собрать воедино, привести в систему, критически проверить все знания, добытые наукой во всех областях жизни, иначе говоря, создать Пансофию, — ставит перед собой Коменский.
Он взваливает на свои плечи непосильный груз, но величие цели вдохновляет его, придает новые и новые силы. Преодолевая препятствия, поднимаясь над трагическими обстоятельствами своей судьбы, Коменский многие годы трудится над осуществлением грандиозного замысла. Он убежден, что «при помощи научных занятий мы должны приближаться ко всеобщему познанию вещей, и к Пансофии... т. е. к полной, все в себе заключающей и во всех частях согласной с самой собою мудрости: не должно остаться неизученным ничто: ни явное, ни сокровенное».
Идея Пансофии, всезнания, у Коменского — естественное развитие его педагогических идей. От «Великой дидактики» к Пансофии, к их органическому соединению, ибо отыскание истины не самоцель. Коменский не однажды высказывает мысли, что человек с помощью познания должен зажечь новый свет мудрости, чтобы, наконец, прекратились на земле раздоры и люди смогли бы достичь счастья.
Коменский обращается к каждому и ко всем, к человеку и к человечеству. Он призывает к объединению научных знаний во всем мире, убежденный, что это приведет к взаимопониманию народов. Он выдвигает неслыханные для своего кровавого времени идеи объединения наций на основе равноправия, взаимопомощи, коллективных усилий во имя мира.
Многие рукописи Коменского уничтожил огонь, но его мысли не пропали. Исподволь, даже в забвении, совершали они свою невидимую работу, входили в сознание все большего числа людей, переходили от поколения к поколению.
Подхваченные просветителями следующего, восемнадцатого столетия, многие идеи Коменского становятся всеобщим достоянием, хотя часто и не связываются с его именем. Какой взрывчатой силой наполняется мысль Коменского об изначальном равенстве людей и праве каждого человека на счастье под пером идеологов французской революции! Восставший народ Франции шел на штурм Бастилии со знаменем, на котором было написано: «Свобода, равенство, братство». Три эти слова выражают заветные стремления Коменского, много раз высказанные в его сочинениях. У идей, как и у книг, своя судьба, отдельная от судьбы их творцов...
Девятнадцатый век заново открывает Коменского-педагога, а двадцатый — Коменского-мыслителя. Происходит это не только потому, что разыскиваются считавшиеся пропавшими произведения. По-иному, в неожиданном приближении к практике, к проблемам, поставленным временем, перечитываются и уже известные — «Великая дидактика» прежде всего. Именно девятнадцатый век обнаруживает, что в произведениях Коменского педагогика впервые предстает как наука.
Поставив великие вопросы — какова природа человеческой мысли, как человек постигает истину и как он в ней убеждается, — Коменский на научной основе строит свою педагогику. «Отыскивая пути искусства преподавания, — говорит он, — мы должны подвергать проверке вместе и по отдельности все то, что взаимодействует в процессах преподавания, учения и познания, с тем чтобы, после того как мы познали природу этих вещей, откуда и как они возникают, понять, как с ними можно и должно обращаться».
И он действительно создает научную педагогическую систему, где различные педагогические явления раскрыты и осмыслены в их внутренней взаимосвязи и органической последовательности, где каждый факт имеет свое определенное место и все вместе они образуют единое, неделимое целое.
Сколько поколений педагогов зачитывалось «Великой дидактикой», черпая в ее богатейшем содержании, в ее оптимизме силы, чтобы каждодневно, вдохновляясь примером самого Коменского, вести бой за нового человека!
Словно общаясь с будущим, Коменский выдвигает задачу, и ныне остающуюся одной из самых важнейших для педагогики, — раскрыть «познавательные способности ученика» и найти способы обучения, которые бы соответствовали этим «познавательным способностям». Но сегодня, решая ее, педагогика опирается на психологию, социологию — весь комплекс различных наук с их современным оснащением...
Радостно, светло, просторно в школе Коменского — «мастерской гуманности», где «всех учат всему», где «необходимо все дарования развивать в совершенстве, чтобы родившийся человек учился действовать по-человечески». Ведь он должен стать «исследователем и исчислителем» мира, его активным деятелем и преобразователем с помощью познания. Снова и снова Коменский повторяет: «Никто не рождается только для себя, необходимость совместной жизни с другими людьми соединяет всех трижды законными узами, которые всех обязывают: 1. Никому не вредить. 2. Воздавать каждому, что ему подобает. 3. Приносить ту пользу, которую он может принести».
Коменский, воспитывая и обучая человека, проводит его по всем ступенькам своей системы — от «Материнской школы» к школе родного языка, где даются знания о реальном мире, систематизированные по различным предметам, как сказали бы мы сейчас, а затем к третьей ступени, к гимназии или латинской школе, в которой наряду с языком науки его времени — латинским — изучаются реальные предметы, этика, история, новые языки. Школьное образование завершают академии, путешествия...
Как далека оказалась эта стройная система образования от своего воплощения даже в девятнадцатом веке!
Передовая педагогическая мысль девятнадцатого века убеждается, что хотя существующая школа сложилась под огромным влиянием Коменского, она бесконечно далека от того, к чему стремился великий педагог. Социальные противоречия, сословные предрассудки, косность и казенная рутина так изменили ее существо и облик, что школа Коменского увиделась идеалом, к которому следует долго и терпеливо идти, борясь за каждое продвижение вперед. А вместе с тем сам ход исторических событий привел к осознанию того, что лишь общество, свободное от угнетения и социального неравенства, способно в наибольшей мере осуществить педагогические идеи Коменского.
Двадцатый век, переживший ужасы двух мировых войн, ощутил в идеях Коменского о мирном развитии человечества живое созвучие своим устремлениям. Подлинным событием стало открытие в 1935—1940 годах «Всеобщего совета об исправлении дел человеческих». После многолетней подвижнической работы чехословацких ученых этот всеобъемлющий труд был опубликован Чехословацкой академией наук в 1966 году.
В этом великом сочинении Коменский снова исследует проблемы воспитания, обучения, образования. Человек предстает в нем в движении к совершенству, овладевающий собой и действительностью, способный в единстве со всем человечеством преобразовать ее. Но теперь всеобщее воспитание — лишь часть, хотя и важнейшая, «Всеобщего совета», где последовательно, по ступеням, рассматриваются многообразные коллективные действия, которые приведут к исправлению мира.
На первый план выступают общественно-политические задачи переустройства человеческого общества, и воспитание человека целиком и полностью подчинено им точно так же, как и сами эти задачи проистекают из человеческой природы. «Основой политики является естество человека, — утверждает Коменский. — Завершением и целью всеобщей политики будет новое собрание народов всего света на основе мира, с примирением и ликвидацией войны из поколения людей и с ликвидацией самих поводов к войнам».
Оставаясь утопистом, великий мыслитель, гуманист и демократ выдвигает идеи, ставшие достоянием будущего. Он обосновывает каждый шаг в постепенном, неуклонном движении человечества к идеалу, а его энергия убеждения, проникнутая историческим оптимизмом, вдохновляет, делает этот идеал зримым, достижимым.
Советский Союз, народы мира, разгромившие немецкий фашизм, ощутили в глубоко разработанных идеях Коменского о необходимости коллективных усилий во имя сохранения мира, о новом справедливом статусе взаимоотношения народов, основанном на равноправии и взаимопомощи, свои собственные устремления. Это стало очевидно, когда на месте, расчищенном от обломков фашизма, уже была создана Организация Объединенных Наций как инструмент для поддержания мира и взаимопонимания между народами. Во «Всеобщем совете» Коменского, обнародованном в 1966 году чешскими учеными, человечество увидело предвосхищение ООН, как бы его своеобразную модель, вплоть до описания ее отдельных организаций.
Предвосхищение — и мечта... О постоянном международном суде справедливости (его современное название) Коменский писал: «Мировой суд должен позаботиться, чтобы нигде ни один народ не восстал против другого народа, чтобы никто не отважился выступить, призывая к войне и готовя оружие, и чтобы не осталось ни одного меча и копья, не перекованного в серпы и орала...»
Идеи не умирают. Время устраивает им лишь суровый экзамен. Таинственными, непостижимыми путями пробиваются они сквозь толщу веков, как бы возникая из небытия в свой определенный час. В этом состоит, может быть, самый главный урок подвижнической жизни Яна Амоса Коменского: отданная людям, человечеству, она отозвалась в веках. Даже клевета, грубые несправедливые обвинения в последние годы жизни мыслителя, даже забвение его имени на многие десятилетия после смерти не могли помешать этому!
Коменский был сыном своего времени. Мечтая о будущем, он жил настоящим, разделял его заботы и тревоги, все силы отдавал защите своего народа. И это великий урок Коменского: чтобы стать современником будущего, надо быть гражданином своей эпохи; чтобы стать другом человечества, надо отдать жизнь борьбе за свой народ. Примечательно: готовя материалы в канун Великой Октябрьской социалистической революции для своей книги «Народное образование и демократия», Н. К. Крупская начинает запись о Коменском: «У него очень много такого, что ценно для нас с точки зрения социализма».
Мечты Коменского о светлом будущем рождала суровая, тяжкая действительность, которую — он верил в это — человек сумеет преобразовать. Образно говоря, всю свою жизнь он стремился соединить небо и землю, возвысить сущее до идеала. Его мысль воспаряет к небесам, чтобы объять все человечество, проникнуть в грядущее, но в то же время он великий практик и организатор, твердо стоящий на реальной почве, обосновывающий каждое действие, ведущее к желанному идеалу. Его любовь к человечеству сочетается с трезвостью ума, без которой эта любовь была бы бесплодна. И это — урок Коменского: сражение за будущее, каким бы далеким оно ни казалось, начинается с порога твоего дома и идет каждую минуту твоей жизни.
Коменский поставил перед собой великие цели: усовершенствовать человека, исправить мир ради всеобщего счастья, — и вся его жизнь стала словно бы образным воплощением этого стремления, каждодневным подвигом борьбы, героической воли, самоотречения. Еще один урок Коменского: великие цели ведут к великой жизни...
Раздумья о Коменском вызывают чувство гордости за человека. В нем все огромно, как бы скрыто за далью веков — и все близко, тепло, человечно: величие и трагизм его судьбы, контрасты жизни и творчества, разительные противоречия мировоззрения.
В самом деле, стихийный материалист, выступающий за научное познание мира и его преобразование человеком, деятелем и творцом, Коменский в то же время стремится соединить это познание с идеей бога. Философ, призывающий найти опору в себе, в своем сердце, он с полной отдачей сил борется за интересы общины, взваливая на себя ответственность за судьбы множества людей, проявляя твердую волю, мужество, бесконечное терпение.
И такова его жизнь: скрывающийся от преследований в лесных убежищах, познавший бедность, непонимание, клевету, он обладает могучим духовным влиянием на тысячи людей, готовых в любой момент вверить ему свою судьбу. Обладая мировой известностью ученого и педагога, чье имя открывает любые двери сильных мира сего, он многие годы живет в тяжкой нужде, не имея возможности полностью отдать свои силы сочинениям, к которым рвется душа.
Коменский, названный «учителем народов», неотделим от культурного развития человечества. Его реалистическая, жизнеутверждающая педагогика, на века опередившая свое время, стала краеугольным камнем развития образования и просвещения в Европе. Он как могучее разросшееся дерево, листва которого, обращенная к солнцу, к свету, к новым наступающим дням, обновляется с каждой весной, а корни, ветвясь, вросли в глубинные слои народной жизни, впитав в себя вековые традиции исторического бытия.
Познавая мир, совершенствуясь, продвигаясь вперед, мы идем к Коменскому...
Девиз Яна Амоса Коменского: «Все должно протекать естественно, пусть насилие будет удалено от дела». («Omnia sponte fluant absit violentia rebus».) Это ведущая педагогическая идея Я. А. Коменского.
Миколаш Алеш. Ян Амос Коменский и ученик. 1898.
Георг Гловер. Ян Амос Коменский. 1642.
Кристиан Хагенс. Ян Амос Коменский. 1670.
Я. Нуаль. Ян Амос Коменский. 1670.
Вацлав Брожик. Я. А. Коменский. 1881.
Неизвестный автор. Я. А. Коменский.
Рембрандт. Портрет старика. (Предполагают, что это Я. А. Коменский.)
Карлов мост, а там, за мостом, — Градчаны... Собор святого Вита на высоком холме виден отовсюду...
Куранты Староместской ратуши, восхищавшие всех, кто приезжал в Прагу.
Сожжение Яна Г уса на костре.
Прага. Староместская площадь. Памятник Я. Гусу.
Прага. Вифлеемская часовня. Конец XIV — начало XV века.
Ян Жижка во главе таборитского войска.
Общий вид Табора. XV в.
Кажется, что собор святого Вита совсем близко...
Страница рукописи «Чешской дидактики» Я. А. Коменского. 1628. Рукопись была найдена в 1841 г.
Первая страница «Информаториума школы материнской». 1632. Это первый систематический научный трактат о воспитании до шести лет.
Титульный лист «Открытой двери языков». 1633. Эта книга принесла Я. А. Коменскому мировую славу и стала самым главным учебником. При жизни Коменского она была переведена на главные европейские языки и на четыре азиатских.
Титульный лист «Великой дидактики» (1637), на котором изображен Я. А. Коменский. Гравировал Давид Логлан по рисунку Криспина де Пасса. С этого замечательного гуманистического сочинения и ведет свое начало современная педагогическая наука.
Макс Швабинский. Я. А. Коменский. 1920.
«Мир чувственных вещей в картинках». Введение.
Учитель: «Подойди, мальчик! Научись уму-разуму».
Мальчик: «Что это значит — уму-разуму?»
Учитель: «Все, что необходимо правильно понимать, правильно делать, правильно высказывать».
Глава «Земледелие».
Глава «Скотоводство».
Глава «Помол муки».
Глава «Хлебопечение».
Глава «Охота.»
Глава «Искусство речи».
Глава «Мудрость».
Глава «Умеренность».
Глава «Щедрость».
Карел Жеротинский (1564—1636), влиятельный покровитель и друг Я. А. Коменского.
Город Фульнек. Школа, которой руководил Я. А. Коменский, и его дом. 1619.
Город Фульнек сегодня. На первом плане школа, носящая имя Я. А. Коменского.
Город Фульнек сегодня. Ратуша и площадь имени Я. А. Коменского.
Лаврентий де Геер, богатый амстердамский купец, почитатель и покровитель Я. А. Коменского.
Амстердам. Ратушная площадь. 1648—1654. В ратуше чествовали Коменского в его последний приезд в Амстердам.
Великий ученый и философ Ренэ Декарт (1596—1650). Декарт и Коменский полемизировали друг с другом — это была философская полемика двух мыслителей, ищущих истину.
Вилла в окрестностях Утрехта, где жил Декарт.
Стокгольм. Дворец Оксеншёрны. 1650. Здесь вел беседы Коменский со всесильным канцлером.
Аксель Оксеншёрна (1583—1654), канцлер Швеции.
Ян Порселлис. «Морской берег». 1631. Не один раз буря заставала Коменского в море, и лишь мужество и умение команды спасали корабль от гибели...
Памятник Я. А. Коменскому в Угерском (Венгерском) Броде.
Памятник Я. А. Коменскому в Фульнеке, на вершине холма, в Жаковском лесу. Здесь некогда стоял дуб, под которым Ян Амос Коменский занимался с учениками.
Винцени, Маковский. Модель памятника Я. А. Коменскому для Наардена.
Принятый конкурсный проект памятника Я. А. Коменскому для Амстердама. Авторы — Ян Штраус и Павел Янак.
Смоляницкий С. В. Три века Яна Амоса Коменского: Художественно-документальная повесть / Слово к читателям М. Кузьмина; Рис. К. Безбородова. — М.: Дет. лит., 1987. — 208 с., ил.
Примечания
1
Чешские (или богемские) братья — религиозная секта, возникшая в Чехии в XV веке после разгрома таборитов. Проповедовала социальное равенство и общность имущества. В своих общинах члены этой секты весьма большое внимание уделяли воспитанию детей.
(обратно)2
Нивница — местечко в Южной Моравии. Рядом находится город Угерский (Венгерский) Брод. Точно не установлено, в каком из этих двух мест родился Коменский. Сам он называет себя то нивническим, то венгеробродским моравином.
(обратно)3
Гус Ян (1371—1415) — великий чешский патриот, вождь Реформации в Чехии, вдохновитель чешского национально-освободительного движения против немецкого засилья, за национальную и культурную независимость Чехии, «защитник национальных и народных прав» (К. Маркс).
(обратно)4
Рудольф II Габсбург (1576—1612) — чешский король, германский император.
(обратно)5
Матвей из дома Габсбургов, король Венгрии, ставший германским императором и чешским королем (1612—1619) после отречения от престола его родного брата Рудольфа II.
(обратно)6
Протестанты — протестантизм — общее название ряда течений в христианской религии, возникших в эпоху Реформации (XVI в.) и направленных на борьбу против феодализма и католической церкви. Основные его принципы: отрицание верховной власти папы римского, отпущения грехов за плату, монашество, отказ от почитания изображения святых, отмена безбрачия духовенства, упрощение церковных обрядов, признание священного писания единственным источником веры. Протестантизм ввел богослужение на родном языке, благодаря чему началось обучение на нем и в школах.
(обратно)7
Католики — католицизм — одно из трех основных направлений христианства. Окончательное разделение христианской церкви на западную (католическую) и восточную (православную) произошло в связи с различиями в исторических судьбах Запада и Востока.
(обратно)8
Альстед Иоганн (1588—1638) — профессор философии в Герборнском университете в Германии.
(обратно)9
Аристотель (384—322 до н. э.) — крупнейший философ и ученый древнего мира, энциклопедист, заложивший основы гуманитарных и естественных наук.
(обратно)10
Схоласты — схоластика — выводила представление об окружающем мире из догматов религии.
(обратно)11
Платон (427—347 до н. э.) — Древнегреческий философ-идеалист. По Платону чувства не могут быть источником истинного познания, которым являются воспоминания бессмертной души человека о мире вечных идей.
(обратно)12
Сенека Люций Анней (1—63) — один из выдающихся римских философов-стоиков, воспитатель и советник императора Нерона. Направление философии Сенеки весьма близко к христианству.
(обратно)13
Квинтилиан Марк Фабий (42—118) — крупнейший представитель педагогической мысли Древнего Рима, теоретик ораторского искусства.
(обратно)14
Николай Кузанский (1401—1464) — теолог, философ, крупный ученый своего века (математик, астроном, географ), был кардиналом римско-католической церкви и одним из виднейших ее руководителей. Вместе с тем был близок к гуманистической культуре. Автор многих философских и теологических произведений, «Трактата об ученом незнании» (1440) и многих других.
(обратно)15
Гейдельбергский университет — старейший германский университет. Основан в 1386 году.
(обратно)16
Ратке Вольфганг (Ратихий) (1571—1655) — немецкий педагог-теоретик. Оставил ряд методических сочинений и несколько учебников для средней классической школы (по грамматике и логике).
(обратно)17
Коперник Николай (1473—1543) — выдающийся польский математик, философ и астроном. Впервые построил новую теорию гелиоцентрической системы мира, по которой Земля и планеты вращаются вокруг Солнца, и разработал систему движения небесных светил.
(обратно)18
Сейм — сословно-представительное учреждение, в определенные периоды обладавшее значительными полномочиями: избрание короля, решение вопросов войны и мира, строительство новых городов, выступление с законодательной инициативой и пр.
(обратно)19
«Грамота его величества», обнародованная под давлением чешских сословий Рудольфом II Габсбургом в 1609 году. Согласно этой грамоте, чешские протестанты получали право свободно исповедовать свою веру, публично совершать богослужения, строить церкви, иметь свои организации и учреждения и строить школы. Они получили также в свои руки управление Пражским университетом.
(обратно)20
Гуситские войны — национально-освободительное антифеодальное движение народных масс в Чехии в первой половине XV века, направленное против немецкого дворянства и католической церкви.
(обратно)21
Хилиазм — христианское учение о «тысячелетнем царстве божьем», которое якобы будет установлено после победы «сил небесных» над «силами зла».
(обратно)22
Иероним Пражский—талантливый ученик Яна Гуса, он стал университетским профессором в Праге и ревностным поклонником и распространителем его взглядов. Был образованным ученым и выдающимся оратором, преподавал во многих университетах Европы. Резко критиковал состояние современной церкви, пытался найти союзников чехам против католической церкви и в православных русском и белорусском народах. Как и Ян Гус, был сожжен по решению Констанцского собора.
(обратно)23
Ян Желивский — один из вождей народного восстания, проповедовал в Праге в начале гуситского движения. Стал выразителем интересов беднейших слоев народа. В марте 1422 года вместе с 12 ближайшими помощниками был предательски убит коншелами в ратуше старого города, куда был вызван якобы для переговоров.
(обратно)24
Жижка Ян (ок. 1360—1424) — чешский национальный герой, выдающийся полководец в период гуситских войн. Один из гетманов-таборитов. В 1419 году возглавил народную армию, главную силу которой составили табориты, и отразил три крестовых похода, организованных римским папой.
(обратно)25
Иржи из Подебрад — чешский король (1458—1471), проводил политику укрепления королевской власти в интересах широких кругов феодалов и бюргерства.
(обратно)26
Ян Рогач из Дубы (над Сазавой) — таборитский гетман и впоследствии последний полководец всех гуситских войск, продолжавший борьбу после поражения таборитов у Липан (1434). Рогач долго оказывал сопротивление в своей крепости Сион (в Чеславском крае), но после ее падения был взят в плен вместе с 60 единомышленниками, повешен на Староместской площади в Праге в 1437 году. Борьбой Рогача кончается эпоха гуситского революционного движения.
(обратно)27
Табориты (по названию укрепленного города Табор) — революционное крыло гуситского движения, выражавшее интересы крестьянства и трудового населения городов.
(обратно)28
Чашники — в гуситском движении с самого начала образовалось два лагеря: революционный, антифеодальный, объединивший крестьянство и трудовой люд городов, и бюргерско-дворянский. Гуситы этого второго лагеря вошли в историю под названием «чашников».
(обратно)29
Сигизмунд — король венгерский (1387—1437), германский император (1411—1437), вел антигуситские войны. Гарантировал Яну Гусу, отправлявшемуся в 1414 году на собор в Констанц, безопасность и обратную дорогу, но нарушил свою охранную грамоту и отдал Гуса в руки церковников, на казнь.
(обратно)30
Петр Хельчицкий — идеолог и основатель общины чешских братьев, выдающийся писатель, свидетель гуситских войн, выразитель чаяний крестьянства и трудового люда, разоблачитель церковной и светской власти, но решительно выступавший против таборитов, за то что они боролись за свои права с оружием в руках.
(обратно)31
Индульгенция — в католицизме: отпущение грехов; грамота, свидетельство, выданное об отпущении грехов. Индульгенции в XII—XIII веках превращаются в средство обогащения католической церкви и духовенства, так как их стали продавать за деньги.
(обратно)32
Симония — продажа церковных должностей в католической церкви.
(обратно)33
Плебеи — здесь: трудящиеся городов, мелкие ремесленники, подмастерья и пр.
(обратно)34
Вифлеемская часовня (капелла) — основана в 1391 году на частные средства для проповедей на чешском языке. С 1402 по 1413 годы проповедником в Вифлеемской часовне был Ян Гус, пламенные проповеди которого привлекали громадные толпы пражан.
(обратно)35
Иезуиты — члены «общества Иисуса», католического монашеского ордена, основанного испанцем Лойолой в 1534 году для борьбы против передовой науки и социального прогресса, для укрепления могущества католической церкви, папской власти, подорванных Реформацией.
(обратно)36
Высший клир — институт высших сановников церкви, обладающих особыми правами.
(обратно)37
Земаны — рыцари. Название означало принадлежность к дворянскому сословию.
(обратно)38
Констанцский собор католической церкви, напуганной размахом антикатолического движения, собрался в Констанце в 1414 году и занялся вопросом о Реформации в Чехии.
(обратно)39
Еретик — приверженец ереси, религиозного учения, противоречащего принятому. Ереси в большинстве своем были формой протеста народных масс против эксплуатации церкви и господствующих классов.
(обратно)40
Коншелы — члены городского совета (ратуши).
(обратно)41
«...выбрасывают коншелов из окон на мечи и копья повстанцев...» — Это послужило сигналом к восстанию.
(обратно)42
Патриции — богатая верхушка городов (купцы, мастера и пр.) играющая главную роль в городском самоуправлении.
(обратно)43
Бруно Джордано (1548—1600) — выдающийся итальянский мыслитель, материалист и атеист. Задачу философии видел в познании природы, резко критиковал богословие и схоластику. Мировоззрение Бруно формировалось под влиянием теории Коперника, взгляды которого он значительно развил.
(обратно)44
Инквизиция — специальное судебно-следственное учреждение римско-католической церкви, созданное в эпоху средневековья для борьбы против свободомыслия и антифеодальных народных движений.
(обратно)45
Карел Жеротинский, граф (1564—1636) — моравский магнат, один из влиятельных покровителей чешских братьев.
(обратно)46
Ян Благослав (1523—1571) — известный деятель общины чешских братьев, поэт, ученый, композитор, автор «Чешской грамматики», сыгравшей большую роль в становлении чешского литературного языка.
(обратно)47
Бартоломей Пакрицкий — чешский писатель, историк, издавший в 1593 году «Зерцало славного маркграфства Моравского» — труд, посвященный истории Моравии.
(обратно)48
Фердинанд I Габсбург (1503—1564) — император Священной Римской империи, первый король Чехии и Венгрии из династии Габсбургов (с 1526 г.), боролся с чешскими сословиями за утверждение абсолютизма Габсбургов и полного господства католицизма.
(обратно)49
Земство — административный орган самоуправления земель.
(обратно)50
Пикарды — название крайне левого течения таборитов, данное их противниками из феодально-католического лагеря.
(обратно)51
Максимилиан II Габсбург — чешский король (1564—1576), преемник Фердинанда I.
(обратно)52
Лойола (1491—1556) — основатель ордена иезуитов, избранный в 1541 году его генералом (черным папой), автор книги «Духовные упражнения», в которой очертил систему иезуитского воспитания.
(обратно)53
Фердинанд Штирийский (1578—1637), впоследствии известный как Фердинанд II Габсбург, — император Священной Римской империи. Возглавлял габсбургско-католический лагерь в начальные периоды Тридцатилетней войны 1618—1648 годов.
(обратно)54
Кампанелла Томмазо (1368—1639) — итальянский философ, один из первых коммунистов-утопистов. Выступая с критикой Аристотеля, выдвинул требование опытного изучения природы. В сочинении «Город солнца» дал утопическое изображение коммунистического общества, в котором большое внимание уделяется воспитанию детей.
(обратно)55
Мор Томас (1478—1533) — английский ученый-гуманист. Один из основоположников утопического социализма. В «Золотой книге, столь же полезной, как забавной, о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопии» (1516) дал изображение идеального общества, в основе которого лежит общественная собственность. Большое внимание уделял вопросам воспитания.
(обратно)56
Андреэ Иоганн Валентин (1586—1654) — немецкий духовный деятель. Выступал с критикой постановки преподавания в латинских школах и университетах. Недостатки школ видел в отрыве содержания обучения от жизни, в схоластических методах и злоупотреблении латинизмом. Считал необходимым ввести изучение математики и естествознания.
(обратно)57
Вивес Хуан Луис (1492—1540) — испанский философ и педагог эпохи Возрождения. До Бэкона выдвинул перед философией задачу исследования природы опытным путем. Боролся против средневековой схоластики и разрабатывал реформы образования в духе гуманизма.
(обратно)58
Тридцатилетняя война (1618—1648) — война между габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги, католические князья Германии, поддержанные папством и Речью Посполитой), стремившимся к утверждению католицизма, феодальной идеологии и созданию «мировой империи» с подчинением ей ряда европейских государств, и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция, Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией). В результате реакционные планы Габсбургов потерпели крах — война окончилась Вестфальским миром (1648), утвердившим победу антигабсбургской коалиции, новый передел Европы и сфер влияния в ее пользу.
(обратно)59
Августинцы — члены нищенствующего монашеского ордена, основанного в Италии в XIII веке.
(обратно)60
Галилей Галилео (1564—1642) — великий итальянский астроном, физик. Был сторонником гелиоцентрической системы мира, разработанной Коперником. Впервые применил телескоп для изучения небесных светил. Будучи в основном материалистом, Галилей критерием истины считал чувственный опыт, а поэтому выступал против схоластики и церковного учения.
(обратно)61
Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — древнегреческий писатель-сатирик. Выступал против почитания олимпийских богов, всяческого догматизма и предрассудков. Оказал большое влияние на сатирическую литературу Возрождения и Просвещения.
(обратно)62
Реформация — социально-политическое движение во многих странах Европы в XVI—XVII веках, направленное против католической церкви и носившее в целом антифеодальный характер. Реформация положила начало новой разновидности христианства — протестантизму.
(обратно)63
Протестантская уния 1608 (Евангелическая уния) — союз германских протестантских князей и имперских городов во главе с курфюрстом Пфальца. Создан в ходе борьбы протестантов и католиков. Накануне и в начале Тридцатилетней войны 1618—1648 годов вела борьбу с Католической лигой 1609 г., с Габсбургами, перешедшими в наступление на права протестантов; потерпела поражение, распалась в 1621 году.
(обратно)64
Курфюрст (владетельный князь, имеющий право избирать германского императора) Фридрих Пфальцский—один из руководителей Протестантской унии, выбранный чешскими сословиями королем после низложения Фердинанда II Габсбурга во время антигабсбургского восстания в 1619 году.
(обратно)65
Максимилиан Баварский (1573—1651) — герцог, организатор в 1609 году реакционного военного союза католических стран, вошедшего в историю как Католическая лига.
(обратно)66
Ганс Георг, курфюрст Саксонский (1611—1656) — глава немецких князей-протестантов, открыто вставший в начале Тридцатилетней войны на сторону Габсбургов, затем перешел на сторону шведов.
(обратно)67
Стоики — стоицизм — направление в философии античного рабовладельческого общества. Первоначально в стоицизме преобладали материалистические взгляды, особенно в теории познания. Затем разработка этических и моральных проблем ведется стоиками с идеалистических позиций. По учению стоиков, человек — игрушка в руках судьбы, он должен мужественно, стойко переносить жизненные испытания, ища опору во внутренних, духовных ценностях, остающихся неизменными при всех обстоятельствах. Идеи стоиков сыграли большую роль в идеологической подготовке христианства.
(обратно)68
Марк Аврелий (121—180) — философ-стоик, римский император. Свои философские воззрения изложил в произведении «К самому себе». В философии Марка Аврелия на первый план выступают моральные проблемы, трактованные в духе идеализма.
(обратно)69
Монтень Мишель (1533—1592) — французский философ эпохи Возрождения. Главное сочинение — «Опыты» (1580). Исходный пункт учения Монтеня — скептицизм. Человек, по его утверждению, имеет право на сомнение. Сомнению подвергаются средневековая схоластика, догматы католической религии, само христианское понятие о боге. Монтень отвергал религиозное учение о бессмертии души. Монтень не отрицает познаваемости мира. Главный принцип его морали: человек не должен пассивно ожидать своего счастья, которое религия обещает ему на небесах, он вправе стремиться к счастью в жизни земной.
(обратно)70
«Индекс запрещенных книг» — издававшийся Ватиканом в 1559—1566 годах перечень сочинений, чтение которых католическая церковь запрещала верующим под угрозой отлучения.
(обратно)71
Бодин Элиаш (Илья) (1600—1650) — педагог и грамматик. Издал трактат об искусстве обучения.
(обратно)72
Ньютон Исаак (1643—1727) — великий английский математик, механик, астроном, физик. Заложил основы классической механики, сформулировал ее основные законы. Открыл закон всемирного тяготения, дал теорию движения небесных тел, создал основы небесной механики.
(обратно)73
Апокалипсис — одна из книг Нового завета, содержащая пророчества о «конце света», «страшном суде» и «тысячелетнем царстве божьем». Церковь приписывает ее авторство Иоанну Богослову.
(обратно)74
Кеплер Иоганн (1571—1630) — великий немецкий астроном, один из творцов астрономии нового времени. Открыл законы движения планет, на основе которых создал планетные таблицы. Заложил основы теории затмений. Изобрел телескоп.
(обратно)75
Демокрит (ок. 460—370 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист. В. И. Ленин считал Демокрита наиболее ярким выразителем материализма в древности.
(обратно)76
Эпикур (341—270 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-материалист и атеист эпохи эллинизма. Эпикур отрицал вмешательство богов в дела мира и исходил из признания вечности материи, обладающей внутренним источником движения.
(обратно)77
Парменид — древнегреческий философ (вторая половина VI — начало V века до н. э.). Учил, что истинное бытие едино, вечно, неподвижно, неделимо, не содержит пустоты. Свое «Учение истины» обратил против диалектики Гераклита.
(обратно)78
Пифагор (вторая половина VI века до н. э.) — древнегреческий философ. Внес значительный вклад в математику и теорию музыки. Его учение о числе и гармонии, а также система пифагорийских школ оказали большое влияние на педагогические построения идеалистического философа IV века до н. э. Платона.
(обратно)79
Цицерон Марк Тулий (106—43 гг. до н. э.) — выдающийся римский политический деятель, оратор, писатель и моралист. Политическая линия Цицерона была неустойчива. В его сочинениях мы находим довольно развитую теорию воспитания применительно к потребностям его времени.
(обратно)80
Фрей Ян Цецилий (ум. 1639) — профессор в Париже. Занимался философией и медициной. Стоял за изучение латинского языка практическим путем.
(обратно)81
Лубин Эйлгард (1363—1621) — немецкий профессор богословия и поэзии. Написал работу по дидактике.
(обратно)82
Бэкон Веруламский (Веруламий) Фрэнсис (1561—1626) —английский философ и государственный деятель. По выражению К. Маркса, Бэкон — истинный родоначальник английского материализма и вообще опытных наук новейшего времени. По его учению, источником всякого знания является наш опыт, основанный на данных чувства; данные чувств непогрешимы. Главными средствами научного метода служат, по Бэкону, наблюдение, эксперимент, анализ, индукция, сравнение.
(обратно)83
Книга «Бытие» — часть библии (Ветхого завета), почитаемой в иудаизме и христианстве как «священное писание».
(обратно)84
«Книга Иова» — является частью библии.
(обратно)85
Браччолини Паджо (1380—1439) — известный итальянский гуманист. Был участником Констанцского собора как секретарь папской курии. Вначале осуждал Гуса, а узнав его ближе, встал на его защиту. Описал суд над Гусом на соборе в письмах к другу.
(обратно)86
Леонардо Бруни (из Ареццо) (1369—1444) — историк, гуманист итальянского Возрождения. Основное сочинение — «История Флоренции».
(обратно)87
Ульрих фон Гуттен (1488—1523) — немецкий писатель, гуманист. Один из авторов памфлета «Письма темных людей».
(обратно)88
Эразм Роттердамский (1469—1536) — гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель. Автор «Похвалы глупости» — сатиры, высмеивавшей нравы и пороки современного Эразму Роттердамскому общества (невежество, тщеславие, лицемерие духовенства, придворных и т. д.). Сыграл большую роль в подготовке Реформации, но не принял ее. Враг религиозного фанатизма.
(обратно)89
Рабле Франсуа (1493—1553) — знаменитый французский писатель-сатирик; был монахом. Вел занятия по медицине; ставил со студентами свои сатирические пьесы, обличая политическое устройство Франции, католическое духовенство, судебные порядки, медицину своего времени и т. д. В романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» раскрыл пагубные недостатки схоластического образования и — в противоположность ему — дал картину нового воспитания на основе изучения реальной действительности.
(обратно)90
«Реституционный эдикт» (1629) — издан императором Священной Римской империи Фердинандом II. Предусматривал возвращение католическим князьям церковных земель, которые после 1552 года перешли в руки князей-протестантов. Официально отменен Вестфальским миром в 1648 году.
(обратно)91
Густав Адольф (1594—1632) — с 1611 по 1632 год шведский король Густав II. Вел многочисленные удачные войны, успешно боролся с немецкими императорами — Габсбургами — во время Тридцатилетней войны; смертельно ранен при Люцене в 1632 году.
(обратно)92
Валленштейн Альбрехт (1583—1634) — главнокомандующий габсбургскими имперскими войсками в Тридцатилетней войне (1618—1648). По обвинению в сношениях с неприятелем отстранен от командования и убит своими офицерами.
(обратно)93
Максимилиан Баварский (1573—1651) — баварский герцог с 1597 года, глава Католической лиги с 1609 года, курфюрст с 1623 года.
(обратно)94
Тилли Иоганн (1559—1632) — граф, полководец германской Католической лиги 1609 года. В 1630 году сменил А. Валленштейна на посту командующего имперскими войсками. В 1631 году был разбит при Брейтенфельде.
(обратно)95
Натурфилософия — философия природы, умозрительно рассматривающая ее в целостности.
(обратно)96
Гартлиб Самуил (родился в конце XVI века) — выдающийся меценат и общественный деятель Англии. Высоко ценил заслуги Коменского; боролся за примирение религиозно-церковных разногласий; оказывал моральную и материальную поддержку чешским братьям.
(обратно)97
Диоген (ок. 400 — ок. 325 гг. до н. э.) — древнегреческий философ-киник, проповедовал крайний аскетизм. По преданию, жил в бочке.
(обратно)98
Синод — у протестантских общин избираемый орган, который управляет религиозными делами.
(обратно)99
Патриарх Авраам — по библейской легенде, должен был принести сына в жертву богу, в момент жертвоприношения был остановлен ангелом.
(обратно)100
Кальвинизм — кальвинистская ересь — разновидность протестантизма, основателем которой был Ж. Кальвин (1509—1564). Кальвинизм возник в период Реформации и отвечал требованиям нарождавшейся буржуазии, явился религиозным выражением ее интересов. Специфическим для кальвинизма является признание догмата об абсолютном предопределении. Согласно этому догмату, человек еще до своего рождения предопределен либо «спастись», либо «погибнуть».
(обратно)101
Декарт Ренэ (1596—1650) — знаменитый французский философ, физик и математик. Его деятельность характеризовалась борьбой против схоластики и требованием изучать природу. Один из основоположников рационалистической философии.
(обратно)102
Дюри Джон (1596—1680) — протестантский священник в Англии. Стремился к объединению всех протестантов в Европе. Отстаивал необходимость воспитания и образования для всех слоев общества.
(обратно)103
Карл I Стюарт (1600—1649) — английский король с 1625 года. Проводил феодально-абсолютистскую политику. В ходе английской буржуазной революции низложен и казнен.
(обратно)104
Мильтон Джон (1608—1684) — крупный английский поэт, политический деятель, в период английской буржуазной революции сторонник радикальной буржуазии, выступал за английскую республику против феодальной реакции.
(обратно)105
Пим Джон (1584—1643) — английский политический деятель, лидер парламентской оппозиции королю периода английской революции. Провел в парламенте крупные государственные реформы в интересах новой буржуазии. Добился верховной власти парламента.
(обратно)106
«Звездная палата» — высшее судебное учреждение в Англии в 1487—1641 годах. Заседала в зале с потолком, украшенным звездами.
(обратно)107
Ришелье дю Плесси Арман Жан (1585—1642) — герцог и кардинал, французский государственный деятель.
(обратно)108
Оксеншёрна Аксель (1584—1654) — граф, шведский государственный деятель, с 1612 года государственный канцлер при Густаве Адольфе.
(обратно)109
Де Браге Тихо (1546—1601) — датский астроном, реформатор практической астрономии. Жил и умер в Праге. На основе его наблюдений Марса И. Кеплер вывел законы движения планет.
(обратно)110
Христина (на престоле 1632—1644) — шведская королева, дочь Густава Адольфа, участвовавшего в антигабсбургской коалиции в Тридцатилетней войне. Продолжала политику отца.
(обратно)111
Георгий (Дьердь) I Ракоци (1593—1648) — князь, правитель Трансильвании. С 1630 года участвовал в антигабсбургской коалиции.
(обратно)112
Владислав IV (Сигизмунд) (1595—1648) — польский король (1632—1648), вел войны с Русским государством, претендовал на русский престол, воевал со Швецией. Своих политических целей в Европе добиться не смог.
(обратно)113
Сигизмунд Ракоци — трансильванский князь и правитель (1606 — 1608).
(обратно)114
Карл X Густав (1622—1660) — шведский король, вел успешную войну с Польшей, войны против Дании, Голландии, Бранденбурга.
(обратно)115
Ян II Казимир — польский король в 1648—1668 годах, воевал со Швецией, вынужден был отказаться от наследственных прав на шведский престол.
(обратно)116
Англиканская церковь—протестантская, в Великобритании — государственная. Возникла в XVI веке.
(обратно)117
Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 года. Его правление — апогей французского абсолютизма.
(обратно)118
Пиетизм — религиозное мировоззрение. Пиетисты полагали, что служение богу состоит в нравственном усовершенствовании, духовное общение не нуждается в обрядности.
(обратно)
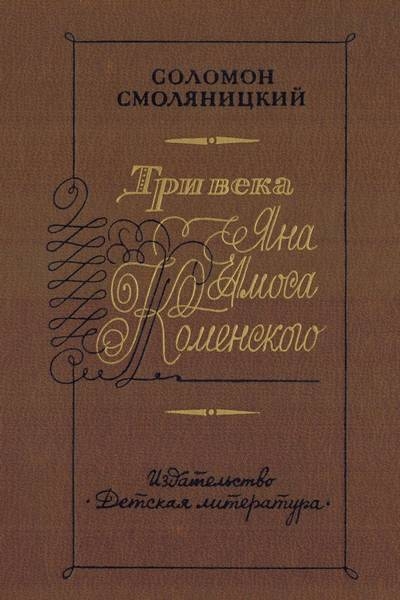
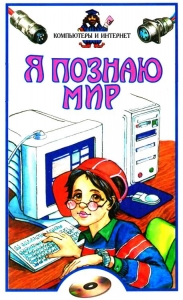




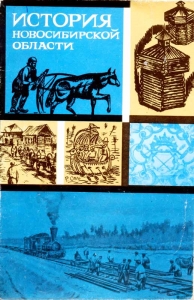
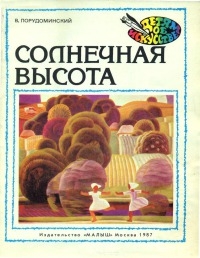


Комментарии к книге «Три века Яна Амоса Коменского», Соломон Владимирович Смоляницкий
Всего 0 комментариев