НА БЕРЕГАХ ТАИНСТВЕННОЙ СИЛЬКАРИ
ГЛАВА 1. КТО? КАК? ПОЧЕМУ?
ПОЙДИ ТУДА — НЕ ЗНАЮ КУДА
Сейчас каждый школьник знает, где находится Забайкалье. А триста лет назад землепроходцы никак не могли отыскать наш край. Они хотели выйти на берега реки Силькари, но никак не могли найти эту реку. Вы скажете: и не мудрено, что не могли — такой реки в Забайкалье нет. Как бы не так: Силькарь — это не что иное, как старинное название реки Шилки. Вот ее-то и искали наши предки. Но выходили они то к Ледовитому океану, то к Тихому. И все потому, что тогда еще не было подробного чертежа Сибири — географической карты. Землепроходцы шли на восток, «на встречь солнца», без компаса и карт, наобум. И главными дорогами для них были реки.
Они доходили до Ангары, строили здесь дощаники и спускались вниз, а Ангара уносила их в Енисей — на север. Из Енисея землепроходцы волоком перебирались в бассейн Лены, а она уносила их еще дальше — на северо-восток.
Вот почему Якутск был заложен на двадцать лет раньше, чем Чита.
Для чего же землепроходцам и служилым людям понадобился неведомый край и для чего они шли сюда, заранее обрекая себя на трудности и лишения?
Дело в том, что слухи о таинственной Силькари давно уже доходили до Тобольска, Енисейска, Москвы.
Рассказывали, что там растет хлеб, водятся соболи и стоит большая серебряная гора.
И вот на поиски Силькари из Енисейска был отправлен отряд Максима Перфильева, а из Тобольска — Дмитрия Копылова. Но шли они вслепую (вот уж поистине: «пойди туда — не знаю куда!») и таинственной реки не нашли. Зато встреченные Максимом Перфильевым тунгусы рассказали, что на одном из притоков Витима живет даурский князь Батога. Этот Батога меняет своих соболей на серебро и хлеб у князя Лавкая, который живет на берегу Силькари. А Лавкай выменивает этих соболей у маньчжур на шелка и другие товары. Серебро же подданные князя Лавкая добывают поблизости. Есть у него и медные рудники, и богатые хлебом поселения — города.
Ничего нового в этом сообщении не было. Но оно лишний раз подтверждало, что Шилка-Силькарь не выдумка, не миф.
С этим рассказом Перфильев пришел в Якутск. А следом служилые люди привезли с северной оконечности Байкала серебряный круг. Оказалось, что такие круги тунгусы носили на голове как украшение. И попали они к ним с той же таинственной реки.
Якутский воевода сразу же стал снаряжать отряд для похода на Силькарь. В него пожелала вступить почти половина жителей. Этому отряду выделили железную пушку, на сто выстрелов пороху, восемь пудов свинца.
Командиром воевода назначил своего помощника — чиновника особых поручений Василия Пояркова. А чтобы он не забыл, зачем его отправляют, воевода дал ему наказную грамоту: «Серебряной и медной и свинцовой руды проведывать и в тех местах острожки поставить и совсем укрепить».
Плыл отряд Василия Пояркова по Лене, по Алдану и Учуре. Учура оказалась порожистой и коварной. Чтобы пробиться в ее верховья, казакам пришлось разбирать пороги, а местами делать запруды.
В одном месте судно, груженное свинцом, ударилось о камки, и «государев» свинец ушел в воду. По реке уже плыли первые льдины, но казаки никак не хотели примириться с такой потерей. Обвязавшись веревками, они ныряли в омут, но свинец словно таймень проглотил.
Вскоре река замерзла, суденышки вмерзли в лед. Казаки сделали нарты, запаслись мясом и тут узнали, что до Силькари рукой подать. Поярков часть людей с казной оставил в землянках, а с остальными пошел дальше.
Перевалив Становой хребет, землепроходцы через две недели оказались на Зее. Здесь они срубили острожек и к весне построили новые суда.
Когда прибыли товарищи, зимовавшие в тайге, новые струги, «ахнувшие горькой смолой, отправились вниз по Зее.
Вскоре они выплыли на широкую гладь могучей реки. Путешественники обрадовались: вот она, наконец, таинственная Силькарь! Однако это была не Силькарь-Шилка, а Амур, и отряд с каждым днем уносило все дальше от заветной цели.
За несколько лет до этого из-под Сольвычегодска на Енисей перебрался Ерофей Павлович Хабаров. Прослышав о богатых соболиных местах, он с братом и сыном ушел на Лену. Здесь он нашел соляной ключ, стал варить соль, выгодно торговать, скупать пушнину. Охотники, которых он нанимал, забирались далеко в тайгу, некоторые доходили до Амура. Не успел Хабаров разбогатеть, как якутский воевода ни с того ни с сего отобрал у него весь хлеб вместе с соляной варницей, а самого заточил в тюрьму.
Но вот приехал новый воевода и ни в чем не повинный Хабаров вышел на свободу. Узнав о том, что Поярков не нашел ни Лавкая, ни серебра, он предложил снарядить экспедицию за свой счет. Воевода не возражал: если Хабарову удастся привести Лавкая под «высокую государеву руку», то в ясачном сборе будет большая прибыль, а воеводе — награда. Он разрешил Хабарову взять гулящих людей и выдал наказную грамоту: «Идти по Олекме и Тунгиру, потом волоком на реку Шилку для ясачного сбору и прииску новых земель… Построить где пригоже острожек… и ходить из того острожка на немирных и неясачных людей, князей Лавкая и Батогу, чтобы они, князцы, с себя и улусных людей давали ясак».
И, конечно, особо наказывалось искать серебряную руду.
И снова поплыли по Лене дощаники, только теперь не вниз, а вверх, до Олекмы. По Олекме, выбиваясь из сил, отряд дотащился до устья Тунгира лишь к осени. Здесь казаки чуть отдохнули, а потом сделали, по примеру Пояркова, нарты и дальше пошли пешком. Но и этот отряд «промазал» — вместо Шилки опять попал в Амур!
На Амуре Хабаров прожил три года. Здесь он собрал богатый ясак и сообщил дарю, что тут по соседству находится серебряная гора. А к сообщению приложил «чертеж земли и городов Лавкая». Якутский воевода тоже писал царю: «Если пожелает государь овладеть даурской землею… и серебряною горою, то пусть пошлет в даурскую землю большую рать».
Когда все это получили в Москве, то решили послать на Амур (серебряная гора — не шутка!) три тысячи стрельцов. А чтобы подготовиться к приему войск и организовать новое — Даурское воеводство, к Хабарову отправили во главе небольшого отряда в сто пятьдесят человек чиновника сибирского приказа Дмитрия Зиновьева. А енисейский воевода Пашков послал на помощь Хабарову стрелецкого сотника Петра Бекетова. Того самого Бекетова, что двадцать лет назад заложил Якутский острог.
На этот раз Бекетов пошел на восток прямо, через Байкал: там только что было построено Иркутское ясачное зимовье и стоял маленький гарнизон. К тому же ему было приказано найти к Амуру более удобную и короткую дорогу.
Через год Бекетов, проплыв по Ангаре, Байкалу, Селенге и Хилку, появился на озере Иргень. Отсюда он часть отряда послал вперед, а сам остался строить острог. Заложив небольшую крепость, он на следующее лето приплыл к Нерче. Здесь уже стоял острог, срубленный его товарищами, которые заложили и Читинское. Так русские люди, наконец, достигли Забайкалья, о котором ходило столько заманчивых слухов и легенд. Случилось это в 1653 году, всего три века назад, что для истории не очень-то много.
КТО ЕСТЬ КТО
Итак, русские землепроходцы и служилые люди, совершив великий исторический подвиг, проникли в наш край, в Забайкалье. И все мы, живущие сейчас здесь, с гордостью называем себя забайкальцами. Но мало кто из нас знает, кто мы такие, есть, из каких мест пришли наши прадеды. Ведь триста лет назад тут населения почти не было. Лишь кое-где по долинам рек обитали редкие бурятские племена да промышляли мягкую рухлядь эвенки.
Первые поселки и села выросли здесь только после прихода русских. А русских, как магнит, притянуло к себе серебро. Слухи о нем оказались не напрасными: его нашел казак Филипп Свешников. А посланный из Москвы на поиски серебра рудознатец Григорий Лоншаков приехал позднее.
Эта серебряная руда была первой в России. Поэтому в Забайкалье решили строить сереброплавильные заводы. Но строить заводы и выплавлять серебро было некому. И правительство издало указ послать за Байкал «тюремных сидельцев» — воров, разбойников и убийц: в тюрьмах, мол, они только даром едят хлеб.
«Тюремные сидельцы» стали выплавлять серебро. Но ведь и тут надо было кормить хлебом! Значит, кто-то должен его выращивать. Правительство предписало «хлебный оклад исполнять тамошнею пахотою» и для начала отправило в Нерчинск сто семей верхотурских крестьян.
Из шестисот человек в Нерчинск пришло только четыреста: многие в дороге заболели и умерли, некоторых до смерти забил батогами сопровождавший их боярин Петр Мелешин.
Затем на берега Шилки переселили крестьян с Енисея и молодых парней из-под Томска, которые должны были идти в солдаты. За Байкал отправили и не годных к военной службе русских, поселившихся в Польше после раскола церкви. Отправляли их со стариками и детьми, целыми семьями, и потому называли семейскими. Первые три партии семейских были снаряжены в путь сразу же после казни Пугачева. Они путешествовали три года и после многих злоключений одна партия поселилась в Верхнеудинске, другая — на Чикое (теперь село Красный Чикой), а третья — на одном из притоков Селенги, реке Иро. Место на Иро оказалось неудачным, через девять лет переселенцы ушли на Хилок и построили Бичуру.
Тридцать семей «отпочковались» от прибывших на Чикой и образовали село Харауз. Но через сто лет на Чикое снова стало тесновато и четырнадцати семьям пришлось уйти в другие села. Два года они скитались по чужим квартирам. Их заставляли платить не только за себя, но и за «постой» скотины — по рублю с каждой головы. Наконец вынесено было решение вообще не пускать их в дома. А кто, пожалев, пустит — с того штраф три рубля в сутки, а вдобавок двадцать розог. Бедных переселенцев вытаскивали из домов, связывали, тащили в правление.
Неизвестно еще, чем бы все это кончилось, если бы поблизости не проезжал губернатор. Переселенцы послали к нему депутатов, и депутатам повезло: после удачной охоты губернатор был в хорошем настроении и приказал землемеру нарезать земли. Землю им нарезали недалеко от Николаевского, и они образовали новое село — Ново-Салию.
Село Николаевское построили украинцы, выселенные с Кавказа. Ушедшие из Николаевского семьи заложили Тангу. Пришедшие с Чикоя «семейские» образовали Ново-Павловск и Дешулан.
В тот год, когда Бекетов закладывал Нерчинский острог, царь приказал отрубать ворам и разбойникам палец на левой руке и ссылать их в Сибирь с женами и детьми. Однако вскоре пришло разъяснение: надо отрезать не пальцы, а уши. Ссыльные должны были засевать свою и государеву пашню, а без пальцев это делать было не очень удобно. Потом вместе с ушами стали резать ноздри.
Помещикам разрешили посылать в Сибирь в зачет рекрут крестьян, не годных к армейской службе. Помещики стали скупать слепых, глухих, престарелых и подростков и отправлять их за Байкал. Крестьяне, высланные в зачет рекрут, построили Верх-Читу, Бальзино, Тыргетуй, Аргалей, село Александровское, Уикер, Ундинск.
Из Белоруссии пригнали четыре семьи Бурдинских.
Этих выходцев из Польши когда-то купил один минский помещик. Во время восстания в Польше Бурдинские тоже заволновались, и их немедленно отправили пешком за Байкал. Здесь они заложили Завитую.
Села Чащино-Ильдикан и Воробьево основаны донскими и уральскими казаками, высланными за пугачевский бунт.
Основателем двух сел был купец Михаил Сибиряков, высланный из Иркутска генерал-губернатором Трескиным. Купец приобрел несколько рудников и привез для работы крепостных. А горное ведомство «подарило» ему немного горных служителей, приписанных к заводам. После смерти Сибирякова крепостные были переведены в казаки и образовали Нижне-Борзинский поселок, а отпущенные горные служители — село Михайловское.
Когда из Сибири были вызваны охотники селиться вдоль проложенного тракта, они срубили Домно-Ключи, Еравну, Беклемишево.
И, конечно же, очень много сел было построено семьями, пришедшими на каторгу за своими отцами, и каторжанами, отбывшими свой срок. Это они основали Кутомару, Горный Зерентуй, Чалбучи, Шахтаму, Акатуй, Базаново, Александровский Завод, Алгачи и многие, многие другие поселки и села.
Когда наши прадеды обжились и обстроились за Байкалом, многим из них пришлось потом перебираться дальше, на Амур. Это переселение началось через двести лет после закладки Нерчинского острога.
И считалось оно добровольным: ехать туда должен был только тот, кто вытянет жребий.
Горше этого жребия ничего нельзя было придумать. Всякий вытянувший его заранее обрекал себя на нужду и горе.
Для амурских новоселов около Читы (на месте зимовья к тому времени уже вырос город) и около Нерчинска были построены баржи. Но на эти баржи нагружали только войсковую артиллерию, вещи и продукты. Когда темнело, на них тайно брали купеческие товары. А переселенцев сажали на плоты, на которых не было ни балаганов, ни шалашей.
На Амуре баржи, нагруженные самым ценным имуществом, сплавщики загоняли в протоки, переносили вещи на берег и прятали, А потом подстраивали аварию — сажали баржи на мель или пускали на дно, чтобы «спрятать концы в воду». Только за один год так была «уничтожена» половина казенного груза вместе с тридцатью двумя баржами!
Плыли казаки почти без вещей, потому что был приказ: «ни в коем случае не должны брать они всего домашнего, а ограничиваться самым необходимым». Лишь у некоторых были лошади и коровы, но большинство животных в пути утонуло или сдохло от бескормицы.
Никаких исследований для поселения никто не проводил, даже берегов не осматривал. Указывал начальник палкой на берег: «Быть здесь станице!» И часть казаков высаживали. В помощь им для строительства давали солдат. И вот солдаты и казаки начинали разбирать плоты, строить дома. Женщины месили глину, делали кирпичи, дети бродили без присмотра.
Стены клали без пакли и мха — ни того, ни другого не было. Леса хватало только на дома офицеров и состоятельных казаков-урядников. Для остальных из прутьев и глины делали мазанки.
Осенью в обратную сторону потянулись сплавщики, высадившие казаков по Амуру. Казакам было приказано перевозить их от станицы к станице бесплатно. Потом пошла обратная почта: багаж для офицеров и чиновников, дорогие подарки для маньчжур. Дорог между станицами не было, а в каждой станице насчитывалось по пять-шесть полуживых кляч. Они тонули в грязи, выбивались из сил. За промедление попадало начальству, начальство срывало зло на казаках…
Зимовали по три-четыре семьи в мазанках, непросохшие стены которых покрылись плесенью и мхом. Есть было нечего. Зимой почти половина детей умерла. Перезимовали хорошо только те, кто расселился от начала Амура до Албазина. Они ловили осетров и сбывали их в Нерчинск.
Весной вниз снова потянулись плоты и баржи. Теперь поселенцев заставили быть лоцманами. А летом приехал генерал-губернатор Муравьев-Амурский и спросил, сколько сеяли хлеба.
«Не сеяли, — отвечали ему, — делов по уши: возили проезжих, почту, карбазы тянем… Мазанки кругом без окон, вся станица лежит в цынге…» Губернатор не стал об этом писать в Петербург, он написал совсем другое: «Казаки деятельно устраиваются, обрабатывают землю, пашут, сеют и разводят овощи.
Домашнее хозяйство казаков успешно и принимает надлежащее развитие. Сами казаки здоровы, бодры духом, довольны местами нового поселения и обратились уже к местным промыслам»…
Так наши прадеды, освоив Забайкалье, совершили новый исторический подвиг. Несмотря на нужду и лишения, на беспомощность и злоупотребления царских властей, они заселили пустынный амурский край, построив там 50 новых станиц. И в названиях этих станиц увековечили имена отважных землепроходцев, первыми отправившихся на поиски нашего края — Пояркова, Пашкова и многих-многих других.
КАК ОНИ ЖИЛИ
Теперь вы уже знаете, что наши прадеды пришли в Забайкалье из разных краев Российской империи. Поэтому трудно найти сейчас область, где население отличалось бы большей пестротой, чем здесь.
У нас немало таких сел, в которых на одном конце говорят по-украински, на другом — по-татарски, а в центре звучит русская речь. В некоторых селах по Чикою до сих пор сохранились наряды и песни времен царицы Екатерины II.
Как же они жили, наши прадеды — русские, украинские и белорусские крестьяне, донские и уральские казаки — все, ставшие забайкальцами? И коренные обитатели этих земель — буряты и эвенки?
На земле, богатой золотом и серебром; пастбищами и охотничьими угодьями, им жилось очень трудно. И это не удивительно: при царском строе простому человеку трудно было везде, и осваивать новые земли без всякой помощи правительства (это сейчас государство окружает переселенцев заботой) — тем более. Особенно трудно жилось местным жителям, которых царские слуги — все эти воеводы, дьяки и подьячие — стали презрительно называть инородцами.
На инородцев они сразу же наложили ясак.
Ясак по всей Сибири получали мехами. Меха составляли тогда третью часть всех доходов государства. Мехами выплачивали жалованье, мехами награждали бояр.
В тех местах, где не водилось зверей, ясак брали хлебом, деньгами, скотом. Но единицей измерения все равно оставался соболь. Две лошади, например, равнялись пяти соболям, а два соболя — одному рублю.
Сколько в те времена было вывезено мехов из Сибири, подсчитать трудно. Однако хорошо известно, что Петр Бекетов после того, как заложил Якутский острог, собрал с бурят и тунгусов 170 сороков (6 800 штук) соболей. В следующие четыре года только в Якутске было собрано сто тысяч соболей, не считая другой пушнины.
Посол Головин, побывавший в Нерчинске, привез в Москву 193 сорока соболей, 194 собольих пупка и 1293 лисицы, собранных в Нерчинске, Удинске и Селенгинске.
Иркутский, Телембинский, Иргенский и другие остроги для того и строились, чтобы собирать ясак. Недаром один за другим появлялись такие указы: «И на Селимбе быть острогу, да осмотреть и описать накрепко и ясачных инородцев призвать и аманатов иметь».
В тот же год, когда в Нерчинск приехал посол Головин (а это было в 1689 году), там числилось 778 ясачных тунгусов. С каждого из них полагался ясак по три соболя в год. Но некоторые платили и по пяти, не считая поминок.
Вначале «поминками» считались добровольные приношения (теперь бы это назвали взяткой) в почесть царя, воеводы, приказных — дьяка и подьячего. Потом «поминки» стали требовать в обязательном порядке.
Если случались недоимки, то их взыскивали потом не только за ясак, но и за поминки. Так, например, приписанный к Нерчинску эвенк Телько Бурухин со своим сыном должен был платить ясак — пять соболей и один соболь поминок. Между тем с него взыскивали еще недоимку за девятнадцать предыдущих лет — 70 соболей.
Нередко воеводы и приказчики задабривали местных князцов подарками, чтобы они заставляли своих людей вносить больше пушнины. Недаром воевода Войеков писал в Енисейск, что в Нерчинск приезжают «ясачные князцы разных родов и бьют челом о подарках». За сукна, котлы, топоры, ножи да огнива они готовы были запродать свою душу.
Когда в Сибири появился табак, его тотчас запретили продавать, чтобы ясачные люди не «прокурили» свои меха. А в тот год, когда казаки пошли искать Шилку, царь велел за курение и продажу табака резать уши, рвать ноздри и ссылать в дальние города.
Ясак собирали со всех: с тунгусов, бурят, юкагиров, чукчей.
Некоторые подумают, что от сборщиков ясака можно было укрыться в тайге — ищи ветра в поле. Но вы уже, наверное, заприметили незнакомое слово «аманат». «Ясачных инородцев призвать и аманатов иметь», «Лучших людей брать в аманаты, чтобы было за кем ясак и поминки имать по всея годы», — писалось в наказных грамотах.
Аманат — это значит заложник. Придя на новое место, казаки выясняли, кто у этого племени князь, брали его в плен, наглухо запирали в амбар. Амбары эти строили специально, они так аманатными и назывались.
Если не удавалось поймать вождя племени, брали в аманаты его детей. Держали их в амбаре обычно по году, а потом просили привести замену. Тут уж волей-неволей понесешь меха — ведь всякому жалко своих детей! А чтобы люди не сомневались, что пленники живы, их время от времени им показывали.
Порой, боясь за себя, ясачные люди приносили меха и бросали их в окно или через забор. А казаки, боясь, что их убьют, тоже не выходили за ворота острога. Все происходило, как в немом кино: одни молча приносили меха, другие молча их забирали.
Тюремные сидельцы, которых пригнали с запада, от зари до зари работали у пылающих печей, выплавляя серебро. Крестьяне, которых прислали сюда обживать забайкальскую землю, корчевали леса, распахивали пашни, сеяли хлеб. Но многих из них приписали к заводам, и они тоже стали руду и выплавлять серебро.
Денег на заводе они получали столько, что их не хватало даже на уплату податей-налогов. А на провиант, который им полагался на заводе, почти ничего не оставалось. Да и провианта этого выдавались крохи. Недаром же горное нерчинское начальство писало, что рабочие «каждодневно не сыты бывают и, не могши того хлеба разделить, чтоб на весь месяц стало, съедают тот месячный провиант за 4–5 дней до начала нового месяца, а потом терпят совершенный голод; милостыню же получить здесь за скудостью обывателей невозможно, да и из самого их образа всякому видно, что отощали и изнурились».
Холодно и голодно в Забайкалье жили не только «вольные» поселенцы. Не в лучшем положении были и солдаты, которых должно было одевать и обувать государство. «Чинить свою обувь и одежду средств не имеют и от скудости впадают солдаты в воровство», — писал о них управитель Нерчинских заводов, дядя великого полководца Суворова. (Кстати сказать, ему удалось немного облегчить жизнь приписанных к заводам крестьян.)
А простым бурятам жилось еще хуже, чем русским крестьянам. Ведь они испытывали двойной гнет: их угнетало и царское правительство, и свои тайши и нойоны.
О том, как они жили, свидетельствовал Селенгинский комендант. «Хозяйства их и вовсе разорены и пришли в бессилие, — писал он. — Многие не имеют юрт и принуждены жить в балаганах, делая оные из травы и соломы». Или: «В их роду почти все недостаточны», многие «не только бы скотину или лошадь у себя имели, но и никакого пропитания не имеют, как только просимого милостыней и с великим голодом себя содержат травяным кореньем, степным луком, сараной».
А известный бурятский летописец Тугулдур Тобоев записал, что однажды «произошел голод, скот вышел в расход, буряты обнищали и некоторые своим оставшимся скотинам делали кровопускание и питались кровью».
КТО ИХ ГРАБИЛ
Почему же на богатой забайкальской земле так плохо жилось нашим прадедам? Потому что их без конца обирали и грабили.
Грабили наших земляков многие: кулаки, купцы, чиновники, церковь, царь.
Купцы не останавливали их на большой дороге с кастетом в руках (хотя изредка случалось и такое), не врывались в их дома с ружьями, не снимали с их плеча одежду насильно. Они их раздевали и обирали без шуму, хитро, вежливо. Проходили порой многие-многие годы, прежде чем человек начинал понимать, что его обокрали.
В селе Зеленое Озеро, что в трехстах километрах от Нерчинска, живет старый эвенк охотник Иннокентий Семенович Чупров. Перед революцией он сам платил ясак, но не соболями, а белками, потому что соболей к тому времени уже извели. Как утверждает старый охотник, купеческие тропы сохранились в тайге до сих пор. «Они, конечно, заросли шибко, но если надо — могу показать».
Сейчас в тайге для охотников каждый год устраивают бальжоры. Бальжор — это встреча охотников после полуторадвухмесячной охоты. В определенный день они выходят из разных уголков тайги и собираются в каком-нибудь зимовье со своими трофеями. А здесь их уже ждут родственники, кино, самодеятельность, магазины и ларьки, председатели колхозов. Охотники отдыхают, узнают новости, пополняют запасы и снова уходят в тайгу. В своих селах эвенки с 1934 года живут в добротных домах. Дома строит для них государство, и платят они за них всего одну четвертую часть стоимости. Стоит только родиться младенцу, как ему государство вручает подарок-приданое. А когда он подрастет, — его понесут в ясли, потом поведут в садик, потом он будет жить в интернате. И его родители за все это не заплатят ни единой копейки!
Прошло уже пятьдесят лет с тех пор, как перестали обирать Чупрова купцы, а он до сих пор не может забыть их. Тогда он только недоумевал, почему это каждый раз он, отдавая им свою добычу, оставался в должниках, как это зюльзинским купцам Мальцеву и Комогорцеву удавалось обвести его вокруг пальца. А теперь, с годами, хорошо разобрался в этой механике.
Эвенки, обремененные ясаком, всегда жили трудно. И вдруг находился «благодетель», который говорил: если хочешь, я тебе могу и товаров, и денег дать вперед, авансом. Но с одним условием: к весне ты мне принесешь тысячу белок по двадцать пять копеек за штуку. Ну, а уж если не сможешь добыть тысячу, не обессудь: за каждую недоданную белку я вычту по рыночной цене.
Не подозревая, какая тут ему поставлена западня, охотник торопливо соглашался на эти условия да еще и благодарил своего «благодетеля». Весной, отправляясь к купцу с восемью сотнями шкурок, охотник думал: «Ну ничего, за восемьсот шкурок все же прилично получу, отдам долг, возьму товаров — глядишь, и ладно будет». Но не тут-то было: оказывается, купец должен из стоимости восьмисот белок вычесть стоимость двухсот белок по рыночной цене. А рыночная цена на них — полтора рубля за штуку. И уже, оказывается, не купец должен заплатить охотнику, а охотник должен приплатить купцу!
Чертыхаясь, возвращался охотник в дырявый чум с новым авансом и еще большим долгом. Ему и невдомек было, что рыночную цену купец поднял специально.
Так обманывали эвеннов-охотников купцы из села Зюльзя, что стоит недалеко от Нерчинска. Так действовал нерчинский купец Кандинский, который держал в своих руках весь край, так поступали сотни других купцов.
Кандинский был хитрее любой лисицы. Он так опутал эвенков, крестьян и чиновников долгами, что они чувствовали себя мухами, попавшими в паутину. Доходило до того, что чиновники месяцами не получали жалованья — его за «долги» забирал купец.
Отец Кандинского был церковным вором и сидел в якутской тюрьме. Сын — будущий купец — за темные дела угодил на Нерчинскую каторгу. Не отбыв срока, этот ловчила вышел на свободу и каким-то образом вступил в купеческое сословие, занимаясь больше разбоем на больших дорогах. Через пятнадцать лет он стал купцом первой гильдии. (Эти степени присваивались не по способности, а по деньгам. Тот, у кого было до двадцати тысяч рублей, считался купцом третьей гильдии, у кого их было до пятидесяти — второй, а у кого было и того больше — первой. Для купцов были заведены бархатные книги, в которых записывался их род, они имели право носить шпагу.)
Все шесть сыновей Кандинского тоже стали купцами первой гильдии. За товарами они ездили в Селенгинск, Иркутск и Москву. Почти все забайкальские охотники отдавали им пушнину за долги, за продукты, взятые вперед. От того, что часто охотники не могли выполнить чудовищных условий — сдать определенное количество пушнины — она доставалась купцам почти даром. Чиновники и судьи были подкуплены Кандинским, так что жаловаться на него было бесполезно.
Когда к добыче золота в Сибири были допущены дворяне и купцы, Кандинский первым открыл прииск. Работали на этом прииске ссыльнокаторжные, а поэтому добыча золота обходилась очень дешево. Получая огромные прибыли, купец стал настоящим царьком: он сам судил и сам расправлялся с неугодными — бил кнутом, отбирал имущество. Одно время у него был даже свой монетный двор.
И лишь когда о темных делах Кандинских появилась заметка в журнале «Современник», который редактировали Чернышевский и Некрасов, их звезда закатилась. Все их устные сделки с охотниками были объявлены недействительными. И тут их доходы сразу уменьшились в пятьдесят раз. А вскоре и все их имущество и дома были проданы с молотка.
(Все знают, что сейчас за границей в моде абстрактные картины. Но мало кому известно, что «отцом» абстракционизма явился как раз потомок нерчинского купца Кандинского, который уехал в Америку.)
Едва сгорела на Нерчинском небосклоне одна купеческая звезда, как ярко вспыхнула другая. Научившись у своих хозяев обманывать и обсчитывать, «выбились в люди» приказчики Кандинских — братья Бутины. (Они жертвовали немало денег на развитие культуры своего края, но это не мешало им оставаться хищниками.)
Бутины, построили в Нерчинске дворец. Да такой, что даже американский путешественник Джон Кеннан, побывавший в нашем крае, ахнул: «Что особенно поражало в городе всякого нового человека, то это роскошные палаты богачей — золотопромышленников Бутиных. Эти палаты могли бы поспорить и с богатыми столичными домами. Представьте пышное частное жилище с изысканными паркетными полами, шелковыми занавесками, с изящными ткаными обоями, с цветными стеклами, блестящими канделябрами, восточными коврами, золоченой, крытой бархатом и атласом мебелью, картинами старой фламандской школы, статуями, фамильными портретами кисти Маковского и с обширной оранжереей с пальмами, лимонными деревьями и тропическими орхидеями…»
В своем описании Кеннан забыл упомянуть о зеркале. А оно стоит того, чтобы сказать о нем особо. В одном из залов бутинского дворца стояло самое большое зеркало в мире. Сделали это зеркало в Италии и привезли его на Всемирную выставку в Париж. За очень большие деньги, удивляя иностранцев, купили это зеркало купцы из неведомого миру Нерчинска. Везли это зеркало по многим морям и океанам и, наконец, попало оно в устье Амура. Здесь для него построили специальную баржу и на ней переправили в Нерчинск.
Прикиньте теперь, скольких людей обсчитали Бутины, у скольких отняли последний кусок хлеба, чтобы сколотить капитал только на одно зеркало!
Лишь после революции все это вернулось к законному хозяину — народу: сейчас во дворце Бутина расположены библиотека и Дом пионеров.
Огромное богатство Бутиных не давало покоя другим сибирским купцам: в купеческой семье всегда, что в волчьей стае во время бескормицы.
Для того, чтобы закупить товары, Бутины нередко занимали у других купцов деньги. И вот однажды все их кредиторы сговорились. Они дождались, когда наступила засуха, и одновременно потребовали с Бутиных долги. Поскольку речки, на которых промывалось золото, пересохли, Бутиным расплатиться было нечем. По законам того времени их объявили несостоятельными и отстранили от дел. Десять лет шло судебное разбирательство. Когда оказалось, что кредиторы были не правы, у Бутиных уже не осталось состояния — его промотал совет, назначенный управлять их торговым делом.
Десятки миллионов рублей украли у народа подрядчики, строившие Великую Сибирскую магистраль. Ленин писал, что она была «Великой не только по своей длине, но и по безмерному грабежу строителями казенных денег, по безмерной эксплуатации строивших ее рабочих».
Подрядчик Кнорре нажил на ней семь миллионов рублей, Березин — пять, Бонди, Сидоров и Сидельников — по три, Салтыков и Молчанов — по два. Хищники поменьше положили в карманы «всего» по нескольку сот тысяч.
Одни из них проматывали награбленные деньги: другие, обладая миллионами, прикидывались полунищими. Таким был, например, иркутский купец миллионер Медведников. Он менял русские товары на китайские, а китайские на русские и при этом из одного рубля делал пять. Вот как описывает встречу с ним один из его современников: «В эту минуту растворилась калитка ворот, из которой вышел Старик с давно уже не бритою бородой, в засаленном сюртуке неопределенного цвета. Старая, пуховая, остроконечная, до бесконечности измятая шляпенка торчала на голове, осененной длинными поседелыми волосами, шейный черный платок и жилет, бывший когда-то полосатым, рекомендовались неподдельной древностью. На ногах козловые сапоги с длинными голенищами прикрыты были солнечного жара слоем пыли, смешанной с сальной глазурью. Этот человек имел физиономию серьезно-угрожающую. Вышедши на улицу, он осмотрелся кругом, взглянул на каменный забор своего замка, вынул из кармана клетчатый бумажный платок, вычистил им нос, снял с головы шляпу, перекрестился и отправился медленным шагом к толкучему рынку, ковыряя простою палкою рыхлую почву улицы».
Читаешь такое, и начинает казаться, что это Плюшкин сошел со страниц книги и перебрался в Иркутск! А, может быть, наоборот — Гоголь писал своего Плюшкина с иркутского купца Медведникова.
Но как бы купцы и хозяева ни жили, — купаясь в роскоши или скаредничая, — хищники все равно оставались хищниками.
Недаром Мартин Лютер считал, что средневековые рыцари были меньшими разбойниками, чем купцы, «ибо купцы ежедневно грабят весь мир, тогда как рыцарь в течение года ограбит раз или два одного или двух». Эти же слова мы можем с полным основанием отнести ко всем эксплуататорам, которые постоянно грабили народ: к хозяевам фабрик и заводов, к кулакам, ко всей царской власти.
КТО ИМИ УПРАВЛЯЛ
Сейчас нашей страной управляют сами рабочие и крестьяне. А нашими прадедами, первыми пришедшими в Забайкалье, управляли воеводы и приказчики, представлявшие собой царскую власть. Как они управляли, видно из челобитных, которые до сих пор хранятся в Москве.
Сибиряки народ выносливый, забайкальцы — особенно. Нелегко вывести их из себя. И если уж они начинали писать жалобы, значит, действительно, им приходилось солоно.
Одно время служил в Нерчинске приказчиком Павел Шульгин. Было это двести семьдесят пять лет назад. На него нерчинцы и написали первую челобитную, отправив ее в Москву. Вот о чем они рассказывали.
Однажды на бурят, что жили недалеко от Нерчинска, напали монголы и увели их к себе. Шесть лет буряты платили ясак монголам, а когда объявился в Нерчинске Шульгин, он приказал вернуть их. За бурятскими племенами был послан Григорий Лоншаков, которого прислали из Москвы искать серебряную руду. Отряду Лоншакова удалось отбить и вернуть под Нерчинск тысячу семей. А семьи эти в свое время пришли сюда с Байкала, с острова Ольхон. Теперь князец Зербо со старшинами пришел к Шульгину и стал умолять, чтобы он отпустил бурят на породные (родные) земли.
На Ольхон Шульгин их не отпустил, а, выудив взятку, позволил откочевать от Нерчинска. Но когда они откочевали, он объявил казакам, что буряты сбежали, и послал погоню.
В перестрелке два казака были убиты, многие райены. Испуганные буряты разбежались, а Зербо с матерью и детьми был взят в аманаты.
Тут Шульгин снова потребовал взятку. И когда получил серебряные чаши и блюда, отпустил князя в Монголию. С тех пор Зербо стал частенько делать на Нерчинск набеги, угонять казачьих и казенных лошадей.
Соплеменникам князя, которые разбежались во время погони, удалось добраться до Байкала. Но вскоре пришли служилые люди и стали отбирать у них лучшие кочевые места под пашни. Буряты снова ушли за границу, а их родственники остались в аманатах в Ундинском, Селенгинском и других острогах.
Казаки за измену всех их перебили и побросали в Селенгу-реку, а «жен и детей и животы их по себе разделили и распродали». Лишь немногие буряты закрепились по Хилку, Уде и около Байкала…
Так расправлялся Шульгин не только с ясачными людьми. Не меньше обид причинял он и русским служилым и казакам.
Отправляясь для сбора ясака, казаки должны были возить для подарков сукна, топоры, удила. Но подарочную казну Шульгин всегда забирал себе.
После отъезда казаков он забирался в церковь и разыскивал вещи, которые они там прятали. А когда священник однажды попытался протестовать,
Шульгин велел его раздеть и жечь на огне.
В Нерчинске Шульгин варил пиво и вино и насильно сбывал инородцам. Хлеб, что привозили купцы из Братска, Енисейска и Тобольска, он скупал и продавал втридорога. А денег казакам иногда не платили по нескольку лет, и они были «нужи и бедны и умирали голодною смертью». А тех, кто жаловался, Шульгин заковывал в железа и сам бил палкой.
Увы, Шульгин был не одинок. Якутские промышленные и торговые люди жаловались государю на своего воеводу: «А пытал он нас, холопей и сирот твоих, и жен наших позорил многими разными пытками, и давал ударов кнутних на одной пытке ста по полутора и больше, и на костре огнем жег, и стряски многим давал, и воду на голову лил со льдом, и пуп и жилы клещами горячими тянул, и у рук мышко огнем жег, и голову клячом воротил, и ребра ломал, и свечами спину жег, и уголье и пепел горячий на спину сыпал».
А вот «Роспись обид, причиненных приказчиком Христофором Кафтыревым», составленная казаками, посадскими и пашенными, крестьянами Братского острога:
«У Андрюшки Потапова взял он, Христофор, наглою своею напаткою, подкиня табаком, двадцать Рублев денег да быка большого.
У Васьки Дьячкова имел он, Христофор, дрова и сено сильно, имел ево, Ваську, в приказную избу с женою и бил батоги насмерть и мучил всячески безвинно и животишко его побрал к себе и смучил с него, Васьки, пятнадцать рублев денег.
У Ивашки Васильева разломал он, Христофор, у мельницы кровлю, и построил у той мельницы винокурню и, разломав от мельницы замок, взял сильно на винное куренье сто пуд муки ржаной.
У Стеньки Софронова взял он, Христофор, из-за гроз и из-за мученья коня доброва да двадцать пуд муки ржаной. Да он же, Христофор, ездит Братским уездом по деревням с продажным своим вином и продает в скляницы и в чарки и в ковши и заставляет купить сильно.
У Петрушки Мачехина взять ему, Христофору, было нечево, велел делать ему, Петрушке, винные бочки ведер по двадцати в страдное время, и делал он, Петрушка, десять бочек.
У Васьки Рыбника взял он, Христофор, угрожая кнутом и пыткою и муча в железах, два быка больших, два рубли денег.
Петрушку Огородникова взял он, Христофор, в приказную избу и мучил шесть недель в холоде, и угрожая пыткою и огнем, и смучил с него шесть рублев денег.
У Никишки Емельянова взял он, Христофор, быка, напрасно муча в железах».
По самым скромным подсчетам, Христофор за короткое время «смучил» с казаков десять коров, двенадцать лошадей, двадцать тонн хлеба. Сани ему делали бесплатно, бесплатно мололи хлеб, ставили и перевозили сено. И все это «под пытками и из-за гроз». Скот и хлеб Кафтырев продавал, На вырученные деньги его доверенные покупали в больших городах атлас, сукна, серьги, кумач, а потом все это вместе с пушниной увозили в Китай. Ходил туда с караваном из Нерчинска дружок Христофора, Петр Калмык. В Китае он покупал шелка и чай и очень выгодно перепродавал в Москве. По всей Сибири продавал Кафтырев, кроме русских и китайских товаров, табак, порох, хлеб и вино. («А кто вино у него, Христофора, не купит, то тех бьет, угрожает всякими угрозами и продает»). Ну, а тех, у кого находили Христофором же подкинутый табак, приводили в приказную избу, садили в колоды, ковали в железа и били кнутом, «вымучивая большие взятки».
Взятки, вымогательства, пытки, даже грабежи и убийства были в те времена обычной «формой» управления.
Иногда воеводам наказывали, чтобы они не брали по 2–3 ясака в год, как это было в Нерчинске. Иногда в виде наказания ссылали в казаки. Но чаще всего жалобы оставлялись без внимания. И тогда — изредка, правда, — казаки и посадские начинали бунтовать.
Нерчинцев Шульгин, например, довел до того, что они перестали пускать его в «съезжую избу», самовольно выбрали вместо него рудознатца Григория Лоншакова и написали жалобу.
Христофору Кафтыреву тоже не поздоровилось. В один из дней в острог съехались жители уезда для решения мирских дел и выборов старост. Но вместо выборов завели разговор о своих обидах. Узнав об этом, Христофор послал к ним своего дружка — попа Ивана Григорьева. Григорьев стал уговаривать крестьян не шуметь, но они ринулись на него и сбили с его головы шапку.
Услышав шум, прибежал Кафтырев. Он, как всегда, начал грозить кнутом и огнем. Но на этот раз казаки и крестьяне не испугались. Они выбрали управителями своих товарищей, а Христофору предложили покинуть «государевы хоромы».
Кафтырев не подчинился. А ночью приставленная к хоромам стража перехватила Ивашку Калгу с деньгами и письмом к енисейскому воеводе.
Дознание об этом бунте шло целых десять лет. Боясь «порухи» государевой казны, Кафтырева, наконец, высекли и отправили на Лену в казачью службу.
И уже совсем смешная история произошла в то же самое время в Нерчинске.
Туда на смену старому воеводе из Москвы послали нового — Семена Полтева. Дорогой новый воевода умер и в Нерчинск приехали только его жена с сыном. Но старый воевода так насолил всем, что нерчинцы «утвердили» воеводой малолетнего Колю Полтева. А чтобы он хорошо «управлялся» с делами, в помощь ему дали Ивана Перфильева. Бедный «воевода» плакал горючими слезами, когда его на руках носили в присутствие для решения мирских дел…
Шли годы, но они не приносили облегчения нашим землякам. Ровно через сто лет после того, как нерчинцы взбунтовались против Шульгина, управлять нерчинскими заводами приехал крестный сын Екатерины II статский советник В. В. Нарышкин.
Первые одиннадцать месяцев он просидел в доме за закрытыми ставнями — все пил да кутил. А когда наконец, вышел из дому, велел вместо заутрени служить в церкви обедню. И с этого дня «зачудил». Ему ничего, например, не стоило избить батогами невинного, а когда его спрашивали: «За что?» отвечал: «Это известно мне одному».
Однажды Нарышкин стал крестить бурят и тунгусов в православную веру. Окрестив их, он щедро наградил за помощь князя Гантимурова и его сыновей.
А когда казенных денег не хватило, занял их у сосланного сюда иркутским губернатором Трескиным купца Сибирякова.
Когда не хватило и этих денег, Нарышкин снова приказал Сибирякову раскошелиться. Тот заупрямился. Тогда управляющий явился к его дому с заряженными пушками и пригрозил открыть стрельбу. Тут уж перепуганный купец вынес затребованные пять тысяч на серебряном подносе.
Получив деньги и сформировав гусарский полк из тунгусов Гантимурова, Нарышкин с пушками и колоколами отправился в бурятские степи.
В Нерчинске он от имени царицы приказал выдать шестнадцать тысяч рублей, забрал все пушки и порох и пошел дальше. По дороге он велел разбивать винные склады, а у купцов отбирать товары.
Перепуганные обыватели встречали Нарышкина поклонами и колокольным звоном. А главный бурятский тайша пообещал ему перекрестить всех бурят поголовно.
Нарышкин хотел даже захватить Иркутск, но это ему не удалось. И за все это он всего лишь был назван в указе шалуном и отозван в Петербург!
Не лучше Нарышкина были и другие горные начальники. Рычков, например, забивал людей палками до смерти. Зверь-зверем был начальник Кутомарского завода Милекин. Когда он гулял по улице, все в страхе разбегались и прятались. Улица словно вымирала.
За урядником Кулаковым, когда он шел на работу, всегда несли пук розог. Будучи не в духе, он приказывал сечь подряд всех работников. Некоторых после этого уносили прямо в лазарет.
Жена одного из горных начальников (Федора Фриша) сама назначала наказания из «любви к искусству». Ни одно наказание не обходилось без того, чтобы она на нем не присутствовала.
Горный начальник Черницын никогда не ходил без плети. Если он куда-нибудь ехал, то велел, чтобы его обязательно везли вскачь. А если лошадь уставала, он нещадно бил ямщика. Так он забил до смерти одного крестьянина, а сколько лошадей пало во время его поездок — и не счесть.
Фамилии подобных начальников можно перечислять без конца. Каждый из них имел свою «слабость», а при истязаниях — свой «почерк». О таких-то и сказал в свое время Некрасов:
Заводские начальники По всей Сибири славятся — Собаку съели драть!Горным начальникам не уступали бурятские родовые начальники — тайши. Когда был построен Агинский дацан (монастырь), на его освещение приехал главный тайша Дэмбил Галсанов. На открытие собралось больше трех тысяч человек и сто тридцать лам. В первую же ночь торжества Галсанов вместе с товарищами поехал «проверять» юрты и нещадно избивал плетью каждого, кто встречался ему по дороге. Приехавшие на торжества буряты в страхе бежали в горы и провели бессонную ночь под открытым небом.
В другой раз, приехав в Агу, Галсанов узнал, что у одного из бурят — Цэцэкту Нэлбэнова — есть хороший иноходец. Галсанов отправил к нему гонца с требованием, чтобы тот отдал свою лошадь. Услышав это, Цэцэкту сел на своего иноходца и ускакал в степь. Тогда тайша снарядил погоню и не только отобрал иноходца, но и заковал его хозяина в железа.
При помощи кнута вымогал тайша у бурят деньги, золотые и серебряные вещицы. А когда сюда для ревизии приехал из Верхнеудинска заседатель земского суда, тайша отдал ему четыре лошади из чужого табуна и собранные с бурят деньги. После этого заседатель, конечно, «не увидел» никаких насилий. Больше того, вскоре ему захотелось снова провести здесь ревизию, и снова он получил от тайши две тысячи рублей.
После Галсанова главным тайшой стал его сын Ринчиндоржи Дэмбилов. Этот пошел еще дальше отца. Решив возвыситься в глазах соплеменников, он поехал к самому царю, в Петербург. Там его представили Николаю I и даже допустили к его руке. От радости тайша решил креститься и в честь царя принял его имя.
Однажды, уже после того, как Ринчиндоржи — Николай вернулся домой, ночью вдруг загорелась Степная дума. Оказалось, что поджег ее сам главный тайша. Он со своими дружками выкрал из нее двенадцать тысяч рублей собранных податей и устроил пожар…
Высокое начальство не останавливалось и перед самыми обыкновенными грабежами.
В Чите незадолго до революции был избран городским головой некий Алексеев. Во время его правления между Верхнеудинском (теперь Улан-Удэ) и Читой вооруженными бандитами несколько раз была ограблена почта. Следствие ни к чему не приводило, и после одного из очередных ограблений призвали на помощь охотников-бурят. Один из них, изучив оставленные следы, заявил в полном смущении:
— Тут была лошадь городского головы.
Охотника подняли на смех, так как все знали, что кроме Алексеева, на его лошади никто не ездит. Но охотник упрямо твердил: «Его лошадь, больше таких следов никто не оставит».
Полицмейстер предположил, что кто-нибудь ночью выводит лошадь из конюшни городского головы, и приказал установить за конюшней слежку.
Несколько дней караулили агенты — нет, никто из посторонних во двор не проникал. И вдруг около мусорной ямы кто-то нашел конверт денежного пакета. Заглянули в яму — там их оказалось несколько десятков. Тут уж подозрения пали на прислуг и служащих. Заподозрить Алексеева никому, конечно, и в голову не пришло.
Однако следствие снова зашло в тупик — прислуга оказалась непричастна к грабежам. И полицмейстер (его очень торопили из Петербурга) на свой страх и риск сделал обыск у головы, когда тот был в гостях у губернатора. В письменном столе он нашел несколько еще не вскрытых денежных пакетов из последней ограбленной почты.
Управу на преступных начальников найти было невозможно. Начальников пониже покрывали начальники повыше — преступник всегда защищает преступника.
Самым большим начальником в наших краях был генерал-губернатор Восточной Сибири. Генерал-губернаторов у нас было много: Пестель, Трескин, Лавинский, Рупер. И все они были самодурами, вымогателями, а то и самыми настоящими грабителями. Особенно много нелестных воспоминаний осталось у современников о генерал-губернаторе Трескине.
В отличие от других генерал-губернаторов, Трескин взяток не брал. Но прежде чем попасть к нему на прием, всякий должен был прийти сначала к его любимцу Третьякову. Третьяков говорил: «Нет, нет, господин Трескин взяток не берет, как можно. Вот, если вы сделаете подарочек его жене… Вы знаете, у нее этакая маленькая слабость к бобрам и собольим муфтам… А господин генерал-губернатор так любит жену…».
Где взять этого бобра или соболью муфту, ни для кого не было секретом. Их тут же продавал Третьяков, а деньги передавал жене Трескина. Затем она снова передавала ему бобра и муфту — он их снова продавал, и так без конца.
А еще жена Трескина обожала играть в карты — в бостон. Зная и эту ее «маленькую слабость», чиновники, которым что-либо нужно было от Трескина, старались ей проиграть. Чем больше был проигрыш, тем вернее дело.
Крестьянам Трескин торговать хлебом не разрешал — он покупал его у них сам, причем сам же назначал и цену. А потом продавал его втридорога в Туруханск и в Забайкалье, где из десяти лет только один был урожайным. Порой цена на хлеб здесь становилась поистине сказочной и генерал-губернатор наживал огромные деньги.
При Трескине иркутские купцы самовольно облагали сбором купцов инородцев, заставляя ни за что ни про что платить им никому не ведомую пошлину. По их просьбе Трескин повышал цены на мясо, и тогда «кругооборот» муфты и бобра ускорялся, жене больше «везло» в карты.
Иркутский городской голова М. Сибиряков однажды за что-то укорил Трескина. Взбешенный генерал-губернатор сослал его в Нерчинский Завод.
Когда Сибиряков смирился, Трескин выдал его сыну подряд на соль и дал заработать на этом четыре миллиона. Но не одна тысяча из этих денег перекочевала в карманы Трескина.
Когда на Трескина поступили в Петербург жалобы, начальство оттуда предписало, чтобы генерал-губернатор принял меры… против подобных изветов. Меры были немедленно приняты: Трескин выставил на дорогах заставы, а Лоскутов в своем уезде отобрал чернила и бумагу.
Началась отчаянная бумажная война. Иркутяне стали отправлять жалобы, запеченные в хлебе, запечатанные в бутылках, спрятанные в сене. Однако эти жалобы неизменно перехватывались. Тогда один из иркутян — разоренный купец, отец семерых детей Саломатов — взялся тайно доставить письмо в Петербург.
Саломатов с большими трудностями добрался до столицы, подкараулил царя и бухнулся ему в ноги со словами: «Прикажите меня убить, ваше величество, чтобы мне избавиться от тиранства Трескина».
После этого в Иркутск выехала ревизия. Когда о ней узнали в канцелярии генерал-губернатора, несколько чиновников сошло с ума. Это было сверх их понимания. Они никак не думали, что до них могут когда-нибудь добраться. Ведь для них выше генерал-губернатора никого не существовало, и жили они по пословице: «Тайга — закон, прокурор — медведь, что хочу — ворочу, он не станет реветь».
В Нижнеудинском уезде таким медведем считали Лоскутова и тоже думали, что страшнее его зверя нет. Когда ревизор приказал его арестовать (этим ревизором был М. М. Сперанский, будущий иркутский генерал-губернатор), жители Нижнеудинска в страхе упали перед ним на колени:
— Батюшка! Да ведь это Лоскутов!
Вы можете сказать, что Трескин — исключение. Ничуть не бывало. Его предшественник — губернатор Гагарин — за время своего правления столько награбил денег, что приказывал лошадей подковать золотыми подковами, а потолок своего дворца превратил в аквариум.
Для вице-губернатора Жолобова забирать тунгусских старост в Нерчинск и вымогать с них взятки было детской забавой. Серьезным заработком он считал, когда. ему удавалось отнять у них детей и продать куда-нибудь на сторону. Однажды вот так он сплавил сразу целую партию: двадцать пять продал в Тобольск, а пятерых в Москву. Так что генерал-губернатор Трескин на таком фоне просто светлое пятно.
ХАМЕЛЕОНЫ В РИЗАХ
Наши прадеды были людьми верующими. Не находя справедливости на своей горькой земле, они верили в «высшую справедливость» — верили в бога и неистово ему молились. Но служители боговы обманывали их так же, как обманывали купцы, чиновники, управители. «Не убий», «Не обмани ближнего», «Будь терпелив», — внушали они. А сами порой совершали такие гнусные преступления, что существуй бог на самом деле, он давно бы потерял терпение и покарал, за грехи прежде всего церковников.
Церковь всегда была хамелеоном: к каждому времени она приспосабливалась по-своему. То она карала за грабежи и убийства, то продавала квитанции на искупление вины за это. То жгла на инквизиторских кострах за научные открытия, то брала эти открытия себе на вооружение.
Несколько лет назад в финском городе Лахти я побывал в такой церкви, которой могло бы позавидовать самое высокомеханизированное предприятие. Здание церкви построено в самом современном стиле. Внутри него красивые светильники, сделанные в форме креста, удобные скамьи. Отопление проведено под полом, одна из стен сделана целиком из стекла. В зале для богослужения может сидеть шестьсот человек Но если мест не хватит, священник нажмет кнопку и стена, отделяющая соседний зал, автоматически раздвинется, добавляя еще триста мест. Алтарь священника превращен в настоящий пульт управления: там и микрофон и масса всевозможных кнопок. Надо ударить в колокола — священник нажимает кнопку. Надо «священную» музыку — тоже. В этой церкви есть все, что угодно: столовая, гимнастический зал, комнаты для занятий ребят и даже… бомбоубежище. Заманить в церковь теперь становится труднее, вот и пускаются церковники на всякие ухищрения.
Во вое времена служители церкви всегда жили лучше тех, чьи души они «спасали». В тот год, когда из Тобольска вышел отряд Дмитрия Копылова искать таинственную Силькарь, в Тобольском софийском доме, где жил архиепископ, подсчитывали запасы. Оказалось, что в подвалах дома для архиепископа и убогих иноков было запасено: 39000 пудов хлеба, 65 пудов коровьего масла, 418 пудов соли, 132 пуда меду, 236 ведер «горячего» вина, 13 ведер церковного вина, 20 ведер уксуса, 6 ведер конопляного масла, 110 лимонов, 2002 осетра в сушилах, 162 стерляди, 243 нельмы, 260 щук, 7 семг, 4 килограмма черной икры и много-много другого.
Кроме этого, архиепископский дом должен был в том же году получить от казны еще 6180 пудов хлеба, 60 пудов меду, 100 ведер «горячего» вина. А отправляющиеся на восток отряды питались тем, что попадется в дороге. В Якутске был постоянный голод.
У церковников Тобольска и других городов было много скота, на церковь работали сотни крестьян.
Боговы служители не только закрепощали людей сами, но и помогали закрепощать их другим. В Нер-чинской покупочной книге за 1680 год есть такая запись:
«За парня дано, за крещение и от молитвы — всего 4 рубля 10 алтын. На рубашки и штаны, двои чулки издержано 1 рубль 2 алтына. Шапка лисья, под вершком — 1 рубль 10 алтын. Ермулук суконный — дано 1 рубль 6 алтын».
Все эти покупки сделал приказчик московского гостя (купца) Гаврила Никитина.
Купить парня помогла ему церковь. Приказчик заплатил ей за крещение и молитву, и окрещенный — бурят или эвенк, мы не знаем — перешел в его собственность. Это так и называлось — крещение в неволю. После крещения «парень» не мог уже больше вернуться к своим родным, а «крестный» мог продать его в любую минуту.
Недорого же стоил «парень», если за него вместе с крещением и молитвой приказчик заплатил всего лишь 4 рубля 10 алтын, а за лисью шапку — рубль десять!
А вот нерчинский казак Плотников, судя по архивным данным, произвел более хитрую операцию. Он взял по долговой кабале (закладной расписке) у своего должника приказного Свечникова «дворового парня мунгальской породы, хрещеного именем Микитку, с женою ево Мариною Микитичною дочерью да с дочерью ево Микиткиною девкою» и «вложил» их в Селенгинский монастырь, как теперь вкладывают в сберкассу деньги.
Вкладчиком хитрый казак стал не зря: или ему в (монастыре посулили какую нибудь должность, или ему надо было избавиться от подчинения воеводе: вкладчики подчинялись только монастырям.,
Немало было в то время «вложено» душ в Селенгинский монастырь, а еще больше в Нерчинский. Этот. монастырь велел построить Петр I на том месте, где был впервые заложен острог. При монастыре была тюрьма и мельница. Монастырю, конечно, принадлежали выпасы и пашни, на него работали крестьяне, ставшие его собственностью: одних «вложили» в монастырь, другие были приобретены по кабальным распискам. Ну, а пленных бурятских и тунгусских женщин монастырь скупал целыми партиями. Здесь их крестили, а потом выдавали замуж. Женщин тогда в Сибири было очень мало и за это счастливые мужья обязаны были пахать монастырю земли, косить сено и пасти скот. Тех, кто плохо работал, настоятель бил плетьми и сажал в тюрьму. За непосещение церкви в первый раз провинившегося не кормили день, за второе непосещение сажали на сутки на цепь без еды. Ну, а если и это не помогало — нещадно секли плетьми. Уж кто-кто, а церковники знали, что бог не услышит воплей истязаемых.
Служители церкви всегда получали от правительства большие льготы. Их первыми освободили от телесных наказаний. Не облагали податями. Денег они получали много.
Забайкальские крестьяне еле-еле сводили концы с концами, перебиваясь с хлеба на квас, а сельские священники никогда не знали бедности.
Каждая крестьянская семья платила им в рождество — мешок хлеба; в богоявление (был такой праздник) за водоснятие — 1 рубль; за постную молитву — 1 пуд хлеба; в великий пост при исповеди — в зависимости от тяжести грехов; в храмовые праздники за молебны — 2 рубля.
Кроме того, надо было покупать свечи — на это в год уходил еще рубль. За венчание поп получал двадцать рублей. За похороны — лошадь или коров у. За простой молебен — барана. (Эти «расценки» я взял из книги, напечатанной в 1885 году в Петербурге).
Поэтому как только переселенцы закладывали новое село, объявлялся поп и строилась новая церковь. К началу революции в Сибири насчитывалось почти семьсот новых церквей. И построены они были в основном за счет переселенцев, хотя тем и так приходилось трудно.
Очень нежно заботилось царское правительство о бурятских священниках — ламах. Старшему ламе было положено 500 десятин, настоятелю дацана — 200, ламе — 60. Даже ламскому ученику полагалось в два раза больше земли, чем крестьянину. Недаром старший лама Гусино-Озерского дацана (этот дацан был «главным», а старший лама назывался Бандидо-Хамбой-ламой) установил молитву за царя, которую читали 69 раз в году во всех дацанах Восточной Сибири.
Немало «царских дней» было и в русском календаре: шестьдесят семь. К ним относились дни рождения царя и царицы, великих князей и княгинь, некоторые из них отмечались молебном «по особой книге, со звоном во весь день».
Церковь и царь взаимно любили друг друга: на одном докладе (о состоянии Томской губернии) Николай II написал: «Вопрос о постройке церквей в Сибири, в особенности в новых поселках, очень близок моему сердцу».
Когда Николай, еще будучи наследником, проезжал через Сибирь, архипастырь Вениамин Иркутский в честь этого «исторического» события решил срочно крестить бурят. По его приказу балагансний исправник Пономарев собрал 68 бурят — по одному от каждого улуса — и, чтобы они не разбежались, запер их в каталажку. Прежде чем приступить к крещению, хитрый архипастырь обратился к Николаю: как быть, если буряты решили по случаю вашего проезда принять христианство и поименоваться Николаями? Николай «всемилостивейше» разрешил, а смекалистого служителя взял на замету. Бурят окрестили, выдали в награду по кресту и рубахе и с миром отправили домой.
Когда началась война с Японией, церковь заявила царю: «Располагай нами и имуществом нашим. Нужно будет — церкви и монастыри вынесут драгоценные украшения из святынь своих на алтарь отечества». А когда после революции случился в Поволжье страшнейший голод и люди умирали тысячами, церковь помочь не пожелала. Насильно удалось тогда взять у нее немного драгоценностей, остальное она надежно спрятала.
Взаимная любовь царя и церкви была не бескорыстной: церковь внушала народу покорность, царь отпускал на ее содержание по тридцать миллиона» рублей в год.
В самих служителях церкви бескорыстия было тоже не больше, чем карасей в наперстке. В свое время нашумело дело якутского протоиерея, миссионера и монаха Сивцова. Разъезжая по улусам, он никогда не платил за лошадей, вымогал взятки, делал ложные-доносы, втридорога торговал порохом.
Читинский архиерейский дом имел в своей «собственности» среднее устье реки Селенги. (Многие монастыри и церкви на Байкале имели хорошие промыслы). Свой участок попы за тысячу рублей сдавала купцам. А те уж сдавали его рыбакам, получая с них в пять раз больше. Рыбаки разорялись, а попам не было стыдно ни перед богом, ни перед людьми.
Не стыдно им и за недавнюю свою махинацию. В 1967 году в Англии было объявлено, что на одном из аукционов будут продаваться старинные армянские рукописи. В последнюю минуту оказалось, что эти рукописи принадлежат собору святого Якова в Иерусалиме и исчезли оттуда самым таинственным образом. Хранились они в секретной келье со стальными дверями. О существовании этой кельи знало лишь несколько высших духовных лиц. Войти в нее можно было только тогда, когда секретные замки отмыкали одновременно. три человека. Между тем рукописи исчезли, замки целы, высшие сановники «ничего не знают». Если бы в газетах не поднялся шум, бесценные рукописи так бы и уплыли в руки какого-нибудь, миллионера. А теперь одному из церковников срочно пришлось вылететь в Англию и выложить деньги, чтобы замять скандал.
ЖУЛИКИ НА ТРОНЕ
Кто только наших прадедов не обманывал! А они, веря в «высшую справедливость», думали, что если о их бедах когда-нибудь узнает царь-голова, «самодержец великий», то тотчас же все изменит. Они надеялись на то, что однажды он приедет в Забайкалье, во всем разберется и наведет должный порядок. (Точь-в-точь, как у Некрасова: «Вот приедет барин, барин нас рассудит!»).
И однажды, совершив кругосветное путешествие, его высочество, будущий царь Николай II, действительно прибыл в Забайкалье. Он и его свита приплыли по Амуру и Шилке на двух пароходах. Будущий царь своими глазами увидел те места, куда его прапрадеды посылали служилых людей и казаков для «приискания серебряной руды» и сбора ясака, а дед и отец ссылали неугодных им людей.
Губернатор, встретивший цесаревича в самом начале Шилки, от имени торгующего в Кяхте купечества преподнес ему огромный. ящик с шестью сортами чая. В Каре его высочеству рапортовал будущий военный министр, а пока полковник Сухомлинов.
В Нерчинске Николай остановился, конечно, у Бутина. Отсюда он съездил на прииск Апрелково и «изволил осмотреть коллекции минералов и металлов, добываемых на приисках Кабинета Его Императорского Величества», — как писали газеты. Потом, позавтракав и «удостоив принять от служащих образ, изволил отбыть обратно к переправе».
В Нерчинске и в Агинских степях он щедро раздавал подарки офицерам, священникам, атаманам и тайшам.
В Чите, куда Николай II через четырнадцать лет пошлет войска расстреливать рабочих, для его встречи в конце Ангарской улицы была построена торжественная арка. А возле нее городской голова расстелил сукно, дабы его высочество могло, не запылившись, ступить на забайкальскую землю.
На площади будущий русский царь принял парад почетного караула. Потом он «милостиво изволил расспрашивать наказного атамана о времени сооружения часовни, причинах ее, возникновения». Оказалось — вот совпадение! — что часовня на плошади построена в память посещения Читы его дядей — великим князем Алексеем Александровичем.
Получив эти сведения, цесаревич покинул Читу. На прощанье он подарил члену городской управы, который возил его на своих лошадях, золотую брошь с бриллиантом, а остальным чиновникам — медали, часы, портсигары.
За Читой его уже поджидал главный бурятский тайша. Но, получив золотую медаль, он постеснялся спросить, когда же кончится история с землей, о которой я сейчас расскажу.
История с бурятскими землями — это продолжение истории с князем Зербо, у которого вымогал взятки Шульгин.
Сам Зербо, откупившись от Шульгина, ушел в Монголию, его род осел по Хилку и около Байкала, но вскоре тоже вынужден был уйти за границу. Аманаты-пленники, которые оставались в острогах, погибли. Лишь некоторая часть бурятских семей закрепилась по Уде и Хилку.
Через двадцать лет после этой трагической истории Петр I (ему буряты прислали челобитную с Нер-чинским боярским сыном Микитою Варламовым) издал указ о бурятах. В указе говорилось, что «служилые и всяких чинов люди» отняли у бурят Кударинские степи и лучшие кочевые места. От этого они «жен и детей своих испродали и в заклады иззакладывали, и сами меж дворы скитаются и от ясаку отстали». Царь приказал «служилых и всяких людей свесть по другую сторону Селенги и инородцев этих отписать от Иркутска и приписать к Нерчинску».
Прошло сорок лет после петровского указа, сменилось четыре царя, но все оставалось по-прежнему. На пятидесятый год в ответ на новую челобитную появился новый указ. В нем говорилось, что в тех местах, откуда русские должны были быть «сведены», появились новые пашни, вокруг которых поставлены очень плохие изгороди. На эти пашни вое время заходит бурятский скот, русские жители загоняют его во дворы и морят голодом, а некоторых берут в вечное владение. Указом вновь повелевалось: того, кто поселился на бурятских землях самовольно, выселить, а кто остается — предупредить, чтобы они в чужие земли не ходили и имели крепкие городьбы. Но и этот указ не был исполнен.
Прошло еще пятьдесят лет. Правительство предписало иркутскому генерал-губернатору подыскать в Забайкалье земли для новых поселенцев. Таких земель оказалось лишь для двух тысяч душ. Низовья Селенги, Уды и Кударинская степь были заняты бурятами по указу Петра I. Тогда сенат предложил губернатору склонить бурят к обмену: пусть они отдадут свои земли, годные для хлебопашества в обмен на те, что годятся лишь для скотоводства.
Главный бурятский тайша Иринцеев согласился.
В ответ на это согласие последовал новый указ: «Все земли, хоринским бурятам представленные, обмежевать без продолжительного времени и на всегдашнее владение оными выдать грамоту и план».
За десятилетием шло десятилетие. Уже в долину Ингоды пришли украинцы с Кавказа и построили село Николаевское. Уже из Николаевского ушла часть семей и образовала Тангу; уже часть «семейских» пришла с Чикоя и образовала села Дешулан и Ново-Павловское, а грамоты все не было.
После сорока лет ожидания буряты собрали деньги и выслали в Петербург: может быть, у правительства их маловато, чтобы напечатать грамоту?
И еще сорок лет после получения денег правительство отмалчивалось. Наконец, Александр III — внук царя, велевшего выдать грамоту, — подписал ее. Это через восемьдесят лет после указа! Но одна грамота без планов земель — всего лишь красивая бумажка.
И вот буряты снова собирают немалые деньги — сто шестьдесят тысяч рублей, — чтобы ускорить обмежевание земель, проведение границ. Увы, эти границы до самой революции так и не были определены.
А между тем из-за этого возникало немало тяжб. Например, когда под Читой, в пади Колочной, в Каштаке и Смоленке поселенцам отвели земли, оказалось, что их занимали буряты. Начались недовольства, возникло судебное дело. Целый месяц разбирал его Забайкальский окружной суд и решил: земли эти казенные, бурят с них необходимо выселить.
Через пять лет по этому же поводу заседал Иркутский губернский суд. Он отменил решение Забайкальского суда и постановил выселить поселенцев.
Еще через одиннадцать лет заседал правительственный Сенат. Он отменил решение Иркутского суда, утвердив решение Забайкальского: бурят из-под Читы выселить в другие места. Так закончился «полюбовный» обмен землями между бурятскими тайшами и царским правительством.
Царь, на которого уповали наши земляки, от которого ждали милости и справедливости, на самом деле ничем не отличался от своих вороватых чиновников. Он присвоил, земли на Алтае вместе с Колывано-Воскресенскими заводами. А потом «невзначай» сунул в карман огромный Нерчинский край вместе со всем серебром, за которым гонялись еще первые землепроходцы, и заводами для его выплавки.
Американский путешественник Джон Кеннан писал о Нерчинском крае: «Почти все рудники в этой части Забайкалья — собственность царя и называются кабинетскими. Как и почему они принадлежат ему — никто не знает».
«Как и почему» знал один только человек — царица Екатерина II. Это она в 1878 г. издала указ: «Для приведения в хозяйственное устройство Нерчинских заводов и для удобнейшего оными управления повелели мы: заводы сии со всеми принадлежащими к ним строениями, инструментами, материалами, деньгами на производство оных и людьми, как и горную Нерчинскую экспедицию, отдать в ведомство Кабинета нашего».
Видите, как все просто: мы повелели все это отдать самим себе и баста!
С тех пор в царский карман из Нерчинского края потек денежный ручей, как он тек когда-то в виде мягкой рухляди.
Но вот через тридцать лет ручеек стал слабеть: нещадная эксплуатация подорвала производство. Добрый бы хозяин ремонтировал заводы, менял оборудование. Но это требует довольно больших затрат. А тратиться «великому» правителю совсем не хотелось. Он нашел другой выход: взял да и передал заводы в подчинение государству, чтобы оно улучшило производство на казенные деньги. Однако и тут не забыл приписать: «Заводы, как и ныне, остаются частною собственностью нашею».
Когда на престол взошел Александр-«освободитель» и увидел, что заводы дают хорошую прибыль, он снова передал их в ведомство своего Кабинета. А убедившись, что из подневольного труда приписанных к заводам крестьян много не выжмешь, он превратил их в казаков, наделил своей землей. Но при этом потребовал «компенсации». И вот на свет появился доклад графа Перовского, высочайше одобренный царем: «Посему я полагаю справедливым изыскать средства к вознаграждению Кабинета, с чем согласен и генерал-губернатор Сибири». И отдали бедняге царю левый берег Амура, с богатыми золотыми россыпями.
Заполучив золотоносные земли, царь решил сдать их в аренду при условии, что из каждых ста пудов добываемого золота пятнадцать будет получать он.
Такой наглости не ожидало даже услужливое министерство финансов. Оно прозрачно намекнуло, что если бы снизить этот процент, то государству была бы большая польза, потому что больше нашлось бы охотников добывать золото и его количество увеличилось бы.
Тут на благообразном лице императора, денно и нощно «пекущегося» о благе своего народа и государства, появился хищный оскал нерчинских купцов. «Кабинет долгом считает, однако, объяснить, — отвечал он, — что в этом случае выгоды его и выгоды Государственные не вполне согласуются между собою. Для государства, может быть, полезным было бы вовсе не облагать податью золотопромышленность, ибо в этом случае потеря прямого дохода от добычи металла вознаградится косвенно увеличением его количества, в распоряжение Правительства поступить имеющегося; но для Кабинета, как частного лица, который неизвестно еще, вознаградится ли увеличением дохода от развития золотопромышленности, — это невыгодно».
Не только за золотоносные, даже за обыкновенные земли царь требовал платы: Нерчйнский горный округ был его собственностью. В районе Дучарского, Шилкинского, Александровского и Петровского заводов царю принадлежало двенадцать тысяч десятин: земли, а крестьянам только пятьсот. Царь милостиво разрешал им сеять хлеб на «его» земле. А в благодарность за это разрешение они должны были платить ему тридцать шесть тысяч рублей в год.
В Европейской России царю «принадлежало» 7 миллионов десятин земли — столько, сколько имели 500 000 крестьян. А в Нерчинском крае в три с лишним раза больше — 24 миллиона.
Алтайские крестьяне выплачивали царю каждый год полмиллиона рублей за землю и миллион за лес. Столько же платили ему крестьяне Забайкалья. Кроме того, даровой труд каторжан на нерчинских заводах давал царю почти миллион рублей прибыли. Отсюда каждый год шло в его карман тысяча пятьсот килограммов чистого золота!
ПОМОЩИ ЖДАТЬ БЕСПОЛЕЗНО
Царское правительство ничего не делало, чтобы облегчить жизнь народа. Ведь у власти стояла «белая кость» — князья, бароны и графы. (Простые люди для них были «черной костью» — их так и называли чернью.)
Все блага предназначались для богачей: дворцы, высокие должности в государстве. Только им выдавались ордена, тем более, что ордена стоили больших денег. За медаль с брильянтами надо было заплатить пятьсот рублей, за золотую на голубой ленте — двести; знак святого Александра Невского стоил 1500 рублей, святой Анны первого класса — пятьсот, а второго — тысячу. Годовой же доход крестьянина в то время был девять рублей.
Накануне революции — всего лишь за два года до нее — в Забайкалье было проведено исследование жилищных условий рабочих. Оказалось, что из 170 семейств только 9 живут в отдельных домах, 32 в отдельной квартире, 56 в отдельной комнате, а остальные — в общих казармах и бараках.
После этого опросили 333 рабочих, где они спят. Оказалось, что только третья часть из них опит на кроватях, остальные — на нарах, лавках, на полу, на земле, а один даже… на станке.
Между тем с 1808 года холостому генералу от кавалерии или инфантерии было положено девять комнат, а семейному и того больше!
У амурских новоселов на каждое село приходилось по пять-шесть кляч. А иркутскому генерал-губернатору Немцеву, собравшемуся в Забайкалье для обозрения края, понадобилось 110 подвод, чтобы разместить многочисленную челядь, свиту, уложить продукты, шатры. А когда он возвращался обратно — пришлось добавить, к этому обозу еще сорок пять подвод, чтобы увезти полученные им взятки.
Недавно я прочитал отчет врача, который побывал перед революцией на одном из приисков: «Рабочие из-за тесноты, — писал он, — спят плотно один к другому, так что повернуться можно с трудом. Некоторые рабочие устроились под нарами, чтобы не задохнуться, проковыряли в пазах стен отверстие и по очереди пользовались свежим воздухом. При мне из-под нар вытащили мертвого рабочего».
Автор другого отчета рассказывает, как он видел оборванного тунгуса, который на помойке ел кость. «Эта сцена до сих пор в памяти. Как могла она иметь место там, где каждый день приносит около пуда намытого золота?»
На свои беды и нужды наши прадеды жаловались редко. От жалоб все равно не было никакого толку, да и стоили они дорого. Жалобы можно было писать только на гербовой бумаге, а один лист ее стоил столько же, сколько… три девочки, купленные в рабство.
К тому же, прежде чем подавать в суд, надо было заплатить сначала гербовую половину, потом исковую с каждого прошения, потом еще рубль пятьдесят — неизвестно за что. Бели решение суда тебя не устраивало, надо было платить огромные деньги за пересмотр дела. Короче говоря, за каждый высуженный пятак приходилось платить полтину.
Однажды хозяин Ново-Александровского прииска известный купец Сабашников довел своих рабочих до того, что они отправили девять человек с жалобой в Читу, к губернатору. Вы думаете, губернатор их выслушал? Нет! Он велел посадить их в острог и завести на них судебное дело.
Так что рабочие и крестьяне могли надеяться только на себя. Ждать помощи от бога, которому они истово молились, и от царя, на которого они уповали, было бесполезно.
ГЛАВА 2. ОПАЛЬНЫЙ КРАЙ
ДИНЬ-БОМ
Не успели казаки, охочие и служилые люди перевалить через Урал, как почти тотчас же под охраной штыков потянулись за ними ссыльные. Чем дальше уходили землепроходцы в глубь открытой ими страны, тем дальше отправляли ссыльных.
Самыми первыми были сосланы на Урал граждане города Углича, обвиняемые в убийстве царевича Дмитрия. Следом за ними приехал в Тобольск и медноголосый «соучастник» их преступления — колокол. Архиепископ Варлаам отправил его в ссылку за то, что в него звонили, собирая жителей по тревоге. На колоколе была вырезана надпись: «Сей колокол, в который били в набат при убиении благоверного царевича Дмитрия, прислан из города Углича в Сибирь, в ссылку, в город Тобольск, к церкви Всемилостивейшего Спаса». «Провинившийся» колокол, кроме того, был бит кнутом, и у него вырвали ухо, за которое он подвешивался.
Енисейский воевода Пашков пришел в Нерчинск не с одними казаками. Он привел с собой и первого ссыльного в Забайкалье — протопопа Аввакума. Аввакум не только противился реформе церкви, затеянной царем, но и выступал против роскошной жизни церковников. Он называл церковь разбойничьим вертепом.
Следом за ним в Забайкалье погнали воров, татей, убийц, а потом и политических противников царя.
Любое восстание или бунт в России немедленно откликалось за Байкалом: здесь сразу же появлялись новые партии каторжан, закованных в кандалы.
Начались в России крестьянские волнения — сюда была сослана «девка Анна Емельянова 13 лет за поджог помещика». Крестьян Федора Черкасова и Ивана Прокофьева пригнали «в жестокую работу вечно на хлеб и на воду» за убийство ненавистной помещицы. Потом здесь появились яицкие казаки, сподвижники Пугачева. Всем им вырвали ноздри и на лоб поставили позорные знаки.
С каждым годом кандальников в Забайкалье прибывало все больше. Когда сереброплавильные заводы и рудники прибрал к рукам царь, он стал посылать сюда каторжников тысячами, чтобы они бесплатно работали на него. Так до самой революции они шли и шли в наши края, тоскливо звеня кандалами.
У нашего земляка, поэта Николая Савостина, есть такие строки:
В тишине — тоскливый звон кандальный. Дальний край, суровый край опальный! Шли здесь люди в ледяные дали И сердцами солнце согревали.«Опальным» наш край стал потому, что в его недрах нашли серебро и золото, и каторжники должны были добывать их бесплатно. А во-вторых, из этой глуши им не так-то просто было убежать. Дорог здесь почти не было — кругом дикая тайга да степи.
Но все равно каждый год по зову «генерала Кукушкина» (так называли весну) сотни каторжан уходили в бега. Их не могли удержать ни охрана, ни пули, ни наказания. Я видел дело о четвертом побеге Михаила Козлова из Горного Зерентуя. За первый побег ему дали двадцать пять плетей и поставили штемпельные знаки. За второй прогнали сквозь строй в пятьсот человек и поставили новые клейма. За третий дважды прогнали сквозь строй и заковали в кандалы. И все-таки он совершил четвертый побег, — увы! — закончившийся его гибелью.
Местные жители сочувственно относились к беглым, а чтобы те по ночам не будили хозяев, спрашивая подаяние, крестьяне стали делать в сенях окошечки и ставить туда молоко и хлеб. С тех пор беглые подходили к любому дому, брали приготовленную пищу и уходили.
Вскоре это «нововведение» распространилось по всему Забайкалью. Окошечко это зовут ланцовкой по имени известного бродяги, которого не могли удержать никакие решетки и цепи. Беглецов давно нет, а «ланцовки» вырубаются по традиции до сих пор.
Самых непримиримых своих противников царь гноил в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Но там было всего около тридцати одиночных камер, а количество противников самодержавия все росло. Поэтому в Забайкалье, на реке Каре, для политических была построена специальная каторжная тюрьма. Просуществовала она почти двадцать лет. А после ее ликвидации политических стали отправлять в другие тюрьмы Забайкалья.
Заключенные этих тюрем работали в шахтах и рудниках и назывались они все вместе Нерчинской каторгой. Но к городу Нерчинску каторга никакого отношения не имела — названа она была так по имени села Нерчинский Завод, расположенного недалеко от Аргуни; там, на месте, где казак Филипп Свешников нашел «лавкаево» серебро, был построен сереброплавильный завод.
Много замечательных людей томилось на Карийской и Нерчинской каторге. Я расскажу лишь о некоторых из них.
ВОЮЮЩИЙ ПОСЛЕ СМЕРТИ
О декабристах написано много. В декабре 1825 года они с оружием в руках выступили против царизма. Эти дворяне-революционеры хотели совершить революцию во имя блага народа, но без его помощи. И все они попали в Забайкалье.
Сюда, в Читу, Пушкин прислал им свое знаменитое послание:
Во глубине сибирских руд Храните гордое терпенье: Не пропадет ваш скорбный труд И дум высокое стремленье.В числе декабристов было много друзей Пушкина. Да и сам Александр Сергеевич ответил царю, когда тот опросил, где бы он был 14 декабря, если бы находился в Петербурге: «Разумеется, на Сенатской площади». Пушкин собирался даже приехать в Забайкалье, чтобы навестить декабристов. «Я хочу написать сочинение о Пугачеве, — говорил он. — Я отправлюсь на места, перевалю через Урал, проеду дальше и приеду просить у вас убежище в Нерчинских рудниках».
Три десятилетия в России ничего не слышали о декабристах. После опубликования «Донесения следственной комиссии» и приговора о них запретили говорить и писать. Только самые близкие родственники могли вести с ними переписку. И то эти письма перечитывались жандармами в Петербурге.
Выйдя на поселение, декабристы получили возможность переписываться друг с другом. Но если, скажем, живший в Чите Завалишин отправлял несколько строк в Петровский Завод Горбачевскому, это письмо шло сначала в Петербург, а уж оттуда адресату.
Только через тридцать лет, когда декабристов вернули из ссылки, некоторые из них стали писать воспоминания, разоблачая царизм. Печатали они их главным образом в Лондоне, в организованной Герценом Русской вольной типографии. Но был среди декабристов один, который возобновил войну с царизмом на двадцать лет раньше всех остальных — Михаил Сергеевич Лунин.
Во время ареста и на суде Лунин держался независимо, даже дерзко.
Первое время он был заточен в крепость в Финляндии. Крепостью она называлась, видимо, условно: крыша и потолок были дырявы, во время дождя в камере было полно воды. Когда, посетив тюрьму, генерал-губернатор спросил Лунина: «Есть ли у вас все необходимое?» — Лунин улыбнулся:
— Я вполне доволен всем, мне недостает только зонтика.
На следственной комиссии ему, как и всем другим, задали вопрос о свободомыслии. Лунин о достоинством ответил:
— Свободный образ мыслей образовался во мне с тех пор, как я начал мыслить. К укоренению оного способствовал естественный рассудок.
В то время, когда во дворе Петропавловской крепости с декабристов срывали мундиры и бросали в огонь, Лунин, одетый уже в кафтан каторжанина, крикнул бывшему своему сослуживцу, а ныне судье графу Чернышеву:
— Да вы подойдите поближе порадоваться зрелищу!
Граф молча отвернулся.
Из Петропавловской крепости в Сибирь декабристов должны были везти по Ярославскому тракту. Узнав об этом, сестра Лунина, Екатерина Сергеевна Уварова, приехала в Ярославль, чтобы проститься с братом и передать ему что-нибудь на дорогу. Но вскоре на тракте был найден узел с жандармской шинелью и фуражкой, упавший с возка. Когда находку доставили в полицию и распороли подкладку фуражки, под ней оказались письма проехавших декабристов к родственникам. Из них жандармы узнали, что в Ярославле Лунина поджидает сестра. За Уваровой стали следить, все вещи у нее отобрали, и она ничего не смогла передать брату.
В Чите Лунин изучил греческий язык. Кроме того, он знал немецкий, латинский, английский и французский.
В Петровский Завод его перевозили в закрытом возке. Бурят, сопровождавших его, очень интересовал таинственный человек, закрытый кожаным фартуком. Один из них спросил Лунина, за что он сослан. Лунин оказал:
— Своего тайшу знаете?
— Знаем.
— А тайшу, который над вашим тайшой? Того, который может посадить вашего в эту кибитку и сделать ему учей (конец)?
— Знаем! — снова ответили буряты.
— Так вот, я хотел сделать учей его власти, а меня за это сослали.
Изумленные буряты испуганно попятились.
В Петровском Заводе Лунин постоянно занимался — его видели то за книгами, то за газетами. А когда его, наконец, перевели на поселение в село Урик, он получил право писать письма к сестре.
«Кажется, все было продумано, чтоб отбить охоту к письмам, и надо было родиться Луниным, который находил неизъяснимое наслаждение дразнить «белого медведя» (как говорил он), не обращая внимания на мольбы обожавшей его сестры и на лапы дикого зверя, в когтях которого он и погиб в Акатуе», — вспоминал впоследствии декабрист М. Бестужев.
Письма Лунина мало походили на письма брата к сестре — это были письма-обличения, адресованные к современникам. В них он высмеивал царское правительство, его порядки, его суд.
«Я был под виселицей и носил кандалы. И что же, разве я тем опозорен? Мои политические противники не того мнения. Они были вынуждены употребить силу, потому что не имели средства для опровержения моих мыслей об общественном улучшении», — писал он в одном письме, заранее зная, что это письмо будут читать правительственные чиновники.
«Тебе известно, — писал он в другом, — мое домашнее устройство, познакомлю теперь с моими домочадцами, их немного: Василии, его жена и четверо детей. Бедному Василичу 70 лет, но он силен, весел, исполнен рвения и деятельности. Судьба его так же бурна, как и моя, только другим образом. Началось тем, что его отдали в приданое, потом заложили в ломбард и в банк. После выкупа из этих заведений он был проигран в бильбоке, променян на борзую и, наконец, продан с молотка со скотом и разной утварью на ярмарке в Нижнем. Последний барин в минуту худого расположения без суда и справок сослал его в Сибирь… Прочитав где-то, что причиной моего заточения было предположение преступлений, которые могли бы совершиться, и намерение публиковать сочинения, которые могли быть написаны, Василии разделяет скромность моих судей и с таким же старанием, как они, избегает важных допросов».
Позднее он писал о суде еще определеннее: «Что касается до состава-судилищ, стоит взглянуть на людей, которые берутся отправлять суд. Кавалеристы, которые не усидят уже верхом; моряки, которые не снесут уже качку; иностранцы, которые не понимают русский язык; одним словом, все, которых некуда девать, находят мягкое место в правительственном Сенате, низшие места и должности наполняются людьми… одаренными чутьем к ябеде и знающими наверно, сколько тяжба может принести им дохода».
Прочитав такие письма, жандармы всполошились. Они вдруг вспомнили, что Лунин непочтительно относился к своему начальству, когда еще был офицером. В лагерях, расположенных недалеко от Петербурга, командир полка запретил купаться в Финском заливе. Он мотивировал это тем, что неподалеку проходит дорога и по ней часто ездят экипажи. Узнав, когда генерал будет проезжать мимо, Лунин в полной форме забрался в воду. А когда экипаж поравнялся с ним, Лунин поднялся из воды и отдал честь.
— Что вы тут делаете? — растерялся генерал.
— Купаюсь, а чтобы не нарушать предписаний вашего превосходительства, стараюсь делать это в самой приличной форме! — ответил Лунин.
Вспомнили жандармы поведение Лунина на следствии и на суде. И вот бывший товарищ Лунина, теперь шеф жандармов граф Бенкендорф, через чьи руки проходила вся переписка, написал сестре Лунина раздраженное письмо. В нем он сообщал, что из переписки Лунина усмотрено, «сколько мало он исправился в отношении образа мыслей». Такое же письмо он написал генерал-губернатору Восточной Сибири Руперу: Лунин в письмах «часто дозволяет себе входить в рассуждения о предметах, до него не касающихся, и вместо раскаяния обнаружил закоренелость в превратных его мыслях».
Рупор вызвал Лунина к себе и показал предписание Бенкендорфа. Увидев подпись бывшего своего товарища, Лунин резко сказал:
— Хорошо-с! Писать не буду!
— Тогда потрудитесь прочесть и подписать эту подписку, — протянул генерал-губернатор заранее составленный текст.
— Что-то много написано, — нахмурился Лунин.
— Мне запрещено писать? Хорошо-с! — Он перечеркнул весь длинный текст крест-накрест и внизу написал: «Государственный преступник Лунин дает слово целый год не писать».
— Вам достаточно этого, ваше высокопревосходительство? А читать такие грамоты, право, лишнее… Ведь чушь!
Первое письмо после годового молчания Лунин написал Бенкендорфу. По этому письму граф мог убедиться, что Лунин мыслит так же вольно, как и раньше. Однако Бенкендорф сделал вид, что не заметил этого. Он сообщил Руперу, что тот может разрешить Лунину писать письма сестре. Однако при этом губернатору предписывалось «строго подтвердить ему, дабы он впредь отнюдь не осмеливался в письмах своих употреблять непозволительных и даже несвойственных в его положении суждений о предметах, кои до него ни в коем случае относиться не могут».
Ни Бенкендорф, ни Рупер, милостиво разрешая Лунину снова писать, даже не подозревали, что Лунин уже готовит для царского правительства бомбу, которая взорвется через двадцать лет. Вместе с письмами, тон которых становился все резче и резче, Лунин начал писать очерки. В них он рассказывал о нечестном суде над декабристами, о тайном обществе, правду о котором скрыли, о тяжелом положении крестьян.
Эти очерки стали расходиться в рукописях — их читали, переписывали и отправляли дальше. И вот одну из тетрадей случайно увидел у учителя Иркутской гимназии чиновник особых поручений Успенский. Мечтавшему выдвинуться карьеристу представился, удобный случай.
Надо заметить, что доносы на декабристов обеспечили карьеру не одному подлецу. Достаточно привести в пример, провокатора Шервуда. Он втерся в доверие к участникам заговора, а потом ценой жизни пяти казненных и ста пятнадцати осужденных купил себе царские милости. К его фамилии царь добавил эпитет «Верный». С тех пор предатель стал называться Шервуд-Верный. Но в народе его сразу же прозвали Шервуд-Скверный. Это был отвратительный вымогатель, взяточник и кляузник, так что в конце концов даже царь, поначалу осыпавший его милостями, вынужден был заточить его в крепость.
Успенский не поленился снять копию с рукописи, настрочил донос и все это передал Руперу. А тот немедленно доставил в Петербург.
И царь и Бенкендорф давно хотели избавиться от беспокойного декабриста, да все не было серьезного повода. Теперь повод появился. Обрадованный царь приказал «сделать внезапный и самый строгий осмотр в квартире Лунина, отобрать у него с величайшим рвением все без исключения принадлежащие ему письма и разного рода бумаги». А Лунина предписывалось «отправить немедленно из настоящего места его поселения в Нерчинск, подвергнув его там строгому заключению так, чтоб он не мог ни с кем иметь сношений ни личных, ни письменных».
Это предписание Бенкендорф передал Руперу. А начальнику Нерчинских заводов отправил тайное указание заточить Лунина в самое гиблое место — в Акатуй, чтобы «подвергнуть его там строжайшему заключению отдельно от других преступников».
Получив эту бумагу, иркутский вице-губернатор не стал терять ни минуты: в эту же ночь он снарядил в Урик Успенского, полицмейстера и пять жандармов.
Лунин не удивился их появлению. Он ждал их. Недаром он как-то сказал одному из товарищей, что должен окончить свою жизнь в тюрьме.
Об аресте Лунина узнала вся деревня, провожать его вышел и стар и млад. Женщины плакали, какой-то крестьянин бросил в телегу каравай хлеба.
Утром Лунина доставили в Иркутск к вице-губернатору. Успенский засел за доклад о победных действиях вверенного ему отряда, а Лунину было предложено написать «объяснение».
Лунин написал его по-французски.
— Но я плохо знаю французский, — растерялся вице-губернатор.
— А я плохо понимаю ваш язык, — отпарировал декабрист.
Сообщение об обыске и допросе Лунина вместе с докладом Успенского было тот же час отправлено в Петербург. А вскоре стало известно, что иуда Успенский получил от Николая I награду за свое предательство — орден святого Станислава 3-й степени.
Проводить Лунина в Акатуй собрались все декабристы, жившие поблизости от Иркутска. Они зашили в подкладку шубы деньги и, прощаясь, накинули шубу ему на плечи. Когда для Лунина на почтовом дворе запрягли тройку и она тронулась, на крыльцо выскочил старик почтосодержатель и крикнул ямщику: «Обожди!» Потом подбежал к нему и что-то подал.
— Ты смотри, как только Михаил Сергеевич сядет в телегу, ты ему сунь в руки… Пригодится.
В свое время в Акатуе начинали строить тюрьму для всех декабристов, но построили ее потом в Петровском Заводе. Однако небольшое помещение все-таки успели возвести. Вот в него-то и заключили теперь Лунина.
«Архитектор Акатуевского замка, без сомнения, унаследовал воображение Данта», — писал Лунин Волконскому.
«Меня стерегут, не спуская с меня глаз. Часовые у дверей, у окон — везде».
«Темница так сыра, что книги и платья покрываются плесенью, моя пища так умеренна, что не остается даже чем накормить кошку».
В это время в Акатуевской тюрьме, самой страшной из всех тюрем России, некоторых преступников приковывали к стене на цепь, как собак. Когда в Акатуй приехал с ревизией брат одного из друзей Лунина и спросил, чем можно облегчить его положение, Лунин ответил:
— Лучше позаботьтесь о тех, которые прикованы к стене, — их положение только ожесточает, а не дает возможности нравственного улучшения.
Он уже понял, что самому ему отсюда никогда не выбраться. «По-видимому, я обречен на медленную смерть в тюрьме вместо моментальной на эшафоте. Я одинаково готов как к той, так и к другой», писал он.
Между тем Бенкендорф умер и шефом жандармов стал граф Орлов. Этот был когда-то не просто товарищем Лунина по службе, а его другом.
Сестра Лунина написала Орлову письмо, умоляя помочь перевести Лунина из Акатуя, «в сравнении с которым и самый Нерчинск может почитаться земным раем», обратно в Урик. Орлов не ответил, а его подчиненные составили справку: «А что Лунин находится в Акатуйском руднике, на границе Китая, как пишет Уварова, то в III отделении об этом неизвестно». Третье отделение было жандармским, и оно оставалось верным себе.
Тогда Уварова написала письмо помощнику Орлова. Она просила только напомнить Орлову о ее брате. Вскоре пришел ответ, что граф «не изволил признать возможным утруждать государя императора всеподданнейшим докладом по сему предмету».
В это время за Луниным усилили надзор, и не без вмешательства бывшего его друга Орлова. В одной из последних записок Лунин сообщал: «За мной следят, у меня нет никакой возможности писать».
Отчаявшаяся Екатерина Сергеевна обратилась с просьбой к самому царю. Она умоляла его только об одном — перевести брата, героя Аустерлица (в той же битве погиб и другой ее брат), обратно в Урик. От имени Орлова Уваровой было сообщено, что «высочайшего соизволения, на ее просьбу не последовало». А в это время Михаила Сергеевича Лунина, героя Аустерлица, самого непримиримого декабриста, уже не было в живых. Он скончался в холодном застенке Акатуя.
Шли годы. На могиле Лунина в Акатуе появился скромный памятник с надписью: «Незабвенному брату Михаилу Сергеевичу Лунину, скорбящая сестра Е. У. Умер он 4 декабря».
Смерть Лунина остается загадкой до сегодняшнего дня. Ни одна версия — простуда, угар, удушение по тайному приказу из Петербурга — не может считаться доказанной.
Все письма Лунина и разоблачающие правительство очерки жандармы постарались похоронить в своих архивах. Они не предполагали даже, что у кого-нибудь может остаться хотя бы копия. Ведь сам царь приказал тогда, что если «получится удостоверение, что экземпляр помянутой записки был распространен в Сибири, то сделать самые деятельные распоряжения к отобранию оных». Жандармы сбились с ног и ничего не нашли. И вдруг…
И вдруг через четверть века после смерти Лунина, в пятой книге «Полярной звезды» за 1859 год Герцен опубликовал «Взгляд на тайное общество», за который Лунина отправили в Акатуй! Да еще и «Разбор донесения тайной следственной комиссии в 1826 году»! И хотя Николая I уже не было в живых, эти очерки для царского правительства были подобны разорвавшейся бомбе. Лунин и мертвый мстил ему со страниц журнала, на обложке которого были воспроизведены силуэты казненных декабристов.
ПОЩЕЧИНА
Через два года в этом же журнале были налечатаны письма Лунина к сестре. И в это же время в Кадаю (по соседству с Акатуем) царское правительство выслало поэта Михаила Ларионовича Михайлова.
Михайлов вместе с Чернышевским редактировал журнал «Современник». Судили его за составление прокламации «К молодому поколению». Михайлов этой прокламации не писал, но, спасая своего друга, писателя Шелгунова, всю вину взял на себя.
В этом же году Шелгунов приехал в Забайкалье, чтобы устроить побег Михайлову. Но на него кто-то донес. Шелгунова арестовали и запретили въезд в Петербург.
А через два года самодержавие устроило расправу над другом поэта — писателем и мыслителем Чернышевским. Сфабриковав ложные доказательства, царские судьи приговорили его к семи годам каторжных работ и тоже отправили в Забайкалье. Там в Кадае — самой глухой точке России — встретились два замечательных человека.
Но ни Михайлов, ни Чернышевский и здесь не сложили своего оружия.
Еще когда Чернышевский сидел в Петропавловской крепости, он совершил настоящий подвиг. Меньше чем за два года он написал пять тысяч страниц различных трудов, в том числе и знаменитый роман «Что делать?».
В Кадае Чернышевский совершил новый подвиг: написал роман «Старина», продолжение «Что делать?»
А Михайлов продолжал писать стихи — яркие, страстные, революционные. Друзья постоянно поддерживали друг друга. Но Михайлову оставалось жить уже немного: туберкулез обострился. Когда его положили в тюремную больницу, Чернышевский бросился туда, расталкивая стражу, но было уже поздно: его друг скончался.
Из Кадаи Чернышевского перевели сначала в Александровский Завод, а потом в Вилюйск. Перед переводом его в Вилюйск, в ссылку (что было новым преступлением правительства), жандармы арестовали в Иркутске революционера Германа Лопатина, который приехал, чтобы освободить Чернышевского.
Из тюрьмы Лопатину удалось бежать. Ему удалось даже на легкой лодке проплыть по бурной Ангаре и Енисею две тысячи верст, но затем он снова был схвачен.
А через четыре года после этого в иркутской жандармской канцелярии появился новый сотрудник. Был он невысок ростом, светловолос. Большие умные глаза были выразительны и немного печальны. Исчез он так же внезапно, как и появился. А еще через несколько месяцев на дороге, ведущей в Вилюйск, можно было увидеть блестящего жандармского офицера. Ехал он на тряской двухколесной тележке и, судя по всему, очень торопился.
В Вилюйске он передал исправнику письменный приказ выдать государственного преступника Чернышевского для препровождения в другое место ссылки.
Бумаги офицера были в порядке. Однако исправника насторожило, что он приехал один, без жандармов. И даже без денщика. Между тем к Чернышевскому было приставлено три стражника, комнату его замыкали на ночь на замок. Уже дважды — из Иркутска и Петербурга — приезжали посмотреть, надежно ли его содержат, а тут…
Исправник не подал виду, что он что-то подозревает, но заявил, что без разрешения якутского губернатора Чернышевского выдать не может. Тогда офицер сказал, что он сам поедет к губернатору. Исправник дал ему в провожатые двух казаков, приказав им смотреть в оба. И когда офицер с дороги бежал, они открыли стрельбу и подняли на ноги всех, кто был поблизости.
Арестованный офицер и работавший несколько месяцев в жандармской канцелярии молодой человек был одним и тем же лицом. Революционер-народник Ипполит Мышкин приехал в Иркутск специально для того, чтобы добыть бланки и форму и спасти из Вилюйска кумира всей российской молодежи.
Мышкина в кандалах отправили в Петербург и заключили в Петропавловскую крепость. Три года просидел он там, пока не состоялся суд. Все это время он без конца воевал с бесчеловечной тюремной администрацией.
Хотя заключенные сидели в одиночных камерах, они были в курсе всех событий. Пятьдесят лет назад декабрист Михаил Бестужев, который сидел в этой крепости, придумал «азбуку» для перестукивания. С тех пор заключенные всех тюрем России перестукивались друг с другом. Кроме того, надзиратели однажды нашли в мякише хлеба, прикрепленном к водосточной трубе против камеру Мышкина, записку. Видимо, Мышкин ухитрялся передавать узникам почту и таким способом.
На свои то сатирические, то негодующие заявления, в которых он протестовал против притеснений, Мышкин всегда получал отрицательные ответы. Но он и не надеялся на другое — он тоже дразнил «белого медведя», как это в свое время делал Лунин.
Процесс, на котором судили Мышкина, вошел в историю под названием «Процесса 193-х». 193 обвиняемых свезли в Петербург из 37 губерний — одних за распространение агитационной литературы, других за принадлежность к политическим кружкам.
Жандармы, следователи, судьи и прокуроры надеялись благодаря этому громкому процессу продвинуться по службе. Но суд над революционерами превратился в суд над царизмом. Ипполит Мышкин выступил на нем с блестящей речью, которая привела судей в замешательство. «Вы продаете здесь свою честь, правосудие, закон! — заявил он.
Через несколько дней Ипполита Мышкина приговорили к десяти годам каторжных работ и перевели в Харьковскую тюрьму. Здесь его снова заточили в одиночную камеру. А вскоре, как человеку, — знакомому с топографией, разрешили работать — наклеивать карты на коленкор.
Сэкономив коленкор, Мышкин сшил из него брюки, тужурку, шапочку. А по ночам, когда вся тюрьма спала, он осторожно поднимал половицы и делал подкоп, вооружившись гвоздем и штукатурной лопаткой. Чтоб его не «потеряли» на это время, он клал на топчан искусно сделанное чучело. Но однажды ночью в его камеру вошли надзиратели, обнаружили чучело и извлекли Мышкина из-под пола. В эту же ночь узника перевели в другую камеру, из которой побег был невозможен.
Прошло четыре месяца, Мышкин как будто присмирел. В одно из воскресений он попросился в тюремную церковь. Тюремная администрация охотно удовлетворила его просьбу. Тем более, что до этого, в Петропавловской крепости, Мышкин заявлял: «Плох тот рай, в который гонят на цепи с жандармами, плохи те пастыри, которые не умеют снискать уважения пасомых… плохи те защитники евангелия, любви, которых грозят не верующим им тюрьмой и Сибирью!»
Этот день был днем рождения царя, и в церкви шла торжественная обедня. Когда стали целовать крест, Мышкин тоже двинулся вперед за смотрителем тюрьмы и, поравнявшись с ним, дал ему пощечину: «Вот тебе, мерзавец!»
Мышкин шел на верную смерть — за оскорбление администрации расстреливали. Но в это время в тюрьме шла ревизия, выявившая много злоупотреблений, и начальство не посмело заявить о пощечине.
Закованного в кандалы, под усиленной охраной Мышкина отправили на Карийскую каторгу. Перед Иркутском один из политических, А. А. Дмоховский, умер. Его отпевали в тюремной церкви. Когда священник закончил обряд, Ипполит Мышкин вышел вперед и произнес речь над гробом умершего товарища. Он закончил ее словами: «На почве, удобренной нашей кровью, расцветет могучее дерево русской свободы!» В ответ перепуганный священник завопил — «Врешь, не вырастет!»
На Карийскую каторгу Мышкин пришел с тридцатилетним сроком каторжных работ: шесть лет ему добавили за попытку побега из Харьковской тюрьмы и пятнадцать лет за речь над гробом погибшего.
В Карийской тюрьме, куда привезли Мышкина и его товарищей, заключенные давно уже готовились к побегу. Из здания тюрьмы они вели подземную галерею, которая должна была вывести их за ворота.
Но пробивать ее приходилось в вечной мерзлоте, работа шла медленно.
Мышкин выдвинул новый план побега. Он был прост, остроумен и не требовал большой затраты сил. Заключенные днем работали в столярной мастерской, расположенной за тюремной оградой. Впускали туда и выпускали по счету. Мышкин предложил бежать из мастерской по очереди. Для этого надо было или незаметно проносить кого-то, или запутывать счет.
План побега был разработан во всех деталях. Тюремное начальство пересчитывало заключенных в камерах. При этом вставать с нар было необязательно. Чтобы надзиратели не спохватились раньше времени, было сделано восемь манекенов. Некоторым из них придали позу лежащего человека, некоторым — сидящего. Головы манекенов сделали из дерева и искусно покрасили.
В случае провала манекены нужно было уничтожить. Для этого в тюрьме всю ночь топили две-три печи. А в бане, из которой было видно мастерскую, оставляли дежурного. Заметив опасность, он должен погасить стоявшую на окошке свечу.
Бежать решили по двое. В первую пару включили Мышкина — в награду за план побега. Для остальных очередь устанавливалась по жребию. Беглецам приготовили одежду, деньги и документы. Чтобы первые двое успели уйти достаточно далеко, следующие пары должны были бежать с интервалом через две недели.
Мышкина и его напарника Хрущева вынесли из тюрьмы в кроватях. Кровати эти были деревянные, собственной конструкции, с длинными ящиками для белья. Несли их в мастерскую якобы для ремонта.
Оставленные в мастерской Мышкин и Хрущев ночью тихонько выбрались через потолок (лаз в нем сделали заранее) и осторожно спустились на землю. Часовой, разгуливавший около тюремной стены, их не заметил. Беглецы благополучно добрались до Шилки. В Куларках они решили купить лодку. «Кто такие, откуда, куда?» — стал допрашивать их поселковый атаман. «Безработные, на прииска двигаемся». Атаман потребовал паспорта. «Значит, Миронов и Казаков?» — спросил он. — «Так точно, ваше благородие», — смиренно ответили беглецы.
Атаман вернул паспорта, разрешил купить лодку. Мышкин и Хрущев спустились на ней до Благовещенска и двинулись во Владивосток.
Через несколько дней после их побега тюрьму посетили начальник главного тюремного управления Галкин-Врасский и губернатор Забайкальской области Ильяшевич. Ильяшевич был не только деспотом, но и редкостным казнокрадом. Он забирал себе все, что только можно было забрать силой и хитростью. С женой он частенько наезжал к бурятам и получал от них серебро, лошадей и овец в виде «подарков», играя на их традиционном гостеприимстве.
Одно время в Карийских тюрьмах началась повальная цинга. Вспышка была очень серьезной, даже на редкость жестокий доктор Сергиевский потребовал заменить солонину свежим мясом. Однако вместо затребованного им свежего мяса в Кару снова пришло две тысячи пудов соленого, причем полугнилого. Доктор отказался принимать его. А через несколько часов губернатор по телеграфу объявил ему выговор и приказал мясо принять. Оказывается, губернатор был одним из поставщиков: для этого он и вымогал у бурят окот!..
Убедившись в прочности тюрем, «высокий» гость с губернатором и овитой убыл. Побег не обнаружили, и вскоре бежали еще четверо. Но когда через две недели бежала последняя пара, в окне бани внезапно погас- свет. Это означало, что беглецы «засыпались». Потом уже выяснилось, что когда они спускались с крыши мастерской, один из них сорвался. Шум услышал часовой и открыл пальбу. По тревоге были подняты солдаты и казаки, они оцепили район, и беглецов схватили.
В тюрьме, услышав тревогу, стали спешно рубить манекены и жечь их в печах. Нагрянувшее начальство перевернуло все вверх дном, но так и не могло понять, как был устроен побег. Немедленно на Кару вернулись главный тюремный надсмотрщик и губернатор со всей своей овитой. Начались поиски остальных шести беглецов. О них по телеграфу сообщили во все портовые города. В села и поселки выслали фотографии. Начальство не поскупилось: за поимку беглецов было обещано двести рублей.
Четверку, бежавшую после Мышкина и Хрущева, обнаружили быстро. А через несколько дней задержали во Владивостоке и Мышкина с товарищем. Когда атаман в Куларках получил их фотографии, он вспомнил фамилии, которыми они назвались, и сообщил властям. Если бы пароход из Владивостока отошел вовремя, им бы удалось уплыть в Японию.
Когда беглецов вернули, губернатор приказал всех до одного заковать в кандалы и побрить головы. Заключенные заявили, что они не уголовники и головы тюремщикам удастся побрить только на их трупах. Угрозы губернатора не помогли: они забаррикадировали коридор, за печью сложили смоченные керосином дрова, а на крыше установили пикет.
Тогда губернатор заявил: «Я уезжаю, порядки остаются старыми». Установилась вроде тишина: почти неделю заключенных никто не трогал. На шестую ночь дежурные, утомленные бесконечным ожиданием, уснули. И в это время в тюрьму ворвались казаки — целый отряд конницы.
Узников заковали в кандалы, разделили на партии и повели в другие тюрьмы, подгоняя штыками. Один из них был прикован к тачке (его и в Петропавловскую крепость переводили потом с этой тачкой). Он быстро устал, и товарищи попросили охрану ненадолго остановиться. Казаки в ответ стали избивать их прикладами, те в свою очередь взялись да камни. Но силы были слишком неравные, и вскоре их, избитых и связанных, чуть не волоком притащили в Усть-Кару, где бросили в секретные камеры.
Через два месяца всех политических вернули в старую тюрьму. Ее переоборудовали коренным образом: общую камеру разгородили на несколько каморок, в которых можно было только сидеть или лежать. Двери новый комендант Халтурин (его специально прислали из Иркутска с двенадцатью жандармами) приказал держать закрытыми день и ночь.
Узникам запретили читать, выходить на прогулки, у них отобрали теплую одежду, стали брить головы. На все протесты комендант отвечал: «Если не научитесь молчать, буду сечь!»
Убедившись, что другого выхода нет, узники объявили голодовку. Ни на второй, ни на третий, ни на пятый день заключенные к еде не притрагивались. Халтурин приказал ежедневно готовить свежую пищу и оставлять на ночь в камерах — вдруг кто-нибудь да соблазнится. Пищу он взвешивал собственноручно, но никто к ней не прикасался.
На восьмой день голодовки Мышкин от имени своих товарищей написал Халтурину заявление, требуя снять ограничения.
Халтурин не согласился.
Заключенные продолжали голодовку. Они лежали в камерах молчаливые, бледные, готовые к смерти. Нигде не было слышно ни разговоров, ни звона кандалов. Перепуганные надзиратели ходили на цыпочках. Смотритель Леонтьев, всегда грубо обращавшийся с заключенными, не выдержал и подал в отставку. Даже Капитан Тяжелый — первый враг узников — неузнаваемо изменился. Когда один голодающий умер и его вынесли в коридор, капитан крикнул проходившим мимо солдатам: «Шапки долой! Отдайте честь мученику!»
На тринадцатый день по тюрьме разнеслась весть, что голодающих будут кормить насильно. Узники решили покончить жизнь самоубийством и приготовились принять яд. Но тут не выдержали нервы у тюремного начальства: Ильяшевич прислал телеграмму, пообещав вернуть политическим все привилегии.
Действительно, им тут же выдали теплую одежду, книги, разрешили прогулки. А через несколько дней Мышкина, Минакова и еще двоих отправили в Петербург. После их отъезда у заключенных снова отобрали книги, теплую одежду и запретили всякое сношение с волей.
Мышкина заточили в Петропавловскую крепость, в Алексеевский равелин, из которого пятерых декабристов уводили на виселицу и где Бестужев изобрел тюремный «телеграф».
Камеры здесь были мрачные и сырые: полы за ночь становились мокрыми, а соль в солонке превращалась в раствор. Матрацы прогнили, стены были покрыты плесенью.
Здесь все было направлено к тому, чтобы похоронить узников заживо. Во всей огромной тюрьме нельзя было услышать ни звука: его не пропускали толстенные стены и двери. Даже надзиратели ходили по коридору, устланному войлоком, бесшумно, на цыпочках.
Приводили узников сюда ночью, ночью выносили трупы и тайно хоронили на кладбище, так, чтобы никто не знал могилы революционера. Не один здесь сошел с ума, не один покончил жизнь самоубийством.
Алексеевский равелин был страшен не только сам по себе. Он страшен был еще и потому, что смотрителем в нем служил Соколов — Ирод, как его называли заключенные. Ни у одного другого тюремщика в России не было такой дурной славы.
В свое время Соколов принимал участие в подавлении польского восстания. За усердие был награжден орденом, переведен в жандармерию и оттуда — в тюрьму, «водворять порядок». Неграмотный, тупой, исполнительный, Соколов любил повторять: «Если прикажут говорить заключенному «ваше сиятельство»— буду говорить: «ваше сиятельство», если прикажут задушить — задушу».
Он собственноручно замыкал и отмыкал двери камер, сам ловил заключенных на перестукивании, не допускал без своего присутствия в камеру даже доктора. Разливали пищу — он следил, чтоб в чашку не попало лишней капли, убирали в камере — смотрел, чтобы уборщик не смог обронить слова. Он сам водил заключенных на прогулки и бдительно за ними следил.
Мышкин был первым, кому удалось обмануть его бдительность. Он писал своим товарищам обугленной спичкой записки на ленточках, вырванных из книжных страниц, а во время прогулки, копая в садике двора землю, прикреплял их к ручке лопаты. Эти записки были большим событием в жизни узников каменного гроба, где заключенные не могли встретиться ни в коридорах, ни на прогулках.
Увидеться им удалось только через два года на тюремной барже, когда их тайно, под покровом темноты, перевозили в Шлиссельбургскую крепость. А чтобы в той тюрьме режим был «не хуже», чем в Алексеевском равелине, вместе с ними перевели и Ирода-Соколова.
В «правилах поведения» этой крепости было всего восемь пунктов. Шесть из них говорили о наказаниях, среди которых были лишь розги и смертная казнь…
Первым взбунтовался Минаков. Он выдвинул два требования: выдать ему для чтения нецерковные книги и разрешить курить. («Читать о чем и как молиться я не могу», — заявил он доктору).
Соколов не разрешил ни того, ни другого. Минаков объявил недельную голодовку и передал товарищам, что скорее умрет, чем отступит. Но Соколова не зря называли Иродом: он не изменил своего решения. Тогда в расчете на то, что он будет расстрелян, Минаков дал пощечину доктору.
Через три недели заключенные услышали слова Соколова, обращенные к Минакову: «Ну, так пойдем. Халата не нужно, шапку можно оставить». Минаков, уходя, крикнул: «Прощайте, товарищи!» Ему никто не ответил — так все были потрясены. А через несколько минут со двора донесся негромкий залп.
Через три месяса Мышкин бросил в голову Ирода, вошедшего к нему в камеру, медную тарелку. Он хотел бы отомстить за смерть товарища кому; нибудь поважнее. Но решил, что такого случая может никогда не представиться, а этот поступок будет как бы пощечиной всему царскому строю. Своей смертью он хотел обратить внимание на варварские порядки в тюрьмах, на жестокость и издевательства.
Ипполита Мышкина, как и Минакова, казнили в восемь часов утра.
КАТОРГА МСТИТ
Но вернемся снова в Кару. После того, как был обнаружен побег Мышкина и его товарищей, тюремщики совсем озверели. Еще бы, ведь им всем грозили крупные неприятности. И в ночь на 11 мая 1882 года они устроили настоящий погром: ворвавшись в камеры, они избили прикладами заключенных, заковали их в кандалы и перевели в другие тюрьмы.
Все это делалось по приказу генерал-губернатора Ильяшевича. Заключенные решили ему отомстить. А сделать это вызвалась высланная на поселение в Актуй бывшая узница Кары Мария Кутитонская.
Раздобыв плохонький револьвер, Кутитонская тайно уехала в Читу. Перед Читой беглянку арестовали, но она умолила пристава доставить ее к губернатору, чтобы передать нечто очень и очень важное. Когда губернатор вышел в приемную и спросил: «В чем дело?», Кутитонская выхватила револьвер и со словами: «Это вам за одиннадцатое мая!» — выстрелила.
Губернатор упал, мстительницу связали и увели в тюрьму. Приговорили ее к бессрочной каторге, а губернатор остался жив. Рана даже помогла ему: ее прикрыли орденом, а губернатору предложили переехать в другое место, хотя его за злоупотребления надо было бы судить.
Иркутский генерал-губернатор Анучин, который послал для усмирения Кары Халтурина и давал телеграфные указания, тоже получил орден за «оскорбление».
Кутитонскую после суда отправили в Иркутскую тюрьму, где она встретила своих недавних подруг по Карийской каторге — Елизавету Ковальскую, Марию Ковалевскую, Богомолец и Россикову. Марию Ковалевскую год назад из-за болезни отправляли из Кары в Минусинскую тюрьму. Там она встретилась с мужем, и ее тут же снова отправили на каторгу. Вернулась она, когда комендантом был уже Халтурин. Вместе с другими женщинами Мария стала протестовать против избиения узников, товарищей Мышкина, и ее вместе с подругами перевезли в Иркутск.
Через несколько месяцев Елизавете Ковальской удалось достать костюм надзирательницы. Чтобы отвлечь внимание внутренней стражи, Мария Кутитонская вечером устроила в своей камере пожар. Когда сбежались смотрители и надзиратели. Елизавета Ковальская незаметно выркользнула из тюрьмы. Но на свободе удалось ей побыть недолго — вскоре ее поймали, добавили срок и снова водворили в тюрьму.
Через четыре года Кутитонская умерла от чахотки. Ее похоронили на безымянном тюремном кладбище, а ее подруг снова отправили в Кару.
В Каре уже давно знали о героической смерти Мышкина. Все эти годы узники упорно боролись за свои привилегии — за право читать книги, ходить на прогулки — постепенно снова добились их.
После того как из Иркутской тюрьмы привезли подруг умершей Кутитонской, на Карийскую каторгу приехал новый генерал-губернатор — Корф. Когда он вошел в женскую тюрьму, Елизавета Ковальская не обратила на него внимания.
«Встать!» — закричала губернаторская свита.
— Я не признаю вашего правительства и перед его представителями не встаю! — спокойно ответила Ковальская.
Взбешенный губернатор приказал отправить Ковальскую в Читинскую тюрьму. Ночью по приказу коменданта в ее камеру вошла стража, связала ее, завернула в одеяло, заткнула рот и тайно вывезла из тюрьмы.
Подруги Ковальской, узнав о насилии, предъявили требование уволить коменданта и объявили голодовку. Голодовка ни к чему не привела. Только через полгода приехало жандармское начальство, посовещалось и оставило коменданта на своем посту.
Тогда голодовка вспыхнула снова. Но теперь к женской тюрьме в знак солидарности присоединилась и мужская. Проходили дни, узники пищи не принимали и с каждым днем слабели все больше.
Губернатор на запрос врача телеграфировал: «Администрации безразлично, будут они есть или не будут. Продолжайте поступать, как приказано».
Заключенные и на этот раз ничего не добились: ненавистный комендант оставался на месте. В отчаянии одна из узниц — Надежда Сигида, бывшая учительница — дала ему пощечину. С этой пощечины и началась развязка Карийской трагедии.
Губернатор приказал высечь Сигиду розгами, а остальным заключенным прочитать инструкцию, в которой предписывалось сечь политических заключенных «без малейшего послабления».
Через две недели смотритель Бобровский привел приговор над Сигидой в исполнение. Затем учительницу увезли в общую уголовную тюрьму, куда перевели и ее трех подруг.
В эту же ночь все четверо приняли яд и умерли. Один узник, живший в вольной команде, застрелился, четырнадцать человек в мужской тюрьме приняли большие дозы морфия.
Однако яд не подействовал: он лежал слишком долго, со времени неудачного побега Мышкина. Умерли только двое. Началось расследование.
Во время допросов один из заключенных, Диковский, сказал: «Мне осталось только одно — умереть, потому что ни мое воспитание, ни тем более сильно развитое чувство человеческого достоинства не позволяло жить мне под такой вечной угрозой страшного для меня позора и унижения».
Принимал яд и бывший студент-медик Киевского университета Павел Иванов. Киевский суд приговорил его к двадцати годам каторги. По дороге за побег из Красноярской тюрьмы ему добавили пятнадцать лет. А за побег между Читой и Карой — еще двадцать.
Павел Иванов был «ветераном» каторги: он объявлял голодовку еще с Мышкиным. Наказание Сигиды он назвал квалифицированным убийством. «Решив отравиться, — сказал он, — я хотел помочь уничтожению телесного наказания в России».
Власти не осмелились возбудить дело против заключенных, которые назвали их убийцами. Они решили перевести их в другие тюрьмы и там расправиться с ними поодиночке.
Елизавету Ковалевскую из Читы перевели в Верхнеудинск. Там ее посадили в секретную камеру. Даже по соседству не велено было никого поселять. Числилась она под номером три и сам смотритель тюрьмы не знал ее имени. И все-таки ей удалось достать револьвер через уголовных арестанток, которые подавали ей пищу.
Терпеливо ждала Ковальская, когда губернатор Корф посетит эту тюрьму. Но его все не было, и она решилась бежать. Однако побег и на этот раз не удался. Револьвер у нее отобрали, а саму отправили в Горный Зерентуй, где была надежная, прочная каменная тюрьма.
В этой тюрьме Ковальскую принимал Бобровский, который сек розгами Сигиду. Ковальская бросилась на него с кинжалом (она достала его в дороге), но его у нее вырвали. Через некоторое время Бобровский умер от туберкулеза. Умирая, в бреду он повторял: «Я подлец, надо было меня убить!» Карийская трагедия подействовала даже на него, закоренелого тюремщика.
После Карийской трагедии политических заключенных отсюда перевели в Акатуй, где умер самый непримиримый декабрист Лунин, в Кутомарскую, Алгачинскую и Горно-Зерентуйскую тюрьмы.
При каждой тюрьме была так называемая «вольная команда». В нее назначали тех, у кого срок подходил к концу. Жили «вольные» на квартирах, а выполняли те же каторжные работы.
После того, как царское правительство потопило в крови революцию 1905–1907 годов, тюремное начальство совсем обнаглело.
Начальник каторги Метус дал в Акатуй такую телеграмму: «Заковать всех испытуемых мужчин и женщин в кандалы, а в случае активного сопротивления арестантов открыть против них сильный ружейный огонь всем составом конвойных команд, впредь до полного подавления беспорядков».
Акатуйцы стали сопротивляться. «Бунтарей» перевели в Алгачи, где начальником тюрьмы был Бородулин, не уступавший в жестокости шлиссельбургскому Ироду — Соколову. Всех привезенных он приказал остричь и переодеть в арестантские халаты силой. Двоих сопротивляющихся солдаты по его приказу зверски избили.
— Здесь вам не Акатуй! — кричал Бородулин. — Тут я вас быстро усмирю — и костей от вас не останется!
В ответ на это узники решили не снимать перед начальником тюрьмы шапок и не выходить на поверку.
Вечером, во время поверки, вся камера акатуй цев запела.
Бородулин смолчал.
Через два дня он туча тучей явился в тюрьму. Встретившийся ему узник шапки не снял, и Бородулин приказал посадить его в карцер. Тогда политические потребовали его к себе для объяснения. Бородулин пришел, окруженный конвоем, и закричал: «Встать!» Никто из узников не поднялся.
— Верните нашего товарища, тогда будем разговаривать. — Бородулин приказал для острастки увести двоих в карцер, но узники, взявшись за руки, образовали круг.
— Прикладами их, прикладами! — подал команду Бородулин. — В голову, в голову бей!..
Заключенных жестоко избили, отобрали у них книги, постели, лишили горячей пищи и прогулок.
Весть о новой расправе дошла до товарищей, оставшихся на воле. И через три месяца начальник каторги Метус был застрелен в Чите. Бородулин понял: дни его тоже сочтены.
— Вы меня не знаете, — заискивающе сказал он Егору Сазонову, — Я не зверь, я только исполнитель. Неужели вы и меня убьете?
К Сазонову он обращался, вероятно, потому, что тот сидел за убийство министра внутренних дел Плеве, который установил невыносимый режим для политических заключенных во всей России.
Чувствуя, что смерть уже ходит по его пятам, Бородулин взял отпуск и срочно уехал в Псков. Буквально через несколько дней в Алгачи приехал из Петербурга «Иван Иванович», который должен был привести в исполнение приговор социал-революционеров над улизнувшим тюремщиком.
Этим «Иваном Ивановичем» был читинец Петр Иванов. Пятью годами раньше, когда он учился в восьмом классе мужской гимназии, губернатор пригласил учащихся на костюмированный бал. Но с одним условием: чтобы среди них не было евреев. Гимназисты объявили губернатору бойкот и на бал не явились. Нескольких человек за это начальство исключило из гимназии, нескольких посадило в карцер.
Иванов был инициатором этого бойкота, но его почему-то оставили в гимназии. Считая это несправедливым, он в учительской «оскорбил действием» директора Еленева. Гимназиста арестовали, но он просидел в тюрьме только три месяца: начальству было невыгодно раздувать инцидент.
В это время у большевиков-подпольщиков Читы появилась своя типография (это было накануне революции 1905 года). И они взяли Иванова, посещавшего марксистский кружок Емельяна Ярославского, наборщиком. После приезда карателей типографию вывезли в Россию, Иванов перебрался в Иркутск, а затем и в Петербург. Там он вошел в боевую организацию террористов. Она-то и командировала его в Алгачи.
Когда Иванов узнал, что Бородулин выехал в Псков, он вернулся в Петербург, взял еще двоих товарищей и двинулся по-его следам.
В Пскове приговор должен был привести в исполнение Ф. Масохин. Было условлено, что он проникнет в дом Бородулина под видом почтальона и застрелит его. В двери Масохин позвонил, но когда Бородулин вышел, прочитал протянутую телеграмму и сказал, что это, вероятно, ошибка, Масохин ретировался. Труса отправили в Петербург, а привести приговор в исполнение взялся «Иван Иванович».
На следующий день Бородулин собирался выехать в Читу. С самого утра он ездил по городу — наносил прощальные визиты. На одной из улиц товарищ Иванова схватил под уздцы его лошадь, а Иванов, вскочив на подножку, в упор выстрелил в тюремщика.
Петра Иванова тут же схватили. Его повесили и похоронили на том же острове, где был погребен Ипполит Мышкин. А через несколько дней был убит и сам начальник главного тюремного управления Максимовский.
Однако тюремные палачи никак не хотели извлечь урока ни из отчаянной борьбы узников за свои права, ни из отчаянных актов мести.
Вскоре после убийства Бородулина забайкальский губернатор получил телеграмму из главного тюремного управления. Его извещали о том, что из Алгачинской тюрьмы готовится побег Егора Сазонова, и предлагали перевести его в Зерентуйскую тюрьму.
В связи с предполагаемыми побегами губернатор решил сменить начальника каторги. После смерти своего предшественника тот боялся применять жесткие меры. Губернатор предложил его пост сразу трем подполковникам, пообещав в телеграммах фантастический оклад — 3600 рублей кроме разъездных 1000 и квартирных производством полковника». Но все подполковники отказались: они тоже не забыли еще участи Метуса и Бородулина.
Сазонова перевели в Горный Зерентуй под усиленной охраной, закованного в кандалы, и спрятали в одиночку. Через несколько дней прислали туда и нового начальника тюрьмы — бывшего командира арестантской роты Высоцкого.
Этот палач, пожалуй, ни в чем не уступал Бородулину. Он так же лишая узников книг и прогулок, так же издевался над ними.
После посещения тюрьмы инспектором Семеновским он совсем озверел. Но когда он приказал одного из политических бить плетьми, несколько человек приняли яд, двое вскрыли на ногах вены.
Всех их удалось спасти. Всех, кроме Егора Сазонова.
На каторге снова начался траур. Сазонова оплакивали в Читинской и Верхнеудинской тюрьмах, а в Иркутской тюрьме К. Коваленко своего новорожденного назвала в его честь Егором.
КОНЕЦ ВОРОНЬЕГО ГНЕЗДА
Смерть Егора Сазонова помогла ускользнуть из Горного Зерентуя крупнейшему провокатору по кличке Ворона.
Незадолго до смерти Сазонова в Горный Зерентуй был отправлен большевик Василий Матвеевич Серов — участник «плавучего конгресса» — V съезда партии. «Плавучим конгрессом» съезд назвали потому, что 300 его делегатов целую неделю плавали по морям, прежде чем нашли приют в Англии. Серова арестовали как депутата Государственной думы (все большевики-депутаты были обвинены в государственной измене).
Выйдя в «вольную команду», Серов вызвал в Горный Зерентуй жену — Юлию Орестовну. Это была умная, энергичная женщина, и все друзья Серова отнеслись к ней с уважением.
Не успела Юлия Орестовна как следует осмотреться в Горном Зерентуе, как один из товарищей Серова получил от сестры из Петербурга письмо. В нем сообщалось, что по делу Серовой большевики ведут следствие. Ее обвиняют в целом ряде провалов партийных работников и присвоении денег.
Этому письму никто не поверил, в Петербург сделали запрос. Но все оказалось правильным: Юлия Орестовна Серова и провокатор по кличке Ворона — одно и то же лицо.
Ворона была дочерью одного большого жандармского начальника. После того как она утащила у — отца папку с важными документами, ее высекли и она — ушла из дому. Став впоследствии женой Серова, она выдвинулась на партийной работе.
После ареста мужа Юлия Орестовна осталась в Петербурге и принимала активное участие в работе большевистского центра. Когда Ленин уехал за границу, для руководства всей революционной работой в России была образована «пятерка». Вошла в нее и Люся — Юлия Орестовна. Никто не мог предположить, что, работая в бюро, Люся в то же время дает уроки детям начальника Петербургского охранного отделения. И, как Ворона, передает ему очень важные сведения.
Работала Ворона хитро и тонко. В ее руках были квартиры, явки и документы, ими она обеспечивала всех приезжающих из других городов России и заграницы. Полиция арестовывала всех этих приезжающих так, чтобы никто не мог заподозрить Люсю.
Осенью 1908 года за границей была назначена партийная конференция. На эту конференцию, получив у Люси документы, поехал товарищ Иннокентий — большевик Дуброринский. А через несколько дней его арестовали при посадке в поезд.
Через год приехал в Петербург из Сибири известный партийный работник В. П. Ногин (его именем назван город Ногинск). Люся также снабдила его документами для поездки за границу. Но едва тронулся поезд, как Ногина прямо в вагоне арестовали.
Потом в гостинице была арестована курсистка, которая привезла из Варшавы листовки. Потом еще и еще…
Вскоре большевистский центр уведомили, что все эти провалы — дело рук женщины-провокатора по кличке Ворона.
После Парижской партийной конференции Ленин дал указание очистить бюро от подозрительных элементов и забрать у Люси все связи. Но Люси и след простыл: в это время она была уже в Горном Зерен-туе, в центре сибирской каторги.
Большевики назначили партийное следствие. Когда оно подходило к концу, неожиданно был арестован «следователь». Жандармы забрали у него все документы, и теперь надо было начинать все сначала.
В Горном Зерентуе товарищи зачитали Люсе полученное письмо. Но она сумела убедить их, что это недоразумение: она-де лично ездила к товарищам в Париж и доказала им вздорность обвинения. (В Париже она была на самом деле).
Когда умер Сазонов, Люся развила бурную деятельность. Одну телеграмму о его смерти она дала в Государственную думу, другую в печать, третью губернатору.
В печати поднялся шум, в том числе и в иностранной. Высоцкого из Горного Зерентуя перевели во Владивосток, а Люсю выслали. Когда она уезжала, с ней передали предсмертные письма Сазонова родственникам. Но, странное дело, полученные от нее письма родственники никак не могли прочесть. Они обрабатывали их химикалиями сами, посылали за границу, но письма не проявлялись.
Эту тайну разгадали только после революции, когда нашли подлинные письма Сазонова. Они хранились в Иркутском жандармском отделении. Люся подстроила свое выселение из Горного Зерептуя, а письма Сазонова передала жандармскому полковнику Познанскому. Родственникам же погибшего она отвезла конверт с чистой бумагой.
Люсю-Ворону расстреляли после революции под Ленинградом. А Василий Матвеевич Серов, принимавший активное участие в революции, был замучен семеновцами в Чите. Его имя носит сейчас одна из улиц города.
Многие сотни революционеров отправило царское правительство на Нерчинскую каторгу. Были здесь народники и народовольцы, эсеры и анархисты. Были и такие несгибаемые большевики, как Емельян Ярославский, Феликс Кон и другие.
Эсеры пытались мстить царским тюремщикам за жестокие порядки на каторге, устраивая на них самую настоящую охоту. Но на место убитых приходили другие, и все в России шло как прежде.
А большевики создавали и в тюрьмах марксистские кружки, вооружая узников теорией научного коммунизма. Этим они, без шума и исподводь, сделали гораздо больше для революции, чем эсеры с их эффектными погонями, шумными выстрелами и взрывами самодельных бомб.
В Каре отбывали каторгу Виктор Обнорский и ткач Петр Алексеев. Это он сказал на суде пророческие слова: «Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!» Председательствовавшему тогда на суде сенатору Петерсу не удалось заставить его замолчать. Не удалось ему на следующем процессе заставить замолчать и. Ипполита Мышкина. За это его заменили другим председателем — Дрейером. Впоследствии Дрейер судил известного революционера Нечаева, отправил на виселицу Александра Ульянова.
По-разному сложились судьбы узников Нерчинской каторги. «Старожил» каторги, бывший студент-медик из Киева, Павел Иванов был в конце концов выпущен в вольную команду. Когда в Кадае и Горном Зерентуе началась эпидемия брюшного тифа, он дни и ночи проводил у постелей больных, пока сам не заразился тифом и не умер.
Виктор Обнорский умер после революции в Кузнецке, а Петр Алексеев не дождался ее: его убили в Якутии.
По-разному сложились и судьбы нерчинских тюремщиков. Губернатор Кияшко перед февральской революцией 1917 года оказался в Семиречье. Когда к власти пришло буржуазное Временное правительство, этот палач не постеснялся прислать в Читу письмо с просьбой походатайствовать, чтобы его снова сделали забайкальским губернатором. Забайкальцы письмо писать отказались, а в Семиречье сообщили, что Кияшко был усмирителем Нерчинской каторги. Испугавшись дальнейших разоблачений, Кияшко бежал под защиту казачьих войск. Но казаков разогнали солдаты пулеметной команды. Кияшко поспешно выехал в Ташкент, и там, в крепости, озлобленные солдаты закололи его штыками…
Головкин после революции служил у Колчака. Арестовать его удалось только в 1925 году. По приговору Московского суда он был расстрелян.
Высоцкий, из-за которого отравился Сазонов, после революции перебрался в Петроград и устроился десятником на Путиловский завод. Затем он вернулся во Владивосток за семьей, достал вагон и загрузил его мебелью, сделанной руками заключенных. В последнюю минуту его арестовали и повезли в Иркутск. В вагоне между Читой и Иркутском он повесился, испугавшись суда.
ГЛАВА 3. ПО ПРИМЕРУ ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ
НЕ БОГ, НЕ ЦАРЬ И НЕ ГЕРОЙ
От царской власти народу нечего было ждать милостей. Чиновники на местах и в центре заворовались, погрязли в махинациях и взятках. Чего уж тут было искать защиты от хапуг и взяточников, если сам царь сказал, что взятки для полицейского — только приработок.
Нельзя, конечно, сказать, что в царском государственном аппарате совсем не было честных, порядочных людей. Они были. Но в этом заворовавшемся союзе управителей и чиновников они выглядели белыми воронами.
На Карийской каторге, например, служил одно время комендантом полковник Кононович. Это был честный и порядочный человек. Один заключенный даже написал о нем в письме: «Я чрезвычайно удивлен, что не всякий русский полковник непременно — животное».
Это письмо, конечно, перехватили жандармы. От полковника потребовали объяснений. Кононович не выдержал: «Не мог же я извиняться, что меня назвали человеком, а не животным!»
С Кары его, конечно, убрали и назначили атаманом Забайкальского казачьего войска. Он поселился в Нерчинске. Здесь он увидел, как обкрадывают государство и друг друга офицеры и чиновники. За взяточничество, за незаконное освобождение от военной службы сынков золотопромышленников и купцов он подал на них в суд. Но они подкупили следователей, и те, оправдав жуликов, оклеветали самого полковника.
С большим трудом удалось Кононовичу добиться нового расследования. Комиссия собрала неоспоримые доказательства преступлений чиновников и офицеров. Над ними вскоре должен был состояться суд. Но в одну из ночей «вдруг» загорелся дом Кононовича, ему и его семье едва удалось спастись. Все имущество, конечно, сгорело, сгорели и документы, которые он держал дома, справедливо опасаясь, что из канцелярии их могут выкрасть.
В конце концов честного полковника отправили на Сахалин, где сделали начальником уголовной каторги.
С ним там потом встречался Антон Павлович Чехов и очень тепло о нем отзывался.
Однако таких «белых ворон» среди чиновников и офицеров в России было мало, и не они определяли политику. Надеяться на то, что царь когда-нибудь улучшит крестьянам и рабочим жизнь, не приходилось. На бога надежды не было никакой: служители церкви сами обирали народ и помогали это делать другим. Герои помочь не могли тоже. Они жертвовали своими жизнями, но положение народа от этого не менялось. Надо было добиваться освобожденья «своею собственной рукой».
К этому и призывали русские революционные марксисты во главе с Владимиром Ильичом Лениным.
Они создавали марксистские кружки, в которых объясняли рабочим законы развития общества. А потом создали и партию рабочего класса. Только тогда она называлась не Коммунистической, а Российской социал-демократической рабочей партией (РСДРП).
В создании и сплочении партии огромную роль сыграла созданная Владимиром Ильичом Лениным газета, эпиграфом для которой была взята строчка из стихов декабриста Одоевского: «Из искры возгорится пламя», написанного в Чите.
Газета так и называлась «Искра». Печаталась она за границей, а в Россию ее привозили верные люди. Проделав долгий путь из Лейпцига, Лондона или Женевы, «Искра» попадала даже в далекую Читу. Партия сплачивала рабочих для организованной борьбы с царизмом.
В начале 1901 года в Петербурге и нескольких других городах рабочие большими колоннами вышли на улицы с лозунгами «Долой самодержавие!»
На следующий год такие демонстрации повторились. И хоть далеко было Забайкалье от Москвы и Петербурга, здесь тоже появились марксистские кружки и революционно настроенные рабочие. А перед Первым мая в Чите на заборах, под окнами домов, в подъездах появились листовки. На них была изображена своеобразная' «пирамида». В верхнем ее «этаже» восседали царь с царицей, под ними — министры, под министрами — попы, а под попами — солдаты с ружьями. Каждый «этаж» был снабжен соответствующей подписью: «Мы царствуем над вами», «Мы управляем вами», «Мы морочим вас», «Мы стреляем в вас». А внизу было напечатано: «И настанет пора, и проснется народ, разогнет он могучую спину».
Потом появились новые прокламации, о тяжелой жизни рабочих в других городах, о том, что рабочем надо объединять свои силы.
Многих обывателей эти прокламации испугали. Особенно перепугался начальник железнодорожных мастерских (теперь ремзавод) Макулевич. Только что рабочим стало известно, что он украл из кассы 1200 рублей, и он боялся, что ему будут мстить.
Некоторые с окраины перебрались в город и стали просить защиты у губернатора.
Губернатор в Чите был новый — Надаров. Его перевели сюда из Приамурья, а старого отправили в Туркестан.
Надаров первое заявление в Чите сделал по поводу буддийского храма: «На месте этого дацана давно следовало открыть кабак». И этим сразу понравился архиерею.
С бурятами и эвенками Надаров был очень груб, всем просителям говорил «ты». Во многом он был похож на уже известного нам Ильяшевича. Когда тому робко указывали на незаконность какого-либо распоряжения, он брал том свода законов Российской империи, садился на него и говорил: «Закон тебе надо? Видишь, где у меня закон!»
Когда Надарову принесли листовки, он тоже не на шутку испугался. Гарнизон был поднят на ноги, пушки приготовлены к бою, но никакой революции не произошло. Просто сто пятьдесят рабочих собрались Первого мая в лесу на маевку. Войскам и полиции было не до них: они патрулировали по городу и соскабливали с заборов листовки. Тут уж власти не скупились: за каждую принесенную прокламацию они платили по десять рублей!
Листовки в Чите стали появляться регулярно. У революционеров была уже своя типография, а обыватели все еще думали, что их привозят из Парижа. Трудно было поверить, что революция может зреть и в глухой провинции, в самом центре жестокой каторги.
Когда началась война с Японией, забайкальцы ее ощутили прежде всего. Своего хлеба в Забайкалье и так не хватало, а теперь его стали*сеять еще меньше: многих казаков вместе с лошадьми забрали на фронт.
Надарова назначили начальником тыла Маньчжурской армии. Кто плакал от войны, а он радовался: вместе с подрядчиком Филимоновым заготавливал для армии мясо и наживался на этом.
Заменивший его на посту губернатора генерал Холщевников обратился к нему через год с просьбой демобилизовать часть забайкальцев. «В противном случае хозяйство призванных нижних чинов будет постепенно рушиться, а населению грозит голод», — телеграфировал он. Но, занятый коммерцией, Надаров на эту телеграмму даже не ответил.
Голод, конечно, прежде всего начался на землях, принадлежащих царю: часть хлеба тут пришлось
продать, чтобы расплатиться за аренду. Только после того, как военному министру была послана телеграмма: «В восточной части Забайкалья голод, у голодающих пухнут ноги», — им отпустили в долг немного хлеба.
ПОД ФЛАГОМ КРОХОТНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В январе 1905 года царь возле своего дворца расстрелял мирную демонстрацию рабочих. Теперь уже и широкие массы потеряли веру в него. Рабочие все чаще стали выходить на демонстрации с лозунгами «Долой самодержавие!»
Повсюду начались стачки. Восстал броненосец «Потемкин», к нему присоединился военный транспорт «Прут».
И тут забайкальцы всерьез задумались: а почему это леса и земли, которые они пашут, принадлежат царю? Он что, сажал эти леса, обрабатывал пашни? Или он их купил у туземцев?
В Александровском Заводе, где Чернышевский написал продолжение своего революционного романа, они объявили «царские» земли своими. А кабинетских чиновников прогнали.
В Татаурово и Николаевском крестьяне решили не платить царю за сучья, сухостой и валежник, которые они привозили на топливо.
Их примеру последовали в Урульге и Куэнге, агинские же буряты вынесли такой приговор: «Кабинет его величества захватил наши земли, леса, веками владеемые бурятами-аборигенами, отбил наши самые лучшие сенокосные пади и леса. Хозяйничают объездчики-лесничие, учиняют безответным темным бурятам произволы и всяческую эксплуатацию их. Мы терпим материальную нужду и таскание по судам. К тому же, будучи низки в культурном отношении, находимся под давлением правительства, поставленные в необходимость вести кочевой образ жизни.
Постановили: изъять из пользования Кабинета все местности, владеемые нами по речке Оленгуй, Ара, Иле, Урее и прочим»…
Между тем война с японцами закончилась. Генерал Стессель позорно сдал Порт-Артур, в Цусимском проливе нашли смерть русские корабли, жителей острова Сахалин привезли в Читу, и вагоны поставили в тупиках.
У сахалинцев не было ни теплого белья, ни одежды, ни продуктов. Вагоны насквозь продувались ветром, дети умирали один за другим. Железнодорожники как могли помогали им — кто пищей, кто одеждой. А воры, бандиты и грабители, привезенные с острова, разбежались по городу и стали грабить население.
В Чите, как и в других городах, появились вдохновители еврейских погромов. Они ходили с черными знаменами, на которых было вышито «СД» (Слово и дело), и призывали сахалинцев к погрому. В это время по всей стране стали создаваться боевые дружины. Такое решение принял III съезд партии. Создавались они и в Чите, рабочие вооружались.
Рабочая дружина быстро навела в городе порядок: грабежи прекратились.
Но рабочие продолжали вооружаться. Зная, что в материальном складе много оружия, они попросили его выдать. Заведующий отказался и вызвал солдат. Прибывший офицер приказал своим солдатам стрелять в рабочих. Солдаты стрелять отказались. Тогда офицер выстрелил сам и тяжело ранил рабочего Кисельникова. (Теперь его именем названа одна из улиц города). Когда рабочий умер, хоронить его вышел весь город. На Читу-первую шли люди с окраин, даже из ближних сел.
Гимназисты и ученики реального училища тоже пошли туда. Они хотели возложить на гроб убитого венок. Учащихся увидел из окна своего штаба генерал Карцев. Он приказал поднять по тревоге дежурный взвод и «рассеять толпу». Но в колонне шли вооруженные дружинники, и казаки напасть побоялись. Зато через несколько дней они напали на учащихся и избили их нагайками. Губернатор приказал закрыть гимназию и выставил там вооруженную охрану.
Революционные события в Чите нарастали. На предприятиях были избраны Советы рабочих, а в воинских частях Советы солдатских и казачьих депутатов. Они по существу взяли всю власть в свои руки. Так в Забайкалье образовалось крохотное Советское государство. Конечно, это была еще не та Советская власть, что установилась потом, но все же это были Советы, и руководили ими читинские большевики.
Совет солдатских и казачьих депутатов предъявил военному губернатору (он же командовал и войсками) свои требования. Это были очень скромные требования: улучшить солдатам пищу, обучать неграмотных, запретить офицерам бить солдат и говорить им «ты».
Казакам большевики советовали добиваться, чтобы их призывали на службу без своей лошади, без своего обмундирования и оружия. Все это казаки должны были покупать за свой счет, и многие, отправив сыновей в армию, оставались нищими.
Вскоре к рабочим примкнули служащие. А потом и связисты. Впервые трудящиеся люди стали сами себе хозяевами.
В железнодорожных мастерских и вагонном депо рабочие установили восьмичасовой рабочий день. И в этом никто им теперь не мог помешать: губернатор остался без войск. Войска перешли на сторону народа.
Профсоюзы в Иркутске, Верхнеудинске, Чите и на некоторых станциях создавали для рабочих библиотеки, а кое-где и столовые. Никто раньше о рабочих не заботился, и они теперь сами стали заботиться о себе.
В Маньчжурии к этому времени скопилось много войск, которые участвовали в войне. Война была бестолковой, а ее организация и того хуже: бои давно кончились, а пушки, снаряды и колючую проволоку все подвозили и подвозили.
Когда, наконец, войска стали отправлять в Россию, эшелоны двигались черепашьим шагом: не хватало исправных паровозов, не было четкости в продвижении поездов. Вину за это царские власти сваливали на рабочих: они-де бастуют. Тогда в декабре 1906 года рабочие взяли в свои руки и управление железной дорогой. Они создали комитеты, в которые послали путейцев, паровозников, вагонников и представителей администрации. (Этим тоже руководили большевики. В партийный комитет Читы входили В. К. Курнатовский, который был вместе с Лениным в ссылке, И. В. Бабушкин, несколько лет назад занимавшийся в Петербурге в кружке Владимира Ильича и А. А. Костюшко-Валюжанич.)
Запасных частей для паровозов не было — их приходилось снимать с одних паровозов и ставить на другие. Рабочим пришлось срочно оборудовать теплушки и послать их в Маньчжурию. Но зато вскоре вместо десяти эшелонов в сутки дорога стала пропускать шестнадцать. При царской власти такого никогда не бывало. Крохотная Советская республика не только жила, но и доказывала, что рабочие могут управлять любыми делами гораздо лучше, чем купцы, капиталисты и царские чиновники. Но развеваться над городом красному флагу оставалось уже недолго.
РАСПРАВА
Царь отдал приказ подавить восстание «с беспощадной строгостью и всяческими мерами». Уж на что — на что, а на «подавление» денег не жалели. На содержание учебных заведений Читы отпускалось семь тысяч рублей в год. А на разгром забастовки не пожалели 150 тысяч.
Свой приказ в Маньчжурию — почти вся русская армия еще стояла там — царь отправил по телеграфу и с нарочным. Телеграмму ему пришлось посылать через Москву — Тбилиси — Тегеран — Дели — Сингапур — Кантон: Читинский телеграф был в руках комитета почтово-телеграфных работников.
По этому приказу генерал Ренненкампф срочно отправился в Читу на подавление восстания.
Ранненкампф выступил с востока, а с запада мчалась другая экспедиция, снаряженная в Москве. Командовал ею генерал Меллер-Закомельский, который только что справил кровавый пир в Прибалтике, подавив там крестьянское восстание. Он проявил при этом особое рвение, потому что крестьяне разгромили несколько его поместий. История располагает многими фотографиями его «подвигов»: жена начальника одного карательного отряда любила острые ощущения и фотографировала расстрелы. (Среди фашистов, напавших на нашу Родину в 1941 году, тоже ведь были такие любители.) Деду моему Яку Яновичу удалось тогда избежать пули барона: он уехал в Россию. Но царская охранка бдительно следила за его батрацкой хижиной. И когда он через три года появился в родных краях, его немедленно схватили, заковали в кандалы и отправили — куда же еще? — в Сибирь…
С востока и запада надвигались на Читу два вооруженных до зубов отряда. А в Чите не было ни одной пушки. Рабочим удалось захватить только винтовки из числа тех, что вывозили с маньчжурского фронта. Они организовали отряды Красной гвардии и стали обучаться военному делу. Обучал их бывший офицер, большевик Костюшко-Валюжанич.
Красногвардейцы свезли в железно дорожные мастерские оружие и продукты, стали минировать подходы. Навстречу поездам карателей были высланы отряды подрывников. Но они ничего не могли поделать: поезда шли, выслав вперед охрану.
Первым к городу подошел поезд Ренненкампфа. Он пришел ночью, тихо, с потушенными огнями. Город не спал — с вечера долго гудели тревожные гудки, леденя сердца: вот-вот должна была пролиться кровь.
Рабочие в мастерских ждали подкрепления от солдат. Но солдат в последнюю минуту арестовали, все дороги и улицы оказались занятыми патрулями карателей. Ренненкампф наступал на рабочих напористей, чем во время войны на японцев. Увидев, что они окружены со всех сторон, что на город направлены пушки, угрожая мирному населению, рабочие решили сложить оружие. Ничего другого им не оставалось: надо было сберечь силы для новых битв.
Расправа с революционерами была короткой. Больше ста солдат и рабочих ушло на каторгу. Многим из них никогда уже не суждено было вернуться оттуда. А четверых приговорили к смертной казни: Костюшко-Валюжанича, Вайнштейна, Столярова и Цупсмана. Столяров был рабочим, на его квартире каратели нашли много оружия. Цупсман работал помощником начальника станции — это он передал рабочим вагоны с винтовками. А Вайнштейна просто спутали с одним из агитаторов, который походил на него.
Накануне расстрела в вагон к приговоренным пришел священник, чтобы «побеседовать» с ними.
— Отец, вы-то зачем сюда? — возмутился Костюшко. — Убирайтесь отсюда, ибо вы именем Христа прикрываете убийство!
Батюшка ушел, а Костюшко обратился к охранникам:
— Ну, а вам я желаю поскорее избавиться от солдатчины. — Те молча пожали ему руку.
На месте казни — у подножья Титовской сопки — для приговоренных были вкопаны столбы. Всех четверых поставили к столбам и хотели завязать глаза.
— Не надо, — попросил Костюшко, — мы встретим смерть с открытыми глазами.
Когда солдаты подняли винтовки, Столяров сказал так просто, словно был на рабочем собрании:
— Пожар революции только разгорается, он не потухнет. Мы погибаем за рабочее дело, нам возврата нет. Но вы, остающиеся жить, должны довести начатое дело до конца… Солдаты, стреляйте прямо в грудь, чтобы я не мучился!
Когда поручик Шпилевский уже подал команду «пли», Костюшко успел еще крикнуть:
— Братья-солдаты! Мы умираем в борьбе за свободу, за лучшее будущее всего народа. Да здравствует революция!
После первых двух залпов упали Столяров, Цупсман и Вайнштейн. Костюшко стоял, глядя прямо в глаза солдатам: они стреляли мимо него!
— Пли! — в третий раз скомандовал побелевший поручик.
Костюшко упал с перебитыми ногами. Озверевший офицер подскочил к нему и в упор выстрелил из револьвера. Толпа зарыдала, кто-то подхватил под руки Таню, жену Костюшко…
Чтобы о расстрелянных не осталось и памяти, могилу каратели сровняли с землей. Потом привели солдат и несколько раз прогнали их по этому месту. А наутро на месте расстрела появился выложенный из камней лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Взбешенный Ренненкампф велел выставить часовых. Но через несколько дней у них под носом на высоком шесте взвился красный флаг.
СНОВА ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ
Удивительное чувство испытываешь, когда тебе вдруг доведется через какую-нибудь крохотную деталь по-новому ощутить великую революцию.
Для меня такой деталью явилась обыкновенная амбулаторная книга полувековой давности. Я ее нашел не в архиве, а на каком-то пыльном чердаке и стал листать просто так.
Врач заполнял, книгу очень аккуратно: записи были подробными, выполненными четким каллиграфическим почерком. В смысл записей я не вникал и хотел было уже закрыть книгу, как вдруг мне показалось, что в амбулатории сменился врач. С какой-то страницы записи изменились. Пригляделся: почерк тот же, значит, и врач тот же. Сравнил две страницы и понял: совершилась революция!
На одной странице было записано: «Сын генерала Иннокентий Трухин», «Дочь чиновника Евлария Туркова», «Чиновник Виктор Константинович Ожегов», «Почетный дворянин Николай Федорович Масюков», «Священник Николай Иванов». А на другой странице записи были лаконичными, как выстрел: Гражданин В. С. Смородников. П. И. Матюнин, С. М. Федотов.
Исчезли чиновники, дворяне, купцы и появились граждане. Значит, пришла революция. Но революция эта была еще только буржуазная, Февральская.
Временное правительство объявило амнистию политическим заключенным. Но оно палец о палец не ударило, чтобы выпустить их из тюрем. Крестьяне сами приезжали на телегах на Кавказский промысел и перевозили оттуда узников в Шилку. Там рабочие встречали их с флагами и отправляли в Читу. В Чите вчерашние узники разыскивали статейные списки и давали телеграммы в другие тюрьмы, кого следует освободить. (Ведь на каторге было много и уголовных преступников — воров, убийц и грабителей).
Вернулся к себе в Эстонию и мой дед — Як Янович. Семья его была очень бедной: все спали на полу, на неприкрытой соломе, ели тюрю да толокно. А когда деда отправили на каторгу, им пришлось совсем плохо. Младшая его дочь, моя мать, с семи лет пошла пастухом к помещикам, сын ходил от хутора к хутору, пилил дрова, жена косила сено. Гнули они спину и в поместье барона Унгерна, того самого, который в годы гражданской войны зверствовал у нас в Забайкалье и в Монголии.
Продав коровенку, дед забрал семью и повез ее снова в Сибирь: здесь хоть не было ненавистных помещиков. Так он и стал забайкальцем…
А осенью большевики свергли Временное правительство и взяли власть в свои руки. Когда-то забайкалький губернатор Кияшко говорил политическим заключенным: «Ведь большинство из вас бывшие рабочие и крестьяне, среди вас нет людей с высшим образованием, а вы мечтаете перестроить государство. Где же тут логика?» Логика в этом была. И даже не просто логика, а опыт, пример Парижской коммуны.
Рядовой переплетчик Варлен возглавлял тогда все городское хозяйство. (Кроме того, он обеспечивал Париж продовольствием.) За две недели он наладил его работу так, как не мог до него наладить ни один из министров Франции.
Чеканщик Альберт Тейск руководил почтой города. В течение нескольких дней он сделал работу огромного аппарата безупречной. Так четко почта Парижа никогда не работала.
Бронзовщика Камелину сделали начальником монетного двора. Он не только навел там порядок, но и вместе с рабочими разработал новый способ чеканки монет…
Теперь, как во времена Парижской коммуны, государством стали управлять рабочие и крестьяне. И у них, как и тогда в Париже, нашлись свои Варлены, Тейски и Камелины. Теперь уже не в отдельных городах, а по всей России рабочие сами стали хозяевами.
В селе Казаково, откуда начался каторжный путь поэта Михайлова, крестьяне заявили, что детям больше незачем учить закон божий. «Преподавание закона божия существует лишь для того, чтобы в страхе и трепете держать одну часть населения для выгоды и сытости обленившихся людей, — заявили они. — Если кому уж так необходимо преподавать своему детищу свою религию, он может преподавать ее за свой счет». Вскоре преподавание закона божьего было отменено во всех школах.
В селе Бочкарево не было школы. Советская власть постановила бесплатно отдать для школы здание бывшей пересыльной тюрьмы «с обязательным условием, чтобы в 1918 году в ней производились занятия».
В Троицкосавске хозяева кожевенного завода очень мало платили рабочим. Советская власть приказала увеличить зарплату наполовину. А когда хозяева отказались, отправила одного из них на военную гауптвахту, обязав заводчиков «теперь же принять шаги по заготовке сырья», чтобы завод не остановился и рабочие не лишились работы.
Рабочие Надеждинского прииска пожаловались, что хозяин прииск закрыл, а с рабочими не хочет рассчитываться. В прошлые времена они бы и пикнуть не посмели. А теперь Советская власть приказала хозяину продать лично ему принадлежащее имущество и расплатиться с рабочими. Обирать рабочих в рабочем государстве стало невозможно!
Настоящая война между хозяином и рабочими разгорелась на Шерловой Горе.
Небольшой рудник в этом поселке принадлежал трем предпринимателям. Двое из них его и в глаза не видели: они жили в Петербурге и только получали за добытую руду деньги. Третий «пайщик» — немец Эмерик — жил на Шерловой Горе. Он и был настоящим хозяином: вел все дела рудника, обманывая не только рабочих, но и своих сотоварищей.
От казны Эмерик не раз получал денежную помощь, но ни разу не рассчитывался с рабочими вовремя.
Как-то рабочие заметили, что Эмерик собрался вывезти в Читу всю добытую вольфрамовую руду. Рабочие запретили ему это делать, пока он не рассчитается с ними. Эмерик съездил в Читу и привез деньги для расчета. Но вместо десяти тысяч раздал только пять. Рабочие заявили, что пока он не раздает остальные деньги, они его с рудника не отпустят.
Наутро Эмерик «нашел» немного денег (якобы занял у подрядчика Харанорских копей). Чувствуя неладное, рабочие устроили ревизию. И тут хозяин куда-то исчез. Обыскали весь поселок — нет! Тогда рабочий Г. Владимиров сел на лошадь и погнал ее в Харанор. Около Харанора он нагнал беглеца и доставил его прямо в Совет рабочих депутатов.
Собралась рабочая власть — шахтеры, извозчики, землекопы — и потребовала отчета. Оказалось, что месяц назад Эмерик получил от Советской власти ссуду 70 тысяч рублей — вольфрам стране был очень нужен — и неизвестно куда ее израсходовал.
Эмерик, выслушав все обвинения, перешел в наступление. Он вытащил удостоверение Горного совета на право вывоза руды и заявил с апломбом:
— Считаю себя полным хозяином рудника и не признаю никакого вмешательства в дела ведения работ на руднике.
Секретарь в протоколе написал: «Постановили отстранить от заведования, впредь до выяснения обстоятельств дела объявить домашний арест» И тут вдруг один из членов совета заметил, что карман буржуя неестественно оттопыривается.
— Гражданин Эмерик, у вас есть оружие? — спросил он.
— Нет! — сказал Эмерик.
— А это что? — и рабочий резким движением выхватил из кармана «гражданина» браунинг.
Эмерика отправили в Читу, а секретарь стал переписывать протокол: «Постановили: ходатайствовать о немедленной национализации рудника Шерловая Гора, предложив служащим и рабочим Шерловой Горы немедленно приступить к описи всего имущества рудника, каковую и представить на утверждение местной организации с предварительной заверкой наличности имущества, вопрос же_об управлении рудником разобрать особо в согласии с центральными органами.
Председатель С. Панковский.
Секретарь Матафонов.
Члены Соболев, Фудленко».
Протокол звучал суховато, зато таких документов не знала история царского управления.
Золотопромышленники братья Шумовы больше, чем кто-либо другой, обсчитывали и притесняли рабочих. Теперь Совет рабочих депутатов приказал им завести на каждого рабочего расчетную книжку. Братья Шумовы не выполнили приказа. Их предупредили, а потом передали прииск государству.
Во многих местах стали открываться народные клубы, появилась своя, пролетарская газета «Забайкальский рабочий». Она выходила и одиннадцать лет назад, но тогда удалось выпустить лишь восемь номеров: Ренненкампф разгромил большевистскую организацию. Чтобы отныне газета выходила регулярно, члены профсоюза и члены партии на отчисления от своей зарплаты купили для нее типографию.
В Чите начали печатать свои, советские деньги. На них был нарисован рабочий с молотом.
Раньше никому не было дела до того, сколько и чего посеет крестьянин и есть ли у него семена. Интересовало это только кулаков и то с одной стороны: нельзя ли нажиться?
Теперь же, в конце марта 1918 года, в Чите собрался съезд рабочих, крестьян и солдат. Было решено: тем, у кого нет семян, купить их у того, у кого они есть. Но только по цене, которая установлена земельным отделом. Если у богатого много хлеба, а он бедному на семена продать не хочет, то надо у него этот хлеб — отобрать. Ну а если бедняку даже купить не на что, Советская власть даст ему взаймы. А когда он вырастит хлеб, то вернет не в двойном размере, как кулакам, а столько же, сколько брал. Кроме того, рабочие Забайкалья решили внести дневной заработок для приобретения семян совсем бедным семьям.
Комиссариат земледелия и специальные «комиссии по обсеменению полей» обратилась ко всем хлеборобам с советами и предложениями: «Засевайте миром пустующие пашни, если таковые окажутся в вашем селении. Стремитесь к тому, чтобы ни один клочок пашни не оставался незасеянным.
Если нет хлебных семян, засаживайте пашни картофелем, окучивая раза два в лето, нет картофеля — сейте гречиху. Увеличивайте площадь огородов и делайте запасы овощей на зиму».
В это же время Советская власть стала думать и о лечении людей. Пригласили в Читу арендаторов забайкальских курортов и стали выяснять, куда сколько рабочих можно отправить. Переговоры вел представитель Всероссийского союза увечных воинов М. Воскобойников. Вот запись этого разговора.
Поляков (курорт Дарасун): У нас всего девяносто комнат и восемнадцать номеров. Все они уже давно сданы. Да и с продуктами трудно: надо их покупать со стороны.
Воскобойников. Я знал, что арендаторы — полновластные хозяева — заранее сдали квартиры. Мы сами построим на Дарасуне три барака. Продовольствие получим через интендантство. Каким количеством ванн можем располагать? С нас прибыль нельзя получать, но и в убыток не введем.
Поляков. На Дарасуне в день отпускается максимум сто пятьдесят ванн.
Воскобойников. В 1917 году Дарасун отпускал на льготных условиях ванны для двадцати человек, теперь надо больше. Нужны места для увечных воинов, для рабочих и служащих— этих вечных- тружеников, рискующих здоровьем почти всю свою жизнь.
Поляков. Нам эти ванны тоже даром не достаются.
Воскобойников. Мы имеем 220 тысяч рублей на лечение. Владельцы курортов, надеемся, пойдут навстречу. Если мало денег, можем сократить постройку дома для инвалидов, чтобы дать возможность лечиться. Сколько можете дать мест и ванн?
Поляков. (После долгого раздумья). Можем дать в течение всего сезона один барак на тридцать человек и помещение на десять бесплатно, только чтоб в первом сделали пол, а во втором койки. Кроме того, ежедневно 25 ванн по себестоимости.
Воскобойников. Хорошо бы за два сезона 120 человек и 35 ванн ежедневно! А сколько может дать Щиванда?
Представитель Шиванды. 10 бесплатных мест и 10 бесплатных ванн ежедневно, еще разные помещения на 30 человек и ванны за плату.
Сегодня, когда каждый рабочий имеет возможность поехать на первоклассный курорт, этот разговор о бараках и ваннах кое-кому может показаться смешным. Но не забудьте, что, во-первых, рабочие тогда только-только взяли власть в свои руки, а во-вторых, они никогда раньше на курортах не бывали. Одни только ванны там стоили бешеных денег: минеральная — 1 рубль 25 копеек, угленарзанная — 2 рубля, грязевая — 2 рубля 50 копеек, а купание в простой холодной воде — 40 копеек!
ГЛАВА 4. КОГДА СТРЕЛЯЮТ ПАЛКИ
ВОРОНЫ ЧУЮТ ДОБЫЧУ
Однако не пришлось раненым, рабочим, служащим и крестьянам побывать тогда на курортах. Во многих забайкальских селах не удалось даже убрать урожай. Заграничные капиталисты, обеспокоенные установлением народной власти в России, послали войска, чтобы «усмирить» бунтовщиков.
В то самое время, когда в Забайкалье рабочая власть добывала для бедных крестьян семена и отвоевывала им места на курортах, во французском посольстве в Москве проходило тайное совещание. На нем присутствовали французы, англичане, американцы, белогвардейцы из Сибири. Они уговаривали командира чехословацкого корпуса выступить против Советской власти.
(Между прочим, в детстве мы ходили в школу мимо скромной деревянной пирамидки, на которой было написано: «Здесь в 1918 году расстрелян бело-чехами красногвардеец А. Чернов». Мы никак не могли тогда понять, как попали сюда белочехи — ведь Чехословакия вон где! Так же мы недоумевали тогда и по поводу песни: «На нас напали злые чехи, село родное подожгли»).
Во время мировой войны много чехов и словаков было захвачено русскими в плен. Некоторые из них сдались добровольно, не желая воевать на стороне поработившей их страну австро-венгерской монархии. Вместе с русскими они воевали против немцев. Советская власть заключила с немцами мирный договор, а чехи решили уехать во Францию, чтобы вместе с французами продолжать войну. Через фронты перебраться было невозможно, и Советская власть разрешила им ехать во Владивосток. Там они должны были сесть на пароходы и уплыть в Гавр. Теперь поезда с чехословаками — их был целый корпус, около сорока тысяч вооруженных солдат — уже двигались по Сибири. Вот о них-то и шел разговор на тайном совещании.
Капиталист с капиталистом всегда договорятся. Чехословаками командовал генерал Гайда — крупный помещик. Он приказал своим солдатам уничтожать Советскую власть во всех пунктах, которые они будут проезжать. «Советская власть — плохая власть, — говорил он. — Она хочет нас арестовать и выдать нашим врагам. Вот почему нас загнали в Сибирь».
Враждебно настроенные чехословаки все ближе подъезжали к Забайкалью, расстреливая по дороге большевиков и восстанавливая старую власть.
Во Владивостоке и Мурманске высадились англичане, французы, японцы и американцы. А с юга на Читу наступал атаман Семенов.
Житель Цаган-Олуя А. Астраханцев так записал в своем дневнике: «Что же это делают те люди, которые так много учили и так много знают; знают, что такое беспорядок, знают, какой от него вред. По моим соображениям, власть строится так же, как и большое каменное здание, снизу, а не сверху. Власть, строящаяся сверху, все равно будет несколько раз разрушаться и давить народ».
Но ни французские, ни английские, ни японские, ни американские капиталисты не могли допустить власти, которая строится снизу.
Без их помощи атаман Семенов не смог бы пойти в наступление на Читу. У него не было ни винтовок, ни пушек, ни лошадей. Но стоило ему появиться в Харбине (Маньчжурия), как к нему со всех сторон потекли деньги. Английские капиталисты выдали Семенову сразу полмиллиона рублей (он» были «щедрее» русского царя: тот в 1906 году отпускал на разгром Читинской рабочей республики «только» 150 тысяч), Франция — четыре миллиона. Правда, французы давали эти деньги по частям: то на покупку лошадей и седел, то на автомобили, то на пулеметы и пушки. Но от этого их роль душителей революции не менялась.
Потом расщедрилась Япония: японцы несколько раз выдавали Семенову по полтора-два миллиона.
Советской власти никто не давал денег. Она могла обратиться за помощью только к рабочим и крестьянам: «Нужны люди, оружие, средства. Нужна пехота, конница, артиллерия. Все это нужно теперь же, немедленно, враг у ворот. И только, сами все это мы можем создать. Только на свои силы рассчитывать».
И рабочие и крестьяне ответили: «Мы, узнавшие, что такое свободный гражданин, никогда не будем добровольными рабами… Мы будем биться, пока хватит наших сил, мы никогда добровольно и смиренно не склоним свою голову под гнетом иностранцев-хищников».
В Забайкалье завязались бои. Красным фронтом командовал легендарный Сергей Лазо, а командирами частей стали учителя, крестьяне, машинисты паровозов, слесари.
Семенова и навербованных им солдат дважды удавалось прогнать за маньчжурскую границу. Сам атаман чуть было не попал в плен. Но каждый раз в Маньчжурии Семенову подносили новые миллионы, он получал подкрепления и снова выползал из-за рубежа.
Не успели Семенова второй раз прогнать за границу, как с запада накатились волной белочехи. Защищаться от них уже не было ни сил, ни оружия. Красногвардейцы, выехавшие им навстречу, стали отступать. Бронепоезд, на котором находился Сергей Лазо, шел последним. Он прикрывал собой эшелоны с остатками войск и отбивал яростные атаки белочехов.
Большевики Читы заявили: «Пусть погибнем мы все, но мы знаем, что вслед за нами придут тысячи других, свежих, сильных и мужественных бойцов за радостное освобождение всех трудящихся от цепей капитала!»
Остатки наших разбитых частей отступали все дальше на восток. Но оказалось, что и на востоке уже все занято врагами — белогвардейцами и японцами.
На станции Урульга поезда остановились. Здесь в школе собралась историческая конференция ответственных советских работников и представителей воинских частей. На ней было решено фронт ликвидировать, полки распустить и, уйдя в леса, накапливать силы для новых боев. «Временно мы уходим, — сказал Сергей Лазо. — Нам нужно идти в деревни и вести там революционную большевистскую работу. Запасаться оружием. Деревня не примирится с атамановщиной и интервенцией… Партизанская война неизбежна».
Кончилось совещание пением «Интернационала». После демонстрации на пристанционной площади красные бойцы ушли, кто по домам, кто в тайгу. Над Забайкальем спускалась черная ночь террора.
Иностранные капиталисты не жалели денег и оружия, чтобы помочь русским буржуям задушить революцию. При этом они не забывали и о своих интересах. Японская газета «Фузан Ниппо» писала:
«Сибирь изобилует природными богатствами. Американцы и европейцы уже знают, насколько богата Сибирь, и стремятся к разработке ее богатств. Япония имеет также права на разработку сибирских богатств».
Кто дал эти права японским капиталистам — неизвестно. Вероятно, они считали, что приобрели их за те миллионы, которые «вложили» в Семенова.
Что касается американцев, то они давно стремились в Сибирь. Еще до закладки Великого сибирского пути американские предприниматели просили разрешение построить железную дорогу от Иркутска до Читы. После того, как эта дорога была все-таки построена русскими, сенатор Беверидж заявил, что на восток от Иркутска простирается «естественный рынок» Америки, который она должна захватить. А финансист Гарриман просил продать ему целиком весь Великий сибирский путь.
Не успели в России свергнуть царя, как во Владивосток на военном судне приплыла из Америки «техническая миссия». Возглавлял ее главный инженер строительства Панамского канала.
Первым предложением этой миссии было… продать американцам железную дорогу «хотя бы» до Самары и «хотя бы» на сто лет. (Даже тогда, когда уже все интервенты были изгнаны из Советской страны, один из деятелей республиканской партии Вашингтон В. Вандерлип предложил Ленину продать Америке Камчатку в обмен на… признание Америкой Советской России!)
Японцы, едва высадившись во Владивостоке, передали белогвардейскому командованию свои «предложения»: они готовы тотчас выплатить 150 миллионов рублей, но взамен хотят получить рыбные промыслы до самой Камчатки, все железо, находящееся во Владивостоке, и навечно — Инжильские угольные копи.
Когда Красная Армия взяла Самару и пошла на Уфу, белогвардейское командование растерялось. Оно попросило японцев двинуть свои войска к Уралу. Японцы охотно согласились, а в благодарность за эту услугу попросили отдать им железную дорогу, по которой они будут ехать. И кроме того, поинтересовались, на аренду каких территорий они сверх этого могут рассчитывать.
Командир японской дивизии, прибыв в Читу, издал «дружественный приказ». В нем говорилось, что императорская армия, проливая свою дорогую кровь, не имеет никаких территориальных притязаний. А в это время управляющий министерством иностранных дел колчаковского «правительства» телеграфировал в Париж: «Имеются свидетельские показания о соглашении между Семеновым и японцами, предоставляющем в распоряжение последних все золотые прииски Забайкалья».
Почти все японские генералы были одновременно и представителями деловых кругов. Деловым кругам безразлично, на чем зарабатывать деньги — на кока-коле или на крови. Поэтому Семенов очень быстро договорился с ними о переоборудовании Петровского завода в крупный военный завод. Затем он на 36 лет запродал им леса на северо-восточном берегу Байкала. Японская фирма «Начиро Дзицугё Тосси Куминай» решила строить там писчебумажную фабрику, чтобы продавать ее изделия «по вольной цене и вывозить во все города России и за границу». А другая фирма вместе с русскими купцами договорилась построить несколько суконных фабрик.
Интересно, что эта распродажа русских лесов и земель называлась фабрично-заводским совещанием. Участникам совещания полагалось два процента от заключенной сделки и штабу атамана — три процента. Членами же совещания были генералы и офицеры штаба Семенова. Поэтому они так бойко и торговали.
Когда в Забайкалье было создано еще одно акционерное предприятие, иркутская газета писала, что, кроме русских и японских банков, «непосредственно в качестве акционеров в этом предприятии принимает участие атаман и целый ряд видных военных чинов при штабе атамана Семенова».
В штабе Семенова карты природных богатств составляли чаще, чем военно-топографические. Составляли их, конечно, не из любви к природе: ими тоже торговали налево и направо. Недаром, едва только японцы высадились на Дальнем Востоке, газета «Приамурские известия» сообщила: «В Зею приехали семь японских инженеров для покупки приисков по реке Зее… Приехавшие японцы знают наш округ лучше, пожалуй, чем наше министерство торговли и промышленности. Им известно, кто какими приисками владеет, где какое золото, какие производятся работы, местонахождение приисков и другие подробности».
Отряд японских офицеров-геологов отправился и на Забайкальский рудник Калангуй. Этот отряд был снабжен подробными картами, изготовленными в штабе Семенова.
Японские оккупанты ничем не брезговали. Они брали все, что попадалось под руку.
Мои земляки-старожилы не раз рассказывали о том, как на станции Куке хозяйничали японские солдаты. А недавно в архивах я обнаружил очень любопытный документ. В нем жители поселка просят начальство ходатайствовать о том, чтобы японцы больше не «покупали» у них продуктов. Японские войска брали кур, яйца и свиное мясо по очень дешевым ценам. «Свиней стреляли из винтовок, — говорится в жалобе, — по улице и огородам, без ведома хозяев, курей брали из трех одну». Но начальство не могло запретить японцам такую «покупку» — оно само держалось на их штыках.
В Петровском Заводе японцы «купили» 15 тысяч пудов чугуна по 8 рублей за пуд, хотя стоил он тогда в пять раз дороже.
Японский штаб захватывал в городах самые лучшие здания «для военных целей», и тут же передавал за немалую плату торговцам. Для них в воинских поездах контрабандой перевозились всевозможные товары.
Помощь белогвардейцам японцы оказывали не бескорыстно. Отгружая винтовки, пушки и пулеметы, они сразу запрашивали, в какой срок, «по возможности кратчайший, будет произведена оплата». И после всего этого Семенов нисколько не стеснялся давать такие телеграммы: «Приказываю всем подчиненным мне лицам оказывать должное внимание и полное содействие войскам бескорыстно дружественной нам благородной до конца, верной своему слову союзницы Японии».
Впрочем, оплату в кратчайший срок требовали не только японцы. Американцы вручили Колчаку сотни тысяч винтовок, тысячи пулеметов, миллионы патронов, пушки, солдатские башмаки, броневые поезда. Немало оружия прислали и Англия с Францией. Но за все это они в течение только одного года получили от Колчака десять тысяч пудов чистого золота — сто шестьдесят тонн! За кровь, которую заграничные капиталисты помогали проливать в России, они получали чистоганом!
Десять тысяч пудов золота было добыто в Забайкалье за сорок пять лет. За него были пролиты реки пота и крови, а на забайкальских сопках выросли тысячи крестов. Теперь это золото уплывало за границу. А полученное за него оружие снова сеяло смерть.
«Сердобольные» американцы в 1921 году привезли на Дальний Восток в помощь русскому народу 9 пудов макаронов и вермишели, 22 пуда грибов и 10 тысяч пудов жевательной резинки. А вывезли через Владивосток 8 миллионов беличьих, сурковых, горностаевых и колонковых шкурок, миллионы пудов сучанского угля. В Америку отправляли даже станки и моторы, которые расторопные «благодетели» снимали с фундаментов и грузили на пароходы.
САМОЗВАНЕЦ РВЕТСЯ К ВЛАСТИ
Атаман Семенов, распродававший Забайкалье, словно купец свои товары, был забайкальским казаком. И не просто казаком, а кулаком: на семью Семеновых работала почти вся станица Куранжа. Дядя атамана был генералом, а сам атаман — есаулом.
Забайкалье знало многих палачей: Разгильдеева, Бородулина, Головкина. Оно знало Ренненкампфа и Меллер-Закомельского. Но Семенов оказался страшнее всех. Полвека прошло с тех пор, а старики все еще не могут вспоминать о нем без содрогания.
Самый точный портрет атамана оставил встречавшийся с ним английский полковник Джон Уорд. «Семенов, — писал он, — человек среднего роста, с широкими четырехугольными плечами, огромной головой, объем которой еще больше увеличивается плоским монгольским лицом, откуда на вас глядят два ясных, блестящих глаза, скорее принадлежащих животному, чем человеку. Вся поза у него… подозрительная, тревожная, решительная, похожая на тигра, готового прыгнуть, растерзать и разорвать…»
Американский генерал Гревс вспоминал о нем так: «В сентябре ко мне явился также Семенов, оказавшийся впоследствии убийцей, грабителем и самым беспутным негодяем. Семенов финансировался Японией и не имел никаких убеждений, кроме сознания необходимости поступать по указке Японии. Он всегда оставался в поле зрения японских войск, он поступал так потому, что не мог бы продержаться в Сибири и недели, если бы не опирался на поддержку Японии».
Уж если так говорили союзники Семенова, то можно себе представить, что это было за чудовище!
С фронта Семенов попал в Петроград в дни двоевластия на казачий съезд. Там ему, Дутову, Калмыкову и Унгерну Керенский дал приказ набрать новые казачьи отряды для войны с немцами. Но произошла Октябрьская революция, и на деньги, выданные Керенским, Семенов стал набирать войска для борьбы с Советской властью. Его заметили иностранцы, и с их помощью он быстро сформировал белогвардейский отряд.
Первое, что сделал Семенов, захватив станцию Маньчжурию, — уничтожил там Совет рабочих депутатов. Когда из Читы его запросили: правда ли, что все члены этого Совета повешены, он по телеграфу разъяснил: «Не повешены, а расстреляны». А вслед за телеграммой прислал в Читу опломбированный вагон с их изуродованными телами.
Выступил Семенов против Советской власти не сам по себе. Такие выступления планировались за границей. Вот почему одновременно с ним объявил войну Советской власти Каледин — на Дону, а Дутов — в Оренбурге. После захвата Читы Семенов должен был двинуться на Иркутск и Красноярск, чтобы соединиться с ними.
Все обиженные Советской властью спали и видели во сне своего избавителя — атамана. Разве по пути с Советской властью было, скажем, чиндантскому казаку С. Шестакову, который имел двадцать тысяч голов скота и пятьдесят батраков? Он готов был отдать половину своего богатства, лишь бы не лишиться всего.
Таких в Забайкалье было немало. Они шли в семеновские войска добровольно, да еще и подбивали к этому своих односельчан. А тех, кто был победнее и не хотел идти в белую армию, Семенов забирал насильно, так что его армия в конце концов стала довольно многочисленной.
После того как под ударами чехословаков в Забайкалье и Приморье пала Советская власть, Семенов обосновался в Чите вместе с японцами.
В царской армии Семенов был есаулом, а тут взял да и объявил себя командующим армией, генералом. Даже видавшие виды белогвардейские генералы и те возмутились. «Семенов, самовольно именуя себя командующим отдельной восточно-сибирской армией, ничьей властью или приказом правительства в этой должности не признан», — заявил колчаковский генерал Волков.
В ответ на это атаман Семенов «не признал» власть адмирала Колчака. А Колчак написал приказ о предании Семенова военно-полевому суду за «государственную измену». Особенно Колчак не мог простить Семенову того, что тот перехватил в Чите два вагона с золотом, которые Колчак отправил в Америку. Он приказал генералу Волкову выступить из Иркутска и «привести в повиновение всех не повинующихся верховной власти, действуя по законам военного времени». Но тут японцы заявили, что они не допустят военных действий в районе расположения их частей. Они нежно любили атамана (мы уже видели, за что) и всячески оберегали его.
Когда Красная Армия вышибла адмирала Колчака из Омска, он погрузил украденные в Казани остатки золотого запаса России в эшелон и двинулся на восток.
В тот день, когда стало ясно, что дальше ехать некуда — в Иркутске восстали рабочие, — к Колчаку в вагон явился гонец Семенова полковник Сыробоярский.
Он потребовал, чтобы «верховный правитель» официально назначил Семенова главнокомандующим всеми дальневосточными силами. Семенов уже возомнил себя русским Наполеоном и считал, что его незаслуженно обошли. (Скромность вообще была ему чужда. Сколько в его армии насчитывалось полков и отрядов его имени — не перечтешь. Я собственными глазами видел приказ, в котором Семенов писал: «Учредить при Читинском военном училище военный фехтовальный гимнастический моего имени зал». На бронепоездах по его приказу был намалеван лозунг: «С нами бог и атаман!» Себя он величал не иначе, как великим князем Монголии, кавалером ордена пророка Магомета.)
Семенов ожидал приказа о своем повышении. А Колчак раздумывал. Наконец он возмущенно сказал:
— Это вымогательство! Так назначения не делаются.
Но через день полковник явился снова.
— Ваше превосходительство, для меня неожиданностью была высказанная невозможность немедленного осуществления с часа на час ожидаемого атаманом назначения. Сильнее, чем атаман Семенов, никто не ненавидит большевиков!
Тогда адмирал предложил Семенову сначала сдать «экзамен». Он послал ему телеграмму, чтобы тот занял Иркутск. Но Семенов ответил, что «оздоровить» Иркутский округ он сможет лишь тогда, когда ему будут подчиняться все вооруженные силы Дальнего Востока. Колчак вынужден был подписать приказ о присвоении самозванцу звания генерал-лейтенанта и назначить его главнокомандующим всеми вооруженными силами на востоке страны (своей армии у Колчака уже не было). В порыве благодарности Семенов хотел выручить из беды адмирала и послал под Иркутск войска. Но его части были разбиты рабочими, а сам адмирал вместе со всем золотом попал в их руки и через месяц был расстрелян.
ШКОЛА ИНКВИЗИЦИИ
Вагон с трупами расстрелянных, присланный Семеновым в Читу в первые дни вторжения, был лишь вступлением. Заняв Читу, атаман наладил в Забайкалье такой конвейер смерти, до которого фашисты додумались только через четверть века. Арестованных подвозили к местам расстрелов беспрерывно. Иногда их привозили на специальных поездах. Иногда…
Впрочем, давайте лучше послушаем очевидцев. Американский полковник Морроу писал в «Нью-Йорк трибюн» об одном эпизоде на станции Андриановна: «Пленники, наполнявшие целые вагоны, выгружались, затем их вели к большим ямам и расстреливали из пулеметов… Апогеем казни было убийство за один день пленных, содержавшихся в 53 вагонах, всего более 1600 человек. Степанов[1] говорил, что он не может заснуть, если не убьет кого-нибудь в этот день».
Вот подлинная телеграмма Семенова полковнику Тирбаху: «В связи с событиями на Забайкальском фронте сегодня ночью будут расстреляны все большевики Читинской тюрьмы. Прикажите в указанном вам месте — Маккавеевском и Туринском разъезде — рыть большие могилы. Привезены будут ночью. Расстрел произвести офицерам из пулеметов».
Жительница станции Маккавеево, Акулина Ивановна Щукина, была свидетельницей многих казней. Несколько лет назад она со слезами рассказывала мне: «На станции все время стояли вагоны смерти. Оттуда каждый вечер комендант Гранит выводил арестованных, некоторые из них были в кандалах. Вел он их в баню купца Китаевича — там их «судили». А потом выводили за порог и на куски рубили шашками».
Некто Н. П. Даурец опубликовал в 1923 году в Харбине «Записки очевидца». В них он рассказывал о таких же казнях: «Рубили во дворе, где жил капитан Попов… Делалось все это, конечно, ночью… Тех, кого рубили, когда они умирали, увозили на Ингоду и спускали в прорубь, а тех, кого расстреливали, — в санки и бросали на съедение волкам. Но расстреливали редко: жалели патроны, а рубкой прямо-таки увлекались, некоторые учились и даже до виртуозности».
В одном только Маккавеевском застенке было расстреляно, зарублено, сожжено и утоплено пять тысяч человек. А таких застенков было у Семенова одиннадцать.
Ребята из первой Карымской школы записали для своего музея рассказ участника партизанского движения в Забайкалье А. И. Забелина.
Когда до села Верхняя Талача донесся слух, что в Урульге состоится конференция, на которой выступит Сергей Лазо, Александр Забелин решил поехать туда, посмотреть на прославленного командира.
После конференции красногвардейцы ушли в тайгу, а талачинцы подались домой. Через несколько дней в село приехали семеновцы. Местный кулак Егор Забелин выдал им описок красногвардейцев. Семеновцы схватили всех, числившихся в этом списке, в том числе и Александра Забелина, и повезли сначала в Урульгу, а затем в Зилово. В Зилово всех заключенных высадили из поезда и погнали к вагону, что стоял в тупике. Около него арестованные переглянулись: на песке и на подножках виднелась кровь.
— Давай, давай, — подтолкнул Александра прикладом белобрысый семеновец. — Вишь, за тобой очередь какая!
Посреди вагона стоял окровавленный топчан, рядом толпились шестеро верзил с засученными рукавами и кусками стальной проволоки в руках.
Из глубины вагона выступил человек в белом халате. Оказалось, что это врач. Он бегло осмотрел Забелина и «поставил диагноз»:
— Сто пятьдесят выдержит!
Александра положили на топчан и стали бить. Вскоре он потерял сознание, но это не остановило палачей. «Отмерив» ровно сто пятьдесят ударов, его выбросили из вагона. К счастью, ночью на него наткнулся знакомый кондуктор. Он доволок Забелина до поезда, втолкнул и увез с этой кровавой станции…
Такие порки семеновцы устраивали почти в каждом селе и поселке.
Когда мне приходится проезжать Курунзулай, я каждый раз вспоминаю трагедию этого села.
После падения Советской власти в Забайкалье, сюда нагрянули семеновцы и японцы. Один из карателей, молодой хорунжий, велел согнать всех жителей в школу. Он взялся прочитать им лекцию «Большевики и ты». Начал он с того, что все беды на земле от большевиков. Именно поэтому великий атаман Семенов не ест, не пьет, все думает, как избавить от них народ. Японцы — преданные друзья. Они беспокоятся о нас и приехали, чтобы помочь нам.
После такого вступления хорунжий потребовал, чтобы жители сдавали оружие. Все молчали. Среди слушателей сидел партизан Макар Якимов. Он хранил пулемет как раз в этом классе под полом и сегодня должен был доставить его партизанам.
После паузы хорунжий взял список и стал выкликать бывших красногвардейцев. Когда он назвал фамилию Макара Якимова, зал вздрогнул. Но к партизану никто не повернул головы.
— Нету, в бегах! — наконец ответил кто-то. Все облегченно вздохнули.
В этот вечер, прямо тут же, в школе, одного человека семеновцы выпороли. Двоих арестовали и отправили в тюрьму. А ночью Макар Якимов привел в село партизан. Над офицерами-карателями наутро устроили суд. В трибунал вошло и несколько пленных казаков.
— В Нарзаводе вы приказали подпалить дома, — напоминали они. — В Кайластуе велели забрать скот, Каратели были расстреляны. Но едва партизаны ушли, как в село снова нагрянули белые. Они заставили стариков вытащить трупы расстрелянных из шахты и перетащить в село. Потом велели снарядить обоз для их перевозки. Когда обоз был снаряжен, они выпрягли лошадей, а вместо них впрягли в телеги стариков и приказали везти трупы в Борзю, чтобы отправить потом в Читу. Все два дня, пока шел этот обоз в Борзю, палачи избивали стариков плетками. Лишь на пятые сутки, едва живые курунзулаевцы добрались до дому.
С тех пор белые частенько навещали это село.
— Что, дед, хочешь: сто плетей или заряд свинца? — спросил как-то один из офицеров деда Якимова.
— Стреляйте, злодеи, и будьте вы прокляты! — ответил дед.
Якимова расстреляли.
Потом так же расстреляли престарелого Васильева.
Потом еще и еще.
За белыми нагрянули японцы. Они тут же перепороли всех «подозрительных», а семьдесят «несомненных большевиков» приготовились расстрелять. Среди них было много подростков и стариков. Их уже повели за околицу, но тут женщины, забыв про страх, бросились к сыновьям. Старики, приговоренные к расстрелу, легли на землю. Ребятишки подняли вой.
С большим трудом навели оккупанты «порядок». Согнав жителей на кладбище, они снова приготовились к расстрелу. Но тут за селом вдруг разорвался снаряд, потом другой, третий. Это на помощь курунзулаевцам пришли партизаны.
Японцы, уничтожив продукты и запалив семнадцать домов, скрылись. С тех пор, когда бы в этом селе не появились партизаны, их всегда встречали, как родных. Им отдавали последний хлеб, последнее сало, последнюю картошку.
Так наводили «порядок» семеновцы и японцы. Они возродили инквизиторские пытки, да еще и добавили к ним свои, семеновские. В этом нетрудно убедиться, если посмотреть один из документов тех лет — воззвание комитета помощи населению Забайкалья:
«Тысячи наших братьев замучены, запороты, расстреляны. Не щадились старики, беременные женщины, малые дети. Сопки Маккавеевой и пески Даурии белеют от костей наших родных и близких. В застенках Читы гниют наши друзья…
Вспойните, какие зверские муки применяли семеновские палачи к нашим братьям:
1. Их пороли, подсаливали и снова пороли.
2. Поджаривали и пороли.
3. Отбивали мускулы шомполами.:
4. Кровь от порки сливали в рот избиваемому.
5. Отсекали шашками пальцы, отсекали руки и ноги.
6. На дыбе выворачивали руки из суставов.
7. Накачивали в желудок воду.
8. Вбивали под ногти гвозди.
9. Зарывали живыми в землю.
10. Сжигали живыми на кострах.
11. Морили медленно голодом.
12. Морозили голыми в снегу».
Семеновцы, пожалуй, перещеголяли «святую инквизицию».
ЦЕРКОВЬ СНИМАЕТ МАСКУ
Когда Семенов занял Забайкалье и въехал в Читу, во всех церквах были отслужены благодарственные молебны. Семенов не остался в долгу: он велел выдать «наместникам бога» десять тысяч рублей золотом. С этой минуты церковь (хоть она и проповедовала «не убий») стала до небес превозносить кровавого атамана, которого даже союзники называли бандитом.
Раньше священники только сопровождали партии несчастных узников на каторгу и присутствовали при казнях, а теперь стали сами препровождать людей на тот свет: в создаваемых полках «Богородицы» и «Иисуса» они становились командирами.
Во время коллективизации попы будут яростно выступать против колхозов, называя их сатанинским делом. А пока в Читинском епархиальном совете они пригрели семеновскую контрразведку.
История помнит, как священник Подгорбунский вызвал в свое село Верхнюю Тургу карательный отряд. Он выдал карателям учителя Афанасия Размахнина и его друзей. Когда учителя стали бить плетьми, священник суетливо приговаривал: «Мочите плеть-то, больнее будет!»
В тот год, когда Семенов занял Читу, перед рождеством из Японии пришли подарки: материя, белье, сахар и мыло (надо же было показать «широту души»). Все это выдавалось не где-нибудь, а в архиерейском доме и епархиальном складе. Долго потом в церквах на все лады превозносили доброту оккупантов. И заодно призывали к поголовному уничтожению большевиков.
Попы стали использовать, как это было до революции, тайну исповедей для доносов.
Епископ Мелетий (он потом бежал в Маньчжурию вместе с Семеновым и еще много лет брызгал оттуда на нас слюной) составил специальное обращение к «православным чадам забайкальской епархии». Он призывал верующих «соединиться в одну сплоченную боевую силу для борьбы с большевиками и партизанами» и утверждал, что белогвардейцы «исполняют заповедь Христову».
Мусульманская община Читы наградила Семенова орденом Магомета и преподнесла приветственный адрес. В этом адресе убийца и бандит именовался вдохновителем культуры и просвещения всех наций России.
Еврейские раввины Читы и других городов сформировали для Семенова особую роту.
Иерусалимский патриарх наградил Семенова за «подвиги» «Большим золотым крестом на александровской ленте с подлинной частицей живородящего древа господня». Он же присвоил ему звание кавалера святого гроба господня.
Бурятские ламы тоже сформировали отряд в помощь Семенову. Дацаны они превратили в опорные пункты по борьбе с партизанами. Бандидо-Хамба-лама Церемпилов (главный лама) объявил Унгерна и Семенова живым воплощением грозного докши-та-махакалы. А ламы восклицали: «Мы, ламы, усердно молимся богу о даровании тебе долгих дней жизни на земле. В молитве не оставим мы тебя, а на деле ты не позабудь нас».
В эту крутую минуту истории церковники окончательно сорвали с себя маску. Теперь всем стало видно, что для них нет ничего святого, что они готовы пойти на любое преступление, лишь бы не лишиться своих доходов.
Недавно один западногерманский писатель — Гюнтер Воллраф — разослал священникам и богословам письмо, в котором писал, что к нему обратились американцы (он выдал себя за промышленника) с заказом на сырье для напалма. Этот напалм нужен для бомб, которые они бросают во Вьетнаме.
«Эти бомбы страшнее фосфорных. Их нельзя погасить. Я видел фотоснимки детей, жертв напалма. Это самое страшное, что можно себе представить». Дальше писатель спрашивал, как ему быть: «Должен ли, могу ли я принять заказ — ведь тем самым я содействую этой войне»?
«Американцы должны были еще во время корейской войны использовать в профилактических целях атомную бомбу. Вообще-то теперешняя война гуманна. То ли было в средние века. С богом!» — ответил профессор богословия Шёлген из Бонна.
Другой профессор, теолог из Мюнхена, написал: «Во-первых, цель, для которой напалм будет использован, совершенно благая. Во-вторых, напалм является тем, что принято называть обычным оружием, следовательно, и ведущаяся с его помощью война — это обычная война. В-третьих, если вы откажетесь его изготовлять, то кто-нибудь другой все равно согласится».
Прошло, как видите, 50 лет, а церковь все так же жаждет крови.
КОГДА СТРЕЛЯЮТ ПАЛКИ
В то время как попы молились за «спасителя» Семенова, купцам возвращалось награбленное ими имущество, промышленникам — фабрики и прииски, кулакам — посевы и покосы.
В Забайкалье возвращалась старая трудная и беспросветная жизнь.
Но чем больше наглел враг, тем больше росло чувство возмущения и протеста против унижений и издевательств. Рабочие и крестьяне уходили в тайгу, формировали партизанские отряды и начинали вооруженную борьбу. Гражданская война развернулась по всей стране — от Балтийского моря до Тихого океана. Ведь интервенты и белогвардейцы были не только в Забайкалье. Они лезли на молодую Советскую республику со всех сторон.
Армии Колчака, Юденича, Врангеля, Семенова, отряды Каледина, Дутова и других были вооружены до зубов и одеты с иголочки. Войскам Юденича, шедшим на Петроград, Антанта выдала 100 000 пар только одних сапог. А рабочие и крестьяне, вставшие на защиту своей власти, нередко имели одну винтовку на пятерых. О сапогах они не мечтали: хорошо, если были лапти.
Враги недоумевали: почему в боях побеждали не они, а раздетые, разутые и почти что безоружные рабочие и крестьяне?
Один из министров того времени записал в своем дневнике: «Нечто фатальное — провидение за большевиков. Любой Дыбенко, не говоря о Буденном, прошел бы триумфальным шествием в Петроград с такой горстью храбрецов, какая была у Юденича, так полно и прекрасно снабженной».
Большевики воевали почти голыми руками. Забайкальским партизанам из-за недостатка оружия приходилось пускаться на всякие хитрости: в их умелых руках и палки стреляли. Когда можно было купить оружие за границей (но это бывало редко), они отправлялись в тайгу мыть для уплаты золото.
Взрывчаткой для мин их снабжали черновские шахтеры. На каждую забуренную скважину выдавалось по динамитному патрону. Но они заряжали не все скважины и у них оставались лишние.
В Чите большевики под носом у семеновской контрразведки развернули сбор оружия, привезенного с фронта. Они ставили винтовки в валенки стволами вниз и проносили их, прикрывая шубами. Им даже удалось вывезти пулемет из дома, в котором стояла конвойная команда.
На местах старых стрельбищ партизаны перекапывали землю в поисках пуль.
В мастерских и депо пули отливали из баббита, а гильзы после боя партизаны сдавали по счету.
Иногда им удавалось сделать «бетонопоезд»: бетонировали стенки обыкновенных вагонов и устанавливали в них пушки. А подчас для устрашения врагов устанавливали на платформах обыкновенные телеграфные столбы и покрывали их чехлами так, что они походили на орудия.
Сковородники и ухваты кузнецы перековывали в пики.
Бутылки и банки, заряженные пироксилином и обрезками железа, сходили за гранаты.
Но большую часть оружия партизанам приходилось добывать в бою — винтовки, пулеметы, пушки и даже танки и бронепоезда.
Когда амурские партизаны двинулись на помощь забайкальским, командир одной из бригад (П. Фадеев) попросил у командования немного оружия и одежды. Не имея ни того, ни другого, командующий войсками фронта С. Серышев написал такой приказ:
«Приказываю: не посылать слезные послания тогда, когда вся наша воля должна быть направлена к одному знаменателю — победить, хотя бы без сапог и винтовок.
Это мой последний приказ: если нет сапог — нужно достать их у противника, если нет патронов — нужно разбить противника и достать таковые, чтобы у него ничего не было, иначе мы не будем достойны имени коммуниста. Вперед! Никаких гвоздей!»
БЫЛЫРА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В КРЕПОСТЬ
Есть на юге Забайкалья два села: Былыра и Кулинда. Люди в этих селах гостеприимные, как, впрочем, и в любом забайкальском селе. И такие же скромные. Можно несколько раз побывать там, но так ничего и не узнать о героическом прошлом былыринцев и кулиндинцев. А когда повстречаешься с деревенскими стариками и старухами, ни за что не подумаешь, что из-за них Семенов провел в те времена не одну бессонную ночь.
В Былыре и Кулинде не было ни радио, ни телефона. Газеты попадали туда случайно. Но весть о революции дошла быстро. Бедняки радовались. Кулаки приуныли. А когда в Кулинду вернулись с фронта братья Карелины, только и разговоров было, что о новой власти.
Однофамилец фронтовиков дед Карелин был раньше начетником, днем и ночью молился богу. А теперь и про бога забыл, ударился в политику. Где спорят — там и дед. Подставит лодочкой ладошку к уху, слушает. А то и сам в спор влезет, доказывает что-то, руками размахивает.
Дед Шацкий пристрастился к газетам. Сам он грамоты не знал, как и большинство односельчан, но каждый день заглядывал в писарскую избу. Если не было свежей газеты, просил перечитать старую.
— Вот времена настали, язви ее! — добродушно ворчал дед. — Однако, хочь садись да буквавки изучай. Это, значит, чтоб в другой раз тебе не кланяться насчет чтения.
Особенно радовался дед сообщению, в котором говорилось, что богатые теперь должны продавать бедным семенной хлеб по твердым ценам.
— Ну, кажись, съели Лифановы фигу с маслом. Зачнут с меня вторую шкуру драть, а я им по носу газеткой: читай, язви ее! Али грамоту отшибло, как Советская власть про вас стала постановления пропечатывать?
А вскоре крестьяне, ездившие в Кыру, привезли печальную новость: Советская власть пала.
«Несколько дней назад, — рассказывали они, — в Кыру приехал есаул Филинов. Он мобилизует казаков в армию атамана Семенова».
Фронтовики и молодежь заволновались, заспорили, зашумели.
— Надо пойти проучить этого мобилизатора! — кричали одни.
— Эка храбрые — у него винтовки, а у нас пыхалки, — осторожничали другие. — А может, из ухвата в него стрелять будешь?
— Однако, хватит спорить, надо выступать, — чуть не зраз сказали дед-политик и дед-грамотей. (Так теперь стали звать Карелина и Шацкого). Ежели вам, мужикам, страшно, мы пойдем с бабами.
Мужчины пристыженно замолчали. Тут же было решено выступать на Кыру вечером, чтобы к утру быть уже там.
Вооружившись кто охотничьими берданами, а кто и допотопными кремневками, выступили в путь. Вокруг Кыры, как всегда весной, горели леса. Поэтому шли как в тумане. Не доходя до Кыры стали стрелять вверх и кричать «ура», словно на приступ шла целая армия.
Казаки даже не пытались обороняться: они вскочили на коней и ускакали вместе с есаулом. А своему начальству доложили потом, что на них напал большой отряд с пулеметами и пушками.
Чтобы расправиться с «партизанской армией», напавшей на Кыру, Семенов двинул на юг Забайкалья карателей. В помощь им дали четырех японских пулеметчиков и двести пятьдесят человек из бурятского отряда Табхаева. Огромный карательный отряд стал готовиться к штурму двух маленьких безоружных сел.
В это самое время к Кулинде вышел потрепанный партизанский отряд Петра Аносова. Петр Аносов был в царской армии рядовым. После бунта в полку его отправили в Нерчинскую каторгу. А в 1917 году он возглавил Советскую власть в Акшинском уезде. Когда Забайкалье заняли семеновцы, Аносов ушел с партизанами в горы Алханая. Там их и окружили каратели. Теперь партизаны уходили от преследования.
— Как это уходить дальше? — возмутился приехавший из Былыры дед Шацкий. — Вы сюда пироги пришли кушать или воевать? Мы и то решили держать оборону.
— Одумайся, дед, — пытался урезонить его Аносов. — Красная Армия далеко, вокруг враги, наступления карателей зам не выдержать.
— Как не выдержать, язви ее? — не сдавался «грамотей». — Почитай, уже год как на охоту не ходим, с ружьями спим. Мы решили бесповоротно давать бой. А вы ежели боитесь — скатертью дорога, проводника дадим!
Партизаны остались. Вместе с жителями они стали укреплять село, выслали на дороги дозоры. Через несколько дней разведчики доложили, что каратели вышли из Кыры.
Былыринцы, кулиндинцы и партизаны залегли на сопке, на повороте в кустах спрятали засаду. Когда с ней поравнялся обоз, из кустов полетели бутылочные гранаты. Отовсюду зачастили выстрелы, кто-то подал команду несуществующей коннице: «Кавалерия, по коням!»
После минутного замешательства японские пулеметчики развернули пулеметы и открыли стрельбу по сопке. Но вскоре за их спиной раздалось «ура!» Это подползли фронтовики Карелины. Японцы, бросив пулемет, кинулись догонять отступавших казаков.
Многие из карателей вернулись в этот день в Кыру без оружия, полураздетые и обмороженные. Дед Шацкий подсчитывал трофеи: враги оставили на поле боя пулемет, несколько винтовок, патроны и гранаты. Правда пулемет не работал. Но через несколько дней удалось его наладить, и ликованию не было конца.
Однако в Кулинде оставаться было опасно. Она открыта со всех сторон. Пока шел бой, кому-то из табхаевцев удалось пробраться в село и поджечь один из домов. Решили всем вместе перебраться в Былыру — там на горах можно было хорошо укрепиться, — а здесь оставить заслон.
С этого дня Былыра стала настоящей крепостью. Вокруг села построили укрепления, привели в порядок оружие. Все продукты, которые были в селе, дед Шацкий взял на учет. Никто не смел выходить за околицу без его разрешения: со дня на день ждали нового наступления.
И вот как-то село было поднято по тревоге. Из Мордоя пришел избитый, окровавленный парень. Он рассказал, что семеновцы получили подкрепление и готовятся идти на Былыру. Его они арестовали за связь с партизанами и избили. Но из-под расстрела ему удалось бежать.
Ждать карателей пришлось недолго. Они появились буквально на другой день. Привыкшие «усмирять» безоружных мирных жителей шомполами и плетками, они не ожидали, что село может быть превращено в крепость. Когда они подошли совсем близко, из всех окопов и ячеек началась дружная стрельба, сбоку ударил пулемет. Каратели в панике повернули назад. Их на лошадях преследовали до самой темноты.
Было ясно, что каратели не успокоятся. В тыл белым решили отправить летучий отряд и позвать на помощь крестьян.
В этот отряд отобрали самых надежных ребят, дали лучших лошадей. Возглавил его опытный партизан Петр Аносов.
Ехали партизаны глухими дорогами, отдыхали в кустах. Когда выехали к Онону, увидели, что через реку не перебраться. В горах растаял снег, и она сильно разлилась.
Ночью добрались до села Нарасун. Огородами прошли к дому отца партизанского разведчика Дмитрия Трухина.
— Однако, сильные караулы на переправах, — сказал старик. — На ту сторону не перебраться. Наш перевоз охраняют пятнадцать казаков, командует ими Васька Трухин. Вот уж кулачина так кулачина: как пришли семеновцы — сразу к ним подался!
На берегу реки партизаны переоделись. Аносов стал есаулом, остальные — казаками. Когда подъехали к переправе, караул безмятежно спал. Аносов взял Трухина за ворот:
— Ты что это, вражина, — спать на посту? А вдруг красные? Шомполов захотели?
Перепуганный караул быстро вызвал паром с того берега. А Васька Трухин долго еще держался за челюсть: ух, и лют «есаул»!
В селе Шилибингуй партизаны провели собрание. Созвал его Роман Григорьевич Кондратьев. Два его сына были у белых, два у красных, сам он помогал красным.
Собрание прошло оживленно. Жители охотно согласились поддержать партизан. Но народу в селе было не густо, и с отрядом могли уйти только семь человек. Зато они были со своими винтовками и патронами. К тому же им. тоже дали лучших коней. Потом, в дороге, к партизанам присоединились еще двое. Они рассказали, что после собрания шилибингуйский староста помчался в Акшу с доносом, но его же там и выпороли.
На обратном пути ночевали в селе Ульхун-Партия, в самом добротном доме, опять нацепив погоны. (Каратели всегда останавливались в лучших домах).
Старуха, угощая чаем, допытывалась:
— Ну что: пымали ирода-то Аносова? Сказывают, по селам шастает, сничтожает, кто большаков выдает.
— Поймали, бабушка, куда он от нас денется, — старательно дул на блюдце Аносов. — Уже на тот свет отправили.
— И слава богу, соколики, — перекрестилась старуха. И на радостях поставила на стол большую кринку сметаны…
Новое наступление карателей снова удалось отбить.
В окопах рядом с мужчинами лежали женщины и подростки. Им отдали самые захудалые ружья — толку от них было немного, но шума достаточно. Охотников по очереди отправляли в тайгу на добычу. Мясо они приносили на всех.
Женщины ничего в эти дни не давали делать мужчинам по хозяйству: «Мы тут сами управимся, глядите, чтоб семеновцы не прискакали». Они частенько наведывались в штаб — может, надо идти в караул?
А подростков отправляли в сторожевое охранение.
Под защитой дозоров крестьяне убрали урожай.
После уборки дед-грамотей Шацкий опять стал подзуживать Аносова и Карелиных:
— Ну, и долго мы будем сидеть, как тарбаганы в норе, язви ее? Подумают, что мы пугаемся их. Надо идти в наступление!
Штаб отряда для начала решил совершить налет на Букукун. Партизаны подъехали к селу, обрубили провода на Кыру и заняли почту. В сторону Троицко-Савска полетела телеграмма, продиктованная Аносовым: «Букукун занят красными, снимаем аппарат, продвигаемся к Акте».
Когда кружным путем телеграмма попала к Семенову, атаман вышел из себя. «До каких пор будете валандаться с этой деревней? Немедленно взять!»— кричал он.
После налета на Букукун из села вдруг сбежали братья Лифановы.
— Ну, видно, тонуть нам, — нахмурился дед-грамотей. — Крысы с корабля побежали, язви ее. Надо ухо держать востро.
На общем совете решили драться до последнего, в плен не сдаваться. Парней послали рыть новые окопы. Дед Шацкий, кузнец Кобылкин и Аносов стали отливать пули, делать патроны. Карелины обучали мужчин стрельбе, ползанью, коротким перебежкам. Женщины вялили и сушили мясо на случай отступления, увязывали вещи. Работало все село.
И вот каратели — в который раз! — пошли в наступление. Встретили их ураганным огнем из окопов. С ближайшего к ним поста дед Шацкий со стариками что было сил закричали «ура». Семеновцы смешались, отступили. Но тут же открыли по селу стрельбу из пушек. Стреляли они зажигательными снарядами и метили точно в штаб: Лифановы дали подробную информацию.
Еще несколько раз в тот день семеновцы поднимались в атаку. Но каждый раз. поворачивали, не выдержав сильного огня. Дед-грамотей стоял на бруствере и кричал вслед отступавшим: «Ну что, выкусили, язви ее? Выкусили?»
Под вечер каратели угомонились, а на другой день все началось сначала. К вечеру партизанам пришлось оставить первую линию окопов. Патронов оставалось совсем мало.
На третий день семеновцы снова перенесли огонь на деревню. Женщины и ребятишки не успевали тушить горящие дома. А ночью лазутчики запалили село с другого конца. К утру половина домов стала головешками и углями, И отстреливаться было уже нечем: патроны кончились. Былыринцы и кулиндинцы с ребятишками, со скотом и имуществом поднялись в сопки, чтобы там дожидаться прихода Советской власти. А алханайский партизанский отряд, разделившись, ушел на Чикой и в станицу Кусочинскую.
…Через несколько месяцев жителей Былыры и Кулинды все-таки разыскал отряд барона Унгерна. Двенадцать мужчин были зарублены, женщины опозорены, оставшиеся дома сожжены.
НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ
Воевали забайкальцы с оккупантами не только в партизанских отрядах, но и в большевистском подполье. У тех и других жизнь каждую минуту висела на волоске. Семеновская контрразведка любого заподозренного в связях с партизанами и подпольем мучила, пытала, бросала в тюрьмы.
В Благовещенске провокатор выдал первого председателя Читинского облисполкома И. Бутина. Его привезли в Читу и расстреляли. Иван Афанасьевич умер достойно. Перед смертью он написал письмо: «Я совершенно спокоен. Смотрю в последний раз на заходящее солнце и благословляю жизнь. Знаю, глубоко верю, что она будет такой же яркой и светлой, как это солнышко».
В Маньчжурии были арестованы бывшие красно-гвардейские командиры Фрол Балябин и Георгий Богомягков. Их этапировали в Благовещенск, и обрадованный Семенов послал туда специальный бронепоезд с приказом перевезти их в Маккавеево и заживо сжечь.
В вагоне смерти был замучен В. Серов, который в свое время отбывал каторгу в Горном Зерентуе. После Октябрьской революции он возглавлял Совет рабочих депутатов в Верхнеудинске. В Урульге был расстрелян командир Копуньского полка большевик П. Атавин, в Чите — член ВЦИКа, комиссар труда А. Вагжанов, старый большевик, командир канского отряда X. Гетоев и сотни других героев.
В Чите подпольщикам приходилось особенно трудно. Здесь была ставка атамана Семенова и весь «цвет» его контрразведки. Здесь чуть ли не каждый житель был взят на подозрение. По улицам шныряли бесчисленные патрули, обыскивая всех встречных. Палач Валяев не расставался с плеткой. Он избивал людей прямо на улице, а иногда и расстреливал походя, просто так. Уже одна его фамилия наводила ужас на население..
Но никакие пытки, никакие расстрелы и тюрьмы не могли сломить духа революционного подполья.
Сейчас трудно установить, кто входил в-эту крепкую и разветвленную организацию. Каждый из ее членов во избежение провала знал только двух-трех человек. И если встречался с ними на улице, не имел права даже здороваться.
Несколько лет назад участник гражданской войны Козлов прислал в Читу письмо. В нем он упомянул об арестованном в те годы большевистском штабе. Так подпольщики впервые узнали, где он находился. Штаб был строго засекречен. Несмотря на это, контрразведка сумела его выследить. Почти все его члены погибли. Сейчас остались лишь некоторые свидетели их ареста.
Историкам еще предстоит шаг за шагом восстановить имена героев большевистского подполья. А пока мы располагаем лишь отрывочными сведениями о нем.
Известно, что подпольной работой в Чите-первой руководили Семен Сетянов, Губаревич (Иван Радо-быльский) и другие. По поручению Дмитрия Шилова для связи в Читу с Амура приходил Иван Вологдин. Медсестры Ксения Загибалова, Марионелла Ворби и Елизавета Куликова доставали медикаменты и передавали их партизанам. Были свои подпольные группы на Черновских копях, в железнодорожных мастерских. Но работали все они разобщенно. Надо было собрать революционные силы в кулак. И вот уже через четыре месяца после вступления семеновцев в город сюда был направлен бывший секретарь областного Совета Александр Петров.
Петров сумел хорошо наладить работу. Он установил связь с Иркутском, Верхнеудинском, Красноярском. К нему на совещания приезжали бывшие командиры красногвардейских отрядов. Он посылал связных в село Верхнюю Талачу, где Иван Бурдинский организовал первый в Забайкалье партизанский отряд.
Петров был опытным подпольщиком. Но семеновская контрразведка обладала поистине собачьим нюхом. Через несколько месяцев после его приезда в селе Татаурово в зароде сена нашли велосипед. Своими его никто не признал, и контрразведка предположила, что на нем приезжали подпольщики Читы для связи. Нашли хозяина велосипеда, жителя Читы-первой, Василия Миронычева. К нему подослали агента-провокатора Куликова. Тот пришел якобы за динамитом для рабочих и увидел постороннего. К вечеру дом был оцеплен. Что было дальше — видно из рапорта начальника семеновской милиции, захваченного при отступлении белых.
«Как только есаул Сипайлов вошел в дом Миронычева, то из темной комнаты в него было произведено несколько выстрелов, после чего милиционеры, оцеплявшие дом, открыли стрельбу, и двумя пулями был убит преступник Петров, бросившийся бежать из дома. Хозяин квартиры — Миронычев был убит в 10–15 саженях от дома одной из пуль. Преступник ранил в щеку помощника Алина. В связи с настоящим делом задержаны жена и две дочери Миронычева…» у О судьбе жены и дочерей Миронычева рапорт умалчивает. А ждало их вот что. Всех троих палачи связали проволокой и спустили в подвал дома, где орудовала контрразведка. Потом спустили туда старшего сына Миронычева — Александра, который пришел разыскивать мать. Через день привели младшего — Василия, ездившего в Татаурово.
Долго их мучили и пытали, требуя выдать читинских подпольщиков. И, ничего не добившись, всех пятерых расстреляли в Сухой пади.
После смерти Петрова подполье продолжало бороться.
В те дни на читинских улицах нередко можно было встретить высокую фигуру военного фельдшера. Это был известный впоследствии хирург Александр Ильич Бурдинский. (Бурдинские, как мы уже знаем, заложили Завитую.) Командир первого партизанского отряда Иван Бурдинский был его родственником. Александр же Бурдинский служил в армии, работал в военном госпитале и особых подозрений не вызывал.
Никто не знал, что у этого фельдшера хранятся десятки чистых бланков с печатями и подписями старост сел Елизаветино, Баян-Дарги и Тыргетуя. Никто вне мог даже предположить, что по ночам в баню Юшина, жившего на Кабанской улице, доставлялись больные партизаны. Оттуда их тайно переправляли в городскую больницу, снабжали фиктивными справками, лечили, а потом таким же путем возвращали в партизанские отряды.
Но нужнее всего в то время были медикаменты. Бурдинский ухитрялся выписывать их, получать на складе, покупать, экономить. И медикаменты все время шли от него к партизанам. Свои люди работали у большевиков и партизан повсюду. Кто-то из них пробрался в больницу, куда положили палача Валяева, и пристрелил его прямо в палате.
Кто-то освободил из Маккавеевского вагона смерти, что было, кажется, совершенно невозможно, комиссара Маккавеевского партизанского отряда Георгия Бурдинского, брата отважного фельдшера, Наутро полковник Тирбах арестовал чуть не половину своих палачей, но ничего не добился. Однако было несомненно, что освободили комиссара не посторонние: охрана вагонов была непробиваемой.
Один раз партизаны проиграли бой, потому что их трофейные патроны не стреляли. Делали эти патроны в Чите для семеновцев — и тут не обошлось без большевистского подполья.
В Чите на улице Красноярской в деревянном домике живет сейчас Михаил Данилович Краснопеев. Мало кто знает, какой это герой: человек он скромный и рассказывает о прошлом очень скудно. А в те времена он выполнял важные поручения и постоянно находился на волосок от смерти.
Михаил Данилович разыскал меня в прошлом году, чтобы рассказать о моем отце. Своим рассказом он лишь чуть-чуть приоткрыл тайны подполья — большего он не знал сам.
Когда в Забайкалье пришли семеновцы, они мобилизовали в свою армию и Краснопеева. Михаил Данилович, как и его отец, был кузнецом. Его определили в оружейную мастерскую старшим. Кроме него, там было четыре солдата и три пленных немца. Солдаты были настроены явно против Семенова. И Михаил Данилович однажды сказал им:
— Вот вам мешки, поезжайте со стариком за углем. (Древесный уголь им выжигал один кручининский дед.) Он знает что делать дальше.
Оружейник выдал солдатам винтовки — якобы для охоты, а Михаил Данилович положил в сани ящик с гранатами.
Так партизанский отряд пополнился четырьмя бойцами. А Михаила Краснопеева семеновцы отправили в Борзю. Но он с полпути бежал вместе с Андреем Зиминым и устроился писарем к воинскому. начальнику в Чите. Вскоре на вечеринке в доме Юзи Пиотрович-Кондратьевой по Бульварной улице Михаила познакомили с человеком «оттуда». Это был гонец краснознаменной 5-й Армии, разбивщей Колчака.
«Человек оттуда» дал Михаилу инструкции, и Краснопеев начал действовать. Он принимал у себя гостей «с той стороны», а потом провожал их за Ингоду, в лес. В городе они встречались со своими людьми, давали установки, получали нужные сведения.
Несколько раз приходил и тот человек. Однажды с Михаилом он ходил на явку в каменный дом по улице Красноярской. В другой раз Михаилу удалось добыть для него очень важные сведения: фамилии офицеров всей воинской части. Он их выписал из продовольственной книги. Потом по количеству офицеров и их чинам удалось установить численность этой части.
Когда впоследствии 5-я Армия пришла в Читу, Михаила вызвал к себе работник политотдела Василий Иванович Панфилов. (Спустя 21 год, зимой 1941 года дивизия, Которой командовал В. И. Панфилов, отличилась в боях с гитлеровцами под Москвой, Подвиг двадцати восьми героев-ланфиловцев вошел в историю Великой Отечественной войны.)
— Откуда вы знали такую уйму офицеров, как были с ними связаны? — удивленно спросил он. И когда узнал о продовольственной книге, долго смеялся.
Однажды тот человек вместе со своими двумя товарищами чуть не попал за Ингодой в лапы японского разъезда. Они уже приготовились отстреливаться, чтобы не даром отдать свои жизни, но разъезд в последнюю секунду свернул в сторону.
Тем человеком был мой отец. В то самое время, когда он ходил на связь, его брат умирал под Могзоном, тяжело раненный в грудь.
Но связные, рискуя жизнью, приходили в город и уходили. А вот те, с кем они были связаны и кто оставался в Чите, каждую минуту подвергались опасности. И, конечно, среди них было немало таких же отважных разведчиков, какими в Отечественную войну были Кузнецов, Рихард Зорге и другие. Надо обязательно восстановить по крупицам события тех дней и выявить имена героев.
КОНЕЦ БЕЛОЙ КОСТИ
«Все содействующие большевикам будут строго наказаны. Смотрите, если присоединитесь к большевикам, вам придется раскаяться!» — возвещали японские приказы.
«Все агитирующие против нас… будут рассматриваться как враги отечества и с ними будет поступлено по законам военного времени», — грозил из Даурии особоуполномоченный французской военной миссии майор Ричард Ирвинг.
«Объявить казакам, что в случае бегства их к красным, из семей изменников будет расстреливаться старший член семьи. Все бежавшие к красным лишаются земельных наделов, вычеркиваются из списков войска и как изменники расстреливаются», — объявлял атаман Семенов.
Ничего не помогало! Насильно мобилизованные в белую армию переходили к партизанам. Рабочие одинаково ненавидели и французских, и японских оккупантов, и семеновцев.
В селах, городах и поселках появлялись самодельные листовки:
«Уважаемые граждане!
С добрым утром! Вы все еще спите?
Встаньте, проснитесь, протрите ваши глаза, посмотрите, кто вы были до микадо-гришкинского[2] ига и кем вы стали теперь!
Голодные, оборванные, больные, живете точно на кратере вулкана — всюду гонимые и преследуемые».
Управляющий Акшинским уездом растерянно доносил: «Неблагонадежно население западной части уезда, вследствие приверженности населения к большевизму. Шайки грабителей красных находят приют у самого же населения, а поэтому они неуловимы».
Когда писался этот рапорт, «грабители красные» в 1-м летучем партизанском отряде записывали в протоколе совещания командиров: «Обсуждая вопрос об интендантстве, а главное о чае, постановили: чай по одному фунту выдать красноармейцам, а оставшийся распределить между голодающими семьями».
А в дневнике другого отряда летописцы отмечали:
«При хозяйничанья семеновских банд и японцев по деревням долины Ингоды все население ограблено, мужчины угнаны с лошадьми, скот забран.
Наши части конных, когда спокойно было, вспахивали все огороды и даже всю пашню. Крестьяне на все смотрели, чуть не со слезами… И когда нам пришлось из некоторых деревень уходить, то население, буквально чуть не все, бросилось с нами в сопки, затормозив даже наше движение».
В конце концов даже японцы начали понимать, в чем сила большевиков. Один из семеновских Генералов доносил: «По полученным сведениям, капитан японского генерального штаба в интимном кругу высказывает твердую уверенность в том, что японские войска уйдут отсюда в недалеком будущем… Тот же капитан говорил даже, что… в японских кругах изменилось мнение о Советской власти, и вообще большевикам следует отдать предпочтение за их работоспособность и энергию».
Поняли это не только японцы, но и некоторые русские офицеры. Часть из них перешла служить в Красную Армию.
В Иркутске перешел к красным бывший генерал-квартирмейстер Иркутского военного округа А. А. Таубе. Он участвовал в борьбе против Семенова и Дутова. А когда наша армия в Сибири погибла, Таубе отправили с донесением к Владимиру Ильичу Ленину.
Идти в Петербург ему пришлось кружным путем через Бодайбо. Там его схватили и опознали белые, хотя документы у него были на другое имя. Пленного генерала доставили к командующему чехословацким корпусом.
— Вспомните, генерал, честь мундира и вернитесь в стан армии возрождения России, — сказал генерал Гайда.
— Мои седины и контуженные ноги не позволяют мне идти на склоне лет в лагерь интервентов и врагов трудящихся России, — ответил бывший генерал.
Его заковали в кандалы и заточили в одиночную камеру тюрьмы. Ничего не просил у своих бывших друзей старый генерал. Он попросил только достать «Капитал» Маркса, и они не смогли отказать ему в этой просьбе. Тут, в тюрьме А. А. Таубе и умер.
Но военных специалистов у нас было все-таки очень и очень мало. Партизанскими отрядами в Забайкалье командовали вчерашние учителя, казаки и солдаты-фронтовики. Редкие из командиров были в прошлом офицерами. Генералов среди них не было ни одного. В армии же атамана Семенова генералов было в избытке: Иванов, Афанасьев, Никонов, Скипетров, Кислицын, Левицкий, Сахаров, Акинтиевский, Бангерский, Пепеляев, Вержбицкий, Унгерн, Гафнер, Войцеховский. А из полковников и подполковников можно было бы составить полк. Все они годами изучали военное дело. Но их сплошь и рядом наголову разбивали партизанские командиры, многие из которых не умели даже расписаться!
Ни одного дня не ходил в школу Макар Якимов. Но отряд, которым он командовал, совершал чудеса. За ночь он мог пройти семьдесят километров и неожиданно появиться в глубоком тылу врага. Белые боялись его. Не сумев расправиться с Якимовым в открытом бою, они решили его подкупить. У Семенова служил полковник Резухин. В царской армии он был командиром полка, в котором Якимов служил трубачом. Этот Резухин и написал Якимову письмо, в котором агитировал его перейти к белым вместе со своими бойцами. За это Якимова обещали сделать сразу полковником. (Семенов для него уже и мундир заказал). Якимов поднял свой отряд и поскакал в то село, где стояла часть его бывшего командира. И полковнику Резухину пришлось бегством — спасаться от бывшего трубача. Отряд Якимова захватил много оружия, в том числе и пушки.
Генерал Пепеляев и атаман Семенов обещали чин полковника другому партизанскому командиру — И. Пакулову. Но ни Пакулов, ни другие не изменили своему делу.
Амурские партизаны выгнали интервентов на несколько месяцев раньше и пошли на помощь забайкальцам. Они объединились с нашими партизанами и приготовились к последнему штурму. Но сначала по радио передали коменданту Читинского гарнизона генералу Бангерскому предложение сложить оружие.
— Хорошо, — сказал генерал, — я посылаю к вам на станцию Урульгу полковника Сотникова.
Полковник Сотников заявил, что белые готовы сдать партизанам Читу. Но пусть партизаны вместе с ними воюют против… коммунистов.
Враги оставались врагами — злобными и тупыми.
Части Народно-революционной армии ДВР и партизаны перешли в наступление.
Сражения развернулись от Читы до Маньчжурии. Такого грохота, как в эти дни, Забайкалье еще не слыхало.
У партизан и на этот раз оружия было не густо: всего два броневика, два танка, тридцать пять орудий. Под Урульгой кончился бензин и танки встали. Почти не было снарядов. А на каждую винтовку приходилось всего по пятьдесят патронов.
Но и на этот раз семеновские, в прошлом царские, генералы были биты малограмотными, но талантливыми полководцами. Разбитые семеновские войска бежали за границу, оставив 16 новейших бронепоездов и почти сорок пушек.
РАСПЛАТА
Когда японцы начали готовиться к эвакуации, Семенов растерялся: «А как же я?» — и послал наследнику японского императора на редкость подхалимскую телеграмму. «Ваше императорское высочество всегда были стойким защитником идей человечности, достойнейшим из благородных рыцарей, выразителем чистых идеалов японского народа. В настоящее время прекращается помощь' японских войск многострадальной русской армии, борющейся за сохранение Читы как политического центра Дальнего Востока, ставящего себе задачей мир и спокойное строительство русской жизни на восточной окраине, в согласии с благородной соседкой своей — Японией…»
Дальше в телеграмме сквозил ужас: «Вы уходите, а как же я?» Главнокомандующий слезно просил задержать в Забайкалье японские войска хотя бы еще на четыре месяца.
Ему на это холодно ответили: «Японское императорское правительство не считает вас достаточно сильным для того, чтобы вы великую цель, которая японскому народу великую будущность обеспечивает, провести могли. Ваше влияние на русский народ с каждым днем слабеет, и ненависть, которая народом против вас чувствуется, нашу политику не поддерживает».
Убедившись, что больше на штыки интервентов рассчитывать не приходится, атаман стал срочно запаковывать вещи. Сначала он отправил за границу жену с двадцатью пудами золота, а потом удрал и сам на японском самолете.
Русским золотом старались запастись и «защитники отечества» и их «бескорыстные союзники». Колчак вез в своем купе 20 ящиков с золотыми монетами. Калмыков с приятелями, удирая за границу, прихватил 36 пудов золота. Американский консул сообщал из Сиэтля: «Американские солдаты, возвращаясь из Сибири, привозят золото, кто на три, кто на пятнадцать тысяч долларов».
Министр путей сообщения «правительства» атамана Семенова Меди именовал себя генералом, как и Семенов. Удирая за границу, он прихватил с собой миллион рублей золотом. Генералы, которым не досталось денег, задним числом лишили его самозванного чина. Меди, посмеявшись, — прислал им ругательную телеграмму и стал на ворованное золото скупать в Маньчжурии дома и лесопилки.
Удирая, белогвардейцы увезли даже руду, добытую на Шерловой Горе, на шахте Эмерика.
С интервентами и белогвардейцами было покончено навсегда. Атаман Семенов в последнюю минуту сбежал. Расплата к нему пришла позже. Кровавый барон Унгерн оказался в плену. Его выдали свои же головорезы. Это он издавал такие приказы: «Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями». Для них, отмечал он, «мера наказания может быть лишь одна — смертная казнь разных степеней». Чтобы в целости доставить пленного барона на суд, его в пути всячески оберегали от народного гнева, через реки переносили на руках, чтобы он не простудился.
Судили Унгерна в Новосибирске (тогда еще Новониколаевске). В желтом монгольском халате, с рыжей бородой и казацкими усами, он выглядел растерянным и жалким. Погоны на плечах с буквами «А. С.» (атаман Семенов) казались опавшими крыльями подбитой птицы. На суде выяснилось, что у барона были в Эстляндии большие имения, он по существу воевал за них. В свое время он служил в первом Нерчинском полку у генерала Врангеля. Тогда его чуть не судили за избиение адъютанта. (Тот не сумел вовремя найти барону квартиру).»
— И часто лично вы избивали людей? — спросили его.
— Не так уж часто, но бывало.
В ноябре 1917 года, когда в Читу пришла весть о победе Октябрьской революции, Унгерн сразу же стал набирать отряд для войны с Советской властью.
Попавших в плен красногвардейцев и партизан он истязал, как фашист. Своих солдат за малейшую провинность бил палками, садил на раскаленное железо.
За убийства, грабежи и издевательства советский суд приговорил барона к смертной казни.
Многие из палачей Карийской каторги, как мы уже видели, были тоже разысканы и осуждены. Искала их вся страна, потому что на Нерчинской каторге перебывала вся революционная Россия. Генерал Ренненкампф, проливавший в 1905 году кровь в Чите, долгое время после революции отсиживался в Таганроге, в консульстве. Но стоило ему выйти за ворота, как он был арестован: его ожидала та же участь, что и кровавого Унгерна.
Около двух миллионов помещиков и капиталистов, считая их детей и родственников, бежали за границу. И вскоре в иностранных газетах стали появляться такие объявления: «С десяти часов-вечера песни цыганского хора под управлением князя Голицына». (Объявление берлинского ресторана «Альказар»). «Баронесса Фрейгельдт ищет место гувернантки в приличной семье». (Объявление в белградской газете).
В Турции, в константинопольском ресторане, князь Гагарин стал швейцаром. Графиня Медем нанялась судомойкой (в рестораны тянуло, видно, по старой привычке).
Другой князь Голицын устроился в Париже и прислал в свое бывшее имение бранное письмо: «Грабьте, подлецы, все мое добро, грабьте. Только липовой аллеи не трогайте… На этих липах я вас, мерзавцев, вешать буду, когда вскоре в Россию вернусь».
Этим мечтам князя уже никогда не суждено было сбыться. В 1922 году он собрался было в Маньчжурию, прочитав в газетах, что «из Харбина выехала группа офицеров, завербованных Лохвицким в отряды, организуемые Шильниковым в Хайларе, для захвата Онона и нападения на 86 разъезд».
Но вскоре об этой группе пришло новое сообщение: отряд Шильникова Народно-освободительная армия перевербовала на тот свет. Пришлось князю Голицыну устраиваться шофером такси и утешаться тем, что у царя шофером был тоже князь.
После бегства Семенова за границу его имя много лет не сходило со страниц иностранных газет. В Японии он продал авиационные моторы, закупленные в свое время для армии, и решил перебраться во Францию. Однако французское правительство, опасаясь возмущения народа, не разрешило палачу Забайкалья въехать в Париж. Не пустили его в Шанхай. В Америку приехать Семенову удалось, но там его арестовали. Его обвиняли в убийстве американских женщин в 1918 году (вероятно, из числа сотрудниц технической миссии или торговой фирмы). В 1922 году американские газеты сообщали: «При освобождении Семенова из тюрьмы под новый залог он был встречен враждебной демонстрацией многотысячной толпы народа»; «атаман Семенов, выпущенный из Вашингтонской тюрьмы под поруку, едва не был растерзан американской толпой и русскими беженцами».
Как преследуемый зверь, метался Семёнов по белу свету. Наконец ему удалось увернуться от судов и поселиться в Маньчжурии. Бывший «командующий» курил бумажную фабрику и стал фабрикантом., Но до последнего дня он не снимал атаманского мундира и не переставал воевать с Советским Союзом. Когда в Германии к власти пришел Гитлер, Семенов первым послал ему приветственное письмо, обещая любую поддержку. Под его руководством из эмигрантов набирались и обучались провокаторы и шпионы. На аргунских заставах мне рассказывали десятки историй о шпионах, которых засылали к нам перед Великой Отечественной войной. И Семенов очень гордился, что все они были его воспитанниками.
В одной эмигрантской газете атаман накануне войны напечатал статью под громким названием «Будем готовы». В ней он радовался тому, что фашисты затевают с нами войну. А дальше писал: «Мы тоже должны быть проникнуты счастливым сознанием того, что 19 лет тому назад мы — сыны России — положили первые камни в фундамент борьбы с коммунизмом».
А в августе 1945 года среди ночи к маньчжурскому селению Сяцзе-Хедзи подошли два солдатских бронетранспортера. Солдаты разыскали особняк атамана и затаились. Двухэтажный дом Семенова был похож на тюрьму: зарешеченные окна, массивные двери. Атаман боялся возмездия и жил как в заточении.
Перед утром в одном из окон вспыхнул свет, а в саду мелькнула тень человека. Неизвестного связали и привели к командиру. Он оказался личным шофером атамана: советские войска наступали, и через час Семенов должен был уехать в Шанхай.
Шофер по приказу советского командира постучал четыре раза в атаманское окно. Через несколько минут щелкнула дверная щеколда. В то же мгновение руки атамана были связаны, а в глазах его застыли удивление и испуг. Придя в себя, он смог лишь сказать: «Не знаю, как вас- и называть: господами — нельзя, товарищами — не имею права». А когда его в нашем тылу передавали сотрудникам особого отдела, атаман, наверное, впервые в жизни, сказал правду:
— Спасибо за гуманность… Я не заслужил этого.
Через год Семенова судили и приговорили к смертной казни через повешение. Думал ли атаман, когда его провозили мимо Читы, о той страшной, кровавой памяти, которую он навсегда оставил в сердцах забайкальцев?
ГЛАВА 5. РАЗМАХА ШАГИ САЖЕНЬИ
ПЕРВОКЛАШКИ С БОРОДОЙ
Сразу после освобождения Забайкалье и Дальний Восток нельзя было присоединить к. Советской России, так как на востоке еще стояли японские войска. Вступление Красной Армии в Забайкалье могло привести к столкновению. А войны с Японией надо было обязательно избежать: Советская Россия и без тог го была изнурена трехлетней гражданской войной. Поэтому, по предложению В. И. Ленина, эта территория была объявлена отдельным, независимым государством. Называлось оно Дальневосточной республикой, или сокращенно — ДВР. Лишь через два года, когда освободили от оккупантов Приморье, ДВР вошла в состав РСФСР. Но и до этого власть в ней была своя, рабоче-крестьянская.
В Чите еще хозяйничали Семенов с японцами, а красное командование уже разослало письма во все освобожденные села. В них сообщалось, что все бывшие царские сенокосы переходят в распоряжение народа без выкупа.
В тот день, когда части Народно-освободительной армии штурмовали последние укрепления семеновцев на забайкальской земле — пятиглавую сопку Тавын-Тологой, командование приказало бойцам ликвидировать неграмотность. С этого дня по всей армии за грамоту стали спрашивать так же строго, как за военное дело. Командиров на два часа в день освобождали от всех обязанностей, чтобы они изучали арифметику, алгебру, географию, историю. Вся армия превратилась в огромную школу.
Крестьяне и рабочие тоже тянулись к знаниям. Жители села Качугского писали: «Мы хотим учиться и избавиться раз и навсегда от темноты и невежества. И потому мы вменяем в обязанность в селе грамотным обучать неграмотных».
Крестьяне и крестьянки собирались по воскресеньям и учились писать палочки и кружочки. И какой радостью лучились глаза какого-нибудь бородатого дяди — первоклассника, когда ему по складам удавалось прочесть «па-па, ма-ма»!
Царское правительство считало обучение детей бедняков не только делом ненужным, но и вредным. Недаром американец Кеннан отмечал, что в восточном Забайкалье на одну школу приходится 31 кабак. Всего лишь за семь лет до революции забайкальский губернатор заявил общественности Читы: «Ученье, конечно, вещь хорошая, но не для всех. Для детей низших классов образование вредно».
В Чите на все школы правительство отпускало денег столько же, сколько на содержание одного полицейского участка. История до сих пор хранит такие документы: «Я, находясь в самом бедственном положении, положительно не имею никаких сил в покупке сыну своему, ученику Иннокентию, учебников и теплой одежды». «Крайне нуждаясь в материальной помощи на воспитание сына моего Ивана, Страмилова, ученика Читинского 5-го классного училища, я вынуждена просить… помощи на плату за право учения за 1907–1908 гг. 10 рублей, на книги 10 рублей и на валенки 3 рубля». «Я, не имея никаких средств к дальнейшему существованию, обращаюсь с просьбой выдать мне единовременное пособие в количестве 15 руб. для существования в период экзаменационного времени. Федор Голобков, 28 апреля 1908 года».
Эти заявления писались в родительские комитеты. Они-то и рассердили губернатора. «В гимназии должны учиться только те, — сказал он дальше, — кто имеет для этого материальные возможности… Вот почему с этого времени я не могу разрешить устраивать вечера в пользу родительских комитетов, расходующих свои средства на оказание помощи нуждающимся учащимся».
Теперь, наконец, учиться могли все: и взрослые и дети. Правда, у новой власти для обучения денег пока тоже не было. Но временные трудности хорошо понимали все. В селе Живковщине собрались учителя со всей округи. Они стали судить да рядить, как им учить ребятишек дальше: зарплаты им не платили. «Порешили все-таки, — записали они в решении, — не оставлять школы, а о жаловании договориться с обществом и вести дело просвещения, борясь с нуждой и лишениями». А в Нерчинском Заводе учительский съезд разрешал проблему бумаги: школьникам не на чем было писать. Решено было пересмотреть в станицах старые архивные дела и все ненужные бумаги разослать по школам.
Таких клубов, какие построены сейчас в селах, тогда не было и в помине. Хорошо, если удавалось отремонтировать дом какого-нибудь сбежавшего белогвардейца и устроить в нем клуб или избу-читальню. Если «добывали» такой дом, то вскоре появлялись на его дверях объявления: «Для грамотных литература выдается на руки, для неграмотных читается членами кружка по ликвидации неграмотности». В этих же домах по воскресеньям учили взрослых. За удобствами не гнались: если не хватало столов — писали на коленях. Лозунг «Бей темноту букварем» был тогда самым модным.
В Чите открылась двухмесячная партийная школа. Съехались в нее слушатели не только со всего Забайкалья, но и из Приамурья. В школе не на чем было спать, нечем укрываться. Кормили слушателей плохо, помещение было ужасным, освещение — отвратительным. Но никто не жаловался, все шестьдесят человек успешно окончили эту школу.
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА, ИЛИ НИЩИЕ БОГАЧИ
Перелистываю старые документы, пожелтевшие газетные-страницы. И словно сам ухожу в те годы.
Забайкалье свободно, а в Приморье все еще идут бои. «Временное приамурское правительство с горсткой героев ледяного похода начинает доблестное наступление на Читу», — возвещают белогвардейские газеты. Владивостокское «правительство» пишет письма давно не существующей царской фамилии, что оно «постановило довести начатое дело возрождения Родины до победного конца и в Московском Успенском соборе возложить императорскую корону на голову венценосного потомства дома Романовых».
В Якутии разбиты последние банды. Там впервые отливают якутский шрифт, чтобы на родном языке печатать учебники. В Бурятии оборудуется сразу три больницы, четыре амбулатории, десять фельдшерских пунктов. У новой власти нет денег, нечем даже заплатить учителям. Но на лечение бурят отпускается 120 тысяч рублей золотом.
В Советской России свирепствует голод. Из последних двадцати лет урожайными были только пять. Мировая и гражданская война окончательно разрушили крестьянские хозяйства. В иных семьях совсем не осталось тягла. В иных погибли кормильцы. Поля и так зарастали бурьяном и лебедой, а тут еще. засуха спалила весь урожай. В газетах появились страшные сообщения:
«В Бугульминском уезде из 300 000 населения голодают 290 000. Накануне голодной смерти 25 000 человек».
«Готовят могилы. Саратов. Голодные доедают последних собак и кошек. В последнее время в пищу пошла старая овчина: шерсть спаливается, кожа разваривается и съедается. Крестьяне заранее готовят себе могилы. Поезда, приходящие из Пугачевска и Уральска, выбрасывают по 25–10 трупов».
«За последнюю неделю на улицах Одессы подобрано 276 трупов умерших от голода. За весь март поднято 1336 трупов».
Советское правительство решило взять в голодном 1921 году из монастырей и церквей золото, серебро и драгоценные камни, чтобы купить хлеб и спасти умирающих. Церковники драгоценности спрятали, их удалось взять всего лишь на шесть миллионов. На помощь умирающим пришли рабочие и крестьяне из других губерний. Уж на что разграбил Забайкалье Семенов, но и здесь, отнимая от себя далеко не лишний кусок, жители собирали голодающим посылки. Когда через два года опять случится неурожай, правительство уже само выдаст каждому хозяйству по 22 рубля денег и 27 пудов семян.
Забайкальцы отправили в города, где умирали от голода люди, несколько питательных поездов. В этих поездах были санитарные вагоны и кухни, вагоны с мукой, зерном, сухарями. Чуть позже они приняли у себя почти три тысячи вывезенных оттуда детей. Голодающим отчисляли деньги из зарплаты, собирали одежду, вещи. А между тем в Забайкалье люди тоже жили голодно и холодно. Когда в Чите молодежь собралась на съезд, оказалось, что делегаты ходят голодные. Секретарь обкома В. Гамберг вынужден был написать в городской продовольственный отдел, что обкомол просит выдать комитету хлеб «для вечернего чая пятидесяти делегатам облсъеэда молодежи. Получая только обед, делегаты голодают, и вечерний чай для них необходим».
В Нерчинске комсомольцы записывали в решении: «По возможности дрова доставлять в уком (уездный комитет), ибо достать невозможно». А в Чите просили «выдать для нужд отъезжавших в область инструкторов 20 фунтов простого мыла, 20 фунтов свечей».
Не подумайте, что мыло и свечи были нужны лично инструкторам. Они их везли в подарок уездным комитетам.
Чтобы выписать для изб-читален газеты, купить книги, керосин, нужны были деньги. Чтобы их добыть, сельские комсомольцы сообща распахивали землю, сеяли хлеб, а осенью его продавали.
Детям с 14 лет пока еще разрешалось работать: не все могли ходить в школу. Но профсоюзы теперь строго следили, чтобы они работали в день не больше четырех-шести часов.
В Чите тогда и не мечтали о детской библиотеке, музыкальной школе или доме пионеров. Педагоги и комсомольцы мечтали об обыкновенном ночлежном доме, в котором могли бы ночевать зимой сто беспризорников.
Да, очень трудные были времена, Четыре года шла империалистическая война, три — гражданская. Десятки тысяч забайкальцев погибли в окопах, были замучены семеновцами. Железнодорожные пути и мосты были разрушены, паровозы и вагоны Семенов угнал в Маньчжурию. Зарплату рабочим платили хлебом, ботинками, рубашками. На заводах для зарплаты стали пахать огороды и сажать овощи. А на Арбагарской шахте соорудили мельницу, чтобы полученную за помол муку выдавать шахтерам.
Работы тоже для всех пока не хватало: многие предприятия были закрыты. В газетах замелькали заметки: «У нас много безработных, чуть ли не голодающих комсомольцев». «Для сведения безработных: профессиональный союз работников колбасного производство в г. Иркутске просит безработных этой отрасли труда не приезжать в г. Иркутск, вследствие острой безработицы».
Но как ни трудно приходилось рабочим, они знали, что завоевали самое главное — свободу, 8-часовой рабочий день и все права.
В деревне положение было хуже. Там еще многие жили по принципу: моя хата с краю. Вот несколько писем:
«Наш Борзинский поп живет припеваючи. Отслужит обедню или панихиду — в хлеву у него пополнение… в виде барашка или свинки».
«У Григорьева Михаила дочь в комсомол вступила, и когда он об этом узнал, то избил ее до полусмерти и сказал: ты коммунистическую заразу в дом не неси. Где же сельские власти?»
«Бедноты у нас много, да сама деревня не богатая. Коли бы не соседний прииск, беда бы была. Да и сейчас многим пришлось уйти батрачить в соседние деревни. Особенно плохо девушкам — темнота, безграмотность. Нужна помощь нам в деле организации бедняцкой артели… Помогите!»
Столько в этом слове «помогите!» отчаяния, жалобы, мольбы!
Только очевидцы могут по-настоящему оценить все изменения, происшедшие с тех пор в деревне. Мы же можем изучать их лишь по документам.
В один из зимних вечеров 1921 года собрались вместе бедняки села Кондуй, что недалеко от Борзи, и задумались: «Как жить дальше?» Не одну самокрутку они выкурили, прежде чем написали: «Обсудив нашу крестьянскую жизнь и найдя ее безотрадной, нашли необходимым организовать сельскохозяйственную коммуну и что только общими дружными усилиями этих коммун можно поправить разрушенное хозяйство… Для направления жизни коммуны просим прислать сведущего инструктора».
Инструктор приехал, рассказал, как можно «направить жизнь коммуны». Записалось в коммуну десять человек. Хлеба у всех был «недохват», соли и мыла не было вовсе, семян тоже. Хозяйство получилось такое: домов — 9, сараев — 1, амбаров — 1, бань — 2, конных мельниц —2, телег—11, сбруй — 13, седел — 7, топоров—10, плугов — 6, борон—13, косилок — 1, граблей — 3, кос — 14, лошадей — 23, пахотных земель — 36 десятин, хлеба — 64 пуда, картофеля — 41 пуд, мяса — 4 пуда.
Стали коммунары работать все вместе. А еще через два месяца председатель и секретарь составили отчет. Много читал я рассказов о коммунах и первых колхозах. Но ни один из них не трогал меня так, как этот бесхитростный документ, торопливо написанный на грубой серой бумаге.
«Описали имущество. Хлеба без посева на месяц. Стали менять на скот, определили для этого двоих, определили одного для ремонта телег, другого отправили на съезд сельскохозяйственных коллективов в Читу. Третий за него секретарил в поселке, четвертый был поселковым учителем. У двоих истек отпуск, и они опять пошли служить. (Они были народоармейцами). Один поливал под посев пашни, один болел. Все ж, что намечалось, было ко 2 мая сделано, а сена ни клочка (скормили осенью проходившей народоармии). Потому стали косить ветошь, пахали в две сохи, остальные городили и поливали. Засеяли 7 десятин полеванной земли, посеяли 70 пудов. Хлеб был взят в Жидке, были б семена, посеяли б больше, хоть лошади и сами полуголодные. Потом опять отправили поменять скот на хлеб, он проехал — 7–8 деревень и не мог, у знакомого китайца потом купил 20 пудов ярицы. 31 мая часть коммунаров идет для заготовки леса, годного для поделки, который коммуна хотела отвезти в безлесые деревни на Аргуни или же — купить на него товар, затем наменять хлеба.
Вот каковы дела с приобретением продуктов, не говоря уже о соли, чае, мыле, которых коммуна и крошки не имеет, одежда тоже износилась.
Председатель с/х коммуны Т. Эпов.
Секретарь Л. Попов».
А несколько лет назад в селе Нарасун я сделал такую запись: «На каждого трудоспособного колхозника приходится в артельном хозяйстве: земли — 27 гектаров, овец — 50, крупного рогатого скота — 12». Это — «пай» каждого колхозника. Он, его никогда не вносил в общий котел, как те коммунары. Но имеет с них постоянную прибыль.
Раньше по Онону крестьяне и казаки жили гораздо богаче, чем в иных местах Российской империи. Но и тут они имели только по 2 гектара земли на душу — в десять с лишним раз меньше, чем теперь. На два хозяйства приходилось тогда в Нарасуне пять лошадей. Сейчас на каждого колхозника приходится по десять лошадиных сил (лошади нынче не в моде).
Недавно в Чите колхозники из Красного Чикоя устроили выставку одежды и домашних вещей тех лет. Выставка вызвала широкий интерес. Люди с большим любопытством разглядывали зипуны, курмушки, чирки и деревянные миски. Ведь все это давно ушло в историю. Организаторы выставки потратили уйму времени, чтобы разыскать эти вещи: в селах теперь и культура городская и одежда.
Но хорошая жизнь наступила далеко не сразу. В двадцатых годах даже такая нищая артель, как Кондуйская, была большим шагом вперед. Сообща обрабатывать землю было куда легче.
В одной из листовок того времени говорилось: «Товарищи! Мы страшно богаты. Мы так богаты, как редко бывают наши народы. У нас есть все, мы ходим и топчем ногами наше богатство и не замечаем его, не видим его, не знаем о нем. У нас под ногами миллионы, миллионы пудов железа, самого лучшего в мире. Сколько плугов, литовок, топоров, рельсов, инструментов разных можно понаделать из него, У нас под ногами олово и свинец, у нас серебра несметное количество, у нас не счесть драгоценных самоцветных камней. У нас леса на тысячи верст, у нас рыбы, у нас дальние луга некошеные, нехоженые.
Мы богачи… Мы богачи, сидящие на сундуке, не знающие как открыть его. А если бы открыли, то могли бы скупить полсвета. Но к сундуку есть ключ. Этот ключ — работа. Если мы примемся за дело, то не только внуки и дети наши, но и мы сами будем счастливы».
ДЕРЕВЕНСКИЕ ЧУДЕСА
Когда мне было шесть или семь лет, в нашем доме появился сепаратор. Это событие врезалось мне в память, и я до сих пор помню его во всех подробностях.
Заносить сепаратор помогали отцу все соседи, хотя он мог бы легко справиться с этим сам. Каждому ребенку его отец кажется необыкновенным силачом. Но мой отец силачом был на самом деле. В праздники, когда люди не работали, он на спор провозил на себе шесть человек из одного конца деревни в другой.
…Сепаратор осторожно распаковали и торжественно водрузили на стол. Кузнец Бутаков взял из ящика растрескавшимися пальцами тонкое стальное ситечко и задумчиво сказал:
— Ишь, паря, тонко-то каково, словно кружево стальное связано… Вот и мы дожили до человецкой жизни: вон даже сепаратор появился…
И он разволновался так, словно это был не аппарат для перегонки молока, а искусственный спутник земли.
А в окна, отталкивая друг друга, заглядывали ребятишки. Как они завидовали мне, что я мог подержаться за блестящую ручку и даже повернуть ее!
Таких событий в те годы было много. Событием номер два (конечно, для нас, ребятишек) был обыкновенный замок-молния. Его выписали по почте для Генки Арестова. Арестовы первыми в селе узнали, что кое-какие товары можно выписывать по почте. Тогда уже начал работать посылторг, но он был в диковинку. Из нашего села больше никто ничего через него не заказывал. Было просто непонятно, как это может прийти по почте, как письмо, рубашка или калоши. А спросить, как это делается, и этим показать свою неграмотность, никто не хотел.
И вот по почте Арестовым пришел замок-молния. Генка Арестов, ученик нашего класса, в этот день выглядел именинником. Еще бы: он пришел в школу в рубашке без пуговиц, с диковинной змейкой. Три дня мы только — и делали, что уговаривали его расстегнуть да застегнуть эту змейку. И успокоились лишь тогда, когда она сломалась. Учитель наш очень этому обрадовался.
К трактору мы уже привыкли. Трактор вошел в нашу жизнь, когда мы еще ходили в колхозные ясли. Это был «колесник» — колесный трактор, но не такой, какие выпускаются теперь. Колеса у него были сплошь металлические. Передние — с ободом, а задние — с длинными треугольниками-шипами. Когда трактор шел по дороге, за ним оставались глубокие вмятины, словно кто-то вбивал в землю клинья.
А вот велосипед нас ошеломил. Первый велосипед появился все у того же Генки Арестова и пришел он снова по почте! Когда и где Генка научился ездить, мы не знали и над этим не задумывались. Мы были уверены, что это дается от природы, как и способность щелкать на счетах. Колхозного бухгалтера мы всегда считали волшебником, думали, что он считает на слух, по звуку костяшек.
Через несколько месяцев в нашу деревню прикатило невиданное чудо: маленький деревянный вагон на деревянных колесах. Это был первый автобус «Амо». Он пришел с соседней станции Куки, где начал работать детский санаторий.
Шофером автобуса был наш сосед — дядя Петя Хвостов. Он прокатил нас за деревню, а когда дорога пошла в гору, — высадил. Тогда нам было обидно, а теперь я понимаю, что у автобуса был очень слабый мотор и подняться с нами в гору он бы не смог.
После того как укатило деревянное чудо, на село надвинулось новое событие. Вдоль улицы колхозники стали вкапывать деревья с обрубленными сучками, а к ним подвешивать медные веревки.
День, когда в селе зажглись лампочки Ильича, я не мог не запомнить. В этот день я был самым счастливым из всех деревенских ребятишек: отец взял меня с собой на электростанцию. Он был колхозным бригадиром и отвечал за технику. (Увы, я не оправдал его доверия: испортил самую торжественную минуту.
Сейчас, когда я изредка проезжаю свое село, я всегда удивляюсь: мне кажется, что сарай, в котором тогда находилась колхозная электростанция, съежился и наполовину ушел в землю. Это здание мне почему-то всегда вспоминается. высоким, светлым и необыкновенно просторным. Так вот, в том высоком, светлом и необыкновенно просторном зале уже собрались люди: гости из соседних сел, члены правления, председатель. Все были разнаряжены в праздничные рубахи, от некоторых пахло вазелином.
Отец сказал: «Сейчас пустим». А я, чтобы не про-_ зевать, когда кого-то куда-то будут пускать, забежал с другой стороны странной машины, смахивавшей на паровоз. Торопясь, я запнулся о какое-то ведро и растянулся в скользкой маслянистой луже. А когда поднялся на ноги, с моих новых брюк текла грязь.
— Эх ты! — сказал чуть побледневший отец и взял меня за ухо. — Все испортил!
Я редко видел отца таким огорченным. Оказалось, что я разлил масло, без которого никак нельзя было пустить локомобиль. Пришлось идти на склад…
В те годы мы без конца удивлялись всем этим маленьким и большим чудесам — сепаратору, замку-молнии, автобусу. И жизнь нам казалась необыкновенно интересной.
Не представляю себе, как бы царское правительство сладило с разрухой. А вот пролетарская власть восстановила хозяйство быстро. Это благодаря тому, что деньги, которые раньше текли в карманы буржуям и на которые они купались в шампанском, теперь шли на благо трудящихся. Людям жилось еще трудно, но зато они знали, что работают на себя.
На съезде партии Ленин сказал: рабочие должны строить социализм вместе с крестьянами. Крестьянам надо помочь восстановить хозяйство, потом наделать машины и начинать создавать колхозьк
Ленин рассказал, е чего надо начинать — строительство новой жизни, что делать. И Советская страна по его указаниям начала восстанавливать разрушенное хозяйство.
Последние банды белых и интервентов были вышвырнуты из Приморья. Через год после съезда рабочие на своих собраниях стали требовать, чтобы на Востоке также установили Советскую власть. В ноябре 1922 года Владимир Ильич прислал в Читу телеграмму, в которой поздравлял население всего Дальнего Востока с освобождением от последних интервентов и белогвардейцев. Вскоре Дальневосточную Республику приняли в состав Советской России. А в январе 1924-го на Чите-1, в клубе «Красный Октябрь» шел устный журнал. Журналист Матвеев-Бодрый рассказывал рабочим об Ильиче. Вдруг в президиум принесли телеграмму. Зал, предчувствуя недоброе, насторожился. Побледневший председатель шепотом прочитал: «Из Москвы… Ильич… скончался». Зал зарыдал, всюду погас свет, на улице гудели гудки…
Владимир Ильич умер, но страна свято помнила его наказ: работать, учиться, строить. И горячая работа началась во всех уголках страны. Люди словно мстили врагу работой за смерть своего учителя. Как паровоз, трогающий с места тяжелый состав, страна стала постепенно набирать скорость.
В нашем краю крупных строек тогда не было, но все равно жизнь менялась буквально на глазах.
Газета «Забайкальский крестьянин» сообщала: «Забайкальский губисполком постановил: передать в распоряжение волисполкомов все здания бывших каторжных тюрем для культурно-просветительных и хозяйственных целей».
«На Петровском заводе раньше делался инструмент для царских приисков и кандалы. Теперь рабочие делают ковкий чугун и отправляют его в Киев, Ленинград, Харьков».
Тарбагатайские копи пришлось закрыть, потому что электростанцию с нее шахтеры послали в Черемхово, где она была нужнее. Но зато намного увеличилась добыча угля на Черновских копях. Если бы в прошлые времена там кончился бикфордов шнур, шахтеры прекратили бы работу. А теперь нашли выход из положения: стали пропитывать газеты порохом и сворачивать в трубки.
(Во время Отечественной войны в Балее вот так же израсходовали все подшивки газет. Горнякам не из чего было делать взрывные патроны, и они их склеивали из бумаги).
На Читинском кожзаводе стали выпускать по тридцать тысяч пар чирочных кож в год. Чирки — это нечто вроде лаптей, только из цельного куска кожи. Если вырезать очень широкую и длинную подошву из мягкой кожи, а края стянуть ремешком, получится «чирок». В те годы было не до туфель, даже чирки были роскошью. Даже пятью-семью годами позднее комсомольцы, строившие Комсомольск-на-Амуре, были очень рады, когда им привезли баржу лаптей. Правда, огорчало их то, что ни у кого не было портянок. Подумали они, подумали и послали в Хабаровск ходока. Ходок Костя Зангиев дошел до самого Блюхера. В Хабаровске устроили аврал по сбору портянок. И вскоре ликующие строители криками «ура» встречали синие, зеленые, красные лоскуты материи.
Каждая мелочь была в те трудные годы на вес золота, не говоря уже о железе, чугуне, угле. Тому же Зангиеву пришлось потом лететь во Владивосток за куском олова, без которого нельзя было монтировать электростанцию. На всю стройку он привез всего три килограмма. И то начальник стройки половину куска отрубил и спрятал у себя дома, чтобы не истратили сразу. Только немного позже, когда у нас в Забайкалье был построен Хапчерангинский комбинат, с оловом в стране стало легче.
Страна с каждым днем все гуще покрывалась строительными лесами. На Днепре строилась гидроэлектростанция. На Урале и в Кузбассе — металлургические комбинаты. В Москве и Горьком — автомобильные заводы. В Челябинске и Харькове — тракторные, в Саратове — комбайновый заводы.
ЗРЯ СМЕЯЛСЯ РОБЕРТ ГРАНТ
У нас в Забайкалье заводов-гигантов не строили, но страна не могла обойтись без забайкальцев. Оборудование Волховской ГЭС, многие станки для новых заводов пришлось закупать за границей. А для оплаты требовалось золото. Зарплату иностранным инженерам, которые учили у нас рабочих, тоже выплачивали золотом. Пришлось срочно строить новые шахты и фабрики в Балее: карийское золото давно уже перекочевало в карманы царя.
До революции в Балее тоже добывали золото. Но только из песка. Добывали его все те же каторжники. Чтобы они не могли убежать, их приковывали к тачкам, а на ноги надевали кандалы. Приходили сюда на заработки и жители соседних деревень. Их работа была той же каторгой, только без кандалов и охраны. Некоторые каторжники, освободившись, тоже оставались здесь. Это они во время гражданской войны организовали легендарную «золотую сотню».
В Балее до сих пор сохранился дом, в котором в октябре 1919 года приискатели приняли решение создать этот партизанский отряд.
В первые же годы Советской власти геологи под золотоносными песками нашли золотоносную руду. Золотоносная руда — это жилы обычного кварца, в котором вкраплено золото. В руде золота — гораздо больше, чем в песках, но и добывать его намного труднее.
На месте старых каторжных разработок горняки Балея стали проходить шахты. А чтобы построить контору нового комбината, разобрали и сплавили по Унде тюрьму. (Это была тюрьма Казаковского промысла, куда поначалу был привезен поэт Михайлов. Теперь все забайкальские тюрьмы использовались по новому назначению).
Недалеко от шахты построили обогатительную фабрику. Ее многие годы называли иловым заводом или американской фабрикой. Оборудование для нее привезли из Америки, а размолотая на ней руда действительно походила на речной ил. Второго такого аппарата для осаждения золота с помощью цинковой пыли тогда в Советском Союзе не было.
Прошло немного времени. И вот в один из осенних дней кладовщик расписался в получении первых шести килограммов балейского золота.
С каждым месяцем Валей давал золота все больше и больше. Сначала фабрика пережевывала пятьдесят тонн руды в сутки. Потом сто, сто пятьдесят, двести.
Прошло немного времени, и балейцы пустили в ход еще одну фабрику. Промывать же пески они заставили специальный корабль-драгу. Через четыре года молодой рудник стал давать золота в два раза больше, чем все прииски на знаменитой Лене!
Поначалу баденским горнякам приходилось несладко. Жили они в саманных избушках и в бараках. Столовая находилась в землянке, клуб — в мазанке. Точно так жили, по рассказам стариков, до революции вольнонаемные приискатели из соседних сел. Их бараки ничем не были разгорожены, в них они справляли именины, в них же отпевали покойников. Но раньше так жили всегда, без всякой надежды на то, что когда-нибудь будут жить лучше. А теперь все видели, что под Золотой горкой строятся для них новые дома. Да такие, что и не снились в этих краях: каменные, со всеми удобствами.
Скоро у горняков начались новоселья. Теперь радость новоселов тех лет может показаться чрезмерной: слишком уж мы привыкли к благоустроенным домам. Но когда, скажем, стволовой Василий Николаевич Кузьмин переехал в двухкомнатную квартиру с паровым отоплением и водопроводом, он чувствовал себя царем. Его жена Анна Васильевна ходила из комнаты в комнату и не верила своим глазам: уж не снится ли? Всю свою жизнь ее родители, да и она сама с мужем жили в мазанке величиной меньше ее нынешней кухни. А теперь — хоромы? Ни воды не надо носить, ни печь топить. (Эти ощущения очень точно передал В. Маяковский в стихих о том, как литейщик Иван Козырев вселялся в новую квартиру).
Справив новоселье, горняки веем поселком начали строить дом культуры. Строили его сообща, после работы. На новостройку приходили к домохозяйки, и ночной сторож, и директор комбината. А на открытие дома культуры в Балей приехала группа актеров из Московского театра имени Вахтангова. И играл им с этой едены знаменитый актер Б. Щукин, который в фильмах «Человек с ружьем» и «Ленин в Октябре» создал незабываемый образ Ильина. И это всего через пятнадцать лет после свершения Октябрьской революции?
Народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе все время интересовался, как живут в Балее рабочие.
— Как они питаются, как одеваются, какое у них настроение? — спрашивал он директора, комбината, бывшего секретаря Центрального Комитета комсомола А. Мильчакова.
— Живут хорошо, — рассказывал директор. — Строим рабочим новые дома, сотни семей строят свои домики, даем ссуды.
— Ас промтоварами как, хорошо ли снабжают? — допытывался нарком.
— Хорошо снабжают, да достатки растут. Большой спрос на добротную одежду, кожаные сапоги, валенки. Нужны велосипеды, патефоны, фотоаппараты, радиоприемники.
И нарком распоряжался отгружать на Бадей больше этих товаров, чтобы рабочие могли купить все, что им надо. Ведь Бадей чуть, ли не с первого дня за хорошую работу был занесен на Всесоюзную красную доску.
Когда в Балее добыли первую руду, сюда приехал из Америки инженер-консультант по горным работам Роберт Грант. Попробовал он гранит, через который надо было добираться к золотым жилам, и сказал: «Крепок, как шорт».
По крепости балейские породы были точь-в-точь, как на знаменитых американских рудниках «Голь-филд» и «Консолитейтед» в Неваде. Там в это время поставили рекорд: шестьдесят восемь метров проходки в месяц. А в Донбассе до революции проходили максимум сорок два метра, хотя породы там были в три раза мягче.
И вот балейские горняки задумали побить американский рекорд. Но Роберт Грант поднял их на смех. Он сказал:
— В Америке на шахтах полная механизация, а здесь вагонетки в шахте возят слепые лошади, из шахты на фабрику руду везут в таратайках. Ничего у вас не получится!
Из Чикаго в Балей должны были прислать бурильные молотки. Американец посылал телеграмму за телеграммой, но Америка молчала. Ничего не дождавшись, американец уехал. А в Балей пришли бурильные молотки — перфораторы из Ленинграда — наши, советские.
На третий год работы балейцы побили дореволюционный рекорд Донбасса. Еще через два года подобрались вплотную к американским нормам, установленным для высокомеханизированных рудников. И тут все газеты облетела весть о том, что донбасский шахтер Алексей Стаханов добыл за смену угля столько, сколько добывало 15 человек.
В Балее, как и во всей стране, стали подсчитывать: а что можем мы?
— А ничего не можем, — говорили некоторые. — Разве можно сравнить мягкий уголь и твердую руду?
— Нет, — сказал проходчик Петр Худяков, — нельзя. И все-таки надо попробовать.
Долго горняки ломали голову, как работать лучше. И придумали много интересного. Они прямо под землей устроили склад динамита, чтобы не терять времени на его доставку во время работы. Потом стали взрывать породу среди смены, сделали много хитрых приспособлений, по-другому распланировали время. И вот Петр Худяков дал две нормы. Степан Бахтиданов — три. Не успели их поздравить с успехом, как Угреннинов сработал за пятерых!
Стахановцев становилось все больше. Количество бурильщиков вскоре сократили на 14 человек, но оставшиеся отлично справлялись с работой. За ними стали тянуться и другие рабочие.
В конце года буровики Балея почти утроили план. И тогда решили 31 декабря провести стахановские сутки, чтобы встретить Новый год трудовым подарком.
В тот день люди поднялись чуть свет. В шесть часов они начали работу и работали до вечера. За работающих переживал весь поселок. Ребятишки то и дело бегали на шахту и на фабрику. Женщины носили туда обед.
Когда закончили работу и подсчитали, что сделано, сами не поверили. Если до этого были рекорды у отдельных горняков, то теперь шахта вместо 460 тонн выдала полторы тысячи тонн руды. (Она на такое даже и рассчитана не была). Забойщики Стеблюк и Шелковников работали за шестерых. Фрезеровщик Колодежный — за пятерых. Слесарь автобазы Коллегов — за семерых. А столяры Ведерников и Самаркин за восьмерых!
В этот день был побит рекорд американцев по проходке. И побит не на какие-то сантиметры, а на целых 13 метров!
Через полмесяца стахановские сутки повторили.
И снова комбинат дал руды и золота в три раза больше, чем было запланировано.
Вскоре из шахты вывели лошадей и спустили туда электровозы нашего советского завода «Динамо». Работа пошла еще веселей. Буры из некрепкой шведской стали начали оснащать советским победитом. Балейцы сами сделали машину, которая нагребала в вагонетку руду. Поднимать ее наверх стали не в вагонеточном лифте-клетке, а в специальном автоматически разгружающемся ящике-скипе.
Балейское золото стало самым дешевым в стране.
В те же годы был построен Хапчерангинский комбинат, который давал больше половины союзной добычи олова. Громоздкое оборудование для него везли по горам и долам за триста километров на специальных телегах, в которые запрягали целые табуны лошадей. Годом позже стали добывать олово на Шерловой Горе, где когда-то хозяйничал Эмерик.
На Калангуе впервые в Советском Союзе был добыт плавиковый шпат. Без плавикового шпата не сварить хорошей стали, так же как без соли — супа. Ни один металлургический завод не обходился и не обходится без нашего плавика: он помогает расплавить и удалить шлаки.
Возили плавик на станцию на лошадях и верблюдах. Однажды, когда туда ушло сто десять подвод, разыгралась страшная пурга. Пригорки обледенели, на дорогу нанесло сугробы. Все понимали, что обоз в пургу до станции не дойдет. А лучше остальных это понимал комсомолец Саша Черепко: он был первым шофером и дорогу знал, как свои пять пальцев.
Коммунисты и комсомольцы были подняты по тревоге. Уже через полчаса двадцать человек шли на лыжах в непроницаемой снежной мгле навстречу — ураганному ветру. Они захватили с собой палатки, продукты, лопаты. С большим трудом отыскали занесенный снегом обоз, поставили палатки, отогрели возниц. А потом трое суток под вой не утихающей метели откапывали из-под снега телеги, полузамерзших лошадей и верблюдов. Девять обмороженных возчиков комсомольцы вынесли на руках. Обоз с плавиком и люди были спасены.
Когда земля сделала вокруг солнца двенадцать оборотов, считая со дня революции, на колхозные поля страны вышло девять тысяч тракторов. Шесть тысяч из них было куплено за границей за золото, три тысячи сделано на советских заводах. Совершила земля еще один оборот — на полях прибавилось тридцать пять тысяч тракторов. А через пять оборотов тракторов стало уже четыреста тысяч!
Недавно Харьковский тракторный завод (он был построен всего за пятнадцать месяцев!) отмечал свой юбилей. Еще работают на заводе люди, которые собирали первый трактор, а сейчас их выпущено сколько! Если бы все эти тракторы выстроить в одну колонну, она бы растянулась от Москвы до Читы!
В нашем колхозе «Новая жизнь» были тракторы Харьковского завода. Неуклюжие, на колесах с острыми шипами, они тогда казались чудом техники, и колхозники готовы были их на руках носить. Потому что стар и мал знали такую арифметику: тракторная сеялка заменяет шесть сеяльщиков, картофелесажалка — 50 человек, комбайн — 100 человек, а о тракторе и говорить нечего.
Крестьянский труд стал намного легче. Одно дело, например, подавать снопы в молотилку и другое дело молотить их цепом. Хоть мы, мальчишки, росли сильными, а с трудом могли поднять палку с тяжелым билом на конце, которым молотили хлеб. Жать серпами выходило все село. Мужчины и женщины работали весь день не разгибаясь. А убирали хлеба столько, сколько комбайн легонько убрал бы за полдня.
Но тракторов еще не хватало, приходилось пахать и на быках. Я тоже ходил за плугом и хорошо помню, как жжет руки от чипиг — ручек плуга. А по ночам всегда невыносимо ломило спину и плечи. Недаром, видно, крестьянский труд называли костоломным.
Чтобы получить технику, обеспечить население новыми товарами, надо было построить сотни и сотни заводов, во многом отказывать себе, работать не разгибая спины. А главное, надо было воспитать нового человека, который другому был бы-не волком, а другом и братом.
ВСЕ ЛЮДИ — БРАТЬЯ
Иногда начинаешь задумываться: чем порождены Балей, Калангуй, Хапчеранга — Октябрем или временем? Неужели, если бы не было Октябрьской революции, клады так и лежали бы под землей?'
Нет, отчего же, вероятно, все равно выросли бы и Балей, и Калангуй, и Хапчеранга. Скорее всего, они были бы отданы в аренду иностранным хищникам — капиталистам. Ведь перед революцией в Забайкалье вели разработку наших богатств и французы, и англичане, зарились на наши недра даже капиталисты далекой Канады. Они покупали право на добычу руды, присылали своих специалистов, а рабочих нанимали русских. Им они платили гроши, а прибыли получали огромные. Иностранные капиталисты живо бы превратили наш край в- свою колонию. И на дешевом: рабочем труде наживали бы огромные прибыли. А если бы для них оказалась выгодней механизация, может быть, они бы даже раньше нашего пустили бы электровозы, а руду на фабрику возили бы не в таратайках, а в автомобилях. Технически-то ведь они были куда более крепко вооружены, чем наш народ в первые годы Советской власти!
Но труд был бы совсем не таким. Ни Петр Худяков, ни его друзья не стали бы работать за троих-чет-верых ради того, чтобы капиталист набивал карманы хрустящими червонцами. Ни при одной власти, кроме Советской, рабочие не могли бы стать членами правительства.
То, чего в нашей стране может достигнуть каждый, людям, живущим за рубежом, даже не снится.
Недавно из поездки в Чили вернулся писатель Леонид Соболев. Там, в Сантьяго, он встретил своего школьного товарища, который после революции эмигрировал за границу. Жизнью своей он был очень доволен. «Чем занимаюсь? Держу строительную контору», — с гордостью сказал он. А когда Леонид Соболев рассказал о судьбе остальных школьных друзей (Чухновский стал героем — он участвовал в спасении Нобиле и в поисках Амундсена, Лавров — генералом и так далее), он расплакался и воскликнул: «На что же я растратил свою жизнь?»
Да, Балей, Калангуй, Хапчеранга, возможно, и были бы построены, выросли бы на них комбинаты. Но психология у людей, работавших там, была бы совсем другой: лишь бы урвать кусок для себя, а там хоть потоп… В капиталистических странах это мешает объединиться рабочим для борьбы с капиталистами. И капиталисты умело на этом играют. Они разжигают аппетит людей к деньгам. В Финляндии нам один папаша с умилением рассказывал, как у него в семье здорово поставлено банковское дело. Сын его накопил пятьсот марок. Когда родителям бывают очень нужны деньги, они занимают их у сына. А отдают долг с процентами. Например, берут сто марок, а отдают сто пять.
— Но ведь это же непостижимо, — говорили мы, — брать проценты со своих родителей, наживаться на них!
— Ну как вы не поймете, — раздражался родитель. — Ведь это же дьявольски выгодно! Взял бы я, допустим, эти деньги в банке. Ему бы я все равно должен был вернуть не сто, а сто пять марок. Зачем я эти лишние деньги буду отдавать чужому дяде — я отдам их сыну. И ему хорошо и мне!
Есть тут, конечно, и своя логика, и своя арифметика. Но как же этим развращаются души! Поэтому-то человек в капиталистическом мире поневоле становится волком.
Несколько лет назад четверо наших парней — Федоров, Зиганшин, Поплавский и Крючковский — сорок девять суток продержались без пищи в штурмующем океане. Американские корреспонденты были удивлены одним: как они не съели друг друга?
Они были поражены, что солдаты отказывались от последнего глотка воды, чтобы выручить товарища. Интересно, как бы поступили на их месте те, что даже с родных отцов дерут проценты?
В городе Ртищево живет Галина Степановна Фомичева. Когда в 1942 году фронт приближался к Воронежу, в банке, где работала Галина, в двенадцать мешков упаковали деньги — миллион рублей — и повезли их на восток. Сопровождали деньги управляющий банком, главный бухгалтер и Галина.
После одного из налетов фашистской авиации Галина осталась одна. Днем она везла мешки с деньгами на телеге, на ночь прятала их в кустах. Когда Галина подъехала к Дону, никакого перевоза здесь уже не было. С большим трудом удалось разыскать ей лодку. Дважды переплывала через Дон хрупкая девушка, перевозя народное достояние. А потом снова повезла деньги по разбитым дорогам. И везла их до тех пор, пока не сдала в банк одного из попутных городов. А ведь отвечала за эти деньги не она, а управляющий и бухгалтер!
А вот совсем другие истории. В Америке было уже несколько авиационных катастроф: самолеты взрывались от бомб, запрятанных в чемоданы пассажиров. Все пассажиры вместе с самолетом, конечно, погибали. Потом оказывалось, что эти бомбы подкладывали родственникам провожавшие их племянники, внуки, двоюродные братья. Они таким образом избавлялись от своих родичей, чтобы завладеть их наследством. После этого становится понятным недоумение американского гражданина Павла Листа, который пишет в Валей своему родственнику Павлу Архиповичу Тихоньких:
«Павел, мы очень рады, что вы поправили свое здоровье. На днях получили письмо от вашей сестры Анюты. Очень рады, что она сообщила о себе и своем семействе. Только мы не можем разобраться. Они пишут, что живут в государственном доме и пользуются государственной землей, а никаких налогов не платят. Это нам очень трудно понять.
Павел, вы упоминаете в письме о коллективе, который вас вылечил. Что такое коллектив? Принадлежит ли он государству или это частная собственность?»
ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
О сегодняшнем дне Забайкалья надо писать особую книгу: 50 советских лет неузнаваемо изменили наш край.
До революции Петровский завод выплавлял железо. Из него делали кандалы. В кандалы заковывали каторжан. Каторжане мыли для царя золото. Вот нехитрая схема дореволюционной промышленности.
А сейчас наши станки, компрессоры и машины знают многие страны мира. В самом дорогом для нас месте — в Мавзолее Владимира Ильича Ленина — стоит холодильная машина, которая сделана в Чите.
В Нерчинске тоже была кузница, которая делала кандалы. После революции нерчинцы сожгли ее, а сейчас на этом месте построили электромеханический завод. Сретенцы начинают делать морские рыбацкие сейнеры, хоть оттуда до океана две тысячи километров. Геологи на севере области открыли месторождение меди, равного которому нет в мире.
В Чите построен крупнейший текстильный комбинат, заканчивается строительство автосборочного завода. На Читинской ГРЭС каждая из пяти турбин мощнее всей Волховской гидроэлектростанции.
В Забайкалье выращивают отменный хлеб. Из шерсти, настриженной с забайкальских „овец, можно наткать столько тканей, что их хватит на десять миллионов костюмов. Причем шерсть эта тонкая, хорошего качества — забайкальцы вывели свою тонкорунную породу овец; недаром Читинская область удостоена за развитие овцеводства ордена Ленина. Многие наши колхозы получают миллионные доходы. У нас есть свои институты, техникумы, своя литература и музыка.
Недавно мы совершили путешествие по дорогам прошлого, описанное в этой книге. И дважды попадали в поселки, не отмеченные на карте, — Новые Усугли и Падь Широкую. Есть такие поселки и на севере нашей области: Наминга и Читконда например. Забайкалье так бурно растет, так стремительно развивается, что картографы поневоле отстают от жизни. Мы были в Урульге, откуда красногвардейцы уходили в тайгу, в Кадае, где похоронен поэт Михайлов, в Горном Зерентуе, где отравился Сазонов, у агинских бурят, земли которых не могло обмежевать царское правительство за десять десятилетий. И в этой поездке убедились, что история — не только достояние пыльных архивов, но и живая память народа.
В Урульге мы попытались разыскать тех, кто слышал прощальную речь Сергея Лазо. Секретарь сельсовета Люда Сахнова дала нам фамилии и адреса красных партизан.
Вооружившись списком, мы проехали на Озерную улицу, к Алексею Митрофановичу Усельницкому. С тех, пор, как отсюда красногвардейцы уходили в тайгу, прошло больше сорока лет. Но старый партизан помнил много любопытных подробностей.
Улицы Озерной тогда не существовало. Была так называемая Лягашовка. Домов в Лягашовке не было. Здесь в землянках жили кондукторы-украинцы, бежавшие с Украины от безземелия.
— Конференция, на которой решено было перейти к новым методам борьбы, проходила в школе, — рассказывал партизан. — После конференции устроили демонстрацию на станционной площади. Здесь и сказал Сергей Лазо свои прощальные слова:
— Надо не падать духом, а крепко и надежно сплачиваться, прятать оружие и запасаться новым.
Выступали некоторые из наших. А потом пришел отряд карателей во главе с капитаном Болотовым. Каратели допытывались, кто из местных жителей был в Красной гвардии. Многих пороли, а некоторых расстреляли… Большим извергом был Болотов, его зверств долго не могли выдержать даже его солдаты. В один прекрасный день они закололи его штыком и ушли к партизанам.
Мы поблагодарили Алексея Митрофановича за рассказ. Между прочим, от людей мы узнали, что один из сыновей красного партизана Усельннцкого сейчас офицер, другой — инженер; младшая дочь — врач, старшая — учительница. Вот во имя чего воевал Алексей Митрофанович: все его дети получили высшее образование. И за это они не платили ни копейки. Даже наоборот: государство выплачивало им стипендию.
С Озерной улицы мы поехали на пристанционную площадь. Вот и она, старая школа: одноэтажное приземистое здание, обшитое досками и выкрашенное в стандартный коричневый цвет. Здесь мы разыскали Василия Васильевича Лакеева. В этой школе он проработал 49 лет и в то давнее время был тут сторожем.
— Как же, очень хорошо помню ту конференцию, очень, — оживляется Василий Васильевич. — В ту нору мы как раз в школе заново покрасили полы, будто знали. Лазо я видел лично, как же. Вот в этом классе и заседали они… Что говорил Лазо — детально не помню, но помню, что очень уж красивой была речь. Сам, сам слышал!
— Он говорил: «Уезжаем мы временно, придет время — вернемся», — напомнила жена Василия Васильевича.
— Да, да, примерно так и говорил, — подтверждает Лакеев, — Вот тут, около этих дверей, в аккурат, часовой стоял, веселый такой, молоденький. А потом его снаружи поставили, чтобы, стало быть, не стеснял нас: мы в этой вот комнатке жили. Наутро Лазо на броневике поехал в Шилку — с запада уже чехи наступали. Чтобы их задержать, стало быть, командиры решили вон тот — видите? — мост взорвать. Но побоялись, что население может пострадать — поселок-то шибко близко. Взорвали другой мост — талачинский. Поехал, значит, Лазо в броневике, а каппелевцы в него из орудиев палить стали. Один снаряд шибко близко разорвался. Ну, а потом пришли каратели, и начались порки. Вот и братская могила у нас появилась…
Мы смотрели на пристанционную площадь, и казалось нам, что мы дышим воздухом самой истории. И все, о чем мы раньше читали и слышали, становилось для нас дороже и ближе. И мы видели себя уже но просто потомками погибших здесь красногвардейцев, а их преемниками, которые должны крепко держать в руках то анамя, которое водружали они на обломках Российской империи…
От Урульги до Зубарево трудно проехать даже на современном транспорте: очень крутые горы. От Зубарево до Размахнино дорога не лучше: нам дважды приходилось идти пешком. Непостижимо, как поднимался но этой дороге тяжелый и слабомощный броневик Сергея Лаао. Зато за Размахнино Сергей Лазо и его спутники были вознаграждены за тяжелый путь морем черемухи. Здесь дорога идет в туннеле, пробитом в сплошном черемушнике. Ехали они в конце августа, и, конечно же, сладких и пряных ягод здесь было полным-полно.
Лицом к лицу с прошлым мы столкнулись и в Горном Зерентуе. Начальником одной на шахт там оказался брат моего старинного приятеля, много лет работавшего начальником рудника в Хапчеранге. Сергей учился в горном институте, потом тоже работал в Хапчеранге. А теперь оказался здесь, в Горном Зерентуе.
— Хотите, я проведу вас в старые выработки? — заговорщически сказал он при первой же встрече. — Только чтобы об этом никому ни слова, поняли? Выработкам больше ста лет, ходить в них категорически запрещено. С нами, думаю, ничего не случится. Но вообще-то крепь может обвалиться в любую минуту.
И вот мы, надев горняцкие робы — непромокаемые штаны, тужурки, резиновые сапоги и каски, вооружившись карбидными лампами, спустились в шахту, Там мы долго петляли по штрекам и квершлагам, пока, наконец, Сергей не юркнул в какой-то боковой лаз. Узкий и низкий тоннель, в котором мы очутились, был наглухо перегорожен толстыми досками, Но Сергей легко отодвинул одну из них влево, другую — вправо, и через это отверстие мы проникли в штольню, пробитую еще во времена декабристов.
Первые восемь декабристов, привезенные в Забайкалье, работали сначала на руднике Благодатском, так как Читинская тюрьма была еще не готова. В Горном Зерентуе сидел только один декабрист — Сухинов. За участие в восстании Черниговского полка его приговорили к расстрелу. Затем расстрел был заменен вечной каторгой.
Полтора года гнали Сухинова в тяжелых кандалах в жару и мороз сюда, в Горный Зерентуй, вместе с уголовниками. В конце пути Сухинов узнал, что все остальные декабристы перевезены в Читу. Тогда он подговорил несколько каторжан поднять восстание, сжечь Горный Зерентуй, пойти в Читу и освободить декабристов. К восстанию стали готовиться. Но в последнюю минуту предатель выдал все планы.
Началось дознание. Суд приговорил Сухинова и еще пятерых заговорщиков к расстрелу. Назавтра должна была состояться казнь. Но вторично приговоренный к расстрелу декабрист не стал ждать своей казни: он повесился ночью в камере на ремне от кандалов. Рассказывают, что фельдшер, которого вызвали в камеру, застал Сухинова еще живым. Но он не стал спасать его ради того, чтобы подставить наутро под солдатские пули…
Назавтра состоялась казнь. Осужденных должны были расстреливать над выкопанной заранее ямой, поочередно привязывая к столбу. Прежде чем начать расстрел, палачи бросили в яму мертвого декабриста. Затем привязали к столбу одного из приговоренных. Раздался залп — и новый труп был брошен в яму.
Ото всей этой ужасной процедуры солдаты разнервничались, стали мазать. Одного несчастного офицеру пришлось добивать штыком…
Все эти воспоминания нахлынули сразу, как только мы оказались в древнем, выбитом руками каторжников каменном коридоре. Он был низкий, узкий, с потолка то и дело капала вода, воздух был застоявшийся и заплесневелый. Кто знает, может быть, Сухинов работал именно в этой штольне: тогда их проходили немного. А если и не в этой, то в другой, похожей на эту: пробивали их вручную, все они были одинаково узкими и низкими.
— Сережа, что это? — шепотом спросили мы у нашего провожатого, показывая на деревянную пробку в каменной стене.
— Это для того, чтобы вешать свечку, — так же шепотом ответил Сергей. — Тогда работали при свечах. Не будешь же держать ее в руках.
Через несколько десятков метров Сергей остановился и осветил карбидкой стену:
— Вот…
В стене была точно такая же деревянная пробка, а к ней прибит крохотный, вырезанный из меди крестик.
— Кто-то умер на этом месте. В штольне девять таких крестиков — девять душ…
Потом в шахте нам показывали деревянный желоб и деревянный насос, которые нашли в старых выработках. Они довольно хорошо сохранились: шахта была зотоплена, и они десятки лет лежали в воде. А перед моими глазами все стояли медные крестики, позеленевшие души узников, прибитые к деревянным пробкам старинной штольни…
Спускаемся в полуподвальный этаж белого двухэтажного здания, в котором находится столовая, школа, клуб. В этом здании необыкновенно толстые стены, мрачные сводчатые потолки. Это и есть Горно-Зерентуйская тюрьма — знаменитая своим драматическим прошлым.
Тюрьму давно перестроили — камеры разгородили, в комнатах сделали широкие окна. Массивную тюремную ограду тоже разрушили, оставив на память лишь крохотную частицу. И все-таки жутковато входить в гулкий коридор полуподвала — перед тобой незримо стоят тени в серых халатах: умерший от тифа студент Павел Иванов, покончивший с собой Егор Сазанов, не вставшая перед бароном Корфом непокорная Елизавета Ковальская. Это здесь она набросилась с кинжалом на смотрителя Бобровского.
Преподаватель по труду Николай Николаевич Колесников деловито открывает одну из комнат — камеру тех лет. Ее оставили в неприкосновенности.
В этой части полуподвала школьные мастерские, по коридору сломя голову носятся ребятишки. Для них эта комната обыкновенная кладовая. А я поневоле вздрагиваю, когда мы входим в сырую, угрюмую и, как бы это сказать точнее, безысходную камеру.
Она — точная копия большой одиночной камеры Алексеевского равелина Петропавловской крепости. Разве вот окно не так высоко — полуподвал. И коридор, в который выходят двери, не такой длинный.
В камере давно уже нет ни нар, ни параши, ни решетки на окне. Начинаем всматриваться в серую от времени противоположную стену, на ней все отчетливей вырисовывается бурое пятно крови.
— Кровь, — подтверждает Николай Николаевич. — Тут ведь не просто камера была, а карцер: тюрьма в тюрьме. Понятно, что не все в ней выдерживали — некоторые головы о стену разбивали. Мой дед Тимофей Егорович отбухал в этой тюрьме двадцать лет. К нему в кошевку кто-то подкинул убитого священника, вот его и приговорили к смертной казни. А когда нашлись преступники, деда «помиловали» — заменили виселицу двадцатилетней каторгой… Между прочим, в нашем поселке еще есть те, которые сидели в этих камерах. Жив еще даже и один из надзирателей. А меня уж вы извините — мне надо готовить лекцию о космосе…
Вот когда история, которую я долгими вечерами изучал по архивным материалам, стала обрастать плотью! Словно все события тех лет воскресли и прошли перед моими глазами.
Чаще всего предприятия разделяют судьбу общества. Процветает общество — процветают его предприятия, хиреет общество — приходят в упадок фабрики и заводы.
Все месторождения Горного Зерентуя при царе захирели. Из Благодатского тогда вынули за полвека сто тысяч тонн руды, остальную испортили (брали руду хищнически, выбирая ту, в которой больше металла). На Екатерининско-Благодатском месторождении полукилометровую штольню для спуска воды проходили семнадцать лет. Штольни Мальцевскую и Константиновскую проходили двадцать один год, а длина каждой была всего по километру. Труд в шахтах, конечно, был ручной. Царь и его чиновники заботились только о своих прибылях. До рабочих никому дела не было. Когда на Каре Разгильдеев дал слово добыть 100 пудов золота за год, он слово сдержал, но на кладбище прибавилась тысяча свежих могил.
Перед первой мировой войной Горный Зерентуй хотели откупить на тридцать пять лет англичане. Они походили, посмотрели выработки, поразведали недра — и не решились. К тому же началась война, и стало не до этого. Так что к семнадцатому году в Горном Зерентуе оставалась одна тюрьма.
Но вот после Отечественной войны в этих краях снова появились геологи. Поселились они в полуразрушенном здании бывшей тюрьмы и стали закладывать разведочные шахты. А вскоре не по дням, а по часам на бросовом месторождении стала возрастать добыча руды. Рудник за один год стал давать столько руды, сколько он давал при царе за пятьдесят лет. Особенно удивила Благодатна. Обогатительная фабрика здесь была построена для того, чтобы проводить опыты. Но когда пошла «большая руда», рабочие сами, без всяких проектов и специалистов, расширили ее в восемь раз. Прошло немного времени — и мощность ее увеличилась еще в два раза. Благодатка — стала давать самый дешевый свинец.
В Кадае мы поехали сразу на тот холм, где похоронен поэт Михайлов. Стоя у его могилы, мы представляли, как его оплакивал в Лондоне Герцен, как по этой вот дорожке вслед за гробом поднимался убитый горем Чернышевский. Узнав о кончине любимого поэта, скорбила революционная молодежь России, в отчаянье ломал руки писатель Шелгунов, которому так и не удалось спасти своего друга. Великий изгнанник нашел здесь свое последнее пристанище. И лишь через девяносто лет встал над этой могилой памятник, и потомки высекли на нем чеканные строки похороненного поэта:
Смело друзья! Не теряйте Бодрость в неравном бою, Родину-мать защищайте, Честь и свободу свою… Час обновленья настанет, Воли добьется народ, Добрым нас словом помянет, К нам на могилу придет!На холме растут белые ромашки, очень много. И здесь же рассыпаны куски белого мрамора: этот холм, наверное, весь из мрамора. Местами даже видны канавы, которые проходили геологи. В них сплошной мрамор. Он так же чист, как и жизнь похороненного в мраморном холме поэта.
Где-то тут, рядом, лежит киевский студент Павел Иванов. (Могила, к сожалению, не сохранилась). Ему так и не удалось стать врачом. Но он погиб на врачебном посту, спасая жителей окрестных сел от тифа.
Павел Иванов был так же непримирим, как Ипполит Мышкин.
В Акатуе заключенный Санковский кинул чайник в начальника тюрьмы Архангельского, но промахнулся. Архангельский любил повторять каторжникам: «Мне не нужен ваш труд, мне нужно ваше изнурение». Санковского заточили в карцер, а Архангельский ответил на телеграмму губернатора, который спрашивал о его здоровье после покушения, такими историческими словами: «Благодарю. Здоровье пока удовлетворительное. Страдаю нравственно. Являются приступы злобы».
После одного из таких приступов Санковского нашли мертвым. Приехал из Иркутска чиновник, стал спрашивать о возможных причинах смерти. Павел Иванов сказал: «Вероятно, его в карцере замучили».
— У нас палачей нет! — вспылил Архангельский.
— Да ты первый палач! — не дрогнув, ответил Иванов. Он был первым, кто осмелился сказать это прямо в глаза мучителю. После этого Павла Иванова увезли в Алгачи, к Бородулину…
Люди, хоронившие киевского студента, пели: «Мы сами, родимый, закрыли орлиные очи твои». А писатель Якубович, автор замечательной книги о забайкальской каторге «В мире отверженных», тоже каторжанин, посвятил своему другу стихи:
Горемыкой покинутым Далеко от друзей, В крае, всеми отринутом, В мире тьмы и цепей, Под снегами холодными Ты лежишь, как живой, Лишь волками голодными Навещаем порой. В эту полночь глубокую Грезишь ты, бедный друг, Про отчизну далекую, Про лазурный свой юг.В поселке, когда мы спустились вниз, нам указали на домик Екатерины Яковлевны Морозовой, отец и дед которой жили в этих местах. Мы спросили старушку, слышала ли она что-нибудь про Павла Иванова, а может быть, и Михаила Михайлова.
— Ну как же, как же, — обрадовалась старушка, — этот дохтур-то отца моего и деда лечил, меня, говорят, на руках держивал. Я-то его не помню, нет — маленькая была. А в нашей семье его вспоминали добром, как же! А Михайлова мой дед хоронил, Василий. Ему тогда двенадцать лет было, а запомнил: такие похороны редко в наших краях бывали! Когда помирал каторжник, его тихо так сносили на кладбище. А этого отдельно похоронили, на горе. Большой, говорят, человек был. Работать-то их гоняли на шахту вон за ту гору, где он похоронен. На этой горе будто он и сказал: «Если помру — тут схороните. Больно место хорошее — все кругом видно». Тут его, соколика, и схоронили, крест над ним деревянный поставили.
Потом Кадая долго покинута была, ничего тут не добывали. Только через пять лет после войны с Гитлером тут строить начали, добывать что-то. Людей приехало много, целых три школы открыли. Все про Михайлова спрашивают, где он похоронен, а креста того нет давно, сгнил.
На ту, на Михайлову-то, могилу меня дед много раз водил, помнила я то место и повела туда молодежь. Отыскали-таки могилку! Вот и памятник теперь поставили, царство ему небесное…
И нам показалось, что эпоха сжалась, времена сблизились. Как далек год смерти Михайлова, но то время в народе еще помнят, рассказы о нем живут!
О ЧЕМ ПЛАКАЛ ВЕРБЛЮД
Я хочу рассказать об известном бурятском писателе Жамьяне Балдановиче Балданжабоне.
У Жамьяна были умные проницательные глаза. Когда он рассказывал о чем-либо, в них вспыхивали лукавые искорки. Жамьян был мудр и спокоен, как Будда. И молодые и старые звали его богшой — учителем.
Многих людей вывел богша в люди, многим помог найти правильную дорогу в жизни. Долгие годы Жамьян был народным учителем. Учителем он стал, пожалуй, с тех пор, как сам начал собираться в школу. В год смерти Владимира Ильича Ленина Балданжабон пошел учиться в Чиндалейскую школу, пошел сразу в третий класс. Но перед этим он обучил грамоте десять мужчин и женщин.
Во всех бурятских хотонах, как и в русских селах, в те годы ликвидировали неграмотность. Маленький Жамьян научился читать и писать сам, вот ему и дали в обучение десять неграмотных. Заниматься с ними было трудно: «ученики» кочевали со скотом по степи и каждый день оказывались на новом месте. Но Жамьян каждый раз находил их и строго спрашивал домашнее задание.
Первые стихи Жамьян написал палкой на снегу, потому что не было бумаги. В год, когда в Балее было добыто первое золото, он закончил девятилетку. Через два года в Улан-Удэ у него вышла первая книжка. А еще через три года ему вручили билет члена Союза писателей, который подписал Максим Горький. В составлении первого учебника литературы на бурятском языке принимал участие тоже он, Жамьян Балданжабон.
— Багша, — сказал я как-то ему, — я немного изучал историю бурятского народа, его тяжбу из-за земли с царем. Может быть, мой рассказ неполон и есть какие-то детали, которых я не знаю?
— Детали есть, — выслушав мой рассказ, спокойно отвечал багша. — Ты вот говоришь о том, что буряты были очень бедными. Это все верно. Помню, у моего отца была черная войлочная юрта. Он любил жить у подножья горы Баян-Цаган, но из-за овец приходилось часто кочевать. Вот тут-то и начинались муки. Войлок нашей юрты был такой ветхий, что к нему страшно было прикасаться. Он, как бумажный пепел готов был вот-вот рассыпаться. О новой юрте отец мечтал всю жизнь, да так и не смог купить. А ведь он был не просто скотоводом, он знал много ремесел: седла красивые умел делать, сундуки. О простых же скотоводах и говорить нечего, они были еще бедней.
Почему трудолюбивые буряты жили, как нищие? Потому что их обирали богатые. Был у бурят главный тайша — Иринцей. Ты знаешь, сколько у него было овец? Сорок тысяч! Да-да, как теперь в крупном колхозе. Кроме овец у него была тысяча лошадей, три тысячи коров и быков. Когда его дочь выходила замуж, он дал ей в приданое сорок ящиков, доверху набитых самыми дорогими мехами. Откуда у него было такое богатство, разве он его своим трудом нажил? Нет, это было награблено у народа.
До самой революции буряты так и не получили грамоты на владение обменными землями. Когда Читу проезжал царский министр Куропаткин, буряты попробовали пожаловаться ему на эту волокиту. Знаешь, что он ответил бурятской делегации? Вот что: «Имейте в виду, если ваш народ поведет себя худо, отвечать будете вы. Если же, от чего избави бог, вздумает ваш народ проявить какую-либо вольность, сопротивляться велениям государя, тогда знайте, что вы будете моментально стерты с лица земли. От вас не останется и следа. Вот смотрите, сколько здесь русских войск, вы в один миг будете раздавлены и уничтожены. Требовать вы ничего не должны. Вы можете лишь просить милостыню».
Больше того, через год царь подарил сорок с лишним тысяч десятин земли тунгусскому князю Гантимурову. Почти все эти земли он отобрал у бурят. И было это, заметь, всего за двенадцать лет до революции.
Жамьян Балданович раскурил потухшую трубку и, поудобней устроившись в кресле, спросил:
— Ты видел, как плачет верблюд? Если погибнет верблюжонок, верблюд ходит по степи и плачет-плачет… Так вот и бурятский народ до революции: он ничего не видел, кроме своих слез. До революции мы жили в нищете и невежестве. Каждый десятый бурят был ламой, служителем дацана. В Агинских степях было восемь дацанов. Они не только выкачивали из народа деньги, но и были рассадниками заразы. Ты, конечно, не знаешь, как в них приготовляли аршан — святую воду. Ее делали ламы, каждый из них должен был в нее дунуть и плюнуть, а верующий отпить хоть глоток. До революции мой бедный бурятский народ находился на грани вымирания. Вот почему буряты приветствовали революцию, дрались за нее.
В колхозе «Россия» живет Болот Габзанов. Посмотришь на него — скромный человек, рядовой колхозник. А ведь это настоящий герой. Когда в Алханайских городах Аносов создал партизанский отряд, Болот сразу ушел к нему. Потом остатки этого отряда ушли на юг и долго бились за Былыру и Кулинду.
Или вот Жамсаран Далаев. Он был бедным, но веселым и общительным человеком. Жил он у подножия Алханая и воевал вместе с Аносовым. У Жамсарана было много детей — семеновцы дом сожгли, и дети остались без крова. Потом поймали и самого Жамсарана, увезли в Маккавеевский застенок, облили керосином и подожгли…
А Чимитдоржи Цыбиков! Он в наших краях был одним из первых комсомольцев. Он обучал людей грамоте, разоблачал кулаков, лам.
Потом Чимитдоржи поехал учиться в Иркутский медицинский институт: он видел, сколько бурят уносят в могилу болезни.
Когда он после первого курса приехал на каникулы, в наших степях появились бандиты. Райком комсомола послал Чимитдоржи в Зугалай и Хара-Шибирь с заданием поднять на борьбу с бандитами молодежь. Но бандиты подкараулили комсомольца дорогой и буквально растерзали его.
Вот сейчас я как раз работаю над поэмой о Цыбикове;
Пусть время всесильное рвет гужи, Пусть рысью бегут года. Ты вместе со мною, Чимитдоржи, Ты рядом со мной всегда. Ты, словно Данко, сгорел в борьбе, А смерти героям нет. Ты жив! И будет всегда тебе Двадцать неполных лет…Жамьян отложил тетрадь (он любил писать в школьных тетрадях). — Ну, а как теперь живут буряты, сам знаешь. Возьми хотя бы ту же Хара-Шибирь. Там сейчас такой дворец культуры, какой есть не во всяком городе. А о школе и говорить нечего: каменная, трехэтажная. Есть и комбинат бытового обслуживания, и столовая, и новые станы-гостиницы, и даже колхозный музей. А в тридцатом году там стояло лишь девять юрт. И такие изменения произошли во всей бурятской степи. Я уж не говорю о достатках в бурятских семьях. Это общеизвестно. Сейчас любая из них готова купить автомобиль…
Для бурятских ребятишек в наших степях распахнули двери пятьдесят школ. В них работают четыреста учителей. Чабан Жалсан Бальчинов сказал мне недавно: «Что за жизнь наступила, Жамьян? Чтобы сын учился, от меня, кроме родительского наказа, ничего не‘нужно. Учат бесплатно, в интернате на полном обеспечении. Чудно даже!»
Вдумайся во все это: бесправные, неграмотные до революции, и вот теперь — свои школы, свой театр, своя литература!
После революции первым в стране был отлит якутский шрифт, потом бурятский. Своей письменности у бурят до революции не было. Да и не только у бурят: разве была она у чукчей, калмыков, ингушей? У этих народов история была такая же скорбная, как и у нашего. Обо всем этом хочется написать книги, сказать: «Смотрите, люди, чего мы добились! Гордитесь этим!»
К сожалению, задуманной книги багша не успел закончить: он умер, недавно, накануне пятидесятилетия Советской власти, оставив план и первые главы нового романа.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ
До революции Россия была в промышленном отношении карликом. Теперь она стала гигантом. А если бы не было интервенции, гражданской воины, войны с фашистской Германией? Мы бы сейчас были намного ближе к нашей конечной цели — коммунизму.
Восстановление разрушенного отняло у нас двадцать лет. Но несмотря на все беды и войны, мы первыми смогли запустить искусственный спутник Земли, а это говорит о многом.
После революции время словно бы рванулось вперед. То, на что раньше уходило десять-пятнадцать лет, стало делаться за год, за два. Россия отставала от передовых стран на добрый век, эти страны надо было догнать.
Когда в нашей стране заговорили о ликвидации неграмотности, ученые за границей смеялись. Они подсчитали, что для этого надо 260 лет. А о народах Средней Азии «Вестник просвещения» писал: «Для ликвидации неграмотности населения Средней Азии и Казахстана понадобится… 4000 лет».
Сейчас в мире еще много слаборазвитых стран, которые отстают от своего века так же, как отставали когда-то мы. Начинать им приходится с того же: с ликвидации неграмотности. Наукой доказано, что год обучения в школе дает такую же прибавку в продуктивности труда, как двухлетняя практика у стан-. ка. Человек, закончивший — четыре класса, дает продукции почти в два раза больше, чем неграмотный. Недаром говорят: «За одного ученого двух неученых дают».
Если отсталые страны Азии и Африки, (их около восьмидесяти) пойдут по капиталистическому пути, им придется догонять развитые страны 80—100 лет.
И то, если их не съедят раньше капиталистические хищники. Если по социалистическому — гораздо меньше: это доказал Советский Союз.
За полвека наш народ многому научился. Мы давно уже не приглашаем для консультаций Робертов Грантов, наша страна выпускает инженеров больше, чем Америка. И кое-кого мы многому можем научить сами.
Мне пришлось побывать на строительстве Западно-Сибирского металлургического комбината. То, что там делалось, похоже на фантастику. Я видел в работе прокатный стан, который пока только проходил испытание.
Представьте себе гигантскую печь, в которой разогреваются огромные слитки металла, похожие на шпалы. В этом адском пламени они автоматически переворачиваются, перекатываются и сами выползают на конвейер. С конвейера они попадают в валки прокатного стана, вытягиваются и свариваются друг с другом. Получается толстый, бесконечной длины брусок. Следующие валы обжимают этот брусок все больше, он становится все тоньше. Много раз металл выскакивает из одних валков и влетает в другие. И так до тех пор, пока он не примет форму полосы, проволоки или угольника. Из последнего валка металл вылетает со скоростью курьерского поезда. Пока он летит, автомат отмеряет нужную длину и на ходу разрезает эту бесконечную ленту на куски. Металлические руки ловко подхватывают остановленные особыми тормозами полосы и постепенно передвигают их в дальний угол цеха. Когда они остынут, другой автомат сгребет их в кучу, перевяжет проволокой, и подъемный кран перенесет гигантские пакеты в вагоны.
Глядишь на такую работу, и кажется, что все делается само по себе. Начальник смены стоит на мостике да покуривает трубку, дежурные инженеры только поглядывают на приборы — во всей смене занято лишь несколько человек.
Волховскую ГЭС начинали строить вручную, не имея никаких машин. «Года три назад здесь еще был семнадцатый век. На мирном Волхове, на порогах ловили сигов, — писал Алексей Толстой. — Убогие деревеньки жили кое-как… Но вот в 1918 году пришли питерские, сколотили сарай, сложили туда инвентарь — всего инвентаря было шесть топоров. Питерские сказали, что приехали строить в этом месте гидроэлектрическую станцию на восемьдесят тысяч лошадиных сил, самую большую в Европе. Местные жители ложились на землю от смеха — с шестью топорами инвентаря, на советских деньгах — строить самую большую в Европе станцию! Продолжали ловить сигов».
А теперь в далекой Чите пускают электростанцию, на которой одна турбина мощнее всей Волховской ГЭС, и никто не удивляется. И ведь эта электростанция, эти домны и прокатные станы сделаны не где-нибудь в Америке, а в стране, где всего пятьдесят лет назад главными инструментами были лом и лопата, где большинство рабочих не умели ни писать, ни читать.
Главный секрет наших успехов в том, что хозяевами страны являются сами рабочие. Нашим государством управляют сегодняшние и вчерашние слесари, токари, машинисты, шахтеры, лесорубы. А в странах капитала — буржуи и их ставленники.
То, от чего мы избавились пятьдесят лет назад, в капиталистических странах осталось по-прежнему— одни там купаются в роскоши, другие прозябают в нищете.
Шейх Сабах эль Сабах — наследный принц Кувейта и нефтяной король — решил удивить свой нищий народ — заказал «кадиллак» из чистого золота.
Один из нефтяных магнатов миллиардер Нубару Гюлбеякьян играет в кегли, тоже отлитые специально для него из чистого золота.
Гюнтер Закс в Западной Германии оборудовал себе самую дорогостоящую уборную в мире с системой зеркал и роскошной росписью стен и потолка. Зеркала создают полную иллюзию, будто их хозяин находится во дворе старинного замка. Когда я читаю об этом, перед моими глазами встает фигура безработного Эро Лаонена, с которым я познакомился в финском городе Лахти. Три месяца он безуспешно искал работу. Его товарищи уезжали кто в Швецию, кто в Австралию, а Эро уехать не мог: у него были больные родители. И когда мы прощались с ним, у него, рослого двадцатилетнего парня, рукопожатие было таким вялым, словно он только что вышел из больницы. Там же, в Финляндии, я попал во вчерашний день нашей родины. Меня пригласили на профсоюзную конференцию.
То, что говорилось с трибуны, шепотом переводила мне Ира Лебедева (отец ее русский, он и обучил Иру русскому языку).
Один за другим сменялись ораторы. Они говорили о том, что капиталисты обманывают рабочих, что с работой трудно, что квартиры очень дорогие, что богачи живут в роскоши, а бедняки прозябают в нищете.
— У нашего хозяина квартира из пятнадцати комнат, — говорил один. — А ведь у него семья всего три человека. Моя семья состоит из восьми человек, а живем мы в одной комнатушке. Когда же это, спрашиваю я вас, кончится?
— Дети у нас беспризорные, — жаловался другой, — в нашем районе нет ни одного детского сада, а сами мы помногу работаем, присмотреть за ними некому. Все их воспитание — с улицы, вот и растут хулиганами.
— В прошлом году мы объявили забастовку, — рассказывал третий. — Остановили все городские автобусы. Но этим воспользовались частники: они вывели на линию свои желтые, зеленые и оранжевые автобусы, крепко нажились на этом и сорвали нам забастовку. Правильно написано на этом лозунге, — выступавший показал на лозунг над сценой: «Наша сила — в единстве!» Всем рабочим надо выступать единым фронтом.
Я слушал эти речи и чувствовал себя так, словно находился в машине времени. Обо всем этом мы знаем лишь по книгам да воспоминаниям старых рабочих, а тут вот оно — наяву. И мысли невольно возвращались к одному и тому же: а станут ли когда-нибудь и здесь рабочие хозяевами?
Если у человека в нашей стране случится какая-то беда, обидят его, несправедливо уволят с работы, он идет в райисполком, в райком партии, в вышестоящие органы. И Советская власть обязательно восстановит справедливость, накажет виновных. Потому что Советская власть — это народная власть.
Народ избирает своих представителей — депутатов, а они уж решают, как поступить в том или ином случае, советуются, как быть. От слова «советоваться», «совет» и идет название Советской власти. За то, чтобы управление в нашей стране стало именно таким — народным и коллективным — и проливали свою кровь рабочие и в 1905 и в 1917 годах.
А куда пойдет рабочий за помощью в капиталистической стране? К хозяину, который его выгнал?
В парламент, в котором заседают буржуи? Пойти ему некуда. Глядя на Советский Союз, он понимает, что должен сам бороться за свои права. Поэтому капиталисты не могут без злобы смотреть на нашу страну. Поэтому они всячески клевещут на нас. В Америке например, дошкольников знакомят с Советским Союзом по книжке, которая называется: «Первые сведения о Советском Союзе». На первой странице этой книжки напечатан портрет уже известного нам царя Николая II и всей его вороватой семейки. Внизу стоит подпись: «Истинные правители России». Мы, сибиряки, изображены в этой книжонке в изодранных зипунах и допотопных треухах, обросшие густой щетиной. А в фотоальбоме «Дети мира» есть снимок, на котором наши ребятишки сидят за столом рубленой избы и жадно черпают из общей чашки какую-то бурду…
Но как бы ни упражнялись буржуи в клевете, весь мир видит и знает, чего могут достичь рабочие, если они возьмут власть в свои руки. Даже американский журнал «Лайф» писал недавно, что Советский Союз, который начал на пустом месте, стал «второй в мире индустриальной державой, обладающей мощной и в то же время технически совершенной системой обороны и системой космических исследований».
Сейчас мы уже не одни строим светлое будущее— с нами плечом к плечу идут народы многих стран. Общими силами мы построим новый прекрасный мир. А для этого нам всем надо хорошо потрудиться.
ЭПИЛОГ
Когда в России произошла Октябрьская революция, американская полиция арестовала руководителей организации «Индустриальные рабочие мира». Это была пролетарская организация, и капиталисты боялись, как бы рабочие и в Америке не замахнулись на своих хозяев. Они стали рассказывать о нашей революции чудовищные небылицы. А докеры города Сиэтла попросили русских моряков прислать к ним делегацию: пусть сами рабочие расскажут о своей революции.
И вот из Владивостока вышло небольшое судно. Неистово пыхтя, оно взяло курс к берегам Америки. На следующий день разыгрался шторм. Волны поднимались все выше и выше, белые башлыки с их гребней со свистом срывало ветром. Старенькое судно скрипело по всем швам. Капитан Бедаль требовал возвращения в порт. Но комиссар Николай Федорович Новиков, участник Цусимского боя, приказал не менять курса. Его поддерживала команда.
После семнадцати суток отчаянной борьбы с океаном первое судно под флагом Советской Республики торжественно входило в американский порт. Все корабли, которые стояли в Сиэтле, отдали красному флагу салют. На пристани делегацию ждала огромная толпа рабочих с женами и детьми. Но первыми на палубу поднялись полицейские. Они наложили на судно арест и разрешили сойти на берег только одному члену экипажа.
На берег сошел Новиков. Вечером он выступил перед рабочими и рассказал о Ленине, о революции. Пять тысяч рабочих устроили посланцу Советской страны невиданную овацию; они на руках вынесли его из зала. А через несколько дней по их требованию арест с судна был снят. Вся команда сошла на берег.
Наступило время возвращения на родину. В этот день на пристань пришел почти весь город. Американские рабочие вручили Новикову письмо-приветствие «Ленину с представителями большевистского, правительства и через них рабочим России». В нем они выражали восхищение революцией и свою солидарность с русским рабочим классом.
Письмо товарищу Ленину бережно завернули в асбест и спрятали в машинном отделении. А когда вышли в океан, его запечатали в банку и зашили в спасательный круг. Письмо ни в коем случае не должно было погибнуть.
Снова начался шторм, старое суденышко упорно боролось с океанскими волнами. Капитан не разговаривал с командой и почти не выходил из своей рубки.
Топливо кончилось, судно еле-еле дошло до японского порта Кобе. Здесь капитан навсегда сошел на берег и рассказал японским властям, что на его судне не матросы, а большевистские вожаки.
Полиция перевернула корабль вверх дном, но письма, о котором говорил капитан, не нашла. Когда команду оставили в покое, она сама исправила повреждения и повела судно во Владивосток.
Письмо американских рабочих было доставлено в целости и сохранности.
Было это в конце 1917 года, а судно носило название «Шилка».
Названо так оно было в честь той самой таинственной реки, с истории поисков которой мы начали это повествование.
Георгий Рудольфович Граубин
НА БЕРЕГАХ ТАИНСТВЕННОЙ СИЛЬКАРИ
Художник В. А. Адов Редактор Т. Н. Шавельская Худож. редактор Э. Приходько Техн. редактор С. X. Гуо Корректоры В. М. Ермакова и Г. А. Суслова
Сдано в набор 25 марта 1974 г; Подписано в печать 25 июня 1974 г. Формат 84Х108 1/32 Печ. л. 9,5 (уел. л. 15,96) Уч. — изд. л. 15,15. Бумага тип. № 3. Тираж 50 000. Заказ 1711. Цена 56 коп.
Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Иркутск, ул. Горького, 36.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда», г. Иркутск, ул, Советская, 109.
Примечания
1
Степанов — семеновский полковник (примеч. автора).
(обратно)2
Григорием звали атамана Семенова (примеч. автора).
(обратно)

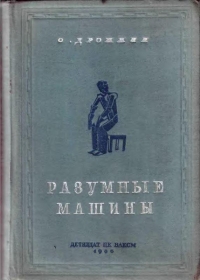

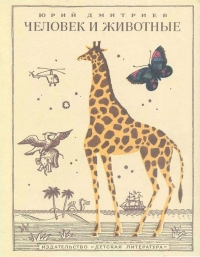

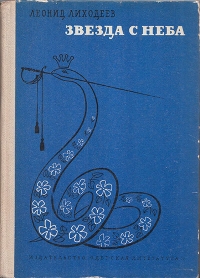

Комментарии к книге «На берегах таинственной Силькари», Георгий Рудольфович Граубин
Всего 0 комментариев