Татьяна Сергеева Вольные упражнения
Рисовал Капыч
© Сергеева Т. А., текст, 2018
© ООО «Издательский дом «КомпасГид», 2018.
* * *
Анюта
И чёрт меня дёрнул связаться с этой гимнастикой! Училась бы в школе спокойненько. Отличницей была бы… Наверно… А так… С пяти лет, кроме «нельзя!» и «надо!», никаких слов не слышишь… Рабыня я, что ли, Ирине? Разоралась на меня сегодня, как ненормальная. Боюсь я, видите ли, делать этот проклятый новый элемент на бревне. Третий месяц мат подстилаю… Ну и что?! Да, боюсь! Ирина – олимпийская чемпионка, чемпионка мира, Европы и ещё чего-то там, но в своё время такой акробатики, как у меня, в глаза не видела. А с меня требует. Орёт на меня сегодня. А я в сторону смотрю и мат с бревна не убираю. Она психанула, конечно, скинула его на пол да как закричит:
– Полезай сейчас же!
Если честно, то я, конечно, понимаю, что давно пора всё делать без страховки, но если бы она по-другому как-нибудь… А так – назло Ирине я схватила мат за край и опять его на бревно тащу. А она не даёт. Почти подрались. Ирина как дёрнет меня за волосы, у меня даже голова мотнулась…
– Убирайся из зала, паршивая девчонка! Чтоб глаза мои тебя больше не видели!
Ну и на здоровье! Я сумку подхватила и спокойненько за дверь. Девчонки рты пораскрывали – прямо кино! Смотрят, что дальше будет. А дальше ничего и не было. Ирина ко мне спиной повернулась, а я, хоть и здорово реветь хотела, даже виду не подала. Морду топориком – и в раздевалку. Там, конечно, за дверцей своего шкафчика поревела. Потом умылась в туалете, но физиономия распухшая. Заметно…
Иду по улице, вечер такой хороший, морозец лёгкий. Снег блестит, хрустит под ногами. Скоро Новый год. У нормальных детей – каникулы. А у нас на каникулах вместо одной тренировки в день будет две. А вот и нет! В этом году у меня будут каникулы, как у всех моих одноклассников. Ирина думает, что я завтра как ни в чём не бывало на тренировку приду. Не дождётся! Больше я в зал – ни ногой! Пусть она сначала своих собственных детей заимеет, их гимнастике учит и за волосы дёргает!..
Такая злая домой шла, что не заметила, как перед своей дверью очутилась. Прислушалась – тихо. Может, и обойдётся сегодня. Хватит с меня Ирины. Ключ в замке почти неслышно повернулся. На вешалке чужой одежды нет – уже хорошо. Бабаня сегодня сутки дежурит, её куртки тоже нет. А мамино пальто висит. Совсем старое пальто стало, манжеты такие затёртые. А новое пальто купить – у нас денег не хватает.
Я вошла в комнату – слава богу! Гости, наверно, совсем недавно ушли. Стол завален, как всегда: пустые консервные банки, высохшие плавленые сырки, обкусанные солёные огурцы… А мама спит, положив голову на грязный стол. Я открыла форточку, освободила себе часть стола и села дописывать упражнение по английскому, которое начала писать ещё до тренировки в нашей гимнастической раздевалке. На душе скребли кошки, я взяла и включила наш старый телик – он мне никогда не мешал. Там шёл какой-то скучный фильм про войну. До чего муторное занятие – искать незнакомые слова в словаре! Но ничего не поделаешь – надо. Как только начала за границу ездить, сразу поняла, что такое иностранный язык. Без языка в чужой стране всё равно что глухонемая. Но сегодня больше заниматься не могла – устала. Бросила всё и, не раздеваясь, плюхнулась на постель. Когда у мамы засиживались гости и Бабаня забирала меня к себе, я всегда засыпала у неё не раздеваясь. И сегодня тоже отключилась под крики и пальбу по телевизору.
Проснулась ночью – экран был белым, гудел сигнал, а мама совсем завалилась на бок, вот-вот упадёт.
Я выключила телик, отодвинула серое одеяло с маминой давно не застилавшейся кровати, потрясла её за плечо.
– Ма… Мама…
– Это ты, Анюта? – Она смотрела на меня, почти не узнавая. – Пришла?
– Пришла, пришла… – Я трясла её за плечо, не давая снова заснуть. – Иди на кровать, мама… Давай помогу.
Она послушно навалилась на меня всей тяжестью, и мы почти упали на её постель. Я уложила её поудобнее, поправила подушку. Завтра проснётся, опять будет плакать и просить прощения. И обещать, что «больше никогда, никогда»…
Мама опять что-то пробормотала.
– Ты что, мама?
– Как тренировка?
Я даже рассмеялась.
– Нормально. Спи.
Я выключила свет, стянула с себя колготки, платье, снова залезла под одеяло. Лежала в темноте и обдирала мозоли с ладоней. У всех гимнастов на ладонях толстые мозоли от снарядов. Такие корки нарастают… С мальчишками за руку никто из наших не здоровается. Ладони привычно пахли магнезией. Я почувствовала её знакомый щекочущий запах в носу и громко чихнула. Спать совершенно расхотелось. Я ковыряла мозоли и думала вот о чём.
Если у мамы опять сегодня были гости, значит, мою стипендию она получила и, наверно, от неё уже ничего не осталось. Вот тебе и цитрусовые… Как член сборной страны я получаю большую стипендию. Для того чтобы работать в зале, нужны силы и железное здоровье. Я каждый раз уверенно вру Ирине, когда она спрашивает, ела ли я сегодня апельсины и орехи. Я их не ем. Обедаю в школе как все: суп, макароны с котлетой и чай. Мама берёт у меня доверенность и получает мои деньги. А когда мы приходим в кассу вдвоём и я сама расписываюсь в ведомости, бухгалтер всё равно отдаёт деньги ей. И все считают, что так и должно быть. Сама я, конечно, никому ничего не говорю. А с мамой ссорилась. Когда она мои кроссовки продала, такой ей скандал закатила… Жалко было ужасно – ни разу не успела надеть, только выдали… Наревелись тогда обе, а что толку… Через месяц новый тёплый тренировочный костюм кому-то загнала. В команде пришлось соврать, что где-то украли. Но теперь – всё. Когда мама узнает, что я бросила гимнастику, ох и переживать будет, уговаривать, плакать. Но прости, мамочка, в зал я больше ни за какие коврижки не вернусь! Буду самая обыкновенная школьница. Буду в школу ходить, получать нормальные отметочки, буду гулять когда вздумается, на лыжах кататься, есть мороженое в своё удовольствие, ну и всё такое прочее.
Я не заметила, как заснула. И снился мне всё тот же наш гимнастический зал, в котором зимой страшно холодно, а летом невыносимо душно, потому что в нашей спортшколе нет денег на стеклопакеты. Мне снилось всё то же опостылевшее бревно в десять сантиметров шириной. И злющая Ирина, Ирина Николаевна Масленникова, мой тренер. Или – «моя тренер»? Интересно, как правильно?
Ирина с ненавистью смотрит на меня и громко и гулко кричит через весь зал:
– Прыгай, трус!
А я стою на бревне и думаю, что если я сейчас прыгну и отклонюсь в прыжке в сторону хотя бы на сантиметр, то обязательно лицом к бревну приварюсь или на голову встану…
– Трус! Трус! – снова кричит Ирина.
Я резко оттолкнулась, подпрыгнула, выполнила какой-то фантастический прыжок, раскрылась и… И вдруг почувствовала, что какая-то мягкая волна стала поднимать меня всё выше и выше, под самый потолок, и я полетела по кругу, не делая никаких движений руками, раскинув их широко-широко, и все внизу стояли и восхищённо смотрели на меня.
Ирина
Кому нужны спортивные данные, если нет спортивного характера?! Талантливая девчонка, талантливая, но как тяжело осваивает всё новое! Бьёшься, бьёшься – ни с места, а чуть голос повысишь – сразу брык, и вон из зала… Я, конечно, тоже не на высоте. Макаренко в юбке… Прекрасно знаю: чем больше кричишь на ученицу, тем у той всё хуже получается. И за косу дёрнула девчонку, словно нельзя было сдержаться! Ведь видела, видела, что Павел подошёл, он всегда так подходит, когда я слишком распаляться начинаю. Просто подойдёт и встанет где-нибудь поблизости. Сам-то он на свою Светланку никогда голоса не повышает. Отзовёт в сторону и шепчет ей что-то, чуть ли не на ухо… Иногда, когда он вот так подходит, я как-то справляюсь с собой, стихаю, но в этот раз не получилось, вывела из себя, заноза этакая… Видимо, ничего у нас с ней не получится.
Вот жизнь наша тренерская: целиком от такой соплячки зависит. Так мало детей просто способных к гимнастике, а талантливые – вообще подарок судьбы. Попадётся тебе в руки такой пятилетний бриллиантик – и трясёшься над ним десять лет: как бы вырастить да не сорвать, не погубить при этом… А бриллиантик этот вырастает и становится нахальной бессердечной девчонкой, которая каждую тренировку буквально издевается над тобой. Я ведь знаю её возможности, знаю, она готова к этому злополучному элементу, может его сделать – но страх… И никаких усилий над собой, чтобы его преодолеть. А без риска гимнастики нет. Надо всё время расти, пробовать новое, двигаться вперёд. А мы как забуксуем на месте, каждый раз со скандалом, с руганью, с разрывом. Восемь лет жизни ухлопала на этот подарок, и вот теперь у разбитого корыта. Ну попали, попали мы в молодёжную сборную, но ведь там надо всё время что-то новое показывать, а мы на прошлом сборе как начали этот элемент на бревне пробовать, так до сих пор на мат и прыгаем. И завелась я почему – вызов на очередной сбор в кармане лежит, а везти в Москву нечего…
Сегодня третий день, как эта паршивая девчонка не появляется в зале, но я за ней больше не пойду. Привыкла, что каждый раз возвращаю. Хватит.
И всё-таки я вздрагиваю и дёргаюсь на каждый стук входной двери. Через час надо заканчивать тренировку, а я ловлю себя на мысли, что всё ещё жду: вдруг явится, может быть, в школе какое-нибудь мероприятие, не знаю, что там ещё…
Кроме Анны, у меня ещё двое. Первый разряд. Девчонки старательные, работать я их научила, хотя часто уезжаю с Анной, приходится их бросать на других тренеров. Но растут, успевают, на городских соревнованиях смотрятся вполне прилично. До сборной города я их, конечно, дотяну. Но дальше – вряд ли, не те данные.
Нарочно встала спиной к двери, внимательно слежу за своими ученицами.
– Петрова, не путай руки с ногами! И не ходи чемоданом! Следи за собой всё-таки…
А что, если я зря Аньку ругаю? Если всё дело не в ней, а во мне? Если бриллиантик да не тому ювелиру достался? Если я просто бездарный тренер и ничему не могу научить? Но Майку-то научила когда-то! Майка… Как часто я теперь её вспоминаю. У Майки золотой характер, работать с ней было одно удовольствие. Олимпийской чемпионкой стала, а всё такой же Майкой осталась, так до последней тренировки мне в рот и смотрела, верила, как Господу Богу. В детстве всё твердила, что тренером хочет быть, но школу окончила – и в медицинский… Что-то давно я её не видела, надо будет позвонить вечерком.
Вспомнилось вдруг: давно это было… Мы с Майкой с тренировки шли, усталые обе, чуть живые. А в этот день в метро новую станцию открыли. Вот Майка и пристала: давайте, говорит, съездим, посмотрим… Поехали. Вышли на той станции. Майка голову задрала, ахает:
– Ирина Николаевна, вы только посмотрите, люстры какие!
А я от усталости глаз поднять не могу. Сама ни за что в такую даль не потащилась бы, всё ради Маечки… Иду в пол смотрю. И вдруг застыла: вижу, идут впереди меня потрясающие ноги – ровненькие, коленочки развёрнутые, стопа маленькая, аккуратная. Я Майку – в охапку, и в вагон, за этими ногами. Смотрю, девчушка – не больше пяти, сопливая, глазки смышлёные, и мать её за руку держит, совсем хмельная…
Вот так мы и познакомились с Анной Дружининой, от которой я теперь целиком завишу. И с матушкой её тоже… Ох уж эта матушка! Я в одну сторону девчонку тащу, а она в другую. И ведь как девочка любит, жалеет мать, слова лишнего по её адресу не простит – замкнётся сразу, набычится, и взгляд сразу становится такой стеклянный – просто беда.
– Где твой толчок, скажи, пожалуйста? От бедра толкайся, от бедра!
Вера Чижова, мой лупоглазый и добрый Чижик, неудачно сгруппировалась и стукнула себя коленом под глаз. Шлёпнулась на мат и заревела.
– Ещё раз так плечом дёрнешь – и воткнёшься головой. Хочешь попробовать? Ну-ка, посмотри на меня! Синяк будет, никуда не денешься. Ну, не реви! Майка как-то на тренировке себе сразу два зуба собственным коленом высадила…
Вот Анна – та как кошка. Координация фантастическая: из любого положения вывернется и встанет на ноги. Бывало, на акробатике так рискованно раскроется, что я буквально бросаюсь под неё. А она выкрутится и так довольно-виновато из-под своих татарских бровей посмотрит. Только в чёрных раскосых глазах ещё долго-долго тает страх…
Вторая моя младшая – Петрова – опять стоит посреди ковра. После акробатики растрепалась, разлохматилась, одна лента на кончике косички болтается, а вторую успела где-то потерять. Малыши разучивают на ковре свои первые в жизни вольные упражнения, и деликатная Петрова пережидает, когда можно будет высвободить себе пространство и разбежаться на бревно.
– Маша, иди сюда…
Пришлось доставать свою расчёску. Распустила её волосы, расчесала, туго заплела одну косицу, подвязала её колбаской.
– Ты чего посреди ковра стоишь? Ты год так будешь стоять. Прыгай. В зале реверансы не делают. Ты – старшая, вот и прыгай, а малыши пусть подождут…
Подошла Вера Павловна – тренер этих младших.
– Ир, обрати внимание вон на ту девочку в голубой футболке. По-моему, там есть над чем работать.
– Я посмотрю… как-нибудь.
Вера Павловна поджала губы. Не хватало ещё, чтобы она обиделась.
– Обязательно посмотрю. Вот со сбора приедем, я её как следует посмотрю.
Машка пощупала косицу, вернулась на прежнее место, разбежалась и сделала неудачный наскок на бревно.
– Руки жёстко ставь, поняла?
Скоро первенство города, надо подтянуть.
– Ну что, Ирина? – Подошёл Павел. – Может быть, мне сходить за ней?
– Не надо.
– А вдруг заболела?
– Есть телефон.
– Может, всё-таки сходить?
– Много чести.
Павел сочувственно вздохнул:
– Ты права.
Павел у нас старший тренер. Он меня отлично понимает и во многом согласен со мной. Но с потерей Анны для школы такой хвост потянется, придётся давать объяснения на всех уровнях: почему не удержали, почему потеряли, почему не вернули? И выводы, выводы, выводы… И самый главный: плохой, значит, у девочки тренер, если не сумела найти с ней контакт, общий язык…
Что ж, видимо, тренер, действительно, скверный.
– Ладно, Паша, подождём ещё пару дней.
– А сбор?
– Откажусь. Возьму и заболею. Свинкой.
Чёртова профессия! Но ничего другого я делать не умею.
После тренировки все собрались в учебной части пить чай. Наши милые женщины, которых я столько лет знаю, люблю иногда, а порой ненавижу до изнеможения, хлопотали вокруг стола. Я принесла с собой утром огромный торт. Мужчины шумно рассаживались и традиционно однообразно шутили, что с меня причитается и что я тортом не отделаюсь – тридцать пять всё-таки…
Когда сбили естественный послерабочий голод, шумно заспорили, заговорили. Конечно, всё вокруг нашей любимой гимнастики: ругали учеников, рассказывали последние спортивные новости, на ходу решили, кто будет судить на первенстве города от нашей школы… Всё как обычно. И вдруг мне стало так нестерпимо скучно, что я замолчала и как-то отчуждённо подумала, какие же мы ограниченные, однобокие люди! С раннего детства погружены в свою замкнутую жизнь («О спорт, ты – мир!»), детство, юность проходят в зале, учимся дальше в своём институте физкультуры, снова возвращаемся в тот же зал… Женимся, расходимся – всё здесь же, среди своих, создаём на тренировках себе подобных, которые так же, как мы, навсегда врастают в нашу спортивную землю и передают эту эстафету дальше…
За всю свою сознательную спортивную жизнь я впервые думала о себе и своих коллегах именно так. Подумала – и стало стыдно. И Павел, сидевший по другую сторону стола, словно понял, о чём я думаю, как-то настороженно и вопросительно посмотрел на меня. Нет, я никогда не считала, что живу зря: несколько лет я выступала за свою страну, в мою честь играли наш гимн… Потом поднялась на пьедестал моя Майка, вот и Анна несколько раз выиграла международные соревнования… Откуда такое вдруг настроение – не знаю. То ли Анна виновата, то ли сегодняшняя бездарная тренировка, то ли мои тридцать пять. Я сидела рядом со своими коллегами за письменным столом в тесной учебной части, даже острила и смеялась, а сама думала: когда же эта бесконечная профессиональная болтовня всем надоест и мои вечно спешащие семейные коллеги засуетятся, собираясь домой?
Я выросла в этом зале, в котором сейчас работаю, и почти все мои сослуживцы, как совсем молодые, так и более старшие, тоже созданы, вылеплены нашей спортшколой. А когда с людьми живёшь и работаешь рядом с детства, твоя судьба сплетается с их судьбой, как корни близко растущих деревьев. Не всё мне нравится в моих коллегах, и меня они, наверно, иногда выносят с трудом… Порой наш тесный, немногочисленный клан сотрясают ураганы: все вдруг начинают бурно ссориться друг с другом, наши мужики поспешно снимают стресс своими мужскими методами, кое-кто может в зале и под мухой появиться, чем вызывает ещё большее негодование женской половины, которая выясняет отношения в истерических выпадах и слезах… Но потом буря стихает, мы устаём от бессмысленных ссор и столкновений, вспоминаем о том, что нам никуда друг от друга не деться, что надо жить в этом зале ещё долгие, долгие годы… Всё возвращается на круги своя: скоро опять соревнования, надо готовить команду, которая за время наших баталий совсем развалилась.
Мы всё знаем друг о друге. Иногда это хорошо, иногда очень мешает, но, не дай бог, случится какая-то беда, мы все готовы мчаться на помощь… В тот год, когда болела мама, мои товарищи столько сделали, чтобы заменить и подстраховать меня… Это забыть невозможно.
В те не столь далёкие времена, когда нашу страну сотрясал экономический кризис, спорт для нашего правительства словно перестал существовать. Мы не ездили на сборы, из команд убрали врачей и администраторов, зарплаты тренеров обесценивались на глазах. Спортшкола быстро осиротела: хорошие специалисты разбегались в поисках заработка кто куда. Светлана Михайлова, отличный малышовый тренер, сделалась «челночницей», я до сих пор часто вижу её на нашем рынке. Она так и не вернулась к нам. А вот Слава Чесноков, лучший в городе тренер по акробатике, имея большую семью и испугавшись безденежья, ушёл работать на кладбище. Лет пять, наверно, был могильщиком. Но не выдержал, снова вернулся в зал.
– Ирина! – Это Павел. – Ты так быстро ушла…
Дул холодный, мокрый ветер, падал снег и тут же таял на тротуаре. Хотелось домой.
– Ты сегодня на себя не похожа. – Он сбоку посмотрел на меня. – Напряжённая какая-то, злая и притворяешься много… Ты домой?
Я кивнула.
– Тебя проводить?
Я прямо посмотрела ему в лицо. Он отвернулся, сказал чуть виновато:
– Но у тебя рождение, а ты одна… – и, не дожидаясь ответа, он крепко сжал мне запястье и, перебежав улицу, скрылся в проходном дворе.
В детстве мы тренировались в одном зале. Потом разбежались. Я оторвалась, ушла далеко вперёд. Встретились мы уже в институте и в нашу спортшколу вернулись вместе.
Конечно, и до сближения с ним у меня были какие-то привязанности, иногда достаточно длительные, но работа в зале не позволяла расслабляться. Сначала выступала сама, было некогда бегать на свидания, потом увлекла работа, появилась Майка, опять было не до личной жизни… Гимнастика – беспощадный вид спорта, она требует от человека всей его жизни, всей без остатка. Тренировки нельзя прерывать даже на несколько дней, навыки, приобретённые с таким трудом, теряются мгновенно. Я не была в отпуске, кажется, лет восемь: сначала нельзя было прервать занятия с Майкой, потом начала работать с Анюткой. Оформляла отпуск и ехала на сбор. Так делают все наши, у кого есть перспективные ученики. Постепенно я пришла к выводу, что семья, муж – не для меня. Какой из меня семейный человек, если я десять месяцев в году на сборах? А муж – значит, ребёнок. Потерять год, чтобы родить, а потом постоянно дёргаться между залом и домом – то температурка, то животик, то сопельки… Я давно переболела этим делом, и даже мама смирилась, проклиная мою мужскую профессию…
Но умерла мама. Квартира сразу опустела, хозяйство развалилось.
Павел был давно женат, имел двух девочек-двойняшек, о которых мог говорить часами. В гимнастику он их не тянул – не те способности. Тренер он – от Бога, кроме основательных знаний, у него потрясающая интуиция и работоспособность, потому и попали они со Светкой в сборную страны на год раньше нас с Анной. Мы с ним очень много времени проводим вместе: поезда, самолёты, сборы, соревнования… И постепенно наши простые, приятельские отношения стали усложняться. Нам теперь трудно расстаться даже ненадолго. Всё новое, найденное в работе с ученицами мы непременно выверяем друг на друге, и всегда есть немало поводов, чтобы долго обсуждать что-то по телефону после тренировки… И когда я слушаю Павла и отвечаю ему, я чувствую и понимаю, что это – мой человек, мой, такой бесконечно понятный и близкий. Я вижу, что и Павел тянется ко мне, и от этого люблю его ещё преданнее и сильнее.
И эта тупая постоянная боль была с нами всегда, стала привычной и неизбежной. Но иногда…
Иногда я позволяла себе помечтать. Я мечтала о том, как было бы хорошо жить вместе с Павлом, делить с ним каждый день, готовить ему еду и стирать его рубашки… Я отдала бы ему Анютку, он ездил бы с девчонками на сборы, а я в родной школе растила бы для него следующее поколение. Провожала, встречала, ждала…
Но, помечтав немного, я со вздохом опускалась на землю. Я слишком далеко зашла и ничего не могла изменить в своей раз и навсегда устоявшейся жизни.
Анюта
На уроках сидеть – настоящая пытка. Последние два года я редко бываю в школе. Всё время в разъездах. Учусь кое-как. Ирина говорит: «через пень-колоду». А в классе – напряжёнка. Чем меньше я бываю в школе, тем сильнее меня не любят и ребята, и учителя. Выхожу отвечать к доске, все замирают – так и ждут, что я ляпну какую-нибудь глупость. От каждой моей ошибки все просто в щенячий восторг приходят. Потому и повода стараюсь не давать: когда мы дома, хожу в школу, как все, стараюсь уроки учить так, чтоб от зубов отскакивало. И, между прочим, четвёрочки с пятёрочками в моём дневничке не переводятся. Учителя хоть и злятся, но вынуждены мне хорошие отметки ставить. А чего мне всё это стоит, наверно, только Ирина знает. В прошлом году больше всего с историей мучилась. Средние века. Начнём Англию проходить – а нас на сбор вызывают… Приезжаем – уже Германию проходят. Уедем на соревнования, вернёмся, а в классе про Жанну д’Арк говорят… Такая каша была в голове. Один раз у доски сморозила что-то, так Ромка Генин даже зааплодировал от восторга. Тут уж я по-настоящему разозлилась. Сели мы с Ириной на сборе за этот учебник и от корки до корки его выучили. Даже вперёд забежали. Ирина мне тогда здорово помогла: все после обеда отдыхать, а она со мной карту Испании изучает. Вечером команда телевизор смотрит, а мы с Ириной про инквизиторов читаем… А про мой английский и говорить нечего. Летим с ней за границу – она в самолёте со мной только по-английски разговаривает. Я ей какой-нибудь вопрос по-русски задаю, а она по-английски отвечает. Невольно разговаривать научишься. А на сборах отдыхать не отпускала, пока неправильные глаголы не повторю. У меня язык заплетается. Чуть живая от усталости, а что-то лопочу в ответ. На сборах-то не разгуляешься – по две трёхчасовые тренировки в день, да ещё зарядка на час. Вечером только одна-единственная мечта – до постели добраться, а тут этот английский. Но я теперь очень прилично на уроках в школе отвечаю. Англичанка наша не перестаёт удивляться.
Ну ребята – ладно, а вот почему учителя злятся, не понимаю. Я не хулиганю, не пью, не курю, в полиции никогда не была, учусь прилично – за что меня так ненавидеть? Между прочим, я ломлю как лошадь и на международных соревнованиях за свою страну выступаю…
Я никому не говорила, что получаю стипендию. Как-то узнали – что было! От зависти все словно с ума посходили. Наташка Переверзева столько трепалась по этому поводу, наверно, мозоль на языке схлопотала. А Колька Семёнов, этот засюсюканный маменькой очкарик, так презрительно на меня посмотрел и плечиком пожал… С тех пор в мою сторону даже головы не поворачивает. Когда за границу начала ездить, с соревнований приеду, все тормошат, расспрашивают, а Колька учебник раскроет и отвернётся или вообще из класса демонстративно выйдет. Ну и пусть себе. Мне-то что!
Но, если честно, на уроках я отвыкла сидеть. Сорок пять минут – целая вечность!
Наконец-то кончился последний урок. Елизавета Павловна в учительскую поплыла. А мои однокласснички почему-то не разбежались, как обычно, а все в классе остались. Опять против меня что-то задумали, сразу видно: шушукаются, хихикают и на меня поглядывают.
– Ладно, – говорю, – выкладывайте сразу. Мне на тренировку пора.
Колька Семёнов фыркнул, как кот, вышел из класса и дверью хлопнул.
– Ну и дурень! – крикнула ему вслед Наташка. Потом ко мне повернулась и хитренько так говорит: – Мы, Анюта, вчера в цирке были… Так там один на проволоке сальто делал… Или как там это у вас называется, когда подпрыгивают, через голову переворачиваются и снова на проволоку встают. Вот мы и поспорили: ты ведь на бревне всякие прыжки делаешь, говоришь, даже чемпионкой на этом снаряде стала в Дании… А вот на канате сможешь? Своё упражнение на канате сделать сможешь?
Ни фига себе! Совсем чокнулись! Я даже засмеялась. Вот что значит ничего не понимать в гимнастике! Это мою-то комбинацию на канате?! Любой чемпионке мира предложите такое – что она вам скажет? Стою и думаю: ну как этим психам объяснить?
– Какое там упражнение! – скорчил рожу Ромка Генин. – Ей бы просто по канату пройти и не свалиться…
– Ну, пройдёшь? – просто изнывала Наташка. – Восемь лет на гимнастику ухлопала, а пройти по канату не можешь?
Ну что с них взять?! Спортом они не интересуются, на соревнования не ходят, даже по телику гимнастику не смотрят. Столько раз на городские соревнования приглашала – ни один не пришёл. А сейчас вот придумали этот канат.
– Пройти пройду, – пожала я плечами. – Только где?
Мальчишки засуетились.
– Это мы сейчас… Это мы в один момент…
Ага, готовились, значит! Наташка просияла даже, прошептала мне на ухо:
– Молодец, Анютка! Я с мальчишками из-за тебя поругалась, понимаешь? Они не верят, что ты классная гимнастка, говорят, что здесь что-то не так, что ты только хвастаешься и что тебя проучить надо… Вот я с ними и поспорила на шоколадку. Поспорила, что ты по канату запросто…
Неслабо, конечно. Я на неё так внимательно-внимательно посмотрела, а Наташка даже глаз не отвела. Смотрит, взгляд такой небесно-голубой, чистый. Она меня каждый раз просто поражает. Но это единственный человек в классе, с которым я не то чтобы дружу, но по крайней мере разговариваю.
Откуда-то вдруг появился канат. Мальчишки, суетясь, прикрепили его к ручке двери и протянули через весь класс к оконной раме. Высота над полом получилась небольшая, спрыгнуть всегда можно, но угол наклона вышел приличный. Я потрогала канат рукой. Натянули туго, черти, наверно, опробовали не раз, провокаторы… И где только канат достали? Из физкультурного зала стащили, не иначе.
– Ладно, – говорю. – Отходите!
Мальчишки отошли. Наташка торопливо затолкала швабру в ручку двери и встала возле неё. Я сбросила старые босоножки, подставила учительский стул и взгромоздилась на канат. Бред какой-то… Самый настоящий дурдом. А отказаться нельзя, и так в классе жизни нет, даже в школу идти не хочется. Чуть-чуть покачалась на носках – ничего, стою. Нор-маль-но…
– Ну, давай, Анюта, давай! – зашипела Наташка осипшим от страха голосом. – До окна и обратно…
Видела бы меня сейчас Ирина! Убила бы. Главное – не свалиться. Сальто делать я, конечно, не собираюсь, мне ещё пожить хочется, но пройти, пожалуй, можно. К окну идти – вверх, назад – вниз. Главное – повернуться, но над подоконником можно взяться рукой за оконную раму, переживут однокласснички – это им не цирк. Делаю первый шаг, следующий… Нормально. Можно и поувереннее. Иду смелее, даже пританцовывать начала. Учительский стол уже подо мной. Ещё на два шага ближе к раме… И вдруг… Я не успеваю ничего понять. Рама вдруг отделяется от окна и начинает медленно клониться в мою сторону. Раздаётся сначала треск, потом грохот, звон разбитого стекла, я падаю, ребята с визгом – врассыпную. Потом меня бьёт по голове что-то тяжёлое, мне очень больно, но я, как всегда, молчу… Наташка бросается ко мне, истерически кричит:
– Кровь!
И тут в дверь нашего класса начинают бешено ломиться. В коридоре кричат учителя, швабра от рывка разлетается пополам, и к нам врывается весь педсовет во главе с Елизаветой, нашей классной руководительницей. Увидев меня, она так побледнела, что я даже испугалась за неё. Сначала она лихорадочно ощупала мои конечности, велела кому-то позвать медсестру, а потом затрясла меня, как грушу, даже голова заболталась. А Елизавета вдруг заплакала и отвернулась. Ну дела… Она часто так: злится, орёт на меня не меньше Ирины, а потом вдруг так жалостливо посмотрит, хоть сама плакать начинай.
Я уже почти ничего не видела левым глазом, его закрывал большой рог, быстро прораставший на моём лбу. Учителя топтались вокруг нас по хрустящим стёклам, мальчишки онемели от страха, жались к стене, как на построении. Только Колька Семёнов, взявшийся неведомо откуда, удивлённо таращился на меня.
Но как только взрослые убедились, что мы все живы и с целыми костями, прозвенел звонок на урок, и все разошлись, одна Елизавета осталась с нами. Она и раньше-то меня с трудом переваривала, а теперь просто с ненавистью смотрела, а слёз и след простыл.
– Конечно, Дружинина… Что ещё можно было от тебя ожидать? Тебе мало твоих тренировок, тебе надо ещё и в школе аттракцион устроить!
Наташка, а за ней и мальчишки что-то неразборчиво лепетали, что, мол, виновата не только я, что это все виноваты, но Елизавета просто отмахнулась. И в итоге я, вся вымазанная йодом, с перевязанной рукой и с гигантским рогом на лбу слышу приговор:
– Завтра придёшь с матерью!
Я промолчала.
Елизавета тут же спохватилась.
– Хотя… Придёшь с тренером. Как там её зовут? Всё время забываю…
– Ирина Николаевна…
– Так вот. Без Ирины Николаевны в школу можешь не приходить.
Я киваю. Хорошо, я больше в школу не приду.
Это было в четверг. В пятницу и в субботу я в школу не ходила. Ровно неделя, как не появляюсь на тренировках. И о чём только Ирина думает, сбор должен со дня на день начаться… Круто я влипла, ничего не скажешь. Ирина, конечно, заводится с пол-оборота, но ведь я тоже, как говорит Бабаня, «не подарок»: в другой раз не то чтобы назло – из принципа по-своему делаю…
А может быть, взять и прийти в зал как ни в чём не бывало? Нет, такой номер, конечно, не пройдёт. Девчонки расспрашивать начнут, да и тренеры тут же полезут со своими душеспасительными беседами. На Павла Дмитриевича стыдно смотреть будет, всё-таки старший тренер, а как Ирина поступит, вообще неизвестно: может сразу из зала выгнать, а может неделю головы в мою сторону не повернуть. Но ведь в этот раз она сама виновата, кто её просил рукам волю давать?! А когда она сама виновата, она всегда за мной приходит. Перебесится, перезлится – и придёт. Что ей без меня делать? Снова на набор идти, искать талантливых шестилеток и потом тащить их семь лет, пока они до моего уровня дорастут? Не может быть, чтобы она за мной не пришла!
Анной меня назвали в честь нашей соседки Анны Сергеевны. Она старенькая, очень добрая, меня, можно сказать, вынянчила. Когда я была маленькая, я не могла выговорить «баба Аня», сократила одну букву, и получилось «Бабаня», так мы её и зовём – Бабаня и Бабаня… У Бабани в нашем городе родственников нет, сама она работает в детских яслях медсестрой. Меня очень любит, всегда следит, как я одета, что ела сегодня, делала ли уроки. Мы с мамой тоже её очень любим, она просто как наша родная семейная бабушка. Кроме нас, есть у Бабани где-то в деревне совсем старый брат, она к нему иногда ездит.
Бабаня вместе со мной очень переживает, что мама пьёт. Сколько раз она ссорилась с ней, ругала её, выгоняла маминых гостей из нашего дома, плакала даже. Она как-то уговорила маму устроиться на лечение, но из этого ничего не получилось. Наше несчастье в том, что мама никогда не спорит, она и со мной, и с Бабаней во всём соглашается, но только мы за дверь – в доме опять появляются её гости.
Ясли, в которых работает Бабаня, – круглосуточные, она часто не ночует дома, а мамины гости этим пользуются. Я тоже часто уезжаю, да они на меня не обращают внимания. Что я с ними могу сделать? Вот и сегодня в нашей комнате сумасшедший дом. Бабаня только что пришла после суток, и я вижу, что она очень устала и что у неё сразу испортилось настроение, но она при мне сдерживается. Посадила меня на кухне покормить, а сама злится и прислушивается.
Потрогала мою шишку, покачала головой.
– До сих пор не проходит…
Про канат и выбитую раму я ей давно рассказала, с таким фонарём разве что-нибудь скроешь! Правда, мама мой рог до сих пор не заметила. Она работает на стройке, встаёт на работу очень рано, уходит, когда я ещё сплю, а по вечерам пьёт вот уже больше недели. А сегодня суббота, эти гости теперь до утра. Одна надежда на Бабаню: может, разгонит…
Про то, что на тренировки не хожу и школу прогуливаю, я, конечно, Бабане ни гу-гу… Они с Ириной очень уважают друг друга. Бабаня тут же отправила бы меня в зал. Чтобы никому не попасться на глаза, я три прошедших дня шаталась на другом конце города. У меня ещё с прошлого сбора остались кое-какие деньжата, вот на них и жила. Поела пару раз в пирожковых, а сегодня так замёрзла и устала, еле домой дотащилась. Врать Бабане стыдно, но правду говорить тоже нельзя. Я поела, отогрелась, ноги стали тёплыми и тяжёлыми, потянуло в сон, и я буквально повалилась из-за стола.
– Ну, подруга, – засмеялась Бабаня, – иди ко мне, ложись спать. Авось гости наши сами разойдутся, а то и разогнать недолго.
У меня глаза сами закрывались, я побрела в комнату Бабани, но тут раздался истошный мамин крик. Бабаня бросилась в нашу комнату, распахнула дверь. Один из маминых друзей, совсем пьяный мужик, лупил её по голове уже разбитой бутылкой. Мама мотала окровавленной головой и кричала. В комнате были ещё какие-то люди, я их не разглядела. Я перелетела через порог и вцепилась зубами в руку дядьки. Он вскрикнул от неожиданности и, не выпуская обломка бутылки, попытался отпихнуть меня, но я висела на его руке, как бульдог. Он сильно пнул меня коленом, но тут уж Бабаня кинулась на него. Остальные гости куда-то мгновенно исчезли. Мама сидела на стуле и, плача, раскачивала головой. Кровь стекала по спутанным волосам, у её ног набежала целая лужа. Мужик стоял перед ней, худющий, страшный, облезлый какой-то, и тупо глядел перед собой. Бабаня крепко держала меня за плечи, а я, как загипнотизированная, не сводила глаз с бутылки, которая по-прежнему была в руках у этого дядьки. Её рваные оскольчатые края страшно торчали во все стороны. Потом я услышала, как Бабаня в коридоре звонит в полицию и в скорую помощь. Полиция приехала быстро, дядьку куда-то увели, а главный полицейский сел писать протокол.
Он о чём-то спрашивал меня, но я его не понимала. Только чувствовала, как мелко и часто стучат мои зубы. Бабаня склонилась над маминой раной, выстригала ей волосы, слипшиеся от крови.
Потом Бабаня налила мне валерьянки, сама тоже выпила, держась рукой за сердце. Приехала скорая. Молодая докторша брезгливо ощупала мамину рану и сказала Бабане:
– Надо шить. Надо ехать в больницу к хирургу…
Услышав про больницу, мама закричала:
– Я не поеду в психушку! Я в дурдом не поеду!
Тут я снова начала что-то соображать.
– Какой дурдом, мама? Тебе надо ехать к хирургу зашивать рану. У тебя большая рана на голове, понимаешь?
Мама вдруг успокоилась.
– Да, доченька? Ты так считаешь?
Вдвоём с Бабаней мы довели её до машины. Полицейский тоже сел в салон вместе с мамой. Когда машина отъехала, Бабаня посмотрела на меня и ужаснулась. Мы обе стояли на морозе с голыми ногами. Она потащила меня в дом, уложила в постель, напоила чаем с малиной и дала какую-то успокаивающую таблетку. И на меня тут же начал наваливаться тяжёлый сон. Бабаня шлёпала тряпкой, отмывая пол в коридоре и в нашей комнате, затоптанный грязными ногами и забрызганный маминой кровью, тяжело дышала и поминутно вздыхала. И, совсем отключаясь, я услышала, как она набирает какой-то телефонный номер, неестественно вежливо извиняется и просит позвать кого-то к телефону. Окончательно проваливаясь в пропасть, я понимаю, что она звонит моему отцу.
Отец не живёт с нами лет пять. Когда мама начала сильно пить, он нас сразу бросил. Он работает каким-то важным инженером, часто ездит за границу. Бабаня говорит, что он просто испугался, что мама его ско-про… сконро… И когда я только научусь это слово правильно произносить? Скомпрометирует… Вот, кажется, правильно. Сначала отец приставал ко мне: встречал после уроков, после тренировки, приходил даже в спортшколу и подолгу шептался о чём-то с Ириной. Но, увидев его в школьной раздевалке, я стремглав неслась наверх в учебную часть, пряталась где-нибудь в кабинете или удирала по чёрной лестнице и потом наблюдала из подворотни, как он уходит ни с чем. А если он приходил в зал, то я тренировалась как ни в чём ни бывало, отказывалась подходить к нему, даже когда звала Ирина. Постепенно он перестал меня ловить, видела я его теперь только случайно, хотя он жил со своей новой женой и её сыном на нашей улице. Теперь я от него совсем отвыкла, но иногда… Мне часто снится один и тот же сон… Когда-то очень давно, я совсем маленькой была тогда, мы были все вместе в каком-то доме отдыха… Так вот, мне часто снится огромный парк, там бассейн и в нём – золотые рыбки… И папа держит меня на руках и смеётся, и мама рядом, такая красивая… Она очень красивая была, пока не начала пить. Когда, посмотрев этот сон, я просыпаюсь утром, у меня долго ещё стоит ком в горле. И я всё время кашляю и кашляю, пока Бабаня не начинает щупать мой лоб и совать мне градусник. Я никогда не брошу свою маму, потому что всё равно она самая добрая и самая хорошая… Да, она пьёт, но все говорят, что это – болезнь… Но если это болезнь, почему же её никто не может вылечить? Ведь мама однажды лечилась. Она была в больнице очень долго. А выписалась – и снова те же друзья и те же гости… И вообще… Если водка приносит столько несчастья и горя, то зачем её продают?
Утром я спрашиваю Бабаню:
– Ты зачем ему звонила? Я слышала…
Она не ответила.
– Ведь, кажется, договорились: никогда ему не звонить!
– Он твой отец, между прочим…
И по её тону и виду я понимаю, что звонила она совершенно напрасно и сама жалеет об этом.
Потом Бабаня долго крутила телефонный диск, пытаясь дозвониться до больницы, чтобы выяснить про маму. И, положив трубку и не глядя мне в глаза, она быстрой скороговоркой объяснила, что маме вчера в больнице зашили рану и, если завтра всё будет в порядке, её выпишут домой на амбулаторное лечение.
И я молча пью совершенно безвкусный чай.
Ирина
Павел со Светланой уехали на сбор вчера. Светка – ровесница Анны, данные у неё значительно скромнее, но работоспособности и спортивного азарта не занимать, потому и попали они в сборную страны на год раньше нас. И характер у Светланки – позавидуешь. Характер истинной гимнастки: если что-нибудь сразу не получается, будет сутки в зале торчать, но своего добьётся. Глядя на Светку, я всегда себя её ровесницей вспоминаю. Я такая же была. Очень рано поняла, что смогу подняться на пьедестал почёта, если буду работать как вол. Я никогда не была красивой гимнасткой. Мои соперницы выглядели девочками стройными, длинноногими, пластичными. А я была маленькой, угловатой, но зато с «прыгучими», как у нас говорят, ногами. И одолеть своих соперниц я могла только работой. И я работала, ох как я работала! У меня была цель: оторваться, уйти от них, красивых, настолько, чтобы догнать меня стало невозможно. Как мне было трудно и тяжело тогда, теперь знаю только я одна: мой тренер Сергей Петрович, человек уже немолодой, умер в прошлом году от инфаркта прямо на тренировке… Он не торопил меня, не подгонял, даже останавливал иногда – я сама рвалась вперёд. Словно случайно, на соревнованиях я стала попадать в число лидеров, меня стали замечать, наконец, во мне стали видеть соперницу. Но я была некрасивой, и меня стали засуживать, срезать десятые, сотые балла, завоёванные с таким трудом. Как было горько, обидно тогда… Сколько слёз я пролила! Но на пятое, даже четвёртое место я согласиться не могла. Отревев положенное, я возвращалась в зал, и всё начиналось сначала. После изнурительных тренировок я еле доползала домой, падала на диван, и теперь уже моя бедная мама плакала надо мной, проклиная тот день и час, когда впервые отвела меня в спортшколу…
Я с наслаждением опускала гудящие ноги в тёплую воду и громко вскрикивала, когда мама, неумело массируя, сильно сжимала мои «забитые» икры. И я попала в команду на Олимпийские игры, и стала второй в многоборье, и выиграла два снаряда. Меня признали не только в нашей стране, но и во всём мире. Много раз выступала я на международных соревнованиях, постоянно усложняя программу. Много раз в мою честь исполнялся наш гимн…
– Ирина Николаевна! – кто-то окликнул меня от входных дверей.
Я вышла в пустой вестибюль – там стоял только один паренёк, который смущённо отирался о стенку. Его очки с неестественно толстыми линзами совершенно запотели от мороза, и, наверно, он меня не видел.
– Это ты меня звал?
Он быстро стянул с носа очки, без которых смотрел на меня ещё более смущённо и подслеповато.
– С Анной Дружининой вы занимаетесь?
– Занимаюсь, – насторожилась я. – А ты кто?
– Это неважно… – Получилось грубовато, хотя я видела, что мальчишка очень стесняется. – Я учусь с Анной в одном классе. Я думал, что она сегодня в школу придёт, а она опять не пришла… Третий день уже… У неё очень большие неприятности в школе… Там все виноваты, это была общая фантазия – этот канат… Я им говорил, что это ерунда, да Наташку разве убедишь… Как заведённая. Вот и поспорили…
Я перевела дух. Кроме того, что Анна опять куда-то влипла, я ничего не поняла. Здорово, конечно, выражают свои мысли наши дети. Но слушаю дальше, прерывать нельзя – совсем замолчит.
– В общем, – продолжал парень, немного успокаиваясь, – вас в школу вызывали. Анне без вас велели не приходить, вот она и не приходит… Хотя дома тоже не сидит, делает вид, что в школе… Вчера их соседка нам звонила, у меня в комнате параллельный телефон… Я снял трубку, думал, это мне звонят, а это отцу… Вот я и услышал… Соседка говорила, что полиция вчера акт составила, мать Анны будут родительских прав лишать…
Мальчишка вдруг замолчал, испугавшись, что выдал чужую тайну. Но, взглянув на меня, продолжил:
– Хотя вы, наверно, всё знаете… Вы ведь знаете, что у Анны мать… Ну, что пьёт она?
Я кивнула, начиная что-то понимать.
– Ну, вот. Соседка сказала, что мать Анны неделю из запоя не выходит, что у них вчера в квартире какая-то драка была, мать Анны в больницу увезли, а саму Аньку еле откачали…
Я схватила его за плечо и так сильно сжала, что он скривился.
– Вы не поняли… Анна очень за мать испугалась, у неё потом истерика была, и соседка её валерьянкой отпаивала.
– Ну, знаешь ли… – Я притянула его к себе и усадила на холодную, обитую дерматином банкетку. – Ты вот что… Ты надень очки, пока не сломал, успокойся и начни сначала.
Мало-помалу мы разобрались в событиях в школе.
– Тебя как зовут?
– Николай.
– Ты дружишь с Анной?
Спросила как можно проще, почти небрежно. Только дружбы с мальчиками нам и не хватало.
– Не… Мы… Мы – враги.
Я удивлённо посмотрела на него.
– Но ведь ты пришёл предупредить меня, что у Анны – беда?
Николай кивнул.
– Но для того чтобы ей помочь, я должна знать всё, понимаешь? Почему Бабаня звонила к вам домой? Почему она просила помощи у твоего отца?
Николай помялся немного и вдруг, глядя через толстые линзы прямо мне в глаза и заливаясь краской, выпалил:
– Он не мой отец. Он – отец Анны, понимаете? Я бы никогда к вам не пришёл, но он сказал по телефону, что ничем Анне помочь не может. Он – предатель, понимаете?!
Да… Вот так история… Насколько всё-таки дети лучше нас, взрослых. Девчонка совсем запуталась, а я, вместо того чтобы домой к ней сходить, в школу заглянуть, собственные обиды считаю…
Я пожала ему руку.
– Ты – настоящий человек, Николай. Я тебя уважаю. Спасибо, что пришёл. Я постараюсь помочь Анне.
Он встал и, опустив голову, пошёл к выходу, но в дверях остановился и сказал:
– Вы не думайте… Я им сразу сказал, что слышал этот телефонный разговор, – и ему, и маме… Я ему сказал, что он предатель и что если он не вмешается в эту историю, то я под одной крышей с ним жить не буду, я уйду из дома!
– Ты погоди, Коля, не горячись… Там всё не так просто. В отношениях с отцом Анна тоже виновата, ты ведь знаешь, какой у неё характер? Я обязательно разберусь, авось всё уладится…
Я помогла ему открыть на улицу тяжёлую, разбухшую за зиму дверь вестибюля, но не успела отойти, как Николай влетел обратно.
– Она там!
– Кто?
– Анька.
– Идёт сюда?
– Не… Она там… Тренируется…
Я опять ничего не поняла. Притянула Кольку за плечо и затолкала за колонну.
– Не высовывайся!
И, как была в спортивном костюме и лёгких тапочках, выскочила на улицу.
Двор нашей спортшколы – общий с детским садом. Прямо под окнами зала – детская площадка и спортивный городок для малышей, всякие там лесенки, качели и стенки. И на круглом детском бревне, сбросив дешёвенькую курточку прямо в снег, Анна делала фляки. Я спрыгнула с крыльца в сугроб, сгребла в охапку этого вредного, наглого, самого дорогого мне ребёнка и потащила в тепло.
От неожиданности она так растерялась, что не проронила ни слова, уже в вестибюле набычилась и отвернулась от меня. Я всё поворачивала и поворачивала её к себе, но она так вывернула голову, что заглянуть ей в глаза было невозможно. И вдруг я почувствовала, что её прилично накачанное плечо затряслось мелкой дрожью, и она вдруг заревела, заревела впервые за наши совместно прожитые годы, низким смешным басом. Я прижала её к себе и, вспомнив про Кольку, осторожно покосилась в его сторону. Он тихонько пятился к двери. Незаметно махнув ему рукой, я потянула Анну в раздевалку.
Наш хореограф и мой преданный друг Нина Захаровна Василькова, а по-нашему Нинон, вот уже битый час мучила с моими младшими вольные упражнения. Что делать – ума не приложу: у обеих никаких данных к хореографии. И Нинон бьётся, и я, книжки им о балеринах носим, на балетные спектакли водим – эффект нулевой. Что ни вольные, то поперёк музыки.
Нинуля замоталась окончательно и в изнеможении плюхнулась посреди ковра. Чижик, только что закончив упражнение, стояла перед ней и отдувалась, а Нинон сидела, совершенно невероятным образом завернув свои балетные ноги, и, тоже отдуваясь, объясняла ошибки. Наконец Чижик, облегчённо вздохнув, отошла в сторону на свой заслуженный пятиминутный отдых, а на ковёр вышла Петрова. Я даже не заметила, как Нинон вскочила с места. Как только Петрова начала первую прыжковую диагональ, Нина оказалась рядом с ней. Петрова прыгала, а она бежала рядом только для того, чтобы в конце сильно шлёпнуть девочку по уродливо согнутым коленям… Пошла вторая диагональ, и опять они бегут рядом. А ведь впереди ещё последняя, третья… Хочешь не хочешь, а с такими детками будешь в форме.
Я страховала Анну на брусьях, а сама следила за тем, что делается на ковре. Нина кричала раскрасневшейся, взмокшей Петровой:
– Не заворачивай бедро! Повиси, повиси в воздухе! Ах ты… Опять мимо музыки…
Тут и я крикнула со своего места:
– Все вольные выполнила в полугруппировке! Плечи совсем к ушам прижала…
Анна, конечно, более способна к хореографии, но нервы трепать хорошо умеет. На тренировках Нинуле преданно в глаза смотрит, безукоризненно всё выполняет, а на соревнованиях такие номера откалывает, что дурно делается. Например, встанет в угол ковра перед диагональю и, вместо того чтобы Нинулины хореографические премудрости выполнять, начинает какие-то змееподобные движения руками делать. В воображении – Плисецкая, не меньше… Нинка чуть не в обмороке, а это «чудовище», «летающий ящик», «крокодил» отпрыгает прилично свою акробатику и получит за вольные самую высокую оценку.
– Петрова! – кричу из-под брусьев. – Ты думаешь носки тянуть?! Я вот здесь стою и тяну их вместо тебя!
Совсем другая была Майка. Та просто рождена для хореографии. Сколько раз пытались её у нас сманить то в хореографическое училище, то в художественную гимнастику… Но Майка – человечек надёжный с детства, никогда я не боялась, что она предаст, уйдёт куда-нибудь или к кому-нибудь. Как я осторожничала с ней: физически слабовата, уставала очень. Жалко мне её было, но в нашем деле выносливость тренируется только занятиями через усталость, через не могу. И никогда она не жаловалась. Ни одной жалобы за все десять лет. Падает от усталости, плачет, но, если я скажу, снова полезет на снаряд. И провалы у нас были: ведь это была моя самая первая ученица. Но ссорились мы очень редко. Я, бывало, только голос повышу, она уже виновато смотрит. И в школе умудрялась прилично учиться, никаких конфликтов с учителями. В общем, Майка – ангел во плоти на нашем гимнастическом небосклоне. Куда же она пропала? И с днём рождения меня не поздравила, совсем на неё не похоже…
Есть у нас с Нинон маленькая тайна. Мы никогда не говорим на эту тему, какая-то неловкость существует всё-таки в этой истории. Но мы тогда действовали интуитивно, не сговариваясь: цель оправдывала средства… Это было в тот год, когда Майка готовилась к Олимпийским играм. Нина ставила ей новые вольные. Начались обязательные в этом случае мучения с музыкой. И кто-то нам порекомендовал молодого композитора, по слухам очень талантливого. Мы быстро его разыскали. Это был неожиданно смешной и неуклюжий молодой человек: огненно-рыжий и конопатый до такой степени, что казалось, будто он весь обсыпан красной крупой. Рыжий пух и конопушки выбивались даже из-за ворота наглухо застёгнутой рубашки, из-под тщательно отглаженных манжет. Он очень долго и комично усаживался за рояль, ёрзал, менял стулья, то придвигался к инструменту, то вдруг резко отталкивался от него, забавно пристраивал длинные ноги, то подвигая их к педалям, то поджимая под себя… Тонкий горбатый нос и нежно-розовые уши окончательно добивали нас. Мы давились от смеха, наблюдая его пассажи перед роялем. Но едва его пальцы прикасались к клавишам, едва он начинал раскачиваться в такт своей музыке, мы все мгновенно впадали в какое-то гипнотическое состояние… С первых аккордов этот рыжий музыкант переставал быть для нас нелепым и смешным. И не потому, что действительно писал хорошую музыку, – что и как надо писать для Майки, он понял мгновенно. Здесь было что-то другое. Здесь было то, что называется обаянием таланта. Мы облепляли рояль, как муравьи, в зале останавливались тренировки, все готовы были слушать его бесконечно. Завораживало всё: и быстрые тонкие пальцы, на которых теперь никто не замечал веснушек, и какая-то странная, неожиданная музыка, и её сиюминутное рождение…
И в общем, произошло то, чего никто предположить не мог: Майка влюбилась в этого композитора. Кажется, его звали Эрик. Ну да – Эрик. Майка тогда училась в одиннадцатом классе, он был старше её лет на семь-восемь. Майка так верила нам с Нинулей, что сообщила нам раньше, чем родителям, что Эрик сделал ей предложение. Как только она окончит школу, они поженятся. Майка была слепа, глуха и счастлива, а мы с Нинон потеряли дар речи. Всю ночь не спали, сидели в моей комнате, глушили кофе и решали, что нам делать.
Сначала мы попытались объясниться с ним. Задержав его после тренировки, мы подробно объяснили этому чудику, что такое гимнастика, что такое Олимпийские игры, которые будут через год, что должна делать Майка сейчас, как жить, о чём думать и как поступать… Он слушал молча и только удивлённо смотрел на нас, хлопая рыжими ресницами. Мы ненавидели его. Выслушав нас, он только и сказал:
– Но ведь мы любим…
Мы с Нинулей переглянулись и начали сначала. Майка ещё ребёнок, горячо объясняли мы, она сейчас не понимает, что важнее для её будущего. Она талантлива, ей надо сейчас помочь, а не сбивать с пути в самый ответственный период её жизни.
Эрик опять терпеливо и вежливо нас выслушал и недоумённо повторил:
– Но мы любим…
Мы поняли, что он безнадёжен, и оставили его в покое. Мы взялись за Майку. Осторожно, исподволь мы старались её убедить. Словно случайно, в короткие перерывы во время тренировки мы сажали её между собой на гимнастическую скамейку. Майка слушала нас и всё ниже и ниже опускала голову. Я видела только её пунцовое ухо. Потом на пол у наших ног начинали падать её редкие прозрачные слёзы…
Мне было бесконечно жаль её в этот момент, но ведь мы мучили её ради будущего, в которое верили, и, как показала жизнь, верили не зря.
– Майка, послушай меня… – говорила я, поглядывая через её опущенную голову на Нинон. – Ты только взгляни на него! Разве ты в него влюбилась? Ты ведь не в человека влюбилась, а в его талант, и это не одно и то же…. Мы все влюблены в его талант…
Мы откровенно спекулировали на её юношеском стремлении к гармонии.
– Ты только подумай, – подхватывала Нинуля, – вам придётся бывать вместе на людях, тебе захочется, чтобы все твои друзья его узнали и полюбили. Но ведь это невозможно! Вспомни, какое впечатление произвёл он на тебя в первый раз… Ведь ты в раздевалке тогда так хохотала, что мы тебя еле угомонили, чтобы вас познакомить. Над ним всегда будут посмеиваться. А тебе это будет больно, тебе всегда будет неловко за него, понимаешь?..
Тут Майка начинала откровенно хлюпать, и кто-нибудь из нас добивал её – увы! – запрещённым приёмом:
– Маечка… Ты подумай… У него такой пух… Он ведь будет обнимать тебя… Бр-р-р…
К нашему великому счастью, эти манёвры увенчались успехом. Разговор о замужестве не возобновлялся, композитор как-то незаметно исчез и в зале больше никогда не появлялся. Музыка к вольным была написана давно, Нина превзошла себя – Майка выиграла вольные на Олимпиаде.
Ну и потаскала я сегодня своих – как грузчик… Плечи, руки, спина – всё болит. Девчонки растут, становятся тяжёленькими, а вся начальная гимнастика на руках тренера: каждую надо на подкачке в стойку выдернуть, удержать, подправить, поднять, опустить… Устала.
Есть не хотелось. Я выпила чаю и включила телевизор. Последнее, что успеваю захватить, – это спортивные новости и погоду. Снова хоккей, немного лыжи. Гимнастика нынче не в почёте. Завтра в наших краях опять оттепель, мокрый снег… Пообещали какой-то старый фильм, но не было сил даже на него. Выключив телевизор, я завернулась в плед и вытянулась на диване.
Я давно привыкла к одиночеству и редко страдаю от него. Наоборот. После шумного многолюдного зала я наслаждаюсь покоем своего дома и поэтому особенно люблю его. Закрыв дверь на ключ, я словно отгораживаюсь от всего мира и на несколько часов остаюсь наедине с собой. Мне очень много приходится ездить, а когда много странствуешь, постепенно втягиваешься в быт гостиниц и отелей, смиряешься с необходимостью жить с кем-то в одном номере, к полуночной болтовне с коллегами, к маленьким и большим проблемам походного бытия. На сборах дневная жизнь идёт по строгому распорядку, всё отмеряется в часах, а то и в минутах, поэтому, когда на две-три недели вырываешься домой, особенно ценишь покой и одиночество. Родственников у нас с мамой не осталось, ходить в гости я не любитель, ко мне тоже редко ходят – живу в самой глубине спального района, да и работу мы кончаем поздно.
Я лежала на диване, даже читать не хотелось. Я лежала и смотрела на портрет мамы на стене. Портрет я сделала уже после её смерти, увеличила одну старую фотографию, которую любила с детства. Отец мой рано умер, и я его плохо помню. Мы всегда жили с мамой вдвоём. Сначала в шумной, пропахшей газом и мокрым бельём коммуналке, потом я получила эту квартиру. Мама всегда была для меня верным и самоотверженным другом. Она жила моей жизнью, о спорте и гимнастике знала всё, никогда меня не осуждала, всегда старалась мне помочь. Никогда и никто не сможет меня понять так, как понимала она. Даже Павел.
Но четыре года назад мама заболела. Очень скоро мне жёстко сказали: рак. От меня ничего не скрыли, меня подготовили к самому страшному, к тому, что страшнее смерти, – мучительному существованию, к невыносимым страданиям дорогого человека, к стонам и крикам от боли, к просьбам, мольбам избавить от мучений, помочь умереть…
Это был страшный год, страшнее ничего быть не может. Майка готовилась к Олимпиаде, тренировки шли на пределе человеческих возможностей. Я вцеплялась в неё мёртвой хваткой. Я не только готовила её к Олимпиаде – я старалась уйти с головой в работу, чтобы отвлечься, не думать об умирающей от истощения матери, уйти от её вопросительного взгляда. Чем больше мама худела, тем огромнее становились её глаза. Перед самой смертью ничего не осталось на её лице, кроме этих вопросительных глаз. Она стала такой лёгкой, что, перестилая постель, я поднимала её на одной руке…
Но мне нужно было ездить на сборы. Там, в Москве, меня понимали, мне сочувствовали, осторожно расспрашивали, предлагали на время передать Майку другому тренеру… Мне так и сказали: «на время»… То есть, когда мама умрёт, я снова буду работать со своей ученицей. Я согласилась на всё. Я осталась с мамой. Но от неё ничего невозможно было скрыть. Как только она поняла, что Майка уехала на сбор без меня, она стала плакать и твердить, что умрёт не от мучений, а от сознания, что испортила мне будущее. Она просила меня уехать, уговаривала, упрашивала… Что мне оставалось делать? И тут от маленькой Анютки я узнала, что её соседка, Бабаня, как она её зовёт, – медсестра. А маме тогда был нужен только уход. С работой Бабани всё уладилось быстро, я оставила маму в надёжных руках…
Но на сборах в Москве я столько раз вдруг совершенно отключалась от зала, от тренировки. Мне начинало казаться, что мама вот сейчас, вот сию минуту умирает, а меня нет рядом… Мои руки начинали дрожать, я боялась страховать Майку – моя слабость могла стоить ей не только здоровья, но и жизни: её комбинации были очень сложными и рискованными. Я звонила Бабане по ночам, она подробно рассказывала мне о том, как прошёл день, я ненадолго успокаивалась, но уже через несколько минут страх и вина начинали терзать меня снова…
Мама уже не вставала. Приезжая домой, я получала в аптеке какие-то порошки с наркотиками. Сначала их нужно было давать по одному разу в день, потом по два, по три… Потом и этого стало мало – боли не проходили.
Но я побыла дома несколько дней и снова должна была уезжать. Мне было безумно тяжело, я не хотела, я не могла никуда ехать, но мама настаивала, плакала, а я не могла видеть её слёз.
Как я не сошла с ума в тот год, не знаю.
Когда я прилетела в аэропорт с последнего сбора, мамы уже не было. Она умерла за несколько минут до приземления моего самолёта. Я не попрощалась с ней, я не успела поцеловать её, и не я закрыла её глаза.
Я не плакала на похоронах. Я ещё очень долго не могла плакать о ней. Во мне словно что-то замкнулось, защёлкнулось навсегда. Я ненавижу себя за то, что не была рядом с ней в последние минуты, и это не проходит с годами. Чувство вины перед матерью – это, видимо, на всю жизнь. Я осталась наедине со своими переживаниями. Конечно, первое время после её смерти Павел не отходил от меня, провожал после работы, иногда встречал утром возле подъезда, и мы вместе шли в спортшколу. Но он был семейным человеком, и эта чрезмерная опека в конце концов стала тяготить меня. Я сказала ему об этом. Павел понял, и всё вернулось на круги своя – мы по-прежнему только друзья. Только коллеги.
Позвонили в дверь – я даже вздрогнула. Так поздно ко мне редко приходят. Посмотрела в глазок и открыла дверь – на пороге стояла молодая женщина. Я скорее догадалась, чем вспомнила её: приходила она в нашу спортшколу всего несколько раз.
– Заходите.
Она потопталась у порога, не решаясь зайти.
– Я…
– Я знаю, кто вы… Будете раздеваться? Проходите.
Она сняла пальто и прошла за мной в комнату. Я аккуратно, не торопясь сложила плед, села напротив. У неё было милое, совсем юное лицо и усталые голубые глаза. Даже не верилось, что её курносые двойняшки учатся в шестом классе.
Это была жена Павла, и я никак не могла понять, почему она пришла.
Я перехватила её быстрый тоскливый взгляд, которым она оглядела мою комнату, и оценила её мужество. Добровольно на такую пытку я бы не пошла. Я знала, о чём она думала сейчас.
– Я вас слушаю… – прервала я затянувшееся молчание.
– Вот, решилась… – Она подкупающе искренно улыбнулась, и её бледное лицо слегка порозовело. – Я, конечно, могла бы позвонить, но так лучше, честнее, да?
Я промолчала.
– Дело в том, что Павлу предложили работу в Череповце… Старшим тренером в том же обществе… И вот я пришла попросить… Я вас очень прошу, не отговаривайте его…
Так… Значит, Павел принял решение, а мне ни слова.
– Видимо, вы плохо знаете своего мужа, – сдерживая досаду, сказала я. – Он всегда всё решает сам, и только сам.
– Я очень хорошо знаю своего мужа, – с вызовом ответила она. – Настолько хорошо, что прекрасно понимаю: он вас любит. И ни вы, ни я, ни он сам не можем знать, что он решит, если вы начнёте его отговаривать. Я понимаю: Череповец не спасение… Но всё-таки…
– Хорошо… – Я не могла больше сидеть, встала и начала ходить перед ней, как маятник. – Я обещаю вам, что никак не буду влиять на его решение…
Я внимательно посмотрела на неё. Как мне жалко всегда таких женщин! И у меня невольно вырвалось:
– Как вы можете жить с ним?.. Вот так?..
Она взглянула на меня грустным голубым взглядом и поднялась.
– Вам никогда этого не понять.
Только я закрыла за ней дверь, позвонил Павел из Москвы со сбора. Почувствовал, что ли? Я готова была задушить его, никак не могла найти нужный тон, совсем растерялась.
– Ты не одна?
– Одна, одна… Как у тебя?
Павел рассказывал о своей Светке долго и подробно. Постепенно я успокоилась. Я слушала его голос, чувствовала улыбку, угадывала взгляд… Несколько раз связь прерывалась, и мы снова о чём-то говорили и говорили.
И, возбуждённая этим разговором, я забыла об усталости, забыла о его жене. Я обнимала подушку и в который раз шептала ей какие-то глупые наивные слова, задыхаясь от любви и нежности, так, как это делают тысячи русских женщин, познавших зрелую взаимную любовь…
И уже под самое утро, засыпая, я подумала, что опять забыла позвонить Майке.
Позвонила я ей только через неделю. К телефону подошла её старшая сестра и неожиданно холодно, как чужой, сообщила, что Майка вот уже месяц в больнице. Я, конечно, забеспокоилась, спросила, что случилось… Сестра долго молчала, потом неохотно объяснила: что-то с нервами. И добавила, опять помолчав:
– Не надо её сейчас беспокоить. Врачи к ней никого, кроме родных, не пускают.
Конечно, меня сильно озадачил и тон такой приветливой всегда Майкиной сестры, и эта загадочная болезнь нервов. У Майки – нервы? Странно… Выдержала такую бешеную эмоциональную нагрузку, занимаясь гимнастикой, а уйдя из спорта, вдруг оказалась в больнице?
Но так много на меня навалилось: и возможный отъезд Павла, и приход его жены, и бесконечные конфликты с Анной… Отложив встречу с Майкой до её выздоровления, я на время позабыла о ней.
Анюта
Сегодня по-честному отпахала всю тренировку. Пока Ирина провела со мной подкачку, футболка совсем промокла от пота. Устала. Вечером будут болеть все мышцы. Вот что значит просачковать неделю. Подошла Ирина и сказала, что меня в вестибюле спрашивает незнакомая женщина. Я удивилась и побежала к двери, но Ирина загородила мне дорогу:
– Обуйся. Простудишься…
В вестибюле – кафельный пол, а мы занимаемся босиком. Я зацепила стопами первые попавшиеся чешки, сваленные в кучу при входе в зал (как ни борются с нами наши тренеры, заставляя ставить обувь аккуратно, никаких перемен не ощущается), и, шаркая, засеменила в пустой в такое время вестибюль.
– Ты Анна Дружинина? – сразу подошла ко мне какая-то женщина.
Она была в модном меховом пальто и в мохнатой, наверно, очень дорогой шапке. Вот бы маме такую!
Я кивнула и вопросительно уставилась на неё.
– Давай сядем, – сказала она и первой села на банкетку.
Я подошла и встала рядом.
– Садись!
Ну вот ещё!
– Мне нельзя садиться. Я ещё не закончила тренировку.
Женщина поёрзала и встала тоже.
– Дело в том, что я – жена твоего отца…
Это было так неожиданно, что я не смогла притвориться безразличной.
– Мне всё равно, – сказала я и отвернулась.
– Я понимаю, – с готовностью согласилась она. – Но это не всё равно мне, и Коле тоже.
Я пожала плечами. При чём тут её Коля?!
– Аня, – она протянула руку к моему плечу, но я вывернулась. – Мы всё знаем о твоей трагедии…
Ах вот оно что!
– Какой?! – сделала я большие глаза.
– Мы знаем, что происходит с твоей матерью. Мы знаем, что решается вопрос о лишении её материнских прав.
– А вот это уже не ваше дело!
Я хотела повернуться и уйти, но она крепко схватила меня за руку. Я пыталась освободиться, но она не отпускала меня.
– Вас это не касается!
– Касается! – неожиданно выкрикнула она. – Ещё как касается! Муж ночи не спит, мучается, считает себя во всём виноватым. Николай устраивает сцены ему и мне… Мы так хорошо, так дружно жили все эти годы… А сейчас наш дом разваливается… Коля всегда был таким послушным, добрым мальчиком, а сейчас его невозможно узнать… Слова ему сказать нельзя – кричит, грубит, хлопает дверью…
Я здорово замёрзла. Мокрая футболка холодным компрессом прилипла к спине. Чужие чешки, которые я нацепила, были совсем маленькими, я стояла почти босиком на ледяном полу.
– Какое мне дело до вашей семьи и до вашего Коли? – Я опять попыталась выдернуть свою руку, но жена отца очень крепко сжимала моё запястье. – Пустите, мне больно!
Она наконец отпустила меня и заговорила очень быстро, боясь, что я уйду.
– Аня, мы с твоим отцом решили, что тебе сейчас будет лучше пожить у нас… Ты будешь жить в прекрасных условиях, у нас трёхкомнатная квартира, самую большую комнату мы отдадим тебе. Ты будешь нормально питаться и спать на чистой постели. Тебе будет у нас хорошо, вот увидишь… И Коля согласен…
– Знаете что… – От злости я почти не различала лица Колькиной матери. – Идите вы отсюда со своими хорошими условиями и со своим Колей в придачу!
Выпалив это, я почувствовала такое облегчение, что чуть не вприпрыжку поскакала в зал.
– Хамка! – услышала я с радостью. – Яблоко от яблони…
А вот это уже слишком. Я резко повернулась, чтобы ответить, но тяжёлая дверь на улицу захлопнулась, и я осталась в холодном вестибюле одна.
Жаль, что я не успела ей ответить! Я бы ей такое сказала, такое… И чего это там Колька выступает? Просят его, что ли? Братик нашёлся… Совесть его замучила, видите ли…
Когда я вернулась в зал, Ирина вопросительно посмотрела на меня, но я ничего не стала ей объяснять и молча забралась на гимнастическую стенку качать живот. Слава богу, у Ирины нет привычки лезть в душу.
В школе на большой перемене я зажала Кольку в углу и сказала ему всё, что думаю. О его мамочке и нашем общем папочке. Он слушал меня красный как рак и, хотя в классе в этот день было холодно, почему-то вспотел. Пот скатывался с его круглого лба прямо на стёкла очков, и глаза за этими толстыми стёклами были огромными и деформированными. Я вдруг подумала, что без этих жутких очков Колька почти слепой, и пожалела, что начала этот глупый разговор.
– Ладно… – сказала я примирительно. – Хватит об этом. Заруби себе на носу: моя жизнь никого из вас не касается и в вашей жалости я не нуждаюсь. Я на сборах живу в таких условиях и нас там так кормят, что вам и не снилось. А летом у нас сборы на берегу моря. Так что у меня вполне счастливое детство…
Пока я всё это выкладывала, Колька с места не сдвинулся, чтобы от меня слинять. И когда наконец я выпустила его из угла, он тихо пошёл к своему месту и только оттуда как-то удивлённо посмотрел на меня.
А в воскресенье мы с Бабаней поехали к маме. Мама вот уже месяц как лечится в больнице от алкоголизма. После той страшной драки она почти сразу согласилась лечиться. Её даже уговаривать не пришлось. Одно плохо: почему-то врач очень долго не разрешал нам с Бабаней с ней видеться. Но вот наконец разрешил. Больница находится за городом, и туда надо ехать на электричке. Бабаня купила всяких гостинцев, мы отхватили в булочной маленький тортик и едва не опоздали на поезд. За то время, пока мы ехали, погода испортилась, полил сильный дождь. Пришлось бежать, чтобы не вымокнуть до нитки. Я бежала впереди, а Бабаня еле поспевала за мной…
На крыльце старого больничного здания стояла какая-то очень худая женщина с серым лицом. Она нерешительно шагнула мне навстречу, но я пронеслась мимо, торопясь к маме. И вдруг услышала сзади:
– Анюта!
Я оглянулась. Женщина с виноватой улыбкой подходила ко мне. Да ведь это моя мама!
Мне стало страшно. Я стояла, смотрела на неё и почти не узнавала. Мама всегда была очень красивой, даже когда пила. У неё глаза такие… особенные: брови как нарисованные и ресницы такие чёрные, длинные… Мама обняла меня, заплакала.
– Что, доченька, не узнала меня? Почернела совсем. Да?
Тут наконец и Бабаня подбежала, и мы пошли в вестибюль, где уже много гостей собралось. К ним выходили разные женщины, и молодые, и старые, но у всех был какой-то больной взгляд и серые лица, как у мамы.
Мы сели втроём на низкий протёртый диван с выпиравшими пружинами: мама посередине, а мы с Бабаней по сторонам. Бабаня ласково провела рукой по маминым забрызганным дождём волосам.
– Тяжко?
Мама кивнула.
– Что здесь с тобой делают? – хрипло проговорила я.
Мама вздохнула и ничего не ответила. Бабаня мне говорила когда-то, когда мама здесь в первый раз была, что лечиться от водки очень тяжело, но я тогда маленькая была и ничего не понимала.
– Тебе что… С тобой что-то делают? Тебе больно?
Мама грустно улыбнулась и покачала головой. Мне стало легче. Бабаня вдруг пожаловалась на сердце и сказала, что пойдёт постоит на крыльце, так как здесь очень влажно и душно. Она, конечно, нарочно оставила нас вдвоём, но мы ещё некоторое время молчали.
– Как в школе? – спросила мама.
– Нормально…
– Сбор скоро?
– Точно не знаю… – Не могла же я сказать, что мы один сбор пропустили.
– Слушайся Бабаню, кроме неё, у нас никого нет.
– Я слушаюсь…
Мама заплакала.
– Анюточка, – она крепко обняла меня, – ты веришь, что я люблю тебя?
Я не могла ей ответить, комок стоял в горле. Я только кивнула.
– Меня родительских прав хотят лишить, ты знаешь?
– Пусть попробуют…
– Я больше не буду пить, Анюта… Я очень хочу вылечиться…
– В первый раз ты тоже обещала… А потом снова… Выйдешь отсюда – тут же эта преподобная тётя Клава появится и дядя Сергей… Они от тебя не отвяжутся.
– Нет… Я больше с ними пить не буду… У них детей нет. А у меня есть ты…
– Если они хоть раз у нас появятся – я их выгоню! Я их с лестницы спущу!
Но тут я вспомнила, что десять месяцев в году нахожусь на сборах. Мне стало страшно: Бабаня давно говорила, что женский алкоголизм не лечится, что есть только один способ избавиться от него – не пить совсем. Маме я не верила.
Я не спала всю ночь. Всё думала, думала: что мне делать со всеми этими дядьками и тётками, которые липли к маме, как мухи? Может быть, пойти в полицию и попросить… Что попросить? В нашей полиции маму знают, знают, что у нас в квартире собираются чуть ли не все пьяницы микрорайона, что… Да и вообще… Это я так – попросить… У меня ведь не хватит смелости туда прийти… И к кому?
В коридоре, надрываясь, зазвонил телефон. Так звонит междугородняя. Бабаня, шаркая старческими ногами, прошлёпала мимо моей двери. Потом она несколько раз начинала с кем-то разговор, но он всё время прерывался. По беспокойным вопросам Бабани я поняла, что с её братом случилось какое-то несчастье и он находится в больнице. Бабаня наконец пошла было к себе, но я окликнула её. Она зажгла свет и присела на краешек моей постели.
– Вот такие дела, подруга… Надо ехать. У Якова – инсульт, кровоизлияние в мозг, значит… Он у меня один-одинёшенек… Надо ехать, ничего не поделаешь…
Тут я испугалась, что останусь совсем одна.
– Ничего, Бабаня… Прорвёмся. Поезжай, коли надо… Я одна пока поживу, а там сбор будет… Ничего.
– Ты спи, подруга. – Она чмокнула меня в щёку. – Утром Ирине позвоню, будем вместе решать, что с тобой делать.
Ирине… С Ириной, между прочим, у нас опять история вышла. Опять она меня достала. В последнее время у меня не ладится обязательная программа на брусьях. Как заело – падаю, и всё. То на соскоке свалюсь, то на самом простом элементе. Ирина убеждена, что это потому только, что я умудрилась набрать полтора килограмма лишних. Лишний вес у нас всё равно что оскорбление. Ни одна гимнастка добровольно не признается, что поправилась. Честно говоря, сама поражаюсь: откуда эти полтора килограмма? В школе-то питаюсь кое-как. Если только вечером чаю у Бабани попью, у неё варенье – не откажешься… Но я и без Ирининых проповедей знаю, что поправляться нельзя, к сборам надо обязательно взять себя в руки и похудеть. Но пока… Накануне несколько раз свалилась с брусьев, Ирина как завелась… Поставила перед строем, начала кричать, как всегда, не выбирая выражений.
– Посмотри на себя, какая уродина! Живот из купальника вываливается!
И пошла, и пошла… Малыши слушают, все старшие девчонки тут, и, между прочим, у нас две трети тренеров – мужчины… У меня внутри аж закипело всё… Разозлилась ужасно.
А сегодня нас отпустили с последнего урока – заболела математичка. Можно было перед тренировкой часик дома побыть. И вот, пока я мчалась домой, у меня появилась идея… Я решила назло Ирине… Ладно, думаю, если я на жидких школьных харчах полтора килограмма наела, то что вы скажете, Ирина Николаевна, если я… К соревнованиям, конечно, похудею, как тростиночка стану, я это умею, но сегодня я вам преподнесу сюрприз…
Влетев в квартиру, я тут же бросилась в кухню и заглянула в холодильник. Ура! Молоко есть, масла хватит. Я швырнула на газ две чугунные сковородки и быстро стала разводить тесто. Блины жарить меня учила Бабаня. Теперь они у меня получаются даже вкуснее, чем у неё. На блинах в гимнастике далеко не уедешь, но сегодня мы оторвёмся, точно… Скоро вся кухня была в чаду, а на тарелке выросла гора блинов. Заварив чай и достав Бабанино варенье и сметану из холодильника, я уселась за стол. Во-первых, я и на самом деле здорово проголодалась, а во-вторых, я даже подпрыгивала от радости при мысли, что ем назло Ирине… Наелась я довольно быстро, но через силу проглотила ещё пару блинов. Время поджимало, но я стала такой тяжёлой, что даже идти быстро не могла, чуть не опоздала. Конечно, я побаивалась, что Ирина, увидев такую разбухшую от блинов каракатицу, выгонит меня с тренировки, но не прощать же ей хамства, в конце концов!
Самое удивительное, что Ирина не обратила на меня никакого внимания. Она была чем-то озабочена, всё время выходила из зала, ни разу не поставила меня на весы, даже когда я опять свалилась с брусьев. Свалилась-то я нарочно, но блины и в самом деле тянули меня книзу, тренироваться было очень тяжело. Блины мешали дышать, я ощущала их вкус не только во рту, но и в носу тоже… И, повторив несколько раз комбинацию, я вдруг почувствовала себя ужасно плохо. У меня сильно закружилась голова, я покрылась липким потом, жутко затошнило, и я, шатаясь, поволоклась в туалет. Тут Ирина перепугалась и побежала вслед за мной. Потом я лежала в медпункте на кушетке, медсестра расспрашивала меня, что я сегодня ела, а Ирина ругала школьные обеды… И хотя всё получилось совсем не так, как я хотела, и чувствовала я себя отвратительно, но всё-таки было приятно, что Ирина так испугалась за меня. Она отвезла меня домой на своём «опеле» и передала Бабане, как эстафету. Когда мы вошли, Бабаня на кухне доедала мои блины, и я сильно испугалась, что сейчас моя тайна раскроется. Но Ирина быстро распрощалась и ушла, пообещав утром позвонить. Бабаня было захлопотала вокруг меня, но я сразу всё ей рассказала. Ух и смеялась же она! И так смешно меня ругала… И как ни плохо я себя чувствовала, я тоже потихонечку смеялась.
После бессонной ночи я никак не могла сосредоточиться на уроках. Думала то о маме, то о Бабане и её больном брате, то о блинах и Ирине… Наташка на всех уроках всегда сидела рядом со мной. Она несколько раз о чём-то спрашивала, наклоняясь к самому моему уху, но я никак не могла понять, чего она хочет. Наконец она повертела пальцем у виска и обиженно отвернулась. Но на перемене не выдержала, спросила:
– Ты чего сегодня как ненормальная? В тетрадке ни одного слова не написала, ведь самостоятельная была…
Что ей нужно было ответить? С кем я могла ещё поделиться? Вот я взяла и рассказала ей про своё несчастье. Всё рассказала: про маму, что она на лечении, что мы к ней ездили, что я совсем не верю, что она больше не будет пить… Я рассказывала и уже понимала, что делаю это зря, я даже споткнулась на полуслове, но было уже поздно. Наташка брезгливо дёрнула плечом и громко сказала:
– И как ты с такой матерью живёшь? Фу, какая гадость…
– Ладно, забудь… Я тебе ничего не говорила…
Но вокруг нас стояли ребята. Наташка стала им пересказывать мои слова. Мальчишки с любопытством поглядывали на меня. Наташку невозможно было слушать, я ненавидела себя за свою откровенность. Мне вдруг стало душно, и я пошла к двери. Ребята хихикали за моей спиной. Только Колька Семёнов стоял у стены и серьёзно смотрел на меня. Когда я подошла, он открыл мне дверь и посторонился.
День был ясный, солнечный. Я постояла на крыльце и понемногу успокоилась. Сказала себе, что мои одноклассники – глупцы, они ничего не знают о том, как трудно иногда просто жить. Они злые, жестокие люди и никого не любят. Я думала о том, что скоро уеду на сбор, буду готовиться к юношескому чемпионату Европы, может быть, попаду в команду… И уеду выступать за границу, и там забуду, забуду о них…
Прозвенел звонок. Перепрыгивая через две ступеньки, я помчалась в класс. Едва успев проскочить мимо Елизаветы Павловны, я плюхнулась на своё место. Мой манёвр, как всегда, разозлил Елизавету, и она вызвала меня отвечать.
Я никогда не была сильна в географии. Вчера едва успела прочитать параграф, хотела на перемене повторить, да вот не получилось. Я стояла у карты и никак не могла вспомнить какое-то мудрёное географическое название. И вдруг Ромка Генин со своего места крикнул:
– Пожалейте её, Елизавета Павловна! Дружинина сирота сейчас! У неё мать от алкоголизма лечится…
В классе загоготали. Я никогда не видела Елизавету в таком гневе, она побагровела и направилась к Ромке с таким видом, словно хотела его прибить, но только открыла рот, чтобы что-то сказать, как с места встал Колька Семёнов. Он встал так неловко, что его стол сдвинулся с места и на пол упал школьный рюкзак. Колька сидел у окна, а Ромка – у двери. И вот Колька, не обращая внимания на онемевшую Елизавету, пошёл мимо неё прямо к Генину. Он шёл как-то боком, склонив голову к плечу, и очки совсем сползли ему на нос. Подойдя к Ромкиному столу, он их снял и убрал в карман, потом как-то неожиданно и неловко размахнулся и изо всех сил ударил Генина по шее. Тот взвыл и вцепился в Кольку. Елизавета что-то закричала и бросилась их разнимать. Все повскакали с мест и зашумели.
– Прекратите! – надрывалась Елизавета. – Прекратите сейчас же!
Мальчишек она наконец растащила. Они стояли и, отдуваясь, зло смотрели друг на друга.
– Пошли вон из класса! Оба!
Вот этого как раз и не следовало делать. Но разве учителя что-нибудь понимают?
Елизавета посадила меня на место с тройкой, кое-как довела урок и торопливо вышла из класса. Прикрывая приличный фингал под глазом, появился Ромка и победно сообщил всем, что Колька с разбитым носом сидит в медпункте, куда его отвела Елизавета. Я сразу пошла туда и встала за дверью.
Скоро озабоченная медсестра куда-то вышла, и я заглянула в кабинет. Колька сидел на круглом медицинском табурете, и два ватных тампона торчали из его разбухшего носа. Он крепко прижимал к переносице пузырь со льдом. Услышав мои шаги, он скосил глаз и посмотрел на меня из-за пузыря.
– Ладно… – сказала я. – Ты это… Не сердись на меня за тот раз…
Круглый подслеповатый Колькин глаз спрятался за пузырь.
– Я не пойду в класс, – едва шевеля расквашенной губой, сказал Колька. – Принеси мой рюкзак, пожалуйста…
Я вернулась в класс, демонстративно не обращая ни на кого внимания, аккуратно сложила в Колькин рюкзак его книги и тетради и спокойно вышла, даже не взглянув в сторону своих онемевших одноклассников.
Мы не пошли на последний урок и медленно бродили по весенним улицам. И хотя тампоны больше не торчали из Колькиных ноздрей, его нос был таким же распухшим. Он смотрел на меня огромными, деформированными стёклами очков глазами. Я всё рассказала ему о своей жизни. О том, что мы живём с Бабаней в коммунальной квартире одной семьёй, и о том, что мама сейчас в больнице, а Бабаня завтра уезжает. Я рассказала ему об Ирине, о том, что иногда боюсь бревна и в последнее время часто падаю с брусьев…
Оказывается, это очень хорошо, когда есть кто-то, кому интересно всё, что происходит с тобой.
Только об одном я не могла говорить с Колькой – я не могла говорить с ним о маме.
Ирина
Вернулся после сбора Павел. В первый же день прямо в зале, когда рядом никого не было, сказал, что подал заявление о переводе в Череповец. Ему обещают там хорошую квартиру, а здесь они лепятся вчетвером в одной комнате коммуналки. Свету он забирает с собой, она будет жить и учиться в спортивном интернате.
Я ждала этого, но растерялась, что такой важный и серьёзный для нас обоих разговор происходит на бегу, впопыхах, на тренировке… Я надеялась, что он придёт ко мне домой попрощаться, поговорить. Но мужчины – трусы, они слишком любят и берегут себя и потому стараются избегать подобных сцен и объяснений. И оказывается, Павел не исключение. Все мужики одинаковые. Было и тоскливо, и обидно, и горько. И всё-таки в глубине души я почувствовала какое-то облегчение: Павел уедет из нашего города – значит, я не буду больше так мучительно, так безнадёжно ждать его каждый вечер. Как ни уверяла я себя, что все надежды бессмысленны, но всё равно ждала, ждала каждый день, и любой телефонный звонок, любой звонок в дверь – это был он…
А вечером, возвращаясь с тренировки, я встретила Майку. Я набросилась на неё, начала тискать и обнимать, ругать за исчезновение и как-то не сразу заметила, что Майка на мой восторг не откликается и даже отстраняется слегка. А когда поняла, прямо её спросила:
– Что-нибудь случилось, Майя?
Она отвернулась.
– Ничего.
– Как ты себя чувствуешь? Ты здорова?
– Наверно… – Она по-прежнему не смотрела на меня.
– Майя, – возмутилась я, – мы с тобой десять лет прожили рядом, половину твоей жизни… Ты можешь мне объяснить, что происходит? Почему ты не приходишь и не звонишь? Даже на первенстве города не была… Ты совсем забыла гимнастику?
– Я ненавижу гимнастику… – стиснув зубы, вдруг ответила она.
Мне показалось, что я ослышалась, но Майка подняла голову и, глядя прямо мне в глаза, повторила отчуждённо и холодно:
– Я ненавижу гимнастику, ненавижу вас и Нину Захаровну… Вы обе… – она вдруг сорвалась на крик, – вы изуродовали мою жизнь!
– Майя… – Я едва пришла в себя. – Что ты несёшь? Ты забыла, кто перед тобой? Если бы я не знала, что ты больна, что ты лежала в больнице…
– Да при чём тут больница?! – Майка кричала, и на нас оглядывались прохожие. – Он женился! Вы понимаете это?! Эрик женился!
И она быстро убежала от меня.
«Дурёха! – хотелось мне крикнуть ей вслед. – Вспомни, кто сделал тебя олимпийской чемпионкой?! Разве не мы с Нинон?..»
Но я не крикнула ничего. Перевела дух и пошла домой.
Ночью я триста раз вскакивала с постели: то мне хотелось пить, то умыться, то я просто не могла больше лежать… Я вспоминала всё сначала: самые первые уроки с Майкой, её, всегда послушную, покладистую, готовую выполнить любое моё распоряжение, любую команду… Она была так предана мне, да, да, да – она очень любила меня. Мы не только гимнастике учились, мы и алгебру штудировали, пришлось мне снова научиться извлекать корни… Мы такие серьёзные книги вместе читали, столько с ней разговаривали о жизни, о людях, о спорте, об искусстве… А Нинон! Сколько она вложила в Майку! Разве была бы она так образованна, интеллигентна, изящна, если бы не Нина! Майка из очень простой многодетной семьи, где, собственно, воспитанием детей никто не занимался. Как часто на самых изнурительных тренировках, когда они обе буквально падали от усталости, а нужно было ещё работать, Нина устраивала небольшой антракт, обнимала Майку за плечи, и они не торопясь расхаживали вокруг гимнастического ковра. Они ходили, отдыхая, – садиться во время тренировок нельзя! – и Нинон рассказывала, рассказывала Майке о тайне моцартовского «Реквиема» или о том, например, кто такие передвижники…
Майка была нашим созданием с головы до ног. Сколько же должно было накопиться протеста в этой девчонке, чтобы, достигнув славы, признания и почёта, материального благополучия, наконец, – всего того, о чём её ровесники могут только мечтать, крикнуть нам, её создавшим: «Я ненавижу гимнастику и вас!»?!
Майка выбила из-под моих ног платформу, на которой я уверенно стояла целых пятнадцать лет. Как мне нужен был сейчас Павел! Как не хватало его спокойной уверенности в нужности нашего дела! Сейчас я рассказала бы ему всё… А тогда… История с Эриком происходила у него на глазах, но подробностей он не знал и не раз удивлялся тому, как быстро и неожиданно исчез композитор из нашего зала. Я отмалчивалась, понимая, что Павел в этом деле нам с Ниной не союзник. На моём месте он предоставил бы Майке самой решать, быть или не быть ей олимпийской чемпионкой. Он не стал бы вмешиваться в её жизнь.
Всю ночь меня грызла и мучила одна мысль… Я отгоняла её, я не хотела об этом думать, но не думать было невозможно… А что, если всё напрасно? Если напрасно было мамино одиночество перед смертью, если я зря отказалась от личной жизни, если моё фанатичное служение спорту совершенно бессмысленно?..
Голова трещала, стучало в висках. Когда наконец рассвело, я почувствовала некоторое облегчение и поплелась в ванну. Как всегда, приняла контрастный душ и понемногу начала приходить в себя. И когда зазвонил телефон, я с готовностью бросилась к нему: начинался новый день, а с ним – его новые заботы.
Звонила Бабаня. Сказала, что срочно должна уехать, что Анютка остаётся совсем одна. Стыдно признаться: я обрадовалась, что нужно забрать девчонку к себе. Теперь были привычные хлопоты о ребёнке, всё возвращалось на круги своя.
На тренировку Анна пришла с вещами, и, отзанимавшись, мы поехали ко мне. В машине она сидела рядом со мной, я исподтишка наблюдала за ней – её лицо было непроницаемым, как у сфинкса. Поразительный ребёнок: никогда не знаешь, что у неё в голове. Поужинали почти молча и легли спать в разных комнатах.
Ночью я проснулась от того, что меня бил сильный озноб. Я открыла глаза и увидела Анютку, которая стояла возле моей кровати в одной ночной рубашке и испуганно смотрела на меня.
– Ты что, Анюта?
– Вы стонали сильно, я даже испугалась… Я давно возле вас стою. А вы стонете и не просыпаетесь…
Я нашла градусник и сунула себе под мышку. Ничего себе – тридцать девять.
– Может, вызвать неотложку?
– Не надо. Справимся…
Утром Анна напоила меня чаем, что-то поела сама и ушла в школу. Пока она была на занятиях, я то спала, то впадала в какое-то забытьё. Наглоталась таблеток, но температура упорно не хотела снижаться. После школы Анютка примчалась домой, слетала в магазин, заставила меня выпить молока с содой… Вот так раз… Собиралась заботиться о ребёнке, а ребёнок сам обо мне хлопочет.
– Спасибо, Анюта. Ты беги на тренировку. С малышами сама позанимайся. С Чижиком на перекладине поработай, а Петрову – на прыжок… Сама на бревне произвольную поделай, попроси кого-нибудь из тренеров подстраховать акробатику. Нина Захаровна с вами хореографией позанимается, вольные пройдёт – я ей звонила.…
Она очень серьёзно и ответственно покивала: хлебом не корми – дай с малышами позаниматься, а тут такой случай…
К вечеру мне стало лучше, и, когда вернулась Анна, я готовила на кухне ужин. Правда, сидя – была какая-то дурацкая слабость.
– Вы зачем встали? – строго спросила Анюта. – Я сама могу ужин приготовить.
Пока она делала уроки, пока плескалась в ванной, день прошёл. Я посмотрела на часы: скоро двенадцать. Угомонились наконец. Снова начала болеть голова, надо же так рассыпаться, я очень редко болею. Может быть, это и есть то, что называется нервным срывом? Я опять невольно подумала о Майке. Но слабость давала себя знать, я почти отключилась и вдруг услышала слабую возню возле своей кровати. В приоткрытую дверь из коридора падал узкий пучок света. Анюта стелила себе постель на полу рядом со мной. Если у меня грипп, то ей надо держаться подальше, но отправлять её в другую комнату почему-то не хотелось.
– Возьми раскладушку в кладовке… – успела сказать я и неожиданно с облегчением заснула.
Анюта
На соревнованиях я становлюсь как деревянная: меня щипать, кусать можно – ничего не почувствую. И на всё вокруг смотрю так, будто не сама на помосте стою, а со стороны наблюдаю. Когда под марш выходим на построение, я пола под собой не чувствую, как будто не иду, а лечу. Внутри всё сожмётся, даже дышать трудно, а сама знаю: я готова выступать, справлюсь!
Я попала в команду на чемпионат Европы. И Светка тоже. По результатам квалификации мы обе оказались в числе первых из двадцати четырёх лучших гимнасток и вышли в финал личного многоборья. У девушек – три снаряда: прыжок, бревно и брусья. И ещё вольные. Значит, всего получается четыре команды по шесть спортсменок на каждый снаряд. По жеребьёвке мы со Светланой в одной команде.
Своих ближайших соперниц мы прекрасно знаем, сталкиваемся лбами на каждом международном соревновании. На вольных это итальянка. Очень сильная гимнастка. Но нестабильная: то за границу ковра выскочит, то вообще упадёт. Но иногда так хорошо выступает – засмотришься. На бревне на пятки нам со Светкой наступает румынка. Вот кто стабильный – так это она. Для румынок бревно – коронный снаряд. Стоят на нём как вкопанные, не покачнутся, о падении даже речи нет. У нас-то со Светкой по-разному получается: то вдруг закачаешься без всякого повода, просто от волнения, то соскок сделаешь с ошибкой… Самый коварный снаряд. Ну а на прыжке соперниц аж две – украинка и чешка. Тут уж точно – кто кого, на соревнованиях по-разному получалось. То они нас обойдут, то мы впереди окажемся.
В раздевалке, когда переодевались, Ирина больно стиснула моё плечо. Я взглянула на неё и, как всегда, не узнала. У неё на всех соревнованиях становится такое лицо: бледное, губы сжаты, и слова она сквозь зубы цедит.
– Ты должна выиграть у Светланы вольные. Ты знаешь: акробатика у тебя сложнее, надо только всё сделать чисто и выразительно…
– А итальянка?
– О ней вообще забудь.
И дальше Ирина стала говорить медленно, с растяжкой, словно вбивая мне в голову каждое слово.
– Ты должна сегодня выиграть. Света берёт трудолюбием, у тебя ещё талант. Разозлись, разозлись как следует! Ты должна оторваться от неё на вольных и удержаться первой на остальных снарядах…
Я пожала плечами: я-то уступать не собираюсь, но Светка – тоже. До встречи на подготовительном сборе в Москве я не видела её больше двух месяцев, она столько сложных вещей за это время разучила – фантастика! Правда, в спортивном интернате тренировки два раза в день, как на сборе, – можно успеть.
Мы начинаем с вольных. Разминка. Все спортсменки нашей команды на ковре. Ирина стоит внизу у помоста и не сводит с меня глаз.
– Давай вторую диагональ! – слышу напряжённый её голос.
Подошёл Павел Васильевич. Он – выводящий тренер, единственный тренер, кому разрешается помогать спортсменкам.
– Подержать?
– Не надо. Я сама.
Зачем меня страховать на чемпионате Европы? Поздно теперь.
Я чистенько отпрыгала свою диагональ. Если сделаю так на выступлении, оценка будет очень высокой. Посмотрела на Светку – они шептались о чём-то с Павлом Васильевичем. Вечно шепчутся, никогда не догадаешься, что они там обсуждают. Светка – человек скрытный, лишнего слова не вытянешь: «да» и «нет» – вот и весь разговор. И вся тренировка молчком. Только пашет и пашет.
Я успела ещё раз пройти все свои акробатические вставки. Первый гонг: конец разминки. Строимся. Светка стоит впереди меня, очень бледная, такая напряжённая, что, кажется, дотронься до неё – зазвенит… Первой выступает наша основная соперница – итальянка. Выступать первой всегда тяжело, ей не позавидуешь. Так и есть: не выдержала напряжения, на первой же диагонали упала. И тут же «развалилась», как у нас говорят. Стала «мазать» одно движение за другим и в конце упражнения опять свалилась. Всё. Теперь Света. Прозвучала её фамилия. Красиво оттягивая носки, она прошла в угол ковра. Вот подняла руку – сигнал готовности. Теперь музыка. Эти вольные я знаю, за прошедшее время она только акробатику усложнила. Но у меня покруче…
Я чувствую своё сердце, оно колотится где-то возле горла. Вольные идут полторы минуты, а кажется – целую вечность. Светка отлично прошла две диагонали, пока у неё идёт всё нормально, отметка должна быть очень высокой. Я взглянула на Павла Васильевича: он весь как-то вытянулся, подался вперёд. И, отвлёкшись на него, я даже не сразу сообразила, что произошло: сильно оттолкнувшись, Светка легко взлетела вверх, сгруппировалась и – закончила вольные фантастически сложным и красивым прыжком! И приземлилась чисто, красиво, взметнув вверх свои длинные руки.
Что тут началось! Сияющая Светка едва успела уйти с ковра и спрыгнуть вниз с помоста, как её окружили наши и чужие спортсменки и тренеры, стали обнимать, тормошить… Ещё бы! Такой прыжок! Первая в мире! Ещё ни одна гимнастка не делала такого прыжка в вольных, да ещё в конце упражнения, когда силы на исходе… Фантастика! Все тискали Светку и поздравляли, только Ирина стояла внизу возле помоста и не сводила с меня глаз. Я прекрасно понимала, что у неё в голове… «Ну и пусть!» – прочитала я в её глазах. «Не расслабляться! Надо выступать так, словно ничего не случилось! Ещё три снаряда впереди».
Моя фамилия гулко разнеслась по всему огромному спортивному комплексу. Твёрдым шагом, вытягивая носки, так же как и Светка, я вышла на ковёр. Мы ещё посмотрим, кто будет первой…
Я отлично выполнила свои вольные. Получила высокую оценку. Но Света меня обогнала прилично. Я, конечно, её обняла и поздравила с таким прекрасным выступлением. После вольных мы оторвались от наших основных соперниц почти на две десятых балла. Теперь мы состязались только друг с другом. Соревнования продолжались. Я обогнала всех на бревне, и прыжок я выполнила лучше, чем Светлана, украинка и чешка тоже остались позади. Теперь между мной и Светой оставался разрыв в несколько сотых балла. Ирина ко мне в паузах не подходила и со мной не разговаривала, только тяжёлым взглядом наблюдала за мной во время выступления, стоя внизу возле помоста.
Впереди оставался последний и решающий снаряд – брусья. Другая команда ещё выступала на вольных, и не закончились упражнения на бревне, и, пока оставалось несколько минут до перехода к очередному снаряду, я постаралась немного расслабиться. И впервые снизу посмотрела в зал. Я всегда смотрю в зал, когда надо расслабиться и отвлечься. Мне это помогает. Зрителей много, Европа всё-таки. Это в нашей стране гимнастику почему-то не любят. Услышав знакомые голоса, я оглянулась. Спиной ко мне у самого помоста стояли Ирина и Павел Васильевич, и я невольно услышала их разговор.
– Поздравляю… – сказала Ирина.
Значит, она не только ко мне не подходила, но и к нему тоже.
– Мне-то, наверно, можно было сказать… Всё втайне… Даже на сборе не показывали этот прыжок…
– Светлана не хотела… Боялись сглазить. Сегодня с семи утра тренировались…
К ним подошла сосредоточенная Светка. Она, видимо, хотела о чём-то спросить своего тренера, но Ирина обняла её, прижала к себе.
– Поздравляю! Ты просто молодчина!
– Спасибо… – буркнула Светлана. Она была очень напряжена.
– Светлана, – подозвал её наш массажист. – Как там твой больной локоть поживает? Иди сюда, я посмотрю…
И он увлёк Светлану в сторону, к своему кейсу, стоявшему на скамейке. Я вспомнила, что на подготовительном сборе Светлана делала какие-то процедуры на локтевой сустав. Надо же! Ни разу не слышала, чтобы она жаловалась.
– Совсем зелёная стала… – произнесла вдруг Ирина. – Круги под глазами…
Я даже вздрогнула от неожиданности. Новости какие… Мои круги, между прочим, не замечает.
– Устала… – согласился Павел Васильевич. – Ничего. Последний снаряд.
– Многовато ты ей навертел… После таких вольных и такая сложная комбинация на брусьях… Не боишься? Как бы не сорвалась… Я Анне соскок упростила. Боюсь, не выдержит.
Интересно, когда это она мне соскок упростила? Даже разговора не было…
Павел Васильевич посмотрел на Ирину долгим внимательным взглядом, подумал, походил туда-сюда вдоль помоста и подозвал Светку. Как всегда, начал что-то спокойно шептать ей на ухо. Она послушно кивнула, и он торопливо пошёл к судьям.
Ирина, наконец, заметила меня.
– Вот ты где…
А где я могла быть? И всё-таки спросила у неё:
– Какой соскок делать?
Она удивлённо взглянула на меня.
– Что за вопросы? Тот, что в протоколе…
– Как прикажете…
Заиграла музыка, и наша команда строем вышла на помост и встала перед брусьями. Пошла разминка. Всего пять минут, за которые все, кто должен сейчас выступать, успевают пройти свои самые сложные элементы и связки. Павел Васильевич стоит на страховке.
На брусьях я выполняла упражнение первой. Как только встала перед ними, тут же оглохла и ослепла. На одном дыхании выполнила комбинацию, не чувствуя ничего, кроме шершавого тепла жердей. Приземлилась отлично, даже не покачнулась. Кажется, всё в порядке. Бесконечно долго не объявляли оценку. Наконец-то! Оценка очень высокая. Исподтишка посмотрела вниз на Ирину – она, как всегда, стояла внизу у помоста и только напряжённо кивнула мне. Теперь Светлана…
Светка начала свою комбинацию в таком бешеном темпе, что я обалдела. У меня даже дыхание перехватило: до чего красиво! Но вдруг, сильно размахнувшись, она перелетела через жердь и шлёпнулась животом на маты. Мне стало так за неё обидно, что я даже забыла, что Светка – моя соперница. И тут я увидела Ирину. Она улыбалась! Улыбалась! И довольно смотрела на меня. И только тут я поняла: я первая! Первая! Я – чемпионка Европы!
У меня закружилась голова, и вдруг страшно захотелось есть, даже в животе заурчало… Первая… Вот это да! Мама, мамочка, Бабаня, дорогие мои, миленькие, ведь я – первая!..
Я спустилась с помоста. Меня тут же окружили, стиснули свои и чужие спортсмены и тренеры. Я села на скамейку рядом с двумя нашими тренерами, пытаясь унять бешеный стук своего сердца. Они поздравили меня и продолжили разговаривать о чём-то вполголоса. А соревнования ещё продолжались, гремела музыка вольных – последняя спортсменка заканчивала выступление на ковре. Но когда музыка смолкла, я вдруг услышала, как один из тренеров произнёс:
– И зачем только Светланка упростила комбинацию! Ведь так хорошо шла…
– Павел решил… Побоялся, что не вытянет. Ну а Светка пошла с большим запасом, размах взяла на прежнюю сложность, вот и перелетела через жердь…
– Странно, такой опытный человек, как Павел… Он ведь прекрасно знает, что на соревнованиях ничего нельзя менять: ни упрощать, ни усложнять. Странно…
Я была так возбуждена, что тут же забыла об этом разговоре.
Соревнования наконец закончились. Светка отлетела на четвёртое место. Я еле дождалась конца церемонии награждения и почти на четвереньках поползла в раздевалку. У дверей стоял Павел Васильевич. Вышла Светка, зарёванная, но уже умытая, в тренировочном костюме и с сумкой на плече. Не глядя на меня, она сжала мою ладонь.
– Поздравляю…
Подскочила Ирина.
– Павел…
Он быстро взглянул на неё и отвернулся. Ирина растерялась и сразу как-то обмякла.
– Павел, – она говорила быстро, не обращая на нас со Светкой никакого внимания. – Я не думала… Я не хотела, честное слово…
О чём это она? Павел Васильевич крепко обнял Светку за плечи. И они быстро ушли. Ирина застыла на месте, бледная, растрёпанная, и даже не смотрела на меня. Она забыла, забыла меня поздравить!
Я пошла в раздевалку, и она даже не окликнула меня.
Вечером я позвонила из гостиницы домой. Мама вернулась из больницы, вышла на работу, и я теперь все свои наличные тратила на вечерние телефонные переговоры с ней.
Она страшно обрадовалась моей победе, даже заплакала. Потом сказала, что Бабаня звонила, что дела у её брата совсем плохи, что у него паралич и, видимо, Бабане придётся уехать в деревню насовсем. Я, конечно, очень расстроилась, но слишком много событий произошло сегодня. В чём была, я так и повалилась на кровать.
Две девчонки, которые жили со мной в номере, уже уехали домой, я была одна. Видимо, от бешеной усталости сон не приходил. Весь чемпионат снова стал прокручиваться передо мной, как в кино: и Светкин фантастический прыжок в конце вольных упражнений, и тот самый злополучный акробатический элемент на бревне, выполненный мной без помарки, и наши комбинации на брусьях… И почему Ирина сказала Павлу Васильевичу, что упростила мне соскок… Зачем врать-то? Вспомнилось, как обидно шлёпнулась Светка на маты, и слова тренеров о том, что ничего нельзя менять во время соревнований… Зачем же тогда Ирина посоветовала Павлу Васильевичу упростить Светкину комбинацию?
Я села на кровати. Я, кажется, поняла… Неужели правда?! Так вот за что она извинялась…
Я сидела на гостиничной койке и таращилась в темноту. Надо было разобраться: случайно всё это произошло или Ирина нарочно всё это сделала? Но разве можно соврать случайно, что она мне упростила комбинацию?
Я соскочила с постели, зажгла свет. Ну, знаете, Ирина Николаевна… Ну, знаете… Мне таких побед не надо! Всегда и всё сама! Честно! Вас, дорогая Ирина Николаевна, кажется, никто не просил вмешиваться! Что заслужила, то и должна получить! Я выскочила за дверь, пролетела коридор и тихо постучалась в дверь Светкиного номера. Но уставшие девчонки спали крепко, никто не отозвался, и мне было жалко их будить. Я подумала и пошла к Ирине.
Была глухая ночь, но дверь её номера распахнулась сразу. Она была одна и тоже не спала.
– А, это ты… – протянула она разочарованно. – Ты что не спишь, победительница?
Я вытащила руку из-за спины. На моей ладони на длинной ленточке покачивалась моя золотая медаль.
– Я принесла вам это… Это не моя медаль. Она ваша.
– Ты что несёшь? – вытаращилась на меня Ирина. – Ты соображаешь, что говоришь?
– И, пожалуйста… – сказала я медленно. Сердце билось так, что я почти не слышала своих слов. – И, пожалуйста, выбирайте выражения, когда говорите со мной.
– Хорошо, – вдруг устало согласилась Ирина. – Если тебе надо выяснять отношения именно сейчас, зайди в комнату, сядь и объясни.
Ирина была в комнате одна, постель ещё не разбирала, ни книги, ни стакана с чаем я не увидела. И чего она тут в темноте делала, не понимаю.
– Садись!
Я упрямо продолжала стоять.
– Сядь! – повысила она голос. – И объясни наконец: что это всё значит?
Я села в глубокое кресло. Медаль так и покачивалась в моей руке.
– Это значит, что вы специально сделали так, чтобы Павел Васильевич упростил Светке комбинацию… Вы надеялись, что она свалится…
– Что ты мелешь? Я не могла этого предполагать… – Она подозрительно посмотрела на меня. – И откуда, собственно, тебе известны все эти тонкости?
– Я знаю… Я слышала… В общем, я знаю.
Наконец я сообразила положить медаль на стол, поднялась и направилась к двери.
Ирина вскочила, схватила меня за плечи и сильно встряхнула:
– Тебе кто дал право со мной так разговаривать? Я что, для себя лично чего-то хотела? Я хотела только одного, чтобы ты заняла в гимнастике то место, которое занимать должна и можешь. А моих собственных заслуг мне до самой смерти хватит. Понимаешь ты это? Я, между прочим, Ирина Масленникова, моим именем два сложных элемента в гимнастике называются, и ты их пока с трудом выполняешь! Не забывайся! Я тебя из такой сточной канавы вытащила, из такого убожества… Что бы ты в жизни видела, если бы не гимнастика?! И всё это ради того, чтобы ты мне потом сцены закатывала? Забирай медаль и отправляйся спать, дерьмо дипломированное!
Она совала мне в руки медаль, а я уворачивалась. Тогда она быстро надела мне её на шею и вытолкала в коридор.
Я кубарем скатилась с гостиничной лестницы в холл к портье. Когда я спросила его на приличном английском, где живёт Павел Суворин, он вытаращил на меня глаза.
– Ты знаешь, сколько сейчас времени, девочка?
– Мне очень нужно…
Я понемногу остывала, но надо было всё довести до конца. В этом номере тоже не спали, я слышала мужские голоса. На моё счастье, вышел Павел Васильевич.
– Аня?
Я решительно протянула ему медаль.
– Возьмите. Она Светкина!
Он даже попятился слегка, подумал и, серьёзно посмотрев мне в глаза, сказал:
– Вот оно как… Значит, все судьи ошиблись… Ты не имела права на высокие оценки? Ты получила их незаслуженно?
Здравствуйте! Разве я про это? И, неожиданно для самой себя, я выпалила:
– Павел Васильевич, возьмите меня в Череповец! Я хочу тренироваться у вас!
Он смотрел на меня и молчал. Я тоже молчала, ждала.
– Нет, Аня, я тебя не возьму. Ирина Николаевна…
– Я не хочу больше у неё тренироваться! Я ей не верю больше, понимаете?! – Я почти закричала, и Павел Васильевич приложил палец к губам. Я сбавила обороты. – Я теперь все свои прошлые победы нечестными буду считать… Может быть, она и там…
Павел Васильевич сердито оборвал меня:
– Я не понимаю, о чём ты говоришь… А медалями, девочка, не бросаются. Отправляйся спать!
Он ушёл, а я осталась одна в пустом коридоре. Медаль качалась на ленточке на моей ладони. Постояла я, постояла и, как последняя дура, побрела в свой номер.
И, едва прикоснулась головой к подушке, заснула мертвецким сном.
Павел Васильевич со Светланой в Санкт-Петербург улетели ранним утром, а мы с Ириной улетали днём. Ни в аэропорту, ни в самолёте мы с ней не разговаривали. Она так сосредоточенно думала о чём-то, что иногда её лицо словно судорога сводила. Мне казалось, что она еле сдерживает слёзы. Это Ирина-то! Ничего себе… И хотя я всё ещё кипела от злости, мне почему-то было её жалко.
Мама знала, каким мы рейсом прилетаем, и время было нерабочее, но в аэропорту её не было. Это не раз случалось, когда она… У меня знакомо засосало под ложечкой. Я подхватила свою сумку и, очень вежливо попрощавшись с Ириной, поехала в город на автобусе.
В нашей комнате было так шумно, что никто не заметил, как я открыла дверь и встала на пороге. На столе стояло несколько бутылок водки. Все рожи знакомые. Мама первая заметила меня, вскочила со стула, протянула ко мне руки.
– Анюточка, доченька, победительница моя! А мы тут немножко… За твою победу…
Меня вдруг сильно затошнило, голова закружилась, и я чуть не упала. Я медленно подошла к столу, взяла с него две непочатые бутылки, вышла с ними в коридор и, распахнув дверь, швырнула их на лестницу. Зазвенели стёкла, и острый запах водки начал медленно расползаться по ступеням. Мамины гости молча смотрели на меня.
– Убирайтесь отсюда, быстро! – прошипела я. – Проваливайте, или я вызову полицию! Ну!
Я выскочила в коридор к настенному телефону и схватила трубку. Я держала её на весу и смотрела через дверь на эти поганые, мерзкие рожи. Господи, как я их ненавижу! Они были ещё не совсем пьяны и пошли мимо, понося и браня меня последними словами. Я не слушала их, я стояла и ждала, когда можно будет запереть за ними дверь. Мама тихо плакала.
– Ну что ты, доченька… Мы совсем чуть-чуть…
Она хотела меня обнять, но я в первый раз в жизни сильно оттолкнула её. Так сильно, что мама почти упала на кровать.
– Анюта… Успокойся, Анюточка…
– Ты ведь обещала! – теперь заплакала и я. – Обещала! Обещала!
Что со мной было дальше, я не помню. Как в тот раз, когда в нашем доме была драка, у меня мелко стучали зубы, мне было страшно холодно, я каталась по кровати, а потом почему-то оказалась на полу и кричала всё время только одно слово:
– Обещала! Обещала! Обещала!
Потом я с распухшим лицом лежала на кровати, и мама прикладывала к моему лбу мокрое полотенце. От неё сильно пахло перегаром, и я всё отворачивалась от неё и отворачивалась.
Ночью приехала Бабаня. Как я ей обрадовалась – боже мой! Мама крепко спала и не слышала ничего, а я повисла на Бабаниной шее и не хотела её отпускать.
Пока она раскладывала на столе деревенские гостинцы и, покачивая головой, разглядывала моё распухшее лицо, я всё-всё ей рассказала.
– Ну, ты растёшь, подруга… – поцеловала она меня. – А я-то думаю: кто же на нашей лестнице такую драгоценную влагу разлил?
Бабаня поворошила рукой мои волосы.
– И чё делать-то, ума не приложу… Оставлять тебя одну – нельзя, пропадёшь ты здесь с матушкой своей… И я в городе остаться надолго не могу. Соседка обещала поухаживать за Яковом, пока я выпишусь и паспорт оформлю, но душа всё равно не на месте… Кабы не гимнастика твоя, поехали бы в деревню все вместе, как хорошо… Мать от её дружков оторвали бы, и без работы бы она не осталась. Я приехала – своей деревни не узнала. Там теперь такие теплицы понастроили, такие птичники – на полкилометра длиной. Это, кажется, холдинг называется. Везде рабочие руки требуются. И школу отремонтировали, и клуб у нас теперь не клуб, а Дворец культуры называется. И в нём кружков разных, нашла бы и ты себе применение. Но как же тебе уезжать, когда ты у нас такая чемпионка?..
Бабаня пробыла три дня, и я три дня ходила за ней как тень: и выписываться в полицию, и в домоуправление, и в магазины, и маму встречать после работы… Я не ходила в школу и на тренировки. Ирина не звонила, школа не беспокоилась – всем было наплевать на меня. А я ходила следом за Бабаней и всё думала, думала, думала… Никогда в жизни я так свои мозги не утруждала. Мне казалось, что моя голова сейчас лопнет от напряжения. На третий день вечером я попросила Бабаню позвонить на квартиру к отцу и позвать к телефону Колю.
– Это я… Ты можешь сейчас выйти? Очень надо…
На улице лупил сильный дождь. Мы спрятались в какой-то парадной между нашими домами.
– Я ухожу из спорта… – выпалила я.
– С ума сошла! – Он глядел на меня своими деформированными глазами через очки и не верил. – Опять с Ириной поругалась?
– Поругалась, – кивнула я. И рассказала ему обо всём случившемся на чемпионате. – Но дело не в этом.
Если начала говорить, надо было рассказывать всё.
– Мне надо спасать мать.
Он сразу понял.
– А что ты решила делать?
– Мы с мамой поедем в деревню к Бабане. Мы там не пропадём, вот увидишь…
Колька участливо взглянул на меня.
– А гимнастика?.. Жалко…
– Не то слово. Гимнастика – это ведь вся моя жизнь, у меня другой не было. Кроме зала, и вспомнить нечего. Ужасно жалко. Я пока не представляю, как я буду без гимнастики… Но мне надо спасти маму…
– Ты даже не простишься с Ириной? Возьмёшь и уедешь, не простившись? Я думаю, это нечестно…
Я не пошла в спортшколу: не хотелось никого видеть, не хотелось никому ничего объяснять. Я подошла к концу тренировки, прижалась к стене дома и стала ждать. Фонарь в школьном дворе мальчишки давно разбили снежками, теперь здесь такая темнотища – хоть глаз выколи. Девчонки выходили группами, малыши – вместе с мамами и бабушками. Прошли наши мужчины… Ирины всё не было. Неужели я её пропустила? Но вот на крыльце появилась наша неразлучная пара – Чижик и Петрова. Идут, взявшись за руки. И куртки и шапки одинаковые, как у близнецов.
– Петя! – не выдержала я. – Чижик!
Девчонки, как по команде, повернулись и, узнав в темноте, бросились ко мне.
– Анюта! А мы думали, что ты заболела…
Говорят они тоже хором, словно и думают одинаково.
– Нет, я здорова. Я уезжаю, девочки… Насовсем.
Они смотрели на меня снизу вверх с обожанием и ничего не понимали.
– Куда?!
– Я совсем из города уезжаю, Чижик… Вы тренируйтесь как следует, не ленитесь… Ирина Николаевна – очень хороший тренер! Ну чего ты, Петя? – Я вытерла ладонью её слёзы, сама стараясь не зареветь. – Я буду к вам часто приезжать. Обязательно! Ну ладно, идите, идите.
Обе девчонки откровенно хлюпали. Но послушались меня, пошли, оглядываясь и пятясь. Когда они почти совсем растворились в темноте, я крикнула:
– Петя!
Они разом бросились ко мне, и я подбежала к ним… И когда мы столкнулись, я вдруг забыла, зачем их позвала.
– Ты вот что, Петя… Ты на вольных шпагаты тяни как следует… А ты, Чижик, на акробатике плотнее группировку бери, не разваливайся, тогда и падать не будешь…
Девчонки таращились и кивали.
– Всё! – отрезала я и сама побежала от них.
Больше из дверей никто не выходил. Было тихо и очень тоскливо. Как же я Ирину проворонила? И почему у девчонок про неё не спросила? Потом я услышала металлический скрежет – это сторож запирал дверь на засов. Это от меня, от меня сейчас закрывали мою спортшколу! И мне захотелось забарабанить в эту дверь кулаками, заорать, затрезвонить в дверной звонок…
Ну уж нет! От меня на засов не закрыться! Пусть дверь будет запертой, пусть! За столько лет занятий мы научились проникать в это здание самыми неожиданными путями. И пока в спортшколе не поставили стеклопакеты, есть прекрасный вход через окно в раздевалке. Раздевалка наша – в подвальном помещении, а фрамуга в последнем окне никогда не закрывается. Ни зимой, ни летом. В сильные морозы мы её поролоном затыкали. Открыть её очень просто, хотя она и тяжеленная. Главное – не выпустить раму из рук, а то грохот будет, как тогда в классе… И теперь не Елизавета примчится, а сразу полиция.
Я оглянулась: во дворе ни души. Скинув куртку, осторожно начала раскачивать разбухшую от сырости раму. Когда она слегка подалась, я начала тихонько её наклонять вглубь раздевалки. Фрамуга была очень тяжёлой и тянула меня за собой. Только бы не выпустить её из рук, только бы не выпустить… Уф! Фрамуга наконец дошла до упора, я отпустила занемевшие пальцы и опять оглянулась. Слава богу, никого! Теперь всё просто. Я закинула в окно куртку и влезла сама. Надо всё делать очень быстро. Справа под окном – высокая тумбочка, рукой взяться за шкафчик… В темноте ничего не видно, но я могу в нашей раздевалке передвигаться с закрытыми глазами. Привет! Я дома! Путь проверенный, но обычно мы его проделывали компанией, помогая друг другу. Теперь через узкий проход между шкафчиками шесть шагов влево, а потом прямо – дверь в зал… Я по привычке скинула обувь и вошла.
В зале было совсем темно и после вечерней тренировки очень душно. Канат, гимнастическая стенка, перекладина, яма с поролоном для прыжков… Я повисела, качаясь, на нижней жердине брусьев и села на верхнюю. Глаза постепенно привыкали к темноте. С верхней жерди смотреть – высота приличная, и как я раньше не замечала этой высоты? Маты, сложенные аккуратной стопкой, лежали в углу зала. Если сильно раскачаться, то можно до них долететь. Я повисла, один мах, другой, третий… Толчок – и, перелетев несколько метров, я шлёпнулась на маты. Раздался жуткий визг, и я тут же начинаю понимать, что подо мной кто-то шевелится. Я так перепугалась, что заорала тоже.
Сильно оттолкнув меня, кто-то сел рядом.
– Кто здесь? – услышала я изменившийся от страха голос Ирины.
– Я…
– Ты, что ли, Анюта? – Она ощупала меня в темноте и, убедившись, что это я, начала тихонечко смеяться.
Мне тоже стало смешно. Мы смеялись сначала тихо, а потом всё громче и громче, пока не стали хохотать на весь зал. Мы с Ириной были одни на белом свете. Даже сторож не мог нас услышать: его клетушка в другом конце здания.
– Ты как сюда попала посреди ночи? – спросила Ирина.
– Я ждала вас после тренировки… Ждала, ждала… А потом решила залезть сюда…
– Через фрамугу?
– Ага…
Ирина помолчала, потом обняла меня за плечи, прижала к себе.
– У меня голова разболелась во время тренировки. Все разошлись, а я таблетку проглотила, решила полежать и заснула.
Смеяться больше не хотелось. Ирина по-прежнему крепко прижимала меня к себе.
– Ты что-то хотела мне сказать? – осторожно спросила она.
А я вдруг растерялась. Всё-всё было позади: и напряжённые соревнования, и моя злость и возмущение поступком Ирины, и медаль, качающаяся на ленточке в моей руке, и ночной разговор с Павлом Васильевичем – всё это словно и не со мной происходило несколько дней назад. Я чувствовала на своём плече твёрдую, уверенную руку Ирины. Сколько раз эти руки подхватывали меня на лету, когда я должна была разбиться насмерть! Как бы мы с ней ни ругались, я всегда знала, что эти руки рядом, подхватят меня, вытащат, спасут… Ирина на меня ухлопала восемь лет жизни. Мне стало так жалко и её, и себя, что я заплакала.
– Ты что, Анюта? – Она пыталась разглядеть в темноте моё лицо. – Что-нибудь случилось?
Я взяла себя в руки и перестала давиться слезами.
– Да… Мы с мамой уезжаем в деревню к Бабане.
Мы никогда не обсуждали с Ириной мои семейные дела, но она знала всё. Сегодня надо было говорить правду. Я начала рассказывать сбивчиво, но потом успокоилась и рассказала всё как есть.
Ирина давно убрала руку с моего плеча и сидела рядом со мной на матах тихая-претихая.
– Скажи мне, Аня… Если бы я… Если бы не эти соревнования, ты бы уехала? Только правду скажи, мне надо знать.
Мне стало так жалко её, что я ответила твёрдо и убедительно:
– Я бы всё равно уехала, Ирина Николаевна! Обязательно уехала!
Ирина
Что-то я устала за этот месяц… Сегодня воскресенье… Надо хоть в воскресенье лечь пораньше и как следует выспаться.
Я выпила чаю и разобрала постель.
Завтра усложню Чижику комбинацию на бревне, она вполне к этому готова. А Петрова вполне прилично стала выглядеть на вольных. Молодец, Нинон.
Нормально… Всё нормально. Надо внимательно посмотреть ту малышку, о которой говорила Вера Павловна. Она редко в своих прогнозах ошибается. Именно Вера когда-то подготовила Светлану для Павла.
Завтра обычный трудовой день.
Самый обычный.





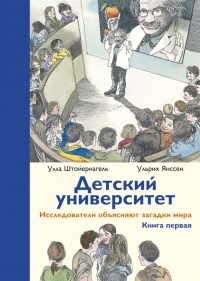
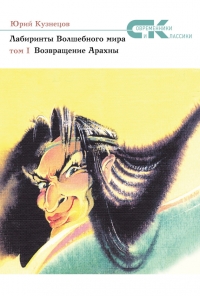





Комментарии к книге «Вольные упражнения», Татьяна А. Сергеева
Всего 0 комментариев