Нед Виззини Это очень забавная история Роман
Посвящается моей маме.
Я рано или поздно посвятил бы тебе одну из книг.
Но что-то они даются мне не так просто,
так что я подумал, лучше уж рано.
С любовью, НедNed Vizzini
It's Kind of a Funny Story
Печатается с разрешения литературных агентств William Morris Endeavor Entertainment, LLC и Аndrew Nurnberg
Text copyright © 2006 by Ned Vizzini
© А. Зверева, перевод на русский язык, 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
Часть первая Где я нахожусь
Один
Когда хочешь покончить с собой, слова даются ой как непросто. Это влияет на все, но не в психическом смысле, нет, ощущение вполне физическое: тебе физически тяжело открывать рот и произносить слова. Ты не можешь подумать и произнести что-то как нормальный человек: слова лезут кусками, как будто их перемололи в измельчителе для льда, они скапливаются во рту за нижней губой, и ты спотыкаешься о них. Лучше уж помалкивать.
– А вы замечали, что во всех рекламных роликах люди смотрят телик? – спрашивает мой друг.
– Не гони, – возражает второй.
– Да нет, точняк, – подтверждает третий. – В них постоянно кто-то сидит на диване, только если это не ролик про аллергию – и тогда они в поле…
– Или скачут по пляжу на лошади.
– Не, это в рекламе лекарств от герпеса.
Мы смеемся.
– Да как вообще можно сказать кому-то, что у тебя герпес? – говорит Аарон, дома у которого мы зависаем. – Представляете эту дичь: «Слушай, пока мы не начали, я должен сказать…»
– А ваши мамки вчера ночью не возражали!
– О-о-ой!
– Да ты офигел, пацан!
Аарон тычет кулаком в задиру Ронни. Тот маленького роста и обвешан цацками. По его словам, «начни носить украшения – потом не остановишься». Ронни бьет в ответ, и пузатый золотой браслет на его руке с громким звоном стукается о часы Аарона.
– Э, парень, ты что, золотишко мое попортить хочешь? – Ронни трясет запястьем, а потом переключается на курение косяка.
У Аарона всегда есть травка. У него комната с отдельной вентиляцией и запирающейся дверью в соседнее помещение, которое его родители сдают жильцам как отдельную квартиру. На всех выключателях красуются грязные потеки, а покрывало на кровати – в черных кругах. Пятна и разводы на нем тоже есть, блестящие такие, говорящие об определенных занятиях, которым предаются Аарон и его подружка. Я смотрю на пятна, потом на парочку – и ревную. Но потом вспоминаю, что на ревность мне уже плевать.
– Будешь, Крэйг?
Мне дают косяк, свернутый из рекламного листка службы доставки, но я передаю его дальше. Я провожу эксперимент. Проверяю, не в травке ли все дело: может быть, это она пришла и поработила меня. Я частенько так делаю: по нескольку недель не курю, а потом выкуриваю сразу целую кучу травы, просто чтобы проверить, а вдруг дело как раз в воздержании.
– Ты как, чувак? Порядок?
Меня могли бы так называть. Типа такой супергерой: «Чувак-Порядок».
– Э-э-э… – торможу я.
– Не цепляйся к Крэйгу, – говорит Ронни. – Он на своей волне. На волне Крэйга. Он крэйгует.
Я собираюсь с силами, привожу в действие необходимые мышцы и выдаю с улыбкой:
– Ага, просто я… типа… ну…
Видите, что происходит со словами? Они отказываются иметь дело с губами и уходят.
– У тебя все нормально? – спрашивает большеглазая красотка Ниа.
Ниа – девушка Аарона. Она постоянно к нему притрагивается. Вот и сейчас она сидит на полу возле его ноги.
– Все отлично, – говорю я.
Она отворачивается обратно к телику, и голубое свечение экрана отражается в ее глазах. Мы смотрим документалку про океанские глубины.
– Вот ни фига себе, вы только поглядите! – говорит Ронни, выдыхая и снова втягивая в себя дымок. Как вообще он это делает?
На экране появляется полупрозрачный осьминог с гигантскими ушами, парящий в воде в холодном свете батискафа.
– Ученые в шутку назвали этого осьминога Дамбо… – вещает диктор.
Ха, а вот и мой секрет: я хотел бы быть осьминогом Дамбо. Приспособленный к ледяному холоду океанских глубин, я бы спокойно плавал туда-сюда. Самой большой заботой в моей жизни было бы, какую дрянь подобрать со дна, чтобы прокормиться. Что не слишком-то отличается от моих нынешних проблем. Зато у меня не было бы естественных врагов. Впрочем, у меня и сейчас их нет, а что толку? И тут меня осеняет: я хотел бы жить под водой, как осьминоги.
– Я сейчас, – говорю я, поднимаясь со своего места на диване, которое тут же занимает Скраггс, сидевший до этого на полу.
– Встал – место потерял! – поспешно говорит он. – Ты не сказал «не занимать».
– Не занимать! – пробую я.
– Поздно.
Я пожимаю плечами и, минуя сваленную в кучу одежду и вытянутые ноги, пробираюсь к светло-коричневой двери, похожей на вход в квартиру с улицы. За дверью направо – теплая ванная.
С ванными комнатами у меня особые отношения. Я провожу в них кучу времени. Это убежища, общественные места покоя для таких, как я, разбросанные по всему миру. Заскочив в туалет Аарона, я следую привычному ритуалу по убиванию времени. Первым делом выключаю свет. Глубоко вздыхаю. После этого поворачиваюсь лицом к двери, которую только что закрыл, спускаю штаны и падаю на унитаз – не сажусь, нет, а падаю, как труп, чувствуя, как задница встречается с ободком. Потом я роняю голову на руки, выдыхаю и, это, ну, отливаю. Я всегда стараюсь получать от этого удовольствие, прислушиваюсь, как из меня вытекает, понимаю, что мое тело справляется с чем-то, что должно делать, вроде питания, с которым у меня не очень получается. Поэтому я прячу лицо в ладони и мечтаю, чтобы это вытекание продолжалось вечно, потому что это так приятно. Ты это делаешь – и оно делается. Не нужно прилагать никаких усилий или думать, как бы к этому подойти или отложить на потом. Если не можешь отлить – это же просто капец. Типа анорексии, только с мочой. Вроде как держишь ее внутри, чтобы наказать себя. Интересно, кто-нибудь так делает?
Я заканчиваю и, так и не поднимая головы, спускаю воду, нащупав кнопку сзади. Потом встаю и включаю свет. Интересно, кто-то заметил, что в щели под дверью не было света и я сидел в темноте? Видела ли Ниа?
Смотрюсь в зеркало. Выгляжу я совершенно обычно. Так же, как выглядел до прошлой осени. Темные волосы, темные глаза, один кривой зуб, сросшиеся на переносице густые брови и длинный, немного перекошенный нос. Расширенные зрачки – это у меня от природы, а не из-за травки – растворяются в темно-коричневых радужках, делая мои глаза похожими на блюдца: этакие отверстия внутрь меня. Над верхней губой – отдельно торчащие клочки волос. Это и есть я, Крэйг.
Вид у меня всегда такой, будто я сейчас расплачусь.
Я включаю горячую воду и, чтобы почувствовать хоть что-то, плещу на лицо. Через несколько секунд мне придется выйти отсюда к людям. А так хочется еще немножко посидеть в темном туалете. Я всегда растягиваю поход в туалет минут на пять.
Два
– Как твои дела? – спрашивает доктор Минерва.
В ее кабинете, как и у всех мозгоправов, стоит книжный шкаф. Раньше я не хотел называть их мозгоправами, но мне кажется, что после всего случившегося у меня есть на это право. Так психологов называют взрослые, причем неуважительно, а я почти взрослый и никого не уважаю, так что – какого черта?
Короче, как у всех мозгоправов, у нее в этом кабинете есть книжный шкаф, забитый соответствующей литературой. Самая важная книжка, и толстенная такая, – «ДСР, или Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам»: в нем перечислены все известные науке психические заболевания – занятное, я вам скажу, чтиво. У меня, конечно, не все собранные там болезни, а только одна, зато серьезная, но я знаю обо всех, потому что полистал книгу. Чего там только нет. Например, «синдром проклятия Ундины». Это когда организм утрачивает способность к непроизвольному дыханию. Представляете? Человек должен все время думать: «Дыши, дыши!» – а иначе дыхание прекратится. Большинство людей с такой болезнью умирает.
Если мозгоправ высококлассный, то у нее (чаще всего – «у нее», реже – «у него») есть несколько таких ДСР, потому что оно выходило в нескольких изданиях. Самые распространенные – третье, четвертое и пятое, и вряд ли вам где-нибудь встретится второе: его выпустили в 1963 году или около того. Новое руководство выходит примерно раз в десять лет, сейчас идет работа над шестым.
Блин, я мог бы стать мозгоправом.
Ну так вот, кроме ДСР в шкафу куча специальных книг о разных психических болезнях: «Свобода от депрессии», «Тревога и панические атаки: причины и лечение», а также «Семь навыков высокоэффективных людей». Все книги в твердых переплетах. Никаких тебе мягких обложек! Обычно в таких кабинетах есть по меньшей мере одна книга, посвященная сексуальному насилию над детьми, – «Израненное сердце», например. Когда одна из психологов-мозгоправов, к которой я ходил, застала меня за разглядыванием этой книжки, она так и сказала:
– Это книга о сексуальном надругательстве над детьми.
А я такой:
– Хм, да?
А она:
– Это для людей, которые подверглись насилию.
Ну и я кивнул.
– С тобой такое было?
У нее было маленькое старческое личико с копной поседевших добела волос. Больше я к ней не ходил. Что вообще за вопрос? Не подвергался я никакому насилию. Будь это так, все стало бы намного проще. Тогда у меня была бы веская причина таскаться по кабинетам мозгоправов. Было бы оправдание и что-то, над чем можно работать. Но жизнь приготовила мне подлянку, с которой так просто не разделаться.
– У меня все нормально, – отвечаю я на вопрос доктора Минервы. – Ну, то есть не совсем нормально, раз я здесь.
– Тебя это беспокоит?
– Конечно.
– Да, ты уже давно сюда ходишь.
Доктор Минерва всегда потрясающе выглядит. Не сказать, что она как-то по-особому хороша, просто умеет себя подать. Сегодня на ней красный свитер и подобранная тон в тон губная помада. Как будто она специально ходила в магазин красок, чтобы подобрать цвета.
– Я хочу перестать сюда приходить.
– Что ж, ты движешься к этому. Как твои дела?
Это у нее такой наводящий вопрос. Мозгоправы всегда их задают. Один мозгоправ всегда спрашивал: «Что, как?», «Как мы поживаем?» или даже: «Что новенького в мире Крэйга?» Это у них так заведено. Такие прибаутки. У каждого свои.
– Сегодня у меня было неприятное пробуждение.
– А спал ты хорошо?
– Нормально.
Она сидит как каменная и смотрит прямо перед собой. Не знаю, как они делают это специальное психолицо кирпичом. Как у игроков в покер. Психологам пошло бы играть в покер. Кто его знает, может, так они и делают. Может, это как раз они и выигрывают на разных телешоу сумасшедшие деньги. И после этого имеют наглость выставлять моей матери счет в 120 баксов за час. Вот жадюги.
– И что произошло, когда ты проснулся?
– Мне что-то снилось, уже не помню что, но когда я проснулся, то с ужасом понял, что уже не сплю. Меня как кирпичом в пах садануло.
– Как кирпичом в пах, понятно.
– Я не хотел просыпаться. Мне было гораздо лучше, когда я спал. Меня это угнетает. Это как ночной кошмар наоборот, понимаете? Люди испытывают облегчение, когда просыпаются от кошмара, я же просыпаюсь в него.
– И что это за кошмар, Крэйг?
– Жизнь.
– Жизнь – это кошмар?
– Ну да.
Тут мы замолкаем. Вроде как важный момент. Неужели жизнь в самом деле похожа на кошмар? Чтобы поразмыслить над этим, нам нужно не меньше десяти секунд.
– И что ты сделал, когда понял, что проснулся?
– Остался в кровати.
Я мог бы рассказать еще кое о чем, но не стал. Например, этим утром я лежал в постели голодный. Накануне вечером я ничего не ел. Допоздна делал уроки, вымотался и, упав на подушку, уже понимал, что утром горько об этом пожалею: проснусь жутко голодным – и точно переступившим грань, за которой мой желудок так подведет, что я не смогу съесть ни куска. Я проснулся, мой желудок крутило так, будто он пожирал себя изнутри. Но я не хотел ничего с этим делать. Я не хотел есть. При одной мысли о еде живот начинал болеть еще сильнее. Я не придумал ничего, что смог бы в себя впихнуть, кроме кофейного йогурта, но от него меня уже тошнило.
Я перевернулся на живот, стиснул кулаки и прижал их к животу, как будто молился. Кулаки вмяли желудок внутрь, обманули его, заставили поверить, будто он полон. И вот я лежу в этой позе, мне тепло, голова кружится, секунды уходят одна за другой.
Я пролежал так почти час и встал только по естественной нужде, которая еще никогда меня не подводила.
– Я встал, потому что мне нужно было отлить.
– Понятно.
– Это было так классно.
– Ты уже говорил, что тебе нравится мочиться.
– Ага. Это просто.
– Тебе нравится, когда просто.
– Это всем нравится, разве нет?
– Некоторые любят преодолевать сложности, Крэйг.
– Ну, это не мой случай. По дороге сюда я думал… представлял себе, что мог бы работать велокурьером.
– Так.
– Занятие проще некуда, все понятно, и тебе платят. Это стало бы моим Якорем.
– А как же школа, Крэйг? Твой Якорь – школа.
– Нет, в школе намешано столько всего, и она распадается на кучу всяких непонятностей.
– Ты про Щупальца.
Мне пришлось объяснить доктору Минерве свой словарь, и она довольно быстро с ним освоилась. Щупальцами я называю злобные задачи, которые вторгаются в мою жизнь. Например, урок американской истории на прошлой неделе, для которого нужно было написать доклад на тему «Оружие времен Войны за независимость», для чего мне пришлось тащиться в Метрополитен-музей, чтобы посмотреть на старые ружья, а значит, спуститься в метро, а значит, на целых сорок пять минут остаться без почты и мобильного телефона, из-за чего я не смог ответить на письмо учителя, который предлагал всему классу задания на дополнительные баллы, а значит, другие ученики расхватали все задания, и я не получу 98 баллов и не приближусь к среднему баллу в 98,6 (необходимая вам температура тела по Фаренгейту), вследствие чего не поступлю в Хороший Университет, а значит, не получу Хорошую Работу и у меня не будет Хорошей Страховки, следовательно, я буду тратить кучу денег на мозгоправов и лекарства, чтобы котелок варил, следовательно, у меня не будет денег для обеспечения Хорошего Уровня Жизни, чего я буду стыдиться, а значит, впаду в депрессию, и это будет полный капец, потому что мне ли не знать, что это такое: из-за депрессии я не смогу подняться с кровати, что приведет к логичному концу – я буду бомжевать. Потому что, если человек слишком долго не встает с кровати, к нему приходят специальные люди и уносят ее.
Якоря – это противоположность Щупалец. Якоря занимают мой мозг, и я на время чувствую себя хорошо. Кататься на велосипеде – Якорь. Составлять карточки – Якорь. Сидеть у Аарона и смотреть, как пацаны рубятся в видеоигры, – Якорь. Задачи должны быть простыми и идти одна за другой. Решать ничего не надо. Никаких тебе Щупалец. Только то, что мне по силам. И не нужно общаться с другими людьми.
– На свете немало Щупалец, – признаю я. – Наверное, я мог бы с ними справиться, но проблема в том, что я слишком ленивый.
– Что в твоем понимании «ленивый», Крэйг?
– Каждый день я не меньше часа валяюсь в кровати. Потом расхаживаю туда-сюда. Бывает, раздумываю о чем-то. Трачу время впустую, сижу тихо и помалкиваю, потому что боюсь, что буду заикаться.
– Ты заикаешься?
– У меня не получается нормально говорить, если я в депрессии: запинаюсь на полуслове.
– Понятно. – Она что-то записывает в свой линованный блокнот.
«Это все пойдет в мое личное дело», – думаю я.
– Я не… – Я трясу головой. – Ну, насчет велика…
– Что? Что ты хотел сказать?
Это еще один фирменный приемчик мозгоправов. Они никогда не дают тебе оборвать мысль. Уж если открыл рот, будь готов к тому, что они вытащат из тебя все, чем ты собирался поделиться. Официально это объясняется тем, что самое важное о себе люди недоговаривают или обрывают на полуслове, но я думаю, что так мозгоправы дают вам почувствовать вашу значимость. По крайней мере, мне больше никто никогда не говорил: «Погоди, Крэйг, что ты хотел сказать?»
– Я хотел сказать, что не в заикании дело. Думаю, это просто один из симптомов.
– Как потливость.
– Ну да.
Потливость – это просто кошмар. Не такой, конечно, как невозможность поесть, но выглядит довольно странно: на лбу выступает ледяной пот с острым запахом кожи, который приходится вытирать каждую минуту. Обычно люди мало что замечают, но это точно видят.
– Но ведь сейчас ты не заикаешься.
– Консультация стоит денег – не хочу тратить время попусту.
Мы замолкаем. Теперь между нами разыгрывается очередная молчаливая битва: я смотрю на доктора Минерву, она смотрит на меня. Это такое соревнование – кто проколется первым. Она натягивает свое непроницаемое лицо, а у меня запасных лиц нет, у меня всего одно – обычное лицо Крэйга.
Мы смотрим друг другу в глаза. Я жду, что она скажет что-нибудь глубокомысленное, – жду, пусть даже это никогда не произойдет. Жду, что она скажет: «Крэйг, тебе просто нужно сделать то-то и то-то» – и сразу произойдет Сдвиг. Я так хочу, чтобы произошел Сдвиг! Хочу почувствовать, что мои мозги становятся на место, туда, где им положено быть, туда, где они были до прошлой осени, когда я чувствовал себя юным и свежим, схватывал все на лету, и мои учителя наперебой твердили, что я подаю огромные надежды (а так и было), когда я без страха отвечал в классе, потому что был любознательным и умным, и все мне было интересно. Я так мечтаю о Сдвиге! Я постоянно жду слов, от которых он наступит. Это как чудо, которое перевернет всю мою жизнь. Но разве доктор Минерва похожа на чудесную волшебницу? Нет. Это просто худая смуглая гречанка с накрашенными губами.
Она отводит глаза первой.
– Вернемся к велосипеду. Ты сказал, что хочешь быть велокурьером?
– Да.
– У тебя же есть велосипед, верно?
– Да.
– Часто на нем катаешься?
– Не очень. Мама не разрешает мне ездить на нем в школу. Но по выходным я катаюсь по Бруклину.
– Что ты чувствуешь, когда катаешься на велосипеде, Крэйг?
Я ненадолго задумываюсь, а потом говорю:
– Я чувствую геометрию.
– Геометрию.
– Ну да. Там все понятно: «Не врежься в грузовик. Не ударься головой об эти металлические трубы. Сверни направо». Все правила известны, надо только выполнять.
– Как в видеоигре.
– Точно. Обожаю видеоигры. Даже люблю смотреть, как играют другие. Еще с тех пор, как был маленьким.
– Ты часто повторяешь, что был счастлив в то время.
– Да.
Я разглаживаю рубашку. Я тоже специально одеваюсь для этих наших встреч. Приличные брюки цвета хаки и хорошая белая рубашка. Мы наряжаемся друг для друга. Наверное, нам нужно сходить куда-нибудь выпить кофе и устроить скандал – греческий психотерапевт и ее любовник-старшеклассник! Мы бы прославились. Я заработал бы на этом деньжат. Может, хоть это меня порадовало бы.
– Можешь вспомнить что-нибудь, от чего ты был счастлив?
– Видеоигры, – смеюсь я.
– Что здесь смешного?
– Иду недавно по своему кварталу, а за мной – мама с ребенком, и она говорит: «Все, Тимми, больше никакого нытья на эту тему! Нельзя играть в видеоигры сутками». А Тимми такой: «Но я хочу!» Я оборачиваюсь и говорю ему: «Я тоже».
– Хочешь целыми днями играть в видеоигры?
– Или смотреть, как другие играют. Я просто не хочу быть мной. У меня получается не быть мной, когда я сплю, или играю, или катаюсь на велике, или учу что-нибудь. Главное, что это происходит, когда я отключаю мозг.
– Похоже, ты хорошо знаешь, чего хочешь.
– Да.
– А чего ты хотел, когда был маленьким? В то время, когда был счастлив? Кем хотел стать, когда вырастешь?
Я думаю, что доктор Минерва – неплохой мозгоправ. Это, конечно, не решение всех моих проблем, но вопрос что надо: кем я хотел стать, когда вырасту?
Три
Вот как обстояли дела, когда мне было четыре.
Жили мы в паршивой квартирке на Манхэттене. Я тогда еще не знал, что она паршивая, ведь в других я еще не жил, так что сравнивать мне было не с чем. Ну так вот, были у нас там трубы по всем стенам. Ничего хорошего, я вам скажу. Вряд ли вы захотите растить ребенка в квартире с выступающими наружу трубами. Я помню, что там были зеленая, красная и белая трубы – все три собраны вместе в углу коридора, как раз перед ванной, и как только я научился ходить, то сразу начал их исследовать: подходил и держал ладошку в миллиметре от каждой, чтобы проверить, горячая труба или холодная. Была одна холодная, одна горячая, а красная – ну о-о-очень горячая. Миллиметра оказалось недостаточно, и я обжегся. Тогда папа даже не понял, почему она была горячая. «Их же должны включать только вечером!» – воскликнул он и упрятал трубу под серую пену и изоленту. Но когда меня останавливала изолента? А пену было очень приятно отщипывать и жевать, так что я отщипывал и жевал. Когда к нам в дом приходили другие дети, я подначивал их дотронуться до оголенной трубы; я говорил, что каждый, кто пришел в гости, должен тронуть трубу, иначе он тряпка. Это слово я услышал от папы, смотревшего телик, и мне оно ужасно нравилось, потому что у него оказалось два значения: во-первых, это обычный кусок ткани, а во-вторых, так можно обзывать людей, чтобы заставить их что-нибудь сделать. Совсем как слово «курица», у которого тоже два значения: птица, которая бегает туда-сюда, и белое мясо, которое едят. А некоторые, если назвать их трусливыми курицами, готовы дотронуться до горячей трубы.
У меня была своя комната, но я не любил оставаться там один. Мне нравилось только в гостиной, под столом, где хранились энциклопедии. Я превратил это место в свою маленькую крепость, занавешивал стол одеялом и занимался там при свете, который провел мне папа. Меня увлекали карты, ими я и занимался. Я знал, что мы живем на Манхэттене, у меня была карта Манхэттена – «Атлас пяти административных округов Нью-Йорка» со всеми их улицами. Я точно знал, где мы живем: на углу 53-й улицы и 3-й авеню. Третья авеню была желтая, потому что авеню – большие, длинные и важные. Пятьдесят третья улица была маленькая и белая, она шла через Манхэттен. Улицы идут вбок, а авеню – сверху вниз, вот и все, что нужно запомнить.
Папа тоже помогал мне запоминать – например, когда мы с ним ходили поесть блинчики. Бывало, он спрашивал: «Ну что, Крэйг, порежем их на улицы и авеню?» А я говорил: «Да!» – и он резал стопку блинчиков сеточкой, а потом мы ели по кусочку, давая название каждой улице и авеню, и обязательно доходили до 3-й авеню и 53-й улицы. Это было так просто. Развитые дети (вроде меня, ха-ха) знали даже, что по четным улицам транспорт движется на восток (Восток четный), а по нечетным – на запад (Запад нечетный). При этом было еще несколько улиц – они были толстые и желтые, как авеню, – где движение шло в обе стороны: это знаменитые 42-я, 34-я. Вот полный список снизу вверх: Чеймберс-стрит, Канал-стрит, Хаустон-стрит, 14-я улица, 23-я, 34-я, 42-я, 57-я, 72-я (среди 60-х улиц не было ни одной большой, не повезло им), 79-я, 86-я и 96-я – и все, вы уже в Гарлеме. По крайней мере, для маленьких белых мальчиков, которые строят крепости под энциклопедиями и изучают карты, Манхэттен на этом точно заканчивался.
Как только я увидел карту Манхэттена, мне захотелось нарисовать ее. Неужели я не в состоянии нарисовать место, где живу? Я попросил у мамы кальку, и та ее принесла, я отнес кальку в свою крепость и направил лампу на первую карту в Хэгстромовском атласе, на Даунтаун, где была Уолл-стрит с ее фондовыми биржами. Улицы в этом районе совершенно безумные, ничего общего с нормальными улицами и авеню: у них есть названия, и они похожи на россыпь палочек в игре «Микадо». Но, прежде чем приступать к улицам, нужно было правильно очертить границы. Вообще-то, Манхэттен построен на земле. Когда строители раскапывают улицы во время ремонта, даже видно – под дорогой настоящая почва! Внизу остров изгибается так, что напоминает голову динозавра: ухабистые очертания справа, прямая слева и пикирующая линия снизу.
Я наложил кальку и попытался обвести границу нижнего Манхэттена.
И не смог.
У меня вышла какая-то ерунда. Ничего общего с тем, что на карте. Я ничего не понимал – как же так, ведь я держал кальку ровно! Я посмотрел на свою маленькую руку: «Не дергайся», – приказал я ей. Скомкал кальку и начал снова.
Линия снова вышла неправильная. У нее не было красивого размаха.
Я скомкал кальку и начал сначала.
На этот раз вышло еще хуже. Манхэттен получился квадратный.
Я попробовал еще раз.
О нет, теперь он был похож на утку.
Скомкал.
На этот раз получилось похоже на дерьмо – еще одно слово, которому я научился от папы.
Скомкал.
Теперь Манхэттен был похож на фруктовый ломтик.
Он получался похожим на что угодно, только не на то, что надо, – на Манхэттен. У меня не получалось его нарисовать. Откуда мне было знать, что для копирования нужны специальный стол с подсветкой снизу и зажимы для надежной фиксации бумаги, а не дрожащая ручонка четырехлетнего мальчугана, поэтому я решил, что дело во мне. По телевизору всегда говорили, что человек может сделать все, что захочет, и вот я старался вовсю, а у меня не получалось. Значит, теперь уже никогда не получится. Я скомкал последний листок кальки и зарыдал в своей крепости, уронив голову на руки.
Заслышав плач, мама меня окликнула:
– Крэйг!
– Чего? Уйди!
– Что случилось, сынок?
– Не открывай занавеску! Не открывай! У меня тут дело!
– Почему ты плачешь? Что такое?
– Не получается!
– Да в чем дело?
– Ни в чем!
– Ну же, скажи мамочке. Сейчас я подниму покрывало…
– Нет!
Я выскочил из-под стола прямо в ту же секунду, когда она откинула покрывало, которое зацепилось за энциклопедии. Мама вскинула руки и успела удержать стопки на месте, чтобы нас не засыпало тяжелыми книгами. (Через неделю она заставила отца убрать энциклопедии.) Воспользовавшись тем, что она занята книгами, я бросился вон из комнаты, размазывая слезы, чтобы успеть добежать до ванной, где я хотел, не включая света, сесть на унитаз и поплескать себе на лицо горячей водой. Но мама, проявив невиданную прыть, оттолкнула энциклопедии на место, промчалась через комнату и сгребла меня тонкими руками с обвисшей на локтях кожей. Я стал лупить ее ладошками.
– Крэйг! Маму бить нельзя!
– Я не могу, не могу, не могу! – кричал я, ударяя снова, но мама обняла меня так крепко, что я больше не мог замахнуться.
– Чего ты не можешь?
– Не могу нарисовать Манхэттен!
– Что? – Мама подняла лицо, отстранилась и заглянула мне в глаза. – Так вот, значит, какое у тебя там дело?
Я кивнул, шмыгая носом.
– Ты хотел перевести Манхэттен на ту кальку, которую я тебе купила?
– Я не умею!
– Крэйг, этого никто не умеет, – рассмеялась мама. – Просто от руки нельзя ничего начертить. Это невозможно!
– Как же тогда делают карты?
Мама замешкалась с ответом.
– Ага, видишь? Видишь? Значит, кто-то может!
– Крэйг, карты рисуют с помощью специального оборудования. У взрослых есть для этого особые инструменты.
– Тогда мне тоже нужны такие инструменты!
– Крэйг.
– Давай купим!
– Детка.
– Они что, очень дорогие?
– Сынок.
Мама усадила меня на диван, который по ночам служил им с папой постелью, и села рядом. Я больше не плакал и не дрался. Тогда мои мозги еще не застряли в тупике и были в порядке.
– Крэйг, – мама вздохнула и посмотрела на меня, – я кое-что придумала. Может, вместо того чтобы тратить время на копирование карт Манхэттена, ты попробуешь сделать свои собственные карты? Карты воображаемых мест?
Никогда в жизни я не испытывал такого озарения.
Я смогу придумать и сделать свой собственный город. Сам придумаю улицы, нарисую реку там, где мне захочется, расположу океан там, где пожелаю, возведу мосты там, где захочу, проложу огромную магистраль прямо через центр города – как надо было бы сделать на Манхэттене. По-своему расположу метро. Сам назову все улицы. Я даже сделаю свою координатную сетку до самых краев карты! Я улыбнулся и обнял маму.
Она раздобыла для меня толстую бумагу – настоящий плотный ватман, хотя потом я предпочитал ровную бумагу для принтера. Я вернулся в свою крепость, включил свет и приступил к своей первой карте. Последующие пять лет я постоянно рисовал карты, даже на уроках, вместо того чтобы чиркать каракули на листочках. Я нарисовал их несколько сотен, не меньше. Закончив, я их тут же комкал – для меня был важен сам процесс. Я создавал города на берегу океана, города в месте слияния двух рек и города в месте изгиба одной реки, города с мостами, безумными развязками, площадями и бульварами. Я был счастлив, когда создавал города. Это был мой Якорь. До тех пор, пока мне не исполнилось девять и я не переключился на видеоигры, я твердо знал, кем буду, когда вырасту, – картографом.
Четыре
– Я хотел рисовать карты, – говорю я доктору Минерве.
– Какие карты?
– Карты больших городов.
– На компьютере?
– Нет. От руки.
– Понятно.
– Наверное, это не очень популярная профессия и работы у них немного, – улыбаюсь я.
– Возможно, нет, а может быть, и да.
Типичный ответ мозгоправа.
– На «может быть» я надеяться не могу. Мне нужно зарабатывать деньги.
– О деньгах мы поговорим в следующий раз. А сейчас нам придется закончить.
Я смотрю на часы: 7:03. Она всегда дает мне три лишние минуты.
– Чем займешься, когда выйдешь отсюда?
Она постоянно об этом спрашивает. Ну что я обычно делаю? Пойду домой, буду психовать. Буду сидеть с семьей за столом и стараться не говорить о себе и о том, что не так. Постараюсь поесть. Потом постараюсь заснуть. Оба этих занятия приводят меня в ужас: я не могу есть и не могу спать. Вы в курсе, что у меня по этой части все не как у нормальных людей?
– Эй, в чем дело, солдат?
– Сэр, я не могу есть и не могу спать.
– А если тебя начинить свинцом,
Станешь ли ты снова молодцом?
– Не могу знать, сэр! Свинец меня малость утяжелит,
Но вряд ли вернет сон и аппетит.
– Тогда вставай и сражайся, солдат!
Со всех сторон наступает враг!
– Я не могу сражаться с врагом.
Он слишком силен, он слишком умен.
– Солдат, но ты ведь тоже умен!
– Боюсь, не настолько.
– Значит, ты хочешь сдаться, солдат?
– Вы угадали, таков мой план.
– Постараюсь держаться, – говорю я доктору Минерве. – Что мне еще остается? Буду держаться и надеяться, что мне станет лучше.
– Ты принимаешь лекарства?
– Да.
– К доктору Барни ходишь?
Доктор Барни – психофармаколог. Это он выписывает мне таблетки и направляет к мозгоправам вроде доктора Минервы. Забавный такой тип, с кольцами на пальцах и похож на упитанного Санту в миниатюре.
– Да, на этой неделе пойду.
– Помни, что нужно делать все, что он говорит.
«Да, доктор. Как скажете. Я буду выполнять то, о чем все вы говорите».
– Вот, – протягиваю я доктору Минерве чек от мамы.
Пять
Моей семье со мной не повезло. Они надежные, хорошие люди, всегда всем довольны. Иногда, когда я с ними, мне кажется, что я попал на телепередачу.
Мы живем в Бруклине, наша квартира гораздо лучше той, что была на Манхэттене, но все равно не такая, чтобы можно было гордиться. Бруклин – это такой огромный жирный пузырь уродливой формы наискосок от Манхэттена, весь изрезанный каналами и заливами – грязными зелеными полосками воды, напоминающими о том, что некогда здесь было болото. Чем-то он похож на морщинистую фигуру Джаббы Хатта, подсчитывающего свои деньги. Особняки из известняка и темно-бордового кирпича стоят рядами вдоль улиц, как столбы изгороди, и вокруг них постоянно суетятся индусы: что-то подновляют или подкрашивают. Все просто сходят с ума по этим домам и выкладывают за них миллионы. В остальном же это довольно беспонтовое место. Очень жаль, что мы уехали с Манхэттена, где живут по-настоящему влиятельные люди.
От нашего дома до офиса доктора Минервы довольно близко, но идти приходится через улицу, сплошь усеянную издевательскими магазинами – магазинами с едой. Когда ты в депрессии, нет ничего хуже еды. Отношения человека с едой – самые важные отношения. По-моему, даже отношения с родителями не так важны. На свете есть люди, которые вообще никогда не знали своих родителей. А отношения с друзьями так и вовсе не важны. Вот отношения с воздухом – совсем другое дело. Ты не можешь взять и поссориться с воздухом. Вы вроде как неразлучны. На втором месте вода. А потом уже еда. Попробуй-ка бросить еду, чтобы закрутить с кем-нибудь другим! С едой надо дружить, договариваться.
Мне никогда не нравилась традиционная американская кухня: все эти свиные отбивные, стейки, каре ягненка… Я и сейчас их не люблю. К овощам я тоже равнодушен. Мне нравилась еда абстрактной формы: куриные наггетсы, фруктовые рулеты, хот-доги. Я любил фастфуд. Запросто мог смести пакет сырных палочек, и их запах так въедался в подушечки пальцев, что я целыми днями носил его на себе. Короче, у меня были нормальные отношения с едой, как у всех остальных людей: проголодался – значит, поешь.
Но прошлой осенью я вдруг перестал есть.
Теперь все эти гастрономы, пиццерии, кафе-мороженое, пекарни, индийские и китайские забегаловки, суши-бары и Макдоналдсы насмехаются надо мной. Они вольготно расположились на улице, выставляя напоказ то, чем я не могу насладиться. Мой желудок как будто съежился: теперь он вмещает в себя совсем чуть-чуть, а если я запихиваю в себя больше, чем надо, он выбрасывает обратно вообще все, и мне приходится бежать в ванную, чтобы блевать в темноте. Похоже вроде как на ноющий голод, как будто к концу моего пищевода привязали веревку и там, внутри, живет человечек, который постоянно хочет есть, но не знает других способов сообщить об этом, кроме как тянуть за веревку, – а когда он за нее тянет, вход в пищевод закрывается, и я не могу ничего туда протолкнуть. Если бы этот человечек мог расслабиться и выпустить веревку, я бы дал ему любую еду, какую он только пожелает. Но он никогда не расслабляется, он доводит меня до изнеможения и головокружений, а когда я прохожу мимо ресторанов, благоухающих маслом и жиром, он затягивает веревку еще туже.
Когда я все-таки ем, сценариев всегда два: или Битва, или Побоище. Если мне плохо, если в моих мозгах происходит Зацикливание – тогда это Битва. Мой желудок наотрез отказывается принимать пищу, и каждый кусок дается с мучением и через силу. Еда хочет остаться на тарелке, а оказавшись у меня внутри, хочет немедленно вернуться обратно. Люди косятся на меня: «В чем дело, Крэйг, почему ты не ешь?»
Хотя бывают моменты, когда все налаживается. Сдвиг еще не наступил, возможно, он никогда и не наступит, но иногда мои мозги встают туда, где им положено находиться. Это случается частенько, так что я не теряю надежды. Когда я переживаю один из таких моментов (я называю их «Ложные Сдвиги»), то всегда должен поесть, хотя не всегда это делаю: иногда я из какого-то тупого упрямства пытаюсь воспользоваться временным улучшением и, пока мозги на месте, стараюсь переделать как можно больше дел, забывая о еде. И тут все – приехали к тому, что было. Но если уж мне становится лучше, тогда еде несдобровать – смету все. Яйца и гамбургеры, картошку фри и мороженое, мармелад и хлопья, печенье и брокколи, даже лапшу с соусом. Мне без разницы, я слопаю вас всех! Я, Крэйг Гилнер, заберу вашу силу. Когда еще мой организм наладится и я снова смогу есть, я не в курсе, так что сожру вас всех прямо сейчас, не откладывая.
Как же приятно. Человечек со своей веревкой исчезает, и я ем все подряд. Наверное, он занят тем, что ест все сыплющееся сверху, носится туда-сюда, как курица с отрубленной головой, а голова в это время валяется на полу и жрет сама по себе. Я впитываю еду каждой клеткой, и они наслаждаются этим, благодарят мой мозг за пищу, я улыбаюсь, я сыт и счастлив; я сыт, я работоспособен, я могу сделать все что угодно. А теперь самая приятная часть – когда я поем, я снова могу спать, и я сплю как положено, как охотник, который притащил домой добычу… Но потом я просыпаюсь, и человечек внутри снова на своем месте, затягивает веревку на желудке. Даже не знаю, что привело к Побоищу еды. Это точно не из-за травки. Не из-за девочек. И не в семье дело. Я начинаю думать, что причина в обмене веществ, а значит, нужно ожидать Сдвига, но его все нет и нет.
Шесть
Весной не бывает закатов. Почти стемнело, только тонкая серая полоска догорает на краю неба. Деревья отяжелели от дождя, и мелкая морось сыплется на меня сверху, когда я наконец добираюсь до дома. Я устремляюсь к двери и давлю на протертую до бронзы кнопку – самую затертую во всем доме.
– Крэйг, ты?
– Привет, мам.
«Бз-з-з» – гулко разносится по вестибюлю. Хотя «вестибюль» – это громко сказано, скорее почтовый угол, потому что это просто закуток с почтовыми ящиками. Я распахиваю одну дверь, потом вторую. Дома тепло, пахнет выпечкой. Собаки выбегают навстречу.
– Привет, Руди. Привет, Джордан.
Собаки у нас мелкие. Имена им дала моя сестра, сейчас ей девять лет. Руди – метис, папа говорит, что он помесь чихуахуа и немецкой овчарки, короче, плод какого-то дикого собачьего секса. Надеюсь, овчарка была мальчиком, потому что девочка-овчарка вряд ли осталась бы довольна. У Руди заметная аномалия прикуса, он выглядит так, будто это не одна, а две собаки, причем одна из них кусает голову другой снизу. Но девушки, которых мы встречаем на прогулке, просто обожают его и заговаривают со мной. Впрочем, они быстро понимают, что я еще мелкий, или у меня не все дома, или то и другое сразу, и проходят мимо.
Другая наша собака – тибетский спаниель Джордан, похожий на маленького коричневого льва. Он мелкий, симпатичный, но совершенно чокнутый. Эту породу вывели на Тибете для охраны монастырей. Когда Джордан попал к нам, он немедленно сообразил, что наш дом – это монастырь, ванная – это святилище, а мама – настоятельница. С тех пор стоит кому-то приблизиться к маме, как Джордан бросается ее защищать. Когда она по утрам идет в ванную, он непременно сопровождает ее и сидит на шкафчике возле раковины, пока она чистит зубы.
Джордан облаивает меня. Он стал это делать, как только у меня начались проблемы с головой. Но мы об этом помалкиваем.
– Как сходил к доктору Минерве, Крэйг? – говорит мама, выходя из кухни.
Она высокая, до сих пор не потеряла стройности и с каждым годом выглядит все лучше. Знаю, звучит странновато, но какого черта: так уж получилось, что эта потрясающая женщина к тому же моя мать. Просто поразительно, насколько все более уверенной и величественной она становится с годами. Я видел ее фото времен учебы в универе – там ей до этого далеко. Отец же все эти годы выглядит так, что с женитьбой точно не прогадал.
– Все… нормально.
Я обнимаю маму. Она окружила меня такой заботой с тех пор, как я заболел, куда я без нее, я ее люблю и говорю об этом постоянно, хотя с каждым разом слова потихоньку выцветают. Наверное, запас «я тебя люблю» не бесконечен.
– Она тебя все еще устраивает?
– Ага.
– Потому что, если нет, мы подыщем кого-нибудь другого.
«Никого вы не подыщете», – думаю я, глядя на трещину в стене рядом с мамой. Эта трещина красуется у нас в коридоре уже года три-четыре. Папа подмазывает ее, но она снова проступает. Мы пробовали повесить сверху зеркало, но стена коридора – неудачное, прямо скажем, место для зеркала. Моя сестра прозвала его «вампирским зеркалом», по которому можно определять, вампиры наши гости или нет. А через несколько недель после того, как повесили зеркало, я пришел домой обкуренный, треснулся о него и уронил на пол. Теперь трещина по-прежнему красуется на своем месте. Она тут навсегда.
– Не надо никого искать.
– Как с аппетитом? Ты голодный?
Да, наверное. Я попробую съесть то, что приготовила мама. Я все еще контролирую свой разум, я пью таблетки, я это сделаю.
– Да.
– Отлично! Марш на кухню!
Я вхожу на кухню и вижу, что к моему приходу уже все накрыто. За круглым столом, позируя с вилками и ножами в руках, сидят папа и Сара, моя сестра.
– Как мы выглядим? – спрашивает отец, барабаня приборами по столу. – Видно, что мы голодные?
Мои родители постоянно ищут все новые и новые способы меня вылечить. Они уже перепробовали акупунктуру, йогу, когнитивную терапию, расслабляющую музыку, всевозможные виды физической активности (пока я не остановился на велике), книги по самосовершенствованию, тай-бо и даже оформили мою комнату по фэншуй. Кучу денег на меня спустили. Стыдно даже.
– Есть, есть, есть! – скандирует Сара. – Мы не начинали без тебя!
– Зачем это все? – спрашиваю я.
– Мы просто хотим, чтобы тебе было уютнее.
Мама ставит на стол форму для запекания. Внутри какие-то сочные оранжевые штуковины, нарезанные на половинки, от них пышет жаром.
– Сегодня у нас тыква сквош, – говорит мама, снова поворачиваясь к плите, – рис и курица.
Она приносит кастрюльку белого риса, пересыпанного кусочками овощей, и блюдо с куриными наггетсами. Я нацеливаюсь на наггетсы – кусочек в форме звезды, кусочек в виде динозавра. Сара перехватывает у меня динозавра.
– Динозавры, чур, мои!
– Ладно, – уступаю я ей.
Сестра толкает меня ногой под столом.
– Как ты? – спрашивает она шепотом.
– Не очень.
Она кивает. Сара понимает, что это значит. Это значит, что сегодня вечером она снова увидит меня на диване, где я буду дрожать, крутиться и потеть, а мама будет поить меня теплым молоком. А еще она увидит, как я, вместо того чтобы делать домашку, буду сидеть у телика, но не смотреть, а просто пялиться и даже не смеяться. Она снова увидит, как я тону в трясине и терплю поражение. Сара делает из этого правильные выводы. Она еще лучше учится и еще больше веселится. Она не хочет стать похожей на меня. Ну хотя бы даю кому-то пример того, как не нужно поступать.
– Мне жаль. Они так стараются для тебя.
– Я знаю.
– Ну что, Крэйг, как в школе? – спрашивает папа.
Он накалывает на вилку кусочек тыквы и смотрит на меня сквозь очки. Папа невысокий и носит очки, зато, как он любит повторять, у него есть волосы – густая темная шевелюра, которая передалась и мне. Папа говорит, что мне крупно повезло, потому что с обеих сторон мне достались отличные гены, а «если ты вообразил, что у тебя депрессия, то представь, что с тобой было бы, знай ты, что скоро облысеешь, как все остальные!» Прямо обхохотаться как смешно.
– Нормально, – говорю я.
– Чем занимался?
– Сидел в классе и выполнял указания учителя.
Мы звеним приборами. Я отправляю в рот первую порцию – тщательно уложенные на вилку рис, курицу, тыкву – и разминаю по небу. Я это съем. Я жую, чувствую, что это вкусно, поэтому приподнимаю язык и проталкиваю еду дальше. Я ее удержу. Так, порядок. Еда внутри.
– Как прошла… эта… история Америки?
– Не очень. Меня вызвали, а я не смог ответить.
– Ах, Крэйг… – говорит мама.
Я начинаю конструировать новую порцию еды.
– Что значит – не смог ответить? – спрашивает папа.
– Я знал ответ, но… но… просто…
– Сбился, – подсказывает мама.
Я киваю и кладу в рот вторую порцию.
– Крэйг, ну нельзя же так.
– Милый… – говорит мама отцу.
– Если знаешь ответ, то надо ответить, что здесь непонятного?
Папа нагребает полную вилку тыквы и закидывает ее в рот как в топку.
– Не нападай на него, – говорит мама.
– Я не нападаю, я пытаюсь поговорить по душам, – улыбается папа. – У тебя светлая голова, Крэйг – просто поверь в себя и отвечай, когда спрашивают. Как раньше. Помнишь, нам даже приходилось просить тебя помолчать хоть немного!
– Теперь все по-другому…
Третья порция пошла.
– Мы с матерью все понимаем и делаем все, чтобы тебе помочь. Верно я говорю? – Он смотрит через стол на маму.
– Да.
– Я тоже! – говорит Сара. – Я тоже делаю все что могу.
– Это правда, – говорит мама, протягивает руку и треплет Сару по волосам. – Ты у нас умничка.
– Вчера я мог бы покурить травку, но не стал, – говорю я, скрючившись перед тарелкой и глядя снизу вверх.
– Крэйг! – рявкает отец.
– Давайте не будем об этом, – говорит мама.
– Но вы должны знать, ведь это важно. Я провожу эксперименты над своим сознанием, проверяю, как оно реагирует.
– Ты понимаешь, о чем говоришь?
– Только не при сестре! – говорит мама. – Слушай, у нас тут с Джорданом такое приключилось!
Услышав свое имя, спаниель вбегает на кухню и занимает неизменный пост возле мамы.
– Сегодня я возила его к ветеринару.
– Значит, ты не ходила на работу?
– Угадал.
– Так вот почему ты сегодня готовила!
– Да, поэтому.
Я завидую маме. Завидую тому, как она управляется со своими делами. Я бы не смог взять выходной, отвезти собаку к ветеринару, а потом приготовить ужин. Для меня это просто уму непостижимо, я бы и треть этого не осилил. Как же я собираюсь управляться со своим собственным домом?
– И знаешь, что случилось у ветеринара?
– Просто с ума сойти! – говорит Сара.
– У него иногда судороги, вот я и отвезла его в очередной раз, – рассказывает мама. – Ты не поверишь, что сказал ветеринар!
– И что?
– В прошлый раз у Джордана брали кровь на анализ, и вот пришли результаты. Мы с Джорданом ждем в комнатушке, – вел он себя просто отлично, – выходит ветеринар с результатами и говорит: «Эти показатели несовместимы с жизнью».
Я смеюсь так, что еда на вилке трясется.
– Что это значит?
– Я так и спросила! Оказывается, уровень сахара в крови у собак должен быть от сорока до ста. Угадай, сколько у Джордана?
– Сколько?
– Девять.
– Ваф! – тявкает Джордан.
– Это еще не все, – со смехом продолжает мама. – Там есть еще один показатель, что-то связанное с соотношением энзимов, так вот он должен быть между десятью и тридцатью, а у нашего Джордана – сто восемьдесят!
– Хороший песик, – говорит отец.
– Ветеринар просто не знает, как к этому относиться. Он сказал продолжать давать ему пищевые добавки и витамины, но то, что он медицинский феномен, это точно.
Я смотрю на Джордана: вдавленная косматая мордочка, черный нос, большие темные глаза, похожие на мои. Лежит, опустив голову на пушистые передние лапки, пыхтит и пускает слюни.
– По всем показателям жить он не должен, но живет как ни в чем не бывало! – говорит мама.
Я снова смотрю на Джордана. О чем тебе переживать, приятель? У тебя есть отличное оправдание. У тебя плохая кровь. Наверное, тебе нравится жить на свете; по крайней мере, мне бы нравилось, будь я на твоем месте. Только и делаешь, что ешь и охраняешь маму. Вот житуха. Ни тебе тестов, ни тебе домашних заданий. И ты не должен ничего покупать.
– Крэйг?
Ты не должен жить, но живешь. Может, махнемся?
– Э… по-моему, это здорово.
– Это вообще замечательно, – подтверждает мама. – Эта собака живет одной милостью Господней!
Ну да, конечно, Бог. Как я мог о нем забыть?! Если верить маме, без него я не пойду на поправку. Но я уже давно понял, что Бог – никчемный мозгоправ. Он исповедует терапевтическую методику «ничего не надо делать». Ты рассказываешь ему о своих проблемах, а он тупо ничего не делает.
– Я все, – говорит Сара.
Она отставляет свою тарелку и выбегает из кухни, позвав за собой Джордана. Тот трусит за ней.
– Я тоже больше не могу, – говорю я.
Я осилил пять порций. Мой желудок урчит и быстро закрывается. Очень хорошая, совершенно безвредная еда, с ней у меня не будет никаких проблем. А вообще мне следовало бы съесть три тарелки такой еды! Я же растущий организм, у меня не должно быть проблем со сном, я должен заниматься спортом! Должен с девочками встречаться, искать себя в этом мире. Мне бы следовало вовсю есть, спать, пить, учиться, смотреть телик и быть нормальным.
– Съешь еще немножко, Крэйг, – говорит мама. – Я не заставляю, но ты должен поесть.
Она права. Я съем еще. Я разрезаю тыкву на улицы и авеню, накалываю большой кусок на вилку, отправляю в рот. Я тебя съем. Я жую тыкву, такую мягкую, податливую, так легко принимающую форму, идеально подходящую к моей глотке. Сладковатая. Теперь удержать. Тыква уже в желудке. Я обливаюсь потом. При родителях я потею еще сильнее. В моем желудке шесть порций еды. Он полон. Я смогу удержать в себе шесть порций. Я их не выброшу. Я не выкину еду, которую приготовила моя мама. Если собака может жить, значит, я могу есть. Я держу еду. Сжимаю кулаки. Напрягаю мышцы.
– Крэйг, что с тобой?
– Секундочку, – говорю я.
Я проиграл.
Сдерживая желудочные спазмы, я выбегаю из-за стола.
– Что ты пытался сделать, солдат?
– Я пытался поесть, сэр!
– Чем все закончилось?
– Я снова думал о всяком дерьме, сэр!
– О чем же ты думал, солдат?
– О том, что мамина собака хочет жить больше, чем я.
– Ты думаешь о враге, солдат?
– Не думаю, сэр.
– Ты знаешь хотя бы, кто твой враг?
– Наверное… это я сам?
– Да, солдат!
– Я должен вести битву с собой.
– Ты прав, солдат, но сейчас ты бежишь в ванную блевать! Трудно сражаться, когда блюешь!
Я вваливаюсь в ванную, выключаю свет, закрываю дверь. Самое ужасное, что мне это нравится, ведь я знаю, что, как только все закончится, я сразу согреюсь, и тепло разольется по всему телу, пережившему такие муки. Я сгибаюсь над унитазом в полной темноте – я и так знаю, где он, – мой желудок снова содрогается и выплескивает свое содержимое вверх, а я со стоном выпускаю еду из себя. Слышу, как всхлипывает мама, а папа что-то бормочет, наверное, утешает ее. Я дергаю рукоятку смыва, несколько раз спускаю воду и снова наполняю бачок. Когда все закончится, я пойду спать и не буду делать никакую домашку, сегодня у меня нет на это сил.
И вот стою я там и думаю: «Сдвиг наступит. Должен наступить. Потому что если жить как сейчас, то умрешь».
Часть вторая Как я сюда попал
Семь
Так отчего же у меня депрессия? Вопрос на миллион долларов, детка, вопрос без ответа; даже совы, которые, как известно, знают все, вряд ли на него ответят. Я тоже не знаю. Мне известно только, что за чем шло.
Два года назад я поступил в лучшую среднюю школу на Манхэттене – Подготовительную академию управления. Эту продвинутую школу организовали для воспитания лидеров завтрашнего дня. Учась в ней, вы в обязательном порядке стажируетесь в крупных компаниях, перед учениками выступают шишки из руководства «Меррилл Линч»[1] и раздают всякие рекламные крýжки и тому подобное. Основал ее миллиардер-филантроп по имени Бернард Лутц. Подготовительная академия управления встроена в государственную систему образования: что-то вроде направления внутри школьной системы, чтобы туда попасть, нужно сдать экзамен в виде тестирования. После этого для счастливчиков все обучение будет бесплатным и они войдут в число восьмисот умнейших и подающих надежды студентов в мире – и это не считая того, у каких крутых учителей им предстоит учиться и с какими высокопоставленными гостями удастся познакомиться. Окончив Подготовительную академию управления, можно сразу перебраться на Уолл-стрит, хотя это не приветствуется – приветствуется поступление в Гарвард, на юридический факультет. Примерно так и становятся президентами.
Признаюсь, я не прочь стать президентом.
Тест под названием «Благотворительный экзамен Бернарда Лутца» (видимо, в благодарность за его филантропию) стал для меня всем. Он стал важнее, ну, скажем, еды. Я купил специальный учебник – Академия выпускает собственную серию пособий для подготовки к их экзамену – и начал заниматься по три часа в день.
Я тогда учился в седьмом классе и впервые в жизни прочно обосновался в своей комнате: приходил домой с тяжеленным рюкзаком, швырял его на кровать и смотрел, как тот катится к подушкам, потом садился за стол и вынимал пособие к тесту. Я заводил таймер на телефоне и выполнял пробный двухчасовой экзамен. В книге было пять экзаменов, выполнив их все до единого, я с радостью обнаружил в конце рекламу еще двенадцати пособий для экзамена Бернарда Лутца. Тогда я отправился в магазин «Барнс и Нобл», но оказалось, что до сих пор никто никогда не изъявлял желание приобрести весь комплект, и у них не нашлось в наличии всех двенадцати книг, поэтому они заказали их для меня. И вот тут началась настоящая гонка. Каждый день я выполнял по одному экзамену. Впрочем, среди вопросов попадался обычный шлак для отсеивания идиотов, например, такие вот задания на понимание прочитанного: «Прочитайте этот отрывок и скажите, какое дерево они хотели спасти», на словарный запас: «Признайтесь, вы купили словарь необычных слов и выучили их все наизусть?» и по математике: «Вы можете отключить свой разум от окружающего мира и заполнить его символами в логической последовательности?»
Я победил этот тест. Я вгрызался в пробные экзамены, спал с пособиями под подушкой и превратил свой мозг в свирепую циркулярную пилу, которой все по зубам. Я сидел за столом под лампой и прямо чувствовал, как с каждым днем наливаюсь знаниями и становлюсь умнее.
И да, когда я переключился в режим Подготовительной академии, то почти перестал тусоваться с друзьями. Вообще-то друзей у меня было не так чтобы много: только ребята, с которыми я сидел в столовой, да и все, но с тех пор, как я начал всюду таскаться с карточками для запоминания, разбежались и они. А что такого-то, что им было не так? Лично я всего лишь хотел использовать время с толком. Когда я перещелкал все пособия, мне наняли репетитора для подготовки к «Благотворительному экзамену». Мы с репетитором прозанимались половину оговоренного срока, после чего она объявила, что я в ее услугах больше не нуждаюсь, однако мамины 700 баксов все равно оставила себе.
На тестировании я получил 800 баллов из 800.
Я узнал об этом в холодный, унылый осенний нью-йоркский день – мой последний хороший день. Отдельные приятные моменты случались и потом, обычно когда мне становилось лучше, но это был последний раз, когда я чувствовал себя победителем. Письмо из Подготовительной академии управления пришло по почте, и мама оставила его на кухонном столе до моего прихода с занятий по тай-бо. На эти занятия я ходил, чтобы вписать лишнюю строчку в список дополнительных занятий, когда буду поступать в университет. Теперь университет должен был стать моим новым рубежом, очередной ступенью.
– Крэйг, угадай, что пришло!
Я отшвырнул рюкзак и промчался мимо «вампирского зеркала» на кухню. Он был там – большой желтый конверт, такой как надо. Если тест провален, вам присылают маленький конверт, если же вы прошли, то получаете большой.
– Да-а-а! – заорал я.
Я разорвал конверт, вытащил лиловый с золотом пакет документов и поднял над головой, как святыню. Я мог бы на него молиться. Да что там, я бы, наверное, и любовью с ним занялся. Я нацеловывал и прижимал его к груди, пока мама не сказала:
– Перестань, Крэйг. Это ненормально. Может, лучше друзьям позвонишь?
Ах да, я же ей не рассказывал, что с друзьями мы немного разошлись. Не так уж они мне и нужны. Нет, конечно, все знают, что без дружбы никуда, об этом и по телику талдычат, но друзья приходят и уходят. Завести друга несложно: нужно просто разговаривать с людьми, и все. А тогда я еще был в состоянии с кем-то разговаривать. Да и что это за друзья, которые только и делают, что достают тебя или занимают место, стоит только выйти из комнаты. С какой стати мне им звонить?
Другое дело Аарон. Вот он был моим настоящим другом, наверное, даже лучшим другом. Аарон был в классе старше остальных, потому что его отдали в школу на год позже: так было можно, если ты родился на стыке. Родители Аарона приняли правильное решение и отправили его к младшим. Он носил такие прикольные черные очки в квадратной оправе, из-за которых всегда нравился девочкам. Веснушчатый, с копной вьющихся каштановых волос, умный и бесстрашный, он постоянно о чем-то рассказывал. Когда мы встречались, то всегда что-то придумывали: то будильник разберем на части и развесим по стене детали, то сделаем покадровый мультик про трахающихся лего-человечков, был у нас и сайт с фотографиями туалетов.
Я познакомился с ним в столовой, когда, привычно погруженный в свои карточки, сел не глядя за какой-то столик, и один из его друзей спросил, что я тут забыл, но тут подошел Аарон, весь раскрасневшийся от тако, и спас меня, спросив, что я учу. Оказалось, что мы с ним будем сдавать один и тот же экзамен, только Аарон вообще не готовился – не видел в этом смысла. Он пригласил меня к общему разговору о том, какова была бы принцесса Зельда[2] в постели, и я сказал, что ужасна, потому что она с подросткового возраста была заточена в башне, но Аарон возразил, что именно из-за этого она была бы суперштучкой.
В ту же пятницу вечером Аарон позвонил мне.
– Не хочешь зайти киношку посмотреть?
Ежедневный пробный экзамен я уже сделал, так что без проблем согласился:
– Конечно.
Аарон жил на Манхэттене, в маленькой квартирке большого дома около ратуши. Я поехал к нему на метро, и моей маме пришлось согласовывать все это с мамой Аарона, и это было жуть что такое. Я представился пузатому консьержу и поднялся на лифте на нужный этаж. Мама Аарона встретила меня и проводила в его комнату с отдельной вентиляцией, куда мы прошли мимо каморки его отца, больше похожей на тюремную камеру, где он что-то писал, время от времени колотясь головой о стол, когда мама Аарона приносила ему чай. Я зашел и плюхнулся на кровать, тогда еще не покрытую красноречивыми пятнами, которыми она покроется в будущем.
– Привет, – сказал Аарон. – Травку покурить хочешь?
Опа. Так вот что значит «киношку посмотреть». Коротко о том, что я тогда знал о наркотиках: мама велела к ним не притрагиваться никогда, а папа сказал, что до сдачи SAT[3]. Мама победила папу в споре, поэтому я поклялся никогда в жизни не прикасаться к наркотикам. Но у меня были сомнения: а вдруг меня кто-нибудь заставит? Раньше я думал, что наркотики – это что-то такое, что людей заставляют делать насильно: идешь себе по делам, а тут раз – и втыкают в тебя иглу.
– А вдруг меня кто-нибудь заставит, мам? – спросил я у нее. Мы были на детской площадке и разговаривали о наркотиках. – Что, если мне приставят пистолет к виску и заставят принять наркотики?
– Сынок, это делается не так, – ответила мама. – Люди принимают наркотики потому, что сами этого хотят. Ты просто не должен этого хотеть, понял?
И вот я сидел у Аарона дома и хотел. В его комнате пахло как в некоторых уголках Центрального парка, особенно возле озера, где белые парни с дредами играют на бонго.
Я тут же представил себе маму.
– Не-а, – сказал я.
– Да не проблема. – Аарон открыл пахучий мешочек и переложил часть содержимого в какое-то интересное приспособление, напоминающее сделанную из металла сигарету. Потом поджег это дело газовой зажигалкой, разом выпустив язычок пламени размером с мой средний палец, и выдохнул дым прямо в стену.
– Разве не нужно открыть окно?
– Не-а, это же моя комната. Я тут делаю что хочу.
– А твоя мама не против?
– Ей хватает хлопот с отцом.
За следующие два года стена, на которую он выпускал дым, полностью потеряет цвет. А со временем, как и все остальное в комнате, она скроется под постерами рэперов с золотыми зубами.
Аарон пару раз затянулся металлической сигаретой, и комната наполнилась затхлым запахом, стало жарко. Потом он объявил:
– Ну что, чувак, пора встряхнуться. Что хочешь посмотреть?
– Боевик.
Ну да, а что? Я же был в седьмом классе!
– Идет! А знаешь, чего я хочу? – Глаза Аарона загорелись. – Хочу кино со скалами!
– Про скалолазов, что ли?
– Необязательно про скалолазание. Просто чтобы там была хотя бы одна сцена, где чуваки дерутся, а потом кто-нибудь падает со скалы.
– Слышал про Пола Стояновича?
– Что за тип?
– Он придумал «Лучшие полицейские погони» и «Копов».
– Гонишь? Ведущий?
– Нет, продюсер. Хотя ведущий тоже крут.
Я пошел за Аароном к входной двери, и мы снова прошли мимо его отца, тот что-то лихорадочно печатал, вытирая пот и чуть ли не сросшись с компьютером. Его мама, шатенка в комбинезоне, остановила нас, подала одежду и угостила печеньем.
– Вот это жизнь! – сказал Аарон. – Пока, мам.
Мы вошли в лифт со ртами, полными печенья.
– Ладно, так о чем ты там говорил? Обожаю «Лучшие полицейские погони», – тут Аарон проглотил печенье. – Особенно круто, когда парень такой… – и он переключился на резкий, напористый говорок комментатора: – «…эти жалкие клоуны думали, что могут плевать на закон, но сейчас ребята из полицейского управления округа Броуард покажут им что почем и отправят их прямиком за решетку!»
Я загоготал, плюясь крошками.
– Я неплохо пародирую голоса. Хочешь Джея Лено покажу, как он в рекламе пышет огнем на дьявола? Я скопировал это из шоу Билла Хикса!
– Слушай, ты дашь мне закончить про Пола Стояновича?
– Это кто?
Лифт остановился в парадном.
– Ну, продюсер «Лучших полицейских погонь»!
– А, ну да.
Аарон открывает стеклянную дверь в вестибюль. Я выхожу за ним, вытаскиваю и надеваю капюшон.
– Короче, он позировал со своей невестой для свадебной фотосессии. Дело было в Орегоне, как раз на высокой скале. И фотограф им такой: «Чуть назад, теперь немного левее». Короче, они двигались, как он говорил, и чувак сорвался со скалы!
– Вот ни хрена себе! – Аарон покачал головой. – Откуда ты об этом узнал?
– В интернете прочитал, – улыбнулся я.
– Это вообще круто. А что случилось с девушкой?
– Ничего. С ней все нормально.
– Ей надо было засудить фотографа. Она подала иск?
– Не знаю.
– Надо было подать. Я бы его точно засудил. Знаешь, Крэйг, – Аарон посмотрел на меня, глаза у него были покрасневшие, но живые и блестящие, – я хочу стать адвокатом.
– Да ну?
– Ага. Черт бы побрал моего отца! Он вообще ничего не зарабатывает. Жалкий неудачник. Мы живем в этой квартире только благодаря брату моей матери, он адвокат и когда-то давно здесь жил. Сейчас дядя выполняет какие-то заказы для нашего здания, поэтому они согласились сдать квартиру моей матери. Всему хорошему в жизни я обязан адвокатам.
– Наверное, я бы тоже хотел стать адвокатом, – сказал я.
– Почему нет? Будешь зарабатывать деньги!
– Ну да.
Я поднял глаза от чистого холодного серого манхэттенского тротуара и оглядел окрестности. Все здесь стоило кучу денег. Я посмотрел на продавца хот-догов, самой дешевой фигни в округе, а даже от него фиг уйдешь, не выложив три-четыре бакса.
– Давай станем адвокатами вместе, – сказал Аарон. – Пардис и… Как твоя фамилия?
– Гилнер.
– «Пардис и Гилнер».
– Идет.
Мы пожали друг другу руки и пошли дальше, чуть не сбив с ног маленькую нарядную девочку, шедшую нам навстречу. Повернули на Черч-стрит и взяли в прокате диск «Жизнь против смерти». В этом кино навалом скал, пожаров, нападений животных и несчастных случаев во время затяжных прыжков с парашютом. Потом я сидел, прислонившись к стене, у Аарона на кровати, он курил свою травку, а я отказывался – я подпитывался от него и уверял, что получаю контактный кайф, хотя на самом деле просто чувствовал, что обрел новую рутину. Самые крутые эпизоды «Жизни против смерти» мы ставили на паузу и делали крупным планом: мощные взрывы, крутящиеся колеса после падения грузовика и еще эпизод, где парень кривлялся перед клеткой гориллы, а та засандалила в него камнем. Мы обсуждали, что как-нибудь обязательно снимем свое кино.
Уснул я только в четыре утра, но, когда ночуешь не дома, просыпаешься раньше, и поэтому я встал в восемь. Прошел мимо сидевшего за компьютером отца Аарона и взял из шкафа в гостиной книгу «Латинские корни». Все утро я зубрил «Латинские корни» для теста.
С тех пор так и повелось. Это стало вроде как традицией, хоть мы и не давали этому никаких названий, просто… просто по пятницам Аарон звонил и приглашал меня посмотреть кино. Наверное, ему было одиноко. Неважно, что с ним было, но он стал для меня единственным человеком, с которым я хотел бы поддерживать отношения после школы. И вот теперь, спустя год после знакомства, я стоял на кухне с письмом о приеме в руках и гадал, получил Аарон такое же или нет.
– Я позвоню Аарону, – сказал я маме.
Восемь
– Ну что там, чувак? Тебя приняли?!
– Ага.
– Да-а-а!
– Ура-а!
– Кру-у-уто, блин!
– Ага-а-а!
– Но ты хоть готовился, а я даже не притрагивался, – сказал Аарон.
– Точно. Я должен быть счастлив, что разговариваю с тобой. Ты мощный вообще, вроде Геракла.
– Ага, постоянно чищу конюшни. Короче, у меня вечеринка.
– Когда? Сегодня?
– Точно. Родители в отъезде – вся квартира моя. Ты ведь придешь, да?
– Настоящая вечеринка? Не чаепитие с тортом?
– Угадал.
– Конечно, приду!
Я учился в восьмом классе, поступил в крутую школу и шел на настоящую вечеринку. Жизнь удалась!
– Можешь принести бухло?
– Типа выпить?
– Крэйг, сосредоточься. Да. Типа. Принесешь?
– У меня же нет удостоверения личности.
– Крэйг, ни у кого из нас нет удостоверения личности! Я спрашиваю, ты можешь прихватить что-нибудь у родителей?
– Не уверен, что у них есть… – Но, конечно, я знал, что это неправда.
– У них точно что-нибудь есть.
Я прикрыл телефон рукой, чтобы мама не услышала.
– Скотч сойдет? Есть бутылка скотча.
– Какого?
– Блин, чувак, да откуда я знаю?
– Ладно, тащи. Слушай, можешь позвонить каким-нибудь девчонкам?
Откуда? Я же целый год просидел за пособиями в своей комнате.
– Нет.
– Ладно, проехали, девочек я возьму на себя. Но ты хотя бы поможешь мне все приготовить?
– Конечно!
– Тогда дуй сюда.
– Мам, я пойду к Аарону! – объявил я, сложив телефон. В другой руке я все еще держал конверт с приветственным письмом, поэтому вручил его маме, чтобы отнесла в мою комнату.
– Чем вы там собираетесь заниматься? – спросила мама, сияя улыбкой сначала пакету, потом мне.
– Ну… я останусь у него ночевать.
– Будете праздновать? Это точно нужно отпраздновать!
– Ну да.
– Крэйг, честное слово, я не знаю ни одного человека, который бы так упорно готовился к поступлению, как ты. Ты должен гордиться собой, и тебе уже пора сделать передышку. Ты очень талантлив, и сегодня мир это заметил. Крэйг, ты сделал первый шаг в удивительном путешествии…
– Да ладно, мам, хватит. – И я обнял ее.
Накинув куртку, я сел за кухонный стол и сделал вид, будто пишу сообщение в телефоне. Как только мама вышла, я бросился к шкафчику под мойкой, достал бутылку скотча («Гленливет») и вытащил из буфета термос, в котором брал с собой еду в начальной школе. Мне думалось, что на вечеринке термос будет смотреться нереально круто. Я отлил в термос немного скотча, а в бутылку долил воды до прежнего уровня – на случай, если родители за этим следят, потом затолкнул термос в карман куртки и крикнул маме, что позвоню.
Впервые за год я ехал в метро к Аарону без учебника на коленях. Выйдя на нужной станции, я взлетел по лестнице, промчался по серым улицам, проскользнул в дом, кивнул консьержу и так вдавил большим пальцем кнопку лифта, что она слегка накренилась и повернулась. На шестнадцатом этаже возле открытой двери, за которой надрывалась рэп-музыка с призывом убивать людей, стоял Аарон. Он протянул мне свою металлическую сигарету и предложил:
– Курни. Отпразднуй.
Я остановился.
– Когда, если не сейчас?
Я кивнул.
– Пошли, покажу.
Аарон провел меня в дом, усадил на диван и показал, как держать сигарету, чтобы не обжечься о металл. Он объяснил, что нужно втягивать дым в легкие, а не в желудок: «Не глотай его, Крэйг, а то тебя не торкнет», – и что выпускать его нужно через нос или рот и как можно медленнее – удерживая дым в себе как можно дольше. Долго, но не слишком, а то закашляешься.
– Как ее поджечь? – спросил я.
– Я тебе зажгу.
Он присел на диван передо мной, а я бегло осмотрел гостиную, пытаясь запомнить, как все выглядит, на случай, если что-то вдруг изменится: по стенам книжные стеллажи от пола до потолка, в центре свободное пространство, заполненное кофейным столиком, высокой пепельницей с канавками по бокам, собакой из фарфора и маленьким электрическим пианино. Некоторые говорят, что из всего, что я делал до сих пор, к курению травки более-менее приближалось сильное раскачивание на качелях, но Аарон сказал, что те, кто так говорит, наверное, накуривались, когда качались на качелях.
Взметнулось бутановое пламя. Я как можно старательнее затянулся металлической сигаретой, как будто мне ее врач выписал. Рот мгновенно наполнился хорошо знакомым пьянящим и легким химическим привкусом – так пахло в комнате Аарона.
Сидя со втянутыми щеками, я посмотрел ему в глаза. Он закрыл зажигалку и улыбнулся.
– Только не в щеки! – велел Аарон. – Ты похож на этого трубача, как его… Диззи Гиллеспи[4]! В легкие, слышишь? Втягивай в легкие.
Я попробовал втянуть по-другому. Показалось, что у меня внутри не дым, а пузырь клея.
– Вот так, да, и держи, держи…
Глазам стало горячо, выступила слеза.
– Держи-держи. Хочешь еще?
Я в ужасе замотал головой. Аарон расхохотался.
– Ладно, чувак, ты крут. Ты прямо крут!
Пф-ф-ф. Я выдохнул дым прямо в лицо Аарону.
– Блин, чувак! Ну ты даешь! – Аарон замахал руками, разгоняя вырвавшееся из меня облако. – Ты точно раньше не накуривался?
– И что теперь будет? – спросил я, тяжело дыша и жадно втягивая в себя воздух, в котором все еще висел дымок.
– Может, ничего и не будет.
Аарон встал, забрал у меня сигарету и положил на высокую пепельницу. Потом протянул мне руку – я ожидал рукопожатия, но он просто стащил меня с дивана.
– Поздравляю!
Мы обнялись, губами к уху – настоящее мужское объятие с похлопыванием по спине. Отстранившись, я улыбнулся и, обхватив его за руки, сказал:
– Тебя тоже, чувак. Все будет круто!
– Я скажу тебе, что будет круто: наша сегодняшняя туса. – И Аарон принялся мерить шагами гостиную, загибая пальцы. – Так, сначала сходи за газировкой для напитков. Потом уберем все папины книги и бумаги, чтобы ничего не испортить ненароком. Еще ты должен позвонить одной девчонке. Ее отец пригрозил полицией, если я позвоню еще раз, так что скажешь, что ты из «Гринписа».
– Погоди, я не запомню. – Я взял с кофейного столика в гостиной плотные линованные карточки для записей. Я начал было проставлять фломастером номера, как вдруг меня торкнуло.
– Вот ни фига-а-а се!
– Та-а-ак, – посмотрел на меня Аарон.
– Бли-и-ин.
– Вставило? Чувствуешь, да?
«Что? Как мозги вываливаются из головы?» – промелькнуло у меня. Я уставился на свои записи: вдруг надпись «1) Купить газировку» изогнулась дугой, будто решила свалиться с карточки. Посмотрел на книжные стеллажи: они выглядели как обычно, но, когда я отворачивался, полки шевелились. Я словно был в замедленном кино, но не так, как бывает под водой, нет, это больше походило на пребывание в густом тяжелом воздухе, который двигается вместе с тобой, как туча. Для улета это, пожалуй, тяжеловато.
– Вставило? – повторил Аарон.
Я посмотрел на полную смятых окурков напольную пепельницу, среди которых лежала блестящая ровная металлическая сигарета.
– Смотри, это же королева окурков! – восхитился я.
– Ну, приехали, – расстроился Аарон. – Крэйг, у нас куча дел, ты вообще в состоянии что-то делать?
В состоянии ли я? Да я мог сделать все что угодно! Если здесь я отпускал остроумные замечания типа «королевы окурков», то страшно представить, что я на улице буду вытворять!
– С чего начать? – спросил я.
Аарон дал мне пару баксов на покупку газировки, но, как раз когда я открыл дверь, чтобы выйти в мир, зазвенел домофон.
– Это Ниа! – заорал Аарон, опрометью бросаясь к домофону на кухню, полную грейпфрутов и темных деревянных шкафчиков.
– Она тут? – офигел я.
Ниа из нашего класса, она наполовину китаянка, наполовину еврейка и хорошо одевается. Каждый день она приходила в чем-то новом: то в ожерелье из игрушечных Губок Бобов, которые дают в «Бургер Кинге»; то с одной гигантской красной пластиковой сережкой в виде кольца; то с черными клоунскими кругами на щеках. Я считал, что она носила эти аксессуары просто из вежливости, чтобы хоть как-то отвлечь внимание от своего миниатюрного соблазнительного тела и кукольного личика. Оставь она все как есть, распусти волосы, будто росла с ветром в поле, – нас, парней, просто разорвало бы.
– Да уж, Ниа – просто огонь, – сказал Аарон, вешая трубку.
– Она ничего.
Мы сидели, уставившись на дверь, как голодные птенцы.
Раздался стук, и мы наперегонки бросились к двери. Кинув взгляд в мою сторону, Аарон потянул дверную ручку:
– Приве-е-ет! – завопил он, перебивая меня.
– Привет! – сказал я.
И вот она вошла: в зеленом платье, с радугой браслетов на лодыжке. Глаза у нее были такие огромные и темные, что она сама казалась еще более щуплой. Туфли на высоченных каблуках буквально швырнули ее к нам, так что зеленое платье обрисовало ее маленькие грудки.
– Мальчики-и-и, – протянула Ниа. – Мне кажется, тут кто-то недавно пыхал.
– Ни в коем случае, – сказал Аарон.
– Мои друзья уже едут. Когда начало?
– Было пять минут назад. Не хочешь пока в «Скрэббл» сыграть?
– В «Скрэббл»? – Ниа поставила на пол свою сумку в форме бегемота. – Кто вообще играет в «Скрэббл»?
– Ну, я играю и… Крэйг тоже, – сказал он за меня, а вообще-то я не играю, – а мы, между прочим, неглупые парни, раз поступили.
– Я знаю! – Ниа схватила свою бегемотскую сумку и ударила ею Аарона. – И я прошла!
Подумав немного, она стукнула и меня тоже:
– Поздравляю!
– Обнимашки! – провозгласил Аарон, и мы сошлись, образуя трехступенчатую пирамиду: макушка Ниа уперлась в мой подбородок, а моя голова доставала до подбородка Аарона. Я обнял Ниа за теплую узкую талию, а ее ладонь обвилась вокруг моего плеча. Наши тела образовали что-то вроде балетной композиции. Я чувствовал дыхание Ниа. Повернул голову, чтобы посмотреть…
– «Скрэббл»! – объявил Аарон.
Он пошел в гостиную и, сняв с книжной полки игру, положил ее на пол. Мы расселись вокруг: Аарон между мной и Ниа, напольная пепельница – с четвертой стороны.
– Местные правила, – принялся рассказывать Аарон, высыпая пластиковые квадратики с буквами. – Если слово не получается, то можешь придумать свое, но при одном условии: нужно дать точное определение. Если это определение рассмешит остальных, ты получаешь очки по стоимости букв, если нет – теряешь ровно столько же.
– Значит, можно придумывать свои слова? – переспросил я.
Это сулило богатые возможности. Я мог бы выставить слово «прониазанный» – это то, что происходит, когда до тебя дотрагивается Ниа. Она тебя трогает, и ты становишься прониазанный. Наверное, это ее рассмешит. А может, и нет.
– А китайские слова можно? – спросила Ниа.
– Ты должна точно знать, что они значат, и суметь объяснить.
– Ну, это не проблема, – с лукавой улыбкой парировала она.
– Кто начинает?
– Может, покурим?
– Какие запросы!
Аарон подал ей металлическую сигарету, а я на этот раз отказался, мне было уже достаточно.
Первым словом Ниа выставила M-У-В-Л-И.
– И что это? – спрашиваю я.
– Китайское слово.
– Что оно означает?
– Хм… кошка!
– Что за бред! Откуда нам знать, что это так и есть? – Я повернулся к Аарону за поддержкой. Тот пожал плечами:
– Может, поверим на слово?
Ниа показала мне язык – черт возьми, какой хорошенький язычок! Там кольцо, что ли? Вряд ли. Стоп – уже все.
– Клянусь! – заныла Ниа. – Иди сюда, маленькая мувли, кис-кис-кис! Доволен?
– В следующий раз я проверю, – сказал я.
– Интернет в моей комнате, – сообщил Аарон.
– Но знай: если выйдешь из комнаты, мы поменяем все твои буквы на согласные, – с ехидной улыбкой добавила Ниа.
– Мой ход?
Я пристраиваю к ее М-У-В-Л-И слово Г-У-Б-К-А. Вышло десять очков.
Аарон составляет слово Х-Л-О-П-К-А.
– Это среднее между шлепком и хлопком. Например: «Сейчас ты у меня отхватишь хлопку».
Ниа зашлась смехом. Я тоже посмеялся, хотя мне совсем этого не хотелось. Аарон заработал свои очки.
Ниа выложила: Т-Р-И-E-Л-Ь.
– Что это? – спросил я.
– Триель? Ну, знаешь, это из музыки, скажем, «триель на флейте».
– Не «триель», а трель – тре-ель!
– Ладно, как скажешь!
Она переставила буквы, и получается Т-Р-И-Л-Ь-Е.
– Трель, Ниа! Что еще за «трилье»?
– Это такой неприличный акт.
Аарон захохотал так, что, конечно, просто обязан был привалиться к плечу Ниа всем телом. Она же отпихнула его, прижавшись боком к его боку.
Я видел, к чему все идет. И, посмотрев в глаза Нии, вот что я там узрел:
«Крэйг, мы все пойдем в одну школу. Мне нужен парень для подстраховки, чтобы чувствовать себя увереннее, понимаешь? Ничего серьезного. Ты классный, но Аарон будет покруче. У него есть травка, и он не такой зажатый, как ты. Ты целый год готовился к этому экзамену, а он и пальцем не пошевелил, значит, он поумнее тебя. Я не говорю, что ты несообразительный, но ум для парня – это очень важно. Честно говоря, это самое важное, наравне с чувством юмора, с которым у него тоже получше. Он и ростом выше. Так что с тобой я буду дружить, но на этом давай и остановимся. И, пожалуйста, не ревнуй – толку от этого никакого».
Мы продолжили играть. Аарон и Ниа все ближе придвигались друг к другу, так что вскоре их колени соприкоснулись, и я мог только воображать, какое электричество пробегало между этими сдвинутыми коленями. Я уже подумал, что они вот-вот наклонятся друг к другу для первого поцелуя (или второго? Нет, Аарон рассказал бы), когда снова зазвонил домофон.
Это была Куки, подруга Ниа. Она принесла бутылочное пиво. Мы минут десять пытались открыть бутылки, пока не догадались сдирать пробки о край кухонной столешницы. Ниа сказала Куки, что надо было брать отвинчивающиеся, а Куки спросила, что значит «ввинтить», и мы ржали как ненормальные. У нее были светлые волосы и шея, усыпанная блестками. В Подготовительную академию управления Куки не прошла, но это и неважно, потому что она будет учиться в Канаде. Продавец в местном винном разрешает ей покупать пиво, если она наклонится над стойкой: Куки рано созрела, и у нее такие тяжелые манящие груди, которые покачиваются при ходьбе.
«Скрэббл» мы убрали – так никто и не выиграл. Один за другим прибывали гости и заполняли гостиную, где гремела рэп-музыка, по-моему, скачанная с какого-то трек-листа в интернете: песни звучали одна за другой, не повторяясь. Пришла Анна – она принимает риталин[5], я видел, как перед тестами она втягивала его носом с маленького зеркальца. Потом пришел Пол – он киберспортсмен, входит в национальную сборную по «Хало-2» и по пять часов в день тренируется со своей «командой» из Сиэтла (и даже собирается указать это в заявлении на поступление в универ). Подошел Мика – его отец заправляет «Службой такси и лимузинов», поэтому у Мики есть что-то вроде карточки для бесплатного проезда на такси куда угодно и в любое время. Потом повалили люди, которых я даже не знал, например коренастый парень в яркой спортивной кожаной куртке с цифрой 8 на плечах и спине – он рассказал, что в девяностые такие куртки были так популярны, что тебя запросто могли пырнуть ножом, чтобы снять ее, а такой, как у него, сейчас вообще ни у кого нет.
Разумеется, не обошлось без маски Бэтмена – в нее вырядился Рейс.
Задиристый коротышка с усиками по имени Ронни ввалился с полным рюкзаком травки – и тут же, посреди гостиной, принялся ее продавать.
Какая-то девушка в бледных солнцезащитных очках и с конопляными браслетами на запястьях сказала, что мы просто обязаны послушать «Сорок унций к свободе» группы «Сублим», а когда Аарон отказался ставить эту песню, стала кружиться на месте и, по ее словам, «накладывать проклятье сатаны», приговаривая «Дьябло Тантунка!», делая пальцами козу и фырча: «Ф-ф-ф! Ф-ф-ф!»
Я курнул еще. Вечеринка была похожа на фильм, ну или по ней стоило его снять. Это было самое странное кино в моей жизни – где еще увидишь такое: стаканы вдребезги, брейк-данс в гостиной, летящий в таракана словарь, парень, засунувший голову в морозилку, потому что якобы «от этого торкает», разбрызганная полукругом по кухонной раковине оранжевая блевотина, народ, орущий в окно «Школа сосет», рэп «Я хочу пиво пить и дури покурить» и втягивающий в себя сладкий порошок из трубочки «Пикси Стикc»[6] бедолага, распыляющий лиловую пыль по всему туалету?.. Да нигде.
Девять
Аарон и Ниа сидели на диване и разговаривали. Я схватился за термос со скотчем (просто чтобы занять руки, я его даже не открывал) и стал наблюдать, как пара двигалась, то сближаясь, то отдаляясь друг от друга, неуклонно сокращая расстояние, чего они сами даже не замечали. Для меня это были уже не люди, а мужской и женский органы, идущие к неизбежному взаимодействию.
– Ну как, чувак? – спросил подошедший Ронни, тогда еще только таивший в себе страсть к ювелирным украшениям. – Нравится?
Аарон с Ниа мне определенно не нравились. Скотч тоже не вызывал восторга, но мне захотелось показать, что хоть с ним у меня порядок.
– Как тебе такое? – спросил я, открывая термос.
– Что это? – Он повел носом. – О, чувак, какая жесть. Глотни.
Я поднес термос к губам, но не пил, просто пропускал аромат через себя и ощущал, какой скотч горячий, режущий, опасный, горький…
– Глотай! – Ронни подтолкнул термос к моему рту.
– Чувак! – Я дернулся, и скотч выплеснулся мне на рубашку – оказалось, он легче и теплее воды и какой-то скользкий. – Ну ты и придурок!
– Секунду! – Ронни бросился через всю комнату, подскочил к парню по имени Асэн с криком, что имел его маму, а потом швырнул подушкой в Аарона и Ниа, уже слипшихся губами.
Я просто взбесился, но не из-за того, что это случилось, а из-за того, что пропустил, как все началось: он наклонился к ней или, наоборот, она к нему – мне бы это пригодилось на будущее, ради какой-нибудь другой девочки, пусть и не такой желанной, как Ниа. Ну, по крайней мере, хоть посмотрю, что к чему: Аарон правой рукой нежно поглаживал лицо Ниа, а в это время левая рука скользила по ее талии и крепко обвивала узкую спину. Его руки как будто играли в плохого и хорошего копа.
В термосе еще осталось немного скотча. Я отпил глоток. После тычка Ронни вкус меня уже не отпугивал.
– А я и не знала, что ты пьешь, Крэйг! – раздался голос у меня за спиной. Это Джулия, которая постоянно ходит в тренировочных брюках с надписью «Хорошая попытка», пущенной полукругом поверх ягодиц. Она чокается пивом с моим термосом.
– Да нет, вообще-то не пью, – промямлил я.
– Я думала, ты такой весь в учебе. Слышала, ты поступил в Академию? Чем теперь будешь заниматься?
– Буду в ней учиться.
– Да нет, я имею в виду, какие планы на будущее?
Я пожал плечами.
– Буду впахивать в школе, получу хорошие оценки, поступлю в хороший универ и найду хорошую работу.
– С ума сойти, как ты загонялся во время подготовки! Сколько тебя помню, вечно ходил с этими карточками!
Я заглянул в термос и, хоть пищевод уже горел огнем, глотнул еще немного.
– Видел, как Аарон и Ниа обжимаются? Они такие милые!
– Они… обжимаются? – Я был потрясен.
– Ну да, ты что, не видел?
– Я видел, что они там перепихиваются, – объяснил я, выглядывая из кухни в гостиную, чтобы посмотреть на них, – но не думал, что они занимаются сексом.
– Они и не занимаются, с чего ты взял?
– Я думал, «обжиматься» – это и есть заниматься сексом.
– Крэйг, «обжиматься» не значит «заниматься сексом», а «перепихнуться» – как раз означает. Ты просто перепутал.
Теперь Аарон и Ниа были заняты вовсю. Одна рука Аарона скрылась из виду, погрузившись в исследование восхитительных незагорелых местечек.
– Запиши это на свою карточку.
– Ха-ха, – усмехнулся я.
Джулия шагнула ближе и произнесла:
– Я бы пообжималась с кем-нибудь прямо сейчас.
– Да? Круто.
– Ага, вот ищу, с кем бы…
– Э-э-э…
Я уставился на ее обрамленное короткими светлыми волосами, слегка расширяющееся книзу лицо, зубастое и какое-то красноватое. Я не хотел с ней ни перепихиваться, ни обжиматься – вообще ничего такого. Та, с которой я хотел бы, сидела в трех метрах от меня. Предложи она, это был бы мой первый поцелуй. Девочки часто говорят, что им хочется с кем-нибудь перепихнуться, имея в виду кого угодно, только не тебя. Однако же Джулия запрокинула голову и закрыла глаза. Я смотрел на ее губы, пытаясь собраться с силами и поцеловать их, но остановился – не таким должен быть мой первый поцелуй, не хочу я довольствоваться тем, что подвернулось.
Джулия открыла глаза:
– Да что с тобой, чувак?
– Да-а, да просто…
«Фу-у-уф, – гудело в голове, – просто я обкурился и меня развезло от скотча, Джулия. Дай передохнуть».
– Ладно, проехали, – бросила она и вышла из комнаты, а потом и вовсе ушла с вечеринки.
Позже я узнал, что обидел ее. Надо же. Я и не знал, что на такое способен.
Я пробрался к ноутбуку, с которого музыка передавалась на установку. Рядом на полках стеллажа стояла музыкальная коллекция отца Аарона – только старые виниловые пластинки. Мне вдруг до чертиков захотелось выбросить из головы все, что здесь произошло, и загрузить мозг чем-то другим, поэтому я вытащил пластинку – третий альбом Led Zeppelin.
Пластинка была размером с ноут, а конверт покрыт разрозненными рисунками: волосатые мужские головы перемежались дирижаблями (я догадался, что это и были те самые цеппелины), цветами и зубами. Край пластинки слегка выступал наружу, как цветной тетрадный разделитель, я потянул его наугад – тот повернулся, и вместе с ним повернулась вся пластинка внутри конверта, и картинки в маленьких окошечках сменились: радуги превратились в звезды, дирижабли – в самолеты, цветы – в стрекоз, просто офигеть! Один из рисунков был точь-в-точь как уровень из «Кьюберта»[7] – лучшей из старых видеоигр – я и не знал, что Led Zeppelin придумали «Кьюберт»!
Я посмотрел – Аарон и Ниа продолжали свое дело. Теперь одна рука Аарона спряталась в ее волосах, и он натягивал их на себя как противогаз. Я поднял альбом, закрывая их головы. Опустил – Аарон и Ниа. Поднял – картинки, картинки. Как будто Аарон и Ниа тоже были картинками на конверте.
Народу было битком. Все начали выстраиваться в очередь к одному из набитых книгами туалетов. Они не обжиматься туда шли, ничего такого – просто какой-то пацан, Джон, распылил там перцовый баллончик, и всем захотелось проверить, как этот газ на них подействует. Мальчики и даже некоторые девочки вылетали из туалета со слезами и воплями «А-а-а, мои глаза!» – и бежали к воде, что совершенно не останавливало стоявших в очереди. По-моему, там перебывали все, кроме меня.
Я продолжал рассматривать коллекцию пластинок. Например, там был «Белый альбом» The Beatles – я и не знал, что он в самом деле белый, – и каждый раз, когда я поднимал от него глаза, то видел, что Аарон и Ниа переплетались все сильнее. И вдруг на меня накатило тепло и сонливость, наверное, от скотча, поэтому я привалился на стопку пластинок, просто чтобы на минутку прикрыть глаза. Очнувшись, я машинально поискал глазами Аарона и Ниа, но их уже не было. Я выглянул из-за своего импровизированного лежака и посмотрел на часы над теликом – было уже два часа ночи.
Десять
Дом почти опустел.
Я еле поднялся. Плей-лист на ноутбуке давно остановился. Ночевка в гостях закончилась, и все, что я сделал, – это порылся в старых пластинках и едва не перепихнулся с девчонкой; тем не менее я почему-то был доволен проделанным.
– Эй, Ронни! – окликнул я игравшего на PlayStation Ронни. Шнур от приставки тянулся от дивана через всю комнату. Ронни отвлекся от игры:
– Чего?
– А где все?
– Имеют твою мамку.
Недалеко от Ронни, на другом конце дивана, прикорнула девочка по имени Донна. Сидел на стуле парень в яркой куртке с цифрой 8. Кто-то крикнул, чтобы врубили музыку, а Ронни проорал в ответ: «Заткнись, пацанчик». Повсюду стояли стаканы и кружки, как будто они размножились за время вечеринки.
– Кто-нибудь видел Аарона?
– Отвали! – Это было все, чего я добился от Ронни.
– А-а-арон!
– Заткнись, баклан! Он там со своей цыпочкой.
– Здесь я, здесь! – вышел из своей спальни Аарон, поправляя штаны. – Капе-е-ец! – заметил он царящий повсюду разгром. – Ну, ты как? Нормально оттянулся?
– Да, блин, зачетно. Где Ниа?
– В отрубе.
– Видать, ты неплохо потрудился, а? – спросил Ронни. – Азиатское вторжение, все дела.
– Заткнись, Ронни.
– Азиатская чума.
– Заткнись.
– Азиатский сговор.
Аарон выдернул из рук Ронни джойстик от PlayStation.
– Эй, ты чего? – заорал тот и кинулся его забирать.
– Прошвырнемся? – спросил Аарон.
– Конечно! – Я стал натягивать куртку.
Аарон разбудил Донну и «Куртку номер восемь» и выставил их вон; потом, после долгих препирательств, выгнал и Ронни. Мы все спустились на лифте, потом восьмой номер и Ронни ушли в сторону пригорода, Донна и еще пара ребят сели в такси, а мы с Аароном не сговариваясь побрели к Бруклинскому мосту, который прорезал своим сиянием ночь в трех кварталах от его дома.
– Хочешь перейти через мост? – предлагает Аарон.
– До Бруклина?
– Ага. Оттуда можешь пойти домой или вернемся ко мне на метро.
– А когда рассветет?
– Наверное, часа через три-четыре.
– Тогда идем. Потом я пойду домой пешком и к завтраку как раз дойду.
– Круто, пошли.
Мы шли в ритм. Ноги совсем не мерзли. В голове плыло. Обнаженные деревья, попадавшиеся по пути, казались мне верхом красоты. Если бы еще и снег пошел, было бы совсем круто. Тогда на меня падали бы снежинки, и я мог бы ловить их языком. И мне было бы плевать, что это увидит Аарон.
– Ну, как ты? – поинтересовался я.
– О чем ты? – удивился он.
– Сам знаешь, – сказал я.
– Погоди-ка.
Он заприметил на тротуаре стеклянную бутылку от фруктового чая, с виду было похоже, что она наполнена мочой, что на Манхэттене не редкость: уж не знаю почему, но бездомные мочатся в бутылки и даже не трудятся их выбрасывать. Но это вполне мог оказаться и безобидный яблочный чай, почему бы и нет? Аарон подскочил к бутылке и точным ударом ноги запустил ее через всю улицу, так что она грохнулась о край тротуара на противоположной стороне и вдребезги разлетелась под фонарем.
– Есть! – заорал Аарон. Потом огляделся по сторонам. – Копов же не видно?
– Нет, – сказал я сквозь смех.
Мы подошли ко входу на мост.
– Нет, серьезно, как это было? – не унимался я.
– Она просто супер! Знаешь, ей реально нравится это все. Она любит… любит секс!
– У вас был секс?!
– Нет, но я уже вижу: все остальное ей по кайфу.
– Что ты делал?
Он рассказал мне, пока мы карабкались на мост через Нью-Йоркский залив.
– Врешь! – пихнул я его. С залива потянуло холодом, и я набросил капюшон и потуже затянул замусоленные шнурки. – И как это вообще?
– Это капец как прикольно! – оживленно ответил Аарон. – Там на ощупь как внутренняя сторона щеки, прикинь?
– Правда? – Я вытащил руку из кармана.
– Ага.
Я сунул палец в рот и надавил на щеку изнутри.
– Вот так?
– Ну да, – ответил Аарон. Он тоже засунул палец в рот. – Так и есть, и еще там жарко.
– Надо же.
Какое-то время мы шли молча, держа пальцы во рту.
– А ты уже шпилился с кем-нибудь? – спросил он.
– Не. Но Джулия вчера хотела.
– Неплохо. Она тебе случайно ничего не подсыпала?
– Что? Нет!
– Просто ты же тупо вырубился в углу.
– Ну, я там пил мамин скотч и просматривал пластинки твоего отца.
– Ты что-то с чем-то, Крэйг.
– Холодно здесь.
– Зато вид отпадный.
Мы не поднялись и на десятую часть высоты, но было уже круто. Позади нас виднелась пешеходная дорожка, уходившая к Сити-холлу, башня которого сияла в свете прожекторов, напоминая белую жемчужину, приютившуюся между великанами вроде здания Вулворт-билдинг, которое, как я узнал на уроке литературы, Айн Рэнд[8] сравнила с перстом Божьим, что, наверное, так и есть. Мне же оно напоминало огромный, богато украшенный мятный леденец с бело-зеленой верхушкой. Слева от нас раскинули свои синусоиды другие мосты Манхэттена, неся по своим полосам одинокие ночные грузовики, бороздящие туман.
Но лучший вид открывался по правой стороне, где зиял почти непроницаемой чернотой Нью-Йоркский залив. Сияющая посреди темноты статуя Свободы никогда не вызывала у меня доверия – стоит такая вся, притворяется милахой. Настоящая жизнь – по берегам залива: на Манхэттене с его деловым центром, где люди делают деньги, и на другой стороне, в темном сонном Бруклине, у которого, однако, свой козырь в рукаве – контейнерные краны, работающие на разгрузке кораблей даже ночью. Все знали, что эти грузы никто не досматривает на предмет террористической угрозы, но каким-то чудом до сих пор ничего не взорвалось. Что-что, а эти краны освещают не ради государственного престижа и прочей показухи. Бруклин – это порт. Нью-Йорк смог обзавестись нехилым портом – мы, местные, много чего добились, и я тоже не отстаю.
В самом далеке, словно финальный занавес на сцене Нью-Йорка, раскинулся мост Веррацано-Нарроус. Он протянулся от Бруклина к Манхэттену, предваряя вход в порт, – отливающая синевой стальная верхушка губ[9], приветствующих ночную тьму.
Я чувствовал себя на вершине мира – всесильным и всемогущим.
– Ты что, Крэйг? – спросил Аарон.
– Что такое?
– Это с тобой что такое, чувак?
– Мне классно, – ответил я.
– Конечно, а как еще может быть?
– Нет, не то. Мне просто охренительно.
– Ну да, я понял. Так и должно быть.
Мы подошли к первой башне моста, и я остановился перед табличкой с именем архитектора: «Джон Рёблинг». В строительстве ему помогали жена, а потом и сын. Джон Рёблинг погиб при постройке этого моста, ну да и бог с ним, а Бруклинский мост простоит здесь еще сотни лет. Хотел бы я оставить после себя что-то похожее. Я не знал, как этого добьюсь, но чувствовал, что первый шаг вроде как сделал.
– Самое классное, что Ниа… – начал Аарон и пустился в такие анатомические подробности, которые я предпочел бы не слышать, поэтому я просто отключился, понимая, что он говорит сам с собой. Ему было классно от одного, а я тащился совсем от другого: однажды я пройду по этому мосту и буду смотреть на город, зная, что мне принадлежит какая-то его часть, что я здесь не пустое место.
– А какой у нее зад… Знаешь, я думаю, символ «сердечко» делали с ее задницы…
Мы дошли до середины моста. По обеим сторонам от нас проносились машины: красный поток слева, белый – справа, отделенные от пешеходной дорожки тонкой металлической решеткой по обеим сторонам.
Мне вдруг нестерпимо захотелось выступить за решетку, склониться над водой и заявить о себе миру. А если уж мне что втемяшится в голову…
– До сих пор не верится, что это было на самом деле… – продолжал свой монолог Аарон.
– Хочу постоять над водой, – известил я его.
– Чего-чего?
– Идем! Хочешь со мной?
Он остановился.
– Ну да, – сказал Аарон. – Да, я понял, о чем ты.
Там были такие мостки поверх решеток, для того чтобы рабочие могли добираться до тросов и ремонтировать их. Я перебрался по одному из мостков на внешнюю сторону, с которой был виден мост Веррацано-Нарроус, и, ухватившись за перила, принялся балансировать на узкой металлической полосе шириной не больше десяти сантиметров. Подо мной с шумом проносились легковушки и внедорожники, а впереди в холоде простиралась чернота воды и неба.
– Ты чокнутый, – сказал Аарон.
Я продвинулся вперед – делов-то: как и все, что нам запрещают взрослые, это было проще простого.
Я миновал первую полосу из трех, шумевших подо мной, прошел до середины второй – и тут Аарон заорал снизу:
– Ты чего туда полез?!
– Я просто хочу подумать! – прокричал я в ответ.
– О чем?
Я помотал головой. Не мог я ему объяснить.
– Я быстро!
Аарон отвернулся.
Перебравшись через вторую полосу, я стал смотреть на линию горизонта и не отрывал от нее глаз, пока, ритмично перехватывая руками по балке, не миновал третью полосу. Добравшись до края моста, я с удивлением обнаружил, что там вообще нет никаких ограждений: ничего, что могло бы уберечь от падения, кроме крепких рук и воли. Я ухватился за ледяные прутья арматуры обеими руками и распростерся над водой, раскинув руки в стороны: меня мотало на ветру, пока я висел там, как… ну вроде как Христос.
Я закрыл глаза, потом открыл – почти никакой разницы: даже с закрытыми глазами я отлично видел россыпь огней, просто с открытыми глазами я чувствовал ветер на слизистой. Маленьким я читал книжки про аббатство Рэдволл, фэнтези-книжки про воинственных мышей, боевой клич которых приводил меня в полный восторг: «Эвлалия!»
И я как придурок запрокинул голову и заорал с Бруклинского моста во всю глотку:
– Эвлалия-а-а-а!
Я бы мог умереть прямо тогда.
И учитывая, как все потом повернулось, лучше бы я так и сделал.
Одиннадцать
Депрессия не начинается так сразу. Вдоволь поорав с Бруклинского моста, я в отличном настроении пошел домой. Аарон вернулся на ночном метро на Манхэттен, у него была куча времени, чтобы прибраться в квартире и проводить Ниа к родителям. Я перекусил в закусочной, съел яичницу и пшеничный тост, вернулся домой в десять утра, сказал маме, что ночевал у Аарона, и рухнул на кровать. Проснувшись после обеда, я обнаружил, что нужно подписать документы по поводу поступления в Подготовительную академию и записаться на медосмотр – как мило. Так и вижу, как доктор берет меня за яйца и просит покашлять (кстати, я до сих пор не понимаю, зачем им это нужно).
Само окончание средней школы было сущей ерундой – надо было только не завалить экзамены и не получить «отказано» из Подготовительной академии, поэтому я начал зависать у Аарона каждый день. После того как «травяной барьер» был сломан, настала удивительная пора, когда мы просто накуривались и кайфовали под рев телевизора; «смотреть киношку» мы это уже не называли, теперь у нас появился термин «охладиться».
– Хочешь охладиться? – бывало, спрашивал Аарон, и я врубал телик погромче.
Ронни всегда отирался поблизости. Оскорблениями сыпать он не перестал, но они стали гораздо нежнее, хотя это уже не имело значения, ведь Ронни заделался проверенным дилером. С нами в Академию он не собирался (кажется, он вообще никуда не поступал), зато чего он точно хотел, так это открыть ювелирный магазин, торговать наркотиками и заколачивать бабло.
Без Ниа наши тусовки тоже не обходились. Они с Аароном разлучались так же часто, как я со своей правой рукой. Я думал, что мне на это плевать, но чем больше я видел, как они милуются – сидя рядом, сидя друг на друге, сидя в обнимку, трогая друг друга за задницы, целуясь как в комнате Аарона, так и при всех, – тем больше меня это бесило. Мне казалось, что они это нарочно, чтобы выбесить меня, хотя прекрасно понимал, что нет – так же как я не хотел никого бесить, когда зубрил свои карточки у всех на глазах. А зачем же они тогда шептали, как сильно друг друга хотят, так что я все слышал? И зачем Аарон в мельчайших подробностях рассказал про их первый раз в постели? А однажды, когда мы с Ронни пялились в МТV, Аарон выдал:
– Знаете, с тех пор как я замутил с Ниа, я совсем забыл, как мастурбировать.
– Я тоже, с тех пор как спутался с твоей мамкой, – ответил Рони.
– Хм, – сказал я. В животе у меня екнуло.
– Нет, серьезно! Я вообще не помню, как это делается! – с довольной улыбкой добавил Аарон.
Молодец, чувак, поздравляю. Я узнал, как мастурбировать, в последние месяцы обучения в неполной средней школе, когда подключился к АОL[10] и начал переписываться с девчонками с никами вроде «МаленькаяСочнаяЛолита42». Даже не знаю, девчонки ли это были, просто мне было одиноко, да еще хотелось понять, что к чему, чтобы к тому времени, когда начну шпилиться с кем-то, знать, что делать.
Все осложнялось тем, что, с какой бы девочкой я ни болтал онлайн, когда дело доходило до финала, я стремглав бежал в ванную и, упав на колени перед унитазом, в самые последние секунды всегда представлял себе Ниа.
Занятия еще не начались, а нам уже дали безумно длинный список для летнего чтения, включая «У подножия вулкана» и «Дэвида Копперфильда». Я честно пытался прочесть эти книги, но оказалось, это совсем не то, что зубрить карточки. На одну книгу уходило несколько дней! Мама читала все, что прислали из Академии, и сказала, что они там в числе прочего хотят воспитать из нас «широко развитых, разносторонне образованных носителей идей будущего», поэтому к английскому мне следует готовиться так же серьезно, как к математике. Хорошо устроились авторы этих книг: умерли, а все равно продолжали красть мое время. Кем они себя возомнили? Я предпочитал прохлаждаться у Аарона или сидеть в своей комнате, шариться в интернете, а потом бежать в ванную, чтобы спустить воду, сделать несколько ритмичных движений – и так по новой. В итоге ни одну книгу из списка для летнего чтения я не дочитал.
Когда же начались занятия, выяснилось, что лучше бы я их читал: в первый же день нам раздали тесты на тему прочитанного. Я получил 70 баллов – небывалое для меня дело. Где вообще пишут число 70? Нет банкноты в 70 баксов, нет никакой причины выписывать счет в 70 долларов. Короче, я смотрел на это 70, как будто оно у меня что-то украло.
Аарон (мы оказались в разных классах) получил за тест по летнему чтению 100 баллов. Он читал книги в Европе, куда ездил на летние каникулы, потому что романы его отца были там очень популярны. Аарон не только загорел и набрался новых знаний и впечатлений – он вернулся с кучей историй о европейках, с которыми шпилился. Он сказал, что они с Ниа это обсудили и она нисколько не возражает против других девушек. По его словам, он усиленно работал над превращением Ниа в согласную на все извращенку.
Теперь, когда мы тусили вместе, я уже не болтал как тогда, в первую ночь, на вечеринке. Я просто слушал и офигевал, всеми силами пытался контролировать нижнюю часть тела, если Ниа была рядом, одновременно сохраняя в памяти отдельные стоп-кадры с ее участием для вечернего просмотра.
Учиться в Подготовительной академии управления оказалось далеко не просто.
Все учителя заверяли, что на подготовку домашних заданий будет уходить не менее четырех часов в день, но я так не думал – уж раз я поступил в эту школу, значит, смогу справиться со всем, что бы они там ни придумали, так ведь?
Мало мне было этого списка для чтения, так в первом триместре начался предмет под названием «Знакомство с Уолл-стрит», для которого нужно было каждый день покупать New York Times и Wall Street Journal. Оказалось, что летом их тоже надо было покупать – это значилось в какой-то брошюре, которую я не получил по почте. Требовалось сделать подборку новостных статей и показать, как они повлияли на биржевые курсы, для этого мне нужны были старые номера. Брать информацию из интернета запрещалось: учитель отправил меня в библиотеку читать микрофиши, а это все равно что читать Конституцию США на почтовой марке. И пока я две недели таскался в библиотеку, вышла куча новых газет, еще на две недели чтения. Газеты были такими толстенными, что я диву давался, сколько всего происходит каждый день! Как мне было прочитать это все? Стопка газет в моей комнате росла с каждым днем, и, глядя на нее по приходе из школы, я был уверен, что управлюсь с ними в два счета – вот просто возьму, открою первую и проработаю все до единой, и задание выполнено.
Но вместо этого я ложился на кровать и ждал звонка от Аарона.
Примерно тогда я и начал называть это Щупальцами. Щупалец была целая тьма. Нужно было отрубить хоть какие-то из них, но у меня ничего не получалось – они были очень сильными и обвивались слишком крепко. Чтобы их отрезать, пришлось бы признать, как ни безумно это звучит, что я не подготовлен к новой школе.
Остальные ребята были гениями. Я-то думал, что 800 баллов за экзамен – это круче некуда, а оказалось, что у всех поступивших по 800 баллов. И еще выяснилось, что как раз в год моего поступления тест был «битый», то есть его слегка скорректировали и сделали менее стандартным, чтобы по возможности отсечь претендентов вроде меня.
Ребята из Уругвая и Южной Кореи, которые совсем недавно выучили английский, и те получили бонусные баллы за подборку последних новостей для курса «Знакомство с Уолл-стрит», потому что дополнительно читали новостные выпуски Barron’s и Crain’s Business Daily. У нас были первогодки, выбравшие в качестве основного предмета матанализ, в то время как я застрял на том разделе высшей математики, который шел сразу за алгеброй и который наш учитель в первый же день назвал «наипростейшим», прибавив, что меньше 100 баллов за контрольную по нему получать просто странно. Я получил 85 и недовольный взгляд учителя.
А ведь были еще и внешкольные занятия. Другие ученики успевали все: состояли в ученическом совете, занимались спортом, работали волонтерами, делали школьную газету, посещали школьный киноклуб, а также литературный и шахматный заодно, участвовали в общенациональном состязании по сооружению роботов из медицинских шпателей, помогали учителям после школы, ходили на курсы в местный универ и на дни открытых дверей. У меня же не было ничего, кроме школы и занятий по тай-бо, где я не особенно-то и блистал. В секции надо мной посмеивались, нарочно поддавались на поединках и копировали мои «не самые образцовые» отжимания, а тренер знал, что мне это не по душе, но ничего не делал. Вот я и бросил. Это было единственное Щупальце, которое я смог обрубить.
Почему другие ребята успевали лучше меня? Потому что они и были лучше. Я сознавал это каждый раз, когда зависал в интернете или ехал на метро к Аарону. Одни не курили и не дрочили, а другие просто были одарены свыше – для них эта гонка жизни была парой пустяков. Я не был одарен. Не был талантлив. Мама ошиблась. Просто я кое в чем соображал и усердно учился. Я обманул самого себя, поверив, будто в мире это имеет значение. И никто не раскрыл мне глаза на эту ложь, не сказал, что я самый обыкновенный.
Нет, конечно, все было не так уж и ужасно – как-никак я набрал 93 балла. Родители были вполне довольны. Но дело в том, что в реальности 93 балла являлись дерьмовой оценкой, и в университетах все прекрасно знали, что это означает: 90 баллов – предел твоих способностей. Твой уровень ниже среднего. Таких, как ты, пруд пруди. Ты никогда не поднимешься на вершину, раз ты уже сейчас не способен ни на какие внеклассные занятия. Конечно, в будущем можно подтянуться по оценкам, но 93 балла за первый год всегда будут тащить вниз.
В декабре, после трех месяцев учебы в Подготовительной академии, меня первый раз вырвало на нервной почве. Это случилось в ресторане, где мы ужинали с родителями, я ел стейк из тунца со шпинатом. Мы пришли в это заведение, чтобы отпраздновать начало каникул и пообщаться. Мама с папой ничего не подозревали. Я сидел за столом, смотрел на еду и думал о поджидающих меня дома Щупальцах, тогда-то в моем желудке и появился этот маленький человечек и заявил, что я не съем ни куска и лучше мне смириться с этим прямо сейчас, а то пожалею.
– Как там у тебя с биологией? – спросила мама.
Биология была адом. Надо было заучивать наизусть бесконечные названия гормонов и всего, за что они отвечают, а у меня даже времени не было изготовить карточки для запоминания, потому что все оно уходило на вырезание газетных заметок.
– Отлично.
– А как «Знакомство с Уолл-стрит»? – спросил папа.
К нам на урок приходил тип из «Беар Стернс»[11] – тощий, лысый, с золотыми часами на запястье. Он сказал, что если мы собираемся в будущем заниматься финансовой деятельностью, то придется впахивать и соображать быстрее, потому что уже сейчас компьютеры способны принимать инвестиционные решения, а в будущем программы окажутся повсюду. Он спросил, кто из нас ходит на информатику, и руки поднял весь класс, кроме меня и одной девочки, которая не говорила по-английски.
– Отлично, великолепно, – сказал тот тип. – А вы двое останетесь без работы, ха-ха-ха. Учите информатику!
«Пожалуйста, пусть я умру прямо сейчас», – пробормотал я про себя, не в силах справиться с тем сумбуром, который все заполнял и заполнял мою голову. Тогда я еще не знал, что так начинается Зацикливание, впрочем, в тот раз оно было не такое уж сильное.
– «Уолл-стрит» – отлично, – ответил я отцу, сидевшему напротив.
Ресторан, где мы сидели, находился в Бруклине и упоминался в статье Times, которую я недавно прочитал для проекта. Я понимал, что он нам не по средствам, поэтому закуску не стал заказывать.
Тунец и шпинат бурлили в желудке. Я напрягся всем телом. Зачем я тут сижу? Почему не занимаюсь какими-нибудь уроками?
– В чем дело, солдат?
– Я не могу это съесть, хоть и знаю, что должен смочь.
– Живо ешь. Через «не могу»!
– Я не могу!
– А знаешь почему?
– Почему?
– Потому что попусту тратишь время, солдат! Потому что армия США не для кастрюлеголовых! Ты целыми днями торчишь в доме своего сексуально озабоченного дружка, а когда возвращаешься оттуда, то уже не способен заниматься тем, чем должен!
– Я знаю, знаю. Только не понимаю, как у меня получается быть таким амбициозным и таким ленивым одновременно.
– А я скажу тебе как, солдат. Это потому, что никакой ты не амбициозный. Ты просто ленивый.
– Мне нужно выйти, – сказал я родителям и понесся через зал таким быстрым-быстрым шагом человека, которого вот-вот вывернет, – в последующий год я отточил эту походку до совершенства. И вот я влетел в хромированную уборную, и меня вырвало в унитаз. Потом сел, выключил свет и помочился. Вставать не хотелось. Да что со мной такое? Где я напортачил? Хватит курить травку! Хватит зависать у Аарона! Я должен стать машиной.
Я не выходил из кабинки до тех пор, пока кто-то не постучал в дверь.
Вернувшись за стол, я сказал:
– Мне кажется, что у меня, наверное, это… депрессия.
Двенадцать
Моим первым врачом был доктор Барни – толстенький коротышка с бесстрастным морщинистым лицом серьезного гнома.
– На что жалуешься?
Он откинулся на спинку серого стульчика. Вопрос был довольно казенный, но доктор задал его так мягко и участливо, что я проникся к нему доверием.
– Мне кажется, у меня серьезная депрессия.
– Так-так.
– Все началось осенью.
– Понятно. – Он черканул какие-то пометки в блокноте. Тут же на столе стояла кружка с надписью «Зипрекса», я подумал, что более безумного медицинского названия я в жизни не слышал. (Потом оказалось, что это лекарство для психов; может, какой-то пациент называл своего доктора «Зипрексой», так и придумали это название?) В кабинете доктора Барни все было фирменное: клейкие листочки для заметок с надписью «Паксил», ручки «Прозак» и даже настольный календарь со словом «Золофт» на каждой странице.
– Я поступил в такую школу, о которой мечтает каждый. Вроде бы – живи да радуйся, – продолжал я, – но я, наоборот, начал психовать и с тех пор чувствую себя все хуже и хуже.
– Так-так. Вижу, ты заполнил анкету.
– Да.
Я держал в руках анкету, которую мне дали в приемной. Это был стандартный опросник, который выдают всем, кто пришел в первый раз в Центр психического здоровья, расположенный одном из центральных зданий Бруклина. Анкета, призванная оценить мое психическое состояние, состояла из кучи вопросов по поводу эмоций, которые пациент испытывал за последние две недели, c четырьмя окошками для ответа на каждый. Например: «Вы чувствуете отчаяние и беспомощность. У вас проблемы с аппетитом. Вам сложно справляться с повседневной рутиной». Под каждым пунктом нужно было выбрать один из ответов: 1) никогда, 2) иногда, 3) почти каждый день, 4) постоянно.
Я заполнил анкету, практически везде выбрав третий или четвертый варианты.
– Эту анкету будешь заполнять в каждый приход, чтобы мы могли отслеживать твое состояние, – продолжал доктор Барни. – А сейчас мы обсудим один из твоих ответов, который меня особенно беспокоит.
– Да?
– Под пунктом «У вас возникает желание покончить жизнь самоубийством или причинить себе вред» ты отметил третий вариант: «почти каждый день».
– Ну да, только вред я себе причинять не хочу. Не собираюсь я себя резать или еще какой-то ерундой заниматься. Если я захочу это сделать, то просто сделаю.
– Покончишь с собой.
Произнесенное вслух, это прозвучало довольно странно.
– Да.
– У тебя есть какой-то план?
– Бруклинский мост.
– То есть ты прыгнул бы с Бруклинского моста.
Я кивнул.
– Я там уже бывал.
– И как давно ты испытываешь это желание, Крэйг?
– В основном с прошлого года.
– А до этого?
– Ну… это у меня несколько лет уже. Просто раньше не лезло в голову так настойчиво. Я думал, что такие мысли… ну, как бы это сказать… часть взросления, что ли.
– Мысли о самоубийстве?
Я кивнул.
Доктор Барни внимательно посмотрел на меня, поджав сморщенные губы. Почему он так серьезно к этому отнесся? Разве кто-то в детстве не думал о самоубийстве? Как вообще можно расти и взрослеть в нашем мире, ни разу об этом не задумавшись? В конце концов, так поступили многие из вполне успешных людей: Эрнест Хемингуэй, Сократ, Иисус. Даже до поступления в Академию я думал, что будет круто отмочить такой номер, если когда-нибудь стану по-настоящему знаменитым. Например, продолжу делать свои карты, однажды они попадутся на глаза какому-нибудь ценителю искусства, который решит раскрутить их и продавать за сотни тысяч долларов, и вот если я покончу с собой на пике популярности, то мои карты взлетят в цене до миллионов долларов и даже без моего участия. Тогда после меня осталось бы что-то, что говорит само за себя, как Бруклинский мост.
– Я думал… Я представлял, что до совершения самоубийства ты как бы и не живешь по-настоящему, – сказал я. – Я думал, что было бы здорово иметь такую кнопку перезагрузки, как в видеоиграх: если не можешь найти другой путь, нажал ее – и начинай все сначала.
– Похоже, ты уже давно сражаешься со своей депрессией, Крэйг, – сказал доктор Барни.
Я осекся. Нет, я не… Да, так и есть.
Доктор Барни помолчал немного и сказал:
– У тебя уплощенный аффект.
– Что это?
– Ты довольно отстраненно об этом рассказываешь.
– Ну да. Просто все это так сложно.
– Понимаю. Давай поговорим о твоей семье.
– Ну, мама разрабатывает макеты открыток, а отец работает в системе медицинского страхования.
– Они живут вместе?
– Да.
– У тебя есть братья или сестры?
– Младшая сестра, ее зовут Сара. Она обо мне беспокоится.
– В чем это выражается?
– Ну, она всегда спрашивает, хорошо мне или плохо, а когда я говорю, что плохо, она говорит что-то вроде: «Крэйг, пожалуйста, постарайся поправиться! Ведь все так переживают и стараются». Мне прямо душу разрывает от ее слов.
– Но она заботится о тебе.
– Ну да.
– Твои родные поддерживают тебя?
– Когда я рассказал все родителям, они не стали откладывать. Они сказали, что у меня химический дисбаланс и если мне подберут правильное лекарство, то я быстро поправлюсь.
Я окинул взглядом кабинет, пестревший названиями этих правильных лекарств. Если мне выпишут рецепт на каждое средство, которое прорекламировано у доктора Барни, я буду каждое утро, как старикан, тщательно пересчитывать свои таблетки.
– Ты учишься в старших классах, верно?
– Да.
– А твоя сестра?
– Она в четвертом.
– Чтобы мы могли тебе помочь, твоим родителям придется подписать множество разрешений…
– Они подпишут и сделают все, чтобы мне стало лучше.
– «Благоприятная семейная обстановка», – накорябал доктор Барни у себя в блокноте. Потом повернулся ко мне и выдал свою версию улыбки, в которой читалось снисходительное одобрение: уголки губ чуть приподняты, нижняя губа слегка выдвинута вперед.
– Что ж, Крэйг, я помогу тебе с этим справиться. А теперь мне хотелось бы услышать твое мнение. Как ты думаешь, в чем причина твоей депрессии?
– Я не справляюсь с учебой в школе, – ответил я. – Там все умнее меня в разы.
– Как называется твоя школа?
– Подготовительная академия управления.
– Понятно. Я о ней слышал. На дом задают порядочно.
– Ага. Когда я прихожу домой после занятий, то понимаю, что надо делать уроки, но тут у меня в голове начинается Зацикливание.
– Зацикливание?
– Одни и те же мысли ходят по кругу без перерыва, как будто гоняются друг за другом, в бесконечном цикле.
– Это мысли о самоубийстве?
– Нет, просто мысли о том, что мне нужно сделать. О домашних заданиях. Эти мысли начинают забивать мой мозг, я смотрю на домашку и думаю: «Я точно не смогу ее сделать», и тогда этот цикл заканчивается, и начинается новый. Я думаю: «Надо больше заниматься внеклассной работой, ведь сейчас я вообще ничем не занимаюсь, а надо бы», дальше и эти мысли уходят, и на их место приходят такие: «В какой университет ты собираешься поступать, Крэйг?» – и страшнее вопроса не придумать, потому что я никогда не поступлю в хороший универ.
– Какой университет ты считаешь хорошим?
– Гарвард или Йель, какой же еще?
– Понятно.
– И вот эти мысли все крутятся и крутятся, и тогда я ложусь на кровать и отдаюсь им полностью. Обычно я не лежу просто так средь бела дня, всегда что-то делаю, но, когда начинается Зацикливание, я могу целыми часами лежать и смотреть в потолок: время тогда течет медленно и одновременно очень быстро. А потом раз! – и уже полночь, и нужно ложиться спать, потому что, как бы меня ни колбасило, наутро я должен быть в школе. И никто не должен узнать, что со мной происходит.
– У тебя есть сложности с засыпанием?
– Не всегда. Но когда бывают, то это кошмар. Я лежу и думаю, что я полное ничтожество, что у меня ничегошеньки не получается и, кроме как стать бездомным, мне ничего не светит – я не удержусь ни на одной работе, потому что все вокруг гораздо умнее меня.
– Так уж и все, Крэйг? Далеко не все такие же умные, как ты.
– Ну, эти не считаются, я на них и не равняюсь! Зато есть куча народу поумнее меня, и вот они-то запросто обставят меня в любом деле. Например, Аарон, мой друг…
– Кто это?
– Мой лучший друг. У него есть девушка, мы с ней тоже друзья.
– Какие у тебя с ней отношения?
– Да не очень… Типа так себе.
– Так-так… – Доктор Барни снова черканул что-то в блокноте.
– В общем… – Я попытался изложить покороче. Я соврал этому доктору, но мы с ним вполне понимали друг друга. – Дело в том, что я никогда не смогу вести стабильную жизнь.
– Стабильную жизнь?
– Ну да. Когда у тебя нормальная работа, нормальный дом и все такое.
– А семья?
– Само собой! Это обязательно. О каком успехе речь, если у тебя нет семьи?
– Так-так.
– Для такого будущего нужно что-то делать уже сейчас, а я не могу, потому что моя голова занята Зацикливанием. Самое главное – я понимаю, я знаю, что все эти мысли мне только мешают, и я говорю себе: «Перестань!».
– Но перестать не можешь.
– Не могу.
– Что ж, – доктор Барни постучал по блокноту ручкой с наклейкой «Прозак», – по крайней мере, ты понимаешь, что эти мысли тебе мешают, и хотел бы от них избавиться. Это хороший признак.
– Ну да.
– Ты когда-нибудь слышал голоса?
Ну вот, приехали. Подобрались к главному, так сказать. Этот доктор Барни весь такой белый и пушистый на вид, но я сразу смекнул, что стоит ему достать смирительную рубашку, как он мигом уговорит тебя в нее закутаться и тут же проводит в чудесную комнату со всеми удобствами: мягкими стенами и кушеткой, где я буду сидеть, уставившись в зеркало одностороннего видения, и рассказывать, что я Скрудж Макдак. (Кстати, как эти зеркала вообще делают?) Я знал, что у меня серьезные проблемы, но знал и то, что я не сумасшедший. Не шизик. Я не слышал голоса. То есть один голос я слышал – голос военного, но это был мой же голос, это я так пытался себя подстегнуть. Нет, в психушку я точно не собирался.
– Никогда, – ответил я. Строго говоря, я соврал. Снова.
– Крэйг, ты знаешь что-нибудь о химических процессах, происходящих в мозгу?
Я кивнул, я же листал когда-то учебник биологии.
– Ты знаешь, как выглядит механизм депрессии?
– Ага. – Это было просто. – В мозгу есть такие активные вещества, которые переносят послания от одной клетки к другой. Они называются нейротрансмиттеры. Один из них – серотонин.
– Прекрасно, продолжай.
– Так вот, ученые считают, что серотонин – это нейротрансмиттер, ответственный за развитие депрессии… Она начинается тогда, когда серотонина мало.
Доктор Барни кивнул, а я продолжил:
– После того как серотонин передает послание от одной клетки мозга к другой, он всасывается обратно в первую клетку для дальнейшего использования. Проблема в том, что иногда клетки слишком хорошо сосут, – тут я не удержался и хихикнул, – так что для передачи посланий серотонина уже не хватает. Есть специальные лекарства, они называются селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, которые не позволяют клеткам поглощать слишком много серотонина, чтобы его больше оставалось для работы самого мозга. И человек начинает чувствовать себя лучше.
– Великолепно, Крэйг! Ты очень много знаешь. Мы подберем тебе лекарства, которые именно так и должны подействовать.
– Круто.
– Сейчас я выпишу тебе рецепт. А пока у тебя есть какие-нибудь вопросы?
Конечно, у меня были вопросы. Доктор Барни в своих блестящих очках и с красивым золотым кольцом на пальце выглядел вполне довольным жизнью.
– Как вы начали работать в этом деле? – спросил я. – Мне всегда было интересно, как люди начинают.
Он чуть наклонился вперед, так что живот схоронился в тени. Лицо у него было суровое, с густыми седыми бровями.
– После университета я пережил серьезные проблемы и понял, что физические страдания – ничто в сравнении с душевными муками, – сказал доктор Барни. – Когда я заново привел себя в порядок, то решил помогать другим людям.
– Вы привели себя в порядок?
– Да.
– Что у вас было?
Он вздохнул.
– То же, что у тебя.
– Да ну?
– Точь-в-точь.
Я весь подался вперед, так что наши лица оказались сантиметрах в десяти друг от друга.
– И как вы это вылечили? – чуть дыша спросил я.
Уголок его рта чуть приподнялся в ухмылке:
– Так же, как это сделаешь ты. Самостоятельно.
Что? Разве это ответ? Я сердито уставился на доктора. Я-то думал, мне тут помогут! Да если бы я хотел все исправить самостоятельно, я бы поехал в автобусный тур по Мексике…
– Сначала будешь принимать «Золофт», – сказал доктор Барни.
Ага, так, значит?
– Это отличный препарат, многим людям он помогает. Это антидепрессант из группы СИОЗС, он влияет на уровень серотонина так, как ты и описал. Но сразу эффекта не жди, понадобится несколько недель, чтобы препарат накопился и заработал.
– Несколько недель?
– Ну да, недели три-четыре.
– А нет какой-то быстродействующей версии?
– «Золофт» принимают один раз в день, вместе с едой. Начнем с пятидесяти миллиграммов. От таблеток может появиться сонливость, но это единственный побочный эффект, если не считать влияния на сексуальную сферу.
Тут доктор Барни поднял на меня глаза от своего блокнота:
– Ты живешь половой жизнью?
Три «ха-ха» четыре раза.
– Нет.
– Понятно. И, Крэйг, думаю, тебе не повредило бы встречаться с кем-нибудь.
– Я знаю! Думаете, я не пытался? Беда в том, что я совсем не умею разговаривать с девушками.
– С девушками? Нет, Крэйг, я имею в виду психотерапевта. Тебе следует посещать психолога.
– А вы тогда кто?
– Я – психофармаколог. Отвечаю за подбор лекарств. Я выпишу тебе направление к психотерапевту.
Вот облом.
– Ладно.
– Давай-ка выберем кого-нибудь.
Он открыл что-то вроде адресной книги и начал зачитывать мне имена и адреса, как будто для меня они чем-то отличались друг от друга: доктор Абрамс в Бруклине, доктор Филдстоун на Манхэттене, доктор Бок на Манхэттене… Мне понравилось, как звучит «доктор Бок», к нему меня и записали – хотя я до него так и не дошел, потому что надо было делать задание по истории. Мне было так стыдно, что я не позвонил и не отменил визит, что больше к этому доктору Боку я не записывался. Позже, когда я снова пришел к доктору Барни, мы выбрали мне другого психотерапевта, потом еще одного и еще. Были среди них и та маленькая старушка, которая интересовалась, подвергался ли я сексуальному насилию, и одна красивая рыжеволосая дама, которая спрашивала, почему у меня так много проблем с женщинами, был также мужчина с закрученными вверх усами, предлагавший попробовать гипноз. Я вроде как на свидания ходил, с той разницей, что ни с кем не целовался, да еще и с парнями встречался, как бисексуал.
– Я хотел бы беседовать с вами, – сказал я доктору Барни.
– Ко мне ты будешь приходить раз в месяц, и я буду оценивать, как действует лекарство.
– А терапией вы не занимаетесь?
– Крэйг, другие доктора – отличные специалисты. Они тебе помогут.
Доктор Барни встал – ростом он был метра полтора – и пожал мне руку своей мягкой, мясистой ладонью. Затем вручил рецепт на «Золофт» и велел принимать его не откладывая, что я и сделал, даже до того, как спустился в метро и поехал домой.
Тринадцать
«Золофт» подействовал быстрее, чем через несколько недель, – буквально в первый же день, как я его принял. Не знаю, как это зелье сработало, но я вдруг почувствовал, что у меня все хорошо: черт, я – всего лишь пацан, который был загружен делами под завязку, хлебнул дерьма, но и научился кое-чему. Таблетки должны были вернуть мне прежнего меня: работоспособного, ловкого парня, готового взяться за любое дело. Я снова начну заговаривать с девчонками, скажу, что был не в себе, что проблем хватало, но я справился, а они посчитают меня крутым и захотят, чтобы я им позвонил.
Скорее всего, это был эффект плацебо, но зато какой! Если так сработал всего лишь эффект плацебо, то им и нужно лечить депрессию. Может, они так и делают, а «Золофт» – это крахмал. Мой мозг сказал: «Я вернулся», – и я понял, что все позади.
Так я впервые узнал, что такое Ложный Сдвиг.
Та еще подлянка: ты без проблем пишешь контрольную, можешь рассмешить девчонку, а после общения в сети у тебя прямо закипает внизу живота, и ты скорее бежишь в ванную. Думаешь: «Ну все, проблема решена». И от этого еще хуже, потому что наутро все возвращается с новой силой, и ты понимаешь, кто тут главный.
– У меня все супер! – сказал я маме, войдя в дом.
– Что сказал доктор?
– Прописал мне «Золофт». – Я показал флакончик с лекарством.
– Да? У меня на работе многие его принимают.
– И оно действует!
– Успокойся, милый. Так быстро подействовать оно не может.
«Золофт» я принимал каждый день. Иногда просыпался по утрам, вставал с кровати и шел чистить зубы, как все нормальные люди; в другие дни просыпался, лежал, пялился в потолок и никак не мог выдумать, за каким таким чертом мне выбираться из кровати и идти чистить зубы, как все нормальные люди. Но все равно принимал я его исправно. И больше одной никогда не пил, не такое это было лекарство. Ты пьешь его – и ничего не чувствуешь, но после месяца приема (как и ожидалось) лекарство стало чем-то вроде спасательного круга, который держал меня на плаву в самые хреновые моменты. Как только начиналось Зацикливание, в моей голове загоралась кнопка хороших мыслей, я мог ее нажать и начать думать о семье, сестре, друзьях, онлайн-общении, любимых учителях – это были Якоря.
Я даже стал больше общаться с Сарой. Она такая смышленая, уж точно поумнее, чем я. С такой проблемой, как у меня, она справилась бы в два счета, без всяких там докторов. А вот с математикой у нее не складывалось: задачки для четвероклассников ставили ее в тупик, и я помогал ей с домашкой. Пока она пыхтела над заданиями, я машинально черкал на полях решетки или спиральки. Карты я больше не рисовал.
– Как круто, Крэйг, – хвалила она мои каракули.
– Спасибо.
– Почему ты больше не рисуешь?
– Нет времени.
– Что за бред. Всегда можно найти время.
– Ага, конечно.
– Так и есть. Распределение времени – параметр, зависящий от человека.
– Правда, что ли? Кто тебе это сказал?
– Я сама додумалась.
– Я не согласен. Мы все зависим от времени, это оно управляет нами.
– Я распоряжаюсь временем как хочу – значит, я им управляю.
– Из тебя вышел бы хороший философ, Сара.
– Ну вот еще! Что это? Какой-то дизайн комнаты?
Я снова начал есть: кофейный йогурт шел первым, потом – рогалики и цыпленок. А вот со сном было не очень: два шага вперед, шаг назад. (Это вообще золотое правило психологии: мозгоправы говорят, что буквально все в жизни подчинено принципу «два шага вперед, шаг назад». Даже если вы, скажем, напьетесь растворителя и сиганете с крыши, мозгоправы скажут, что это просто шаг назад.) В какие-то ночи я не мог заснуть, а потом спал две ночи подряд как младенец. Мне даже сны снились: в них я летал, мне снилась Ниа, как я встретил ее в автобусе, мы разговаривали несколько остановок, я смотрел на нее. (Жаль, что не занимались сексом.) Еще снилось, как я прыгаю с моста и приземляюсь на гигантский пушистый игральный кубик, скачу через Гудзон от Манхэттена к Нью-Джерси, смеюсь и оглядываюсь – на какие номера я приземлился.
Хреново было, когда заснуть не получалось. Тогда я начинал раздумывать: про то, что у моих родителей негусто с деньгами, они не смогут давать мне много, наверное, и сестре на универ не насобирают; что надо делать доклад по истории и как так вышло, что я не сходил в библиотеку; электронную почту я не проверяю уже несколько дней – вдруг там что-то важное? Почему я так трясусь из-за почты? Подушка вроде не горячая, а я почему-то потею. Как вообще можно целыми днями курить травку и дрочить? На этот счет я выработал правило: в день передергивания никакой травки, а в день, когда накуриваешься, – не дрочить, потому как оба этих занятия, случись они в один и тот же день, откатывают меня на целых три шага назад.
У меня наметилось что-то вроде фаз. Недели три все было зашибись, лучше некуда. Я был на пике активности, даже лучше, чем раньше. Не то чтобы я как-то особо блистал, не подумайте: никто, увидев меня в школе, не указывал в мою сторону, дескать, «смотрите, это же Крэйг Гилнер, наверняка что-то задумал». Все проходили мимо, глядели сквозь меня – «Смотрите, что там за объявление, вон за тем парнем, собрание клуба аниме или что?» Важно было другое – вместо того чтобы лежать дома в кровати, я все-таки пришел в школу.
А потом становилось хуже. Обычно это случалось после «сеансов охлаждения» у Аарона, в те времена, когда мы накуривались вусмерть и смотрели по-настоящему дрянные фильмы, вроде тех с Уиллом Смитом, где реклама на упаковках так и бросалась в глаза, а сценарий не отличался особой гениальностью. Я просыпался на диване у Аарона в гостиной (я спал там, когда они с Ниа были в его комнате) и хотел сдохнуть. Я чувствовал себя потерянным, меня словно выжгли изнутри, я осознавал, что трачу время впустую, что распыляю энергию, калеча тело и душу. Надо было идти домой, делать домашку, но меня не хватало даже на то, чтобы дотащиться до метро. Я все собирался встать, но оставался полежать еще немного, потом еще немного. И еще. Обычно Аарон уже вставал, и я шел отлить, потом через силу пытался с ним общаться, заталкивал в себя завтрак, в общем, тянул время. Ниа спрашивала:
– Все в порядке, чувак?
И однажды субботним утром я ответил, что не все в порядке.
– Что случилось?
Я вздохнул.
– У меня уже год серьезная депрессия. Таблетки принимаю.
– Боже мой, Крэйг! Бедненький! – Она подошла и обняла меня, плотно прижавшись миниатюрным телом. – Я знаю, каково это.
– Знаешь?
Я обнял ее в ответ. Вообще-то я не неженка, просто я так выгляжу. Я из тех, кто любит обниматься. Пошловато, сознаю, но я держал ее в объятиях сколько мог и отпустил чуть раньше неловкой паузы.
– Ага, я принимаю «Прозак».
– Вот ни фига себе! – Я разжал руки и отодвинулся. – Почему ты не сказала?
– Надо было сказать! Мы с тобой вроде как кореша по болезни!
– Мы с тобой – круче некуда! – оживился я.
– На чем ты?
– Я на «Золофте».
– «Золофт» для слабаков. – Она показала язык. Да, точно, у нее был пирсинг в виде колечка. – У кого реальные проблемы, сидят на «Прозаке».
– Ты ходишь к психотерапевту?
Я хотел сказать «к мозгоправу», но вслух такое говорить странновато.
– Два раза в неделю!
– Блин, да что с нами такое?
– Без понятия. – И она принялась пританцовывать. Без музыки. Если Ниа хотела танцевать, она так и делала. – Мы просто из поколения психованных американских детишек, постоянно сидящих на антидепрессантах.
– Не согласен. Мы не более психованные, чем все, кто жил до нас.
– Вдумайся, Крэйг: восемь из десяти моих знакомых принимают антидепрессанты. Из-за депрессии или еще чего.
Я знал, что так и есть, но мне не нравилось об этом думать. Может, это глупо и эгоистично, но мне нравилось думать о себе. Быть всего лишь частью какой-то массы, двигавшейся в одном направлении, мне не улыбалось. Я впадал в депрессию не ради моды.
– Может, им это не так уж и нужно, – сказал я, – а мне без таблеток никуда.
– Думаешь, ты какой-то особенный?
– Ну не то чтобы особенный… Просто это касается лично меня.
– Ладно, Крэйг. – Она перестала танцевать. – Замяли тему.
– Что?
– Капец! Ты хоть понимаешь, почему ты съехал с катушек? Ты же не умеешь нормально общаться с людьми.
– Это не так.
– Да я только что тебе сказала, что у меня та же проблема…
– Может, у тебя что-то другое.
Что у нее было, я понятия не имел, возможно, даже маниакально-депрессивное расстройство. Это гораздо круче простой депрессии, потому что в тебе вроде как есть что-то от маньяка. Я читал, что такие больные отжигают по полной. Это было нечестно.
– Ну вот, видишь? Про это я и говорю – ты сам возводишь вокруг себя стену.
– Какую стену?
– Кто знает о том, что у тебя депрессия, кому ты сказал?
– Маме, папе, сестре. Врачи тоже в курсе.
– Аарон знает?
– Ему это знать ни к чему. А ты кому сказала?
– Как это «ни к чему»? Он же твой лучший друг!
Я уставился на нее.
– У Аарона тоже проблем хватает, Крэйг.
Ниа подсела поближе.
– Я думаю, ему таблетки тоже не помешали бы, но он отказывается это признавать. Может, хоть тебя послушает.
– А ты ему сказала?
– Нет.
– Вот видишь? Ладно, проехали, все равно мы хорошо понимаем друг друга.
– Кто? Мы с тобой? Или вы с Аароном?
– Может быть, все мы.
– Не думаю. Но я рада, что вы мои друзья. Если тебе будет хреново, можешь мне звонить.
– Спасибо. Но у меня нет твоего нового номера.
– Вот, запиши.
И она дала мне его – магический номер. Я занес его в телефон вместе с ее именем, записанным капс-локом. Я подумал: «Эта девушка – мое спасение». Психотерапевты вещали, что, прежде чем встретить кого-то, с кем ты будешь счастлив, нужно научиться быть счастливым самому по себе. А мне казалось, что если бы Аарон исчез с лица земли и Ниа была бы только моя, счастливее меня не было бы на свете. Я бы всю ночь держал ее в объятиях и овевал своим дыханием. Мы оба были бы счастливы.
Мне было так плохо, что я лежал дома на диване, пил воду, потел в грелку и никак не мог согреться. Родители кружили около. Хотелось позвонить друзьям и сказать: «Что-то моя депрессия сегодня расшалилась, я не приду», но у меня никогда не было на это сил. А то была бы ржака. Через несколько дней я вставал с дивана и превращался в Крэйга, который не ищет оправданий. Тогда я звонил Ниа и говорил: «Мне лучше». «Мне тоже хорошо», – отвечала она. Похоже, мы оказались на одной волне. Я просил ее не дразнить меня, а она улыбалась в трубку и говорила: «Но у меня так хорошо получается».
В марте я обнаружил, что в баночке осталось восемь таблеток, и я начал подумывать, что «Золофт» мне больше ни к чему.
Мне определенно было лучше. Ну ладно, не лучше, но чувствовал я себя вполне сносно – странноватое ощущение, словно голова полегчала. Я подтянулся в учебе. Начал ходить к доктору Минерве – шестому психотерапевту из списка доктора Барни, – и она меня вполне устраивала: спокойная тетка, без закидонов, вникающая в мои проблемы. 93 балла за первый курс по-прежнему были со мной, но, блин, не всем же быть гениями.
Чего такого особенного со мной было, чтобы сидеть на пилюлях? Ну, психанул слегка из-за неприятностей, просто не привык еще к нагрузке. В новой школе всем тяжело. Может, я и в тот раз зря пошел к врачу. Из-за чего, собственно, я всполошился? Ну, блеванул пару раз, делов-то. Сейчас с этим порядок. Конечно, бывают дни, когда в меня не лезет еда, но мама говорила, что в библейские времена посту придавали большое значение. Раньше все верующие постились. И вообще, американцы уже так разжирели: думаете, мне улыбалось умножать ряды толстяков?
Короче, когда пузырек с «Золофтом» опустел, я не пошел за очередной порцией в аптеку и доктору Барни звонить не стал. Я выбросил пустой пузырек и пообещал себе: «Ладно, если снова станет хуже, я просто буду вспоминать ту ночь на Бруклинском мосту, когда мне было так классно». С пилюлями покончено, они для слабаков. Мне это больше ни к чему. Я снова был собой.
Однако же все вернулось на круги своя, детка, и два месяца спустя я стоял на коленях в темной ванной возле унитаза.
Часть третья Бум
Четырнадцать
Родители слушают, как я выблевываю только что съеденный обед. Минуту назад я сидел с ними и ел, а теперь я в ванной, смотрю на дверь. Слышно, как отец дожевывает откушенный кусок, потом встает из-за стола.
– Нам позвонить кому-то, Крэйг? – спрашивает мама. – Тебе совсем плохо?
– Нет, – говорю я, поднимаясь с пола, – мне кажется, я в порядке.
– Говорил я твоей матери не готовить больше эту тыкву, – шутит отец.
– Ах вон оно что! – говорю я, докарабкиваясь до мойки, где полощу рот водой и хорошенько умываюсь.
Родители налетают с расспросами:
– Давай позвоним доктору Барни?
– Позвонить доктору Минерве?
– Хочешь чаю?
– Чаю? Парню нужна вода, а не чай. Хочешь воды?
Я выключаю свет в ванной комнате…
– Даже свет выключил! Крэйг, что с тобой? Ты спал сегодня?
Я смотрю на свое отражение в стеклянной двери ванной. Я в полном порядке. У меня все хорошо, потому что у меня есть план – я собираюсь покончить с собой.
Я сделаю это сегодня ночью. Все мои попытки вылезти из этого оказались фарсом. В какой-то момент я подумал, что мне лучше, но это вовсе не так. Я пытался прийти в равновесие, но у меня не получилось. Я хотел выбраться, но выбираться не из чего. Я не могу есть. Я не могу спать. Я только зря трачу ресурсы.
Родителям придется тяжко. Ох как тяжко. Как и сестренке. Она такая умница и красавица. Не то что я. Ее оставлять тяжелее всего. Уже не говорю, как это ее сломает. Родители, конечно, будут винить во всем себя, думать, что они полнейшие неудачники. Важнее этого у них в жизни ничего не будет. Другие родители будут шептать за их спинами:
«Слышали про их сына?»
«Подросток покончил с собой».
«Они никогда не оправятся от потери».
«Разве можно от такого оправиться?!»
«Похоже, что они даже не замечали, что что-то не так».
Но знаете что – пошли они все побоку, надоело думать о других! Как говорят поп-звезды, пора сказать себе правду. И вот моя правда: пора валить из этой дыры.
Я сделаю это ночью, точнее, ближе к утру. Сяду на велик, доеду до Бруклинского моста и спрыгну с него.
А перед этим посплю последний раз в маминой кровати. Когда мне плохо, она не против, что я сплю у нее, даже несмотря на то что я уже большой. Папа поспит в гостиной. Места на кровати полно, мы вовсе не касаемся друг друга, ничего такого. Просто она рядом на случай, если надо принести теплого молока с хлопьями. Я должен провести с ней последнюю ночь, перед тем как уйти. Поступить иначе просто бессердечно. Папу и сестру я тоже обниму. Никакой прощальной записки не оставлю – кто выдумал этот отстой?
– У меня все хорошо, – говорю я, отпираю дверь и выхожу из ванной.
Родители обнимают меня с двух сторон, и это объятие походит на то, как мы обнимались на той грандиозной вечеринке у Аарона, когда поклялись, что нас ждет блестящее будущее.
– Крэйг, мы любим тебя, – говорит мама.
– Так и есть, – подтверждает отец.
– Угу, – бубню я.
Я рассказывал доктору Минерве про Щупальца и Якоря. А теперь, доктор, новая информация: мои родители стали частью Щупалец, и друзья – тоже. У Щупалец появились Щупальца, и мне ни в жизнь не отрубить их. И вот он, мой Якорь: я убью себя. Эта мысль поддерживала меня весь день: знание, что я способен на это. Что у меня хватит сил и я смогу это сделать.
– Можно сегодня поспать с тобой? – спрашиваю я маму.
– Конечно, сынок.
Папа согласно кивает.
– Тогда пойду лягу.
Я иду к себе в комнату, достаю то, в чем буду спать, а еще выбираю и прячу то, в чем буду умирать. Эти вещи я надену утром и уйду. Мама говорит, что подогреет мне молоко, чтобы лучше спалось. Я иду в комнату сестры. Она еще не спит. Сидит за столом и рисует эскиз кухни.
– Люблю тебя, малышка, – говорю я.
– У тебя все хорошо? – интересуется она.
– Ага.
– Тебя вырвало.
– Ты слышала?
– Ну еще бы не услышать это «буэ-э-хрэ-э-эк-буэ-э-э».
– Да я же воду включал!
– У меня отличный слух. – Она показывает на уши.
– И блевотную пародию ты тоже отлично показала, – говорю я.
– Ага. – Она снова смотрит на зарисовку. – Может, когда вырасту, заделаюсь стендап-комиком и буду изображать эти звуки на сцене.
– Нет, – говорю я, – лучше тебе стать… то есть нет, это как раз мне лучше стать профессиональным блевальщиком, раз уж я в этом так хорош. Я блевал бы на сцене, и люди платили бы за это зрелище.
– Фу, Крэйг, гадость какая!
А по-моему, так вовсе не гадость, а отличная идея. Разве не так начинают художественные перформансы?
– Не отвлекайся, солдат.
– Хорошо, не буду.
– Ты принял решение и следуешь ему, верно?
– Да, сэр.
– Ты в этой комнате, чтобы попрощаться с сестрой, не так ли?
– Так точно, сэр.
– Мне жаль, что так получилось, солдат. Я думал, ты подаешь надежды. Но ты должен делать то, что должен, и иногда ты должен совершить харакири, понимаешь?
– Да, сэр.
Я обнимаю Сару.
– Ты у меня умница, красавица и такая выдумщица – продолжай в том же духе.
– Конечно. – Она внимательно смотрит на меня. – Да что с тобой?
– Все в порядке.
– Нет, не в порядке. Меня не обманешь.
– Завтра я буду в полном порядке.
– Ну ладно. Тебе нравится моя кухня?
Она показывает рисунок: практически готовый проект, есть даже полукруги для обозначения дверей, мойка, холодильник, отделанный четкими, похожими на глаза птицы деталями. Выглядит как на продажу.
– Сара, отлично получилось!
– Спасибо. А ты что собираешься делать?
– Лягу спать пораньше.
– Поправляйся.
Я выхожу из комнаты. Мама уже подогрела молоко и приготовила кровать.
– Тебе лучше?
– Конечно.
– Точно, Крэйг?
– Да точно, точно.
– Ложись и обопрись на подушки.
Я ныряю в кровать и ощущаю жесткость и прочность матраса. Сую ноги под одеяло и наслаждаюсь тем, как свежая простыня накрывает их, ложась маленькими горными хребтами. Мне кажется, это всем нравится. Мама дает мне молоко.
– Крэйг, еще только девять, ты же не уснешь.
– Почитаю книжку.
– Хорошо. Завтра запишу тебя к доктору Барни, он поможет. Может, тебе нужно другое лекарство.
– Ага, может быть.
Я сажусь, пью подогретое молоко и ни о чем не думаю. Эту способность я развил у себя недавно. Научился не думать ни о чем. Вот как это делается: наплюйте на то, что происходит вокруг, не ждите ничего от будущего и будьте в тепле.
Ах ты ж, совсем забыл позвонить кое-кому. Я достаю телефон и ищу набранное капс-локом имя. Давлю на вызов.
– Ниа? – спрашиваю я, когда она берет трубку.
– А, приветики, как там что?
– Хотел поговорить с тобой.
– О чем?
Я вздыхаю.
– Эй, ты в порядке, чувак?
– Нет.
– Где ты?
– Дома. В маминой кровати лежу.
– Ого, Крэйг, а проблема-то посерьезнее, чем я думала.
– Да нет! Просто мне так легче уснуть. Разве ты маленькая не засыпала легче в постели родителей?
– Ну, мне было три, когда отец умер.
Блин, все верно, у кого-то настоящие проблемы.
– Да, извини, хм, я…
– Все нормально. Я тоже с мамой иногда спала.
– Но сейчас-то, наверное, не спишь.
– Нет, бывает. Так же, как у тебя.
– Да? Ладно, что сейчас делаешь?
– Дома, сижу за компом.
– Где Аарон?
– Он у себя дома, тоже за компом. Что происходит, Крэйг?
Я вздыхаю.
– Ниа, помнишь ту вечеринку в честь поступления в Подготовительную академию управления?
– Ну да…
– Придя на вечеринку, ты уже знала, что переспишь с Аароном?
– Крэйг, даже не начинай.
– Ну пожалуйста, я хочу понять, был ли у меня шанс.
– Не собираюсь это обсуждать.
– Пожалуйста, прошу. Представь, что я умираю.
– Ради бога, тебе обязательно надо разыгрывать трагедию?
– Гм. Ага.
– Я помню, что на мне было зеленое платье.
– И я!
– Аарон увивался возле меня.
– Ага, сел рядом с тобой, когда играли в «Скрэббл».
– Я и раньше знала, что нравлюсь ему. Но до поступления в школу решила ни с кем не встречаться, чтобы не отвлекаться от учебы. И у тебя, и у Аарона вроде как были шансы. Вы оба со мной разговаривали. Но у тебя была бородавка на подбородке.
– Что?
– Ну волосатая такая бородавка, не помнишь? Противная, с углублениями.
– Не было у меня никакой бородавки!
– Да шучу я, Крэйг.
– А, ладно, хех.
Мы оба смеемся: она – свободно и легко, я – бессильно и опустошенно.
– Обещаешь, что не поймешь неправильно, Крэйг?
– Конечно, – вру я.
– Если бы ты попытался подкатить ко мне, я бы, может, тогда не осталась с ним. Но ты не подкатывал.
Ну капец!
– Но смотри, вышло не так уж и плохо: мы с тобой друзья и можем поговорить о таких вот вещах.
– Конечно, можем.
Бли-и-ин!
– Уж поверь, разговаривая с Аароном, я подыхаю со скуки.
– Почему?
– Он постоянно говорит о себе и своих проблемах. Так же, как ты. Вы оба зациклены на себе. Единственная разница в том, что ты себя недооцениваешь, а это еще можно терпеть. Он же о себе такого высокого мнения, что просто противно.
– Спасибо, Ниа, ты просто прелесть.
– Ну, я стараюсь.
– А что, если бы я попытался сейчас? – спрашиваю я. Терять мне нечего.
– Попытался бы что?
– Ну, знаешь, если бы я повел себя по-другому, сказал бы «да пофиг!», дождался бы, пока ты выйдешь, схватил и поцеловал?
– Ну вот еще! У тебя кишка тонка.
– И все же, если бы я так сделал?
– Я бы задала тебе хлопку.
– ХЛОПКУ.
– Ага. Помнишь? Было прикольно.
Я перекладываю телефон от одного уха к другому и говорю:
– Просто хотел прояснить кое-что.
Я улыбаюсь. Это правда: не хочу оставлять хвосты. Мне нужно знать, на какой я позиции. И с Ниа у меня ничего нет: мы не более чем друзья. Свою возможность замутить с ней я упустил, но это ничего. Я много чего упустил. Мне есть о чем сожалеть.
– Крэйг, я беспокоюсь за тебя, – говорит она.
– Почему?
– Не делай глупостей, ладно?
– Не буду, – говорю я. И это не ложь. В том, что я собираюсь сделать, есть здравый смысл.
– Позвони мне, если поймешь, что тебя тянет сделать что-то идиотское.
– Пока, Ниа, – говорю я. И беззвучно проговариваю в трубку «я тебя люблю», надеясь, что она воспримет эти бесшумные вибрации какими-то клетками – и это послужит мне в другой жизни, если та существует. Если это так, я не верю, что следующая жизнь будет удачнее.
– Пока, Крэйг.
Я нажимаю «отбой». По-моему, это жесть, что кнопка «отбой» красного цвета.
Пятнадцать
Глупо было надеяться, что я усну. Как только я выключил свет и отставил чашку из-под молока в сторону, пришло Чувство незасыпания – словно в твоем мозгу встали на дыбы четыре всадника Апокалипсиса, обмотали его веревками, тащат к передней части черепа и верещат: «Ну уж нет, чувак! Нас не проведешь! Ты, значит, решил, что можешь встать в три утра и броситься с Бруклинского моста, спокойно проспав всю ночь? Ты нас плохо знаешь!»
И в моем мозгу началось Зацикливание. Я понимал, что это будет худшее из Зацикливаний, которые у меня когда-то были. Без перерыва будут идти задачи, провалы, трудности. Я так молод, но уже облажался в этой жизни. Я не дурак, но ума у меня хватает только на то, чтобы отхватить неприятностей. А вот на то, чтобы получать хорошие оценки или завести подругу, ума недостает. Девчонки считают меня странным. Я не люблю сорить деньгами. Каждый раз, когда я трачу деньги, мне кажется, что меня изнасиловали. Мне не нравится курить травку, но я все равно курю, и это вгоняет меня в депрессию. С достижениями у меня негусто. Я не занимаюсь спортом. Бросил тай-бо. Ни в какой общественной деятельности не участвую. Мой единственный друг – раздолбай, гений от бога, встречается с прекраснейшей девушкой на свете и даже не подозревает об этом. Я мог бы добиться большего. Я должен добиваться успеха, но не могу, а другие могут, и они моложе меня. Их показывают по телику, им платят, награждают стипендиями, и все у них в порядке. А я до сих пор никто. Когда уже я стану кем-то?
Мысли шли одна за другой без перерыва, выбегали сзади, протискивались вперед и стекали к подбородку: я никто; никогда мне не справиться с этим; скоро все увидят, что я пустышка; все уже знают об этом, просто я не в курсе; я знаю, что я пустышка, просто притворяюсь нормальным. Хорошие же мысли, изредка появлявшиеся в моей голове с прошлой осени, в ужасе забились в переднюю часть мозга, подальше от тех, что поселились в шее и спинном мозгу. Так хреново мне еще никогда не было.
Теперь перед закрытыми глазами проплывает домашка: биржевая настольная игра «Знакомство с Уолл-стрит», доклад по истории про инков, контрольная по математике – они появляются в виде надписей на надгробии. Все это скоро закончится.
Мама забирается в кровать рядышком. Значит, еще рано. Даже одиннадцати нет. Ночка предстоит длинная. Наш пес, Джордан, который должен быть мертв, влезает в кровать вместе с мамой, и я кладу на него руку, хочу ощутить его тепло и успокоиться. Он на меня лает.
Я поворачиваюсь на живот. Подушка пропитывается потом. Поворачиваюсь на спину. Пот впитывается с другой стороны. Ложусь на бок, как маленький. Потею как малыш? Интересно, а в материнской утробе потеют? Кажется, эта ночь никогда не закончится.
– Еще не спишь, Крэйг? – спрашивает, шурша простынями, мама.
– Не сплю.
– Полпервого. Принести хлопья? После хлопьев засыпаешь только так.
– Давай.
– «Чиритос»?
С «Чиритос» я, пожалуй, справлюсь. Мама встает и приносит тарелку хлопьев. Они насыпаны с горкой, и я уминаю их с какой-то особой жестокостью – ведь я ем в последний раз – и заталкиваю их в себя так, словно они мне задолжали. Уж их-то я не выблюю.
Слышу, как мамино дыхание выравнивается. Тогда я начинаю думать, как все проверну. Возьму велик, это уже ясно. По чему я буду скучать, так это по воскресным велопрогулкам в Бруклине: помню, я как бешеный уворачивался от выхлопных труб, торчавших из грузовиков, фургонов и машин, потом встречался с Ронни, мы пристегивали велосипеды рядом со станцией метро и ехали к дому Аарона. Ронни говорит, что нет лучше изобретения, чем велик, – водить его проще простого. И хотя поначалу мне так не казалось и я думал, что велик – глупая затея, сейчас я так не считаю. Мама не давала мне ездить на велике в школу, так что по мосту я поеду впервые. И шлем надевать не стану.
Будет по-весеннему теплая ночь. Я возьму велик, быстренько доеду до Флэтбуш-авеню, главной артерии Бруклина, прямиком к Бруклинскому мосту с его вечными кочками и полицейскими, дежурящими всю ночь. Они на меня даже не взглянут – разве это незаконно, парень просто едет через мост. Я поеду по пандусу наверх и на середине возьму правее, как раз там, где я был тогда. Потом сойду с дороги и последний раз посмотрю на мост Веррацано.
А что делать с велосипедом? Если прицепить на замок, то стоящий в стороне велосипед будет привлекать внимание, пока замок не перережут или не распилят цепь, что займет немало времени – цепь дорогая, качественная! Если же я оставлю его непристегнутым, то мой крутой «Ралей» свистнут в два счета, не оставив и намека на то, что я там был.
Короче, велик я не брошу. Нырну вместе с ключом, и мама с папой будут знать, куда я пропал. Полицейские найдут велосипед и скажут родителям. Им придется непросто, но они хотя бы будут знать. Так лучше, чем не оставить ничего.
Сколько сейчас? Время словно замерло. Раз я все равно не могу заснуть и потею, буду отжиматься – может, хоть это меня вымотает. Спать я не собираюсь, просто хочу довести себя до усталости и немного отдохнуть, а то не успею вовремя – туда ехать почти час. Я упираюсь руками в кровать и принимаю позицию для отжиманий, что очень напоминает позу для занятий сексом, которого у меня даже не было, – так и умру девственником. Тогда попаду ли я в рай? Нет, не попаду: в Библии сказано, что самоубийство – грех, и я отправлюсь прямиком в ад – вот засада.
Отжиматься я выучился на тай-бо. У меня хорошо получается. Я умею отжиматься не только на ладонях, но и на пальцах и кулаках. И вот он я, рядом с мамой в кровати, начинаю медленно подниматься и опускаться: один, два, три… Тот еще видок, если посмотреть сбоку. Я двигаюсь осторожно, стараясь не разбудить маму, но она обычно спит крепко и не замечает моих шевелений – ее голова повернута в другую сторону. Сделав десять отжиманий, я начинаю обратный отсчет: пять, четыре, три… пока не дохожу до пятнадцати. Падаю в кровать.
Сил больше нет, оно и понятно: за сутки в моем животе не было ничего, кроме хлопьев. Так что я спекся после пятнадцати отжиманий. Слышу, как стучит сердце. Оно бухает по матрасу, звук усиливается, и удары наполняют не только кровать, но и тело. Они повсюду: я чувствую их в ступнях, ногах, животе, руках.
Снова встаю на ладони. Один, два, три… Руки горят. Шею скрючило: кровать – не лучшее место для отжиманий, в ней тонешь. Этот подход дается мне тяжелее предыдущего, но когда я делаю пятнадцать, то не останавливаюсь и дохожу до двадцати. Я не на шутку перенапрягся и, еле сдерживая кряхтение на последнем повторении, облегченно валюсь на кровать.
Пам-пам-пам.
Сердце бешено колотится. Его биение заполняет все вокруг. Я ощущаю удары всем телом, чувствую, как кровь протискивается по запястьям, пальцам и шее. Лежал бы и лежал, слушая это бесконечное пам. Глупое сердце.
Пам.
Мне хорошо, это меня вроде как прочистило.
Пам.
К черту все! Мне нравится мое сердце.
Я люблю свое сердце, но вот мозг что-то расшалился.
Я хочу жить, но хочу умереть. Что мне делать?
Я вылезаю из кровати, смотрю на часы – 5:07. Непонятно, как я продержался всю ночь. Сердце стучит своими пам-пам. Встаю, шаркаю в гостиную и беру с полки книгу.
«Как пережить потерю и любовь» – написано на розовой с серым обложке. Такие книжки расходятся миллионами, люди покупают их, чтобы пережить развод. Мама купила свою, когда умер дедушка, и прямо нахвалиться не могла, как ей помогла эта книга. Показывала мне обложку.
Я заглянул ради любопытства, посмотреть, что там написано. Первая глава начинается так: «Если вы чувствуете, что хотите причинить себе вред, перелистните на двадцатую страницу». Довольно глупо, по-моему. Что это вообще такое, интерактивная книга «Выбери себе приключение сам»? Ну раз написано, то я перелистываю на двадцатую страницу, а там: «Позвоните на горячую линию экстренной психологической помощи по месту жительства», потому что мысли о самоубийстве – это медицинская проблема и вы нуждаетесь в немедленной врачебной помощи.
И вот я в потемках открываю «Как пережить потерю и любовь» на двадцатой странице и читаю: «В каждом районе существует горячая линия помощи самоубийцам, номер телефона которой можно найти в справочнике „Желтые страницы“ в разделе „Государственные службы“».
Ладно. Иду на кухню, беру «Желтые страницы», открываю.
Найти список государственных служб – та еще задачка. Я думал, они помечены зеленым, но нет – на зеленых страницах рестораны. А государственные службы ближе к началу, на голубых листах, да и то пока видно только телефоны парковок отбуксированных машин, служб по дератизации… А, вот – рубрика «Здоровье». И тут у нас «Контроль за ядами», «Скорая помощь», а вот и «Психическое здоровье». Номеров целая куча. Напротив первого же номера стоит «Суицид». Номер местный, я набираю.
Стою в гостиной, засунув руку в карман, и слушаю, как раздаются гудки дозвона.
Шестнадцать
– Алло?
– Здрасте, это горячая линия помощи при суициде?
– Это Бруклинский центр помощи при тревожных состояниях.
– Э, ну…
– Мы работаем совместно с обществом «Самаритяне». Когда линия помощи при суициде перегружена, мы принимаем их звонки. Меня зовут Кит.
– Значит, горячая линия помощи при суициде сейчас перегружена?
– Да, ночью в пятницу больше всего звонков.
Ну отлично, что тут скажешь – даже в желании убить себя я неоригинален.
– Так в чем у вас там дело?
– Да я просто… Ну, у меня сильная депрессия, и я хочу себя убить.
– Угу. Как вас зовут?
– Э…
«Так, нужно срочно выдумать имя», – пролетает у меня в голове.
– …Скотт.
– Сколько тебе лет, Скотт?
– Пятнадцать.
– И почему ты хочешь себя убить?
– Понимаете, у меня клиническая депрессия. То есть у меня не просто… сниженное настроение или что-то такое. Я пошел в новую школу и не могу там учиться, не справляюсь. Мне уже так плохо, что даже раньше так не бывало, и я не хочу больше с этим бороться.
– Ты сказал, что у тебя клиническая депрессия. Пьешь какое-то лекарство?
– Принимал «Золофт».
– И что случилось?
– Я перестал его пить.
– Ах вот оно что. Ты же понимаешь, что это не лучшая идея?
Похоже, Кит занимается психологическим консультированием совсем недавно. Так и представляю студента-дрища в проволочных очках, как он сидит за столом, освещенным маленькой лампой для чтения, смотрит в окно и покачивает головой в такт своим добрым советам.
– Многие люди сталкиваются с проблемами, если перестают принимать таблетки.
– Теперь уже неважно, в чем причина, я просто не могу с этим справиться.
– Ты уже представляешь, как бы ты себя убил?
– Да. Я бы прыгнул с Бруклинского моста.
Слышно, как Кит набирает что-то на клавиатуре.
– Что ж, Скотт, хоть мы и не горячая линия помощи при суициде, у нас есть программа пяти шагов помощи при тревожных состояниях. Хочешь попробовать?
– Хм… конечно.
– Ручка и листок есть под рукой?
Я пошарил в ящиках обеденного стола – карандаш и бумага нашлись. Зашел в ванную, включил свет и сел на унитаз вместе с Китом.
– Итак, шаг первый. Запиши какое-то событие, которое с тобой произошло, и что ты при этом чувствовал.
– Любое событие?
– Да, верно.
– Ладно… – И я записываю на листочке «На прошлой неделе ел пиццу».
– Записал? – спрашивает Кит.
– Да.
– Теперь напиши, что ты при этом чувствовал.
– Ладно. – Я написал: «Мне было клево, наелся до отвала».
– А теперь запиши все «что» и «если бы» (сомнения), которые у тебя были по отношению к этому событию.
– Это как?
– Напиши, что можно было сделать, чтобы тебе было еще лучше тогда, но ты не сделал и сожалеешь.
– Погодите, я это… я, похоже, не то событие выбрал.
Яростно стираю первую фразу, помеченную единицей. Прошу Кита подождать, а в это время вместо «Ел пиццу» записываю «Выблевал мамину тыквенную запеканку», а под номером два пишу «Чувствовал, что хочу себя убить». Облажался я, похоже.
– Просто напиши «что» и «если бы», – подбадривает меня Кейн.
Ну, значит, надо было удержать запеканку в себе, тогда я почувствовал бы себя сытым. Это я и записал.
– Теперь запиши, что ты должен был сделать тогда.
– Что я должен был сделать?
– Верно. Потому что никаких «что» и «если бы» в мире не существует.
– Не существует?
Я засомневался в Ките. Если он из Центра помощи при тревожных состояниях, что за странные упражнения он дает – они сбивают с толку и от них становится еще тревожнее.
– Не существует, – отвечает он. – Есть только то, что могло сложиться иначе. Никаких «бы» и «кабы» у тебя нет, понимаешь? У тебя есть только то, что можно было сделать по-другому.
– А, – говорю я.
– Ты никогда не знаешь, что произошло бы, если бы ты поступил так или иначе. Твоя жизнь могла бы стать хуже, разве нет?
– Куда уж хуже? Я позвонил на горячую линию для самоубийц.
– В жизни важны потребности, их только три: потребность в питании, воде и крыше над головой.
«А еще в воздухе, – думаю я. – Друзьях. Деньгах. Разуме».
– Ну а следующий шаг – записать только то, что нужно было сделать по отношению к этому событию, и сравнить с тем, что ты хотел бы сделать.
– Сколько там всего шагов?
– Пять. Пятый самый важный. Сейчас мы на четвертом.
– Знаете, вообще-то я, э… – Я смотрю на клочок бумаги, покрытый полустертыми почеркушками про пиццу и запеканку. – Я думаю, мне лучше поговорить с кем-то с горячей линии для самоубийц. Я до сих пор чувствую себя очень… ужасно.
– Хорошо, – вздыхает Кит.
Я переживаю за него: подумает еще, что не справился с работой. Так что я говорю:
– Да все в порядке. Вы мне очень помогли.
– С молодежью непросто работать, – говорит он. – Тяжко это. Ты звонил на 1-800-СУИЦИД?
1-800-СУИЦИД! Ну конечно! Как я сразу не подумал? Мы же в Америке. Тут у всех есть номер, начинающийся на 1-800.
– Это государственная линия помощи по телефону. Еще есть местная служба по предотвращению самоубийств… – Кит диктует другой номер.
– Спасибо. – Я записываю оба телефона. – Большое спасибо.
– Не за что, Скотт, – отвечает Кит, и я кладу трубку и набираю 1-800. Впервые за долгое время я звоню не по мобильному.
Я думаю: довольно удобно, что в слове «суицид» шесть букв.
– Алло, – отвечает женский голос.
– Здравствуйте, я… – И я прогоняю все то же самое, что говорил Киту. Мою нынешнюю собеседницу зовут Марица.
– Значит, ты перестал принимать «Золофт»? – спрашивает она.
– Да.
– Знаешь, вообще-то, его надо пить… пару месяцев.
– Так я пару месяцев его и пил.
– Некоторые принимают «Золофт» годами. Ну как минимум от четырех до девяти месяцев.
– Знаю я, но тогда мне стало получше.
– Понятно, а как ты себя чувствуешь сейчас?
– Я хочу покончить с собой.
– Слушай, Скотт, для своего возраста ты хорошо воспитан и образован.
– Спасибо.
– Знаю, в последних классах учиться нелегко.
– Да не так уж. Просто я не справляюсь.
– Родители знают о твоем состоянии?
– Знают, что мне плохо. Сейчас они спят.
– А где ты?
– В ванной комнате.
– Дома?
– Да.
– Ты живешь с ними?
– Ага.
– Ты знаешь, что, когда кто-то хочет покончить с собой, это считается случаем, требующим неотложной медицинской помощи?
– Неотложной, значит.
– В твоем состоянии нужно ехать в больницу, понимаешь?
– В больницу?
– Да, поезжай прямо в отделение скорой помощи, и там тебе помогут. Они знают, что делать в таких случаях.
Отделение скорой помощи? Я там не был с тех пор, как меня в младших классах сшибли санками на детской площадке. Из уха хлестала кровь, а когда я очнулся, мне показалось, что я дня три проспал и даже не мог сказать, какой был год. Я пробыл там ночь, мне сделали МРТ мозга, чтобы убедиться, что нет повреждений, и отправили домой.
– Ты собираешься идти в отделение скорой, Скотт?
– Э-э-э…
– Хочешь, я вызову тебе 911? Если ты не в состоянии добраться сам, мы вышлем машину скорой помощи.
– Нет, нет! Не нужно.
Не хватало еще, чтобы соседи видели, как меня увозят. И к тому же больница почти рядом, как я раньше не догадался? В двух кварталах от меня госпиталь «Аргенон». Я могу дойти туда пешком. Может, так даже лучше. Я туда приду – и больше ничего не надо делать. Я скажу, что со мной, они дадут лекарство. Может, уже придумали какие-то новые таблетки, вроде быстродействующего «Золофта», возьму их и пойду обратно домой. Родители даже не узнают.
– Скотт!
– Я схожу туда. Мне нужно…
– Одеться?
– Да, точно.
– Отлично, просто отлично. Ты поступаешь правильно.
– Ладно.
– Ты еще такой молодой – мы не хотим тебя терять. И держался просто молодцом.
– Спасибо.
Я ищу, во что обуться. А, нет, сначала штаны. Надеваю зеленые брюки. Единственное, что я нашел из обуви, – кожаные блестящие ботинки со скошенной простроченной кромкой. В них я давным-давно ходил на послеобеденные консультации к доктору Минерве.
– Ты еще там?
– Ага, надеваю кофту.
Я просовываюсь в толстовку и откидываю капюшон с головы. Снова беру трубку.
– Есть, надел.
– Скотт, ты храбрый парень.
– Спасибо.
– Ты направляешься в больницу, верно? В какую?
– В госпиталь «Аргенон».
– Там отличные специалисты. Я тобой горжусь, Скотт. Ты все правильно делаешь.
– Спасибо, Марица. Спасибо.
Я кладу телефон и выхожу из дома. В это время показывается Джордан – еле тащится, навострив уши в мою сторону. В этот раз он не лает.
Часть четвертая Госпиталь Семнадцать
Мне повезло: в полшестого утра в приемном отделении скорой помощи почти никого нет. На длинной металлической скамейке в разных позах сидит несколько человек. Мимо прохаживается латиноамериканская пара – женщина жалуется на боль в колене. Рядышком – пожилая белая леди со здоровяком-сыном, они заполняют медкарту. На дальнем конце скамейки темнокожий парень в очках чистит арахис и складывает скорлупки в левый карман жилета, очищенные орехи кладет в правую руку. Вообще все выглядит как обычный прием у врача, если не считать парня с арахисом.
Подхожу к стойке с надписью: «Регистрация». За ней две медсестры: одна сидит, вторая стоит позади. Та, что стоит, похожа на школьницу примерно моего возраста.
– Мне нужно, э… оформиться. Зарегистрироваться, – мямлю я.
– Заполните бланк, и сестра быстро вас осмотрит, – говорит та, что постарше.
Другая раскладывает что-то по конвертам и смотрит на меня. Знакомое лицо, может, я ее знаю? В попытке спрятаться я наклоняю лицо куда-то к подмышке.
Мне протягивают ксерокопию бланка. Там требуется указать дату рождения, адрес, имена родителей, их номера телефонов и есть ли у меня медстраховка. Про страховку я мало что знаю, но я в курсе, что мой номер социального страхования совпадает с номером удостоверения личности. Указываю его. Мне даже нравится заполнять этот бланк, как будто я поступаю в какое-то особое учебное заведение или вроде того.
Кладу заполненный бланк в маленький черный лоток, висящий сбоку регистрационной стойки. Перед моим листком только один. Сажусь за парнем с арахисом. Сижу уставившись в пол, который чем-то похож на шахматную доску, только плитки красные и белые и размером сантиметров тридцать. Я представляю, как по нему мог бы ходить конь. Я же спятил. У меня же чердак потек. Что я тут делаю? Все равно это не поможет. Надо уходить. Я еще могу успеть. Велосипед стоит дома в прихожей. Я сильный, я справлюсь.
– Крэйг! – Из-за двери в конце регистрационной высовывается женская голова.
Я встаю. Латиноамериканская пара ноет, что они были первыми, и кто-то выходит и заговаривает с ними на испанском. Извините, ребята.
– Проходи, – говорит женщина и представляется: – Я медсестра.
Я жму ей руку.
– Садись.
Я вхожу в длинную узкую комнату. Там стоит пара стульев, есть компьютер, а на стене висят на крючках халаты и резиновые трубки. В дальнем конце комнаты сквозь окно виднеется восходящее солнце. Напротив меня постер о домашнем насилии гласит: «Если ваш мужчина вас бьет, принуждает к сексу, распоряжается вашими деньгами или угрожает рассказать, что у вас нет иммиграционных документов, – вы жертва!»
Кудрявая, чем-то похожая на клоунессу медсестра снимает с крюка за собой аппарат для измерения давления. Всегда любил этот прибор. Он не то что приятный, но чувствуешь, что такой прибор мог бы быть гораздо хуже. Медсестра присоединяет к тонометру считывающее устройство и накачивает на мне манжету.
– Ну так что у тебя стряслось, миленький? – спрашивает она.
Она сказала «миленький»? Я прогоняю свою заготовку.
– Ты что-то с собой сделал? Пытался себя порезать, ранить, может, ходил куда-то еще?
– Нет. Я позвонил на 1-800-СУИЦИД, и они послали меня сюда.
– Отлично. Замечательно. Ты все сделал как надо. Они просто молодцы.
Она снимает с меня манжету тонометра, поворачивается и набирает что-то на компьютере. На столе справа от монитора стоит лоток с моим листком, и она читает с него в том месте, где я написал «хочу себя убить» в графе «Причина обращения».
– Так ты принимал лекарство?
– Принимал «Золофт». Но перестал.
– Перестал? – Ее глаза расширяются. – У нас полно таких пациентов.
Она печатает что-то на компьютере и снова поворачивается ко мне:
– Зря ты это сделал.
– Знаю, – говорю я, а сам рад, что наконец-то есть причина, из-за которой со мной все это, что-то конкретное, на что можно указать.
– Замри, запомни этот момент, подумай, как ты себя чувствуешь. И в следующий раз, когда захочешь прекратить прием лекарства, вспомни эти ощущения.
– Ладно.
Я пытаюсь запомнить: во мне словно все умерло, внутри пусто, я чувствую себя сломленным и бесполезным. Ужасные ощущения, такие не забудешь.
– У тебя все наладится, миленький, – подбадривает медсестра.
Я смотрю, что она набирает на экране: вписывает в графу «Причина обращения» «СКЛОННОСТЬ К СУИЦИДУ». Мне кажется, вполне сносное название для музыкальной группы.
– Ну же, давай, – говорит медсестра, вставая из-за компьютера. Стоящий за ним принтер выдает что-то со скрипом и скулением. Она оборачивается назад, достает две наклейки и лепит на пластиковые браслеты, прикрепленные к ее поясной сумке со всякими медсестринскими прибамбасами. Потом надевает браслеты на мое правое запястье.
Я осматриваю их и вижу, что на обоих надпись «Крэйг Гилнер», номер моей соцстраховки и штрих-код. Я спрашиваю:
– Почему их два?
– Потому что у тебя особый случай.
Она выводит меня из комнаты, и мы проходим через отделение экстренной помощи, минуя сдвигающиеся и раздвигающиеся в произвольном порядке шторки, за которыми появляются персонажи этого утреннего субботнего представления. В основном это пожилые люди, чаще всего утыканные трубками белые женщины, которые кричат и стонут. «Во-ды-ы-ы, во-ды-ы-ы», – надрываются они, но никто не обращает на них внимания. Врачи с картонными планшетами в руках проходят мимо – если я правильно понял, в белых халатах врачи, а медсестры – в синих. У одного из них растрепанная светлая бородка, чего я от доктора никак не ожидал. На бейджике написано «Д-р Кеплер, ординатор» – значит, он студент. Я тоже мог бы заниматься чем-то таким, не облажайся я так и не попади в это место.
– Проходи сюда, – говорит медсестра.
Наш слух услаждают многочисленные сигналы звукового оповещения. Каких только не услышишь: громкие, страшные, мелодичные, невнятные. Я думаю, а случается ли, что они звучат все одновременно, и тут мы проходим мимо гигантского металлического стеллажа на колесиках с бледно-желтыми, завернутыми в целлофан подносами. Это больничный завтрак. Медсестра выкатывает его из двери с надписью «Пищеблок».
Мы приближаемся к нескольким лежащим на носилках латиноамериканцам – похоже, все они пострадали в общей потасовке в баре. У одного перебинтовано лицо, другой показывает доктору свою грудь, третий закатал штанину и демонстрирует что-то вроде укуса акулы. Доктор шикает на него по-испански, и тот раскатывает брючину обратно. Подходим к стойке с компьютерами, медсестра просит меня подождать и останавливает проходящего мимо доктора-индейца. Тот берет носилки, которые вблизи выглядят как довольно сложная техническая хреновина, которая топорщится красными и черными рычагами, и закатывает в бокс № 22.
Бокс достаточно вместительный для носилок. Двери в нем нет, только проем. Стены желтого цвета. Сестра заводит меня туда и говорит:
– Доктор сейчас придет.
Какой же нестерпимо яркий свет, а я не спал всю ночь. Сажусь на носилки. Что я здесь делаю? Тут же вообще нечего делать. Даже крючков на стене нет.
Рядом с боксом № 22, около шторки, сидит на носилках шикарно одетый чернокожий парень с длинными дредами. На нем темно-коричневый костюм и черные ботинки, похожие на мои. Он держится за бедро и воет от боли. Я такое только в кино видел – вцепившийся в себя парень с перекошенным, оскаленным лицом раскачивается из стороны в сторону и вторит без перерыва: «Сестра, сестра, пожалуйста». Похоже, он вывихнул бедро. Парень поворачивается то на бок, то обратно на спину, но ему это мало помогает.
– Кому хуже, солдат, тебе или ему?
– Не знаю, сэр!
– Вопрос с подвохом, солдат.
– Ну, ясно, что ему хуже. Я же сижу прохлаждаюсь, а он там чуть ли не умирает.
– Я ожидал от тебя большего, сынок.
– В смысле?
– Ты же сообразительный малый. Должен понимать, когда притворяются. И, солдат…
– Да?
– Ты отлично справился. Рад, что ты все еще в строю.
– Чувствую себя прекрасно.
– Жизнь состоит не в том, чтобы чувствовать себя прекрасно, а в том, чтобы доводить дело до конца.
Я снова смотрю на черного парня – и вижу, что на сцену вальяжно выходит высокий, упитанный, коротко стриженный полицейский со странными складками-валиками на шее со стороны затылка. В руках у него газета и бумажный стаканчик с кофе. Он берет оранжевый пластиковый стул и садится как раз напротив меня – между боксами № 22 и № 21. Соседний бокс тоже размером не больше туалета и без дверей.
– Эй, парень, как дела? – неторопливо растягивая слова, спрашивает полицейский. – Меня зовут Крис, если что надо, обращайся.
Он устраивается на стуле и раскрывает газету.
Темнокожий парень уже расскулился не на шутку, вцепился в ногу обеими руками и устремляет взгляд на каждую проходящую мимо медсестру. Может, он героиновый наркоман. Они приходят в больницу, притворяясь, что ранены, чтобы им дали морфий. Я смотрю на него несколько минут, пытаясь понять, врет он или нет. Интересно, сколько сейчас времени: часов нигде нет, только гудки.
Крис шуршит газетой. На второй странице заголовок: «Падение с 86-го этажа: человек шагнул с Эмпайр-стейт».
– Ничего себе, – я глазам своим не верю, – это что, про парня, выпрыгнувшего из Эмпайр-стейт-билдинг?
– Нет. – Крис улыбается, глядя на меня через плечо. – Совсем не про это.
Он переворачивает газету.
– Ты не должен был это видеть.
Я хихикаю:
– Да уж, это слишком.
– Но тот парень выжил! – говорит Крис.
– Ага, точно.
– Говорю тебе, выжил! И ты тоже выживешь.
Наверное, ему сказали, почему я здесь. Или просто всех психически больных отправляют в бокс № 22?
– Что с ним случилось? Врезался в дерево?
Но Крис перелистывает на четвертую страницу.
– Это не для твоих глаз.
Наверное, ему все же сказали. Скорее всего, он дежурит в отделении экстренной помощи, смотрит тут за порядком – и уже знает, что в 22-м боксе сидит депрессивный подросток. Вот этот Крис и старается вовсю.
Я ложусь на носилки, снимаю толстовку и натягиваю на лицо: совсем не помогает, от света не укрыться. Поспать, похоже, не удастся. Я потею. Хочу поотжиматься, но на носилках не получится, а пол выглядит так, что свежевымытым его не назовешь. Не хватало еще в придачу к депрессии подхватить дифтерию.
– Сестра! Сестра! Ну пожалуйста! – стонет темнокожий парень.
– Во-ды-ы-ы. Во-ды-ы-ы, – хрипит женщина.
– Привет, ну как там что? – разговаривает по телефону Крис. – Да нет, я только за.
«Би-и-ип», – раздается откуда-то гудок.
Это звуки госпиталя, госпиталя, госпиталя.
В 22-й бокс входит врач. У нее длинные темные волосы и пухлое личико с ясными зелеными глазами.
– Здравствуй, ты Крэйг?
– Здрасте.
– Зови меня доктор Дата.
– Доктор Дата?
– Да.
Ну надо же. Я хочу спросить, не киборг ли она, но это не слишком-то уважительно, к тому же мне не до того.
– Ну, что у тебя случилось?
Я выдаю заученную историю. Каждый раз она короче и короче: «Хотел себя убить. Позвонил по номеру. Пришел сюда». И все такое.
– Ты поступил правильно, – говорит врач. – Многие бросают пить таблетки и сталкиваются с серьезными проблемами.
– Мне так и сказали.
– Так, а теперь скажи: кроме того, что тебе хочется спрыгнуть с Бруклинского моста, есть что-то еще? Может, ты что-то видел или слышал?
– Не-а.
Про чувака-военного я говорить не собираюсь. Тут я придерживаюсь того же порядка, что и с доктором Барни.
– Родители знают, что ты здесь?
– Нет.
– Так, ладно, Крэйг, расскажу, как мы поступаем в таких случаях, как твой.
Она снимает стетоскоп, держит его в ладонях, сгибает короткие руки. Она очень симпатичная. Красивые глаза смотрят серьезно.
– Сегодня суббота, а значит, на дежурстве наши лучшие психологи, прекрасные специалисты. Я направлю тебя к доктору Махмуду. Он скоро будет и поможет тебе в твоей беде.
Я вдруг представляю, как доктор Махмуд заводит меня в свой кабинет – особый офис мозгоправов при госпитале «Аргенон». Там, наверное, уютно и просто. Может, есть большое окно, стоит черный диван и висят репродукции Пикассо. Он отведет меня туда и проведет сеанс экстренной психотерапии. Наверняка у него в запасе есть незнакомые доктору Минерве приемчики, которые приведут к Сдвигу. Мне снова пропишут «Золофт» (может, даже быстродействующий «Золофт»!), и я пойду.
– Отлично, я не против.
– А теперь нужно сказать твоим родителям, где ты, потому что к приходу доктора Махмуда они должны быть здесь и подписать кое-что.
– Э-э-э…
– Что такое? Какие-то сложности?
– Нет. Я скажу им.
– Где они сейчас?
– В двух кварталах отсюда.
– Они живут вместе? Вы в ладах, они поддерживают тебя?
– Ага.
– Они не расстроятся, что ты оказался здесь?
Я вздыхаю.
– Они – нет, это только меня… расстраивает.
– Не волнуйся, многие попадают в такую ситуацию. Это все из-за стресса. А теперь, Крэйг, подыши. – Она прикладывает стетоскоп к моей спине и просит глубоко дышать, потом не дышать, в общем, как обычно. Хорошо хоть яйца не щупает, а то дверей-то нет.
Пока она меня осматривает, я гляжу по сторонам. Над темнокожим парнем склонилась медсестра.
– Доктор Махмуд скоро придет. Пожалуйста, позвони родителям и скажи, чтобы подошли в течение двух часов.
Два часа, ни фига себе! Торчать тут еще пару часов.
– Понял.
– Мы тебе поможем, – говорит доктор Дата и участливо кивает.
– Ясно. – Я выдаю что-то вроде улыбки.
Она выходит. Так, надо позвонить родителям, и побыстрее. Вытаскиваю мобильный и вижу, что в отделении экстренной помощи нет покрытия сети. Я выхожу из своего бокса в поисках платного телефона.
Крис встает со своего места.
– Парень, я же говорил, если что надо, меня спроси. Что тебе нужно?
Я оборачиваюсь и оглядываю полицейского: бейдж, резиновая дубинка. До меня доходит, зачем он здесь. Он не дежурит в отделении экстренной помощи, он тут для моей защиты. Если ты поступаешь в госпиталь с психическим нарушением, к тебе приставляют копа, и ты уже себе не навредишь. Я вроде как потенциальный самоубийца под наблюдением. Хочешь покончить с собой – звонишь на 1-800-СУИЦИД, и к тебе приставляют наблюдателя.
– Ну, я это, маме надо позвонить.
– А, конечно. Телефон вон там, – показывает он кивком. – Набирай через девятку.
Телефоны всего в двух метрах, но Крис упирается руками в бедра и не сводит с меня глаз. Я подхожу к телефону и снимаю трубку.
Восемнадцать
Как бы так начать?
«Привет, мам, я тут в госпитале». Нет, не так.
«Мам, привет, ты там сидишь?» – так, может.
«Мам, ты не поверишь, откуда я звоню!» – вот так лучше.
– Мам, привет, – говорю я после ее хриплого «Алло». – Как дела?
– Крэйг! Где ты? Я… Меня разбудил твой звонок, а тебя нет в кровати. У тебя все хорошо?
– Со мной все нормально.
– Ты у Аарона?
– Эм-м… – Я набираю воздуха сквозь зубы. – Нет, мам, я не у него.
– Где ты?
– Я, э-э-э… Ночью я что-то психанул, мне было так плохо, что я, э… решил провериться в госпитале. Я в «Аргеноне».
– Боже правый! – Она замолкает, похоже, дыхание перехватило. Слышу, как мама садится и выдыхает. – Ты… что с тобой?
– Ну я, это, хотел себя убить.
– Боже мой, Крэйг. – Мама не плачет, но слышно, как она закрыла лицо руками.
– Извини.
– Что ты! Это ты извини. А я спала! Спала и даже не знала!
– Да ладно, мам, откуда ты могла знать?
– Я же знала, что тебе было плохо, но даже не понимала, насколько. Что ты натворил? Как ты туда попал?
– Не волнуйся. Я ничего не сделал. Воспользовался советом из твоей книги.
– Из какой? Из Библии?
– Нет, из книги «Как справиться с потерей и любовью».
– Ты имеешь в виду «Как пережить потерю и любовь»? Книга просто чудесная.
– Там советуют звонить на горячую линию экстренной психологической помощи, и я позвонил.
– Тут лежит бумажка с телефонами, это оно?
– Ага, но можешь ее уже выбросить. Мне сказали, что… если чувствуешь себя как я, это уже экстренный случай и нужно идти в отделение скорой. Я обулся и пришел сюда.
– Ох, Крэйг, значит, ты цел, ничего с собой не сделал? – Она замолкает.
– Ничего, пришел сюда и оформился.
Слышно, как мама переводит дыхание. Она дома, где-то совсем рядом. Думаю, даже приложила руку к груди.
– Я так тобой горжусь.
– Гордишься?
– Это твой самый смелый поступок.
– Я… спасибо, мам.
– Это как ничто другое доказывает, что ты хочешь жить. Ты поступил правильно. Я люблю тебя. Ты мой единственный сын, я тебя люблю – всегда это помни.
– Я тоже тебя люблю, мам.
– Я думала, что я плохая мать, но это не так, раз я научила сына держать себя в руках. Важно, что у тебя было все необходимое, чтобы поступить как надо. В этом госпитале отличные специалисты, они помогут. Я уже иду, папу тоже привести?
– Не знаю. Лучше бы не рассказывать об этом всем, если можно.
– Ты сейчас где?
– В приемном покое скорой помощи. Ты должна подписать какие-то документы.
– А где именно тебя держат?
– Я жду приема у доктора Махмуда.
– Как ты себя чувствуешь?
– Даже не знаю, кажется, что все не по-настоящему, что ли. Сегодня ночью я глаз не сомкнул.
– Ох, Крэйг, если бы я только знала… Я не знала…
Я улыбаюсь.
– Я люблю тебя, мам. Мне надо идти.
Оборачиваюсь – Крис по-прежнему смотрит на меня.
– Люблю и очень тобой горжусь, сынок.
Я вешаю трубку. Тому, что я попал в госпиталь, мама обрадовалась больше, чем моему поступлению в крутую школу.
Поворачиваюсь к Крису и вижу, что соседний с моим бокс теперь занят. Там сидит на носилках темнокожий мужчина. Он лысый, но не выбритый налысо, а по-настоящему облысевший немолодой чувак с ореолом тонких белых волос по краям и щетиной на лице. Скрещенные руки лежат на бедрах. На нем спортивки и белая футболка навыпуск с непонятным потеком возле ворота. Он поворачивает голову к стене, и видно идущий от уха к шее шрам. Потом он снова поворачивается ко мне: уж что-что, а зубы у него все на месте и белые-пребелые – он улыбается.
Прокрадываюсь в 22-й бокс и продолжаю рассматривать парня с дредами. Тот уже не корчится от боли – определенно медсестра дала то, чего он хотел: парень сидит с закрытыми глазами, брюки закатаны до колен, он раскачивается, что-то бормочет и начесывает все, до чего достает: ноги, грудь, лицо. Но не так уж сильно он скребет, таким нажимом зуд точно не унять. Он медленно покачивается вперед-назад в такт больничным гудкам, приоткрывая веки на четверть примерно раз в минуту.
А может, это мой вариант? Будь я таким же обдолбанным, не было бы времени впадать в депрессию. На чем он там сидит, на героине вроде? Вот чего мне не хватало – вкатить героинчику.
Но я тут же передумал. Ну, во-первых, как вообще я спрошу у друзей: «Народ, вы не в курсе, где можно прикупить героин?» Они подумают, я прикалываюсь. И что это за название такое – «белый»? Как вообще можно с нормальным лицом спросить о «белом»? И к тому же принимай я его, то кем бы я был – депрессивным подростком на героине? Куда уж банальнее.
– Перекусить не хочешь? – предлагает Крис, и я даже не успеваю ответить, как в меня утыкается один из этих ужасных желтых подносов с едой. На подносе обнаруживаю что-то похожее на овсянку, в маленьком пенопластовом контейнере жмется расплющенное яйцо вкрутую, а судя по пятну на крышке, мне достался кофе. Дополняет картину пластиковый стаканчик апельсинового сока с крышкой из фольги и запечатанный в целлофан хлеб. Еще есть вилка, ложка, нож, соль, перец и сахар. Меня воротит только от одного вида. Ничто из представленного аппетит не вызывает. Но за мной, скорее всего, наблюдают, и я нехотя разворачиваю хлеб и через силу пихаю в себя длинные кусочки, запивая апельсиновым соком. Прошу одну из медсестер принести мне чай, но получаю очередной кофе. Принюхиваюсь: пахнет отвратительно. И, чтобы досадить Крису, предлагаю свой кофе ему.
– У меня уже есть. – Крис салютует стаканчиком с популярной маркой кофе. Этикетка известного бренда выглядит в больничной обстановке довольно странно.
Пока Крис треплется по телефону (интересно, какой у него оператор, что дает тут покрытие? Они даже рекламироваться могут: чувак стоит у обитой мягким стены, и надпись: «А теперь слышно?»), возвращается доктор Дата и протягивает документы, где я должен подписаться напротив возраста и прописки. Моему пожилому соседу в 21-й бокс она тоже заносит какие-то листы.
– Как поживаете, Джимми? – спрашивает она. Ей приходится почти кричать.
– Я ж те говорил: и до тя это доберется! – орет он в ответ, обрубая слова на южный манер.
Она цокает языком и продолжает:
– И как же вас снова угораздило сюда попасть? Так скоро мы вас не ждали.
– Я, я, я проснулся, а кровать горит.
Мама определенно опоздает. Наверняка сейчас собирает мне вещи. Надо бы поспать. Кое-как обматываю голову толстовкой и плюхаюсь на носилки. Но в голове вертится столько мыслей, что не до сна. Что мне делать? До меня вдруг начинает доходить: я в больнице, а ведь у меня куча дел. Сегодня грандиозная туса у Аарона. Смогу я туда пойти или нет? И если нет, то что я скажу? Какие у меня варианты? Останусь дома, попытаюсь сделать домашку, не смогу и встречу очередную бессонную ночь? Еще одну ночь без сна я точно не выдержу.
Как понять, что ты опустился на самое дно? Я так думаю, что если ты по-настоящему опустился, то ночуешь на улице, а не в больнице. И тут начинается Зацикливание, я не могу его унять и чувствую себя как на дне. Я сажусь и стаскиваю с головы толстовку.
– В туалет сходить можно? – спрашиваю я у Криса.
Он ведет меня мимо словоохотливых латиноамериканских пациентов к отделанной плиткой и хромированными деталями ванной комнате, возможно, видавшей кое-что и похуже. Полицейский остается ждать снаружи. Гляжу по сторонам и прикидываю, как бы я мог себя убить, если бы мне приспичило. Можно садануться башкой об унитаз. Но это же капец как больно. Даже в ужастиках такого не встречал. Смотрю на туалет и решаю сделать это стоя. Не собираюсь я больше садиться, как забитый маленький щеночек. Стою, тужусь, мою руки и отхожу.
– Как ты быстро, – говорит Крис.
По пути в мой бокс проходим мимо Джимми из 21-го. Он по-прежнему сидит, скрестив руки на колене, а доктор Дата пытается с ним поговорить.
– Истинно тебе говорю: поставь на этот номер, и тебе повезет!
Парень с дредами по-прежнему кайфует.
Я ложусь. Тут подходит медсестра с тележкой, и я с ужасом думаю, что там снова еда. Она стучит по стене, словно я за дверью, и говорит, что пришла сделать кардиограмму. В итоге мое тело облепляют трубками, от каждой идет провод. Это совсем не больно, однако есть опасения, что снимать их не так уж приятно. Пока медсестра лепит трубки, поворачиваюсь к тележке: я вижу, как металлический рычажок, вроде иглы для проигрывания пластинок, чертит мой пульс – скачок, скачок с плато наверху, потом резкий скачок вниз, и снова то же самое. Думаю: «Вот он я. Это мое сердце».
– Ну вот и все, – говорит медсестра.
Она снимает наклейки с моей кожи, клеящаяся часть мягкая и податливая, так что мне совсем не больно. Снятые с меня трубки свисают с уезжающей прочь тележки как какие-то перепутанные корни. Секунду я просто лежу, потом надеваю рубашку и толстовку. Сколько я уже тут? Смотрю время в телефоне – прошло два с половиной часа.
– Мистер Гилнер?
Напротив входа в мой бокс стоит седой мужчина в темном костюме и сером галстуке. Он почти загородил проем своим крупным, крепко сбитым, бочкообразным телом. Лицо с внушительными бровями изрыто оспинами. Он крепко жмет мою руку и представляется:
– Значит, я доктор Махмуд. Самочувствие твое как? Почему ты сюда поступил?
Я прогоняю свою обычную историю.
– Твои родители здесь?
– Я позвонил им, но…
– Сюда? Хорошо, спасибо, – слышу я мамин голос из приемного отделения. Я кладу голову на руки.
Доктор Махмуд отходит в сторону и пропускает маму, идущую за медсестрой. В левой руке у мамы набитая вещами тряпичная сумка с двумя длинными ручками, в правой – Джордан.
– Миссис! – верещит медсестра. – С собакой сюда запрещено!
– С какой собакой? – спрашивает мама, пряча Джордана в сумку. Тот высовывает морду и лает, потом скрывается в недрах сумки.
Все приемное отделение замерло, даже обдолбанный парень смотрит на маму. К ней подходит Крис, медсестра показывает на меня.
– Секундочку, – говорит доктор Махмуд. – Вы миссис Гилнер?
– Да, а что? Крэйг! Боже мой!
Все трое – Крис, медсестра и доктор Махмуд – пропускают маму в 22-й и, встав полукругом, наблюдают, как она крепко прижимает меня к себе. Когда я был пятилетним, она обнимала меня так же, дополнительно к этому мы покачиваемся. Джордан на меня рычит.
– Пришлось его взять – он устроил такой визг. Я так тебя люблю, – шепчет мне мама в ухо горячим слюнявым ртом.
– Знаю, – останавливаю я ее.
– Миссис Гилнер…
– Ей нельзя тут с собакой, – настаивает медсестра.
– Она принесла собаку? С собакой не положено, – подтверждает Крис.
– Минутку! – восклицает доктор Махмуд.
– Раз уж вы здесь, миссис Гилнер, то довожу до вашего сведения, что ваш сын обратился к нам с жалобами на острую депрессию и навязчивые суицидальные мысли, это понятно?
– Да.
– Он прекратил прием «Золофта».
– Ты бросил его пить? – поворачивается ко мне мама.
– Я думал, что мне стало лучше, – пожимаю я плечами.
– Ты такой же упертый, как отец. Продолжайте, доктор.
– Теперь вопрос к тебе, Крэйг. Ты хочешь, чтобы мы тебя приняли?
«Приняли»? Наверное, это означает, что мы пойдем в особый кабинет, где доктор Махмуд быстренько меня проконсультирует, и я пойду. Надо доделать это дело, зря я, что ли, столько томился в приемном отделении скорой?
И я говорю:
– Да.
– Вот и правильно, – говорит мама.
– Подпишите вот здесь за Крэйга, миссис Гилнер, что он согласен. – Доктор поворачивает планшет с клипсой от меня к маме. В верхней части листа чертова куча мелких буковок, снизу их еще больше, а примерно посередине, где виднеется линия из каких-то печатей, надо подписать.
– И еще кое-что, – предупреждает доктор, – в госпитале идет ремонт, мест не хватает, так что вашего сына примут вместе со взрослыми.
– Что, простите?
– Его примут со взрослыми пациентами, а не с другими подростками.
А, ну так, значит, я буду ждать приема у доктора Махмуда вместе со взрослыми чуваками?
– Я не против, – говорю.
– Чудно. – Доктор улыбается.
– Это не опасно? – интересуется мама.
– Конечно, нет. В нашем госпитале самый лучший уход в Бруклине, а ремонт скоро закончится.
– Хорошо. Крэйг, ты не против?
– Конечно. Делов-то.
Мама выводит свою неразборчивую, лихо закрученную подпись.
– Прекрасно. Крэйг, для твоего приема все готово, – резюмирует доктор Махмуд. – Ты быстро пойдешь на поправку.
– Ясно. – Мы жмем руки, он поворачивается и идет в своем костюме по приемному отделению, приветствуя пациентов справа и слева.
Медсестра трогает маму за плечо и стоит на своем:
– Извините, но с собакой вам придется уйти.
– Можно оставить сыну сумку с одеждой?
– Зачем мне одежда? – спрашиваю я. Заглядываю в сумку: в принципе, там не только одежда, и есть шмотки, которые можно носить, но на них сидит Джордан.
– Если хотите принести ему вещи, то передачи у нас днем, – объясняет медсестра.
– Куда его поместят? – спрашивает мама так, будто я пустое место.
– В шестой северный.
– Крэйг, я тебя люблю.
– Пока, мам.
Мы наскоро обнимаемся, и она уходит. Крис так и сидит на стуле, уперев руки в бедра, наблюдает. Я уже начинаю сомневаться, что он справляется с работой больничного охранника.
– Что значит «шестой северный»? – спрашиваю я у Криса.
– Мы, это самое, не должны разговаривать, – он снова берется за газету.
Я выглядываю в проем в надежде увидеть что-то новенькое – никаких изменений.
Не будь у меня депрессии, не пришлось бы сидеть в этой паршивой дыре.
– Мистер Гилнер! – наконец-то зовет меня кто-то.
К двери подходит худой, похожий на престарелого хиппи очкарик с короткой бородкой. Для полноты картины ему только длинных волос не хватает. На нем ни белого халата, ни синей униформы – он в джинсах, синей рубашке и чем-то вроде кожаного жилета.
– Я Смитти, пошли, отведу тебя к нам наверх.
– Двоих забери! – бросает проходящий мимо доктор. – Из 21-го и из 22-го.
– Не, на пациента из 21-го у меня бумаг нет, – мотает головой Смитти. – Так что забираю мистера Гилнера, а потом вернусь, лады? Эй, это Джимми, что ли?
– Снова он, – жалуется доктор.
– Сегодня же суббота, малыш. Все будет чики-пики. Мистер Гилнер? – тут он поворачивается ко мне.
– Ага, я.
– Готов убраться из этого безумного местечка?
– Мы пойдем к доктору Махмуду?
– Конечно. Попозже.
– Ну что, Смитти, этого забираешь? – интересуется Крис.
– Мистер Гилнер, ты же не будешь выкаблучиваться по дороге?
– Э-э-э… нет.
– Лады. Вещи взял?
Я проверяю, на месте ли браслеты, ключи, мобильник и бумажник.
– Ага!
– Пошагали.
Спрыгиваю с носилок, киваю Крису и иду за Смитти, который не спеша шествует через приемное отделение. Открываем дверь рядом с туалетной комнатой, и – мать моя женщина! – там же другой мир: стены из красного кирпича, деревья в кадках, фотографии заслуженных докторов, работавших в госпитале.
Смитти проводит меня через атриум к лифтам. Жмет кнопку «вверх», встает рядом со мной и кивает. Между лифтами замечаю табличку, где написано, что на каком этаже:
4 – Педиатрическое отделение
5 – Родовое отделение
6 – Взрослое психиатрическое отделение
Как там говорили: «Его поместят на Шестой северный»?
– Едем во взрослое психиатрическое? – интересуюсь я у Смитти.
– Ну так, – смотрит он на меня и лыбится, – для стариковской-то психиатрии тебе еще жить и жить.
Лифт звякает, мы входим и встаем по углам. На шестом выходим, и Смитти идет справа от меня. Проходим мимо плаката с упитанным латиноамериканцем в синей униформе, с приложенным к губам пальцем. Внизу надпись: «Тсс! Идет лечение». Потом Смитти проводит какой-то картой напротив двойной двери, она открывается, и мы заходим.
Перед нами пустой просторный коридор – поперек такого поместился бы человек с вытянутыми вверх руками. В конце коридора – два больших окна и несколько диванов. Справа – небольшой кабинет со стеклянным окошком, в которое вплетен тонкий провод, так что в пересечении получились двухсантиметровые квадратики. В кабинке за компьютерами сидят медсестры. Прямо за кабинетом направо ответвляется другой коридор. Я иду за Смитти и, когда мы оказываемся у пересечения двух коридоров, заглядываю в тот, что справа.
Там, прислонившись к перилам, стоит невысокий коренастый мужчина. Перила идут вдоль всего коридора, хотя никаких ступенек там нет. У чувака помятое лицо с глазами навыкат и не совсем заросшая заячья губа. На шее торчит пушок, а небольшую голову венчает сноп черных волос, выбритых по бокам. Он потерянно смотрит на меня: будто я выпрыгнул перед ним из канализационного люка и предлагаю какие-то особо ценные скрепки с Луны.
И тут до меня доходит: да я же в психушке!
Часть пятая Суббота, шестой северный
Девятнадцать
– Проходи сюда, сделаем замеры. – Смитти усаживает меня в кабинку.
Он снимает с тележки тонометр и меряет мне давление – тонкие пальцы ложатся на мой пульс. Потом аккуратно записывает на листке: 120/80.
– Сто двадцать на восемьдесят – здоров как бык, да? – спрашиваю я.
– Ага, – улыбается Смитти, – но лучше быть здоровым как человек.
Он сворачивает тонометр и говорит:
– Сиди тут, сейчас позову медсестру.
– Медсестру? А ты тогда кто?
– Я дневной смотритель отделения.
– И что это за отделение?..
– Взрослое психиатрическое отделение временного пребывания.
– Вроде отделения для содержания психов?
– Не содержания, а лечения. Медсестра все тебе расскажет.
Он выходит из кабинета, а я остаюсь заполнять анкету: имя, адрес, номер социального страхования. А дальше – стоп! Я уже это видел! Вопросы как в опроснике у доктора Барни: «Вы чувствуете, что не способны справиться с повседневными делами» – 1) никогда; 2) иногда; 3) почти каждый день; 4) всегда.
Да чего там – я же попал в больницу: отмечаю четвертый ответ во всех вопросах, а их там штук двадцать. Но на вопросы про членовредительство, алкоголь и наркотики я отвечаю по-другому. («Никогда никому не говори, что куришь травку, – как-то сказал мне Аарон. – Как бы ты им ни доверял, об этом ни слова, а то попадешь в список ФБР». Про травку не упоминаю – правило есть правило.) У меня все заполнено, и тут заходит улыбчивая коренастая темнокожая медсестра с туго заплетенными афрокосичками. Она говорит с сильным вест-индским акцентом:
– Крэйг, я здешняя медсестра, Моника. Задам тебе пару вопросов, ага? Про самочувствие и все такое, чтобы понять, как тебе помочь.
– Угу, я э… – Наступает мой черед отстоять себя. – Я не на шутку психанул, потому и пришел. Записался там внизу, в приемном, но, знаете, когда подписывал, не совсем понимал, куда иду. А меня привели сюда, и что-то я не совсем уверен, что…
– Погоди, дорогуша, давай-ка я тебе кое-что покажу.
Медсестра Моника нависает надо мной, хотя она такая маленькая, что мы оказываемся с ней почти вровень, и вытаскивает копию документа, подписанного мамой часом ранее.
– Видишь вот это? Подписано, что ты добровольно поступаешь на попечение психиатрического отделения госпиталя «Аргенон», так?
– Ага…
– А тут, видишь? Написано, что тебя выпишут на усмотрение доктора согласно плану выписки.
– То есть я не выйду, пока меня доктор не отпустит?!
– Погоди. – Она садится. – Если ты понимаешь, что тебе здесь не место, через пять дней напишешь письмо, мы называем его «пятидневное обращение». Объяснишь в нем, почему тебе тут не место, мы его посмотрим и выпустим, если посчитаем, что ты готов выйти.
– То есть я тут на пять дней минимум?
– Некоторые и через два дня выходят. Но уж точно не больше чем через тридцать.
Вот блин! Но мамина подпись стоит, что тут еще скажешь. Опускаюсь на стул. Еще утром я был нормальным, обычным подростком, а теперь полюбуйтесь – психбольной. Правда, вы знаете, что я не был таким уж нормальным. Так что ладно. А, нет, не ладно! Это, блин, хреново. Это капец как…
– Теперь поговорим о том, почему ты сюда попал, – продолжает допрос Моника.
Я рассказываю.
– Когда ты последний раз лежал в больнице?
– Года четыре назад. Меня сбили санками.
– Значит, с психическими расстройствами ты раньше не лежал?
– Не-а.
– Хорошо. А теперь посмотри на эту шкалу, видишь?
У нее на листочке небольшая шкала от нуля до десяти.
– Это градация физической боли. Подумай, испытываешь ли ты какую-либо физическую боль прямо сейчас, и оцени ее от нуля до десяти.
Я всматриваюсь и вижу, что напротив нуля написано «боли нет», а напротив десяти – «невыносимая, мучительная боль». Тут я вынужден заткнуться.
– Ноль, – выдаю я.
– Чудненько. А теперь самый важный вопрос, – она наклоняется, – до того, как ты сюда пришел, не пытался ли ты себе навредить?
И тут я понимаю, что это и правда важный вопрос. Не исключено, что от того, как я на него отвечу, будет зависеть, поместят ли меня в нормальную комнату с теликом или в специальную, где людей привязывают ремнями к кровати. И я как можно более отчетливо произношу:
– Нет.
– И не принимал ничего? Не пробовал ничего для хорошего сна?
– Для чего?
– Ну, для хорошего сна, знаешь. Так они это называют. Это когда глотаешь кучу таблеток, запиваешь алкоголем и…
– А, нет, – поспешно говорю я.
– Ну и хорошо, – говорит она. – Никто не хочет, чтобы ты умирал. Подумай, чем тебя наделила природа, подумай, на что способны твои руки и ноги.
И я думаю. Представляю, как мои руки подписывают документы, а ноги сгибаются и разгибаются, когда я, опаздывая, несусь на урок. Да, я определенно способен на кое-что.
– А теперь у нас обед, – говорит Моника. – Ты христианин?
– Э, да.
– Вегетарианец?
– Нет.
– Хорошо, значит, никаких особых требований в питании. Теперь читай. – Она протягивает четыре листа. – Это правила поведения в отделении.
Выхватываю взглядом 6-й пункт: «Пациенты должны быть гладко выбриты. Бритье осуществляется после завтрака, под присмотром персонала».
– Не знаю, заметил ли ты первый пункт?
– Э… мобильные телефоны в отделении запрещены?
– Именно. У тебя есть мобильный?
Телефон лежит в кармане, я чувствую его приятную тяжесть. Как не хочется с ним расставаться: он единственное, что делает меня мной. Кто я без моего мобильного? Я останусь без друзей, потому что не помню на память их номера. Практически без семьи – их номера я тоже не помню, даже домашний. Дикий зверь, да и только.
– Давай его сюда, – говорит Моника. – До выписки он будет храниться в твоем шкафчике или можешь отдать родственникам, когда придут тебя навестить.
Я выкладываю телефон на стол.
– Отключи, пожалуйста.
Я сдвигаю панель телефона, чтобы нажать кнопку выключения, и вижу два сообщения в голосовой почте. Интересно, от кого они? Нажимаю «выкл». Пока, телефончик.
– А теперь самое важное – у тебя есть при себе колюще-режущие предметы?
– Ключи считаются?
– Туда же, к телефону. Положим на хранение.
Я звучно шмякаю ключи на стол, в общую кучу, которую Моника смахивает в серый пластиковый лоток, как делают служащие в аэропорту.
– Отлично. Подумай, может еще что-то есть?
«Моника, да у меня же остался только бумажник и шмотки, что на мне», – думаю я и отрицательно мотаю головой.
– Ну и замечательно, посиди пока. – Моника встает. – Сейчас Бобби все тебе тут покажет.
Она кивает, забирает листочек со шкалой и выходит в коридор. Я остаюсь наедине с бумажками. Моника возвращается через пару минут с каким-то костлявым, осунувшимся чуваком: у него огромные круги под глазами, а нос сломан чуть ли не в трех местах. Несмотря на строгие правила, подбородок дохлика покрывает щетина. И хотя лет ему немало, волосы на месте – голову венчает кое-как причесанная седая шевелюра. Осанка у чувака довольно странная – как будто он откинулся на кресло с подголовником.
– Вот ничего себе, ты же пацан! – говорит он, кривя губы и протягивая руку – на ощупь она как тротуар, а корявый большой палец крючком торчит вверх. – Бобби, – представляется он.
У него на толстовке Марсианин Марвин и надпись: «Властелин Вселенной».
– Крэйг, – говорю я, вставая.
Бобби кивает, при разговоре его кадык с отдельно торчащими седыми волосинками двигается в такт:
– Готов к мегаэкскурсии?
Двадцать
Бобби своей странной походкой выходит в ярко освещенный коридор, я следую за ним.
– Сейчас все в столовой, – показывает он рукой, в то время как мы идем по боковому коридору, тому самому, который ответвляется от широкого, куда я заходил вначале. Смотрю налево: там столовая, отделенная от коридора стеклом со встроенными проволочными квадратиками. В заполненном круглыми столами зале все, кроме телика, выкрашено в синий. Там полно людей, они сидят за сдвинутыми с мест столами, образующими что-то вроде зыбкого круга.
Даже не знаю, как их описать, более разношерстной компании я не встречал. Старикан с безумно торчащей бородой (а как же гладкое бритье?) раскачивается на стуле вперед-назад; огромная темнокожая тетя сидит, опершись подбородком на трость; понурый длинноволосый блондин запустил руки в свою шевелюру; коренастый лысый мужик с прорезями вместо глаз с хмурым видом скребет подмышку; старушка в очках изображает пантомимой вроде как орла, что-то рассказывает и поворачивается, изучая спинку своего стула. Вижу, как по коридору, конвульсивно перебирая ногами, идет коротышка. На стуле, согнувшись, сидит девушка с синими прядями в темных волосах – у нее явно крыша потекла сильнее, чем у остальных; крупная молодая женщина с поникшим хмурым лицом откинулась на спинку стула и ковыряет в носу; темнокожий пацан в проволочных очках сидит как кол проглотил. И кто там еще? Да это же Джимми, мой сосед снизу. Он, в своей футболке с пятном, смотрит вверх, на лампы на потолке. Похоже, его быстро оформили, он же тут уже лежал.
Нетрудно понять, кто возглавляет это собрание из десятка чудны́х персонажей: худая темноволосая женщина с короткой стрижкой – она тут одна в костюме. Некоторые не то что в одежде, а в одних только накинутых синих халатах с V-образным вырезом.
– Ну что, парень, – говорит Бобби, останавливая меня в коридоре, – если хочешь, можешь остаться тут, на собрании.
– Нет, я…
– Раз я провожу для тебя экскурсию, то могу и не ходить.
– А, ладно.
– Ну, значит, курилка у нас на… Погоди, ты же не куришь, верно?
– Ну… курю кое-что…
– Я про сигареты.
– А, нет, их не курю.
– А тебя спрашивали про курение?
– Нет.
– Это, наверное, потому, что тебе по возрасту не положено? Тебе сколько?
– Пятнадцать.
– Ну надо же! Так, ладно, курить можно пять раз в день: после завтрака, обеда, потом в три часа дня, после ужина и перед отбоем.
– Понятно.
– Курят многие. И если ты скажешь, что куришь, может, тебе будут давать сигареты.
– Нехило так, – фыркаю я себе под нос.
– Это единственный госпиталь, где еще выдают сигареты. – Бобби показывает рукой назад. – Курилка там, в другом коридоре.
Теперь подходим к третьему коридору, перпендикулярному тому, где мы находились. Как я понял, шестой северный спроектирован в форме буквы Н: там, где вход, – нижняя левая палочка; кабинетик медсестер – на соединении левой палочки с центральной перекладиной; столовая стоит возле центральной перекладины и правой палочки, а палаты идут вдоль левой и правой палочек. Мимо них мы и идем, в сторону верхней правой части буквы Н: на простеньких дверях – таблички с вставленными в них листочками с именами пациентов и их лечащих врачей.
Напротив имени пациента стоит фамилия доктора. Читаю «Бетти – д-р Махмуд; Питер – д-р Малленс; Муктада – д-р Махмуд».
– А я в какой комнате?
– Наверное, тебя еще не определили, после обеда точно сделают. Так, тут, значит, у нас душевая, – показывает он на дверь справа. Розовая двигающаяся полоска пластика стоит между словами «СВОБОДНО» и «ЗАНЯТО».
– Предполагается, что заходишь внутрь и ставишь «ЗАНЯТО», но народ на это не обращает никакого внимания, а замка тут нет, так что я просто держу дверь. Мыться так тяжеловато – вода не везде попадает.
– Как выставлять «ЗАНЯТО», изнутри?
– Нет, снаружи. – Бобби сдвигает полоску. Она закрывает «СВОБОДНО» и остается только «ЗАНЯТО».
– Зачетно. – Я сдвигаю обратно. Проще некуда, но я бы не догадался, не покажи мне Бобби.
– А это женская или мужская ванная комната?
– Это не ванная комната, а душевая. Ванная комната есть в палатах. А это общая, ага. В другом коридоре есть еще душевая, – мы с Бобби идем дальше, – но я бы ей не пользовался – Соломону это не нравится.
– Кто такой Соломон?
Мы доходим до конца коридора. На окнах жалюзи, и они как-то вставлены между стеклами. За окном обычный майский денек в Бруклине разбрызгался облаками. В тупике стоит ряд стульев. Навстречу нам идет с поникшим видом светловолосая девчонка с порезами на лице, она отрывает взгляд от какого-то блокнота и поспешно юркает в ближайшую комнату.
– Вот тут показывают кино. – Бобби пожимает плечами. – А иногда в другом конце, за курилкой.
– Ага, понятно. А кто это был?
– Ноэль. Ее перевели из подросткового отделения.
Мы поворачиваем.
– Лекарства раздают здесь. – Бобби показывает на стол напротив столовой. – После завтрака, после обеда и перед сном.
За столом сидит Смитти и наливает газировку.
– Это медсестринский пост, а там был их кабинет. Тут у них шкафчики, где лежат наши вещи.
– У меня забрали телефон.
– Ага, у всех забирают.
– А насчет электронной почты как?
– Чего?
Мы возвращаемся в столовую. Замедляю шаг. Коренастый лысый чувак с раскосыми глазами жалобно говорит нараспев:
– …мне обидно, что некоторые тут совсем не уважают во мне личность, и, если я сказал доктору, что не боюсь умереть, но мне страшно жить, поэтому я хочу проткнуть себе штыком пузо, это не значит, что я боюсь хоть кого-то из вас.
– Хамбл, давай сосредоточимся на том, что приносит нам радость, – увещевает психолог.
– А эти психологи, они же слушают тебя и записывают не то, что ты говоришь, а подсчитывают, сколько выручат от продажи старой яхты, потому что этим богатеньким яппи плевать…
– Садись давай, – хлопает меня по плечу Бобби.
– Его зовут Хамбл[12]?
– Ага. Он из Бенсонхерста.
Бенсонхерст – это практически еврейско-итальянское гетто в составе Бруклина, где к девушке на улице запросто может подкатить тачка, полная лихих парней, выкрикивающих: «Эй, цыпочка, подвезти?»
– А ты откуда? – спрашиваю я.
– Из Шипсхед-Бея.
Тоже старый район Бруклина, там много русских. Оба района отсюда довольно далеко.
– А я отсюда, – говорю я.
– Да ты что, из этого района? Хорошее место.
– Ага, наверное, да, неплохое.
– Чувак, да я бы оставшееся яйцо отдал отрезать, лишь бы тут жить. Я пытаюсь попасть в местный дом-интернат. Ну да ладно. Это вот телефон.
Он показывает налево, где висит платный телефон с желтой трубкой.
– Звонки до десяти вечера, – поясняет Бобби. – Захочешь, чтобы тебе позвонили, – номер написан на аппарате и в твоей карточке тоже. И не волнуйся, звонок не пропустишь, кто-нибудь тебя позовет.
Бобби замолкает.
– На этом все.
Действительно проще некуда.
– А чем тут занимаются? – спрашиваю я.
– Для нас проводят разные мероприятия. Приходит парень с гитарой; делаем с Джоан поделки всякие и рисуем. Ну а кроме этого, остается только по телефону трепаться, так что лучше попытайся отсюда выбраться.
– По сколько люди тут живут?
– Парни, как ты, из обеспеченных семей, и пары дней не задерживаются.
Я смотрю в глубоко посаженные глаза Бобби. Не знаю, откуда у меня это знание, ведь с неписаными правилами поведения в психушке я не знаком, но я почему-то понимаю, что главное, о чем нельзя спрашивать, – почему ты сюда попал. Это все равно что подойти к кому-то в тюрьме и наехать: «Ну? За что сел? Завалил кого-то, ага? Завалил?» Может, у меня это врожденное или я знал, что попаду в такое место.
А еще я понимаю: можно когда угодно назвать любую причину на свое усмотрение, и никто тебя за это не осудит. Никто не подумает, что ты слишком уж сумасшедший или недостаточно сумасшедший; и, говоря об этом, заводишь друзей. О чем тут вообще разговаривать, как не об этом? Так что я выкладываю Бобби:
– Я тут потому, что у меня серьезная депрессия.
– У меня тоже, – кивает он. – С пятнадцати лет. – Его черные глаза поблескивают как в ужастике.
Мы жмем друг другу руки.
– А, Крэйг! – говорит из-за стола Смитти. – Твоя комната готова. Пойдем, познакомлю с соседом.
Двадцать один
Моим соседом по комнате оказывается Муктада.
Он так и выглядит, как ожидаешь от парня по имени Муктада: здоровенный, седобородый, темное морщинистое лицо, очки в белой пластиковой оправе. Одежды на нем и вовсе нет – он в темно-синем халате, от которого несет немытым телом. Но так сразу этого всего и не увидишь – как только я зашел, Муктада тут же зарылся в простыни.
Смитти врубает свет:
– Муктада, подъем! Уже обед! Вот, новый сосед пришел!
– М-м? – выглядывает тот из простыней. – Кто такой?
– Меня Крэйг зовут, – подаю я голос, засунув руки в карманы.
– М-м. Тут дубак, Крэйг. Тебе здесь не понравится.
– Муктада, разве ремонтники не приходили, не починили отопление?
– Да, вчера чинили, и все равно дубак. Сегодня чинили, дубак.
– Дружище, так ведь весна, о каком холоде речь?
– М-м.
– Твое место вон там, Крэйг.
Смотрю в дальний угол комнаты – кровать, что приготовили для меня, если ее можно так назвать, выглядит более чем скромно, я таких и не видал: маленькая, покрыта простыней, еще одной для укрывания, плюс подушка. Ни тебе кучи плюшевых игрушек, ни ящиков внизу, ни изголовья. Вокруг нет никаких картин или там свечей. Так же выглядит и вся комната: есть только окно (снова со вставленными внутрь жалюзи), закрытый панелью радиатор отопления, две кровати, между ними тумбочка с двумя пластиковыми больничными кувшинчиками странной формы с водой. Лампы, одежный шкаф и ванная комната. Стены голые, и единственное, на чем задерживается взгляд, – пористая плитка на потолке. Открываю шкаф: на нижней полке лежат видавшие виды штаны Муктады, остальные полки в моем распоряжении. Снимаю толстовку и кладу туда.
– Ну, все нормально? – спрашивает Смитти. – Через пять минут обед.
Он уходит и оставляет дверь открытой. Я сажусь на кровать.
– Дверь. Закрой, пожалуйста, дверь, – просит Муктада.
Я закрываю и возвращаюсь. Он смотрит сквозь меня и говорит:
– Спасибо.
– Чем тут кормят? – интересуюсь я.
– Хм.
Не знаю, как это понимать, и решаюсь на другой вопрос:
– Э… хорошо тут кормят?
– М-м.
– А… откуда вы?
– Египет, – говорит он надтреснутым голосом, и это первый раз, когда в его голосе прорезается радостная нотка. – А ты откуда? Откуда твоя семья?
– Ну, во мне намешано много белых кровей: немцы, ирландцы и чехи. Говорят, есть даже немного еврейской крови. Но я христианин вроде как.
И тут я подумываю: в такой бедно обставленной комнатушке должна быть Библия? Гедеоновы братья раскладывают их в гостиничных номерах по всему миру. Проверяю ящики прикроватной тумбочки под кувшинчиками – ничего. Получается, Гедеоновы братья сюда не заглядывают – труба дело.
– М-м, – подает голос Муктада. – Что ты там ищешь? Нет там ничего, – говорит он, продолжая пялиться в одну точку.
Хочу прилечь, отоспаться за прошлую ночь, но боюсь, что буду походить на не вылезающего из кровати Муктаду, и выхожу прогуляться. Может, оно и лучше, что я делю комнату с таким вот соседом, которому определенно хуже, чем мне. Никогда не брал в расчет, но ведь на свете полно людей, которым куда хреновее моего, верно? У некоторых такие проблемы с головой, что они становятся бездомными, не могут выбраться из кровати, не способны работать или, как в случае с Муктадой, постоянно тревожатся из-за температуры. Получается, в сравнении с ними я… избалованный богатенький мальчик. Приехали, одним поводом для переживаний больше. Ну и кому тогда хуже?
Выхожу в коридор и чуть ли не врезаюсь башкой в гигантскую металлическую этажерку с подносами. Тележку катит служащий, на голове у него трикотажная шапка. От подносов пышет жаром и пахнет свежеприготовленной едой.
– Осторожно! – орет он на меня.
Вот я попал. Мне придется есть. Ну все, теперь все увидят, насколько хреново у меня дела: там, внизу, я не смог съесть вареное яйцо и сейчас ничего не смогу. Что будет, когда я заволнуюсь, человечек у меня в животе начнет затягивать свою веревку, и я блевану прямо в столовой? Хорошенькое начало, нечего сказать.
– Обед! – орет на весь коридор коротышка с не совсем заросшей заячьей губой. Он выскакивает из столовой и прохаживается по всему коридору, до окна и обратно, стуча во все двери. Исключений нет, даже если пациент стоит в раскрытой двери прямо у него перед носом.
– Давай, Кендис! Пошевеливайся, Берни! Ну же, Кейт! Пора есть! Поторопись, Муктада!
– Это Армелио, – говорит кто-то позади меня. Поворачиваюсь – Бобби в своей толстовке с марсианином. – Мы зовем его Президент. Он тут у нас заправляет всем отделением.
– Привет, кто такой? – спрашивает подошедший Армелио.
– Крэйг.
Мы здороваемся за руку.
– Очень рад знакомству! Так, народ! Внимание сюда! У нас новенький! Отлично, дружище! Новый знакомый – это здорово! Пора на обед! Соломон, живо вытряхивайся из комнаты, и чтобы мне без фокусов, иди и ешь! Все идут есть!
Я плетусь в столовую под крики Армелио и плюхаюсь на стул рядом с лысым чуваком, Хамблом. Тот до сих пор талдычит про психологов и яхты.
Двадцать два
Интересно, есть ли в госпитале «Аргенон» такая еда, которую я тут же не выблюю? На раздаче стоит Президент Армелио, вручает поднос и оглашает имя, вот так: «Гилнер, это Гилнер – мой новый друг!» Вижу, что дают другим: рыбные наггетсы, телятину под соусом марсала, рвотного цвета пирог с сыром и другие отвратные на вид блюда. Мне же достается куриная грудка карри, не с настоящим жидким соусом, а просто посыпанная какой-то приятной смесью желтых приправок. Еще на подносе пластиковые нож и вилка, чтобы это дело порезать, брокколи (из овощей я его больше всех люблю) и морковный салат с зеленью. Открываю пластиковую крышку и улыбаюсь – что-то повлияло на мой желудок (я сейчас не о Большом Сдвиге, это, скорее, частный, мелкий сдвиг), и я собираюсь все это съесть. Кроме курицы с овощами есть кофе, горячая вода, чайный пакетик, молоко, пакетики с сахаром, солью, перцем, сок, йогурт и одно печенье. Насколько я припоминаю, так и должна выглядеть хорошая еда. Начинаю нарезать куриное мясо.
– У кого есть лишняя соль? – сидящий напротив меня Хамбл водит шеей по сторонам.
– Держи. – Я раскрываю для него пакетик с солью. – Но я бы на твоем месте не подсаживался.
– Смотри, я ничего не слышал, – говорит он и посыпает курицу солью, глядя на меня глазами, обведенными фиолетовыми кругами, как будто ему по ним хорошенько врезали с неделю назад.
– Ну я прямо на полном серьезе думал, что ты один из этих яппи[13].
– Да нет, – говорю я и кладу кусок курицы в рот: вкусно.
– Тут полно яппи, и ты на них похож. Ну знаешь же, как выглядят богатенькие?
– Ага.
– Им же плевать на остальных. А вот я не такой. Мне есть дело до других. Означает ли это, что я не стану вышибать из кого-то дерьмо? Вовсе не означает – это же моя среда, я в ней вырос. Я вроде как животное.
– Мы все подобны животным, – говорю я. – Особенно сейчас, когда сидим все вместе и едим. На школу похоже.
– А ты не дурак, как я посмотрю. Да, все мы животные, школьники тоже, но в некоторых из нас это сильнее. Вроде как в той книжке «Скотный двор», что я читал: все животные созданы равными, но некоторые равнее прочих. И в реальном мире все равные рождены животными, но в некоторых животного больше. Погоди, я сейчас это запишу.
Хамбл оборачивается и вытягивает с подоконника, где горкой сложены разные настольные игры, лежащий на самом верху «Скрэббл». Выуживает из коробки ручку, вынимает доску, переворачивает и пишет на обратной стороне, которая уже и так зарисована каракулями.
– Хамбл! – окрикивает из дверей Смитти.
– Все, все, не трогаю! – Хамбл поднимает руки. – Это не я!
– Сколько раз тебе говорить: не пиши на доске для «Скрэббла»! Дать тебе бумагу и карандаш?
– Да мне все равно, – говорит Хамбл и показывает на голову: – У меня все вот тут.
Потом он поворачивается ко мне и продолжает разговор как ни в чем не бывало:
– Мы с тобой, может, и равны, но я большее животное, чем ты.
– Угу, – мычу я, думая, что определенно выбрал подходящее место, чтобы сесть.
– Я прирожденный альфа-самец. Поэтому, как только ты вошел, я сразу сделал определенные выводы. Я увидел, что ты молоденький. А в дикой природе, если лев видит молодняк из другого прайда, чужое племя, значит, он убивает и пожирает его, чтобы оставить свое собственное потомство. Но здесь, – тут Хамбл обводит рукой полукруг, поясняя, где именно это «здесь», как будто догадаться об этом сложно, – к сожалению, представляется явная нехватка женщин, готовых принять мой племенной потенциал. Так что ты для меня угрозы не представляешь.
– Понятно.
В другом конце столовой Джимми пытается открыть одной рукой сок; другую он держит прижатой к боку, и я даже не знаю, то ли он не может ей двигать, то ли не хочет. Ему на помощь спешит Смитти.
– И до тя это доберется! – не унимается Джимми.
– Ты чувствуешь, что я для тебя угроза? – спрашивает Хамбл.
– Нет, я думаю, ты вполне дружелюбный чувак, – говорю я сквозь чавканье.
Хамбл кивает. У него на тарелке лежит еда – такая невинная и беззащитная, не подозревает, что через пару секунд ей каюк и она будет наполовину сожрана.
– Когда мне было как тебе – тебе же пятнадцать, да?
Я киваю:
– Как ты догадался?
– Я хорошо определяю возраст. Так вот, в пятнадцать лет была у меня одна цыпа, ей было двадцать восемь. Не знаю почему, но она по мне прямо сохла. Искурил я тогда немало косяков, вся моя жизнь была сплошным накуриванием…
Странное дело, но мой желудок снова был со мной. Пока я слушал байки Хамбла, я ел не потому, что хотел, и не потому, что было надо, не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а потому что еда была тут. Я ел, потому что люди едят. А еще, когда еду тебе дали в больнице, ты понимаешь, что за ней стоит неразличимая серая масса и никого конкретно благодарить за это не надо, и ты инстинктивно хочешь ее сожрать, потому что соперник вроде Хамбла придет и утащит ее. Пока я жую, думаю, что все мои проблемы оттого, что я слишком много думаю.
– Поэтому тебе надо вступить в армию, солдат.
– Я думал, что я уже в армии, сэр!
– Ты в воображаемой армии, Гилнер, а я говорю об армии США.
– Значит, мне надо записаться в армию?
– Не знаю, а ты справишься?
– Не знаю.
– Ну вроде как тебе по душе дисциплина и выполнение приказаний. А в армии этим и занимаются, Гилнер.
– Но я не хочу в армию, я хочу быть нормальным.
– Тогда тебе есть над чем поразмыслить, солдат, потому что, насколько я знаю, нормальные не бывают без работы.
– Девушка у тебя есть? – интересуется Хамбл.
– Что?
– Есть кто-то там? Может, какая-то горячая пятнадцатилетняя цыпа? – Он указывает на меня вилкой, испачканной едой.
– Нет! – улыбаюсь я, думая о Ниа.
– Встречаются такие прям милашки. – Хамбл вальяжно запускает пятерню в несуществующие волосы. Руки у него волосатые, и татуировок там хоть отбавляй: джокеры, мечи, бульдоги и пиратские шхуны. – Девчонки сейчас одна смазливее другой.
– Это из-за гормонов, – говорю я.
– Точняк, башка у тебя варит. Сахарку не осталось?
Передаю пакетик с сахаром. С курицей я покончил и съел бы еще, честно говоря, но не знаю, у кого спросить. Решаю заварить чайку. Вскрываю пакетик, на котором красуется этикетка с незнакомым названием: «Сладкое прикосновение», сомневаюсь, что такая марка вообще существует, – и закрашиваю воду уймой добавок и красителей. Пока вожусь с чаем, подходит Смитти со вторым подносом еды, близнецом первого, и говорит:
– Смотрю, ты и второй приговорить не прочь.
– Спасибо.
– Лопай.
С удовольствием принимаюсь за вторую порцию. Я прямо как заводной механизм, который починили.
– Они пьют молоко, а коровы же сейчас все на гормонах, – успеваю я вещать в перерывах между жевками, – вот девушки и развиваются раньше времени.
– И не говори! – восклицает Хамбл. – Самый прикол, что и в мое время цыпочки были покруче, чем во времена моего отца. А теперь чего от них ждать? Как они будут выглядеть?
– Как секс-роботы.
– Ха-ха. Откуда ты?
– Отсюда.
– Из этого района? Прикольно. Наверное, быстро тебя доставили. Если ты, конечно, приехал на скорой. Я не то что осуждаю или что, просто интересно.
Хамбл откусывает два больших куска, прожевывает и продолжает:
– Как ты сюда попал?
Он нарушил незыблемое правило шестого северного. Или нет такого правила? А может, если вы едите за одним столом, то правило можно нарушить?
– Я сам пришел и записался.
– Сам? Зачем?
– Ну, мне было капец как плохо, я хотел покончить с собой.
– Чувак, я ровно то же самое сказал врачу на прошлой неделе: «Умереть не боюсь, но мне страшно жить, поэтому хочу проткнуть себе штыком пузо» и перестал принимать свои таблетки от давления. У меня же до кучи еще и высокое давление, это вдобавок к пилюлям, которые мне дают, чтобы я не выжил из ума. Если я не буду контролировать потребление соли, то загнусь, так что я сказал, что уже не пью лекарство от давления, и врач всполошился: «Вы что, с ума сошли? Хотите себя убить?!», а я ему: «Да», – ну, меня сюда и прикатили.
– Ого.
– Напрягает то, что до этого я год жил в машине. Все, что у меня осталось, – одежда на плечах. Машину и ту отогнали эвакуатором, а в ней были все мои вещи. И киноаппаратура стоимостью три с половиной тысячи долларов тоже там.
– Ничего себе!
– Так что в ближайшее время мне надо позвонить в полицию, на штрафстоянку, оформиться в дом-интернат и поговорить с дочерью. Ей примерно как тебе. С ее матерью мы практически расстались, а вот в дочке души не чаю. Мать же ненавижу всей душой.
– Ха, – издаю я короткий смешок.
– Не надо тут мне подыгрывать, понял? Смейся, только если и правда смешно.
– Это смешно.
– Ну и чудно. Теперь я уже не считаю тебя яппи. Ты кто-то еще, но вот кто, пока не пойму. Но скоро выясню.
– Круто.
– Пойду таблетки приму, а то в башке так жахает, что до конца дня не высижу.
Хамбл отчаливает. Я доедаю курицу. Когда тарелка пустеет, я чувствую себя так охренительно, что даже не припомню, когда такое было в последний раз, может, с год назад. Это было ровно то, что надо. Может, Кит из Центра помощи при тревожных состояниях и был нерешительным малым, но в одном он точно оказался прав: все, что нам нужно, – еда, вода и крыша над головой. Ну вот, у меня уже все это есть. Что теперь?
Оглядываю обеденный зал: три молодые пациентки сидят вместе – крупная девушка, блондинка с порезами и темноволосая с синими прядями.
– Иди сюда, – подзывает меня та, что с синими прядями.
Двадцать три
Давненько девчонки не звали меня за свой стол. Да прямо скажем – это первый раз.
– Я? – указываю я на себя.
– Нет, блин, другой новенький, – говорит Синеволоска.
Не знаю, куда девать поднос: поднимаюсь, поворачиваюсь во все стороны, как на шарнирах…
– На тележку поставь, – подсказывает Синеволоска.
Она поворачивается к крупной девушке и говорит:
– Боже, какой красавчик.
Она так сказала? Ставлю поднос на тележку и сажусь за стол к девушкам на свободное место.
– Как тебя зовут? – спрашивает Синеволоска.
– Э, Крэйг.
– Ну и каково это, Крэйг, быть тут самым клевым парнем?
Я встрепенулся и вытянулся, как блочный канатный механизм. Она что, серьезно? Это она тут самая клевая. Да у нее такие идеальные зубы и кожа, что даже не скажешь, что из них белее. А чего стоят темные глаза и пухлые полуоткрытые губки – синие пряди только подчеркивают контраст волос и лица. И она улыбается мне? Точно, улыбается! Как я не заметил такую красотку, когда заглядывал в столовую?
– Дженнифер, успокойся, – говорит крупная девушка и наклоняется ко мне: – Я Бекка. Дженнифер нимфоманка, так что не пытайся этим воспользоваться.
– Замолкни! – чмокает губами Дженнифер и поворачивается со словами: – Мне тут один день осталось лежать.
Тут она подается вперед и льнет ко мне:
– Хочешь, полежим вместе?
И я подумал, а что бы на это сказал Хамбл. Он бы сказал: «Да, конечно», – он же альфа-самец как-никак. Я делаю голос пониже и пытаюсь сказать как можно более естественно:
– Да, конечно.
– Отлично, – говорит она и резко кладет свою руку мне на колено, а потом двигает ее вверх. – Ты такой кла-а-ассный, – наклоняется она ближе и ощупывает мое бедро. – У меня тут отдельная комната, потому что я такая психованная, что со мной никого не селят.
– У тебя отдельная комната потому, что ты шлюха! – поправляет ее Бекка и получает тычок от Дженнифер.
– Эй, больно!
Вдруг блондинка с порезами на лице резко встает и вылетает из столовой. Я смотрю, не появится ли она в оконной перегородке: никого.
– Забудь, она не для тебя, – говорит Дженнифер и та-а-ак проводит языком по губам, рисуя идеальную «О», что меня просто уносит, и я думаю: это что, сон? Или я умер и попал в какой-то прикольный ад?
Тут в аду что-то сверкнуло: в окне показалась блондинка нагишом. Точно я не уверен, что они принадлежали ей. Ее груди, я имею в виду. Но мне кажется, что я узнал миниатюрное тело в майке-алкоголичке. Лица-то не видно: на его месте к стеклу приложен листок, а там – «БЕРЕГИСЬ ЧЛЕНА».
Листок медленно плывет вниз, как на лифте.
– Куда уставился? – спрашивает Дженнифер и оборачивается. Присматриваюсь к ее телу: выше талии все выглядит так, что наличие члена не заподозришь. Кошусь на оконную перегородку: не вернулся ли листок с посланием.
– Ха! – подает голос Бекка. – Ноэль опять за свое.
– Что она сделала? – Дженнифер встает. У нее идеально округлые, женственные формы. Ноги обтянуты джинсами с рюшами на задней части.
– Подумать только, что она… Эй! – тут Дженнифер поворачивается обратно ко мне. – Ты смотришь на мои брюки?
– Ага, – говорю я и нервно сглатываю. Похоже, подрастерял я харизму альфа-самца. А может, я тета-самец? А что, им иногда тоже перепадает. Да и возглавлять сексуально-пищевую цепочку – это такой напряг.
– Я сама их сделала, – говорит Дженнифер, – я дизайнер одежды.
– Ого, правда, что ли? Крутое занятие. – Тут у меня в башке что-то повернулось, и я скатился с рельсов флирта к логике младшего школьника. – Я думал, мы ровесники, когда же ты успела научиться делать одежду…
– Так, ладно, – подскакивает Смитти. – Побаловались – и хватит, Чарльз.
– Да что, блин, такое-то? – Дженнифер взвивается на несколько сантиметров вверх и топает ногой. И самый ужас – продолжает низким, на пару октав точно, голосом: – Никогда не даете мне оторваться!
Голос отвратительный даже для парня – будто лягушка квакает. Бекка ржет так, что согнулась пополам, а я, почти не дыша, выпучил глаза на Дженнифер в поисках других признаков. Не, не может быть! Она просто плоская, вот и все. Руки у нее крупные, да, но у многих девушек такие. И кадыка нет… Ой бли-и-ин, она же в кофте с высоким горлом.
– Оставь Крэйга в покое, – говорит Смитти.
– Но он же такой милашка!
– Он не милашка, а пациент госпиталя, как и ты. Ты же вроде выходишь завтра – ну так сделай одолжение, не вешайся на всех подряд. Таблетки выпил?
– Гормональные, – подмигивает мне Дженнифер-Чарльз.
– Все, хватит.
– Круто она тебя наколола, – переводит дыхание от смеха Бекка. – Ладно, пошла я таблетки пить.
Все расходятся, а я смотрю вниз, на стол. Мне тоже нужны какие-то лекарства. Оглядываю выстроившихся в очередь к прилавку возле телефона пациентов: каждый коротает время до подхода к медсестринскому посту по-своему: Президент Армелио переминается с ноги на ногу, Джимми держится за нерабочую руку, пока не получает стаканчик с таблетками. Бекка и Дженнифер-Чарльз демонстративно встают в конец очереди и о чем-то оживленно треплются, и Дженнифер-Чарльз посылает мне воздушный поцелуй. Что-то мне не хочется вставать рядом с ними. К тому же раньше я только «Золофт» принимал по утрам, если надо пить что-то после обеда, мне бы, наверное, сказали.
Бекка и Д.-Ч. уже ушли, я все еще сижу за столом как истукан, и тут в оконной перегородке появляется новая табличка. На этот раз она ползет снизу вверх, как на невидимой паутинке: «НЕ РАССТРАИВАЙСЯ. ОН/ОНА/ОНО КО ВСЕМ ТАК ПРИСТАЕТ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШЕСТОЙ СЕВЕРНЫЙ!»
Когда я выхожу, девушки уже нет. Спрашиваю у медсестры, прибирающей свое место после раздачи лекарств, не должен ли я выпить какие-то таблетки, и она отвечает, что мне ничего не назначили. Тогда я спрашиваю, не даст ли она мне каких-то таблеток. Она спрашивает, зачем они мне. И я говорю: «Чтобы справиться с этим чокнутым местом», а она говорит: «Если бы существовали такие таблетки – разве нужны были бы такие места, как это?»
Двадцать четыре
– Ну как тебе тут? – спрашивает мама.
Они сидят вместе с папой и Сарой напротив меня, в руках у мамы несессер с пастой, щеткой и всем остальным. Мы сидим в конце правой верхней части буквы Н, куда по субботам с двенадцати до восьми вечера приходят посетители.
Я не успеваю ответить, меня перебивает Сара:
– Тут же как в «Пролетая над гнездом кукушки»! – говорит она в восхищении. Для визита в шестой северный она надела джинсы и куртку из искусственной замши. – Вы только посмотрите, все тут выглядят как… опасные психи!
– Тссс! – цыкаю я на нее. – Джимми услышит.
Джимми сидит прямо за нами, возле окна, руки, как всегда, скрещены, а футболку он сменил на темно-синий халат.
– Кто такой Джимми? – тут же спрашивает мама.
– Мы с ним вместе поступили. Мне кажется, он шизофреник.
– Значит, у него две личности? – спрашивает Сара и оборачивается. – Ну, то есть он не только Джимми, но и Мэри или типа того.
– Нет, у него все совсем не так, – я вскидываю брови, – он вроде как немного… рассеянный.
Джимми замечает, что я на него смотрю, и улыбается.
– Говорю тебе, поставь на эти числа, и они придут к те! – стрекочет он.
– Думаю, это он про лотерейные номера, – объясняю я. – Я точно не знаю.
– Ну ничего себе! – Сестра закрывает лицо руками.
– Ты что делаешь, Сара, так себя не ведут! – говорит мама и поворачивается к Джимми. – Большое спасибо, Джимми.
– Говорю вам – истинно так!
– А мне тут нравится. – Мама снова поворачивается к нам. – Мне кажется, люди здесь хорошие.
– Я вообще в восторге, – говорит папа и, наклонившись над столом, спрашивает: – Можно мне тоже сюда лечь?
Мы не засмеялись, и он снова садится ровно и вздыхает.
– Это что, трансвестит? – спрашивает Сара.
Д.-Ч. стоит в коридоре метрах в десяти от нас – как же, блин, Сара опознала в нем то, чего я и в упор не видел?
– Нет, послушай…
– Что, правда? – Папа прищуривается.
– Ну вы что!
– Тран-свистит! – верещит Джимми. Да так громко, что я и не думал, что у него такой голос. Все, кто был в коридоре, а это, конечно, я, мои родственники, Д.-Ч. и похожая на учительницу женщина в очках, замирают и таращатся.
– Я же говорил, оно придет, придет к те!
Д.-Ч. направляется прямиком к нам.
– Обо мне разговор? – спрашивает он своим мужским голосом и машет Джимми:
– Привет, Джимми.
Д.-Ч. встает между мной и Сарой:
– Тебя же Крэйг зовут?
– Угу, – невнятно мычу я.
– А это что же, родственники твои?
– Ага. – Я называю и указываю на каждого, при этом моя ладонь где-то на уровне богато украшенной рюшами задней части брюк Д.-Ч.
– Это вот папа. – Папа беззвучно выпячивает губы.
– Мама. – Та кивает.
– И моя сестра Сара. – Она протягивает руку для пожатия.
– Боже, как миленько, а я Чарльз, – говорит Д.-Ч. и трясет руку каждому. – Тут о вашем сыне прекрасно позаботятся. Он такой приятный парень.
– А ты сам как сюда попал? – спрашивает папа, и я пинаю его под столом. Разве о таком спрашивают?
– Ничего, Крэйг! – успокаивает меня Д.-Ч., трогая за плечо. – Ты что, пнул своего папу? Я в жизни себе такого не позволял.
И отвечает отцу:
– У меня биполярное расстройство, сэр. Был приступ, и меня привезли сюда. Сегодня уже выписываюсь. И, скажу вам, врачи тут замечательные: поставят диагноз и назначат лечение, глазом моргнуть не успеете.
– Как хорошо, – говорит мама.
– И, конечно, если тебя поддерживает семья, – тут Д.-Ч. указывает на нас, – это еще лучше. Когда тебя выписывают, врачам важно, чтобы ты попал в окружение семьи. Повезло тебе, Крэйг, у меня такой поддержки нет. – И он трясет головой.
Я смотрю на них – мою поддержку. И, честно-то говоря, они прекрасно бы тут вписались, в шестом северном.
– Ладно, не буду вам мешать, – говорит Д.-Ч. и неторопливо отходит.
Джимми издает непонятные пронзительные звуки.
– Это вроде как овации? – догадывается папа. И неожиданно показывает Джимми большой палец. – Неплохо.
– Какие у него прикольные брюки, – говорит Сара.
– Ладно, Крэйг, давай обсудим, что тебе нужно, – возвращает нас к реальности мама.
– Мне нужна телефонная карта. Еще заберите мой мобильник отсюда и включите, чтобы было видно пропущенные. Одежда тоже не помешает, та, что ты приносила утром, мам. Полотенца тут и так есть. Если принесете журналы, карандаш и бумагу, будет вообще круто.
– Все понятно. А какие журналы?
– Его любимые, про науку! – вмешивается папа.
– Навряд ли он захочет сейчас читать научные журналы, – сомневается мама. – Может, мы принесем тебе что-то попроще?
– «Сплетник» хочешь? – спрашивает Сара.
– «Сплетник»-то мне зачем, Сара?
– Ты что! Это потрясный журнал! – Она лезет в свою сумочку (черную – мама ей недавно купила) и разворачивает поблескивающее розовым глянцем уродство, щедро укомплектованное свежими фотками выгула на публике самых знаменитых грудей.
Я поднимаю журнал и показываю Джимми.
– М-м-м-хм! – восклицает тот. – Говорю вам! Говорю! Оно придет к те!
– Довольно мило, – говорит похожая на учительницу женщина. Я и не заметил, как она встала за мной.
– Извините, – поднимает она глаза, – не хотела вмешиваться в ваш разговор, – и идет на свое место.
– Э… – начинает Сара.
– Оставь журнал мне, – говорю я и прячу его под сиденье. – Он наверняка тут всем понравится. Поприкалываемся всем отделением.
– Мне показалось или ты и вправду вливаешься в коллектив? – интересуется папа.
– Тише ты, – улыбаюсь я.
– А вот еще, Крэйг: ты позвонил доктору Барни?
– Нет.
– А доктору Минерве?
– Нет.
– Надо им обоим рассказать, где ты, это и по правилам страховки положено, да и потому, что они твои лечащие врачи и им важно, что с тобой происходит.
– Их номера забиты у меня в мобильном.
– Так давай прямо с твоего мобильного и позвоним, мы его забрали, – мама тянется к сумке.
– Ты что? – останавливает ее руку отец. – Не вытаскивай телефон!
– О чем ты, дорогой? Это Крэйгу нельзя им пользоваться, а нам-то можно.
– Давай лучше не будем осложнять жизнь ребенку. Кто знает, какие у них тут… наказания.
Я смотрю на папу.
– Ничего смешного, пап.
– Что? Ах, извини, – оправдывается он.
– Серьезно, пап. Тут… это все не просто так.
– Крэйг, да я же просто хотел разрядить обстановку…
– Ты вечно так делаешь. Но давай не здесь, хорошо.
Папа кивает, смотрит мне прямо в глаза. Он постепенно, с сожалением стирает с лица всю веселость, больше уже не улыбается, и вот передо мной мой отец, наблюдающий за сыном, опустившимся на самое дно.
– Ладно, не буду.
Мы сидим молча.
– Это истинно так, Джимми? – спрашиваю я, не глядя на соседа.
– Истинно так, и это придет к те!
Я улыбаюсь.
– Что-то еще надо? – спрашивает мама.
– Я вот думаю, сколько я тут пробуду?
– А как думаешь?
– Дня два. Правда, я до сих пор не пообщался с доктором Махмудом.
– Точно. А как он вообще? Хороший врач?
– Не знаю, мам. Я его видел столько же, сколько и ты. Скоро у него обход, и, надеюсь, мне удастся поговорить с ним.
– Мне кажется, пока тебе не стало лучше, оставайся здесь. Если выпишешься слишком рано, снова попадешь обратно. Так и попадают на постоянный учет.
– Точно, я так не хочу. Я даже думаю, что в подобных местах все специально так устроено, чтобы люди не хотели сюда возвращаться.
– Как тут с едой? – спрашивает Сара.
– Ой, совсем забыл рассказать, – я смотрю на них. – Мне… Я знаю, что это не великое достижение, и даже печально, что это лучшее, чего я добился за день… Но за обедом я съел все подчистую.
– Правда? – Мама встает, притягивает меня к себе и обнимает.
– Ага, – отстраняюсь я и продолжаю: – Там была курятина. Вообще-то, я две порции съел.
– Это большое дело, сынок. – Папа встает и жмет мне руку.
– Да чего там, проще некуда, все это делают, но для меня это прямо бешеная победа…
– Нет, – говорит мама и смотрит мне в глаза: – Победа в том, что ты этим утром встал и решил, что хочешь жить. Вот твое великое достижение на сегодня.
Я киваю. Я же упоминал, что я не неженка.
– Да-а-а, потому что, если бы ты умер… – это уже Сара, – было бы та-а-ак фигово.
Тут она закатывает глаза и обнимает меня за ногу.
Я сажусь и продолжаю:
– Поставили еду, а она такая, ну прямо как надо. Садись и ешь. Они тут профессионалы, знают, как обращаться с пациентами.
– Именно, – говорит мама. – Ну а чем планируешь заняться?
– Думаю, на занятия…
– О, Крэйг! Это твои родные?
На сцене появляется Президент Армелио. Сару поначалу пугают его волосы и заячья губа, но его ни на миг не ослабевающая восторженность – не знаю, перед жизнью, что ли, – прогонит чей угодно страх. Он жмет руку каждому и говорит, что мы – прекрасная семья, а я – отличный парень.
– Крэйг, дружище! Хочешь, сыграем в карты?
Президент Армелио поднимает колоду карт с таким видом, словно он ее только что из моря выудил.
– Ага, еще как хочу! – говорю я и встаю. Когда там я в последний раз играл в карты? Еще до экзаменов, кажется, до старших классов точно.
– Отлично! – восклицает Армелио. – Наш человек! Давай сыгранем. Я тут уже давно понял: на этом этаже конкурентов в картах мне нет! Во что хочешь? Может, в пики? Ну, держись, дружище, разнесу я тебя в пух и прах! Ох разнесу!
Я смотрю на родителей.
– Мы тебе позвоним, – говорит мама и добавляет: – А что со сном?
– Сейчас мне не уснуть, я на взводе, – отвечаю я, – но перекантуюсь как-нибудь. Голова начинает побаливать.
– Побаливать? Когда я разнесу тебя в пики, дружище, она не то что побаливать – раскалываться будет! – Армелио ковыляет в гостиную и принимается раскладывать карты.
– Увидимся, – говорит Сара, обнимая меня.
– Пока, сынок, – трясет мне руку папа.
– Люблю тебя, – говорит мама. – Я позвоню и продиктую номера твоих докторов.
– Телефонную карту не забудь.
– Принесу, не забуду. Ну, давай держись, Крэйг.
– Ага, постараюсь.
И как только они скрываются за поворотом, я иду прямиком в гостиную, где и провожу остаток дня: учусь играть в пики, в которые Армелио разносит меня в пух и прах.
Двадцать пять
Я боюсь звонить по телефону в шестом северном: возле него всегда такой кипеж. Бобби и тому белобрысому парню, Джонни, постоянно названивают какие-то, как я понял, сердобольные особы женского пола. В начале разговора Бобби рад и счастлив, через каждое слово у него «малышка», потом он начинает сердиться и в итоге шваркает трубку на рычаг со злобным «вот стерва!», на что Смитти делает ему замечание, Бобби же уходит с индифферентным видом, откинув назад спину. Минут через пять ему снова звонят, и он сыплет «малышками», как и раньше. А сам он к телефону никогда никого не зовет, это только Армелио делает. Но тот, если снимает трубку, всегда отвечает: «Паб „У Джо“», а потом уже спрашивает, кого позвать.
В те редкие минуты, когда Джонни и Бобби не висят на телефоне, я иду туда, прихватив телефонную карту, – мама купила ее, как только они с папой и Сарой ушли, и принесла уже через двадцать минут. Я снимаю трубку и слышу гудки, набираю 800, перед тем как вставить карту… и не вставляю. Не могу я. Не могу звонить.
Сейчас люди в том мире понятия не имеют, где я и что со мной. Я вроде как замер, все спокойно, все под контролем. Но рано или поздно этот пузырь лопнет. Останься я тут даже до понедельника – начнет копиться домашка, поползут слухи: «Что с Крэйгом?»
«Он болен».
«Он не болен, у него алкогольное отравление, потому что он не умеет пить крепкие напитки».
«Я слышал, что он принял какие-то пилюли и психанул».
«А я слышал, что он осознал, что гей, и теперь пытается с этим как-то примириться».
«Слышал, что родители отправили его в другую школу».
«Все равно с учебой у него было так себе, он же постоянно лажал».
«Он залип у компа, даже двинуться не может. У него ступор».
«Он проснулся и подумал, что он лошадь».
«Да пофиг вообще, какой там был третий вопрос?»
Тогда у меня в голосовой почте было два непрочитанных сообщения, сейчас их, наверное, больше, и на каждое нужно отвечать, а потом отвечать на ответные сообщения – и вот они, Щупальца. Возвращаемся к тому, что было прошлой ночью. Не могу я туда идти. Подожду еще. Пять минут ничего не изменят. Но вот уже у телефона Бобби, и я жду еще пять минут. А сообщения все прибывают. И это не считая писем на электронку. Учителя там, наверное, такого напридумывали, вовек не переделать.
– Извините, вы будете звонить? – спрашивает огромная чернокожая тетя с тростью, пока я таращусь на нее в недоумении.
– Э-э-э, ага, – снимаю я трубку, – буду, буду.
– Ладно, – улыбается она одними деснами.
Я начинаю вводить цифры: ПИН-код, потом мой номер.
«Пожалуйста, введите пароль, затем нажмите решетку».
Я так и делаю.
«У вас – три – новых сообщения».
Слава богу, только одно добавилось.
«Последнее оставленное сообщение: помечено как срочное».
Ну вот.
«Крэйг, это Ниа, я просто, э-э-э… ты был такой странный во время нашего последнего разговора. Хотела узнать, все ли у тебя хорошо, а то ты не берешь трубку, и… – ах да, два часа ночи, с какой стати тебе отвечать? Но все равно я переживаю, вдруг ты потом пошел и сделал из-за меня какую-то глупость. Не надо. То есть это мило и все такое, но не надо. Ну и в общем-то все. Я тут с Аароном, он такой придурок. Пока».
«Чтобы стереть это сообщение…»
Я нажимаю 7.
«Следующее сообщение».
«Это Аарон, Крэйг, перезвони мне, чувачок! Давай зависнем…»
Нажимаю 7–7.
«Следующее сообщение».
«Добрый день, мистер Гилнер, это ваш учитель физики, мистер Рейнолдс. Я нашел ваш номер в журнале. Нам надо поговорить о пропущенных вами лабораторных работах, вы не были на пяти занятиях…»
7–7.
«Сообщений больше нет».
Осторожно кладу трубку, будто это змея какая, а потом снимаю и набираю домашний. Теперь-то уж до конца.
– Сара, можешь найти у меня в мобильном номера Ниа и Аарона? А еще посмотри в неотвеченных, там должен быть манхэттенский номер, продиктуй его тоже, а то мне надо нашему физику позвонить.
– Поищу, конечно. Как ты там?
Я смотрю налево: парень-еврей в белых штанах, ермолке со свисающей бахромой, заплетенными в косы волосами и в сандалиях чешет по коридору прямиком ко мне. У него в бороде какие-то красные крошки от еды, и выглядит он как полный псих. Не спуская с меня безумных глаз, он представляется:
– Я Соломон.
– Э, я о тебе слышал. А я Крэйг, но сейчас разговариваю по телефону, – говорю я, прикрывая трубку.
– Я бы попросил вас повесить трубку! Никакого покоя! – Он разворачивается и уносится прочь, придерживая белые штаны.
– Ну надо же! Сам Соломон тебе представился! – удивленно отпускает женщина с тростью.
– Вот, записывай. – Сара диктует мне номера Ниа, Аарона и учителя физики, и я записываю их на клочке бумаги, который дал мне Смитти. Как же я не догадался раньше? Смотрю на номер Ниа – цифра к цифре, приятно посмотреть и хочется позвонить. Телефон учителя записан какими-то ощетинившимися закорючками, и вряд ли я сегодня ему позвоню.
– Спасибо, Сара. Пока.
Я вешаю трубку, смотрю на тетю с тростью и представляюсь:
– Здрасте, я Крэйг.
– Эбони, – кивает она, и мы жмем друг другу руки.
– Эбони, вы не против, если я еще кое-куда позвоню?
– Конечно, не против.
Набираю 800, ввожу ПИН-код, потом номер Ниа.
– Алло?
– Привет, Ниа, это я.
– Крэйг! Где ты?
И почему людей так интересует именно этот вопрос, когда ты им звонишь? В этом я вижу недостаток пользования мобильными телефонами: люди, особенно мамы и девчонки, так и норовят проконтролировать твое нахождение в пространстве. А ты можешь быть где угодно в момент разговора, какая разница? Но нет, им надо знать.
– Я у друга, в Бруклине.
А еще мне интересно, сколько же вранья распространяется по миру благодаря мобильникам.
– Да? Что-то я так не думаю.
– Что ты имеешь в виду? – Я смахиваю выступивший на лбу пот. Ну вот, снова потею. Это плохо. В приемном покое я тоже потел, но за обедом – уже нет.
– Ни у какого ты не друга. Ты наверняка у какой-то подружки.
Я смотрю на Эбони, та щерится и опирается на трость.
– Да, Ниа, так и есть…
– Нет, правда, где ты? Хорошо, что позвонил, я так волновалась!
– Знаю, я получил твое сообщение.
– Знаешь, не стоит из-за меня с ума сходить. Остынь немного, расслабься; кроме меня есть и другие девушки. Может, у нас и получилось бы что-то, но ты же знаешь, что я встречаюсь…
– Ладно… это… я, вообще-то, совсем из-за другого психанул, не из-за тебя.
– Не из-за меня?
– Ага, все гораздо серьезнее. У меня был вроде как кризис; хотел с кем-то поговорить по душам.
– Но ты же спрашивал, был ли у нас шанс встречаться или нет.
– Я это спросил, потому что хотел все прояснить перед тем, как… ну, знаешь, наделать глупостей.
– Вроде самоубийства? – ее голос улетает вниз.
– Ага.
– Так ты из-за меня хотел покончить с собой?
– Да нет же! – сержусь я. – У меня вся жизнь была наперекосяк; а ты, Аарон, семья – вы все важны для меня, и я хотел прояснить кое-что перед тем, как…
– Крэйг! Это так приятно, что из-за меня ты…
– Ты не поняла, ничего тут приятного не может быть.
– Как же не может? Из-за меня еще никто не хотел покончить с собой. Это так романтично!
– Ниа, это было НЕ из-за тебя.
– Ты уверен?
Я смотрю вниз, и ответ идет прямо у меня из сердца:
– Уверен. У меня проблемы посложнее, чем отношения с тобой.
– А, ладно.
– Не все на свете вертится вокруг тебя.
– Ладно, проехали. А что же тогда с тобой случилось?
– Да ничего такого. Мне уже гораздо лучше.
– Ты прямо странный какой-то. Придешь сегодня?
– Не могу.
– Аарон тебе не звонил? У него сегодня намечается мегавечерина.
– Ах да, хотел сказать, что я, наверное, не смогу ходить на вечеринки какое-то время… Может, совсем не смогу.
– У тебя что-то не так?
– Все нормально, просто я… мне надо подумать кое о чем.
– У друга?
– Да, верно.
– Ты там в наркоманском притоне, что ли?
– Нет! – кричу я в трубку, и тут же подскакивает Президент Армелио с предложением поиграть:
– В картишки, братан! В картишки хочешь? Я тебя разнесу в пух.
– Погоди, Армелио.
– Кто это? – спрашивает Ниа.
– Отвянь от него, он со своей девушкой разговаривает. – Эбони отпихивает Армелио тростью.
– Она не моя девушка, – шепчу я Эбони.
– А это кто?
– Это мой друг, Армелио.
– Нет, был еще женский голос.
– Это Эбони, тоже друг.
– Так где же ты все-таки, Крэйг?
– Мне пора.
– Ладно… – ее голос сникает. – Рада, что тебе… э… лучше.
– Мне гораздо лучше, – отзываюсь я.
Ну вот и все. С Ниа у нас все кончено.
– Увидимся, Крэйг.
Я вешаю трубку.
«Все кончено!» – звенит в голове.
Потом я решаю, что это надо объявить на весь коридор.
– Все кончено! – ору я, а Эбони стучит тростью под аплодисменты Армелио.
У меня под сердцем что-то екнуло, повернулось влево и успокоилось. Нет, это еще не тот Сдвиг, но зато это хоть какой-то сдвиг. Я представляю Ниа, ее прекрасное лицо с пухлыми губками, миниатюрное тело и шикарные черные волосы, а потом добавляю лапающую ее руку Аарона, косяк во рту, прыщи на лбу и вспоминаю, как она постоянно над всеми прикалывалась и как выпендривалась своей одеждой. И ее образ постепенно затемняется, как в кино.
Я провожу время в общей комнате за игрой в карты с Армелио, пока в дверь не заглядывает Бобби со словами:
– Эй, Крэйг. На дверях написано, что твой лечащий врач – доктор Махмуд, верно? Он сейчас как раз на обходе.
Двадцать шесть
– Я не хочу тут лежать, – объявляю я прямо с порога, застав идущего к Муктаде доктора Махмуда. – Я думаю, мне тут не место.
– Конечно, конечно, – кивает доктор Махмуд. Он в том же костюме, что и утром, хотя мне кажется, что прошел уже год. – Если бы тебе тут нравилось, то, значит, дело совсем дрянь!
– Это точно, – соглашаюсь я, хихикая. – Тут ко мне хорошо относятся и все такое, но мне гораздо лучше, я точно готов к выписке. Может, в понедельник? Не хочу уроки пропускать.
«А еще не хочу пропускать сообщения и письма, которые копятся прямо сейчас, не говоря уже о разлетающихся слухах. Я вот только с девушкой поговорил, и мы вполне нормально пообщались – а Щупальца тут как тут, извиваются кольцами и только и ждут, чтобы напасть, как только я отсюда выйду. И чем дольше я тут остаюсь, тем больше мне разгребать, когда выйду».
– Так быстро не получится, Крэйг, – увещевает меня доктор Махмуд. – Главное – что тебе стало лучше. Но то, что ты хочешь поскорее выйти, вызывает подозрение. Нас, врачей, всегда настораживает, если пациент вдруг «выздоравливает» ни с того ни с сего.
– А, ну конечно, я не хочу, чтобы меня выписали из психиатрического отделения с пометкой «под подозрением».
– Правильно. Мне кажется, что тебе и правда стало лучше, но вдруг это ложное выздоровление…
– Ложный Сдвиг.
– Что, прости?
– Я называю это «Ложный Сдвиг» – когда кажется, что ты справился, но это не так.
– Вот именно. Такое улучшение нас не устроит.
– Значит, я тут пробуду, пока не наступит Сдвиг настоящий?
– Я не очень понимаю…
– Я буду здесь, пока не вылечусь?
– Жизнь, молодой человек, не лечат, – тут доктор наклоняется ближе ко мне, – ею управляют.
– Ясно, – отвечаю я. Слова доктора меня совсем не впечатлили, по крайней мере, не так, как ожидалось. Он выпрямляется и продолжает: – Мы называем это «установкой исходного уровня».
– Ладно, и когда же мой исходный уровень будет установлен?
– Возможно, дней через пять.
Это значит: один, два, три…
– К четвергу?! Я не могу ждать до четверга! Мне в школу надо. Я целых четыре дня пропущу, отстану так, что не наверстаешь. А еще друзья…
– Да?
– Они узнают, где я!
– Угу. А что такого?
– Как это «что такого»? Я же здесь! – указываю я на коридор, по которому проносится, шаркая сандалиями, Соломон и просит всех быть потише, а то «никакого покоя».
– Молодой человек, – доктор кладет руку мне на плечо, – у вас химический дисбаланс, ни больше ни меньше. Будь это диабет, стал бы ты стыдиться?
– Нет, но…
– Представь, что ты перестал колоть инсулин и попал в больницу. Эта ситуация мало чем отличается.
– Ну нет, это совсем другое.
– Да почему же?
– Я думаю, что не только в химическом дисбалансе тут дело, – вздыхаю я. – Иногда мне кажется, что депрессия – просто один из способов справляться с трудностями. Некоторые напиваются или принимают наркотики, а кто-то впадает в депрессию. Жизнь иногда так наваливается, что надо что-то делать, чтобы с ней справиться.
– Вот поэтому тебе и нужно пробыть у нас подольше, чтобы мы могли обсудить это все, – говорит доктор Махмуд. – Ты же ходил на сеансы терапии, верно? Уже позвонил своему психотерапевту?
Вот блин, знал же, что что-то надо было сделать!
– Ты должен позвонить ей. Или ему. Как зовут врача?
– Доктор Минерва.
– Ну надо же! – удивляется он, и его лицо озаряет улыбка. – Прекрасно. Позвони, и Андреа придет к тебе сюда.
– Андреа? – А я и не знал, что ее так зовут. Она держала это вроде как в страшной тайне: на всех дипломах, висящих на стене, имя было замазано, как она сказала, для безопасности.
– Назначь с ней встречу, мы обсудим твой план лечения и, глядишь, скоро тебя выпишем. Постараемся в четверг.
– Нет, лучше до четверга.
– До четверга не выйдет.
– В четверг, значит, – бормочу я себе под нос, глядя на Муктаду, лежащего на кровати как мешок с картошкой.
– Всего-то пять дней! Все наладится, молодой человек, вот увидите. А дела подождут. Тебе нужно ходить на групповые занятия и позвонить доктору Минерве. А когда повзрослеешь и станешь богатым и успешным, не забудь, кому этим обязан, лады?
– Хорошо.
– Можете, пожалуйста, дверь закрыть вы? – подает голос с кровати Муктада.
– А теперь ваша очередь, мистер Муктада: как это вы можете целыми днями спать, спать и спать? – И доктор Махмуд проходит мимо меня дальше в комнату.
Я звоню маме – узнать, как дела, потом звоню доктору Минерве. Та говорит, что ей жаль, что мне стало хуже, но, дескать, на этом пути всегда два шага вперед и шаг назад.
– Если это шаг назад, – спрашиваю я ее, – что же мне теперь делать: выиграть в лотерею или открыть собственную телепередачу?
«Кстати, а неплохая вышла бы передача, – думаю я, – чувак выигрывает в лотерею в психиатрической больнице».
В воскресенье доктор Минерва приехать не может, и мы договариваемся на понедельник. Я удивляюсь, что так можно. Хотя, может, в шестом северном нет большой разницы, когда приходят психотерапевты.
Двадцать семь
– Говорят, сегодня будет вечеринка с пиццей, – сообщает Хамбл, подающий мне поднос. На подносе обжаренное куриное филе, картошка, салат и груша. Я точно съем все.
– Что за вечеринка такая?
– Мы скидываемся и заказываем пиццу в ближайшей пиццерии. Не так-то это просто – почти ни у кого нет денег. Хорошо, если хватит на пиццу с пепперони.
– У меня есть восемь долларов.
– Тссс. Не говори никому! – Он даже жевать прекращает. – У людей вообще нет ни цента. Как говорится, у меня цент о цент в кармане не звякнет.
– Я не знал, что есть такая поговорка, – удивленно киваю я.
– Да? Понравилась?
– Ага.
– А такую слышал: «У меня нет ни горшка, чтобы помочиться, ни окна, чтобы выброситься»?
– Не-а.
– А эту: «Я поймал Джека с дерьмом, и Джек уехал из города»?
– И эту нет, где ты их только берешь?
– Это из района, где я жил раньше. «Джимми-дзини-дзинь. Поймает тя на другой стороне».
– «Дзини-дзинь» – это звонок, что ли?
– Не спрашивай как какой-нибудь яппи.
Хамбл оглядывает зал в поисках собеседника. Он вообще любит поговорить, как я понял, но обсуждать других он прямо обожает. Тогда он по-особому понижает голос – не до шепота, но другие не слышат, что он говорит, – и как-то умудряется направлять голос прямо в ухо собеседнику.
– Я так полагаю, ты уже познакомился с нашим чудным контингентом. Армелио у нас Президент, – кивает он в сторону Армелио. Тот съел все первым и пошел относить поднос. – Заметил, как он быстро ест? Будь у тебя хоть капля его энергии, ты бы Манхэттеном управлял. Я серьезно. Ему бы и работать с такими, как мы: он всегда всем помогает, и сердце у него доброе.
– А почему же он сюда попал?
– Да потому что он псих припадочный. Видел бы ты, каким его привезли. Он орал тут так, что мама дорогая. Он, кстати, грек.
– А, да?
– Теперь, значит, Эбони, Ее Величество Задница. Я таких больших в жизни не видал. Я не по этой части, не по задницам вообще, но если ты – да, то чува-а-ак, в такой потеряешься и не заметишь. Это не часть тела, а отдельный район, ей-богу. Я даже понимаю, зачем ей трость. И еще она носит эти вельветовые брюки – вот как раз с таким задом их и носить: он тогда кажется таким преогромным, что не обхватишь.
– А я даже не заметил.
– Погоди пару дней, скоро будешь замечать, кто во что одет, и изучишь в мельчайших подробностях – тут все в одном и том же ходят.
– Так ведь одежда пачкается, разве нет?
– По вторникам и пятницам у нас стирка. Разве тебе не объяснили? Кто тебя водил по отделению?
– Бобби.
– Ну так он должен был сказать про прачечную. – Хамбл вертит головой и поворачивается обратно: – Теперь, значит, Бобби и Джонни.
Те сидят вместе, как и за обедом.
– Так, как они, в 90-е на амфетамине не сидел никто: в Нью-Йорке их называли «друг номер один» и «друг номер два», и без них не обходилась ни одна вечеринка.
Представляю, как это было круто, даже несмотря на то что наркотики – зло: заходишь ты в дом, а тебе со всех сторон: «Привет, чувак!», «Круто, что пришел!», «Как сам?». Наверное, на такое подсаживаешься не хуже амфетамина. Я по Аарону замечал.
– И что же с ними случилось? – спрашиваю я.
– А что случается со всеми? Сторчались, остались без копейки в кармане, оказались здесь. И нет у них ни родных, ни подруг, хотя у Бобби вроде есть какая-то женщина.
– Ага, он по телефону с ней разговаривает.
– А может, и нет. Почем знать: тут все постоянно притворяются, что разговаривают по телефону. Да вон хоть она, – он показывает рукой на пучеглазую женщину, которая оказалась за моей спиной, когда ко мне приходили родители. – Мы ее называем Профессорша. Застал ее за разговором с доктором Длинный Гудок. Она преподавала в университете. Она здесь потому, что ей кажется, будто кто-то обрызгивал ее квартиру отравой для тараканов. Об этом даже писали в газетах, во как.
Хамбл оборачивается:
– А вон темнокожий паренек в очках выглядит вполне нормальным, но ты не обольщайся. Заметил, что он почти всегда сидит в своей комнате? У него бзик, что гравитация может поменяться в любую минуту и его тут же швырнет на потолок. Поэтому даже на улице он ходит поблизости от деревьев, чтобы зацепиться за них в случае чего. Мне кажется, ему лет семнадцать. Вы не общались?
– Нет.
– Ну, он и не разговаривает, вообще-то. Мне кажется, у него безнадежный случай.
Паренек пялится в потолок, периодически вздрагивает и вилкой отправляет в рот еду.
– Теперь, значит, Джимми. Джимми тут уже не первый раз. За те двадцать четыре дня, что я здесь лежу, его привозили и выписывали дважды. Похоже, ты ему нравишься.
– Мы были вместе в приемном покое.
– Отличный мужик. И зубы у него вон какие хорошие.
– Ага, я тоже заметил.
– Жемчужно-белые. Мало у кого тут такая улыбка. А вот что у Эбони с зубами приключилось, хотел бы я знать.
– А что с ними? – Я оборачиваюсь посмотреть.
– Не смотри! Да у нее их вообще нет, ты разве не заметил? Она только протертое ест. Шамкает деснами, да и все. Может, она их распродала по одному…
Я еле сдерживаюсь, чтобы не засмеяться в голос. Но как можно смеяться над всеми этими людьми? И Хамбл – как он может подсмеиваться? Или же это ничего и мы с ним просто радуемся жизни и все такое? Не знаю. Джимми, сидящий через два стола от нас, замечает мой сдавленный смех, улыбается мне и хохочет сам с собой.
– Говорю те: и к те придет!
– Ну вот, приехали. И что только у него вообще в башке творится?
Тут я уже не выдерживаю и ржу прямо с набитым ртом, так что сок и ошметки панировки летят изо рта обратно на тарелку.
– Ага, вот ты и попался, – продолжает Хамбл. – А вот и самый почетный гость пожаловал: Соломон.
Придерживая штаны, заходит парень-еврей. У него по-прежнему крошки еды в бороде. Он хватает поднос, открывает пакет с разогретыми в микроволновке спагетти и начинает жадно закидывать их в рот, слегка постанывая.
– Он ест раз в день, но всегда как в последний раз в жизни, – рассказывает Хамбл. – Мне кажется, тяжелее его тут никого нет. Он вроде как разговаривает напрямую с самим Богом.
Соломон поднимает глаза от еды, поворачивает голову из стороны в сторону и снова ест. Хамбл переходит уже на шепот:
– Чувак выжрал несколько сотен таблеток ЛСД, так что все зрачки себе расхреначил: теперь они у него всегда расширенные.
– Не может быть!
– Говорю тебе! Это у евреев-хасидов такой ритуал специальный: еврейско-элэсдэшная башка. Они так типа с Богом разговаривают. Но он, похоже, зашел слишком далеко.
Соломон встает и, даже не убрав за собой грязный поднос, уносится из столовой как ошпаренный.
– Чем-то он мне напоминает Человека-крота, еще когда тот в яме сидел, – говорит Хамбл. – Но настоящие люди-кроты вообще на обед не выходят – сидят по комнатам, анорексики несчастные.
– А сколько здесь вообще людей? – спрашиваю я.
– Говорят, что двадцать пять, – отвечает Хамбл, – но это не считая безбилетников.
Я осматриваюсь: Чарльза-Дженнифер нигде не видно.
– А ты знал про… ну, про Чарльза? Его уже выписали?
– Ага. Трансик уже вышел. Сегодня после обеда. Что, приставал к тебе?
– Ага.
– Смитти всегда ему разрешает, его это прикалывает.
– Но как же он выписался и вот так просто ушел? Разве не будет никакой вечеринки?
– Нет, конечно. Отсюда никто не любит уходить. Выйдешь – и что тебя ждет? Снова на улицу или в тюрьму. Или как у меня – искать свои вещи по штрафстоянкам. А вот ты – особый случай: парень из нормальной, обеспеченной семьи, странно, что вообще сюда попал. Да и к тому же тут постоянно кого-то выписывают – замучаешься устраивать вечеринки. А то бы мы с тобой кончили как друзья «номер один» и «номер два».
У меня на подносе – выплюнутая каша из ошметков курицы и сока.
– Хамбл, ты такой шутник, – говорю я ему.
– Да, я такой. Со мной весело. Жаль, что я тут, а не на сцене: мог бы зарабатывать шутками.
– Ну и почему ты не попробуешь себя на сцене?
– Я уже старый.
– Я за салфетками. – Встаю из-за стола и направляюсь к Смитти, который вручает мне стопку салфеток. Возвращаюсь к столу и вытираю поднос, потом приступаю к груше.
– А у тебя появилась тайная поклонница, – говорит Хамбл. – Оно и немудрено, ты же такой красавчик.
– Чего-чего?
– Она была тут, посмотри на свой стул.
Я встаю и оглядываю стул. Там лежит буквами вниз какая-то бумажка. Я переворачиваю ее и читаю: НАДЕЮСЬ, ТЕБЕ ЗДЕСЬ НРАВИТСЯ. ЗАВТРА В ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ ПОСЛЕ 7.00–7.05. Я НЕ КУРЮ.
– Ну вот, видишь? Это тебе оставила твоя девчонка с порезанным лицом, – торжествует Хамбл, вставая из-за стола. – Я так и знал. Ты уже выглядишь как достойный соперник, я тебе скажу. Похоже, придется за тобой присматривать.
Он кладет поднос на тележку и встает в очередь за таблетками. Я сворачиваю листочек и кладу в карман, в котором обычно ношу телефон.
Двадцать восемь
– Крэйг, дружище! Тебя к телефону!
Я сижу с Хамблом возле курилки, у них тут перекур в десять вечера, и вспоминаю, где же я был вчера в десять вечера: вроде бы только залез спать в мамину кровать. Хамбл не курит, говорит, что это противно, но все остальные дымят в свое удовольствие, включая паренька, который боится смены гравитации, и крупную девушку, Бекку, хотя думаю, им еще нет восемнадцати. Все они: Армелио, Эбони, Бобби, Джонни, Джимми, – какими бы психами ни выглядели, без проблем притопали в верхний левый коридор шестого северного и спокойно сидят себе на кушетках, ждут выдачи сигарет: каждый получит свою марку, только это не госпиталь им предоставляет, как я узнал, а они с этими сигаретами уже поступили, и медсестра хранит их пачки в специальном лотке, а потом выдает понемногу. Взяв из своей пачки сигарету, пациенты один за другим бредут мимо медсестры Моники, которая подставляет каждому зажигалку, а потом проходят в красную дверь. Как только дверь закрывается, все разом начинают говорить, как будто долго копили все несказанное, а теперь, когда курят, выдают слова вместе с дымом.
– Ну что, Крэйг, как тебе первый день? – спрашивает меня Моника, уже пять минут как закрыв дверь. – Я смотрю, ты не куришь.
– Не курю.
– Ну и хорошо – ужасная привычка. Многие в твоем возрасте уже курят.
– Да, большинство моих друзей. А мне, ну, знаете… никогда не нравилось.
– Похоже, ты потихоньку привыкаешь к жизни в отделении, к нашим порядкам.
– Ага.
– Это очень хорошо. Завтра поговорим о том, как ты адаптируешься, как чувствуешь себя.
– Ладно.
Хамбл тут как тут:
– Ты не смотри, что он такой тихий, в тихом омуте, знаешь…
– Правда, что ли? – удивляется Моника.
А я ищу глазами блондинку Ноэль (кстати, надо не забыть, что у нас встреча), но ее нигде нет, как и Соломона. Рядом с Хамблом сидит, как он ее назвал, Профессорша и смотрит на нас своими выпученными глазами. Вдруг ни с того ни с сего Хамбл начинает рассказывать нам с Моникой про свою давнюю подружку, у которой были, как он выразился, «соски – ну чисто поросячьи хвостики, вроде картофельных зажарок, я не шучу». Моника заходится смехом, а Профессорша говорит, что Хамбл просто отвратителен. Моника говорит, что посмеяться иногда не грех, и спрашивает, не расскажет ли она тоже что-нибудь.
– Да-да, мы же знаем, что в молодости вы знатно покуролесили, мадам Профессор, – присоединяется к просьбе Хамбл.
Профессорша впадает в мечтательную задумчивость, да так, что я опасаюсь, не хватит ли ее припадок. А потом приятным голосом с носовым прононсом начинает свой рассказ:
– Много было у меня парней, но мужчина мечты – только один.
Я начинаю вспоминать, где я мог это слышать, но тут вмешивается Армелио:
– Эй, дружище, тебя к телефону!
– Хорошо, иду. – Я встаю.
– Ты прямо везунчик – в десять телефон уже вырубают.
Вырубают? Я представил себе огромный рубильник, который опускает вниз какой-то мужик.
– А если кто-то позвонит, что тогда? Телефон же выключен.
– Ну, значит, он будет звонить и звонить, – отвечает Хамбл. – К тому же все и так понимают, что они тут не на курорте.
Я прохожу в коридор, трубка платного телефона висит и слегка покачивается, я беру ее и прислоняю к уху:
– Алло?
– Привет, это психушка? – Это Аарон. Надо же, Аарон позвонил.
– Откуда у тебя этот номер? – спрашиваю я. По коридору прохаживается бородач, который раскачивался в столовой, когда я зашел туда впервые, и пялится прямо на меня.
– А ты думаешь, откуда? Моя девушка дала. Ну как там все, чувак? – спрашивает Аарон.
– Как ты узнал, где я?
– Пробил информацию, чувак! Ты думаешь, я идиот, что ли? Я же вроде поступил в ту же школу, что и ты! Проверил этот номер, и мне выдало: госпиталь «Аргенон», взрослое психиатрическое отделение! Как ты во взрослое-то попал, чувак? Ты что там, пиво разносишь?
– Прекращай, Аарон.
– Нет, серьезно. Как насчет девчонок? Горячие цыпочки там есть или как?
Слышно, как кто-то ржет на заднем плане, перекрывая рэп-музыку.
– Дай-ка мне! – мычит где-то вдалеке Ронни. – Ну дай поговори-и-ить! – И тут его голос звучит четко: – Чувак, викодин можешь достать?
Слышится вой, хохот, улюлюканье, и голос Ниа издалека: «Ребята, отстаньте от него».
– Дай-ка сюда… Эй, Крэйг, – это снова Аарон. – Ну ладно, чувак, прости… Ты это… как ты?
– Да я… нормально в общем. – Я начинаю потеть.
– Что случилось-то?
– Да как-то хреново мне стало вчера, и я в больницу пошел, провериться.
– Что значит «как-то хреново»?
Человечек в животе уже на месте, дергает за веревку со всей дури. Мне хочется блевануть прямо в телефон.
– У меня депрессия, Аарон, ясно?
– Ага, это я понял. А почему?
– Да нет, у меня в принципе депрессия, не из-за чего-то. Клиническая депрессия, вроде так.
– Ну круто! Повезло тебе!
– О чем ты?
– Да шучу, шучу. Ты из моих знакомых самый псих. Помнишь, тогда на мосту? Я знаю, из-за чего это у тебя: надо было почаще расслабляться, когда мы зависали. А ты все: школа, школа, учеба, учеба. Расслабился бы и кайфанул, ни о чем не думая, – пропади оно все пропадом. Понимаешь? Сегодня, кстати, у меня вечерина, а ты где будешь?
– Кто сейчас с тобой в комнате, Аарон?
– Ну, Ниа, Ронни, э… Далила тоже с нами.
Я даже не в курсе, кто такая Далила.
– То есть все они знают, где я?
– Да даже круто, чувак! Мы хотим прийти!
– Поверить не могу.
– Во что?
– Поверить не могу, что ты так меня подставил.
– Нечего нюни распускать. Да если бы я в сумасшедший дом угодил, неужто ты бы мне не позвонил и не поприкалывался немного? Чего такого-то, друзья всегда так делают, чувак!
– Это не сумасшедший дом.
– А что?
– Психиатрический госпиталь. Тут пациентов держат недолго, а не как в сумасшедшем доме.
– Похоже, ты там уже давненько, раз уже во всем разбираешься. Сколько ты там пробудешь?
– Пока не установится исходный уровень.
– Это что такое? Так, я что-то уже подзабыл: что у тебя там, ты говорил?
– Я говорил, что у меня депрессия. И таблетки от этого пью, как и твоя девушка.
– Как моя девушка?
– Заткнись, Крэйг, – вопит где-то Ниа.
– Моя девушка никаких лекарств не принимает, – говорит Аарон.
Тут подключается Ронни:
– Единственное, что она принимает… – орет он, а дальше все заглушает гогот, и слышно, что кто-то его чем-то треснул.
– А ты бы разговаривал с ней почаще, может, узнал бы чего, – говорю я. – Понял бы, чем она живет.
– Ты будешь мне рассказывать, как мне общаться с Ниа? – заводится Аарон. – Думаешь, я не понимаю, в чем тут дело?
– И в чем же, Аарон?
– Ты хочешь ее, чувак. Уже два года как хочешь. Тебя бесит, что она не твоя, и вот ты впадаешь из-за этого в депрессию, попадаешь черт-те куда, и кто знает, может, там к тебе уже пристает дружок какой-нибудь, и давишь на жалость, чтобы она была с тобой… Я ведь по-дружески тебе позвонил, хотел поддержать – а ты мне выдаешь такое! И кто ты после этого?
– Эй, Аарон, послушай.
– Что?
Это давний прикол Ронни, Аарон, скорее всего, о нем не помнит, и я решаю, что тут он как раз к месту.
– Послушай сюда.
– Да что же?
– Эй.
– Да чего тебе?!
– Эй, эй, эй…
Я замолкаю. Так, теперь подождать, еще…
– Пошел ты! – И я со всей дури швыряю трубку на рычаг, прищемив палец, и с воем вхожу в комнату мимо Муктады.
– Что случилось? – спрашивает тот.
– У меня больше нет друзей, – отвечаю я и, держась за палец, прыгаю на месте.
– Да, непросто такое принять.
Я смотрю через оконные жалюзи в ночь. Вот теперь у меня и правда все хреново. Иду в ванную и сую палец под холодную воду. Я уже думал, что хреновее, чем прошлой ночью, и быть не может, так ведь нет – полюбуйтесь на меня теперь: спустился ниже некуда! Я в таком месте, где даже бриться самому не дают (хоть мне это и не нужно пока), потому что боятся, что ты вспорешь себе лезвием горло или еще что. И все знают! Здесь лежат люди без зубов и едят протертую пищу. И все знают! Я ем вместе с чуваком, которой живет в машине. И все знают!
Я никуда не гожусь. Я совсем не приспособлен к жизни. Я сейчас не в лучшем положении, чем вчера ночью, когда лежал в собственной кровати (ладно – в маминой кровати), с той только разницей, что тогда я как-то мог разрешить ситуацию, а теперь я вообще ничего не могу. Не могу сесть на велик и поехать к Бруклинскому мосту, не могу принять горсть таблеток для «хорошего сна», единственное, что мне остается, – треснуться башкой об унитаз, да и то неизвестно, сработает ли это. Все тебе запретили, и можно только жить, и тут я согласен с Хамблом: я не боюсь умереть, но мне страшно жить. Раньше я этого боялся, но не теперь – теперь я больше боюсь того, что стал всеобщим посмешищем. Скоро ребята разболтают учителям, и те подумают, что это нарочно, чтобы увильнуть от выполнения домашки.
Я ложусь на кровать и накрываюсь единственной тонкой простыней.
– Как же фигово.
– У тебя депрессия? – спрашивает Муктада.
– Угу.
– У меня тоже мóчи от нее нет.
Снова начинается Зацикливание: надо как-то отсюда выбираться и возвращаться в нормальную жизнь. Это место ненастоящее. Это какая-то копия жизни для сломанных людей. Я не могу тут жить, но и в нормальной жизни не могу. Я должен вернуться в Подготовительную академию управления, разобраться с учебой, с Аароном и Ниа – а иначе что мне еще делать? Из-за этого дурацкого экзамена я забил на все остальное. А что еще я умею?
Да ничего. Ничего я не умею.
Я встаю и иду на медсестринский пост.
– Я не смогу заснуть.
– Не сможешь заснуть? – спрашивает миниатюрная белоголовая старушка в очках.
– Нет, я точно знаю, что сегодня не смогу уснуть, – поясняю я, – и хочу что-то принять.
– У нас есть успокоительное «Ативан». Это укол, от которого ты расслабишься и уснешь.
– Давайте, – соглашаюсь я, и под присмотром Смитти, сидящего вблизи телефонов, мне делают укол маленькой иголкой, притороченной к чему-то вроде заколки-бабочки, закрепленной на моей руке. Желтая жидкость перетекает в руку, и я даже не успеваю встать со стула, как меня торкает, и я, спотыкаясь, бреду в комнату. Похоже, это лекарство мощно расслабляет мускулатуру, и я валюсь на кровать, не чувствуя ни рук, ни ног; последнее, что всплывает у меня в голове перед сном:
Ну, зашибись, солдат, теперь ты не только в депрессии, но и попал в госпиталь и подсел на наркоту. И все знают.
Часть шестая Суббота, шестой северный
Двадцать девять
Я просыпаюсь, оттого что парень в синей больничной униформе хочет взять у меня кровь. Забавный такой способ просыпаться. Свет еще только прокрадывается через жалюзи, а он уже вкатывает свою тележку в комнату (как они тут любят все возить на тележках).
– Мне надо взять у тебя кровь. Распоряжение снизу.
– Э… ладно.
Я такой квелый, что без всяких вопросов подставляю руку. Медбрат филигранно вытягивает у меня немного крови из среднего пальца, так что даже точечки не видно, и укатывается обратно, Муктаду не будит. А может, тот и не спит, а лежит, ушибленный жизнью, – кто его знает. Я хочу еще немного поспать, но как-то уже не спится, если в тебе поковырялись. Вылезаю из кровати и иду принимать душ, захватив больничное полотенце и принесенный из дома шампунь. Гель для душа выдавливаю из диспенсера в стене. Под струями душа приятно, они обжигают и бодрят, но я преодолеваю свою привычку зависать без дела в ванной и выхожу. Мокрое полотенце несу обратно на медсестринский пост. Смитти там уже нет, а вместо него какой-то здоровяк по имени Гарольд. На мой вопрос, куда бросить полотенце, Гарольд указывает на высокий квадратный ящик, который я уже точно видел возле столовой (а Хамбл и Бобби бросали туда яблочные огрызки и банановую кожуру).
– Эй, дружище, ты уже на ногах! – подскакивает ко мне Армелио. – Как спалось?
– Да не очень. Пришлось сделать укол.
– Это ничего, дружище: все мы тут время от времени не обходимся без укола.
– Хех! – прорезается моя первая за день улыбка. Армелио раскупоривает свою.
– А теперь всем пора вставать и делать замеры, – говорит он и, направляясь дальше по коридору, уже орет во весь голос: – Так, все на замеры! Пора делать замеры!
И вот из своих комнат выползают мои сонные душевнобольные сотоварищи (нет, погодите, вообще-то, нас надо называть «пациенты стационарного психиатрического отделения») и, на ходу протирая глаза, тянутся унылым караваном, страдая так, будто идут на работу и жаждут выпить первую чашку кофе. Удивительно, но я как-то умудряюсь встать первым, и вот мне уже измерили давление и пульс: 120 на 80 – не к чему придраться, по-прежнему образец здоровья.
– Крэйг! – окликает меня детина Гарольд, когда я отхожу от поста.
– Что такое?
– Ты не заполнил листок с едой.
– А что это такое?
– Ты должен ежедневно отмечать вот на такой штуке, что из еды тебе хочется.
Он держит в руках что-то вроде широкой бумажной салфетки под приборы, на которой под заголовками «Завтрак», «Обед», «Ужин» тянутся три столбца с едой.
– Тебе должны были это дать вместе с остальными документами, когда ты поступил.
Я киваю. Это именно тот листок, который я оставил без внимания.
– Я это… не заполнил…
– Ничего страшного, но, если ты не будешь отмечать, что ты хочешь, тебе будут давать еду на выбор персонала. Так что заполни-ка вот на сегодня обед и ужин, а на завтрак получишь омлет с какой-то из начинок.
Я облокачиваюсь о стол и принимаюсь за изучение представленного меню: бутерброд, рыбные палочки в панировке, зеленая стручковая фасоль, фаршированные рулетики из индейки, свежие фрукты, пудинг, овсянка, апельсиновый сок, молоко 120 мл, молоко 240 мл, молоко 2 % жирности, обезжиренное молоко, чай, кофе, какао, гороховый суп-пюре, овощной суп, фруктовый салат, рассольный сыр, бублик, сыр для намазывания, сливочное масло, джем… Куча продуктов, подвергнутых нехилой такой предварительной обработке. У меня прямо глаза разбегаются – с этой едой никаких проблем не будет.
– Обведи, что ты хочешь, – объясняет Гарольд, и я так и делаю.
– Если хочешь две порции, то поставь рядом цифру два.
Я начинаю проставлять двойки.
Вот бы всегда в мире было так: просыпаешься, отмечаешь, что хочешь съесть, а потом тебе это приносят. Но вроде так оно и есть, просто за еду обычно платишь. А может, я хочу жить при коммунизме? Но нет, дело тут далеко не в коммунизме – я хочу, чтобы все было легко и просто и чтобы никакого давления. Того, что я хочу, не бывает ни при каком режиме – так бывает, только когда ты маленький и в садике. Я хочу в садик.
– После завтрака заполни такую же на завтра, – говорит Гарольд и забирает меню.
В столовую привозят омлеты, и тут у меня возникает прямо-таки научный вопрос: можно ли объяснить нехватку сыра в них подозрительными дырами?
– Ну вот и твой первый омлет, – говорит Бобби. Сегодня я сел с ним, а не с Хамблом. Джонни садится напротив.
– Выглядит просто отвратно, – тычу я вилкой в омлет.
– Это у нас вроде обряда посвящения, – медленно, растягивая слова и без какого-либо акцента говорит Джонни, – все должны отведать омлета.
– Вот теперь ты точно с нами, – подтверждает Бобби.
– Ха! – восклицает Джонни.
– Как ночь прошла? – пытаюсь я съехать с темы.
– Мне что-то неспокойно, ой как неспокойно, – говорит Бобби.
– А почему?
– Да у меня завтра это, комиссия для дома-интерната.
– Для чего?
– Ха! – выдыхает свое «ха» Джонни. – Там живут такие, как мы.
– Ну да, там примерно так же, как тут, но надо иметь работу, – поясняет Бобби. – Вход и выход там свободный, а не как тут, по разрешению, но надо доказать, что ты ходишь на работу, и возвращаться к семи вечера.
– Что? Мы можем выходить?
– Ага, если пролежишь пять дней, то можешь попросить разрешение на выход.
– Да через пять дней я постараюсь выйти насовсем.
– Ха! – не унимается Джонни. – Удачи.
Я приступаю к апельсину, который в сто раз съедобнее омлета.
– И почему ты нервничаешь из-за этой комиссии? – спрашиваю я у Бобби.
– Я не нервничаю, а тревожусь – это разные вещи. Нервничать – уже медицинская проблема.
– Тогда почему ты тревожишься? Тебя же точно примут.
– Это еще неизвестно, а вот если меня туда не примут, то беда: я тут уже так давно, что делаю обходы с новичками, а это значит, что скоро закончится страховка и меня тут держать не будут. – Он отправляет в рот кусок омлета и размеренно жует. – В последнем месте мне отказали, потому что я слишком привередлив в еде, а там ее нельзя было выбирать, как тут.
– Зато теперь ты знаешь, о чем лучше помолчать! – подсказываю я.
– Ну вообще-то да, ты прав.
– Вот, видишь, если ты где-то облажался, – пускаюсь я в рассуждения, – то в следующий раз поступаешь умнее. Тогда люди тобой восхищаются, даже если ты находишься не в лучшей ситуации. То есть ждут, что ты не будешь сдаваться.
– Да, так оно и есть, – согласно кивает Бобби.
– Ха! Рассказывай, ага! – возражает Джонни. – Да моя мама всегда мной восхищалась, и где я теперь?
– А паренек далеко пойдет, – хохочет Бобби. – Так правдиво все толкует.
– Ха, правдиво, ага. А ты на гитаре не играешь, малыш?
– Нет.
– Джонни у нас великий гитарист, – говорит Бобби. – В 80-е он был прямо крут.
– Да вы что?
– Не слушай его, – отнекивается Джонни, – ничего особенного.
– Говорю тебе, – продолжает Бобби, – он играет лучше, чем чувак, который проводит у нас занятия. Но он молодец, этот парень.
– Ага, он честный чувак.
– Да, честный. Он ведь как раз сегодня придет?
– Нет, завтра. Сегодня поделки.
– Да, с Джоан.
– Точно.
Бобби отпивает кофе и добавляет:
– Не будь на земле кофе, я бы помер.
Я оглядываю комнату: все на месте, не хватает только анорексика Соломона (хотя я видел, как он осторожно выглядывал из своей комнаты – натурально как скелет из шкафа) и Ноэль. Интересно, где она? На снятии замеров ее тоже не было видно. Может, ей дали разрешение на выход? Я хотел бы увидеть ее вечером, как договаривались. Вообще-то, это будет как-никак мое первое в жизни свидание.
– А я скажу, что именно меня беспокоит, – доверительно говорит Бобби, наклонившись над своим кофе. – Все из-за проклятой кофты. – Он тычет в свою толстовку, где красуется Марсианин Марвин, повелитель мира. – Как можно идти на комиссию в этом?
– Ха! – подает голос Джонни. – Марвин – это сила!
– Заткнись, чувак, я серьезно.
– У меня есть нормальная рубашка, – говорю я.
– Что? – Бобби смотрит на меня с удивлением.
– У меня есть рубашки, я тебе одолжу.
– Что? Ты мне одолжишь?
– Конечно. Какой у тебя размер?
– Эмка. А у тебя?
– У меня детская элька.
– А по-нормальному это какой размер? – Бобби поворачивается за помощью к Джонни.
– Я и не знал, что у детей есть размеры, – недоумевает тот.
– Мне кажется, тебе как раз подойдет, – настаиваю я на своем. Бобби поднимается из-за стола и подходит поближе ко мне, и, хоть он встал довольно странно, спиной ко мне, я вижу, что мы с ним примерно одного размера.
– У меня есть голубая рубашка, мама мне ее для церкви купила. Я попрошу, и она ее принесет.
– Сегодня принесет? А то комиссия уже завтра.
– Ага, конечно. Ей недалеко идти, два шага отсюда.
– И ты это ради меня?
– Ну конечно!
– Тогда лады. – Мы жмем друг другу руки. – Ты и правда молодец. Отличный парень.
Пожимая руки, мы смотрим друг другу в глаза. Взгляд Бобби по-прежнему полон боли и ужаса, но я вижу свое отражение в его зрачках, и где-то за моим отражением там проглядывает крошечная надежда.
– Отличный парень, – эхом повторяет Джонни. Бобби садится на место. Я доел и вставляю пустой поднос в полозья тележки, тут же за мной встает Хамбл.
– Значит, не сел со мной. Я прямо безутешен, – ерничает он. – Может, я даже пересплю с тобой из-за твоих карманных денег.
Тридцать
Медсестра Моника пригласила меня в тот же кабинет, где мы с ней разговаривали накануне, когда я поступал в отделение. На этот раз – чтобы поговорить о том, как я привыкаю. Я осматриваю белые стены и стол, куда она выкладывала шкалу определения боли, и, надо сказать, с тех пор много что поменялось: я уже ел и спал, с этим не поспоришь. Хотя и не обошлось без укола.
– Как ты себя чувствуешь? – спрашивает она.
– Хорошо. Только вот не мог заснуть прошлой ночью, пришлось сделать укол.
– Да, я видела отметку в твоей карте. А почему ты не мог заснуть?
– Мне позвонили друзья, и они… Они высмеяли меня, что я здесь, и все такое.
– Почему они так поступили?
– Не знаю.
– Может, это не настоящие друзья?
– Ну, я им сказал… короче, я их послал. Я послал Аарона, это он звонил.
– И тебе стало лучше?
– Ну да, – вздыхаю я. – Еще девушка звонила.
– Кто она?
– Ее зовут Ниа, мы с ней тоже друзья.
– И что у вас с ней?
– С ней я тоже разошелся.
– Ну что ж, в первый же день здесь ты принял немало важных решений.
– Да.
– Так с большинством и происходит. Поступив сюда, к нам, они принимают важные решения: одни – к лучшему, другие – нет.
– Надеюсь, что к лучшему, как же еще?
– Я тоже. Какие мысли у тебя возникают в связи с этим решением?
Я представляю себе, как Аарон и Ниа растворяются в воздухе, а на их месте появляются Джонни и Бобби.
– Я поступил правильно.
– Прекрасно. А тут, насколько я знаю, ты уже завел новых друзей, верно?
– Верно, да.
– Я видела, как ты вчера разговаривал с Гумбольдтом Купером возле комнаты для курения.
– Его так зовут? – Я не могу удержаться от смеха. – Ну да, все верно, мы же разговаривали там все вместе, вы тоже были.
– Да. Послушай-ка, не стоит тебе водить дружбу с пациентами из отделения.
– Почему же?
– Это отвлекает от выздоровления.
– Почему?
– Госпиталь – не место для поиска друзей, хотя друзья – это прекрасно. Здесь ты должен сосредоточиться на себе, для того чтобы почувствовать себя лучше.
– Но как же… – заволновался я. – Я Хамбла уважаю. И Бобби. Да я ко всем здесь отношусь лучше, чем к большинству людей там… в настоящей жизни. Хотя я здесь всего полтора дня.
– Будь осторожнее, Крэйг, лучше не сближайся с людьми слишком сильно. Сосредоточься на себе.
– Понятно.
– Только тогда сможешь выздороветь.
– Хорошо.
Тут луноликая медсестра Моника снова садится ровно и продолжает прежним официальным тоном:
– Ты уже знаешь, что в отделении проводят групповые занятия для пациентов?
– Да.
– В первый день тебе можно было не ходить, но теперь ты должен ежедневно на них присутствовать.
– Понятно.
– Начиная с сегодняшнего дня ты будешь на них ходить. Это хорошая возможность попробовать себя в чем-то, понять, что тебе интересно. Какое у тебя хобби?
Неудачный вопрос, Моника.
– У меня нет хобби.
– Да? Что, прямо совсем никакого?
– Совсем.
«А вообще я волнуюсь, Моника, и думаю о том, что надо что-то делать, и психую о том же, потом думаю, что я слишком много думаю о том, что надо что-то делать, и психую, что я слишком много думаю о том, что я слишком много думаю о том, что надо что-то делать, и думаю, чего же я так психую о том, что я так много думаю о том, что я волнуюсь. Это считается за хобби, Моника?»
– Понятно. – Она делает какую-то пометку. – Значит, тебя можно записывать в любую группу?
– Думаю, да.
– И ты будешь ходить?
– А играть в карты с Армелио считается посещением группового занятия?
– Нет.
– Если я буду ходить на эти занятия, меня выпишут к четвергу?
– Я не знаю наверняка. Но если ты не будешь их посещать, это будет рассматриваться как шаг назад в процессе выздоровления.
– Ладно, тогда запишите.
Моника отмечает что-то на лежащем у нее на коленях листочке.
– Первое занятие сегодня вечером: рисование и поделки. Оно будет в комнате дальше по коридору, за медсестринским постом.
– Я думал, те двери закрыты.
– Мы их откроем, Крэйг.
– Во сколько начало?
– В семь.
– Ох ты! Именно в семь я не могу.
– Почему же?
– У меня встреча кое с кем.
– С посетителем?
– Ну да, – беззастенчиво вру я.
– Он твой друг?
– Ну да. Я надеюсь, что еще друг.
Тридцать один
На часах без пяти семь. Я сажусь в конце того самого коридора, куда приходят посетители и где сегодня в три я уже виделся с мамой и папой (Сара не пришла, была в гостях у подружки). К слову сказать, папа в этот раз не пытался отпускать дурацкие шуточки, мама же принесла рубашку для Бобби. Бобби с чувством пожал ей руку и сказал: «У вас замечательный сын», – на что мама сказала, что она так и думала. Папа спросил, показывают ли тут кино, и я ответил, что да, но так как тут много пожилых пациентов, то это довольно скучные старые фильмы, вроде тех, где снимались Кэри Грант и Грета Гарбо. Папа спрашивает, не хочу ли я посмотреть с ним вместе второго «Блэйда» на DVD, и я узнаю у Говарда, есть ли в отделении DVD-проигрыватель. Оказывается, госпиталь не отстал от остального мира и проигрыватель у них есть, так что мы с папой договариваемся: он в пятницу вечером после работы принесет диск со вторым «Блэйдом», и мы вместе его посмотрим.
Я сижу в той части буквы Н, которая симметрична коридору, расположенному рядом с курилкой. Ноэль сказала, что она не курит, значит, скорее всего, захочет встретиться здесь. Родителям я о ней не сказал, но рассказал, что разругался с друзьями и что у меня и так было с ними не очень, а так даже лучше. Мама сказала, что догадывалась, как плохо они на меня влияли, и что знала про травку. А папа сказал: «Ну что, Крэйг, сам-то ты травку курить не станешь?», на что я ответил, что нет, до сдачи ЕГЭ не стану, и мы все рассмеялись.
Они спросили, как я ем, и я сказал, как оно и было, что с едой у меня замечательно.
Спросили и про сон, про что я тоже сказал «замечательно», надеясь, что так оно и будет этой ночью.
И вот я сел нога на ногу – странная поза, меняю положение. Мерзну и что-то нервничаю, снова сажусь нога на ногу. На часах ровно семь. Ноэль, в тех же темных брюках капри и белой майке-алкоголичке, что и вчера, направляется ко мне по коридору и садится на стул рядом со мной, откинув волосы с лица тонкими пальцами с ненакрашенными ногтями.
– Пришел, значит, – говорит она.
– Ну да, получил твою записку. Первый раз получаю записку от девушки, – с улыбкой говорю я, стараясь сесть как-то повольготнее, чтобы выглядеть покруче.
– Мы сейчас быстренько сыграем в одну игру, – предлагает она.
– У меня только пять минут, ладно?
– Хорошо, хорошо. Правила такие: один вопрос задаю я, один – ты.
– Ладно. А отвечать обязательно?
– Как хочешь. Но в любом случае надо задавать следующий вопрос.
– То есть мы будем обмениваться вопросами, как в игре про двадцать вопросов. А почему нам надо разговаривать именно так?
– Это лучший способ узнать человека. И за пять минут мы точно зададим больше двадцати вопросов, если, конечно, не будем копаться. Я начинаю. Готов?
– Ага, – собираюсь с мыслями я.
– И не отвечай вопросом на вопрос, договорились? Ты же не тупой?
– Нет! – трясу я головой. – Э… готова?
– Поехали. Первый вопрос: по-твоему, я выгляжу отталкивающе?
Ну вот, прямо с места в карьер. Я ее оглядываю, и как-то мне немного стыдно от того, как я это делаю: пробегаясь глазами снизу вверх, как я смотрю на цыпочек в интернете. Мой взгляд падает сначала на ступни, обутые в простые черные кроссовки, затем – на тонкие незагорелые лодыжки, переходит к краю брючин, поднимается до колен, скользит по тонкой талии вверх по телу, отмечая острые бугорки грудок, переходя к шее, обрамленной растянутым вырезом майки, и изящному подбородку и губам. Порезы, покрывающие скулы и лоб, расположены по три рядом и параллельно друг другу. Уже сейчас на краях каждой черточки наросла белая кожица, и они такие тонкие и незаметные, что, когда заживут, их будет почти не видно. Добавить сюда задумчивые зеленые глаза – и понятно, что Ноэль – красавица, это без обсуждений.
– Вовсе нет. Ты выглядишь просто потрясно, – отвечаю я.
– Теперь твой вопрос!
– Э-э-э, почему ты написала мне записку?
– Ты показался мне интересным. Почему ты пришел?
– Я… – я медлю в попытке выдумать ответ. – Просто мне нравятся девушки, и желание одной из них – для меня закон.
«Так, отлично, теперь сделай ей комплимент».
– Особенно желание такой красивой девушки, – добавляю я с улыбкой.
– Игрок из тебя слабоватый: ты забыл задать вопрос.
– А! Точно. Э-э-э… а тебе нравятся парни?
– Да, – вздыхает она, – но особенно-то не обольщайся. У тебя же не встал на меня?
– Нет! – отрицаю я и скрещиваю ноги. – Нет. А как… как ты сюда попала?
– Вот это вопрос! Уже за рамками. А ты как думаешь?
– Кто-то зашел, когда ты полосовала себе лицо?
– И это правильный ответ! Вообще-то, зашли позже, я уже всю мойку кровью залила. А ты как сюда попал?
– Сам пришел. Сколько ты уже здесь?
– Почему ты пришел сам? Двадцать один день. Ой, наоборот сказала. Ну, давай, будто я закончила вопросом.
– Мне было плохо, и я позвонил на горячую линию, ну знаешь, линию помощи для тех, у кого суицидальные мысли. Позвонил, и они сказали идти сюда. Почему ты тут так долго?
– Врачи хотят убедиться, что я больше себе не наврежу. Какое лекарство ты принимаешь?
– «Золофт». А ты?
– «Паксил». Где ты живешь?
– Рядом, в этом районе. А ты?
– На Манхэттене. Чем занимаются твои родители?
– Мама делает макеты открыток, а папа работает в страховой компании. А твои?
– Мама адвокат, а папа умер. Хочешь узнать, как он умер?
– Сочувствую. Как? А мне нужно это знать?
– Это сразу два вопроса. Да, нужно. Он умер на рыбалке, выпал из лодки. Случай нелепее и представить себе нельзя, да ведь?
– Нет. Вовсе нет, – отвечаю я. – Хочешь, скажу, что я считаю самым нелепым случаем смерти?
– Что?
– Аутоэротическую асфиксию. Ты же знаешь, что это такое?
– Когда человек затягивает веревку на горле в то время, как дрочит, да?
– Да. Я прочитал про это в ДСР. Ты когда-нибудь ее читала? Огромную книгу про психические расстройства?
– Ага!
– Естественно! А ты знаешь про синдром проклятия Ундины?
– Бог ты мой! Я думала, я одна про это знаю. Это когда забываешь, как дышать. Э-э-э… где ты увидел ДСР в первый раз?
– В книжном шкафу моего мозгоправа. А ты?
– И я. Ты тоже называешь их «мозгоправами»?
– Ну так они этим и занимаются, верно?
– А что это вообще означает?
– Думаю, «головосжиматель», потому что они сжимают содержимое головы. Разве я знаю все ответы?
Ну и игра! Я упираю руки в колени и наклоняюсь вперед: я выдохся, мне нужен перерыв. Потом продолжаю:
– Ноэль – твое настоящее имя?
– А почему оно должно быть ненастоящим?
– Ну, после вчерашней истории за обедом я уже и не знаю, чему верить. Ты знаешь, как меня зовут?
– Конечно! Крэйг Гилнер. По-твоему, я идиотка, что ли?
– Откуда ты знаешь мою фамилию?
– Прочитала на браслете. Хочешь прочитать мою?
– «Ноэль Хинтон». Слушай… – Я задумываюсь на секунду. – Вот, готово: ты знала, что должно было произойти вчера за обедом?
– Ты про Дженнифер? Конечно, знала. Он над всеми так прикалывается. А вот почему ты на это повелся, мне интересно?
– Я думал, что она, то есть он, что он, ну, это, девушка. И меня попросили подойти…
– Почему ты пришел сюда?
– Погоди, я вопрос не задал.
– Ничего, добавим тебе один балл. Так почему ты пришел сюда?
– Ну, я же вроде сказал: потому что ты девушка и ты меня попросила. И ты вроде клевая.
«Ты ведь уже сказал, что она красавица, а теперь не мелочись и скажи, что она действительно клевая!»
– Так ржачно наблюдать, как ты отвечаешь. Ты такой глупенький. Ты же в курсе, что ты глупыш?
Ноэль откидывается назад и потягивается. Волосы открывают лицо, и становится виден пронзительный рисунок шрамов. Цвет волос перекликается с цветом майки.
– А ты знаешь, что твои порезы не так уж плохо смотрятся?
– Сколько я здесь, Крэйг?
– Ты сказала, что двадцать один день. Это правда?
– Ага. Представляешь, как они выглядели, когда я поступила?
– Они оставят шрамы?
– Мне должны сделать операцию, которая их скроет. Думаешь, стоит на нее соглашаться?
– Думаю, не стоит. Зачем скрывать, через что ты прошла?
– Даже не знаю, нужно ли на это отвечать. Разве это не очевидно? Не буду ли я счастливее без этих шрамов?
– Не знаю. Сложно сказать, что делает нас счастливыми. Я думал, что буду счастлив учиться в крутой школе, а закончил тем, что попал сюда. Погоди, а ты в какую школу ходишь?
– В «Преемник», это частная школа на Манхэттене. Мне кажется, только там еще форму и носят. А ты?
– В Подготовительную академию управления. Вам обязательно носить форму?
– А ты что, извращенец, которому нравятся девочки в форме?
– Нет. Ну… нет.
– Два балла. Ты не задал вопрос. Тебе нравится эта игра?
– Мне нравится разговаривать с тобой. Как задачу по математике решать. А тебе нравится со мной разговаривать?
– Нормально. Тебе нравится математика?
– Я думал, что у меня с математикой порядок, но в этом классе я среди отстающих. А тебе?
– Я плохо учусь. Посвящаю много времени балету. Но для него я слишком низкая. А у тебя было такое, что тебе не хватало роста для чего-то?
– Ну разве что для прохода на какие-то аттракционы, когда я был маленьким. А почему ты спросила?
– Я для некоторых аттракционов до сих пор не доросла. Фигово быть коротышкой, так и знай. – Тут она замолкает.
– У тебя один балл.
– А у тебя – три. Закончили игру.
– Отлично. – Я с облегчением сажусь на место. – Уф… Что теперь?
– Прекрасный вопрос. Понятия не имею. Мне надо идти на урок творчества.
– И мне.
– Пошли вместе?
– Конечно. – Я мешкаю. Ну что это, как не подкат? – Э-э-э… можно мне тебя поцеловать?..
Ноэль хохочет, запрокинув голову:
– Нет, нельзя! Ты что, думаешь, поиграли разок – и уже целоваться?
– Ну, я думал, между нами что-то есть.
– Крэйг, – тут она придвигается ко мне и смотрит прямо в глаза, – нет.
Порезы на ее щеках кривятся от улыбки.
– Не знаешь, когда тебя выпишут? – спрашиваю я.
– В четверг.
– И меня. – От радости даже екает в животе. Я наклоняюсь все ближе…
– Нет-нет, Крэйг. Нам на урок творчества.
– Ладно. – Я поднимаюсь и протягиваю руку Ноэль, на что она не обращает внимания.
– Наперегонки! – говорит она и мчится по коридору в кабинет для занятий, я бегу за ней, пытаясь не отставать. Их что, на балете учат бегать? У меня ноги длиннее, а я еле поспеваю. Мы проносимся мимо медсестринского поста, и Говард кричит нам вслед: «Детишки! А ну не бегать по отделению!», а мне все равно, что он там кричит.
Тридцать два
– Ну, кто тут любит рисова-а-ать? – спрашивает Джоан, крупная, ярко накрашенная, улыбчивая женщина с браслетами на руках. Она ведет занятие в кабинете, который как две капли воды похож на тот, что был у нас в садике. По стенам развешаны рисунки пациентов с изображениями гамбургеров, собак и воздушных змеев и постеры с цитатами: «КТО ВИДИТ ЦЕЛЬ, ТОТ НЕ ВИДИТ ПРЕПЯТСТВИЙ», «ПРОСНИСЬ И СДЕЛАЙ СОН ЯВЬЮ», «СПИСОК ДЕЛ НА СЕГОДНЯ: 1) ВДОХНИ; 2) ВЫДОХНИ». Слава богу, что там нет алфавита, а то бы у меня точно началось Зацикливание. Еще там есть постер с такой цитатой: «ЛЮДИ С ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВНОСЯТ СВОЮ ЛЕПТУ В НАШ МИР». И там среди прочих перечислены умнейшие люди вроде Авраама Линкольна, Эрнеста Хемингуэя, Уинстона Черчилля, Исаака Ньютона и Сильвии Плат, которые были вроде как немного того.
Но, несмотря на то что все выглядит, как я и ожидал от психиатрической больницы, мне тоскливо. Взрослые, опустившиеся до уровня детей, сидят с испачканными краской пальцами, а веселый воспитатель их хвалит за любую ерунду. Но разве не этого я хотел, когда обводил еду на листочке с меню?
– Ты же хотел попасть в садик, солдат, вот ты в нем и оказался.
– Я хотел, чтобы было хорошо, как в садике, а не обстановку как в садике.
– Привыкай к невзгодам. Бери пример с твоей цыпочки. Бьюсь об заклад, что ты даже не мечтал встретить тут такую телочку.
– Ну, во-первых, она не телочка.
Мне кажется, «телочка» – это вроде как подруга. Я поглядываю на Ноэль, пока мы ищем, куда бы сесть.
– Мы с ней всего лишь поговорили один раз, и все.
– Ты ей нравишься, парнишка, и если ты этого не видишь, то ты и винтовку от игрушечного пистолета не отличишь, а ведь предстоит война.
– Да о какой войне вы постоянно говорите?
– Война, которую ты ведешь со своей головой, конечно.
– Понятно. Ну и как мы справляемся?
– Ты делаешь успехи, солдат, разве сам не видишь?
Мы с Ноэль садимся рядом с Хамблом и Профессоршей.
– Я смотрю, вы познакомились, – говорит Хамбл.
– Отстань от них, – вмешивается Профессорша.
– Где же вы были? – не унимается Хамбл. – Тили-тесто месили?
– Нет.
– Ничего не было, – говорит Ноэль.
– Крэ-э-эйг и Ноэ-э-эль – жених и невеста… – скандирует он, вскочив с места, прихлопывая руками по бедрам и кривляясь как маленький.
– Так, что там такое? – спрашивает подходящая к нам Джоан. – У вас что-то случилось, мистер Купер?
– Нет. Я что? Я ничего. – Он поднимает руки и садится на место. – Вы меня имели в виду?
Джоан ухмыляется и объявляет:
– Для опоздавших – свободный урок художественной досуговой терапии! – Хамбл показывает в нашу с Ноэль сторону и жестами нас стыдит. – Это означает, что вы можете нарисовать что захотите. Прекрасная возможность пробудить в себе творческие способности и заняться чем-то новым в часы досуга! Проводить свободное время с толком очень важно!
Закончив свою речь, Джоан подходит ко мне сзади и спрашивает:
– Ты тут, похоже, новенький? Привет, меня зовут Джоан. Я руководитель отделения восстановительной терапии.
– Крэйг, – мы жмем друг другу руки.
– Дать тебе карандаш и бумагу, Крэйг?
– Нет. Я не по этой части. Не умею я рисовать.
– Конечно, умеешь. Необязательно рисовать что-то конкретное, рисунок в абстрактном стиле прекрасно подойдет. Может, возьмешь мелочки?
– Нет. – Вот стыдоба-то, мне предлагают «мелочки».
– Может, тогда краски?
– Я же говорю, не умею рисовать.
– Краски не для рисования, а для раскрашивания.
– Тоже не по мне.
– Ну тогда фломастеры?
– Нет.
– Внимание всем! – Джоан поворачивается к группе. – Наш новый друг, Крэйг, в так называемом творческом кризисе. Он не знает, что нарисовать!
– Ну это прямо беда, дружище! – во весь голос восклицает Армелио. – Может, в картишки?
– Никаких карт на уроке творчества, Армелио. Ну так как, кто-то поможет Крэйгу с идеей рисунка?
– Пусть нарисует рыбу! – выкрикивает Бобби со своего места. – Их рисовать легко.
– Таблетки, – подсказывает Джонни.
– Джонни, – увещевает его Джоан, – таблетки мы не рисуем.
– Кукурузный салат, – предлагает Эбони.
– Она хочет, чтобы ты нарисовал кукурузку, но уж точно не ту, что едят, – гогочет Хамбл.
– Ну все, мистер Купер! Пожалуйста, немедленно покиньте кабинет.
– У-у-у-у-у-у, – раздается со всех сторон.
– Правильно! – выкрикивает Эбони и, как арбитр на поле, указывает на выход. – Вали отсюда!
– Ну и ладно. – Хамбл встает с места. – Как хотите. Конечно, виноват я, кто же еще? Вот и уважай вас всех после этого.
Он собирает вещи, которых нет, и выходит из кабинета, крикнув напоследок:
– Жалкая горстка яппи, вот вы все кто!
Я провожаю его взглядом.
– Ты можешь нарисовать кошку! – предлагает парень, который боится смены гравитации. – У меня раньше была кошка, но умерла.
– Скалка! – подает голос бородач. С тех пор как я встретил его на пути в столовую, это первое слово, которое я от него услышал. Он по-прежнему все свободное время шатается по коридорам, раскачиваясь туда-сюда, если только не сидит в своей комнате.
– Что-что, Роберт? – оживленно спрашивает Джоан. – Хорошо, молодец. А что ты сказал?
Но Роберт замолкает и больше ничего не говорит. Интересно, что для него значит «скалка». Если бы меня попросили назвать только одно слово, это точно была бы не «скалка». Я бы, скорее всего, сказал «секс». Или «Сдвиг».
– Он может нарисовать что-то, связанное с детством, – говорит сидящая рядом со мной Ноэль.
– Отличная идея, Ноэль! Не хочешь сказать погромче?
Ноэль вздыхает и объявляет на всю комнату:
– Крэйг может нарисовать что-то из своего детства.
– Вот так! – кивает Джоан. – Тебе понравилось что-то из предложенного, Крэйг?
Но я уже не слышу. Я веду начало реки от верхнего угла страницы вниз, где она встречается со второй рекой. А, погодите, я же забыл, что сначала нужно проложить дороги, потому что мосты идут поверх воды. Вспомнил: магистрали, реки, а потом улицы. Когда я в последний раз это делал? Лет в девять. Как можно было забыть? Я веду линию магистрали через центр страницы, где она встречается с другой в дорожной развязке – красивой, наподобие спагетти, – один съезд с которой проходит через парк и заканчивается веселым жилым районом округлой формы. Отсюда я продолжаю надстраивать город, квартал за кварталом. Карта растет и ширится. Растет и ширится мой город.
– Ого, кажется, творческий кризис Крэйга в прошлом! – провозглашает Джоан из другого конца кабинета. Я оглядываюсь назад: Эбони с трудом поднимается с места, опираясь на трость, и ковыляет в мою сторону.
– Дайте-ка посмотреть. О, красота какая! – восхищается она, стоя у меня за спиной.
– Спасибо, Эбони, – благодарю я, поворачиваясь к карте.
– А что там? – орет Армелио.
– Давайте не кричать на весь кабинет, – успокаивает его Джоан.
– Это так необычно, – говорит стоящая рядом со мной Профессорша.
– Моя заслуга тут тоже есть, – говорит сидящая справа от меня Ноэль. У нее на листе набросок цветка. – Так ведь? – косится она на меня, не поворачивая головы.
– Конечно, есть, – говорю я ей, ненадолго оторвавшись от листа, и снова принимаюсь за дело: карта словно вытекает из меня.
– Это что, какой-то мозг? – спрашивает Эбони.
Я поднимаю голову и вижу скривившийся в улыбке беззубый рот. Снова смотрю на карту. Неужели не ясно, что это не мозг, а карта? Вот же – реки, магистрали и развязки. Но потом я вижу, что и на мозг похоже: дороги – это перекореженные нейроны, которые тащат эмоции с места на место, давая жизнь городу. Может, если мозг работает, то он и есть такая вот карта, по которой каждый может попасть куда надо по автострадам. А если в мозгу что-то сломалось, как у меня, то в нем возникают пробки и тупики, где ведутся дорожные работы.
– Ага, – соглашаюсь я с Эбони. – Это мозг и есть.
И тут, так и не доделав, я бросаю рисовать карту. Вот блин, вечно со мной так – бросаю все на полпути. Я даже не добрался до края страницы, а у меня уже иссякла энергия, так что я обвожу вокруг карты абрис головы с носом, двойным контуром губ и уходящей вниз шеей. При этом овальный сгусток нанесенных на карту городских улиц оказывается справа, там, где должен быть мозг. На месте глаза я рисую круговую развязку и веду вниз ко рту два широких бульвара. Эбони хохочет, пристукивая тростью.
– Прелесть какая!
– Ничего особенного, – говорю я, глядя на лист. На этом все. Мог бы и лучше. В нижнем углу ставлю свои инициалы – К. Г., как «компьютерная генерация», – и откладываю рисунок в сторону. Прошу еще один листок бумаги и приступаю к следующей карте.
Как это просто. Это просто, и я могу это делать. Я мог бы заниматься этим вечно. До конца занятия я сделал пять рисунков.
Я так углубился в рисование, что даже не заметил, как ушла Ноэль. Только нашел рядом на столе украшенную цветами записку, когда прибирал свое место.
«Сделаем перерыв. Нельзя слишком привязываться друг к другу. Следующая встреча во вторник, на том же месте. Не расстраивайся, что так долго. Ты милый».
Я сворачиваю записку и кладу в карман, рядом с предыдущей. После творческого занятия у нас обед, на котором Хамбл говорит, что прощает меня за то, что я вверг его в неприятности, я благодарю его за это. Потом иду играть в карты с Армелио, который предлагает, раз уж я поднакопил кое-какой опыт, сыграть в большую игру завтра вечером.
– Будем играть на деньги? – спрашиваю я.
– Не, дружище! Мы играем на пуговицы!
В принципе, я таскаюсь за всеми, куда бы они ни пошли, и, пока все курят, я сижу снаружи и болтаю с Бобби о том, как провел день. Потом иду в свою комнату, где разложены мои мозгокарты. В шестом северном пациентов не балуют, и моя кровать так и ждет меня незастеленной, только подушка расправилась и приняла прежнюю форму, и вмятина от моей вспотевшей башки больше не видна. Я ложусь, и подушка под головой издает невероятно умиротворяющее, нежное шипение.
– Ну как, тебе стало лучше? – спрашивает Муктада.
– Да, получше, – отвечаю я. – Зря ты не выходишь из комнаты, Муктада: там, за дверями, целый мир.
– Я каждый день молюсь, чтобы однажды мне полегчало, как тебе.
– Ну мне не так уж и полегчало.
Но я чувствую себя достаточно хорошо для того, чтобы заснуть без укола.
Часть седьмая Понедельник, шестой северный
Тридцать три
Настал следующий день, понедельник, а значит, мне надо быть в школе.
Мне не следует сидеть с Хамблом в столовой и слушать, что делала его подружка каждый раз, когда они ходили в «Бургер Кинг», – мне следует быть в школе.
Я не должен слушать, как Эбони рассказывает своему другу по телефону, какую замечательную карту человеческого мозга я нарисовал, и приговаривает: «Он такой молодец, Мерлин, такой молодец», – я должен быть в школе.
Мне не следует стоять за Бобби, одетым в мою рубашку, в очереди за «Золофтом» – мне следует быть в школе.
Я набираюсь смелости и к одиннадцати часам добираюсь до телефона, чтобы проверить голосовые сообщения.
«Привет, Крэйг, это Аарон. Слушай, прости меня, чувак. Я, наверное… В общем, после того разговора, когда ты сказал, что она принимает таблетки, мы с Ниа поцапались… И, наверное, у меня тоже что-то вроде депрессии. Бывало, что я с кровати встать не мог, я и сейчас… постоянно какой-то сонный и сбиваюсь с мыслей. Да я и позвонил-то тебе, наверное, потому, что хотел показать, что у меня вроде как все зашибись, так Ниа говорит. И мы с ней очень хотим тебя навестить. Дела у нас с Ниа не очень».
Я перезваниваю и оставляю ему сообщение, в котором объясняю, что если он думает, что у него депрессия, то ему сначала лучше пойти к участковому терапевту и попросить направление к психофармакологу, а дальше уже все как у меня, по накатанной. Сказал, что нечего тут стыдиться и что рад его звонку, но насчет посещения не уверен: надо много чего обдумать, и я хочу посидеть тут в покое, держась от внешнего мира как можно дальше. Еще я спрашиваю, что у них с Ниа произошло и помирились ли они.
«Здравствуй, Крэйг, это снова мистер Рейнольдс…»
Учителю я тоже оставляю сообщение. Говорю, что я в больнице по личным обстоятельствам и что сделаю лабораторные, когда мне станет лучше и я буду в состоянии, потому что сейчас я в месте, где необходимо избегать стрессовых ситуаций. Также я уверяю его, что предоставлю все необходимые справки от врачей, включая психофармакологов, психиатров, психологов, медсестер, руководителей восстановительной терапии и Президента Армелио. Я говорю, что, если он захочет позвонить, пусть набирает этот номер и не смущается, если ему ответят, что он дозвонился в «Паб „У Джо“».
«Крэйг, привет, это Дженна, подруга Ниа. Я звоню… Так неловко это говорить, но ты не хотел бы как-нибудь пообщаться? Я слышала, что с тобой произошло и что ты в больнице или вроде того. Знаешь, я тоже прошла через подобное, но мой бывший плевать хотел на такие дела. Я тут подумала, что, может, мы с тобой поймем друг друга, и ты мне всегда нравился вообще-то, хоть мы и виделись пару раз. Я всегда думала, что ты вроде как стеснительный и не особо любишь тусоваться, – я и понятия не имела, что у тебя депрессия. Ты такой молодец, что признал свою болезнь, и я подумала, что мы могли бы общаться».
Ну что ж, Дженне я тоже перезваниваю и обещаю встретиться с ней, возможно, на следующей неделе.
На этом все. Есть еще сообщения от Ронни и Скраггса, что-то там про травку, их я просто игнорирую. И тут вдруг вижу, что напротив меня стоит Муктада.
– Я сделал, как ты сказал: вышел из комнаты.
– Ух ты! Доброе утро! Как самочувствие?
– Нормально, – неопределенно пожимает он плечами. – Что тут делать?
– Ой, тут полно разных занятий. Рисовать любишь?
– Э-э-э…
– Играть в карты?
– М-м-м…
– А может, тебе нравится… музыка?
– Да.
– Отлично! Тогда…
– Только египетская музыка.
– А, да? – Я лихорадочно пытаюсь сообразить, где можно достать египетскую музыку и по каким названиям ее искать, как вдруг к нам подгребает, хлопая сандалиями, Соломон.
– Извините, нельзя ли потише? А то никакого покоя! – орет он на нас. При виде Соломона Муктада принимается хохотать, так что очки на носу подскакивают.
– В чем дело? – спрашивает озадаченный Соломон.
– Семнадцать дней! – говорит Муктада. – Семнадцать дней еврей со мной не разговаривал! И вот заговорил. Какая честь.
– Я разговаривал не с вами, а вот с ним, – Соломон указывает на меня.
– Так вы знакомы? – спрашиваю я.
Муктада и Соломон жмут друг другу руки, при этом штаны Соломона немного спадают, и он пытается поддержать их, согнув ногу в колене. Потом возвращает руку на место и, раздраженный, уходит.
Муктада поворачивается ко мне и объявляет:
– На сегодня хватит. – И удаляется в свою комнату.
Я трясу головой.
Звонит телефон, я зову Армелио, тот подскакивает, хватает трубку, говорит «Паб „У Джо“» и протягивает ее мне.
– Меня?
– Ага, дружище.
– Могу я поговорить с Крэйгом Гилнером? – слышу я в трубке властный голос.
– Э, это я. А кто звонит?
– Крэйг, это мистер Альфред Яновиц, директор Подготовительной академии управления.
– Вот блин! – восклицаю я и бросаю трубку.
Телефон звонит снова, а я стою рядом и не обращаю внимания. Армелио и всем, кто проходит мимо, я говорю, что это звонят мне, но отвечать я не буду. Все меня прекрасно понимают: это же звонит сам директор. Я так и думал. Я помню его, он выступал перед нами в первый день (мы с Аароном сидели тогда накуренные) и говорил, что в Академию приняты лучшие из лучших и что лучшие будут вознаграждены по заслугам. Директор заглядывал иногда в классы – посмотреть, как мы корпели над контрольными, и раздавал шоколадки, как будто хотел этим что-то компенсировать. Это он говорил: «Ваш учебный день должен заканчиваться не раньше пяти вечера», а в газетах о нем всегда отзывались как о самом жестком, решительном и прагматичном руководителе. И вот теперь наш строгий директор у меня на хвосте, потому что он знает, что я сумасшедший и что у меня полно несделанной домашки. И дернул меня черт оставить сообщение мистеру Рейнольдсу. Ну теперь все. Меня точно исключат из Академии, я не пойду ни в какую другую школу и никогда не поступлю в университет.
Наконец телефон замолкает, и я начинаю расхаживать по коридору туда-сюда.
Я так и знал. О чем я только думал? Думал, что справился с парочкой небольших трудностей – и вот ты уже победитель? Думал, что этот мирок шестого северного и есть настоящая жизнь? Завел пару друзей, немного поговорил с девчонкой – и думаешь, что преуспел в жизни, Крэйг? Ни хрена ты не преуспел! Никакой ты не победитель! Это ничего не доказывает. Тебе не станет лучше, ты не найдешь работу. Не заработаешь денег. Лежишь тут за государственный счет и пьешь те же таблетки, что и раньше. Зря тратишь родительские деньги и деньги налогоплательщиков. А ведь ничего особенного с тобой не случилось.
Но я знаю, что это просто отговорки. У меня все было не так уж плохо. Набрал же я 93 балла и как-то держался на плаву. У меня были друзья и любящие меня родители и сестра, а мне, видите ли, было мало внимания, все чего-то не хватало, и вот я здесь, упиваюсь самим собой и пытаюсь всех убедить, что это у меня такая… болезнь.
Нет у меня никакой болезни, размышляю я, продолжая мерить шагами коридор. Депрессия – это вовсе не болезнь, а просто отговорка для тех, кто хочет строить из себя диву. Всем это понятно. Это понимают мои друзья, и директор школы – тоже. Я снова потею. Чувствую, как Зацикливание завывает у меня в голове. Ну что хорошего я сделал? Нарисовал пару рисуночков? И кому это надо? Ну все, мне конец. Мне только что звонил директор школы, а я бросил трубку и не перезвонил. Мне конец. Считай, что меня выгнали. Мне конец.
Человечек возвращается в мой живот, и я стремглав несусь в ванную. Сгорбившись над унитазом, постанывая и кашляя, я силюсь сблевнуть, но что-то никак не выходит. Так что полощу рот и отправляюсь в кровать.
– Что случилось? – спрашивает Муктада. – Ты же никогда не спишь днем.
– У меня все хуже некуда, – говорю я, ложусь и встаю только на обед, похавать. В три часа в комнату заглядывает доктор Минерва:
– Крэйг, я пришла поговорить.
Тридцать четыре
– Как же я рад, что вы пришли, – говорю я ей, когда мы заходим в кабинет, где со мной беседовала медсестра Моника. Похоже, доктор Минерва тут не первый раз.
– И я рада тебя видеть, очень рада, – уверяет она.
– Ага, ну и тряхануло же меня, я как на американских горках побывал!
– Ты имеешь в виду, в эмоциональном смысле?
– Да.
– А как у тебя теперь, Крэйг? Где ты теперь?
– Теперь внизу. Еду вниз.
– И почему так вышло? Почему ты внизу?
– Мне позвонили из школы. Директор звонил.
– И что он хотел?
– Не знаю, я бросил трубку.
– А как ты думаешь, Крэйг, зачем он звонил?
– Чтобы сказать, что я исключен.
– И зачем бы ему это делать?
– Как зачем? Затем, что я здесь! Потому что я не в школе!
– Крэйг, тебя не исключат из школы за то, что ты лежишь в психиатрическом госпитале.
– Ну вы же знаете, что у меня и других проблем хватает.
– Каких, например?
– Я постоянно зависаю с друзьями, сижу в депрессии, не делаю домашку…
– Вот, значит, что. Погоди-ка минутку, Крэйг. Мы не виделись с пятницы. Расскажи немного о том, что с тобой было и как ты попал сюда.
Я повторяю обычную историю, к которой добавляю немало новых подробностей, связанных с моим пребыванием в шестом северном: про Ноэль, про то, что я смог поесть, что меня не вырвало и что сплю с переменным успехом.
– А по сравнению с пятницей, Крэйг, тебе лучше или хуже?
– Лучше. Намного лучше. Вопрос в том, правда ли мне лучше или это просто обманчивое заблуждение, в которое я впал, оказавшись в этом безопасном, спокойном мирке? Это же неестественный, фальшивый мир.
– А где он естественный, Крэйг?
– Наверное, нигде. Кстати, что там нового, с тех пор как я здесь?
– Кто-то пытался пустить газ в отель «Четыре сезона» на Манхэттене.
– Да вы что?
– И не говори, – с ухмылкой произносит она. Потом наклоняется ближе и доверительным тоном говорит: – Крэйг, ты не упомянул об этом, а я слышала от руководителя по восстановительной терапии, что ты занимался творчеством.
– А, ну да, вчера. Но это так, ничего особенного.
– И что ты делал?
– Помните, я рассказывал, что любил рисовать карты, когда был маленьким? Вот это меня и подтолкнуло.
– Каким же образом?
– Когда мне дали карандаш и бумагу на творческом занятии, я вспомнил, хотя нет, это Ноэль помогла мне вспомнить…
– Девушка, с которой ты познакомился?
– Да.
– Ты говоришь о ней как о настоящем друге, насколько я могу судить.
– Да что вы, никакой дружбы. Мы точно будем встречаться, когда я отсюда выйду.
– Думаешь, ты к этому готов, Крэйг?
– Еще как.
– Хорошо. – Она делает пометку. – И как же Ноэль тебе помогла?
– Она предложила, чтобы я нарисовал что-то из детства, и так я вспомнил о картах.
– Понятно.
– Я рисовал, но потом подошла Эбони…
– Я смотрю, ты тут всех называешь по именам.
– Ну конечно.
– А раньше ты легко заводил друзей?
– Нет.
– Но здесь у тебя это получается.
– Да, правда. Но тут же все по-другому.
– Что значит «по-другому»?
– Ну, не знаю… Тут тебя ничто не обязывает.
– Не обязывает заводить друзей.
– Нет, ничто не обязывает упорно работать.
– Как во внешнем мире?
– Ну да.
– Там колоссальное давление. Там Щупальца.
– Ага.
– А здесь Щупальца есть, Крэйг?
Я задумываюсь. С каким расчетом устроена жизнь в шестом северном, мне яснее ясного: люди постоянно должны быть чем-то заняты. Не успел проснуться, а уже идешь на измерение давления, руку окутывают манжетой, и кто-то щупает пульс. Потом завтрак, прием лекарств и перекур. Хорошо, если выпадет минут пятнадцать свободного времени перед каким-нибудь занятием, после которого идем на обед, и снова – прием лекарств, перекур, занятия, и вот уже – бац! – день окончен, пора идти на ужин, где все меняются солью и десертами, а вот уже и десять вечера, перекур и отбой.
– Нет, здесь нет никаких Щупалец, – отвечаю я. – Тут наоборот: все просто и понятно – тебе дают делать что-то, с чем ты без проблем справляешься. Тут так устроено все.
– Верно. И единственные Щупальца, которые до тебя дотягиваются, – это телефонные звонки, из-за которых твое настроение падает вниз.
– Точно.
Доктор Минерва что-то отмечает и снова спрашивает:
– А теперь самый главный вопрос, Крэйг. Здесь есть Якоря?
– Хм.
– Что-то, что помогает тебе удерживаться.
Я раздумываю о том, что она сказала. Если Якорь – это что-то стабильное, то их тут полно. По радио постоянно звучит радиостанция «Лайт-ФМ», через которую лишь иногда прорывается угрожающая фанк-музыка с медсестринского поста, когда Смитти или Говарда нет поблизости. Распорядок тоже неизменный: раздача еды, выдача лекарств, объявления Армелио. Армелио – тоже само постоянство: всегда готов сыграть в карты. И Джимми со своим «И к те придет!» – тоже величина постоянная.
– Здесь Якоря – это люди, – отвечаю я.
– Ну, вообще-то, Крэйг, из людей Якоря неважнецкие. Люди меняются, и те, кто живет здесь, изменятся. Пациентов выписывают. На них нельзя полагаться.
– И когда их выпишут?
– Я этого не знаю.
– Тогда персонал?
– Он тоже меняется, просто не так часто. Люди приходят и уходят.
– А Ноэль? Она мне очень нравится, она умная и красивая. Она могла бы стать Якорем.
– Тебе точно не нужна в качестве Якоря девушка, к которой тебя влечет, – убеждает меня она. – Взаимоотношения с противоположным полом меняются еще быстрее, чем люди. Между двумя людьми все изменяется стремительно, особенно у подростков.
– Но Ромео и Джульетта тоже были подростками! – привожу я аргумент.
– И что с ними случилось?
– А! Ну да, верно, – бормочу я.
– А что насчет тех мыслей, Крэйг? Они тебя больше не беспокоят? Это позади?
– Да, – киваю я.
– Ты же понимаешь, если мысли о самоубийстве посетят тебя снова, придется вернуться сюда же?
– Знаю, но это не повторится.
– Почему же?
– Ну это… В самоубийстве нет ничего хорошего, будет плохо многим людям, и… это полный отстой.
– Да, верно, – доктор Минерва наклоняется через стол, – это полный отстой. И не только для других, но и для тебя.
– Нет в этом ничего благородного или романтичного, – продолжаю я. – Вон как мой сосед Муктада – уже, считай, мертвец: целыми днями лежит и ничего не делает.
– Верно.
– Мне не улыбается быть как он. Я не хочу так жить. А умереть – это и значит так жить.
– Прекрасно сказано, Крэйг.
Тут она замолкает. Как я и говорил, мозгоправы знают, когда сделать многозначительную паузу.
Я притопываю ногой. Жужжат флуоресцентные лампы.
– Вернемся к разговору про Якоря, – говорит она. – Нет ли здесь чего-то такого, что поможет тебе занять время, когда ты выйдешь?
Я задумываюсь. Я точно знаю: что-то есть, вертится в голове, но я никак не могу сформулировать.
– Нет.
– Ладно, ничего страшного. Ты сегодня хорошо продвинулся. Осталось сделать только одно дело – позвонить твоему директору.
– Только не это! – возражаю я, но она уже вытащила свой мобильный, которым ей тут точно не запрещено пользоваться, и уже с кем-то разговаривает:
– Да, дайте, пожалуйста, номер телефона Подготовительной академии управления, это на Манхэттене.
– Не надо, не звоните, не звоните! – Я тянусь через стол в попытке вырвать телефон из ее рук. Хорошо, что жалюзи на стеклянной перегородке задвинуты и никто этого не видит, а то бы мне точно вкатили укол с успокоительным. Доктор Минерва поднимается с места и подходит к двери, жестом спрашивая, не хочу ли я, чтобы сюда пришла охрана, и я покорно сажусь обратно.
– Да, я хочу поговорить с директором, – отвечает она кому-то по телефону, – я мать одного из учеников, которому он недавно звонил по поводу предоставления справок о здоровье.
Тишина.
– Прекрасно. – Она прикрывает телефон рукой. – Меня уже соединяют.
– Поверить не могу, что вы это делаете, – говорю я.
– А я не могу поверить, что тебя так волнует, что я это делаю… Да, алло. Это мистер… – Тут она вопросительно смотрит на меня.
– Яновиц, – еле слышно артикулирую я.
– Яновиц?
Из телефона слышится одобрительное бормотание.
– Это звонит доктор Минерва насчет ученика Крэйга Гилнера. Вы звонили ему в психиатрическое отделение госпиталя «Аргенон» в Бруклин. Я официальный психотерапевт Крэйга, и он сидит тут, рядом. Хотите с ним поговорить?
Она кивает и подает мне телефон:
– Возьми, Крэйг.
Я беру мобильный в руку – он поменьше моего и интереснее сделан.
– Э, алло.
– Крэйг, почему ты бросил трубку? – он говорит низким голосом, ласково и нежно, почти срываясь на смех.
– Э-э-э… я подумал, что произошло что-то плохое. Подумал, что меня исключили. Вы же позвонили мне прямо в больницу.
– Я позвонил тебе, Крэйг, потому, что получил сообщение от одного из учителей. Ты не беспокойся, мы поможем тебе со всем справиться. Академия позволит тебе наверстать полугодие. Или дополнительно летом, или будем давать тебе задания на дом, если ты пробудешь там слишком долго.
– Да?
– Господи, Крэйг, мы не осуждаем учеников за то, что они лежат в больнице.
– Не осуждаете? Но ведь это же психиатрическая…
– Я знаю, какая это больница. И, поверь, ты не первый, кто там оказался. Это обычная проблема среди людей твоего возраста.
– Ох, спасибо вам.
– Как у тебя дела?
– Мне лучше.
– Не знаешь, когда тебя выпишут?
Я не хочу говорить, что в четверг, потому что вдруг это будет в пятницу. Или вообще в следующий четверг. Или через год.
– Скоро, – отвечаю я.
– Ладно, давай не сдавайся, а мы тут, в Академии, будем ждать твоего возвращения.
– Спасибо, мистер Яновиц.
Я живо представил свое возвращение в школу: своих немногочисленных друзей (хотя они мне уже и не друзья), к которым добавятся сочувствующие моей депрессии, девчонок, понимающих учителей и вдруг ставшего милым директора. Разве не повод для радости? Но мне совсем не весело.
– Ну что, не так уж все и плохо? – спрашивает доктор Минерва.
Да, неплохо. Так же неплохо, как временная отсрочка от тюрьмы, где тебя ждут с распростертыми объятиями.
– Теперь главное – чтобы тебя выписали в четверг, а я приду в следующий раз в среду, договорились? – говорит доктор Минерва.
Я жму ее руку и благодарю. Она знает, как я говорю, когда чувствую себя хорошо, и это означает, что она справилась со своей работой. Потом я иду в комнату и рисую карты мозгов, с нетерпением ожидая супертурнира по картам с Армелио.
Тридцать пять
– Так! Ну что, все в сборе? – спрашивает у нас Армелио.
В кабинет для занятий пришли Джонни, Хамбл, Эбони и Профессорша. Свежевыбритые мужчины выглядят гораздо лучше обычного (оказывается, бритье здесь только по выходным). Даже Роберт-Скалка, как всегда разгуливающий по коридору, смотрится вполне презентабельно. Надо запомнить: бритье идет на пользу даже психам.
– Ха! – отвечает Джонни. – Бобби еще не вернулся с комиссии.
– Ага, – подтверждает Эбони. – А Крэйг ему рубашку одолжил. Ты такой молодец, Крэйг.
– Спасибо.
– Когда ты будешь еще рисовать такие штуки?
– Может, сегодня, после игры.
– Вот именно, давайте сосредоточимся на картах, – говорит Армелио.
Он встает в торце стола, неровная деревянная столешница которого покрыта брызгами краски, почеркана мелками и выпачкана пятнышками чернил. В центре стола стоит пластиковый контейнер с четырьмя перегородками, наполненный пуговицами. Похоже, что их попытались разложить по цвету или размеру, но сейчас пуговицы перемешаны и лежат причудливой смесью, как сокровища всех немыслимых форм, размеров и рисунков.
– К концу игры все пуговицы должны быть на месте! – говорит Джоан, сидящая за другим столом, подальше от нас. Она наблюдает за нами и коротает время за чтением женского романа.
– Да-да, мы до сих пор не нашли пуговку «Синий бандит», – говорит Хамбл. – Так что каждый, кто держится за штаны, автоматически попадает под подозрение. Поглядывайте за Соломоном и Эбони.
– Я уже говорила, отвянь от моих штанов, придурок.
– Так, ладно, все готовы? – спрашивает Армелио. – Берите пуговицы!
Все тянутся к контейнеру и берут пуговицы горстями, распределяя их перед собой на столе в один ряд. Армелио смотрит, чтобы у всех было поровну.
– Положи обратно шесть пуговиц, Хамбл. Эбони – десять. Джонни, дружище, что такое? Почему у тебя так много пуговиц?
– Я получил пуговичный бонус, – говорит Джонни, но тут в комнату своей размашистой походкой входит Бобби, как всегда, откинув спину назад. На нем моя рубашка. Он подходит к другому торцу стола и, выждав, чтобы мы обратили на него внимание, правой рукой делает в воздухе пассы, как маг-иллюзионист перед показом фокуса. Потом с шумом опускает сжатые в кулаки руки на стол, так что они образуют букву V, как будто он председатель совета директоров, и, улыбаясь, говорит:
– Я прошел комиссию.
В комнате воцаряется тишина.
Сначала тихо, а потом все увереннее из дальнего конца комнаты хлопает Джоан, к ней присоединяется Армелио, и аплодисменты нарастают и нарастают.
– Да!
– Поздравляю!
– Ура-а-а бруклинскому засранцу!
– Боб-би! Боб-би!
Мне кажется, что даже картинки на стенах затряслись, когда мы захлопали в восемь пар рук в таком маленьком пространстве. Добавьте к этому крик и улюлюканье. Томми встал и заграбастал Бобби в объятия, которые могут быть только между старыми друганами, знающими друг друга лет двадцать, как делящие беду и радость пополам «друг номер один» и «друг номер два».
– Бобби, дружище, ну ты молодца! – Армелио в чувствах подходит к обнимающимся Бобби и Джонни и так сильно хлопает Бобби по спине, что они двое еле удерживаются от падения.
– Погоди-ка, – говорит Бобби. Он выпутывается из объятий друга и поднимает правую руку вверх, призывая к вниманию. – Пока не началась игра и мы все не съехали с катушек, я хочу поблагодарить вот этого юношу. – Он подходит ко мне. – Паренек буквально снял с себя рубаху – вот эту вот, синюю, – а он меня знать не знал. И я уж точно не получил бы место в этом интернате. Моем новом доме.
Я встаю, и Бобби обнимает меня своими костлявыми руками. Его щека прижимается к моей, и я чувствую гладкость его старой кожи и крепкую ткань моей рубашки, которая пригодилась ему больше, чем мне. Подумать только: произошедшее с этим чуваком значит куда больше, чем поступление в какую угодно школу, или отношения с девушкой, или какая-то там дружба. А ведь он просто обрел место, где ему можно жить. А что я? У меня всегда был дом, тут мне беспокоиться не о чем. Мой страх оказаться на улице – не больше чем глупая фантазия, потому что родители приютят меня в любое время. А кому-то приходится радоваться, что есть где жить. И я даже не знаю, смогу ли кого-то порадовать. И думаю: «Если Бобби смог заполучить жилье, то, может, и я смогу наладить свою жизнь».
– Спасибо, малыш, – говорит Бобби.
– Да чего там, – смущенно бормочу я. – Ты же показал мне тут все, тебе спасибо.
– Так, ладно, народ, мы играем в карты или как? – спрашивает Армелио, но Бобби прерывает его:
– Еще кое-что. Извини, Крэйг, но когда я шел с комиссии, то случайно вляпался куда-то. – Он поворачивается, а там… там…
У него на спине, прямо над ремнем, на моей рубашке красуется огромная собачья какашка.
– Э-э-э… – «И как я не унюхал? – думаю. – Я же наверняка ее задел, когда мы обнимались?» – Ничего, Бобби… Ничего страшного… Мама ее отстирает…
– Она не настоящая! – Бобби сует руку за спину, вытаскивает какашку и швыряет в меня. Та отскакивает от моей больничной футболки (в шестом северном все в таких ходят) и приземляется на разложенные по столу пуговицы.
– Она пластмассовая! С восьмидесятых с ней не расстаюсь! Моя прелесть!
Армелио заходится в хохоте:
– Ты смотри, ну надо же! Моя мама могла бы оставить что-то такое у меня в комнате.
Все замолкают и поворачиваются.
– Зачем такое говорить, Президент Армелио?
– Твоя мать ходила по-большому в твоей спальне? – спрашивает Профессорша.
– Кто? Кто это сказал? – спрашивает Армелио. – Я говорил про пластмассу, а вы подумали черт-те что – что за люди!
– Так, успокаиваемся, – говорит Джоан, стоящая поодаль с книгой в руках. – Веселье весельем, но давайте обойдемся без скандалов.
– Ладно, кто-то берет какашку? – Хамбл поднимает ее вверх. – Думаю, она пойдет за два очка.
Бобби садится, и мы делаем ставки. Играем в покер, семикарточный стад, в котором я, мягко говоря, не силен. С самого начала игры все делают какие-то нереальные ставки: по три-четыре пуговицы. Мне выпали не самые удачные карты, и игрок из меня так себе, так что я пасую. Потом пасую еще раз, а на третий Джонни мне говорит:
– Это всего лишь пуговицы, почему бы и не сделать ставку?
– Во-во, – тихонько говорит Хамбл. – Смотри, хитрость тебе покажу. – Он тянется к коробке с пуговицами и достает пригоршню. – Сечешь?
– Я секу, – говорит Армелио, глядя поверх карт. – Еще раз смухлюешь – вылетишь из игры.
Я хохочу и ставлю шесть пуговиц.
– Ну и вылечу, так не велика потеря. Что я тут теряю? – невозмутимо говорит Хамбл. – Пуговичный джекпот, что ли?
– Веди себя хорошо, – говорит Профессорша.
– Ой, посмотрите на нее. – Хамбл показывает на Профессоршу большим пальцем. – Строит из себя посланника мира.
Он наклоняется ко мне и говорит:
– Не обманывайся: эта старушка – божий одуванчик обдурит тебя в два счета.
– Я не ослышалась? – Профессорша кладет карты на стол. – Ты назвал меня старушкой? Не хочешь объяснить?
– А чего тут объяснять? Люди думают, что ты безобидная бабуля, и не замечают, как проигрывают! – Хамбл показывает на себя деланым жестом.
– То есть ты говоришь, что я старуха?
– Вовсе нет! Я говорю, что ты бабуля!
– Извинись, Хамбл, – вмешивается Джоан, не отрываясь от книги и не вставая с места.
– А что такого? Разве плохо быть бабулей? Они же замечательные.
– К твоему сведению, я хотя бы веду себя, как мне полагается по возрасту, в отличие от некоторых присутствующих, – парирует Профессорша.
– А, так значит, я вру? – спрашивает Хамбл, вскакивая с места.
– Все прекрасно знают, что ты собой представляешь, – говорит Профессорша.
– Так, успокаиваемся, – предупреждает Джоан.
– Если я обманщик, то знаешь, кто ты?
– Кто? Если еще раз назовешь меня старой, то я отметелю тебя этой вот тростью прямо при всех.
– Не трогай мои вещи! – говорит Эбони и придвигает трость поближе к себе. А пуговиц у нее куда больше, чем у остальных, – вот тебе и тихоня.
– Ты яппи, вот ты кто! – орет Хамбл и швыряет собачье дерьмо прямо в голову Профессорше. – Глупая, заносчивая яппи, которой плевать на всех!
– А-а-а! – кричит она, схватившись за лицо. – Он сломал мне нос!
Собачья какашка летит через всю комнату, и Джоан проворно перескакивает через нее, поспешно отступая с поля боя к дверям.
– Ну вот! – расстраивается Армелио. – Мы так хорошо играли, а вы все испортили.
В комнату заходит Гарольд в сопровождении двух здоровяков в голубой униформе, Джоан – позади них.
– А что? Я ничего не делал! – Хамбл показывает поднятые вверх руки.
– На выход, мистер Купер, – командует Гарольд.
– Да вы что? – возражает Хамбл. – Это же она меня оскорбила! А собачья какашка вообще не моя! Я был безоружен! – И, указывая на Бобби, продолжает: – Вот он – соучастник. Если меня уводите, уводите и его.
– Хамбл, у тебя три секунды, чтобы выйти.
– Ладно, ваша взяла. – Хамбл швыряет карты на стол. – Сами играйте тут в свои пуговки. – Он выходит в сопровождении Гарольда и охранников – и, проходя мимо Профессорши, энергично шлепает себя по заду. Та все еще держится за лицо и жалуется, что у нее пошла кровь, однако, когда отнимает руку, видно, что там нет ни царапины. Джоан снова садится за свой стол, в дальний угол.
– Вы все свидетели, что он на меня напал, – говорит Профессорша.
– Ага, тукан, мы видели, – говорит Армелио.
– Что, простите?
– Мы все знаем, что ты тукан.
– Что такое тукан? – спрашиваю я.
– Может, ты тоже тукан, раз спрашиваешь! – негодует Армелио. Я впервые вижу его таким бешеным.
– Ха! – подает голос Джонни.
– Крэйг точно не тукан, – говорит Бобби. – Он чувак что надо.
– А разве не я выиграла? – спрашивает Эбони.
– Откуда у тебя столько пуговиц? – удивляется Армелио. – У тебя же не было ни одной удачной комбинации!
– Просто я не ставила лишнего, – отвечает Эбони, наклоняясь, и тут откуда-то из ее кофты высыпается целый поток пуговиц.
– Ой!
Пуговицы падают и падают, и вот уже на место, где делали ставки, насыпалась целая горка. Эбони хохочет и хохочет, одаривая нас видом аккуратных чистых десен, приговаривая:
– Ох, ну я вас и наколола! Всех наколола!
– Ну все, – Армелио отшвыривает свои карты, – меня уже достало, что каждый понедельник карточный турнир превращается в полный бардак! С меня хватит!
– Ты уходишь с поста президента? – спрашивает Бобби.
– Отвали, дружище!
Может, игра длилась и недолго, но страсти в ней кипели такие же, как показывают в покере по телику. Я столько раз прикусывал себе язык, что он разболелся.
Я помог Бобби и Джоан убрать вещи на место. Сегодня мне есть о чем подумать перед сном: что такое тукан; когда Эбони успела натолкать за пазуху пуговиц и каково это; еще я думал о Ноэль и что завтра мы с ней увидимся – ну разве тут уснешь?
Часть восьмая Вторник, шестой северный
Тридцать шесть
На следующее утро Хамбл на завтраке не появляется. Я сажусь с Бобби и Джонни. Бобби протягивает мою идеально сложенную рубашку, которую я вешаю на спинку стула. Попивая первый за сегодня чай «Сладкое прикосновение», интересуюсь, что сделали с Хамблом.
– О, ему сейчас хорошо. Скорее всего, ему вкатили нехилую дозу лекарств.
– А каких?
– А ты разбираешься в лекарствах? В таблетках?
– Конечно, как и все подростки.
– Ну, так как Хамбл психически больной и депрессия у него тоже есть, – объясняет Бобби, – он пьет СИОЗС, литий, «Ксанакс»…
– И «Викодин», – добавляет Джонни.
– Да, «Викодин», «Валиум»… В общем, его накачивают таблетками сильнее, чем остальных пациентов.
– То есть вчера, когда его увели, ему дали это все?
– Нет, это он принимает постоянно. А когда его уводят, то точно ставят укол «Ативана».
– Мне такой ставили.
– Тебе? Он же срубает не по-детски. Ну и как тебе, похорошело?
– Нормально было. Но я не хотел бы такое колоть постоянно.
– Ха! Правильно, парень! – говорит Джонни. – Вот мы с Бобби свернули не на ту дорожку, а все из-за наркоты.
– Да уж, это точняк, – подтверждает Бобби. Он трясет головой, глядит перед собой, жуя и изгибая руки, и поясняет дальше: – Свернули не на ту дорожку – еще мягко сказано. Мы же буквально стерли себя с лица земли. Целыми сутками кайфовали и носа не показывали. Я столько концертов пропустил.
– Не понял…
– …не сходил на «Сантану», «Лед Зеппелин» и на эту, у которых наркоман пел, «Нирвану»… Я же мог увидеть вживую «Раш», «Ван Хален», «Мотли Крю», да всех. Сейчас уже за десять баксов на концерт не попадешь, как тогда. Но я в те времена постоянно вмазывался по мусорной башке.
– Что значит «по мусорной башке»?
– Это когда употребляешь что попало, любую наркоту, – объясняет Бобби. – Тебе дают, и ты юзаешь. Просто чтобы посмотреть, что будет.
Блин, а ведь в этом что-то есть. В этом есть вызов. Но, может, для того я тут и оказался, чтобы познакомиться с чуваками, которые отказались от этого вызова?
– Думаете, Хамбл специально развыступался, чтобы получить наркоту? – спрашиваю я, намазывая сыр на бублик. Я теперь заказываю по два бублика на завтрак – они тут просто отменные.
– Да кто ж его знает, тут так просто не скажешь, – отвечает Бобби. – О, смотри, твоя девушка пришла.
Ноэль быстро проходит к столу, ставит поднос и принимается за сок, ковыряясь в овсянке. Она смотрит на меня, и я машу ей как можно более непринужденно, но люди, наверное, думают, что у меня нервный тик. Мы не виделись с субботы, и я даже не знаю, как она провела вчерашний день. Я не в курсе, как она ест, если не выходит из комнаты, как Муктада. Может, ей приносят еду туда? Я еще столького здесь не знаю.
– Ха, какая милашка, – говорит Джонни.
– Да как тебе не стыдно, чувак! Ей же лет тринадцать, – говорит Бобби.
– Ну и что? Ему тоже тринадцать.
– Мне пятнадцать.
– Ну так пусть это он про нее так говорит, – наставляет Бобби Джонни. – Тринадцатилетние так и должны общаться друг с другом.
– Мне пятнадцать, – уточняю я.
– Ты бы подождал пару-тройку лет, Крэйг, а то начинать заниматься сексом в тринадцать рановато – до добра это не доведет.
– Да мне уже пятнадцать!
– Ха, когда мне было пятнадцать, я уже вовсю занимался делами, – говорит Джонни.
– Ага, – подтверждает Бобби. – С парнями.
Педостоп. Если бы Ронни был тут, он бы сказал прямо вслух: «Педостоп».
– Ха. Отстойная жратва. – Джонни отталкивает тарелку с вафлями. – Малыш, – обращается он ко мне, – сделай мне одолжение, если у вас с ней будет, то отдери ее как следует. Сечешь?
– Может, уймешься? – Бобби смотрит на Джонни. – Ведь у тебя дочь такого же возраста.
– А я бы разрешил ему лечь с моей дочерью. Может, ей на пользу пошло бы.
– Да с чего вы взяли, что между нами что-то есть? Мы всего-то поговорили один раз, и то недолго.
– Ага, конечно. А почему тогда вы вместе пришли на занятие?
– Мы все видим.
Я трясу головой.
– А сегодня что будет?
– В одиннадцать парень с гитарой проводит музыкальное занятие. Джонни нам сыграет.
– Ух ты, правда?
– Ха, если будет охота.
Я доедаю бублик и уже знаю, чем займусь до прихода гитариста: буду рисовать мозгокарты. В благодарность за то, что я помог ей с уборкой после карточного турнира, Джоан достала для меня хороший карандаш и гладкую бумагу, так что я могу рисовать когда захочу. У меня даже появились поклонники, которые приходят посмотреть, как я делаю свои рисунки. Самая преданная зрительница – Эбони. Ее хлебом не корми, дай посмотреть, как я рисую человеческие головы, – похоже, ей они нравятся больше, чем мне. Профессорша тоже в восторге от моих рисунков и говорит, что мое творчество – это нечто «уникальное» и мне надо продавать его на уличных выставках. Я несколько расширил репертуар, и у меня появились карты внутри животных, карты внутри человеческих тел и карты внутри соединенных силуэтов двух людей. Проводить время за рисованием мне нравилось даже больше, чем играть в карты: рисунки выходили сами собой, и я не замечал, как проходит время.
– Пойду порисую, – говорю я соседям по столу.
– Будь я хоть вполовину такой же инициативный, как ты, все обернулось бы совсем по-другому, – говорит Бобби.
– Ха, ага. Я, когда вырасту, хочу быть как ты, – добавляет Джонни.
Я отношу поднос и ухожу.
Тридцать семь
Руководителя музыкального занятия зовут Нил. На нем черная рубашка и замшевые брюки, он носит маленькую темную бородку и выглядит как укуренный в хлам. Пока мы друг за другом заходим в кабинет, он втыкает в усилок, стоящий перед ним на стуле, старую электрогитару. Не разбираюсь в марках, но мне кажется, что на такой могли играть «Битлз». К моему удивлению, в этой комнате стулья выставлены по кругу – и на них лежат инструменты, которые все уверенно расхватывают. А еще к нам пришли будущие медсестры, студентки медучилища, чтобы познакомиться с работой в психиатрическом отделении. Они сели с нами и взялись за разбор конфликтов между пациентами: кто возьмет бонго, кто – джазовый барабан, кому достанется стиральная доска, кому – металлические палочки, а кто займет заветное место у синтезатора.
– Всем привет и добро пожаловать на музыкальное приключение! – объявляет Нил.
Он выдает простой, незамысловатый бит, вроде бы регги, а потом я понимаю, что он играет «I Shot The Sheriff»[14]. Нил начинает петь, и голос у него – полный отстой, как у ямайской лягушки-альбиноса, но мы подпеваем, кто как может, и помогаем инструментами, кому какие достались.
Армелио скучно колотить по стулу палочками, и он уходит из комнаты.
Бекка, крупная девушка, спрашивает, не хочу ли я поменять свою конгу (джазовые барабаны, они побольше) на ее маленькие барабаны бонго. Я не против. Я стараюсь играть сразу после того, как хор споет «Я застрелил шерифа», Нил замечает мои старания и дает мне блеснуть в этом моменте, но у меня получается не каждый раз.
Ноэль сидит прямо напротив меня, ей достались маракасы, которыми она трясет, улыбаясь, волосы на ее голове тоже трясутся. Я изо всех сил стучу по бонго, только чтобы ее впечатлить, но, похоже, она этого совсем не замечает.
Звезда нашего шоу – Джимми.
Я и не знал, что те высокие звуки, которые он издавал, – это пение. С первыми звуками музыки Джимми весь в песне, самозабвенно тарахтит по стиральной доске и переходит на пронзительный фальцет, удивительно попадающий в тему. Только он не поет «Я застрелил шерифа». Единственная фраза, которую он выводит: «Как это приятно!» Причем поет он ее не только в нужный момент, но и в любую паузу, которую ему удается расслышать, напоминая нам: «Как это приятно!» Его голос похож на голос мистера Хэнки, Рождественской Какашки из «Южного парка». Студентки медучилища все сплошь из Вест-Индии, как и медсестра Моника, только, в отличие от нее, юные, и они просто в восторге от пения Джимми и улыбаются ему вовсю. Может, Джимми и знает только пару строк из песни, но зато он в курсе, что нельзя останавливаться, когда на тебя смотрят молоденькие красотки.
Я подыгрываю ему на барабане, а он поет в ответ. Мне кажется, что где-то в глубине души он знает, что мы с ним заодно.
«Я застрелил шерифа» подходит к концу, а барабанное крещендо никак не стихает, потому что каждый, и я не исключение, хочет пробить эту последнюю ноту. Нил начинает играть «Я хочу держать тебя за руку», а потом «Мне хорошо» «Битлз». По всей видимости, песни «Битлз» – это явный сигнал к танцам. Первой слева от Нила встает Бекка, которую студентки выталкивают в круг, и она, едва успев положить свою конгу, начинает пританцовывать, вихляя массивным задом под наши одобрительные крики. Раскрасневшаяся, с сияющим улыбкой лицом, Бекка возвращается на место, а ей на смену встает Бобби. Тот отплясывает как Джон Траволта в «Криминальном чтиве»: подергивая бедрами, чуть наклонившись и разворачивая ноги больше, чем тело.
Джонни не идет танцевать, но трясет головой в такт. Нил и студентки танцуют вместе. Очередь доходит до меня, а я ненавижу танцевать. Я просто не умею. И не то что я стесняюсь, как все подростки, нет – я в самом деле отвратительный танцор.
Но одна из студенток-практиканток протягивает мне обе руки – и делать нечего, я откладываю свой конго в сторону. И, выйдя в круг, перед сидящей напротив Ноэль, пытаюсь сообразить, что мне делать. Я знаю, что, когда танцуешь, думать запрещено, или, как там говорится в том дурацком выражении – «Пой, пока никто не слышит, танцуй, пока никто не видит»? Я пытаюсь танцевать как Бобби и понимаю, что главное – вертеть бедрами, на них я и сосредотачиваюсь, полностью игнорируя голову, ноги и руки. Я думаю только о том, что мне нужно мотать бедрами вперед-назад и по кругу. И вдруг, открыв глаза, обнаруживаю перед собой одну из студенток, а вторая танцует позади – ну и ну, Крэйг Гилнер танцует между двух цыпочек, как какой-нибудь крутой клубный тусовщик.
Я протягиваю руку Ноэль в надежде, что та мне не откажет, и она встает. Мы выходим на середину и, улыбаясь и глядя друг другу в глаза, танцуем, покачивая бедрами, но не соприкасаясь и не произнося ни слова. Мне почему-то кажется, что она ждет от меня какого-то совета, и я одними губами произношу: «Двигай бедрами!»
Она так и делает, отставив руки, а я держу свои на ее боках, но вовсе не в сексуальном смысле. Да куда вообще девают руки во время танца? Этот вопрос точно достоин энциклопедии «Хочу все знать».
Когда очередь доходит до Джимми, он вскакивает, отбросив стиральную доску в сторону, и, обращаясь к Нилу, прикладывает палец к губам. Нил прекращает играть, а Джимми, кружась под аккомпанемент наших барабанов, приземляется на колени и визжит: «Как это приятно!»
Тридцать восемь
Нил уже убрал свою гитару в чехол и подходит ко мне.
– Отлично сыграл на барабанах.
– Правда?
– Ага. Не видел тебя тут раньше. Как твое имя?
– Крэйг.
– У тебя есть чувство ритма, умеешь заставить людей двигаться. Надеюсь, ты не обидишься, если я спрошу… почему ты здесь? Ты выглядишь абсолютно нормальным – понимаешь, о чем я?
– Ну, у меня депрессия, – говорю я. – Мне было совсем плохо. Через два дня меня выписывают.
– Отлично, здорово, что выписывают. У многих моих друзей депрессия, – говорит он кивая. – А когда выйдешь отсюда, ты не думал, что мог бы… работать волонтером в таких местах, как это?
– Волонтером? А что делать?
– На музыкальных инструментах играешь?
– Нет.
– Может, стоит научиться. Ты хорошо чувствуешь музыку.
– Спасибо. Я рисованием занимаюсь.
– Что рисуешь?
Я веду его в свою комнату, куда мы идем мимо медсестринского поста и телефона. Как только входим, лежащий на кровати Муктада говорит:
– Крэйг, я слышал, как вы играли в кабинете музыки.
– Жаль, что ты тоже не пошел.
– Здравствуйте, – с улыбкой приветствует его Нил.
– Хм.
– Вот, я рисую это, – кладу я перед Нилом стопку нарисованных мною мозгокарт – их там уже штук пятнадцать. Сверху лежит рисунок, на котором парень и девушка соединены мостом, проходящим между городами в их головах.
– Как круто! – говорит Нил, листая рисунки. – И давно ты этим занимаешься?
– Ну это смотря как считать, – говорю я. – Может, десять лет, а может, два дня.
– Можно я возьму один себе?
– Ну, не знаю, отдам ли бесплатно.
– Ха-ха! Ладно, серьезно, вот моя визитка. – Он протягивает мне простенькую черно-белую визитную карточку, где он значится как «гитаротерапевт». – Как выйдешь, – а я уверен, что это произойдет скоро, – позвони мне, и мы обсудим это дело с волонтерством. И насчет твоих картинок. Я бы и правда некоторые купил. Сколько тебе лет? Ты вроде бы должен быть в подростковом отделении, да? Это из-за ремонта ты попал сюда?
– Да, я несовершеннолетний.
– Хорошо, что ты пришел сюда и тебе помогли, – говорит Нил и пожимает мне руку, но так, что сразу ясно, кто здесь пациент. Так жмут руку врачи, волонтеры и присматривающий за нами персонал, показывая, что всей душой рады, что тебе лучше, но ты чувствуешь эту разделяющую вас дистанцию, потому что они понимают, что ты еще болен и можешь сбрендить в любой момент.
Нил уходит, а я провожу оставшееся до обеда время за рисованием и игрой в карты с Армелио. Где-то в полвторого я звоню маме и рассказываю про наше пение, карточный турнир и свой танец. Мама говорит, что уверена, что мне лучше, и что доктор Махмуд подтвердил мою выписку в четверг, поэтому они с папой придут меня забрать. Вроде бы я и живу в двух шагах, но забирать меня надо из рук в руки.
После обеда нашу с Армелио игру в плевок, в которой он меня разносит в пух и прах, прерывает Смитти, заглядывающий в дверь с объявлением, что у меня посетитель.
Я точно знаю, что это не кто-то из моих родных, потому что они придут завтра и папа принесет второго «Блэйда». Я молюсь, чтобы это не был Аарон или кто-нибудь из его друзей.
Это Ниа.
Я вижу через стеклянную перегородку столовой, как она несмело идет по коридору. Она выглядит так, будто недавно плакала, или только собирается, или и то и другое вместе. Не сказав Армелио ни слова, я встаю и иду ей навстречу.
Тридцать девять
– Что ты здесь делаешь? – спрашиваю я и замолкаю. Вообще-то, обычно об этом спрашивают меня.
– А ты как думаешь? – говорит она. – Пришла тебя увидеть.
На ее лице легкий макияж: губы слегка блестят, еле заметные красноватые румяна, волосы убраны назад, что еще больше подчеркивает изогнутые азиатские скулы.
– Зачем?
– Знаешь, Крэйг, – она отворачивается, пряча лицо, – у меня сейчас не лучший период в жизни.
– Понятно, – говорю я. – Пошли вон туда, там нас никто не побеспокоит.
Мы идем в ногу, и я так уверенно веду ее по коридору, что она смотрит на меня с удивлением. Похоже, я тут уже старожил. Может, даже альфа-самец. Последнее напоминает мне о том, что Хамбла до сих пор нет.
– Садись вот сюда. – Я подвожу ее к стульям, где принимал родителей и сидел с Ноэль. – Что у тебя случилось?
Она кладет руки на колени. Ее кожа сияет в падающем со спины свете. Сегодня на ней тесный бежевый комбинезон в стиле милитари и черные ботинки. Я уже видел ее в этом прикиде раньше: обтянутая маскулинной одеждой маленькая грудь выглядит еще притягательнее.
– Мы с Аароном расстались, – говорит она.
– Не может быть! – таращу я глаза от удивления.
– Да, Крэйг, – она прикладывает к лицу салфетку. – Помнишь тот вечер, когда я сюда звонила? Ты еще сказал ему, что я принимаю «Прозак»?
– Ты что? Хочешь сказать, что это я виноват?
– Я не говорю, что кто-то виноват! – в сердцах говорит она, роняя руки на бедра и горестно вздыхая.
Из своей комнаты выходит Профессорша, и Ниа поворачивается к ней:
– Кто вы? – спрашивает Ниа.
– Меня зовут Аманда, – отвечает та. – Мы с Крэйгом друзья.
– Извините, но мы тут разговариваем, – Ниа проводит рукой по волосам.
– Разговаривайте, но потише, а то Соломон придет.
– Кто такой Соломон? – поворачиваясь ко мне, спрашивает Ниа. – Он опасен?
– Тут никто не опасен, – говорю я и кладу руку поверх ее руки, лежащей на бедре. Даже не знаю, зачем я это делаю. Может, чтобы успокоить? Наверное, я делаю это инстинктивно. Где-то на задворках сознания пробегает мысль, что бедра у нее такие соблазнительные, что я бы с удовольствием положил руку прямо на них, а не поверх ее руки. Вообще-то, шанс потрогать женское бедро мне еще ни разу не выпадал, а ее ножки, обтянутые бежевым комбинезоном, так и манят. Даже само слово «бедра» кажется мне соблазнительным.
– Крэйг, ты слушаешь?
– Извини, задумался что-то.
Она с легкой улыбкой смотрит на мою руку, но не сбрасывает ее.
– Странный ты. Я спросила, нравится ли тебе здесь.
– Тут неплохо. Лучше, чем в школе, это точно.
– Охотно верю, – говорит она и кладет другую руку на мою, лежащую на ее бедре. Я вспоминаю, как танцевал между двух студенток. Чувствую тепло ее тела и вспоминаю, как я почувствовал то же самое миллион лет назад, на той вечеринке.
– Я тоже думала пойти в похожее место.
– Что ты имеешь в виду? – Я немного отстраняюсь, но не убираю свою руку из ее хватки.
– Да, хотела пойти и провериться – может, тут или еще где. Ну, знаешь, подумать, собраться с мыслями, как ты.
– Ниа, – говорю я, мотая головой, – сюда нельзя прийти просто так, потому, что тебе захотелось.
– А разве с тобой было не так?
– Нет!
– Так как же ты сюда тогда попал? – спрашивает она, склоняя голову.
– Ну я… мне вроде как нужна была срочная медицинская помощь, – объясняю я. – Я позвонил на горячую линию помощи при суициде, и они направили меня сюда.
– Ты позвонил на эту линию? – Ниа приподнимает мою руку и крепко сжимает. – Крэйг, бедненький!
Я смотрю на свой пах – и угадайте, что я там вижу? Но она так близко, что я не могу сдерживаться, видя ее прекрасное лицо, на которое столько раз дрочил. Я уже привык хотеть это лицо. Я хочу ее. Хочу ее в этом тесном военном комбезе прямо здесь и сейчас, хочу увидеть, какая она без него, хочу спустить его наполовину.
– Я даже не знала… – продолжает она. – То есть я знала, что ты хотел покончить с собой, но я даже не подозревала, что ты и правда хотел это сделать. Я бы никогда не сказала Аарону, откуда ты мне звонил, знай я, насколько это серьезно.
– Ну а зачем, по-твоему, люди сюда приходят? – спрашиваю я, сжимая ее руки своей рукой.
– Чтобы им стало лучше?
– Да, вот именно. Но чтобы тебе стало лучше в таком месте, до этого тебе должно быть по-настоящему хреново.
Ниа взмахивает головой, и волосы соскальзывают на ее темные глаза.
– Я думала, что тебе стало плохо из-за меня и что я могу это как-то исправить.
Мы смотрим друг другу в глаза. Она так хороша. Так мило склонила лицо, как будто точно знает свои самые выгодные ракурсы. Я вижу свое отражение в ее глазах – по мне видно, что я изнемогающий от страсти, готовый на все придурок, ждущий только сигнала.
Мне не нравится моя внешность. Хамбл тоже сказал, что нет во мне ни силы, ни уверенности. Но мне не нужна ни сила, ни уверенность, когда я рядом с ней. У меня вообще нет вариантов – мы будем делать то, что она скажет, и так, как она захочет.
– А как же Аарон? – спрашиваю я.
– Я же сказала, – она почти переходит на шепот, – мы расстались.
– Это ты бросила его? – уточняю я.
– Это было взаимно. Какая разница?
– Насовсем расстались?
– Похоже, что так.
– А не рановато ты пришла ко мне со своими, ну… прикосновениями?
Она встряхивает головой и поджимает нижнюю губку.
– Я же не переставала думать о тебе с того разговора, когда ты позвонил в пятницу. Теперь я точно уверена, что ты мне лучше подходишь. Все, что ты рассказал, что пережил, ты… мне кажется… ты личность. Остальные со своими мелкими неприятностями и рядом не стояли. А вот ты облажался по полной. – Тут она хихикает. – Я имею в виду, в хорошем смысле. Что ты получил опыт какой-то.
– Хм.
Даже не знаю, что ей ответить. А, нет, знаю: «Убирайся, Ниа, уходи; ты мне не нужна; с тобой покончено еще после того телефонного разговора; тут я встретил девушку, которая круче и умнее тебя», что-то такое. Но если перед вами шикарная девушка покусывает губки, говорит томным голосом и улыбается, да к тому же у вас все затвердело, что бы вы сделали?
– Хм… э-э-э… ну… – Я снова заикаюсь. Может, раньше я из-за нее и заикался? Потение тоже тут как тут.
– Не хочешь показать мне свою комнату? – спрашивает она.
Ужасная идея. Такая же ужасная, как не есть, или не вставать с кровати по утрам, или перестать принимать «Золофт». Но у меня нет выбора: я уступаю нижней части тела, которая указывает на мою комнату и ведет нас с Ниа туда.
Сорок
Муктады в комнате нет. Как же так? Сколько я здесь, он не выходил ни разу! Я с надеждой гляжу на смятые простыни, но понимаю, что там недостаточно объема, чтобы вылепить форму человеческого тела. Заглядываю в ванную – пусто.
– У тебя есть сосед? – спрашивает Ниа.
– Ну да, и он… обычно он всегда здесь…
– Фу-у-у… – Она машет ладонью перед носом. – Ну и запашок.
– У меня сосед египтянин, они вроде не пользуются дезиками.
– Я тоже не пользуюсь.
Я делаю вид, что прибираю вещи возле кровати, но просто перебираю рисунки с мозгокартами.
– У вас что, нет телевизора?
– Не-а.
– А чем занимаетесь, читаете?
– Мне нравится читать в фойе, вместе со всеми. Сестренка принесла мне «Сплетник», но медсестры забрали его себе и сами читают.
Она подходит ко мне, глядя слегка развязно и вместе с тем невинно, и спрашивает:
– Тебе тут одиноко?
– Да вообще-то нет. – Теперь пот с меня так и течет. – Тут все довольно общительные. У меня даже друзья появились.
– Кто они?
– Ну вот та женщина, которая выходила, когда мы там разговаривали.
– Она? Довольно бесцеремонная особа. Она нагло влезла в наш разговор.
– У нее паранойя. Она думает, что в ее квартире разбрызгали средство от насекомых.
– Серьезно? Это же безумие. Она точно сумасшедшая.
– Ну, не знаю. Может, она и права.
Теперь Ниа всего в нескольких сантиметрах от меня, ее торчащие плечики совсем рядом. Я мог бы схватить ее в охапку и повалить на кровать, как делал когда-то Аарон, года два назад. О чем мы с ней говорим, совсем не важно: слова служат просто прикрытием.
– Она вроде в универе преподавала. Может, там и было что-то.
– Крэйг… – говорит стоящая прямо передо мной Ниа, – помнишь, когда ты позвонил…
Она трогает мой лоб:
– Ой, ты так потеешь!
– Ага, я потею, когда нервничаю.
– Что с тобой? С тебя прямо льет.
– Все нормально, – говорю я, смахивая пот со лба.
– Ну правда, Крэйг, гадость какая. – Она хмурится, но потом снова придвигается ко мне. – Помнишь, ты тогда позвонил и спросил, что бы я сделала, если бы ты сгреб меня в охапку и поцеловал?
– Ага. – Живот поджало – человечек вернулся и затягивает веревку. А я-то думал, что с ним покончено: я же так хорошо ел.
– Я бы тебе позволила, – говорит она. – Я была бы не против.
И вот она уже тянет ко мне искрящиеся блеском губки, и меня снова разрывает это удивительное противоречие: я чувствую себя почти так же, как перед приходом в больницу, когда я лежал в маминой постели и мой мозг хотел умереть, а сердце – жить. Теперь же вся моя верхняя часть – в буквальном смысле, от желудка и выше – хочет бежать в ванную, проблеваться, поговорить с Армелио, Бобби или Смитти, выпроводить Ниа и готовиться к свиданию с Ноэль. Но нижней половине слишком долго не давали права голоса, а она ждала этого момента два года. Мой низ уверен, что все мои проблемы из-за того, что я все это время не имел возможности удовлетворить свое желание.
Но для исправления ситуации не подойдут какие угодно губы, вовсе нет. Мне нужны именно эти – губы, которые были доступны мне в воображении все эти годы. Чего я только не делал с ними, чего только не вытворял, запершись у себя в ванной. Да пошло оно все! Надо же когда-то попробовать!
Я хватаю Ниа и заваливаю на кровать Муктады. Так получилось, я не собирался класть ее туда, хотел развернуть и положить на свою, но она стояла так близко, что я уже не разбирал, что делаю. Я наваливаюсь на нее своим худым телом и сначала целую в верхнюю губу, потом в нижнюю, а затем пробую пососать их обе, но так это не работает: ты вроде как стараешься вытянуть губы из ее головы. Ниа смеется, подставляя мне для поцелуя прекрасный улыбающийся рот с крепкими зубами, а мне неважно, что целовать. Теперь я пробую протолкнуть язык ей в рот, как это показывают в кино, а руками вожу по комбинезону, ощущая под ним то, к чему у меня не было доступа все эти годы и что я так жаждал заполучить, тугое и податливое одновременно – ее грудь.
– М-м-м, – постанывает она и заводит свои маленькие руки мне за голову. Она трогает мои волосы, а я вожу головой по ее рукам. Надо же, как это приятно! Вот как это все, оказывается, хорошо! И с какого вообще фига я впал в депрессию?
Я вспоминаю, как Аарон говорил, что у девчонок там – как на внутренней стороне щеки, и провожу языком по ее щеке изнутри. Ниа трепещет, она от этого кайфует, как и говорил Аарон, – ей нравится секс. Она неистово атакует мой рот своим языком, двигая им как взбесившимся дротиком. Да, там, на языке, точно есть пирсинг – маленький металлический шарик, который только добавляет остроты и наводит на грязные мысли. Так, плевать на все, я должен это сделать. Я перехожу к пуговицам на ее одежде. Глаза я даже не открываю, потому что боюсь не сдержаться, а других чистых брюк у меня нет.
Вот черт, похоже, я вожусь с пуговицами, которые посередине. Ну-ка повыше. Нет, тоже не та. Пробую расстегнуть другую.
– Боже, – отодвигается она. – На больничной койке у меня еще не было.
– Что-что? – Я смотрю на ее подбородок. Мы по-прежнему на кровати Муктады: я верхом на Ниа, мои ноги торчат поперек и почти достают до моей кровати.
– Всегда об этом мечтала. – Она смотрит вниз. – С Аароном у меня такого и близко не было.
Во мне поднимается ураган, в котором борются верхняя и нижняя части тела, сил на обдумывание слов у меня нет, потому что внутри все вопит: «Ты можешь не сравнивать меня с Аароном? Вообще не упоминать его? Как ты можешь рассуждать о таком?» И я выдаю что-то вроде:
– Э… ну…
– Секс! – раздается со стороны двери.
Это Муктада.
– Секс на моей кровати! Дети занимаются сексом на моей кровати! – орет он, подскакивая к нам. Я быстро слезаю с Ниа и поднимаю руки вверх, думая, что он меня ударит, но он хватает меня, прижимает к своему громадному, плохо пахнущему телу и тащит в другую часть комнаты как бревно.
– Э… Муктада…
– Крэйг, кто это такой, кто это? – визжит Ниа.
– Я здесь живу! Испорченная ты девчонка, растлеваешь моего друга!
Он ставит меня на пол и поворачивается к Ниа, закрывая меня от нее.
– Ты уходи! – указывает он ей на дверь.
– Тут нет двери?! – Ниа смотрит в указанную сторону, а потом с какой-то, только девчонкам свойственной, легкостью встает, поправляет одежду, забирает сумочку с подушки Муктады и выходит, на ходу помахивая мне уже вытащенным телефоном.
– Дверь есть, – объясняю я, стоя на носочках и пытаясь выглянуть из-за плеча Муктады. – Просто мы ее не закрыли…
– Не разговаривай с ней! – грозит пальцем повернувшийся ко мне Муктада. – Она хотела делать секс на моей кровати!
– Вообще-то я там была не одна! Если вы не заметили, это Крэйг лежал на мне. И мы не собирались заниматься именно сексом.
– Женщины все греховодницы. Я-то знаю. От меня ушла жена.
– Я сваливаю, Крэйг.
– А, ладно! – отвечаю я спине Муктады. – И…
Я пытаюсь что-то сказать напоследок:
– Мне понравилось, как мы пообнимались… Но вообще-то ты мне не нравишься… как человек, я имею в виду…
– Ага, понятно. Ты мне – тоже, – отвечает она.
– Что тут такое? – это пришел Смитти и встал в дверях. – Муктада, что у вас тут такое? А вы, барышня, кто такая?
– Я уже ухожу, – говорит Ниа.
– Вы же к Крэйгу пришли, да?
– Больше не приду.
– Что у вас тут произошло?
– Ничего, – говорит Муктада. – Все замечательно. – Он отступает в сторону и, повернувшись ко мне, как я понимаю, подмигивает, по крайней мере, он так думает.
– Да, никаких проблем, – подтверждаю я. – Просто Муктада вошел и удивился, что у нас гостья.
– Ну и правильно, – говорит Смитти. – В комнаты посетителей водить запрещено. Чтобы больше этого не повторялось, договорились?
– Конечно.
– Ага, потому что ты меня больше не увидишь, – говорит Ниа, уходящая под неодобрительный взгляд Смитти, пожимающего плечами.
– Так-то лучше, – говорит он вслед гулко топающей по коридору Ниа. – И не забудьте отметиться на выходе.
– Что это на ней, Крэйг? Что за девушка носит такое… барахло?
Ниа поворачивается и жестами показывает на коридор, будто она тут хозяйка.
– Потише, тукан, – орет откуда-то Президент Армелио. Ниа разворачивается, а потом уходит, уже не оглядываясь.
– Да, ничего красотка, – говорит Смитти. – Ну что, парни, значит, все путем?
– Да, – киваем мы с Муктадой дружно, как дошколята.
– Чтобы больше такого не было, Крэйг.
– Я понял.
– А иначе тебе придется тут задержаться, – говорит Смитти и выходит.
Муктада выжидает, пока он отойдет подальше, и поворачивается ко мне:
– Извини, Крэйг, но к сексу я отношусь очень серьезно.
– Да ничего, я понимаю. Ты правильно сделал.
– То есть у тебя не будет из-за этого неприятностей?
– Нет, все хорошо. Ты отлично все разрулил, чувак.
Я поднимаю руку и хочу хлопнуть его по плечу, но он думает, что будет рукопожатие, и я перехватываю инициативу и обращаю все в объятия, в запашистые такие крепкие объятия. Очки Муктады шмякаются о меня.
– Я ходил поискать египетскую музыку, но у них тут такой нет, – говорит он. – Твоя идея хорошая, но тут нет. Я отдыхать теперь.
Он ложится на кровать, подтыкает простыни и, приняв позу эмбриона, смотрит сквозь меня.
Поворачиваю голову к двери, а там стоит Ноэль, ее зеленые глаза широко раскрыты.
Я бросаюсь к ней, но она тут же уносится в свою комнату и захлопывает за собой дверь. Подбежав к двери, я стучу и стучу, но ответа нет, я не перестаю барабанить, пока мимо не проходит сердито на меня глядящий Смитти.
Поднимаю голову и вижу, что уже пять часов. Эх, два часа до нашего свидания.
Сорок один
– На этот раз вопросов будет немного, – говорит Ноэль.
Ровно в семь она подошла своей торопливой походкой, а я уже ждал на стуле, который я, пожалуй, могу назвать моим стулом для бесед, ведь скольких людей я на нем принял. Интересно, что еще происходило с этим стулом: наверное, кто-то в него выпускал газы, кто-то лизал, или бился о него головой, или ерзал по нему, неся какую-нибудь белиберду. Мне нравится сидеть на стуле, у которого есть история.
Я уже не надеялся, что Ноэль появится, так что даже не хотел идти, но потом решил, что лучше я приду, чем буду потом сожалеть. С сожалениями покончено – они для неудачников. Когда я выйду отсюда в мир и вдруг начну о чем-то сокрушаться, то сразу себе напомню: что бы я ни сделал, это не изменит того, что я лежал в психиатрической больнице. Больший повод для сожаления и выдумать трудно, а ведь не так уж мне и плохо.
Похоже, Ноэль ждет, что я что-то скажу, но я просто обалдел от ее вида. На ней новая одежда: облегающие синие джинсы с такой угрожающе низкой посадкой, что из них выглядывает белье. Я почти не мигая смотрю на этот выглядывающий кусочек – что там? розовые звездочки? девчонки носят такое? – потом мой взгляд скользит по мягким изгибам живота к обтягивающей футболке, подвернутой с какой-то мистической женской притягательностью, и читаю надпись: «Я НЕНАВИЖУ МАЛЬЧИШЕК». Поверх футболки – обрамленное белыми волосами лицо с выделяющимися на нем порезами.
Да что такое, девушки что, сговорились приходить ко мне в самой сексуальной одежде?
– Э… почему ты надела такую футболку? – спрашиваю я. – Это что, сообщение для меня?
– Нет. Я ненавижу мальчишек, а не тебя конкретно. Почему они все такие заносчивые?
– Ну… – раздумываю я. – Ответить тебе честно?
А подкрепившись, мой мозг еще на кое-что способен, башка варит прямо как раньше. Бублики, курица, суп и сахар пошли на пользу.
– Нет, Крэйг, я жду от тебя жирной, сладкой лжи, – говорит она, вращая глазами, и я представляю, что синхронно с ними вращаются и груди. Ох уж эти девичьи груди!
– А, стой, ты забыла задать вопрос! – сообщаю я с самодовольной ухмылкой. – У тебя одно очко.
– Мы уже не играем, Крэйг. Я собиралась, но сейчас я в бешенстве.
– А, ну ладно, тогда… – Я пытаюсь поддержать разговор: – Так о чем мы там говорили?
– Почему все парни такие заносчивые?
– А, да. Ну это, наверное, потому что в этом мире нам немного… нам проще, чем девушкам. А еще мы склонны думать, что мир устроен под нас и что мы, ну, вроде как венец всего, что было до нас. С самого рождения нам внушают, что немножко гонора не повредит, «иметь яйца» – так это называют, и считается, что это хорошо, отсюда мы такого и набираемся.
– Ну надо же, ты и правда честно ответил, – говорит она, присаживаясь на стул. – Честный засранец.
«Ура! Она остается!» – ликую я, а она продолжает:
– Что это была за девица?
– Одна знакомая.
– Ничего, симпатичная. – Поразительно, как девушки отвешивают комплимент другой так, что он звучит как самое испепеляющее оскорбление. – Она твоя девушка?
– Нет. У меня нет девушки. И не было.
– Значит, ты просто с ней чуть не перепихнулся в комнате?
– А ты, значит, видела.
– Да, я видела все, начиная от вашей встречи тут и заканчивая тем, что было в комнате.
– Ты что, следила за мной?
– А что, нельзя?
– Да нет…
– А, тебе не понравилось?
Она наклоняется вперед и, взбив прическу попышнее, тянет кукольным голоском Малютки Бо-Пип:
– Большому мужественному Крэйгу не понравилось, что маленькая бедная девочка преследует его в психушке?
– Это не психушка, а психиатрический госпиталь, – назидательно говорю я, а сам думаю: «Мне очень-очень нравится, что ты везде за мной ходишь, – это прямо круто».
– И как я тебя не заметил… – Я лихорадочно припоминаю, глядел ли я по сторонам, когда сидел с Ниа в коридоре.
– Просто ты был слишком увлечен, потому и не заметил.
– Так рассказать, кто она такая?
– Нет. Мне уже неинтересно.
– Правда?
– Нет! Рассказывай уже!
– Ладно. Я знаю ее давным-давно, и она пришла сюда…
– Одержимая вожделением к тебе?
– Ага, точно. Пришла, одержимая вожделением, и я этим воспользовался. – Я взмахиваю рукой. – Да нет, на самом деле она была такая потерянная и одинокая, говорила, что, может, ей тоже надо провериться в больнице…
– А прикольно, как вас поймал твой сосед, вовремя зашел. Получилось довольно удачно.
– Хорошо, что ты так думаешь.
– Обманщик из тебя никакой: попадешься на первой же попытке измены.
– А это хорошо?
– Ты даже дверь не закрыл! Ладно, откуда ты ее знаешь?
– Ну, она девушка моего лучшего друга. Нам тогда было по тринадцать.
– А сейчас тебе сколько?
– Пятнадцать.
– И мне.
Я смотрю на нее по-новому. Есть в людях одного с тобой возраста что-то особенное: вы вроде как отгрузка одной партии, и вам надо держаться вместе. А еще где-то в глубине души я верю, что год моего рождения – особенный год, ведь тогда появился я.
– Так, значит, ты уложил девушку лучшего друга?
– Нет, они расстались.
– Когда?
– Э, пару дней назад.
– Ого, а она времени даром не теряет!
– Мне кажется, – рассуждаю я вслух, – что просто она из тех девушек, которые никогда не остаются без парня.
– Иногда таких девушек называют шлюхами. Как думаешь, у нее уже был парень, когда ей было восемь?
– Фу.
– Может, она даже позволяла…
– Все, хватит, перестань!
– Такое бывает, – смотрит она на меня.
Я киваю, какое-то время сижу молча и просто жду, когда пройдет это неприятное ощущение. И оно проходит.
– Ну… а ты как? – спрашиваю я.
– А ты считаешь себя умником, как я посмотрю?
– Вовсе нет, – сквозь смех говорю я. – Я потому сюда и пришел, что считаю себя тупицей.
– С чего ты это взял? Ты же учишься в школе для вундеркиндов.
– Я учился так себе.
– Сколько ты набрал?
– 93 балла.
– А, – понимающе кивает Ноэль.
– Ага. – Я скрещиваю руки. – Уж если ты умный, то и оценки должны быть соответствующие.
– Необязательно. – Она кладет подбородок на ладони, как это делают герои каких-нибудь картин. – А ты не щедр на комплименты, как я посмотрю.
– Что? Почему?
– По-твоему, я умная?
– И вдобавок привлекательная! – не теряюсь я. – Как тебе такой комплимент? Привлекательная! Я уже вроде говорил тебе, еще тогда?
– Привлекательная? Крэйг, «привлекательная» говорят о недвижимости. О домах.
– Ой, прости. Ты красивая, вот. Это подходящий комплимент? – Поверить не могу, что я так осмелел. Зачем я все это говорю? Затем, что через пару дней мы отсюда выйдем. Никаких сожалений.
– «Красивая» звучит нормально. Но есть и получше.
– Так, ладно, круто. – Я разминаю шею…
– Фу-у-у.
– Что такое?
– Не делай так. Особенно когда собираешься сказать мне комплимент. Ладно, проехали. А вот тебе словечко получше, чем «красивая». – И она выводит с протяжным южным акцентом: – Потря-я-ясная.
– Ага, ладно. Ты потрясная.
– Не, не так. Скажи как я: потря-я-ясная.
Я повторяю.
– Господи, ты как не в Америке родился. Неужели южный акцент изобразить не можешь?
– Сжалься уже! Я же отсюда!
– Из Бруклина?
– Ну да.
– Из этого района?
– Ага.
– У меня тут друзья живут.
– Надо будет как-нибудь пересечься.
– Ты просто ужасен. Попробуй, может, еще какой комплимент выдашь.
– Ладно. – Я глубоко вздыхаю. Нет у меня никаких комплиментов. – Ну… э…
– Ты больше не знаешь?
– Я как-то не очень насчет разговоров.
– Вот поэтому у ботанов-математиков и нет девчонок.
– А кто сказал, что я ботан-математик? У меня же оценки так себе.
– Значит, ты из тех зануд, которые даже не умные. Полный отстой.
– Слушай, – прерываю я ее подколки, – я рад, что ты пришла пообщаться и что я со многими тут познакомился.
– Ух ты, это мы что, к серьезному разговору, что ли, перешли?
– Да, – говорю я. И, сказав это, знаю, что по тону моего голоса она поняла: я действительно настроен серьезно. Сейчас мне не до шуток. Я через такое дерьмо прошел, что могу быть серьезным не хуже какого-нибудь взрослого.
– Ты мне очень нравишься, – смело начинаю я, и никаких сожалений. – Потому что ты умная и веселая, и вроде бы я нравлюсь тебе. Ничего не могу с собой поделать: если я нравлюсь девушке, она мне тоже начинает нравиться.
Она молчит. Я поворачиваю голову к ней и спрашиваю, не хочет ли она что-то сказать.
– Нет. Нет! Все супер. Продолжай.
– А, ну вот. Я тут все думал, как бы так сказать. Ты мне нравишься не только из-за этого всего, мне и порезы твои нравятся…
– Фу, ты что, фетишист?
– Кто?
– Ты случайно не из тех, кого заводит вид крови? А то был тут один. Хотел, чтобы я стала его Королевой ночи или кем-то вроде такой фигни.
– Нет! Ничего такого. Сейчас объясню. Когда у людей серьезные неприятности, ну вот как… Тут полно людей отовсюду, и у всех них какие-то проблемы в жизни. Те, с кем я познакомился, – все в основном какие-то забулдыги, старые наркоманы, бездомные безработные, но иногда сюда поступают пациенты, которые выглядят так, словно только что выступали на собрании директоров, не меньше.
Ноэль кивает. Она тоже их видела. Например, вчера поступил взъерошенный паренек с кипой книг в подмышке, как будто только что из клуба любителей чтения вышел. Или тот мужчина в костюме, поступивший вчера, – на полном серьезе утверждал, что его уже достали голоса, которые он слышит: ничего страшного они не говорят, но на суде дают всякие дурацкие советы и мешают работать.
– Да проблемы не только у тех, кто здесь. Они у всех повсюду. Взять хотя бы моих друзей: у одного депрессия, у второй тоже. Я читал брошюры, которые врачи выдают, и там написано, что каждый пятый американец страдает от психического заболевания и что самоубийства – вторая причина смертности среди подростков, и всякая такая фигня… У всех, у всех с башкой не в порядке.
– Ну и что ты хочешь сказать?
– Мы по-разному сносим наши тяготы. Вот я не разговаривал и не ел, блевал постоянно…
– Ты блевал?
– Ага. Ужас вообще. А потом и спать перестал. И вот когда у меня все это началось, родители и друзья заметили, что со мной что-то не так. Друзья так просто прикалывались надо мной. Но смотри, я ведь мог жить дальше и даже не думать, что что-то не так. Вроде как ничего страшного. Пока не попал сюда. И теперь-то я знаю, что со мной плохо. То есть было плохо, потому что сейчас вроде как получше.
– И как это все связано со мной?
– У тебя это по-другому, – объясняю я. – Ты свои проблемы выставила напоказ. Они у тебя на лице.
Она замирает, проводит руками по волосам.
– Я порезала лицо потому, что все, все чего-то от меня хотели, – пытается она объяснить. – Постоянно такой напряг, постоянно надо было…
– К чему-то стремиться?
– Точно.
– Сначала тебе говорят, что ты крутая красотка, а потом относятся к тебе совсем по-другому!
– Верно.
– Почему, – вздыхает она, – почему ты должна быть или праведницей, или шлюхой, и выбери ты одну из ролей – тебя тут же возненавидят. И как после этого доверять людям? Все они хотят только одного, а ты уже никогда не будешь прежней…
Ее лицо приобретает такое выражение, что не поймешь, расплачется она или рассмеется: мимика почти одна и та же. Наклонившись вперед, она продолжает:
– А я не хотела во всем этом участвовать. Не хотела быть частью такого мира.
– Я тоже, – говорю я и обнимаю наклонившуюся в мою сторону Ноэль, в первый раз ощущая мягкую податливость ее тела.
Она обвивает меня руками, и мы держим друг друга в объятиях, сидя на стульях и образовав своими телами что-то вроде домика, боясь пошевелиться.
– Я не хотел играть в игру «Кто умнее всех», – говорю я, – а ты не хотела играть в «Кто красивее всех».
– Играть в «Кто красивее всех» хуже, – шепчет она. – Из-за того, что ты умный, никто тобой не воспользуется.
– А тобой хотели воспользоваться?
– Кое-кто воспользовался. Хотя и не должен был.
– Ой, извини.
– Не извиняйся, это не ты.
– Может, мне лучше тебя не трогать?
– Нет-нет, все нормально, ты ничего такого не сделал. Но… да, что случилось, то случилось. И еще я тебе соврала.
– Насчет чего?
– Никакая операция мне не поможет, Крэйг, шрамы все равно останутся – я резала себя половинкой ножниц. Я была сама не своя, просто хотела исчезнуть с лица земли после… после этого… А теперь я никогда не найду нормальную работу или еще что-нибудь. Что мне скажут, когда я приду на интервью с лицом как… – она сопит и всхлипывает, – как у жительницы Клингонской Империи?
– Да в Калифорнии есть места, где люди даже говорят на клингонском. Найдешь работу там.
– Да ладно, перестань.
Мы до сих пор держим друг друга в объятиях, и я не хочу открывать глаза.
– А еще есть законы против дискриминации. Тебя не имеют права не взять, если ты подходишь по требованиям.
– Но я же выгляжу как урод.
– Ноэль, – говорю я ей на ухо, – проблемы есть у всех. Просто кто-то эту фигню более удачно скрывает, вот и все. Не будут люди убегать от одного твоего вида. Они поговорят с тобой и поймут, что ты смелая и сильная, а это так и есть.
– А ты все лучше справляешься с комплиментами.
– Да ну, куда мне. Я еду-то внутри удержать не могу.
– Да уж, ты такой худенький, кожа да кости, – смеется она. – Надо бы тебе откормиться.
– Знаю.
– Я рада, что мы познакомились.
– Знаешь, какая ты? Ты честная и открытая, Ноэль, – наконец-то нужные слова пришли мне на ум, хотя где-то там они всегда и были. – А шрамам твоим в Африке цены бы не было.
– Мне было неприятно видеть тебя с той девушкой. – Она снова всхлипывает.
– Знаю.
– Я же нравлюсь тебе больше, правда?
– Конечно.
– Почему?
Я отодвигаюсь от нее – первый раз в жизни объятие разорвал я, – чтобы посмотреть ей в глаза.
– Ты для меня сделала гораздо больше, чем она. Помогла взглянуть на некоторые вещи по-другому, открыла мне глаза.
А тем временем я так долго сидел с закрытыми глазами, уткнувшись ей в плечо, что теперь меня ослепило светом коридора. Немного привыкнув, вижу, что в дверях своей комнаты стоит Профессорша и смотрит на нас, держась одной рукой за дверную ручку, а другую положив на плечо.
– Вот, смотри, что покажу. – Я достаю из-под стула, как козырь из рукава, кое-что, приготовленное для нашей встречи. Я даже не думал, что наше свидание пройдет так. Скорее, ожидал, что Ноэль будет на меня орать без перерыва и мне придется сделать что-то крутое и неожиданное. А теперь я могу сделать что-то неожиданное, и оно будет приятным завершением нашей встречи.
Я показываю ей мозгокарту с силуэтом пары: парень и девушка лежат, не друг на друге, а рядом, паря в пространстве.
– Ой какая красота!
– Это парень и девушка, видишь? Волосы я рисовать не стал, но видно, что один силуэт женский, а другой – мужской.
Руки и ноги парочки сделаны в виде набросков, но в этом и суть моих работ: не тратить кучу времени на детальную прорисовку конечностей. А вот что действительно важно, так это то, как изображен мозг: подробно, тщательно, с завихрениями мостов и дорог, с площадями и парками. Там есть четко выделенные улицы, аллеи, тупики, туннели, будки на платных дорогах и круговые перекрестки – все это я проработал лучше всего. Лист размером 35 на 43 сантиметра дал мне разгуляться вовсю, и карты я сделал преогромными, в отличие от маленьких, невзрачных тел. Главное, что цепляет взгляд (а я теперь почему-то понимаю, что именно так искусство и воздействует), – резко вздымающийся мост, протянутый между головами. Он длиннее, чем Веррацано, и даже обрамлен завитками дорог, похожих на сплющенные с двух сторон полосы.
– Это, наверное, лучшая из всех, что я нарисовал, – говорю я.
Она глядит на рисунок, а я вижу, что краснота в ее глазах постепенно гаснет. Никаких дорожек от слез на ее лице нет (ни разу в жизни не видел эти дорожки). Ее слезы сразу впитала моя рубашка, и я чувствую, как влага холодит плечо.
– Это ты предложила нарисовать что-то из детства, – продолжаю я. – Что-то такое я рисовал, когда был маленьким. Я и забыл, как мне это нравилось.
– Уверена, что именно так ты не рисовал.
– Нет, но так рисовать даже легче, можно не доделывать карты.
– Красиво, очень.
– Спасибо за идею. Я твой должник.
– Это тебе спасибо. Можно забрать?
– Пока нет. Надо кое-что подправить.
Я встаю и выпрямляюсь.
– Ну, солдат, давай!
– Есть, сэр!
– Но я тут подумал, может, ты мне дашь свой номер, а я позвоню тебе, когда выйдем отсюда.
– Ловко, – улыбаясь, говорит она, и порезы выстраиваются на ее лице как кошачьи усики.
– Ну я же все-таки парень, – говорю я.
– А я ненавижу мальчишек, – говорит она.
– Но парни-то – другое дело, – говорю я.
– Разве только немного, – почти соглашается она.
Сорок два
Хамбл вернулся. На обед он заявился в новой одежде, гладковыбритый и с припухшими, не совсем раскрытыми глазами. Он сел на свое обычное место под телевизором, которое так и пустовало, пока его не было. Ноэль тоже тут, сидит за соседним столом спиной к Хамблу. Зайдя, я здороваюсь с обоими, сдвигаю их столы вместе и, довольный, сажусь посередине.
– Ноэль, ты уже знакома с Хамблом?
– Вообще-то, нет, – говорит она и по-прежнему улыбается. Надеюсь, что это с ней с нашего свидания.
– Хамбл, – Ноэль. Ноэль, – Хамбл, – знакомлю я их.
– Ух ты-ы-ы… – тянет он, сощурив глаза. – Забойные у тебя шрамчики.
– Спасибо.
Они жмут друг другу руки.
– Неплохое рукопожатие для девчонки, – говорит Хамбл.
– А у вас неплохое для парня.
Сегодня у меня на обед бобы, хот-дог, салат, печенье и груша напоследок. Я принимаюсь за дело.
– Ну так где тебя держали? – спрашиваю я в перерыве между жевками.
– В коридоре напротив, в гериатрическом отделении, – отвечает он.
– Это же где лежат старики? – догадывается Ноэль.
– Ага. Туда отправляют тех, кто чеканутый на всю голову.
– Откуда вы знаете это слово «чокнутый»? – спрашивает Ноэль.
– «Чеканутый»? – уточняет Хамбл, выковыривая большим пальцем застрявший между зубов кусочек салата.
– Нет, она подумала, что ты сказал «чокнутый», в смысле ненормальный, – объясняю я.
– Чеканутый, чокнутый, чекандэ – это все одно и то же. Это раньше так говорили. У меня был дядя, так его звали Чеконда… Что ты ржешь? Ты мне тут не начинай. У этого паренька точно не все дома.
– Ага, знаю, – говорит Ноэль и толкает меня коленом в бедро. Отпад – меня с четвертого класса девчонки не толкали. – Он в таком раздрае.
– Мне ли не знать, – говорит Хамбл. – Просто его ум не пошел ему на пользу. Он пришел сюда потому, что выгорел. Я уже такое видел. С двадцати-тридцатилетними это происходит постоянно. А он такой умник, что сгорел раньше времени – еще подросток, а у него уже вроде как кризис среднего возраста.
– Да какой там кризис среднего возраста, – говорю я. – Теперь это уже кризис шестой части жизни.
– Это еще что за фигня?
– Ну… – Я поглядываю на Ноэль: не стукнет ли она меня еще раз? Я не очень-то хочу что-то говорить: боюсь ей наскучить. Но Хамбл любит меня слушать, он от моих разговоров не скучает, так, может, и Ноэль не заскучает? Это была бы победа что надо.
– Ну вот, есть кризис четвертой части жизни, – продолжаю я. – Вроде как у героев из «Друзей»: им там было по двадцать, и все загонялись, что никак не могли пожениться с кем-нибудь. Может, кризис среднего возраста и существует, я же не знаю. Сейчас все так ускорилось, что тебе еще и двадцати нет, а ты уже должен определиться с кучей всего, и это просто сводит с ума. Столько товаров повсюду, столько способов провести время, а еще надо с малых лет выбрать что-то, в чем ты будешь совершенствоваться – ну там, в балете, например, да Ноэль? Во сколько ты начала им заниматься?
– В четыре года.
– Ну вот. Я тай-бо начал в шесть. И так повсюду: все вокруг стремятся к успеху, и надо успеть и обскакать коллег по работе, и уложить в постель кучу женщин…
– Отжарь их хорошенько, – наставляет меня Джонни из другого конца комнаты.
– Тебя кто-то спрашивал? – затыкает его Хамбл.
– Ха, поешь своего дерьма.
– Это кто там развякался? А что ты скажешь, когда я тебе по башке дам и…
– Тише, мальчики, – вставая с места, говорит Ноэль и отбрасывает волосы с лица, которое вдобавок к красным шрамам тоже покраснело. Все замолкают.
– Ну так вот, – продолжаю я, – теперь вместо кризиса четверти жизни нас уже в восемнадцать нагоняет кризис пятой части жизни, а в четырнадцать – шестой части. Мне кажется, такое со многими происходит.
– С тобой тоже.
– Не только. Это, э… можно я продолжу?
– Да-да, – говорит Ноэль.
– Ну так вот, сейчас полно продавцов, которые делают деньги на тех, кто переживает кризис в восемнадцать и в четырнадцать лет. От страха целая куча потребителей выжила из ума, и они скупают кремы для лица, дизайнерские джинсы, курсы для подготовки к выпускным экзаменам, часы, бумажники, ценные бумаги… Всякую фигню, которую раньше покупали двадцатилетние, сейчас продают покупателям десятилетнего возраста и старше. Рынок удвоился!
Бобби подвигает свой стул поближе ко мне и говорит:
– А паренек-то больной на всю голову, чертов гений, блин.
– Да, надеюсь, его отсюда не выпустят, – говорит Хамбл.
– А уже скоро, – продолжаю я свои рассуждения, – люди будут переживать кризис седьмой и восьмой частей жизни. А потом уже прямо в роддоме врач оценит, готов ли новорожденный к тяготам жизни, и, если младенец будет выглядеть недостаточно счастливым, ему тут же выпишут антидепрессанты, и он пойдет по той же самой потребительской дорожке.
– Хм-м-м, – тянет Хамбл, и я жду, что он что-то добавит, но вместо этого следует: – Хм-м-м. – И уже после этого: – Ты на все смотришь сквозь депрессию, вот в чем проблема, – говорит он и, наклонившись поближе, спрашивает: – А как у тебя с гневом?
– Не скажу, что я когда-то особенно гневался.
– Почему?
– Я больше злюсь и бушую в голове, чем даю этому выход наружу.
– Кому еще печенья? – предлагает одна из медсестер, и мы все выстраиваемся в очередь за овсяным печеньем с арахисовой пастой. Продвигаюсь вперед и чувствую, что Ноэль легонько толкает меня сзади. Повернувшись, я вижу, что она уворачивается от меня, будто я хотел ее поцеловать.
– Заноза ты, – говорю я.
– А ты дурачок, – отвечает она.
Отлично, она не подумала, что я зануда, и я ей все еще нравлюсь. У меня возникает план. Взяв печенье, я отправляюсь к телефону, чтобы позвонить папе. Он и так придет сегодня и принесет второго «Блэйда», но я хочу, чтобы он принес еще кое-что.
Часть девятая Среда, шестой северный
Сорок три
Первое, о чем я подумал, проснувшись: сегодня последний раз, когда я проведу в больнице целый день. Мне не нужно вставать раным-рано, чтобы сдавать кровь (это делают только по субботам), но я все равно единственный в коридоре. Иду мыться и размышляю о том, как было бы хреново жить, не вытекай горячая вода из лейки душа в любое время, когда пожелаешь. Я пробовал поливаться холодной водой, и это даже приятно под конец, но мыться под таким душем – настоящая пытка. Но, с другой стороны, не зря же так делают в армии – под холодным душем ты поворачиваешься гораздо проворнее и не успел зайти, как уже выходишь.
– Так оно и есть! Не хочешь попробовать, солдат?
– Думаю, что не хочу, сэр.
– Да ладно, что с тобой такое? Ты уже многое сделал, но у тебя еще куча дел. Ты что, хочешь бросить на полпути?
– Чтобы справиться с делами, мне нужен холодный душ?
– Вот именно. Меньше времени в душе, больше – на поле боя.
– Ладно.
С этим я справлюсь. Медленно двигаю рычажок регулировки температуры влево, но потом решаю сделать это как с пластырем – дергаю резко. Теплая, приятная водичка быстро сменяется на обжигающе-ледяную. Я изгибаюсь так, чтобы защитить пах от ледяных струй, но это же жульничество, так что я смело распрямляюсь и начинаю неистово намыливаться. Одна нога: сверху донизу! Вторая нога: сверху донизу! Промежность: а! Тру быстро-быстро. Грудь: провожу один раз. Рука: снизу и назад! Другая рука: снизу и назад! Потом шея, лицо, полуоборот – тру зад и выскакиваю! Так, сразу в полотенце, завернулся и дрожу.
Я так торопился одеться, что носки прилипли к ступням. Выхожу поболтать со Смитти.
– Ты что такой?
– Принял первый холодный душ.
– Сегодня?
– Нет, в жизни.
– Ага, это прям убойная штука.
– Что пишут, какие новости?
Смитти показывает газету. Похоже, что на пост мэра Нью-Йорка претендует новый кандидат, предлагающий оплатить каждому, кто за него проголосует, приватный танец. А это сотня баксов. Он мультимиллионер и думает, что выборы у него уже в кармане. И многие женщины его поддерживают.
– Но это же чистое безумие, – говорю я, не переставая дрожать. – Это же как… Просто кто-то разгуливает с ним там, а кто-то тут, так ведь?
– Точно. Только тут музыка получше, – говорит Смитти и включает радио.
– А кстати, хотел спросить: можно я сегодня включу свою музыку в коридоре для посетителей?
– Какую именно?
– Слов там нет, ничего оскорбительного, не волнуйтесь. Просто она понравится кое-кому из пациентов. Хочу сделать подарок.
– Сначала покажи мне.
– Ладно. А еще вот что. Я сегодня принесу второго «Блэйда», чтобы все посмотрели.
– Ты только представь ненадолго: ты принесешь кино про вампиров в отделение, где лежат психически больные.
– Все будет нормально, они выдержат.
– И никаких ночных кошмаров?
– Обещаю.
– Мне на работе кошмары точно не нужны: хлопот не оберешься.
– Я понимаю.
Смитти вздыхает, откладывает газету и встает.
– Давай, что ли, давление тебе измерим.
Он обматывает манжетой руку мне, сидящему на стуле, нагнетает воздух и аккуратно щупает пульс. Сегодня у меня 120 на 70. Первый раз за все время я не идеален.
Сорок четыре
– Ну, как твои дела? – спрашивает доктор Минерва.
Я вздыхаю. На часах одиннадцать. После измерения давления я сходил на завтрак, где уже не было Роберта-Скалки и парня, боящегося гравитации, – Хамбл сказал, что их выписали. Ближе к концу завтрака Ноэль прикоснулась своей ногой к моей, и это длилось так же долго, как мой первый глоток чая «Сладкое прикосновение», а это был долгий глоток, надо вам сказать. Потом Моника объявила, что вечером в фойе, напротив курилки, будет просмотр второго «Блэйда», чему все очень даже обрадовались, особенно Джонни: «Ха, кино что надо, там замочат кучу вампиров». Про музыку она ничего не сказала, да еще и непонятно, принесет ли ее папа.
Что было еще? Еще я выпил «Золофт» из маленького пластикового стаканчика и нарисовал несколько мозгокарт, устроившись возле стеклянной перегородки в углу фойе, рядом с Джимми. Разобрался с голосовыми сообщениями; начал всерьез обдумывать, что бы мне сделать первым делом, когда выйду отсюда, – может, купить кофе? Или прогуляться по парку? Или сразу пойти домой и проверить электронную почту? Мои тягостные размышления о разборе почты прервались приходом доктора Минервы, чему я несказанно обрадовался.
– Мне кажется, у меня все нормально.
Она смотрит на меня, излучая спокойствие и надежность. Может быть, она и есть мой Якорь.
– А что вызывает сомнения?
– Что, простите?
– Ты сказал «мне кажется». Почему ты так сказал?
– Но это же просто выражение, – оправдываюсь я.
– Крэйг, отсюда нельзя уйти, если не чувствуешь себя лучше.
– Верно, я… просто думал о своей электронной почте.
– Так?
– Переживаю, что она не проверена, и хочу поскорее выйти и посмотреть, что в ней. Голосовые сообщения я могу послушать отсюда, а вот почта может стать смертельно опасной.
– Смертельно опасной? Как электронная почта может быть смертельно опасной, Крэйг?
– Ну… – Я откидываюсь на спинку стула и вздыхаю. Потом кое-что вспоминаю: – Вы же знаете, что раньше у меня были проблемы с тем, чтобы начать и договорить предложение?
– Да.
– А сейчас этого нет.
– Правда?
– Ага, даже наоборот: меня вроде как прорывает словами, они льются как раньше, когда я попадал в неприятности, если болтал на уроке.
– И это было… – Она смотрит в свой блокнот и записывает.
– Год назад… до поступления в Подготовительную академию.
– Верно. А теперь вернемся к электронной почте.
– Ох уж эта почта. – Я кладу руки на стол и продолжаю: – Ненавижу ее. Вот уже пять дней как я не проверял письма, представляете?
– С субботы, – кивает она.
– Так и есть, с субботы. И что теперь обо мне думают все те, кто мне пишет? Наверное, уже что-то знают о том, где я, потому что Ниа сказала мой номер Аарону, и тот догадался.
– Верно, а ведь ты этого очень стыдишься.
– Да. И даже если они не знают, где я, что они думают? «Пять дней не отвечать на письма, кто так делает, он что, с ума сошел? Наверняка накачался наркотой или еще чем-то». Нужно отвечать сразу, а я не могу.
– А кто тебе пишет, Крэйг?
– Учителя делают рассылку домашних заданий, пишут из школьных кружков, присылают объявления о благотворительных мероприятиях, в которых я должен участвовать, шлют приглашения на школьные соревнования по футболу, баскетболу, сквошу…
– То есть в основном это связано со школой.
– Все эти письма связаны с ней. Друзья мне всегда звонят, никто не пишет.
– А почему бы тебе просто не обращать внимания на эти письма?
– Я не могу!
– Почему?
– Потому что все эти люди обидятся!
– И что из этого?
– Ну я же потом не смогу вступить в клуб, не получу баллы, не буду участвовать ни в чем, не получу дополнительные баллы… Я провалюсь.
– В школе.
– Да, – говорю я и задумываюсь: да нет, не только в школе, после нее будет то же самое. – И в жизни, – добавляю я.
– Вот как, – тут уже задумывается она. – В жизни.
– Да.
– То есть провал в школе означает провал в жизни.
– Ну… я же просто учусь в школе! От меня не требуется большего. Я, конечно, знаю, что многие из знаменитостей в школе не блистали. Например, Джеймс Браун бросил учебу в пятом классе, чтобы выступать на эстраде, это достойно уважения… Но я так не смогу. Я способен только на что-то одно: все время буду работать в поте лица, чтобы только не отстать от коллег. Сейчас мне нужно справиться только со школой, а я даже этого не могу, потому что не могу добраться до электронной почты.
– Крэйг, ты говоришь о школе в общем, но ведь она включает многое: дополнительные занятия, спортивные секции, общественную работу, не говоря уже о домашних заданиях.
– Верно.
– Крэйг, ты волнуешься обо всем этом? Насколько сильно тебя это тревожит?
Я вспоминаю тот разговор с Бобби, когда мы обсуждали: медицинская ли проблема – тревожиться. С момента поступления в госпиталь мысли о необходимости проверки электронной почты всегда вертелись где-то на заднем плане, назойливо напоминая, что, когда я выйду отсюда, мне придется сидеть за компом по пять-шесть часов в день, чтобы нагнать пропущенное. И отвечать на эти письма я буду в том порядке, как они и пришли, потому что люди, написавшие раньше, и ответ должны получить раньше. И вот, пока я отвечаю на все накопившееся за эти дни, придет новая кипа неразобранных писем. Они столпятся и будут меня дразнить, говоря, что я в них нуждаюсь, хотя в реальности там только пара действительно интересных и важных для меня сообщений. Как раз они-то и останутся под конец, и, когда я до них дойду, будет слишком поздно для ответа. Единственное, что мне останется написать: «Прости, чувак, я не мог ответить на твое письмо. Нет, это не потому, что оно для меня неважно, просто я недееспособен».
– Крэйг?
– Очень сильно тревожит, – отвечаю я ей.
– Беспокойство о непроверенной почте и разговоры о провале… Ты говорил об этом и раньше. Это то, что тебя очень беспокоит.
– Знаю. И я потею, прямо сейчас.
– Потеешь?
– Ага. А ведь этого давно уже не бывало.
– Ты был далеко от Щупалец.
– Верно. Но теперь все. Я вернусь, и они тут же обовьются вокруг меня.
– Помнишь, я спрашивала, нашел ли ты тут Якорь?
– Да.
Она умолкает. У нее всегда так: она не задает вопрос напрямую, а как бы намекает на то, что могла бы спросить.
– Мне кажется, что да, – говорю я со вздохом.
– И что это?
– Можно я схожу и принесу кое-что?
– Конечно.
Я выхожу из кабинета и иду по коридору, где Бобби показывает отделение новенькому – чернокожему парню с неровными зубами, одетому в запачканный синий спортивный костюм.
– Это Крэйг, – говорит Бобби. – Он еще молод, но чувак что надо. Он хорошо рисует.
Я пожимаю руку новому знакомому, как бы подтверждая, что да, рисую.
– Человек, – говорит он.
– Это его так зовут, – поясняет Бобби, закатывая глаза.
– Твое имя тоже Человек, а не Крэйг, – на полном серьезе говорит новый чувак.
Я киваю, прерываю рукопожатие и иду дальше, в свою комнату. Я буквально ощущаю, что вырвался из лап монстра: чем меньше я думаю о докторе Минерве, непроверенной электронке и о том, что скоро я отсюда выйду и придется идти в Подготовительную академию, тем мне спокойнее. А еще мне спокойнее оттого, что я приближаюсь к своим дурацким рисункам с мозгокартами – тому единственному, в чем я силен.
Я прохожу мимо пытающегося уснуть Муктады, который таращится в пустоту, забираю с перегородки радиатора свои рисунки и несу их, нежно прижав к груди, обратно в кабинет, мимо Бобби и Человека, объясняющего, что его настоящее имя – Зеленый и что как раз зелени ему и не хватает.
– А мне тут даже нравится, – говорю я доктору Минерве.
– В этой комнате?
– Нет, тут, в больнице.
– Ну, когда поправишься, сможешь приходить сюда как волонтер.
– Я уже говорил об этом с Нилом. Думаю попробовать. Получу лишние баллы для школы!
– Ты только из-за этого хочешь быть волонтером, Крэйг?
– Нет, что вы… – мотаю я головой. – Я просто пошутил.
– Ах вот как, – говорит она, и ее лицо рассекает щедрая улыбка. – Ну, что ты там принес?
Я плюхаю кипу рисунков на стол. Их там штук двадцать. Ничего выдающегося, так, вариации на тему: поросенок с картой Сент-Луиса внутри, парочка, соединенная мостом, которую я нарисовал для Ноэль, несколько больших городов с пригородами.
– А, это твои работы, – говорит она, листая рисунки. Особенно удачные она отмечает одобрительным «ух ты!».
Вчера вечером я сложил их в стопку в особом порядке – не только для доктора Минервы, для кого угодно. Еще когда я их рисовал, было ясно, что мозгокарты должны быть показаны в определенной последовательности.
– Они восхитительны, Крэйг!
– Спасибо, – говорю я и сажусь. Я и не заметил, что мы оба еще на ногах.
– И ты начал их рисовать потому, что занимался этим в детстве, когда тебе было четыре года?
– Ну да. Я делал что-то подобное.
– И какие у тебя от этого занятия ощущения?
Я смотрю на стопку:
– Мне классно.
– Почему? – спрашивает она, наклонившись.
Тут мне надо подумать. Доктор Минерва дает мне время, и я без всякого стеснения сижу и раздумываю. Потом поворачиваю голову влево и, поглаживая рукой подбородок, говорю:
– Потому что я их рисую. Я их рисую, и они доделаны. Это почти как с мочеиспусканием, понимаете?
– Да… – кивает доктор Минерва, – это что-то, что тебе доставляет удовольствие.
– Верно. Я их рисую, они получаются удачными, мне от этого приятно, и я знаю, что это хорошо. Когда я дорисовываю один из рисунков, у меня такое чувство, что я сделал что-то стоящее и могу оставшееся время делать что угодно: пинать балду, звонить по телефону, писать письма и все остальное.
– Крэйг, а ты не думал, что можешь стать художником?
– У меня есть и другие идеи, – продолжаю я. В голове мелькнуло: «Что она там сказала?»
– Первым делом я придумал вечную свечу. Это такая свеча, которая стоит на земле, а над ней подвешена еще одна, вверх тормашками, воск от первой свечи плавится специальной горячей штукой и перекачивается насосом во вторую свечу – что-то вроде соединенных сталактита и сталагмита. А еще я подумал, что можно наполнить мужской ботинок взбитыми сливками. Просто берем ботинок и набрызгиваем в него сливки – проще некуда. И потом можно продолжать в том же духе: наполнить футболку желе, в шляпу положить яблочное пюре… Ведь подобные штуки считаются искусством, да? А что вы там сказали про художников?
– Видно, что ты наслаждаешься тем, что делаешь, – посмеиваясь, говорит она.
– Ага, ну да, это ведь совсем не сложно.
– И ты не потеешь.
– Думаю, это и есть мой надежный Якорь, – признаю я, как бы непрактично и глупо это ни звучало. Но посудите сами, я ведь уже в дурдоме, какой практичности можно от меня ждать? Наверное, мне придется расстаться с прагматичными взглядами.
– Ты прав, Крэйг. Это может стать твоим Якорем, – говорит доктор Минерва и глядит на меня не мигая. Я смотрю на ее лицо, на стену за ней, на дверь, жалюзи, стол, на мои руки и лежащие перед нами мозгокарты. А ведь я могу улучшить ту, что лежит на самом верху: попробовать придать структуру дерева уже нарисованным улицам. Нарисую узлы из дерева в головах людей. Должно сработать.
– Да, может, – согласно киваю я. – Но…
– Но что?
– Что мне делать со школой? В Подготовительной академии управления искусство не преподают.
– То, что я тебе скажу, прозвучит неожиданно, – говорит она, отклонившись назад, а потом наклоняется ко мне и продолжает: – Ты не думал, что можешь пойти в другую школу?
Я опешил.
Нет, не думал. Даже не рассматривал такой вариант.
Вообще не помышлял о чем-то другом. Это моя школа. Ради поступления в нее я вкалывал как никогда в жизни. И пошел я туда потому, что выпускнику этой школы открыто множество дорог – можешь стать кем-то успешным и богатым: адвокатом или даже президентом.
А где я в итоге оказался? Всего один год – да какое там, я и года не проучился, – а я уже сижу не с одним, а даже с двумя браслетами на руке, беседую с мозгоправом в кабинетике, притиснутом к коридору, по которому разгуливает парень по имени Человек. Что со мной будет, если я проучусь там еще три года? Да я же превращусь в полное ничтожество. А если продолжу? Если буду как-то жить с этой депрессией, поступлю в университет, окончу его, пойду в магистратуру, устроюсь на работу, заработаю денег, заведу жену и детей, куплю крутую тачку? В какую же хрень я превращусь тогда? Я же полностью сойду с ума.
Я не хочу быть настоящим сумасшедшим. Я не прочь быть слегка безумным – настолько, чтобы приходить сюда как волонтер, но не настолько, чтобы вернуться как пациент. Ни за что на свете!
– Да, – говорю я. – Я думал об этом.
– Когда же? Прямо сейчас?
– Да, так и есть, – соглашаюсь я, и мое лицо озаряет улыбка.
– И что именно ты думаешь?
– Думаю, что надо позвонить родителям и сказать, что я хочу в другую школу, – говорю я, ударяя в ладони и вставая.
Сорок пять
– Крэйг, к тебе посетитель, – окликает меня заглянувший в столовую Смитти, где мы с Джимми, Ноэль и Армелио играем в послеобеденный покер. Джимми играть вообще не умеет, но мы раздаем карты и на него, и он держит их картинками к нам, улыбаясь, когда получает от нас фишки (пуговиц нет, их заперли из-за нашего же разгильдяйства, и мы пользуемся кусочками бумаги), которые или кладет куда попало, или жует.
– Сейчас вернусь, – говорю я.
– Такой занятой парень, – говорит Армелио.
– Ага, строит из себя важного, – говорит Ноэль.
– Я проснулся, а постель в огне! – говорит Джимми.
Мы все поворачиваемся к нему, и я спрашиваю:
– Джимми, у тебя все нормально?
– Моя мама била меня по голове. Била по голове молотком.
– Ого, вот это да! – говорю я, поворачиваясь к Армелио. – Я слышал, что он говорил что-то подобное в приемном отделении. А раньше он это упоминал?
– Нет, дружище, не-а.
– Эй, Джимми, все нормально. – Я кладу руку ему на плечо. Я еле сдерживаюсь, чтобы не заржать: оказывается, ты можешь смеяться над кем-то, но в то же время хотеть ему помочь.
– Она била меня прямо по голове, – не унимается он. – Молотком!
– Да, но сейчас ты здесь, – говорит Ноэль. – Ты в безопасности. Никто тебя не тронет, не ударит ничем.
Джимми кивает. Я по-прежнему держу руку у него на плече и пытаюсь не засмеяться, но все равно не сдерживаюсь, и пара смешков прорывается наружу. Джимми поднимает голову, замечает это – и расплывается в улыбке, а потом и вовсе смеется, хватает свои карты и лупит меня ими по спине.
– И к тебе придет, – сообщает он.
– Да-да, я знаю, что придет.
Я выхожу из комнаты и иду в коридор, в конце которого меня ждет не кто иной, как Аарон с пластинкой, которую я заказывал (у папы такой не оказалось).
– Привет, чувак, – говорит он, слегка смущаясь. Я подхожу ближе, а он прислоняет пластинку к стене. Он, конечно, мудак, но и я, прямо скажем, тоже не подарок, так что я подхожу и обнимаю засранца.
– Привет.
– Ну, это, ты был прав: у отца она была – «Известные египетские исполнители: Третий альбом».
– Спасибо тебе за это. – Я беру пластинку и оглядываю обложку: какой-то похожий на Нила парень сидит на фоне багрового закатного неба, а слева от него веселенькая пальма перекликается с ярко сияющей луной.
– Ага. Ты это, прости меня за все, – говорит он. – Я… э… знаешь, стремные выдались деньки в последнее время.
– Ты прикинь? У меня тоже, – говорю я, глядя ему в глаза.
– Ну еще бы, – улыбается он.
– Ага. Давай так: если будет фигово, ты просто говори: «Ох, Крэйг, у меня выдался стремный день», и я тут же просеку, о чем ты.
– Ну, как оно тут? – спрашивает он.
– Ну, тут есть те, кто облажался очень давно, а есть такие, вроде меня, кто лажает… ну… недавно.
– Тебе выписали другое лекарство?
– Нет, пью то же самое, что и раньше.
– И как, тебе лучше?
– Ага.
– А что изменилось?
– Я собираюсь уйти из школы.
– Что?!
– Хватит с меня. Пойду куда-то еще.
– Куда?
– Пока не знаю. Поговорю с родителями, пойду куда-то, где преподают рисование.
– Ты хочешь заниматься рисованием?
– Ага. Пока я тут был, кое-что нарисовал. И у меня неплохо выходит.
– Но в школе у тебя тоже все в норме.
Я пожимаю плечами и ничего не говорю. Не хочу я ему ничего объяснять: из лучших друзей он разжалован и пусть еще заслужит право вернуться обратно. И знаете что? Я понял, что никому ничего не должен и могу не разговаривать, если не хочу.
– Как у вас с Ниа? – спрашиваю я. Тут главное – не сболтнуть лишнего. – Я получил твое сообщение, ты говорил, что у вас не ладится.
– Да, не срослось у нас. Я сам виноват, психанул из-за того, что она пила таблетки. В общем, мы несколько дней как расстались.
– А почему ты психанул из-за этого?
– Ну, знаешь, мне этого и так хватает. С отцом.
– Он принимает лекарства?
– Он одержим своей книгой, ничего, кроме нее, не видит, все равно что на таблетках сидеть. И мама тоже. Да и я, с травкой… В итоге все домашние постоянно под кайфом, кроме рыбок разве что.
– И ты не хотел, чтобы твоя девушка тоже была такой.
– То, что она накуривается, – это одно. Просто… даже не знаю, как объяснить. Чтобы это понять, надо пробыть с кем-то достаточно долго. Вот представь: у тебя с кем-то отношения, и ты узнаешь, что ей… что она должна каждый день что-то принимать, и ты задумываешься – а видит ли она тебя реального?
– Фигня какая-то, – говорю я. – Кстати, она сюда приходила…
– Да ты что?
– Ага, и дела у нее, мягко говоря, не очень, почти так же хреново, как у меня, но я теперь не вижу в этом ничего плохого. Даже наоборот, так легче общаться с людьми.
– Да? Серьезно?
– Люди совершают ошибки постоянно. Лучше я буду общаться с тем, кто облажался и признался в этом, чем с кем-то идеальным и… ну, знаешь… готовым взорваться в любую минуту.
– Крэйг, прости меня, – говорит, глядя мне в глаза, Аарон и протягивает руку для хлопка. – Прости, что вел себя как последний мудак.
– Ты мудаком и был. – Я хлопаю по его ладони. – Но пластинка это частично искупает, так и быть. Только не вздумай снова начинать.
– Ладно, – кивает он.
Мы стоим минуту неподвижно. Мы так и не сдвинулись с пересечения коридоров рядом со входом в шестой северный. В двух с половиной метрах за Аароном двойная стеклянная дверь, через которую я прошел.
– Ну ладно, – говорит он. – Надеюсь, пластинка понравится. А… тут вообще есть проигрыватель?
– Аарон, тут даже курить можно. Они тут вроде как застряли в прошлом.
– Ладно, звони, не теряйся. И еще раз извини. Я так понимаю, что ты пока зависать не будешь.
– Не знаю. Может, уже никогда не буду.
– Значит, ты попал сюда потому, что чуть не покончил с собой?
– Ага.
– Почему?
– Потому что не мог справиться с настоящими трудностями.
– Не убивай себя, Крэйг, ладно?
– Ладно, чувак, спасибо.
– Не делай этого… не надо.
– Не буду.
– Увидимся, чувак, пока.
Он поворачивается и выходит в открытую для него медсестрами дверь. Он неплохой парень, просто он еще не лежал в шестом северном. Я иду к Смитти – показать пластинку – и оставляю ее на медсестринском посту.
Сорок шесть
В шестом северном почти не пользуются системой оповещения, потому что Президент Армелио прекрасно и сам с этим справляется. Но все же иногда из нее раздаются отрывистые, короткие сообщения вроде «Обед готов», «Прием лекарств» и «Всем курильщикам в комнату для курения; получите сигареты». Но сегодня из динамиков звучит более длинное сообщение в исполнении Моники:
– Дамы и господа, сейчас после обеда наш пациент Крэйг Гилнер, которого завтра выписывают, будет рисовать для всех желающих свои картины. Если вы хотите получить рисунок от Крэйга, приходите в дальний конец коридора возле столовой. Через пять минут в дальнем конце коридора возле столовой. Приятно провести время!
Я усаживаюсь на самый дальний стул, возле окна, выходящего на авеню, пересекающуюся с улицей, где я живу, – самая близкая точка к моему дому, к моей жизни. Смотрю на свой стул для бесед, где я сидел, когда приходили родители, и где прошли наши свидания с Ноэль. Передо мной стоит другой стул, на нем я собираюсь рисовать, подложив, чтобы было повыше, несколько коробок с настольными играми и шахматную доску. Хлипкая получилась конструкция, но ничего.
Первым уверенной, размашистой походкой приближается Президент Армелио, выпятив бочкообразную грудь, как бандюган.
– Как классно, дружище! Ты будешь рисовать те свои головы с картами внутри?
– Да, точно, их.
– Ну тогда давай, приступай. У меня не вагон времени.
Так, ладно. Какой у нас Армелио? Он быстрый, стремительный. Таким я его и нарисую. Не особенно заморачиваясь, делаю набросок головы и плеч и начинаю рисовать карту на месте мозга. Скоростные шоссе – вот что будет в голове у Армелио. Шестиполосные, идущие параллельно друг другу, стремительно прорезающие город насквозь, с минимальным количеством закругленных съездов. Спокойные маленькие улочки и тихие парки – это не про него. Эти шоссе даже не соединяются, потому что мысли Армелио тоже прямые и никогда не перемешиваются: он отрабатывает одну мысль и потом приступает к другой. Прекрасный стиль жизни. Особенно если самая главная мысль – желание поиграть в карты. Надо бы и карты куда-то пристроить. Я набрасываю несколько улочек внутри пикового туза как раз посередине. Вышло не ахти как, но зато у Армелио есть туз пик.
– Пики! В пики я разнесу тебя в пух и прах, дружище.
Я ставлю свои инициалы: большие жирные буквы К. Г., как «компьютерная генерация».
– Я это точно сохраню, – говорит пожимающий мне руку Армелио. – Ты отличный парень, Крэйг. Хочешь, я дам тебе свой номер?
– Конечно, – я вынимаю листок бумаги.
– Это номер телефона дома-интерната для взрослых, – поясняет он. – Когда позвонишь, попроси Спируса, это мое другое имя.
Он протягивает листок с номером и отходит в сторону. Теперь на его месте Эбони, как всегда, со своей тростью, в вельветовых брюках, шамкает губами.
– Я слышала… что ты рисовал эти твои мозги людям, – говорит она.
– Да-да, так и есть! А ты знаешь, кто начал называть их мозгами?
– Я!
– Точно. А теперь смотри, – я показываю на стопку рисунков на полу, – вот сколько я всего нарисовал.
– Ну, значит, мне причитается комиссия? – смеется она.
– Да нет, ведь я пока что не настоящий художник.
– Понимаю, это непросто.
– А пока хочешь свою собственную мозгокарту?
– Хорошо!
Я веду контур ее головы, не глядя на бумагу. Потом смотрю, что получилось, – недурно. Мозг Эбони… Что в нем? Целая куча кругов, за все пуговицы, что она сперла. Она прямо с ума по ним сходила. Та еще интриганка, с ней лучше не связываться. А раз у нее такой талант к игре, то вот ей огромный бульвар, как Лас-Вегас-Стрип. Я рисую его по центру, а вокруг – круговые перекрестки, круглые парки, торговые центры тоже в форме кругов и круги озер. Получилось похоже на ожерелье, с главной нитки которого ответвляется целая куча других украшений.
– Прелесть какая! – восхищается она.
– Ну вот и все, он твой, – вручаю я ей рисунок.
– Тебе это нравится, правда же?
– Ага. Это мне помогает, ну, знаешь… помогает справляться с депрессией. Я же тут из-за этого.
– А представь, каково это, заболеть депрессией в одиннадцать лет, – говорит Эбони. – Если всех моих детишек составить в этот коридор, то места свободного не осталось бы.
– У тебя есть дети? – понижаю я голос от удивления.
– У меня было тринадцать выкидышей, – говорит она. – Представь себе.
Теперь она смотрит на меня без тени улыбки, обычно не сходящей с ее лица: только огромные глаза, говорящие о том, что вопросами тут не поможешь.
– Мне очень жаль, – говорю я.
– Знаю. Знаю, что жаль. Но так уж вышло.
Эбони отчаливает и показывает всем вокруг свой портрет: «Это я! Видите? Я!» Она своего номера телефона не оставляет. Следующий – Хамбл.
– Так, ладно, что тут у тебя за кипеж?
– Так, ничего особенного.
Рисую лысую голову Хамбла. Лысых рисовать легко. А вот знаете, сейчас бы у меня получился тот нижний изгиб Манхэттена. Я смотрю на Хамбла, и он, поднимая брови, говорит:
– Нарисуй меня красивым, ладно?
Я смеюсь и наделяю голову Хамбла индустриальным хаосом. Никаких маленьких жилых кварталов – только промышленные районы с пилорамами, фабриками и барами, где он мог бы зависать и работать. А еще я рисую океан, в честь омываемого со всех сторон океаном Бенсонхерста, где он вырос и где мутил со своими девчонками. Добавляю немного автомагистралей, прорезающих улицы по верху и пересекающихся в каком-то безумном беспорядке: на вид грозно и запутанно, но в то же время мощно и правдиво. Как разум, способный выдать гениальную идею, если его правильно задействовать. Вот и готово, я поднимаю голову от рисунка.
– Ну, вроде ничего, – пожимая плечами, говорит Хамбл.
– Спасибо, Хамбл, – улыбаюсь я.
– Запомни меня. Нет, правда. Когда станешь великим художником или еще кем, пригласи меня на свою вечеринку.
– Договорились, – соглашаюсь я. – А как я тебя найду?
– Ах да, у меня же есть номер! Я буду жить в «Прибрежном раю», это тот же интернат, куда поедет Армелио, только он будет на другом этаже.
Хамбл диктует мне номер, и я записываю его туда же, где Армелио оставил свой.
– Не позвонишь ты, – говорит Хамбл.
– Позвоню.
– Нет, я-то знаю, что пропадешь, и все. Но это ничего. У тебя куча дел впереди. Только постарайся больше не выгорать.
Мы жмем друг другу руки. Следующая за ним Ноэль.
– Привет, крошка!
– Даже не думай меня так называть. А ты это хорошо придумал.
– Хотел сделать для всех хоть что-то, тут все такие классные.
– Ты теперь вроде как знаменитость. И все спрашивают, не твоя ли я девушка.
– И что ты отвечаешь?
– Говорю «Нет!» и ухожу.
– Ну и правильно.
– Ну и что ты тянешь время? Ты ведь уже нарисовал для меня рисунок, только сказал, что не доделал.
Я вытаскиваю нарисованную для нее мозгокарту с парнем и девушкой и пишу внизу свой номер.
– Боже мой!
– Вот теперь готово, – с улыбкой говорю я и, встав и склонившись к ней, шепчу: – Эту я рисовал в два раза дольше, чем остальные. А когда выйду, то нарисую тебе еще, получше…
Она отталкивает меня и говорит:
– Да-да, как будто мне есть дело до твоих почеркушек.
– Конечно, есть, я же видел, как ты на них тогда смотрела.
– Ладно, возьму, но только чтобы тебя не расстраивать.
– Ну и хорошо.
Она наклоняется и целует меня в щеку:
– Спасибо тебе. Правда спасибо.
– Не за что. Кстати, а что ты делаешь сегодня вечером?
– Ну… подумывала зависнуть в психиатрическом госпитале. А ты?
– У меня обширные планы, – говорю я. – Скоро нам принесут кино…
– А, тупое кино про вампиров. Я такое не смотрю.
– Знаю, – перехожу я на шепот. – Но, когда пройдет половина фильма, придешь в мою комнату?
– Ты это серьезно?
– Конечно.
– Но ведь у тебя там сосед! Он же не выходит оттуда!
– Поверь мне. Просто приходи.
– Ты что, собираешься меня полапать?
– Тебе просто обязательно знать? Да.
– Такой прямо честный. Ладно, увидимся.
Я обнимаю ее, она обвивает руки вокруг моей спины, не выпуская мозгокарту.
– А твой номер у меня уже есть, – говорю я.
– Смотри не потеряй, я два раза номер не даю.
Я бросаю на нее вожделенный взгляд, мы отрываемся друг от друга, и она уходит.
Следующий – Бобби.
– Кто это там за тобой?
– Ха! А сам как думаешь? – подает голос Джонни.
– Вставайте вместе, нарисую обоих сразу.
– Класс, – говорит Бобби, вставая сбоку. Джонни встает рядом с ним, и я начинаю выводить в едином очертании контуры их всклокоченных волос и мешковатой одежды.
– Он что, рисует нас, что ли? – спрашивает Джонни, обращаясь к Бобби.
– Стой тихо, ладно?
– А что, парни, где вы раньше обычно зависали? – спрашиваю я у Бобби, не поднимая глаз от рисунка. – Ну, тогда, когда были мусороголовыми?
– Зачем тебе? Ты собираешься это рисовать?
– Нет, – отрываюсь я от рисунка. – Просто интересно, в каком это было районе.
– В Нижнем Ист-Сайде это было, но не рисуй его, – говорит Бобби. – Не хочу туда возвращаться.
– Вполне понятно. А где бы ты хотел жить?
– В Верхнем Ист-Сайде, с богатеями всякими, – отвечает он.
– Ха! Я тоже, – соглашается с ним Джонни.
– Нет, погоди, ты играешь на гитаре, – вспоминаю я. – Гитару и получишь.
– О, класс.
Я приступаю. Сначала мозг Джонни, ему я рисую гитару, образованную улицами: диагональная дорога упирается в тело, а большой, широкий бульвар я располагаю на месте шеи, голова будет в виде парка. Теперь Бобби. Верхний Ист-Сайд я знаю хорошо: он находится на Манхэттене, и самое интересное, что в нем есть, – это Центральный парк, его я и рисую в голове с левой стороны. Потом пускаю сетку улиц с престижными домами. Где-то там же должен быть Музей Гуггенхейма, и я отмечаю его стрелочкой. Потом ставлю рядом с ним крестик, а дома там стоят по двадцать миллионов, и пишу «Нора Бобби».
– Нора Бобби! Да, вот так! Тут я и поселюсь. – Он поднимает руки. – Повышаем уровень.
– Держите, – я вручаю им листок.
– А кто его возьмет? – спрашивает Джонни. – Нам его порвать, что ли?
– Нет, чувак, он для нас обоих, потому что мы друганы, – объясняет Бобби. – Я сделаю копию.
– А тут есть ксерокс?
– Нет, нету! Я скопирую, когда выйду отсюда.
– И что ты мне дашь?
– Копию!
– Не хочу я копию!
– Ну ты на него посмотри, ничем не угодишь…
– Бобби! – прерываю я его. – А вы с Джонни не дадите мне свои телефоны, чтобы созвониться, когда выпишетесь отсюда?
Джонни начинает что-то говорить, но Бобби обрывает его на полуслове:
– Нет, Крэйг, это не очень хорошая идея.
– Что? А почему?
Он вздыхает.
– Я был в этой больнице не раз, знаешь?
– Ага.
– Тут неплохо, я хочу сказать, кормежка тут что надо, лучше не бывает, и люди тут хорошие… Но это все равно не то место, где стоит заводить друзей.
– Но почему? Я же познакомился с вами, а вы – прикольные чуваки!
– Ну да, но ты представь: если ты позвонишь мне или Джонни, а мы будем обдолбанные, или обколотые, или снова будем здесь, или просто исчезнем.
– Ну, так себе, конечно, перспектива.
– Видел я уже такое. Просто запомни нас, ладно? Если мы встретимся в обычном мире, будет только хуже. Тебе будет за меня стыдно, а я… – Тут он улыбается. – Может, мне за тебя тоже будет стыдно, если ты не будешь держать себя в руках.
– Ладно, спасибо. Значит, точно не оставите номера?
Бобби мотает головой:
– Если будет надо, мы обязательно встретимся.
Джонни жмет мне руку и спрашивает:
– Что он там сказал?
Последним в очереди стоит Джимми.
– Я скажу тебе, я уже говорил? Поставь на эти числа…
– И оно придет к тебе! – подхватываю я.
– Истинно говорю! – улыбается он.
Джимми, да. Что же в голове у Джимми? Хаос. Я прорисовываю его почти лысый череп, потом плечи и приступаю к самому сложному: в одном месте встречаются сразу пять скоростных шоссе, прорезающих его голову от уха до уха. Сложные, в виде спагетти, развязки шоссе мне приходится стирать и перерисовывать несколько раз. Потом я наношу сетку улиц. Подхожу к ней с большой выдумкой, и жилые кварталы тянутся во всех направлениях. Мозгокарта Джимми готова, вот он, разум шизофреника во всей красе, но все равно как-то работает.
– Вот, держи, – говорю я сидящему на соседнем стуле Джимми, наблюдающему за моей работой.
– И к тебе придет! – говорит он и забирает карту. Мне хочется, чтобы он наконец очнулся, назвал меня по имени, сказал, что мы с ним вместе сюда поступили, но это же Джимми: словарный запас у него невелик.
Мы сидим там же, где сидели, и меня начинает клонить в сон: рисование на заказ утомляет нехило. Последнее, что я вижу, перед тем как окончательно заснуть, – Джимми и Эбони, разложившие свои мозгокарты рядом, чтобы сравнить, чья лучше. Не самое худшее зрелище перед сном.
Сорок семь
– Крэйг, что с тобой? – слышу я голос мамы. Я вздрагиваю, и у меня видение, что все случившееся – это сон. Все, что произошло в шестом северном. Но потом я думаю: а когда же этот сон начался? Если это кошмар, то он должен был начаться когда-то, когда мне еще не стало плохо, и тогда это сон длиною в год, а таких долгих не бывает. А если это хороший сон, то тогда он должен начаться где-то, где я стою на коленях над унитазом в квартире родителей или лежу в постели, слушая стук сердца. Нет, такой сон мне ни к чему.
– А, что… ух ты. – Я сажусь. Они все здесь: папа, мама и Сара.
– Ты что, спал? – спрашивает мама. – Тебе нехорошо?
– Ты под действием таблеток? – спрашивает Сара. – Ты меня слышишь?
– Господи, да я просто вздремнул!
– А, понятно. Сейчас шесть вечера.
– Ого! Надолго я отрубился. До этого я рисовал для пациентов мозгокарты.
– Ой, не нравится мне то, что он говорит, – волнуется папа.
– Что за мозгокарты? – спрашивает Сара.
– Это то, что он рисует, – поясняет мама. – Из-за этого он и хочет поменять школу. Тебе нравится рисовать, да, Крэйг? Эти рисунки делают тебя счастливым?
– Ага. Хотите взглянуть?
– Конечно.
Я беру лежащую передо мной стопку и передаю им. Наверное, затем я и нарисовал все это – чтобы показать родителям.
– Самый хороший я нарисовал только что, для одного из пациентов.
– Очень интересно, – говорит папа.
– Мне нравится вот этот, – указывает Сара на поросенка с квази-Сент-Луисом внутри.
– Ты потратил на них немало времени, – замечает мама.
– Да в том-то и дело, что рисовать их недолго, – объясняю я. – А вообще они мне начали уже надоедать, хочу попробовать что-то другое.
– Ну а как ты себя чувствуешь, Крэйг? – спрашивает папа.
– По крайней мере, выглядишь ты гораздо лучше, – отмечает мама.
– Да?
– Ага, – подтверждает Сара. – И не так по-уродски странно, как раньше.
– Я выглядел странно?
– Она не это имела в виду, – обращается мама к нам обоим, – она о том, что, когда у тебя было сниженное настроение, ты выглядел слегка не в себе. Да ведь, Сара?
– Нет, он выглядел по-уродски странно.
– Врачи называют это «уплощенный аффект», – улыбаюсь я.
– Да, но больше у тебя этого нет, – говорит Сара.
– Значит, ты хочешь бросить школу? – возвращает нас папа в русло практичности.
– Я не хочу бросать, – поворачиваюсь я к нему. – Я хочу перевестись.
– Но это означает, что школу, в которой ты сейчас…
– В другой школе он не справится! – горячо возражает Сара. – Посмотрите на…
– Да погодите же вы, дайте сказать, – обращаюсь я к ним, глядя на всех троих. – Не знаю, как объяснить, но здесь время течет медленнее, и у тебя появляется возможность обдумать все не спеша…
– Ну, может, это потому, что не нужно ни на что отвлекаться…
– А еще мне кажется, что часы немного…
Я прерываю их, выставив ладонь вперед:
– В общем, здесь есть время подумать о том, почему ты сюда попал. И яснее ясного, что никто не хочет сюда возвращаться. Я точно не хочу.
– Хорошо. Я – тоже, – говорит папа. – В тот раз я пошутил насчет того, что хочу сюда лечь.
– Ясно, пап. А ты принес кино?
– Конечно. Мне же можно остаться и посмотреть с тобой?
– Даже не вопрос. Ну так вот, я думал и думал, когда же у меня все это началось. И понял: мне стало хуже, когда я перешел учиться в Академию.
– Вот оно что, – вздыхает мама.
– Тот день был самым счастливым в моей жизни. Но с того же дня все покатилось по наклонной.
– Такое происходит со многими взрослыми, – говорит папа.
– Ты перестанешь его перебивать? – возмущается Сара. Папа складывает руки за спиной и выпрямляется.
– Ничего, Сара. И я… мне кажется, что я так сосредоточился на поступлении в Подготовительную академию управления, потому что воспринял это как вызов. Я хотел одержать победу и ощутить, каково это. А об учебе там я даже не задумывался.
– И теперь ты хочешь заниматься рисованием, – уточняет мама.
– Ну, если посмотреть, то математика мне никогда особенно не нравилась, и у меня с ней получалось только потому, что там можно разложить все по полочкам и получить удовлетворение от сделанного. Английский язык тоже не вызывал особенных восторгов. А вот это… – Я указываю на мозгокарты. – Это совсем другое дело. Это я просто обожаю и предпочел бы заниматься любимым делом.
– Да уж, жизнь художника и без того тяжела, так что лучше бы это занятие любить, – говорит папа. – Это ж в основном художники и заканчивают в заведениях, подобных этому.
– Значит, раз он уже здесь, то ему художником и надо быть! – резюмирует Сара.
– Все же просто, – говорю я, вставая. – Сами посмотрите: я хотел попасть в лучшую школу города – и где я в итоге оказался?
– А ведь правда, – говорит мама, оглядываясь на проносящегося мимо Соломона.
– Если ничто не изменится, то вскоре я вернусь сюда же, потому что, выйдя отсюда, начну размышлять о том, как все было раньше и что изменилось.
– Ты прав, – говорит мама. – Я с тобой согласна.
– Ты уже знаешь, в какую школу пойдешь? – спрашивает папа.
– Может, в Манхэттенскую художественную академию? С моими оценками я туда переведусь без проблем…
– Но, Крэйг, это же школа для тех, кто облажался и никуда не годен, – возражает папа.
– О чем ты, пап? – Я трясу перед ним больничными браслетами, которыми теперь даже горжусь, потому что они настоящие и с ними нельзя не считаться. А правда, сказанная вслух, делает нас сильнее.
Папа стоит некоторое время неподвижно, глядя на свои ботинки, потом поднимает глаза и говорит:
– Ладно, мы сделаем все что нужно. Но тебе придется ходить в школу, пока не переведешься, и думаю, что это произойдет… не раньше следующего года.
– Ничего, я справлюсь, – заверяю его я.
– Знаю, что справишься, а мы поможем.
– Ужин! Все на ужин! – приближается к нам по коридору Президент Армелио. – Крэйг и его родственники, уже пора ужинать!
– Как у тебя с едой? Ты ел все это время? – спрашивает мама, пока я встаю и разминаю ноги.
– С едой все в порядке, я ем.
– Ой как хорошо!
– Ну ладно, вот тебе диск с фильмом. – Папа отдает мне его. – А я приду, когда ты поешь. Когда вы будете его смотреть?
– Приходи в семь. Правда, посещения заканчиваются в восемь.
– Ну, посмотрим, может, я и на подольше останусь.
Я нервно сглатываю. Вот уж на что-что, а на затянувшееся папино присутствие я никак не рассчитывал. Надо будет позаботиться, чтобы Смитти выставил его.
– До завтра, – говорит мама. – Нам сказали, что мы сможем забрать тебя рано утром, чтобы успеть до работы.
– Хорошо, к этому времени я соберусь.
– Дома куча всяких вкусностей.
– А я увижусь с тобой, как приду из школы, – говорит, обнимая меня за талию, Сара. – Как круто, что ты возвращаешься.
Я глажу ее по голове и спрашиваю:
– Ты стесняешься этого места?
– Ага, но мне все равно.
– Мне тоже, – говорю я. – Но по-другому, в хорошем смысле.
Сорок восемь
Что можно сказать про второго «Блэйда»… Если вам нравятся боевики, то это кино для вас. Я их прямо-таки обожаю. Боевики, как и блюзы, построены по определенной формуле: там всегда есть герой, злодей и девушка. Герой постоянно на волосок от гибели, но не сдается до последнего, и даже если он с гнильцой, все равно сценарий тот же. Еще должен быть сразу различимый по лицу придурок-злодей, которого прикончат под прессом или в бассейне.
Сценарий второго «Блэйда» заключается в том, что Блэйд гасит вампиров направо и налево. Он повсюду разгуливает в кожаном плаще и с мечом за спиной, и всем на это пофиг. Я уже молчу о том, что этим мечом можно на раз отчекрыжить себе зад, особенно на бегу или в прыжке с переворотом.
Но самая круть – это то, как вампиры умирают: они рассыпаются на пиксели в разноцветный прах в замедленной съемке. Я бы смотрел на это весь день: чистое исчезновение, ни трупа, ни остатков.
Все это я рассказываю Хамблу, пока мы помогаем Монике выкатить телевизор из кабинета для занятий и подключить его. Моника понятия не имеет, как пользоваться DVD – эти блестящие штуки ее пугают. Нам приходится несколько раз заталкивать диск в телик, пока он не прочитается, и в тот момент, когда он наконец запускается, нас поражает зрелище первого нападения Блэйда на гнездо вампиров в Праге, где тот спускается по пожарным лестницам, скачет через мотоциклы и втыкает меч в чуваков направо и налево.
На просмотр собралась разношерстная компания представителей шестого северного: Хамбл, Бобби и Джонни, Профессорша, Эбони, новенький пациент Человек, Бекка, ну и папа, который подошел ровно в семь. Он примостился в углу и тихонько там сидит, не привлекая внимания. Заслышав звуки фильма, пришел Джимми и сел рядом с папой.
– Здравствуйте, – поприветствовал его папа.
– Твой сын? – спросил Джимми, указывая на меня.
– Да.
– Как это приятно!
– Да, да, приятно, – кивая, согласился папа.
А на экране Блэйд кромсает вампиров от паха до затылка.
– Ну ни фига себе, вы это видели? – говорит Хамбл. – Это похлеще гонореи.
– У тебя что, была гонорея?
– Я вас умоляю, у меня было все. Знаешь, как говорят: «Евреи их обрезают, а ирландцы – истирают до дыр».
– Фу-у-у, – морщусь я. – А ты ирландец, что ли?
– Наполовину, – отвечает Хамбл.
– Вы не могли бы потише? Я хочу кино посмотреть, – шикает на нас Профессорша.
– Вот только не надо, тебе это кино даром не упало, там же нет Кэри Гранта, – говорит Хамбл.
– Кэри Гранта не трожь, он мужчина что надо.
– Кого хочу, того и трогаю…
– Что, блин, этот чувак вообще делает? – спрашивает Бобби, глядя на экран.
– Высасывает кровь из девушки, не видишь, что ли?
– Разве она не вампирша?
– Ну и что, разве у вампиров нет крови?
– У них крови нет, – говорит Человек, – а только зелень по венам гоняет, и под зеленью я имею в виду деньги.
– Ты сам не понимаешь, что несешь, – возражает ему Хамбл. – Если пьешь кровь, разве это не значит, что она у тебя есть?
– Я в свое время вампиров повидал, и кровь у них всегда была зеленая. Высасывали меня досуха в своих маленьких храмах.
– Каких еще храмах? – спрашивает Бекка. – Я тоже хожу в храм, и лучше бы ты не заговаривал про еврейский народ.
– Я тоже еврейка, – говорит Профессорша. – Поэтому у меня дома и распыляли инсектициды.
Из коридора приближается Ноэль, на ней длинная черная юбка и белая блузка с воланчиками на плечах. Она смотрит прямо на меня, а я оглядываюсь вокруг: мест нет.
Папа замечает ее приход и, повернувшись, спрашивает взглядом: «Сынок, не из-за этой ли девочки тебе стало лучше?» Вместо ответа я пожимаю плечами.
Ноэль подходит ко мне:
– Мне некуда сесть.
– Вот сюда! – Я вскакиваю и указываю на подлокотник. Она садится ровно посреди стула и говорит:
– О, какое тепленькое! Спасибо.
– Да я не это имел… А я куда сяду?
Она хлопает по подлокотнику.
– Вот блин!
Делать нечего, сажусь, и мы наблюдаем, как Блэйд продолжает кромсать вампиров. Общий разговор вертится вокруг операций, Луны, малодушия, проституции и работы в санитарном департаменте. Папа откинулся на спинку стула и опустил глаза, я понимаю, что сейчас будет. Как только он начинает дышать размеренно и тяжело, я отправляюсь прямиком к Смитти и говорю, что уже восемь часов.
– Хочешь, чтобы я вышвырнул твоего родителя? – спрашивает он.
– Мне нужно место для маневра, – говорю я.
– Ладно, – соглашается Смитти, и мы идем с ним по коридору.
– Мистер Гилнер… извините, но часы посещения закончились.
– А! Хм… – папа встает и спрашивает: – Ну ладно. Диск завтра принесешь, да?
– Ага. Спасибо, – говорю я.
– Молодец, хорошо, что обратился сюда за помощью, – говорит папа и обнимает меня. Мы обнимаемся долго и прямо напротив телевизора, но никто и слова не говорит. Смитти ждет в сторонке.
– Я тебя люблю, – бормочу я. – Даже если подросткам это и не полагается.
– Я тебя тоже люблю, – говорит папа, – даже если… э… Что-то нет у меня про это никаких шуток. Люблю, в общем.
Мы разделяемся, пожимаем друг другу руки, и папа удаляется по коридору. Не оглядываясь, взмахивает ладонью над головой.
– До свидания, мистер Гилнер! – хором прощаются те, кто обратил на это внимание.
Я наклоняюсь к Ноэль и шепчу ей на ухо:
– Ну все, с этим готово, осталось еще кое-что сделать, и увидимся у меня в комнате.
– Ладно.
Я направляюсь по коридору к себе в комнату, где нахожу распростертого на кровати Муктаду, застывшего в своей мертвенной летаргической задумчивости, на этот раз лицом к окну.
– Эй, Муктада?
– Да.
– Помнишь, ты хотел послушать египетскую музыку?
– Да, Крэйг, помню.
– Я тебе ее принес.
– Принес! – оживляется Муктада и стягивает простыню в сторону. – Где она?
– Пластинка у меня там, ну, знаешь, где мы кино смотрим.
– А, слышал я. Очень жестокое кино, мне такое нельзя.
– Да, верно. Но она в другом коридоре, там, за курилкой, я попросил Смитти поставить проигрыватель с египетской музыкой туда.
– И он поставил?
– Да, все готово. Хочешь послушать?
– Да, – говорит он, резко отбрасывая простыни в сторону, и есть в этом жесте надежда и решимость. Выбираться из постели ох как нелегко, уж я-то знаю. Можно пролежать часа полтора, ни о чем не думая, кроме того, какие дела тебя ждут и что ты с ними не справишься. А ведь Муктада так лежит уже годами. Долежал до того, что попал в больницу. А теперь он встает, и не из-за еды, а по-настоящему.
Я вывожу Муктаду из комнаты, мы проходим мимо сидящего на медсестринском посту Смитти, которому я киваю. Смитти открывает дверь, находящуюся у него за спиной, и, подойдя к проигрывателю, крутит ручку настройки: обычная, незатейливая музыка, играющая по радио, сменяется пронзительным струнным звучанием, которое перекрывает невероятно чистый голос, наполненный тоской и томлением. Голос, местами похожий на протяжный мужской вой, то устремляется на три ноты вверх, то искажается в такой модуляции, что я и не думал, что человек так может.
– Это же Умм Култум! – говорит Муктада.
– Ага! Э… а кто это?
– Это лучшая египетская певица! – восклицает он. – Как ты это нашел?
– Папа одного моего друга пластинки собирает.
– Как же долго я не слышал этих песен! – И он улыбается так широко, что, кажется, его очки вот-вот свалятся с носа.
В дальнем конце коридора, рядом с курилкой, раскладывает пасьянс Армелио. Завидев Муктаду, он интересуется:
– Что случилось, дружище? У тебя в комнате пожар? Почему ты вышел?
– Музыка! – Муктада указывает на проигрыватель. – Это египетская музыка!
– Дружище, так ты египтянин?
– Да.
– А я из Греции.
– Греки украли всю нашу музыку.
– Эту? – Армелио прислушивается, подняв голову вверх. – Дружище, это же совсем не похоже на греческую музыку.
– Муктада, может, присядешь? – предлагаю я.
Он осматривается, потом снова глядит на то место, откуда идет музыка.
– Лучше всего слышно возле колонки.
– Да, – соглашается Муктада и садится.
– А мне она не нравится, музыка эта, – говорит, снова прислушиваясь, Армелио.
– А какую ты любишь? – спрашиваю я.
– Техно.
– Просто… техно?
– Ага. Вроде такого – «унца-унца-унца».
– Ха-ха, – смеется Муктада. – А этот грек забавный.
– Еще какой забавный, дружище! Я всегда такой! Ты просто не знал, потому что из комнаты не выходишь. Не хочешь перекинуться в картишки?
Муктада встает, чтобы уходить, я останавливаю его, протянув руки вперед:
– Погоди, не уходи. Я знаю, что тебе нельзя играть в карты на деньги, но Армелио на них и не играет.
– Это знаю я, играть не хочу.
– Точно? Просто ему больше играть не с кем.
– Верно, все мои друзья смотрят это дурацкое кино. Хочешь, в пики поиграем? Я разгромлю тебя в пух и прах.
– Муктада, – обращаюсь я к соседу, готовому в любую минуту вскочить с места и убежать. – Помнишь, как ты спас меня от той девушки?
– Да.
– Так вот, я пытаюсь сделать то же самое и спасти тебя от твоей комнаты. Прошу, поиграй с Армелио.
Он смотрит на меня, потом на колонку.
– Хорошо, но только ради тебя, Крэйг. И еще только из-за музыки.
– Круто! – хлопаю я его по спине. – Армелио, ты полегче с ним, ладно?
– Ты же знаешь, дружище, что это невозможно!
Улыбаясь и помахав им на прощание, я ухожу по коридору, но, зайдя за угол, несусь как угорелый: у меня не так много времени. Впрочем, около Смитти я перехожу на неторопливый шаг и заруливаю в свою комнату как можно более спокойно. Ноэль уже там. Похоже, она следила за всем происходящим и уже сидит на моей кровати, глядя в окно.
– А ты ловкач, – шепчет она.
Я пожимаю плечами.
– Иди сюда, у тебя тут такой классный вид из окна.
Сорок девять
Я сажусь рядом с Ноэль, и все начинается прямо сразу, как будто так и было предначертано судьбой, хотя я в нее и не верю. Во что я верю, так это в биологические процессы, сексуальную привлекательность девушек и в то, что я их хочу. Я так задержался в развитии многих сторон жизни, что сам удивляюсь, как не отстал в этой. И что вот она, девушка, сидит передо мной, приоткрыв губы мне навстречу, и как у меня хватает смелости отвечать ей, трогать ее лицо и, ощутив шрамы, не отпрянуть, а тут же скользить руками к шее, гладкой и ровной. Мы склоняемся на подушку, она и я, но мои ноги до сих пор стоят на полу, как будто я сижу за партой и нижняя часть моего тела не участвует во всем этом, не имеет никакого отношения к ПО-ЦЕ-ЛУ-ЯМ.
– Ты красивая, – говорю я ей, остановившись.
– Тсс, нас услышат.
Она гладит меня по волосам, что напоминает мне о моих руках, пока что трогающих только ее шею, в то время как я пытаюсь понять, почему же Ноэль гораздо сексуальнее Ниа. Все дело в языке: у Ноэль он маленький и верткий – полная противоположность языку Ниа. Он такой вездесущий, так успевает скользить повсюду, что почти заполняет весь мой рот. Как будто мне открылась та глубоко скрытая и темная часть этой девушки, до которой еще никто не добирался. Ее язык, с силой размыкая зубы, проталкивается в мой рот, и мои глаза открыты, хотя, кроме освещенной рассеянным лунным светом Ноэль, в комнате смотреть больше не на что. Мы вжимаемся ртами друг в друга так, будто в наших глотках спрятаны призы и мы всеми силами стараемся добраться до них и выудить кончиками языков.
Блин, это так офигительно!
Я кладу руку на ее блузку, чему Ноэль совсем не препятствует, и наконец-то, вот они, прямо под нежной тканью – каждая со своей стороны, такие классные! У Ноэль они больше, чем у Ниа, заполняют всю ладонь, а вот что с ними делать, я не очень понимаю: обхватываю их ладонями, скольжу вверх и снова обхватываю. Может, попробовать их сдавить? Я так и делаю и смотрю на реакцию Ноэль – она кивает, и я снова сжимаю, теперь уже обе разом, одновременно скользя языком вниз по шее, и целую место, где могло бы быть адамово яблоко, но только на этот раз девушка настоящая.
Она двигает бедрами мне навстречу. Даже не бедрами, а пахом, это же так называется? У девушек тоже пах? Или есть более благозвучное название для этой части? Ну ничего себе, и как далеко мы зайдем? В общем, она прижимается этим местом, как бы оно ни называлось, ко внутренней части моих бедер, я сжимаю ее груди, лежа рядом с ней, а мои ноги почему-то болтаются в воздухе, стуча ботинками друг о друга.
Все, что мы делаем, – это трогаем друг друга, не произнося ни слова.
– Ты тоже меня хочешь? – нарушаю я молчание.
Она утвердительно кивает, а может, мотает головой в знак несогласия – я не знаю. Но все равно проникаю двумя пальцами правой руки ей под блузку и нащупываю что-то сетчатое вокруг ее тела – наверняка это лифчик. Я шарю по нему руками, но не знаю, ощущает ли она что-то. Интересно, через лифчик что-то чувствуется или нет?
Она издает такие звуки, будто вот-вот чихнет. Когда я сдавливаю ее грудь, она делает это интенсивнее, а когда шарю руками по лифчику, молчит. Тогда я погружаю обе руки ей под блузку и нахожу самую приподнятую часть – сантиметра четыре высотой.
– Погоди, – говорит Ноэль и, приподняв нижнюю часть тела, убирает под нее руки ладонями вниз. То есть теперь она вроде как без рук – те бездействуют, и это странно.
– Продолжай, – разрешает она.
– Ага, ладно.
Я скольжу пальцами поверх бюстгальтера в области сосков и сжимаю их фалангами среднего и указательного пальцев. Не думал, что через ткань лифчика что-то ощущается, но реакция следует незамедлительно.
– У-у-у…
– А? – вопросительно смотрю я на нее.
– М-м-м…
Как же это все прикольно.
– Тсс, – шепчу я, – Смитти услышит.
– Сколько у нас времени? – спрашивает она.
– Не знаю, не так уж много.
– Ты же позвонишь мне? Когда ты выходишь? Мы будем встречаться?
– Я очень хотел бы с тобой встречаться, – говорю я.
– Ну да, я тоже. Значит, будем встречаться, – улыбаясь, говорит она. – Только надо придумать, что мы будем отвечать про то, где мы познакомились?
– Скажем, что в психушке, и больше вопросов не последует.
Она глупо хихикает, то есть в самом деле смеется, и сексуальный настрой с нас уже слетает. Может, получится его вернуть, если снова сжать соски? Была не была!
– М-м-м…
Ну круто, осталось попробовать кое-что еще, на что меня подбивает внутренний голос. Тот же самый голос, что толкнул меня в объятия Ниа и который распоряжается нижней частью моего тела, впрочем, на этот раз звучащий более настойчиво. И хоть он и понимает, что все, чего он хочет, в этот раз не светит, однако настаивает на том, чтобы попробовать одну штуку.
Надо проверить, правда ли то, о чем говорил Аарон.
Я скольжу рукой вниз по телу Ноэль, мимо белой блузки с рюшами к черной юбке, ткань которой чувствуется немного по-другому. Веду руку дальше, вниз, к коленям – и недоумеваю, не встречая ни малейшего сопротивления, никто меня не отталкивает и не бьет по лицу. Задираю юбку, а там белье. Хотя чего там, не белье это, а самые настоящие трусики!
С ума сойти! Я сейчас все узнаю! Узнаю, как там!
– Отпад!
Ноэль ахает и охает.
– Ну точь-в-точь внутренняя сторона щеки!
– Что?
Она отталкивает меня, в мгновенье ока поправляет блузку, возвращает трусики на место, поправляет юбку и усаживается в изголовье кровати. Не спуская с меня глаз, она спрашивает:
– Ты что-то сказал про мои щеки?!
– Да нет же, тсс, – успокаиваю я ее. – Я не про щеки говорил, а… про… про другие твои щеки.
– Про мою попку?
Сердито глядя на меня расширенными от гнева глазами, она прикрывает щеки волосами, освещаемая лунным светом.
– Нет-нет, – шепчу я и продолжаю со вздохом: – Я сейчас объясню. Объяснить?
– Да!
– Ладно, но это не для женских ушей, сразу говорю. Только пацаны это знают. И тебе я говорю только потому, что мы собираемся встречаться.
– А может, и не собираемся. Так что ты там сказал про мои щеки?
– Нет-нет, это совсем не имеет отношения ни к твоим щекам, ни к порезам.
– Так про что ты?
Я рассказываю.
После моих слов повисает та ужасная, многозначительная пауза, которая может предвещать полнейший провал и потенциально содержит в себе вселенскую ненависть, крик и вопли – вместе с возможностью, что меня засекут в комнате с девчонкой, подумают, что я распутник, и оставят еще на неделю в больнице. Я больше не заговорю с Ноэль, у меня снова начнется Зацикливание, я перестану есть, двигаться, вставать с кровати и закончу как Муктада. Всегда единственное мгновение угрожает и полным провалом, но оно же не исключает вероятности, что красивая девушка скажет: «Тупее ничего не слышала» – и затолкает палец себе в рот, чтобы проверить твою версию.
Я обнимаю ее.
– Ну и что? – говорит она с засунутым в рот пальцем. – Ничего подобного. Там все совсем не так.
– Ты такая классная, – говорю я, чуть отодвинувшись и глядя на нее. – Почему ты такая классная?
– Ладно, давай уже пойдем, кино почти закончилось, – говорит она.
Я еще раз обнимаю ее, прижимая к кровати. В моих мыслях я взмываю к потолку и вижу нас сверху, потом оглядываю тех, кто в этом госпитале мог бы обнимать классную девушку прямо сейчас, потом в этом квартале, этом районе, во всем Бруклине, в Нью-Йорке, в районе трех ближайших штатов, в этом уголке Америки, а потом и во всей стране – мне это раз плюнуть, моими лазерными глазами я вижу сквозь стены, оглядываю все полушарие и весь этот идиотский мир, каждого, кто в нем целуется и обнимается на кроватях, диванах, футонах, стульях, диванчиках, в гамаках и палатках… и точно знаю, что я в тысячу раз счастливее их всех.
Часть десятая Четверг, шестой северный
Пятьдесят
Мама и папа, пришедшие меня забрать, приоделись по этому случаю. Я же одет в то, что носил все это время: брюки цвета хаки, футболку с цветными разводами и элегантные ботинки «Рокпорт», за которые я получал столько комплиментов, что уже чувствую себя вроде как пациентом продвинутого уровня. Другой одежды мама мне ни разу не приносила.
Они пришли пораньше, потому что папе надо на работу и он хотел меня увидеть до того, как уйдет. Мама остается дома на весь день, чтобы побыть со мной и убедиться, что все в порядке. А завтра, то есть в пятницу, я уже пойду в школу, где мне официально разрешено в любой момент, если почувствую, что депрессия возвращается, обратиться к медсестре. Вообще мне можно не ходить в школу целую неделю. Перегружать меня не хотят, и прийти просто рекомендовано. Очень даже неплохо.
На часах 7.45. Мне в последний раз замерили давление и пульс (120/80), и я стою в центральной части коридора, рядом с кабинетом медсестер, и смотрю на двойную дверь, в которую я вошел пять дней назад. Эти пять дней так для меня и прошли не быстрее и не медленнее. Люди постоянно говорят о реальном масштабе времени: котировки акций в реальном времени, информация в реальном времени, новости в реальном времени, а мне кажется, что я провел реальное время в реальном времени.
Мы с Армелио обмениваемся последним рукопожатием: «Удачи, дружище».
Хамбл считает, что мне нужно остаться еще ненадолго: «Там у тебя снова крыша поедет, чувак».
Бобби что-то мямлит, не разобрать – в такую рань от него толку не добиться.
Профессорша призывает меня не бросать рисование.
Смитти говорит, что слышал от Нила, будто я собираюсь стать волонтером, и он надеется увидеть меня когда-нибудь.
Джимми не обращает на меня никакого внимания.
Эбони предостерегает от лжецов и обманщиков, а также призывает всегда уважать детей.
Ноэль в спортивках и футболке выглядывает из своей комнаты в 7.50, как раз в эту же минуту привозят завтрак, и мои родители выходят из медсестринского кабинета, где они подписывали документы.
– Я выписываюсь днем. Позвонишь мне вечером?
– Конечно, – говорю я, притрагиваясь к бумажке с ее номером, лежащей в нагрудном кармане вместе с двумя ее записками.
– Как вообще настроение?
– Чувствую, что мне все по плечу, что я справлюсь.
– У меня такое же чувство.
– Ты правда классная девчонка, – говорю я.
– А ты дурачок, но перспективный, – поддевает она меня.
– Стремлюсь изо всех сил.
– Крэйг? – окликает меня мама.
– А, мам, пап, это Ноэль. Мы подружились здесь.
– А я видел тебя вчера, – говорит папа, пожимающий руку Ноэль.
– Рада познакомиться, – говорит мама.
Ни тот, ни другая и глазом не моргнули на ее шрамы – родители у меня что надо.
– Я тоже рада знакомству, – говорит Ноэль.
– Ты еще учишься в школе? – интересуется папа.
– Да, в «Преемнике», – отвечает она.
– Ой, нагрузка там не позавидуешь, – говорит мама.
– Ага.
– Мне кажется, пора уже менять всю эту систему. Ну сами посудите, вы же оба, умные, молодые, попали сюда из-за непосильной нагрузки.
– Мама…
– Я серьезно говорю. Вот возьму и напишу представителю нашего округа в конгрессе.
– Мама!
– Ладно, я пошла, – говорит Ноэль. – Увидимся, Крэйг. – Она поворачивается, слегка согнув ногу, и быстро машет мне ладонью, что считается за поцелуй, мне кажется. Не будь тут моих родителей, она бы точно меня поцеловала.
– Ну что, готов? – спрашивает мама.
– Ага. Всем пока!
– Подожди! – Из глубины коридора, настолько быстро, насколько он способен, приближается Муктада с пластинкой в руках.
– Крэйг, спасибо тебе. Ваш сын? – поворачивается он к моим родителям. – Этот мальчик очень мне помог.
– Спасибо, – говорят мама с папой.
Я обнимаю Муктаду и впитываю его запах в последний раз.
– Удачи, – говорю я.
– А ты вспоминай меня иногда и надейся, что мне лучше.
– Хорошо.
Мы разжимаем объятия, и Муктада перемещается в сторону столовой, откуда доносится запах пищи. Я смотрю на родителей и говорю:
– Ну что, пойдем?
Дальше – проще некуда: медсестры открывают нам дверь, и вот я снова вижу плакат с надписью «Тсс! Идет лечение», и мы выходим к площадке с лифтами.
– Мам, пап, можете пойти без меня? Догоню вас позже.
– Почему? У тебя все хорошо?
– Просто хочу немного прогуляться один.
– Проветриться и все обдумать?
– Ага.
– Но тебе же не стало… хуже?
– Нет, просто хочу пройтись сам.
– Мы возьмем твои вещи, – соглашаются они, забирают у меня сумку с грязной одеждой, пластинкой и рисунками и, помахав мне на прощание, заходят в лифт, направляющийся вниз.
Я жду примерно полминуты и нажимаю кнопку лифта.
Знаете что, вообще-то мне не стало лучше. Груз с плеч так и не упал, голове не стало легче. Я понимаю, что в любую минуту все может вернуться к прежнему, и я буду пролеживать часами в кровати, перестану есть, буду тратить время попусту и ругать себя за это, психовать при виде домашки, зависать у Аарона, поглядывать на Ниа и снова ревновать, садиться в метро и надеяться, что поезд сойдет с рельсов, снова уезжать на велике на Бруклинский мост. Это до сих пор со мной. Но кое-что изменилось: сейчас это не альтернатива, а только… вероятная возможность, которую я силой всеведущего разума могу в одно мгновение обратить в пыль и рассеять по Вселенной. Это всего лишь маловероятная возможность.
Я захожу в огромный блестящий лифт. Мне столько всего предстоит увидеть в настоящем мире. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, сначала пойду домой, разберу свои рисунки, а потом позвоню всем, кого знаю, и скажу, что перехожу в другую школу, и еще попрошу, чтобы больше не писали мне на почту, а звонили по телефону. Надо бы сходить в парк (и почему я раньше не ходил?), погонять с какими-нибудь детишками мяч или фрисби позапускать. У меня же выходной, и погода просто отличная.
Я прохожу через фойе, и меня настигает запах кофе, кексов, цветов и ароматических свечей из подарочного магазина – как же круто все это пахнет! Почему в госпитале «Аргенон» есть подарочный магазин? Мне кажется, такие магазины должны быть у каждого госпиталя.
Выхожу на тротуар и вдыхаю воздух полной грудью.
Вот он я, свободный человек. Конечно, я еще несовершеннолетний, но мы как-никак четверть жизни проводим в несовершеннолетии, так что надо стараться брать от этих лет все. И вот он я, свободный несовершеннолетний, стою и вдыхаю весенний воздух, обволакивающий меня как простыня.
Я не вылечился, но что-то со мной произошло, я получил нужную встряску. Я чувствую, как мое тело подобрано и прилеплено к позвоночнику. Слышу биение сердца, того самого сердца, которое тогда, рано утром в субботу, подсказало, что я не хочу умирать. Чувствую легкие, исправно служившие мне все эти дни в больнице. Чувствую свои умеющие рисовать и трогать девушек руки: «Подумай, чем тебя наделила природа, на что способны твои руки и ноги». Я чувствую, что ноги могут унести меня куда угодно: в парк или за его пределы, прокатить меня на велике по Бруклину или даже по Манхэттену, если я уговорю маму. Я с радостью ощущаю снова вернувшиеся к работе желудок и печень, и все жидкости, перерабатывающие еду. Но острее всего я ощущаю наполненный кровью мозг, поглядывающий на мир и замечающий шутки, лучи солнца, запахи, проходящих мимо собак и кучу всего, что есть на свете. Неудивительно, что все казалось мне таким ужасным, потому что вся моя жизнь заключена в мозгу, и если он был не в порядке, то естественно, что и все вокруг – тоже.
Я чувствую, что находящийся наверху позвоночника мозг поворачивается немного влево.
Вот оно! Это происходит у меня в мозгу, как только остальное тело приходит в движение. Я не знаю, что было с моим мозгом, куда его сбило в тот раз. Просто на него навалилось дерьмо, с которым ему было не совладать. Но теперь он вернулся, подключен к позвоночнику и готов ко всему.
И с какого фига я хотел покончить с собой?
Почти как я и ожидал, Сдвиг произвел во мне огромную перемену: теперь мой мозг не хочет думать, он хочет только действовать!
Бегать. Есть. Пить. Еще есть. Не блевать. А лучше помочиться. Потом сходить по-большому. Подтереться. Позвонить. Открыть дверь. Ездить на велике. Ездить в машине. Ездить на метро. Говорить. Разговаривать с людьми. Читать. Читать карты. Делать карты. Рисовать. Рассказывать о своих рисунках. Продавать рисунки. Писать контрольную. Ходить в школу. Праздновать. Устраивать вечеринку. Писать всем благодарственные письма. Обнимать маму. Целовать папу. Целовать сестренку. Целовать и трогать Ноэль. Трогать ее еще. Держать ее за руку. Пойти с ней куда-то. Познакомиться с ее друзьями. Побежать с ней по улице. Пригласить ее на пикник. Есть вместе с ней. Сходить с ней в кино. Посмотреть кино с Аароном. Да чего там, и с Ниа тоже, раз мы с ней друзья. Подружиться еще с кем-то. Пить кофе в маленьких кофейнях. Рассказывать людям свою историю. Стать волонтером и прийти в шестой северный, поздороваться со всеми, кто думал, что я вернусь в качестве пациента. Помогать людям. Помогать людям вроде Бобби. Приносить им книги и музыку, которую они хотели бы послушать. Помогать таким, как Муктада. Учить их рисовать. Рисовать чаще. Пробовать рисовать пейзажи. Учиться рисовать портреты. Попробовать рисовать обнаженную натуру. Нарисовать обнаженную Ноэль. Путешествовать. Летать. Плавать. Встречаться. Любить. Танцевать. Побеждать. Улыбаться. Смеяться. Держать. Гулять. Играть в классики (скакать). Как-то это по-гейски звучит, ну да и пофиг.
Кататься на лыжах. Кататься на санках. Играть в баскетбол. Бегать трусцой. Бегать. Бегать. Бегать. Бежать домой. Радостно бежать домой. Радоваться. Радоваться всем этим глаголам: они мои, я их выбрал. Я выбрал жизнь, и они принадлежат мне по праву.
Теперь я буду жить по-настоящему. Жить. Жить. Жить. Жить. Жить.
Нед Виззини провел в психиатрическом отделении для взрослых Методистского госпиталя на Парк-Слоуп (Бруклин) пять дней (с 29 ноября по 3 декабря 2004 года).
Эта книга написана автором в период с 10 декабря 2004 года по 6 января 2005 года.
Примечания
1
Merrill Lynch, «Меррилл Линч» – крупный американский инвестиционный банк.
Вернуться
2
Принцесса Зельда – вымышленный персонаж и один из главных героев серии игр The Legend of Zelda, разработанной компанией Nintendo.
Вернуться
3
SAT Reasoning Test (а также Scholastic Aptitude Test и Scholastic Assessment Test, дословно «Академический оценочный тест») – стандартизованный тест для приема в высшие учебные заведения в США.
Вернуться
4
Диззи Гиллеспи – джазовый трубач-виртуоз, вокалист, композитор, аранжировщик, руководитель ансамблей и оркестров, родоначальник современного импровизационного джаза.
Вернуться
5
Риталин – общее название метилфенидата. Он классифицирован Управлением по лекарственным препаратам США как препарат второй группы наравне с кокаином, морфином и амфетаминами. Им злоупотребляют из-за его стимулирующего эффекта.
Вернуться
6
Pixy Stix – разновидность сладостей от Nestle, порошковая конфета разных цветов и вкусов, упакованная в пластиковую или бумажную трубочку.
Вернуться
7
Имеется в виду Q*bert – аркадная игра, изданная компанией Gottlieb в 1982 г. Цель игры – проводя персонажа по верху пирамиды из трехцветных кубиков, перекрасить их в заданный цвет.
Вернуться
8
Айн Рэнд – американская писательница, автор бестселлеров «Источник» и «Атлант расправил плечи».
Вернуться
9
Мост напоминает губы с острыми уголками.
Вернуться
10
AOL (сокр. от America Online) – крупнейший американский интернет-провайдер.
Вернуться
11
Bear Stearns – в 2005 году один из крупнейших в мире инвестиционных банков и игроков на мировых финансовых рынках, базировался в Нью-Йорке.
Вернуться
12
Humble – в переводе с английского означает «скромный», «робкий», «слезливый», «униженный».
Вернуться
13
Яппи – субкультура молодых успешных людей, имеющих высокооплачиваемую работу и ведущих активный светский образ жизни.
Вернуться
14
«I Shot The Sheriff» (рус. «Я застрелил шерифа») – известная песня ямайского музыканта Боба Марли, написанная им в 1973 году.
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
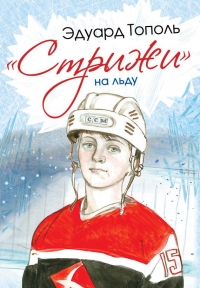







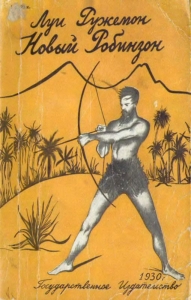

Комментарии к книге «Это очень забавная история», Нед Виззини
Всего 0 комментариев