Стэйси О‘Брайен Сова по имени Уэсли. История любви совы и человека
WESLEY THE OWL: THE REMARKABLE LOVE STORY OF AN OWL AND HIS GIRL
BY STACEY O’BRIEN
В оформлении книги использованы фотографии из личного архива автора
© Стэйси О’Брайен, 2008
© Вэнди Франциско, фотографии, 2008
© Максим Череповецкий, перевод на русский язык, 2018
© Livebook Publishing, оформление, 2019
* * *
Эта книга — невероятно добрая, трогательная, захватывающая и очень научная история жизни сипухи по имени Уэсли и его хозяйки. Сипухи — это такие очень красивые совы, отличительным признаком которых является лицевой диск в форме сердца. Совы и так выглядят как инопланетяне, а сипухи просто кажутся созданиями из другого измерения. Конечно, остаться равнодушным к таким симпатягам просто невозможно. А уж их интеллект! Оказывается, сипухи невероятно умные и эмоциональные птицы! Автор книги прожила со своей совой целых 19 лет, и за это время удалось выяснить массу удивительных фактов об этих птицах. Например, оказывается, пахнут они как кленовый сироп! А партнеров выбирают однажды и на всю жизнь! И еще много-много всего интересного и забавного можно узнать в этой книге. Для меня же как для биолога было очень занятно читать еще и о том, как живут ученые в Калтехе (Калифорнийский технологический институт). Читаешь и думаешь, ведь ученые — серьезные же люди и делают серьезные дела, а эта часть в книге одна из самых забавных. Но написано все так, что сразу хочется познакомиться со всеми коллегами и стать частью их «семьи». Книга непременно будет интересна всем, кто хочет знать больше о мире сов и познакомиться с миром ученых-орнитологов.
МАРИЯ РАХЧЕЕВА, директор Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева, кандидат биологических наук«Эта забавная книжка напомнила мне фильм "Марли и я", только здесь больше крыльев. Милый, странноватый и чудесный Уэсли — доказательство тому, что лучший друг человека может быть пернатым».
МАРК ОМБАСЦИК, автор книги «Важный год»«О’Брайен сумела познакомить нас с удивительным, непростым и абсолютно незабываемым животным. Перед этой историей невозможно устоять».
PEOPLE«"Сова по имени Уэсли" — это потрясающий опыт: смешной, трансцендентальный, удивительный и просто мощный. Мне безумно понравилась эта книга!»
ЛИНН КОКС,
автор книг «Грэйсон» и «Вплавь до Антарктики»«Стэйси О’Брайен рассказывает удивительную историю о том, как ее жизнь навсегда изменилась, когда она решилась приручить и вырастить сипуху Уэсли. Автор берет нас с собой на экскурсию в сознание животного, которое оказалось способно понимать человеческую речь и общаться. Поистине потрясающе!»
СТЕНЛИ КОРЕН, психолог и автор книг «Интеллект собак» и «Что с моей собакой?»1 Путь совы
ДОЖДЛИВЫМ УТРОМ в День святого Валентина в 1985 году я влюбилась в сипуху четырех дней от роду. Я уже год как работала в Калтехе (Калифорнийский технологический институт), и в тот день один из ученых пригласил меня к себе в кабинет. Он рассказал мне о совенке со сломанным крылом и добавил: «Стэйси, ему нужен настоящий дом».
Совенок был совсем крохотным и беззащитным, он мерз и даже не мог сам поднять головку. Глазки у него еще не открылись, и, если не считать пучка белых пуховых перышек на голове и трех полосок пуха на спине, тельце его было голым и розовым. Меня покорило, как бестолково он выглядит. Я никогда не видела существа более прекрасного в своей беззащитности. О, как же он был неуклюж! Его длинные тощие лапки нескладно торчали из тела, а еще слишком большие для них когти беспорядочно царапали всех, кто держал его в руках. На месте крыльев у него пока были два маленьких отростка, а громоздкая голова, делавшая его похожим на птеродактиля, беспомощно болталась из стороны в сторону. Он будто был собран из кусочков нескольких разных животных.
В обычной ситуации его поместили бы в центр реабилитации, где вскормили бы и приучили к жизни в дикой природе с помощью муляжей сов. Так биологи обычно растят птенцов, чьи виды оказались на грани вымирания — например, канадских журавлей или калифорнийских кондоров, — прежде чем выпускать их на волю. Но у этого малыша оказался поврежден нерв в одном из крыльев, и, хоть однажды он, быть может, и научился бы летать и даже иногда охотиться, больное крыло никогда не набрало бы достаточно силы, чтобы позволить ему выживать самостоятельно.
Как и все сипухи, малыш пах кленовым сиропом, но менее сладко — будто бы ирисками и мягкой подушкой одновременно. Многие биологи в Калтехе, где я работала и училась, частенько зарывались носами в перья на шее сов и вдыхали этот нежный, сладкий аромат. Он невероятно пьянил.
В нашей научной группе по исследованию сипух были ученые со всего мира. Семейство сипух насчитывает целых семнадцать видов, обитающих на всех континентах, кроме Антарктиды. Мы работали с Tyto alba — единственным видом, который живет в Северной Америке. Эти птицы встречаются по всему материку: от Британской Колумбии, через северо-восточные и до самых южных штатов, а также в некоторых регионах Южной Америки и Старого Света. Взрослые особи размером с ворона, примерно 18 дюймов от головы до хвоста, весят лишь около фунта, но размах их крыльев весьма внушителен и достигает почти четырех футов (три фута и восемь дюймов в среднем)[1]. А еще сипухи невероятно красивы — перья у них обычно белого с золотым окраса, а лицевой диск в форме потрясающе милого белого сердечка.
Но сердца тех, кто с ними работает, сипухи завоевывают не красотой, а характером. Все до единого ученые в Калтехе очень сильно привязались к своим птицам. Сова одного здоровяка как-то раз попыталась сбежать через вентиляционную систему здания и там поранила обо что-то лапу. А совы, надо сказать, очень чувствительны и нервозны. Рана была пустяковой, и ее моментально обработали, но сова, хоть ей и не было больно, отворачивалась от всех и отказывалась от еды. В те же сутки она умерла. Ее так сокрушило произошедшее, что она просто потеряла волю к жизни, и никто из нас не мог ничего с этим сделать. Когда ее не стало, тот детина, всхлипывая, долго баюкал ее тело на руках. Вот как глубоко в наших сердцах эти совы свили свои гнезда.
Такое трагическое поведение — не редкость для по натуре чувствительных и тонко организованных сов даже в дикой природе. К примеру, совы обычно выбирают себе одного партнера на всю жизнь и, когда он погибает, чаще всего не ищут ему замену. Вместо этого они поворачиваются лицом к дереву, на ветке которого сидят, и смотрят так в одну точку в глубочайшей депрессии, пока не умрут. Столь неизбывная печаль — яркий пример того, как горячи их чувства и глубока преданность партнеру. Таков Путь Совы.
Я переняла страстную любовь к животным от отца, который работал в одной из лабораторий Калтеха — лаборатории реактивного движения, сколько я себя помню. Он частенько брал нас с сестрой Глорией с собой в открытый океан, а иногда водил нас в Национальный парк Анджелес, начинавшийся практически у нас за забором. Он учил нас наблюдать за животными, не тревожа их, и каждая встреча с очередным зверьком была будто контакт с разумной формой жизни из другой вселенной, такой необычной и в то же время знакомой. Тогда я поняла, что у каждого животного есть своя неповторимая личность. Для меня завоевать доверие нового зверя было так же, как для астронавта — поговорить с инопланетянином.
Я научилась выманивать осьминогов из их укрытий под камнями на мелководье, вытянув руку и не двигаясь. Любопытство рано или поздно заставляло их протягивать ко мне свои щупальца, они робко исследовали мою руку, а затем, набравшись смелости, заползали на нее. Мы с Глорией все время выхаживали найденных нами птенцов, спасали ящериц от котов. Как-то раз, когда мне было четыре, мама при мне рассеянно смахнула паука со стены и смыла его в унитаз. Я накричала на нее и остаток дня проплакала, ведь в моих глазах паук был никому не причинившим вреда невинным существом, убитым безо всякой причины. Мама была ошарашена моей реакцией и пыталась меня успокоить, однако я и по сей день содрогаюсь при мысли о том, как легко и часто обрываются жизни братьев наших меньших.
Разумеется, моя тяга к животным распространялась и на более «привычных» зверей. Моей первой крепкой привязанностью, не считая родителей, был наш пес Людвиг — помесь колли и немецкой овчарки. Людди лежал под моей колыбелькой и сторожил меня, пока я спала, и приводил маму, когда я просыпалась. Он присматривал за мной, когда я начала ползать на четвереньках, а когда я впервые пошла, терпеливо позволял мне хвататься за шерсть на пузе, чтобы подняться с пола. Я клала руки ему на спину, цепляясь за мех, и он очень медленно и осторожно ходил со мной по дому. Когда я падала, он тоже припадал на пол, чтобы смягчить мое падение. Он научил меня ходить, и я до сих пор помню его неизменно мягкий и терпеливый взгляд во время нашей с ним возни. Думаю, именно дружба с Людди положила начало моей любви к животным, и я очень благодарна матери за то, что когда-то она приучила меня доверять Людди и любить его.
Моя любовь к «сложным», пушистым и многоногим животным не мешала мне в детстве набивать свою спальню всякими «экспериментами» — разными штуками в банках и ванночками с застойной водой, где обитали всевозможные формы жизни, за которыми я наблюдала в микроскоп. Как-то раз у меня в комнате жили одновременно две сотни шелковичных червей, превратившихся потом в мотыльков, которых мне приходилось вытряхивать из кровати, прежде чем лечь спать. В детстве я, и только я, была ответственна за уборку собственной комнаты, причем обязательно с применением дезинфицирующего средства. Никто, кроме меня, в комнату не заходил.
Когда мы с сестрой подросли, отец начал брать нас с собой на лекции в Калтех, где я впервые увидела героиню своего детства — Джейн Гудолл. Я непременно хотела пойти по ее стопам и отправиться в Африку, когда вырасту, и потому настояла на уроках суахили. После следующей ее лекции в Калтехе я подошла к ней и попробовала сказать что-то на новом для меня языке. Интересно, помнит ли она маленькую девочку со светлыми косичками, говорившую на суахили?
Мы с Глорией с детства профессионально пели в студиях звукозаписи Голливуда и продолжали заниматься этим в юности. Мы начали петь в составе семейной группы, когда мне было пять, а ей — три. Так как мы обе умели петь с листа (читать ноты и петь без специального обучения), уже год спустя мы работали в рекламе, записывали саундтреки и были бэк-вокалом на записях разных альбомов. Вы, наверное, слышали нас в семидесятых в рекламе «Макдоналдс», «Пицца Хат», «Литтл Фрискис», мороженого, «Грузоперевозок Бекинс», «The California Raisins» и многих других роликах. Помимо этого, мы с Глорией записывали бэк-вокал, к примеру, для Глена Кэмбелла, Барри Манилоу, Хелен Редди, «The Carpenters» и Джона Денвера, и участвовали в записи саундтреков ко второй и четвертой частям «Рокки», «Изгоняющий дьявола 2» и к нескольким мультфильмам Disney. Музыка — это у нас определенно семейное. Мой дедушка был ударником в эпоху биг-бендов, а брат отца — Кабби О’Брайен из оригинального состава мышкетеров в «Клубе Микки Мауса». Но несмотря на это, моя тяга к науке и любовь к животным привела меня на порог Оксидентал-колледжа — партнерской школы Калтеха, в которой тогда почти не было женщин, где я и получила диплом биолога в 1985 году. Студенты колледжа могли свободно записываться на любые курсы Калтеха и наоборот, что позволяло обоим институтам значительно расширять свои учебные планы. Мне все же больше была по нутру атмосфера в Калтехе, так что бóльшая часть моей учебы проходила именно там, что в итоге позволило мне на последнем курсе подрабатывать в калтеховском Институте биологии поведения, работавшем с приматами.
И вот однажды мне предложили должность в отделе, занимавшемся изучением сов. Я боялась, что после работы с обезьянами, так похожими на людей, работать с совами мне будет скучно. Тогда я, подобно многим, еще наивно полагала, что совы — это «просто птицы». Они были мне чужды, и я почти ничего о них не знала, кроме того, что они обычно летают по ночам. Кому это могло быть интересно? Мое знакомство с совами в то время ограничивалось бабушкиной коллекцией статуэток, и мне казалось, что настоящие совы не слишком от них отличаются. Но на той должности предлагали работу на полную ставку, а мне очень нужны были деньги. Вдобавок это была возможность поучаствовать в исследовании. Одним словом, работа для начинающего биолога была идеальная — я могла многому научиться у более опытных коллег.
Я согласилась работать с совами и всего за шесть месяцев полюбила этих чутких и бойких крох так же, как любили их маститые ученые, которые занимались ими на протяжении уже многих лет.
— Стэйси, — сказал один из ученых, доктор Ронан Пэнфилд, — зоопарки и приюты и так кишат совами, которых пока еще нельзя выпускать на волю, а этого совенка надо куда-то пристроить. Заберешь его к себе домой — получишь уникальную возможность изучить досконально повадки сов, которую не может дать академическая среда.
— Вы что, предлагаете мне взять его к себе насовсем?
— Именно так. Бери, пока у него еще закрыты глазки — он к тебе мигом привяжется, и ты сможешь наблюдать за ним, записывать звуки, которые он издает, изучать поведение…
Я была одновременно обрадована и напугана — я боялась огромного груза ответственности за эту маленькую жизнь. Я смотрела на доктора Пэнфилда, пытаясь понять, шутит он или говорит всерьез.
— …При близком общении с ним тебе может открыться много нового, того, что мы не сумели рассмотреть издалека. Мне кажется, это исследование существенно дополнит и даже изменит наше представление о сипухах в целом. У тебя будет возможность регулярно сообщать нам о своих находках.
Несмотря на мои страхи, мне захотелось перепрыгнуть через стол, сгрести доктора в охапку и прокричать: «Да, я готова!» Разумеется, вместо этого я глубоко вдохнула и попыталась настроиться на профессиональный лад.
— Мне нужно будет кое-что подготовить, но я с радостью возьму его.
Мне предстояло растить у себя дома одно из самых красивых животных на земле. Сипухи сильно отличаются от остальных сов. Они даже принадлежат к отдельному семейству Tytonidae, тогда как все прочие совы относятся к семейству Strigidae, что означает «совы обыкновенные». Я обожала все виды сов, но возможность познакомиться поближе с представителем единственного вида нетипичных сов, обитавшего в Северной Америке, была просто подарком свыше.
Самые древние ископаемые останки первых птиц, Archaeopteryx, относятся к верхнеюрскому периоду — 150–155 миллионов лет назад. Они еще во многом напоминали динозавров, но уже, несомненно, были птицами. С тех пор видовое разнообразие птиц значительно увеличилось, совы как вид появились много позже. Мой совенок был живым кусочком истории.
Самые старые ископаемые останки сипух относятся к палеоценовой эпохе (65–57,8 миллиона лет назад). Род Tyto (современные сипухи) появился примерно в середине миоцена (23,7–5,3 миллиона лет назад), а в эпоху плиоцена (5,3–1,6 миллиона лет назад) и плейстоцена (1,6–0,01 миллиона лет назад) разделился на виды. Вид, к которому относился Уэсли, Tyto alba, появился в эпоху плейстоцена. Несмотря на то, что совы иногда всплывают в дискуссиях, посвященных рапторам, на деле считается, что они биологически ближе к козодоям, чем к диурнальным (дневным) хищным птицам (Falconiformes). Козодои, в частности, козодой жалобный, действительно выглядят как некое промежуточное звено между обычными птицами и совами.
До того, как я стала работать с совами, я никогда не слышала о козодоях и пролистывала в книгах страницы с описанием того, сколько миллионов лет назад возникло на земле то или иное животное. Но с появлением у меня собственного совенка я начала жадно впитывать в себя подобную информацию. Его «племя» жило здесь, наверное, совсем недалеко, уже больше полутора миллионов лет! Сильнее всего поражало, что на протяжении всех этих лет каждый из его предков умудрился спариться, и его птенец выжил, вырос и спарился сам. И так 1,6 миллиона лет. Цепочка ни разу не прервалась, ведь если бы это случилось, Уэсли не было бы. Разумеется, эта логика справедлива для каждого, кто живет на этой планете, и это кажется невероятным чудом.
Некоторые ученые считают, что птицы произошли от динозавров, и, глядя на лапки и клюв моего совенка, особенно до того, как у него стали появляться перья, в это охотно верилось. Последние исследования в области палеонтологии показывают, что некоторые динозавры были теплокровными и пернатыми. И, подобно современным птицам, они растили своих детенышей в гнездах, кормя и защищая их.
Еще одна отличительная черта сов — это их мозг, который кардинально отличается строением от мозга большей части позвоночных. Кора головного мозга сипухи предназначена в основном для обработки звука, а не визуальных образов. Мне было интересно, как это повлияет на взаимодействие совенка со мной и с моим визуально-ориентированным домашним пространством. Он наверняка воспринимал все совершенно иначе, не так, как мы. Его мировосприятие сильно отличалось даже от собачьего, так как собаки получают бóльшую часть информации об окружающем мире при помощи обоняния и зрения. Собаки — млекопитающие, причем социально-ориентированные, а потому за тысячу лет мы нашли с ними общий язык и научились жить вместе. Отдельные ученые даже полагают, что мы с собаками помогли друг другу эволюционировать и стать такими, какие мы есть сейчас. Но ужиться с асоциальным животным непросто. Совы не живут стаями, вместо этого проводя почти всю свою жизнь вдвоем с партнером.
Совы крайне интересны не только своей историей и физиологией, но и своим неповторимым характером. Они по натуре игривы и любознательны. Знакомая одного моего друга как-то раз спасла маленькую североамериканскую сову, и та, по ее словам, вела себя совсем как котенок с крыльями. Она рассказывала, что та невысоко взлетала и набрасывалась на предметы, точь-в-точь как котенок. Совы бывают очень изобретательны. Однажды я проходила мимо одной из комнат в «совиной» лаборатории Калтеха и увидела, как сова развлекалась игрой — она сбрасывала со стола карандаш, наблюдала за его падением, а потом, когда он уже катился по полу, слетала со стола, разворачивалась в полете, примериваясь, и хватала карандаш с пола. Я видела, как некоторые постдоки[2], думая, что на них никто не смотрит, разговаривали с совами, терлись носами об их клювы, целовали их и играли с ними. Они вели себя так, как люди ведут себя с собаками, и, кажется, удовольствие было взаимным. Могла ли такая связь появиться у меня с моим совенком? Я была намерена это выяснить. В конечном итоге именно подобное любопытство и желание узнать животное максимально близко, познакомиться с ним и, возможно, научиться у него чему-то и двигает людьми, которые становятся биологами и натуралистами. То же любопытство двигает учеными, заставляя их всматриваться в телескопы в попытках узнать нечто новое о какой-то планете или неизведанной звездной системе. Возможно, это и был мой шанс познакомиться по-настоящему с диким животным, шанс, которого я ждала с самого детства. Мне не пришлось ехать за тридевять земель и ломиться сквозь джунгли Африки или Амазонки ради встречи с ним — мой совенок сам нашел меня.
2 Мы обязаны жизнью тем, кого приручили
В ТЕ ДНИ я снимала комнату у своей лучшей подруги, Вэнди, которая жила с мужем в Южной Калифорнии в чем-то вроде ранчо — у всех в округе были лошади и другой домашний скот. У самой Вэнди, например, жили куры, стая шумных гусей, андалузский жеребец и неразлучная парочка — коза и кобыла. Вэнди была художником и музыкантом. Они с мужем часто уезжали на гастроли, а я в это время присматривала за животными. К тому же она тогда была беременна, и ей в скором времени должна была понадобиться моя помощь с малышом.
Мы дружили с тех самых пор, как я однажды умудрилась обыграть ее в салки с ленточками на лошадях в летнем лагере в горах Сан-Бернардино, где она в то время преподавала верховую езду. У Вэнди были свои абсолютно неповторимые отношения с лошадьми, и многие свои приемы работы с дикими животными я переняла именно у нее. Когда мы познакомились, мне было всего двенадцать, а ей — восемнадцать, но разница в возрасте оказалась неважна, поскольку у нас нашлось множество общих интересов, в частности, страсть к музыке. Вэнди фотографировала свою кобылу в амбаре, когда я впервые рассказала ей об увечной пернатой сиротке. Мне было неловко просить разрешения на то, чтобы притащить в дом совенка, но она лишь улыбнулась и потрепала лошадь по загривку.
— Сипуха! Чудное будет пополнение в нашей семейке!
— Вэнди, — сказала я, — тебе придется терпеть дохлых мышей в морозилке. И порезанных — в холодильнике. Ты уверена?
— Мясо есть мясо, — пожала плечами она.
— Много дохлых мышей, Вэнди.
— Много? Много — это сколько?
— Ну, со временем — тысячи, наверное.
— А сколько вообще в среднем живут сипухи? — спросила она.
— В неволе — не знаю. Возможно, лет пятнадцать-двадцать.
— Мой тебе совет — бери, — сказала она. — Такой шанс выпадает лишь раз в жизни.
В дикой природе сова-отец постоянно охотится. Он должен обеспечивать потомство едой, примерно шесть мышей на одного совенка за ночь. В среднем помет состоит из пяти птенчиков. Вдобавок отцу семейства приходится кормить еще и самку, которая почти никогда не покидает гнезда, и ей требуется порядка трех мышей в день. Наконец, ему самому необходима пища — около четырех мышей в день. Итого получается плюс-минус тридцать семь взрослых мышей на одну ночь в сезон гнездования.
Отец семейства вечно издерган, в его ушах постоянно стоят требовательные крики и визги, доносящиеся из гнезда. Самец в дикой природе беспрестанно охотится, несясь после удачного «рейда» как сумасшедший обратно в гнездо с добычей, где его уже ждут голодные птенцы, которые тут же окружают отца и буквально отнимают у него еду. Когда малыши подрастают, самец к ним уже не приближается, а зависает в воздухе над гнездом, сбрасывая груз с безопасной высоты и тут же снова улетая на промысел.
В дикой природе сипухи обычно живут недолго. По статистике лишь одной из пятнадцати удается прожить хотя бы год. Их сбивают машины, так как они часто летают на высоте, не превышающей высоту грузовика или даже легковушки, а яркий свет и шум на дороге сбивают их с толку и дезориентируют. Они погибают, влетая в оголенные провода, и насмерть травятся мышами, съевшими отраву, — совы в принципе крайне подвержены отравлениям. Пожалуй, основной причиной снижения популяции сипух является потеря естественной среды обитания. Периодически птенцы становятся жертвами домашних кошек, которых выпускают гулять на улицу, не говоря уже о енотах, рысях, пумах, койотах, более крупных видах сов — таких как пестрая неясыть, — или других птиц — полевых луней, ястребов и орлов. Напав целой стаей, сипуху способны заклевать насмерть и более мелкие птицы, типа воронов и даже ворон. Хуже всего, пожалуй, то, что их отстреливают люди, из нелюбви к пернатым хищникам или даже просто «для развлечения», несмотря на то что это является нарушением федерального уголовного кодекса и за это полагается реальный срок в придачу к большому штрафу. Одна из пятнадцати сипух, которой посчастливилось дожить до двух лет, неизбежно сталкивается со всем этим. В дикой природе самка обычно откладывает по одному яйцу в день пять дней подряд. Через некоторое время птенцы вылупляются, также по одному в день — каждый не только на день младше, но и меньше предыдущего. Растут они быстро, но первенец всегда будет самым большим и сильным в помете, второй будет поменьше и послабее, а последний — самым слабым и маленьким. Первыми родители всегда кормят самых сильных и агрессивных птенцов, пока те не наедятся. В урожайный год выживают все, но если пищи немного, младшие гибнут от голода. Это может показаться жестоким, но лучше уж так, чем недокормить и погубить всех.
Конечно, некоторых слабых, «бракованных» и травмированных сов, которым удается дожить до случайной встречи с добрым и сердобольным человеком, приносят в центры реабилитации, как моего совенка.
У нас в Калтехе многие прирученные совы привязывались к одному определенному ученому и обретались в основном у него в кабинете. Хотя, сказать по правде, в их распоряжении быстро оказывался весь этаж. Дикие совы жили все вместе в птичниках, расположенных в длинных и пригодных для полетов амбарах рядом с основными зданиями. Мне посчастливилось работать в команде энтузиастов над действительно важными проектами, причем в расслабленной, дружеской и теплой атмосфере. В наши задачи входило как можно более пристально наблюдать за птицами, чтобы как можно лучше их понять. Доктор Пэнфилд сам почти двадцать лет регулярно забирал свою сову к себе домой.
Из-за отсутствия видимых половых признаков, отличить самца совы от самки на глаз не сможет даже специалист — для этого требуется небольшая хирургическая операция, обнажающая гениталии. Мы с доктором Пэнфилдом оба не горели желанием класть своих птиц под нож, так что их пол нам пришлось угадывать. Мы сошлись на том, что у нас обоих самцы, однако к вящему удивлению и огорчению Пэнфилда его «любимец» к пятнадцати годам таки снес яйцо.
Летают совы быстро, даже если они непригодны для жизни в дикой природе, так что нам в лаборатории частенько приходилось, завернув за угол, тут же отпрыгивать с траектории полета несущейся на всех парах птицы. В нашем большом и просторном конференц-зале были окна от пола до потолка, и если мы ясным калифорнийским днем забывали задернуть занавески, какая-нибудь сова могла врезаться в стекло. К счастью, совы от природы хорошо «амортизированы» многими слоями пуха и перьев, так что в их случае, в отличие от прочих птиц, обходилось без смертей и даже сколько-нибудь серьезных травм. Зато все окна были покрыты комичными мультяшными отпечатками сов в местах, где к стеклу при ударах прилипали маленькие перышки.
Ручные сипухи были неотъемлемой частью нашей жизни. Они свободно перемещались по нашим кабинетам — иногда гордо вышагивали, иногда носились по воздуху, как маленькие пернатые истребители, иногда спокойно планировали или зависали в воздухе. Создавалось ощущение, что мы работаем в Хогвартсе, разве что вместо почты совы оставляли нам отрыгнутые шарики корма в кофе. Естественно, непосвященных столь вольготно живущие в лаборатории совы вводили в ступор. Как-то раз к нам пришел электрик — в здании что-то было не так с системой электроснабжения, и на него из-за угла вдруг вылетела сова. Бедный парень душераздирающе завопил и упал ничком, закрывая руками голову и крича что-то на испанском. Дело в том, что в Мексике совы считаются предвестниками смерти, им часто приписывают магические способности, и вообще, встретить сову там — крайне дурная примета. Я подбежала к несчастному и принялась объяснять на испанском, почему у нас в помещении сова, а он в ужасе смотрел на меня сквозь пальцы и крупно трясся. Видимо, он мне не поверил, потому что вскоре вскочил и рванул в сторону ближайшего выхода.
Я же, подобно коренным народам Южной Калифорнии, верящим, что сов посылают нам духи в качестве проводников во тьме, считаю сов добрым знаком. Сипухи на протяжении многих тысячелетий оказывали неоценимую помощь фермерам, снижая численность мышей в амбарах и зернохранилищах. Конечно, они послужили основой для многих малоприятных мифов, например о кельтских банши — оглушительно кричащих ночных призраках, или о «домах с привидениями». Крик вылетающей из заброшенного дома сипухи действительно может показаться жутким, если не знаешь, с чем имеешь дело. Наш современник, вероятнее всего, сравнит этот визг со звуком фуры, на полной скорости давшей по тормозам. Представьте, что в такой ситуации происходило в голове человека, жившего до промышленного переворота! Естественно, ничто иное, кроме жуткого демона, таких звуков, по его мнению, издавать не могло.
Но у меня сложилось иначе — каждый раз, когда я стояла на распутье и мне нужно было принять важное решение, в моей жизни появлялась сова, словно помогая мне сделать верный выбор. Одним воскресным вечером, возвращаясь с гор Сьерра, где я отдыхала на выходных, я ехала по проселочной дороге, опустив левое стекло и наслаждаясь ветерком. И тут вдруг откуда-то сверху спустилась сипуха и полетела рядом с машиной. Она летела так близко, что почти касалась моего плеча кончиком крыла, я могла протянуть руку и дотронуться до нее. Я ехала под горку и придерживала скорость, чтобы не упускать ее из виду, и тут она обернулась и встретилась со мной взглядом. Мы обе взглянули в сторону движения, а потом снова переглянулись! Так мы и ехали, пока дорога не свернула, и я поехала по ней дальше, а сипуха полетела прямо в сторону поляны. Это была потрясающая встреча, и она придала мне уверенности в одном деле, которым мне предстояло заняться по приезде домой.
Когда я начала работать в институтском совятнике, помимо сипух, там жили несколько осиротевших виргинских филинов, кроличьих сычей и ушастых сов. Их, как особей других видов, мы приютили скорее из сострадания, чем ради науки. В отличие от ручных сипух, которые жили в основном в наших кабинетах, диких сов мы иногда кормили не только мышами, но и крысами, так как последних легче было достать. Обычно мыши бывают размером с батончик «Сникерс» и совы глотают их целиком, не оставляя следов, что позволяет немного экономить на уборке, однако мыши довольно дороги и раздобыть их непросто. Вот потому и крысы.
Одна из научных лабораторий, у которой мы заказывали крыс, видимо, вела исследования, связанные с генетикой — потому что размер их «товара» составлял не менее двух футов. Их привозили целыми и замороженными, и нам приходилось рубить их на кусочки мясницким тесаком. Мы раскладывали оттаявшие мохнатые крысиные «котлеты» в длинных проходах совятников, где их на лету подбирали наши питомцы. Иногда кусочек мяса случайно проваливался в щель между половицами и падал в бурлящее море тараканов примерно тремя футами ниже. Они моментально расправлялись с мясом, но у них была прегадкая привычка иногда выбираться наверх и нагло ползать по полу у всех на виду. Совы жили примерно в двадцати-тридцати футах над всем этим безобразием.
Поскольку нам не хотелось приближаться к наиболее диким и нервным совам и лишний раз подвергать их стрессу, мы ежедневно сгребали подгнивающие останки крыс в кучу в задней части совятника. Вонь, естественно, стояла совершенно нечеловеческая.
Биолог, несомненно, обязан быть стойким и спокойно переносить подобные отвратительные явления. В ученых кругах это вопрос авторитета. Моими обязанностями были кормежка и уборка, так что плюс-минус каждые три месяца я входила в совятник в дождевике, сапогах, перчатках и шлеме с щитком. Я перекладывала лопатой зеленоватые кучи гнилой, кишащей личинками крысиной биомассы в большие мусорные мешки и тащила их к мусорным контейнерам. Фу-у-у-у-у-у-у. На меня с мелким стуком сыпались личинки, а запах подобно невидимому зверю крутился вокруг меня, залезая в каждый обонятельный рецептор и в каждую пору моей кожи. Для повышения шансов на выживание человек на уровне инстинктов запрограммирован бежать от смерти и разложения; мне и впрямь хотелось сбежать, но приходилось превозмогать инстинкты и делать свою работу. Зато я по праву гордилась тем, что ни разу не потеряла там сознание.
Недостатки подобной системы кормления были очевидны, поэтому со временем мы, не пожалев нескольких миллионов долларов, построили в другом здании специальные совятники с благословенной системой автоматической очистки подпола. Когда пришло время переселять сов, мы отловили их специальными эластичными сетями и посадили в картонные кошачьи перевозки на время короткого путешествия. У сов было свое мнение на этот счет, которое они не стеснялись открыто выражать — они орали от ярости всю дорогу до нового места жительства, пока их не выпустили. Мало какие звуки в природе могут заставить волосы на загривке встать дыбом так же, как это делает крик разъяренной сипухи, а из-за того, что пернатые находились в закрытых кошачьих перевозках, естественно, тут же поползли слухи о том, что мы мучим кошек. Ну конечно, и возим их, орущих во всю мощь, по кампусу в коробках с большими нарисованными котиками. После работы с таким количеством сов разом перспектива ежедневного ухода за одним-единственным совенком казалась сущим пустяком. Мне не нужно будет следит за огромным совятником с самоочищающимся подполом, климат-контролем и симуляцией смены времени суток. Понадобится лишь несколько специальных приспособлений, вроде совиного насеста; сов нельзя держать в клетках — они склонны ломать крылья о прутья. Сова будет жить у меня в спальне вместе с моими зебровыми амадинами[3], и я просто буду каждый день за ней убирать. После того, как я согласилась взять совенка к себе, я толком не спала ночью, думая о маленькой судьбе, которой суждено было вскоре переплестись с моей. Если я заберу его к себе, то он уже никогда не сможет жить в совятнике при лаборатории вместе с остальными совами, равно как и в любом другом, поскольку он несомненно привяжется ко мне. Одна лишь я смогу подарить ему счастливую, беззаботную жизнь. Он будет целиком зависеть от меня и физически, и эмоционально, и случись мне когда-нибудь бросить его, я обреку его на верную смерть от страха, горя и неопределенности.
Я даже не помню, как добралась до Калтеха на следующее утро. Я вбежала в кабинет Пэнфилда и сказала, что готова взять совенка. Он лежал в инкубаторе, и я потянулась к голому и беспомощному малютке. Держа его в своей ладони, я чувствовала, что готова до последнего защищать его от всего на свете. Глядя на нас с совенком, доктор Пэнфилд улыбнулся.
— Мы обязаны жизнью тем, кого приручили, — сказал он.
3 Совиное детство
Я НАЗВАЛА совенка Уэсли. Имя казалось идеальным; достаточно милое для малыша и в то же время достаточно изысканное и достойное для гордого хищника, в которого ему предстояло вырасти. Я впервые встретилась с ним в День святого Валентина, и к тому же лицевой диск сипух похож на белое сердечко, так что вторым его именем стало Валентин. Аккуратно держа совенка в руках, я поднесла его к щеке и сказала: «Я теперь твоя мама». Я положила его в глубокий карман лабораторного халата, осторожно накрыла рукой, чтобы он там не замерз, и так и носила от здания к зданию, собирая все необходимое для сооружения гнезда, включая бумажные одеяльца, которые я захватила из дома.
С тех пор Уэсли всегда был со мной. Я даже за продуктами ходила, держа его в руках, спеленутого в одеяльце, чтобы он не замерз той холодной зимой. Периодически люди просили показать «малыша», а когда я разворачивала одеяло, отпрыгивали с криком: «Это что, динозавр?!» Оказывается, мир полон образованных взрослых людей, платящих ипотеки и держащих акции, которые считают, что в продуктовом магазине можно встретить человека с маленьким динозавром в руках.
Ученые в Калтехе выяснили, что совы охотятся, ориентируясь на звук добычи — не при помощи эхолокации, как летучие мыши, но наводясь на едва слышные звуки, издаваемые жертвой, определяя ее местоположение при помощи слуха. Человек, оказавшись в лесу, ориентируется среди деревьев, опираясь в основном на зрение. У сов же, несмотря на хорошо развитое ночное видение, основным органом чувств являются уши. Каждая сипуха «видит» какофонию малейших шумов в лесу — звуки, издаваемые животными, шуршание листвы, дуновения ветра. Плоские, напоминающие по форме спутниковые тарелки лица сипух улавливают и фокусируют звуковые волны, направляя их к ушам. В отличие от людей, у которых уши расположены ровно друг напротив друга по сторонам головы, у сов уши расположены несимметрично — одно выше другого, что позволяет совам гораздо точнее определять источник звука. Кора довольно большого головного мозга у сов предназначена для обработки аудиоданных и создает «звуковую карту» окружающего пространства, так же как наш мозг создает «визуальную карту». В результате сипуха способна, подобно боеголовке, «навестись» на мышь сквозь три фута снега по одному лишь ее сердцебиению, а звук ее шагов может уловить на огромном расстоянии.
Зная это, я постоянно разговаривала с Уэсли, пока его глаза еще не открылись, чтобы, когда это случится, он уже привязался к моему голосу. То же самое происходит и в дикой природе — птенец еще в яйце слышит, как его родители общаются. Впервые открыв глаза, Уэсли уставился прямо на меня.
— Привет, Уэсли, — сказала я.
— И-и-и-и, — хрипловато, но мягко ответил совенок, заглядывая мне в глаза.
Как у всех сипух, у Уэсли было две пары век — под розовыми внешними веками с красивыми белыми ресницами (на самом деле — миниатюрными перышками) располагались мигательные перепонки небесно-голубого цвета. Настоящая мама-сова все делала бы так же — незадолго до вылупления птенцов она начинает щебетать с ними. Когда у малышей открываются глазки, они устанавливают зрительный контакт с родителями и братьями-сестрами, продолжая издавать звуки. Особенно неотрывно они смотрят, когда просят еды или внимания матери. Уэсли тут же вперился в меня взглядом, пытаясь наладить со мной контакт и щебеча без остановки. Я была поражена тем, как пристально и ясно он на меня смотрел.
Глаза у Уэсли были идеального, непроглядного черного цвета. Едва открывшись, они уже заворожили меня некой великой тайной. Взгляд в его глаза был сродни взгляду в бесконечность, во что-то далекое и необъятное. Это был поистине невероятный, почти потусторонний опыт, я никогда не уставала теряться в глубине его глаз. Многие из тех, кто встречал Уэсли, замечали это и потом не могли объяснить словами мощный характер, личность, которую они увидели в этих глазах.
Как и у всех сов, глаза Уэсли были зафиксированы в глазницах, так что воспринимать глубину «картинки» он мог, лишь двигая головой из стороны в сторону. Под белым пухом у него скрывалась очень длинная тонкая шея, позволявшая ему поворачивать голову самым немыслимым образом, в том числе на 180 градусов и даже больше — страшноватая привычка, которой славятся совы. В дикой природе они способны преспокойно сидеть, развернув голову назад и наблюдая одновременно за потенциальной добычей и хищниками. Будучи еще покрытым белым пухом, Уэсли частенько доводил меня до дрожи, когда я внезапно осознавала, что он наблюдает за мной, сидя ко мне спиной. И несмотря на абсолютную естественность, смотрелось это дико и даже потусторонне, будто какая-нибудь сцена из «Изгоняющего дьявола». «Уэсли, не пугай меня так!» — говорила я.
Уэсли сходу усвоил первое совиное правило — не гадить в гнезде. Совы от природы очень чистоплотны, и перед тем, как сделать свое черное дело, Уэсли пятился, чтобы его попа оказалась как можно дальше от края «гнезда», которое я для него соорудила. Когда он начал ходить по полу, то, желая сходить в туалет, он пятился, высоко подняв попу, пытаясь найти край ковра. И пройти так он мог довольно существенное расстояние. Он явно считал ковер подкладкой гнезда, так что однажды мне пришла в голову идея подложить ему бумажное полотенце, дойдя до которого он замечал изменение текстуры под ногами, решал, что дошел до края гнезда, и с видимым облегчением какал.
Надо сказать, что при описании акта дефекации, включая конечный продукт жизнедеятельности, биологи склонны использовать научный термин «какать» и производные от него. Это весьма удобно. Есть целая область биологии, весьма популярная, кстати, которая связана с исследованиями кала, который не стоит путать с какашками. Несмотря на то что технически это одно и то же, калом мы называем объект исследований, направленных на изучение рациона питания и состояния здоровья животного. Когда животное какает на нас или загаживает нечто важное, мы обычно изъясняемся в терминах «дерьмо» или «срать» с производными. Например: «Да твою ж, он мне на загривок насрал». Иными словами, на полу — какашки, под твоим микроскопом — кал, а по шее стекает дерьмо. Это важно.
Уэсли не только выдавал существенный объем горячих слизистых какашек (и некоторое количество дерьма), но был еще и обладателем очень едкой слюны, которая ощутимо жглась, когда он целовал меня в щеку. Эта слюна — первая ступень невероятно сложной и мощной пищеварительной системы, позволяющей сове полностью переварить взрослую мышь примерно за час. Она также защищает сов от вредоносных бактерий, поглощаемых ими вместе с не слишком свежим мясом. Переварив мышь в своем двухкамерном желудке, они выплевывают погадку — шарик из шерсти и костей без единого миллиграмма мяса. Эти погадки сейчас, кстати, в большом ходу — они нужны школам и колледжам для уроков биологии, поскольку каждый такой шарик содержит полный скелет грызуна. Вскрытие погадки знакомит студентов с одним из способов определения привычек и рациона диких животных. Если бы я знала об этом, выбрасывая шарики Уэсли в мусор… Сегодня их продают в совятниках направо и налево. Из едкого совиного желудочного сока погадки выходят довольно чистыми, в отличие от кошачьих шерстяных комков, а потом быстро высыхают и затвердевают. Со временем они разлагаются и, будучи оставленными в гнезде, становятся мягкой и пушистой подстилкой. Многие принимают их за какашки, но совиный организм четко разграничивает отходы. Совиные какашки на вид ничем не отличаются от какашек других птиц.
В отличие от прочих сов, у сипух есть защитный механизм, такой же по принципу действия, как у скунсов. В случае угрозы или сильного стресса они выстреливают сзади густой темно-коричневой жидкостью с отвратительным запахом. Выделяет ее, правда, не специальная железа, как у скунсов, но отпугивающего фактора это не умаляет. Лично мне такую свинью Уэсли никогда не подкладывал, но иногда в особо неприятных стрессовых ситуациях он этот механизм все же применял. Обычно я успевала среагировать, поймать темную жижу на полотенце и выбежать из дома к мусорным бакам, иначе весь дом пришлось бы эвакуировать в срочном порядке. Периодически Уэсли выделял эту гадость без видимых на то причин — возможно, это был еще и способ выведения из организма токсинов. Вэнди родила вскоре после того, как Уэсли вошел в мою жизнь, так что ребенок и совенок были примерно ровесниками. Мы часто шутили, что с моим малышом гораздо больше хлопот, чем с ее, потому что Энни хотя бы спала ночью, а Уэсли первые несколько месяцев — нет. Несмотря на то что совы — ночные птицы, Уэсли, подражая мне, своей маме, все же научился бóльшую часть ночи спать, или по крайней мере тихо заниматься своими делами.
Каждый раз перед сном я клала маленькую коробку, служившую Уэсли гнездом, рядом с подушкой так, чтобы она не упала. В дикой природе совята неразлучны с матерью, так что я спала с рукой в коробке. В настоящем гнезде мать сидит в обнимку с птенцами и нежно расчесывает их клювом, успокаивая, так что я делала то же самое кончиками пальцев, а Уэсли в ответ ласково поклевывал их и постепенно засыпал. Спал он на животе, прижавшись к моей руке и поджав под себя голову и лапки, превращаясь в маленький совиный шарик. Так мы мирно спали пару-тройку часов, а потом я вскакивала от самого важного на тот момент в моей жизни звука — чего-то среднего между криком и шипением, — который означал, что Уэсли проголодался.
Впервые принеся Уэсли домой, я обустроила на своем рабочем столе место для кормления, снабдив его полотенцем, на котором он мог сидеть. Я вставала, вытаскивала из морозилки пакетик с мышами, закидывала его в микроволновку размораживаться, а потом ножницами резала мышей на кусочки, которые совенок мог проглотить. Усадив Уэсли на полотенце, я кормила его правой рукой, а левой поддерживала, не давая упасть. Я изображала маму-сову, прижимая маленькие кусочки мыши к его клюву щипчиками. Он хватал вкусность и немедленно жадно заглатывал. Уэсли ел столько, что его, кажется, начинало в какой-то момент мутить, и он с видимым отвращением отворачивался от предлагаемой пищи. После этого он закрывал глаза, склонял голову набок и засыпал, привалившись к моей руке. Так началась традиция обнимашек, которой мы с ним не изменяли всю нашу совместную жизнь.
Уэсли рос с умопомрачительной скоростью — каждое утро я обнаруживала, что он стал больше, чем был вечером. И для роста ему нужны были мыши. Много — около шести штук в день. Но у меня все было под контролем — из Калтеха мне присылали аккуратные пакеты предварительно убитых замороженных мышей. Этакие мышиные макнаггетсы.
Потом ни с того ни с сего у нас появилась серьезная проблема — во всем штате существенно снизилась популяция грызунов. Хищники, владельцы змей — все стали сами за себя, а мне в лаборатории любезно предложили поохотиться на мышей самостоятельно. Хоть Уэсли и был хищником, я и не думала, что мне когда-нибудь придется самой убивать других животных ему на прокорм. Мне было жутко, но другого выхода не было. Мать пойдет на что угодно ради ребенка, и если ребенок не может есть ничего, кроме мышей, и погибнет без них — мать будет убивать мышей. И понеслось.
Сперва я не знала, как это делать, и хотела лишь, чтобы все получилось максимально быстро и безболезненно. Травить их было нельзя, так что, посоветовавшись с коллегами, я устроилась на заднем дворе с пакетом живых мышей и стала отрезать им головы ножницами — мыши даже не успевали ничего понять. Тем не менее это было довольно жутко, а задний двор после экзекуции напоминал место массового убийства.
Разумеется, эта бойня обыкновенно собирала с округи множество кошек. Они по одной входили во двор, усаживались рядком примерно в двух футах от кровавого действа и молча наблюдали, приковав взоры к каждому моему движению, — только кончики хвостов нетерпеливо подрагивали. Они с благоговением глядели на пакет с еще живыми мышами, на то, как я их обезглавливала и на еще дергающиеся на траве тела. Я вновь и вновь засовывала руку внутрь, извлекая на свет очередную смертницу, и так примерно раз тридцать. К чести кошек надо сказать, они никогда не приближались ни ко мне, ни к пакету. Все это в сумме было довольно жутковато. Я чувствовала себя верховной жрицей, проводящей ритуальное жертвоприношение в присутствии своей зловещей паствы.
Умертвив всех мышей в пакете, я сгребала их головы и тельца в пластиковую упаковку и клала ее в морозилку. С этим возникла проблема: разлившаяся внутри упаковки кровь, замерзая, превращала останки в окоченевшие «блоки», от которых приходилось откалывать куски ножом для колки льда. Это было нелегко само по себе, не говоря уже о кошмарах, которые начали мне сниться.
В итоге пришлось искать другое решение. Кто-то мне сказал, что если, держа мышь за хвост, отвести руку назад, как подающий в бейсболе, а потом резко ударить ей о твердую поверхность, в последний миг дернув запястьем, то мышь погибнет моментально, безболезненно, не успев даже осмыслить происходящее, и что самое главное — бескровно. Мне не надо было повторять дважды. Я стала пользоваться этим способом, безболезненно и чисто убивая мышей в массовых количествах. Правда, за это пришлось поплатиться синдромом запястного канала на правой руке, и это не считая сумасшедшего количества денег — за всю жизнь Уэсли я убила около двадцати восьми тысяч мышей, а каждая стоила доллар с лишним.
Найти столько мышей — задача не из простых. Я терроризировала каждый зоомагазин в радиусе двадцати миль от дома. Мне были необходимы мыши. Причем целые мыши. Каждый орган, каждая косточка, каждая шерстинка была жизненно необходима для пищеварения Уэсли. Некоторые пытались кормить своих сов кусочками мышиного мяса, обвалянными в кальции, но без целых мышей в рационе сипухи медленно умирают. Совам необходимы целые мыши. Так что мне пришлось выучить наизусть расписания поставок в магазинах и ездить по ним столько, сколько потребуется, и настолько далеко, насколько нужно, чтобы уложиться в пищевой норматив Уэсли.
Однажды вечером я отправилась дальше, чем обычно, — в одном зоомагазине нашлось аж тридцать мышей, и я скупила всех до единой. То были не обычные белые мыши, а коричневые, как полевки. К счастью, на пищевую ценность цвет не влияет. Мне нужно было привезти домой как можно больше мышей — и как можно скорее. Продавец засунул их всех в бумажный пакет, я закинула его на заднее сиденье и села за руль. По пути домой я обнаружила, что у меня почти кончился бензин, и мне пришлось заехать на станцию автообслуживания.
К машине подошел рабочий станции, я опустила стекло и сказала: «Добрый вечер». Он кивнул, перевел взгляд на заднее сиденье, вздрогнул, глянул на меня и снова на заднее сиденье. О нет, подумала я.
— Что-то не так? — спросила я.
Вместо ответа он молча попятился от машины. Да я, в общем-то, уже знала, чтó именно не так, мне даже оглядываться не надо было. Мыши сбежали.
При перевозке мыши частенько прогрызали себе путь на свободу из бумажных пакетов. Только через несколько месяцев после появления Уэсли я додумалась возить их в аквариуме. Иногда у меня не получалось выловить всех беглянок, и они застревали за приборной панелью и сгрызали провода электроники и магнитолы. Такой дорогой ремонт был мне не по карману. Одна мышь как-то сдохла где-то за торпедо и начала там гнить. Мне потом несколько месяцев пришлось ездить с опущенными стеклами, чтобы выветрить вонь.
Другая однажды вывалилась из-под панели прямо мне в открытую туфлю. Я взвизгнула, чуть не потеряв управление, съехала на обочину, открыла дверь и скинула туфлю, из которой выползла измученная, покрытая слоем машинного масла и грязи белая мышь, которая тут же смылась в придорожные кусты.
Так вот, возвращаясь к заправке. Я попросила пятящегося от машины рабочего:
— Э-э, обычный залейте, пожалуйста.
— Леди, — сглотнул он, — у вас вся машина в полевках. В смысле… У вас салон кишит мышами!
Я наконец оглянулась назад и оценила зрелище. Тридцать бурых мышей бегали по сиденьям, полу, ручкам, подлокотникам… В общем, вполне тянуло на сцену из «Уилларда». Я повернулась обратно, но рабочего уже и след простыл.
Что ж, еще один вечер самообслуживания.
4 Крошка-сипуха: любишь меня, люби и мою сову
КАЖДЫЙ ДЕНЬ я брала Уэсли с собой в институт. Нормально работать с совенком на руках не всегда получалось, так что однажды я попыталась оставить его под присмотром одного из исследователей.
— Эй, Йерген! Ты не мог бы посидеть немного с моим совенком?
Йерген заглянул в коробку, увидел спящий белый пуховый шарик и ответил:
— Да не вопрос, конечно!
Когда я уходила, Уэс спал, и я принялась судорожно делать дела, надеясь, что он проспит подольше. Не тут-то было — всего через несколько минут я услышала шаги по деревянному полу совятника, и передо мной предстал Йерген — еще более бледный, чем обычно, и с ярко-красными пятнами на щеках.
— Вернись в кабинет, пожалуйста, — выдохнул он.
— Что случилось? — ахнула я, перепугавшись и бросив все свои дела. — Ему плохо?
— Я не знаю, не знаю, просто поднимись обратно, — сказал он.
С бешено колотящимся сердцем я понеслась обратно наверх, в кабинет, перепрыгивая через ступеньки. На третьем этаже я услышала жуткие крики и визги. Я вбежала в комнату и увидела Уэсли, периодически выглядывающего из-за бортика коробки. Он так орал, что из комнаты сбежали все, кто там находился.
Когда я подошла к его коробке, он чуть опустил веки в знак приветствия и коротко и мило чирикнул. Мама вернулась, мир снова был прекрасен.
— Не оставляй его тут больше, ладно? — попросил Йерген. — Мы так работать не сможем.
В дикой природе не бывает нянек. Таков Путь Совы.
После этого случая я стала брать Уэсли с собой абсолютно всюду и ни на минуту не оставляла его одного, пока ему не исполнилось три месяца — возраст, в котором сипухи уже должны начинать покидать гнездо. А до тех пор я носила коробку с Уэсли с собой в любые рабочие помещения. Он сидел рядом со мной, пока я кормила других животных и ухаживала за ними или работала за микроскопом и другими приборами.
Дома в тот период жизнь была куда проще, потому что там я могла уделять Уэсли все свое время и внимание. А Уэсли постоянно пристально наблюдал за мной. В норме он должен был бы перенимать все, что нужно, от матери. В нашем же случае он учился у меня. Так что, увидев, как я глажу Кортни — золотого ретривера Вэнди, — Уэсли понял, что бояться ее не нужно, и заинтересовался собакой. Будучи еще маленьким, он ничего не знал о своей природе и был готов дружить с любым встречным и поперечным животным. Если мама считала, что зверь хороший, — так же считал и он. Кортни и сама уже некоторое время живо интересовалась Уэсли, так что я решила их наконец познакомить. Собака была под надзором Вэнди, а я держала на руках Уэсли. Они соприкоснулись нос к клюву, и оба остались совершенно спокойны. Я посадила Уэса на пол, Кортни его обнюхала и улеглась рядом, словно он был ее щенком. С тех пор Уэс частенько стал сидеть у нее между передних лап, да и вообще они с удовольствием проводили друг с другом время.
Всякий раз, когда я присматривала за Энни, дочерью Вэнди, родившейся вскоре после того, как я привезла домой Уэсли, последний участвовал в процессе. Иногда я оставляла Уэсли в его коробке рядом с моей подушкой в спальне, где он привык спать, а сама уходила обедать с Вэнди и ее семьей. Однако первые три месяца тянулись невероятно долго — все же носить с собой повсюду маленького и хрупкого совенка было неудобно и довольно проблематично.
Однажды вечером я сидела дома с примерно месячным Уэсли, как вдруг зазвонил телефон. Я сняла трубку и мягкий, низкий голос спросил: «Алло, Стэйси?» У меня аж колени подкосились. Это был парень, в котором я души не чаяла, из-за которого рыдала и на которого практически молилась, Пол, и он приглашал меня на свидание! Он был потрясающим — музыкантом, блондином, как я, невысоким, как я, любил музыку, как я. Я уже давно думала, что из Пола вышел бы идеальный муж — осталось только, чтобы он сам это понял. Я уже говорила, что он был потрясающим?
— С удовольствием, — выдохнула я.
И тут же с ужасом вспомнила Путь Совы и правило «никаких нянек». Уэсли надо было брать с собой. Страшно было даже представить, что произойдет, начни он орать в каком-нибудь дорогом ресторане. Я должна была срочно что-то сказать, и поэтому выпалила: «Эм-м, понимаешь, я ращу совенка и никак не могу его оставить. Можно я возьму его с собой в коробке и с мисочкой? Он ест мышей, но ты не волнуйся — они уже порезанные». Я была готова сквозь землю провалиться. Пол помолчал секунду и ответил: «Конечно, не вопрос». Мы договорились о свидании через пару недель, и я дрожащими от волнения руками повесила трубку.
Уэсли рос не по дням, а по часам, и становился все более непоседливым. Он выпутывался из своих одеял и пытался вскарабкаться на меня. А однажды вечером во время кормежки он внезапно вскочил на ноги. Ему тогда было шесть недель, он не понимал, отчего он вдруг стал таким высоким и вопросительно смотрел на меня, ожидая объяснений. «Уэсли! Ты сам стоишь!» — восхитилась я. Это его, кажется, успокоило.
Вскоре после этого Уэсли сделал свои первые шаги, и это изменило все. Он был совсем как человеческий малыш — скакал по комнате, врезаясь во все, во что только можно было. Я тщетно пыталась придумать, как уберечь его от травм, но меня, к счастью, выручили в Калтехе, одолжив насест, сделанный специально для совят в этот период развития. По сути это был муляж пня, крепко прибитый к подставке 4 на 4 фута, которая ставилась на пол. Совят обычно привязывали к насесту за лапку. Рядом я поставила его старую коробку, в которой он спал и прихорашивался.
Теперь мне предстояло познакомить подвижного Уэсли с ножными путами и придумать, как привязать его к насесту, не слишком при этом ограничивая. Обычно владельцы соколов связывают птицам ноги кожаными ремешками и к ним же цепляют поводок, вынося своих питомцев на улицу. Я несколько усовершенствовала этот метод, привязав мягкий ремешок только к одной из лап Уэсли, чтобы он уловил принцип, но при этом ноги не были связаны. Поводок же я прикрепила к верхней части «пня». Кажется, получившаяся конструкция пришлась ему по вкусу, к тому же она позволяла ему спрыгивать и ходить по полу. Я привязывала его к насесту всякий раз, когда мне нужно было отлучиться, поскольку он пока не знал, с чем можно играть, а с чем — нет, и оставалось лишь гадать, в какие неприятности он угодил бы без надзора. В дикой природе птенцы в этом возрасте все еще живут с родителями и учатся всему на их примере. Они уже выбираются из гнезда и сидят на ветках, но по-прежнему целиком зависят от мамы с папой не только в плане пропитания, но и в плане наставлений.
Уверенно освоив ходьбу, Уэсли стал смешно ковылять за мной из одной комнаты в другую. Он вообще всюду за мной ходил, когда не был привязан, и внимательно следил за всеми моими действиями. Самое главное, что куда бы он ни направлялся, он спешил. Он даже расправлял на ходу крылья, как в полете, хотя, честно говоря, смотрелось это, будто он изображает самолетик. Он поднимал ногу до самой груди, резко выбрасывал ее вперед на всю длину, переносил на нее вес и проделывал то же самое другой ногой. В результате получался эдакий до невозможности смешной галоп, который так и сохранился у него на всю жизнь. Непосредственное выражение его лица при этом лишь усугубляло ситуацию, и мы с Вэнди частенько хохотали при виде его бега.
Впрочем, даже взрослые совы при беге выглядят довольно забавно. В дикой природе сипухи почти не передвигаются по земле — они, как правило, приземляются только чтобы схватить добычу, их лапы предназначены для того, чтобы прочно сидеть на ветке, обхватив ее кольцом длинных когтей. На земле же из-за длины когтей пальцы у них оказываются нелепо оттопырены вверх, а дополнительные подушечки на лапах мешают им передвигаться по плоской поверхности. Они не умеют проворно и быстро бегать, как ржанки, или делать точные прыжки и перескоки, как воробьи. Сипуха, шагающая пешком — это целое представление, что вполне соответствует их характеру. У них все всегда сложно, запутано, беспорядочно, довольно смешно и безумно срочно, несмотря на то что сами они считают себя птицами очень важными. В то утро, когда Уэсли впервые проследовал за мной из спальни в гостиную, я опустилась на ковер, и он немедленно заполз ко мне в объятия, слегка обалдевший от вида новой большой комнаты. Однако всего через пару минут любопытство все же пересилило страх, он спрыгнул на пол и отправился исследовать помещение. Вэнди тут же побежала за фотоаппаратом. Уэсли остановился, склонил голову набок и с неприкрытым интересом уставился на нацеленный на него прибор. Затвор щелкал не переставая. Уэсли пялился в объектив, наклоняя голову то вверх, то вниз, то вбок под разными углами — прямо сова-фотомодель. Мы с Вэнди просто по полу катались со смеху, чудо, что хотя бы часть из тех фотографий вышли в фокусе.
Несмотря на быстрый рост, в пять недель Уэсли все еще был не похож на сову. Все его тело, включая лапы и недоразвитые крылья, было покрыто белым пухом. Он выглядел бесформенным и каким-то… комковатым. На попе и бедрах у него рос особенно густой пух, от которого он так и не избавился с возрастом. Я называла это его «шароварами» — уж больно было похоже. В дикой природе совиные «шаровары» — не просто украшение: они задерживают теплый воздух и распределяют его по телу, когда совы спят, поджав лапы, в холодную погоду.
В шесть недель крупная голова Уэсли все еще была непропорционально большой по сравнению с остальным телом. Лапы его были на вид будто чешуйчатые и наводили на мысли о рептилиях. Они тоже казались огромными на фоне прочих частей его тела, и оканчивались острыми, как бритва, когтями. В дикой природе совята на этой стадии развития обычно практикуют своеобразные предполетные упражнения — карабкаются по стволам деревьев, вонзаясь в кору когтями и клювом и поднимая себя вверх за счет мышц ног и постепенно растущих крыльев. К несчастью, Уэсли решил, что из меня выйдет вполне неплохая замена дереву. Его острые клюв и когти, предназначенные убивать и разрывать плоть, весьма больно ранили, и мне пришлось взять привычку постоянно носить плотные джинсы, не снимая даже на ночь.
Как-то раз мы гостили у моей мамы, и Уэсли вздумалось полазать по моим голым рукам.
— Дорогая, он не царапает тебя своими клешнями? — спросила мама.
— Это не клешни, мам, — ответила я.
— Ой, в смысле, своими локтями?
— Наверное, все же когтями, мам. Это называется когти.
Она качала головой и недоумевала на тему того, как я буду искать себе мужа, будучи расцарапанной с ног до головы, чем добавила мне беспокойства по поводу предстоящего свидания с Полом. Биологи обычно гордятся своими шрамами и обожают обмениваться байками о самых странных тварях, которые их когда-либо кусали, но Пол-то биологом не был.
Мои руки и впрямь были покрыты длинными и тонкими царапинами от когтей Уэсли, но у меня имелись следы и других боевых ранений — например, небольшие участки кожи, «выдолбленные» клювами больших сов, обитавших в Калтехе. Но самый крутой из моих шрамов располагался на правом запястье — его мне оставил на память трехфутовый бентосный червь своей шестидюймовой выдвижной челюстью (скорее всего, с нее писали выдвижную челюсть пришельца из фильма «Чужой» — сходство было почти полным). Бентосом называется слой отложений на дне океана, где обитают эти черви. Они прячутся в иле, а когда жертва проплывает над ними, выстреливают вверх своими челюстями, ловя ее и утаскивая вниз. Я была тогда на корабле в составе экспедиции, изучавшей, как изменение течений влияет на бентосную жизнь (и заодно на зоопланктон на поверхности). Мы выловили при помощи сети одного червя, как вдруг тот впился мне в запястье мертвой хваткой. Первым инстинктивным желанием было забегать по лодке с криками: «Снимите, снимите его с меня!» — но вокруг были ученые, и это смотрелось бы совсем не круто, так что вместо этого я замерла и выдохнула: «Кто-нибудь может помочь отцепить от меня эту штуку?» В конце концов нам удалось разжать червю челюсти и выбросить его обратно в воду, хоть и вместе с куском мяса, выдранным из моей руки. Сама я, однако, ликовала — теперь у меня была наикрутейшая история из серии экзотических укусов.
Только вот я сомневалась, что шрам, оставленный бентосным червем, сыграет в мою пользу на свидании с музыкантом.
У нас с Уэсли образовался особый ритуал, которому мы следовали перед сном. Я умывалась и чистила зубы, а он стоял рядом на тумбочке и внимательно наблюдал за тем, как я открываю кран, споласкиваю щетку, выдавливаю на нее пасту и подношу ко рту. Вскоре он начал активно участвовать в процессе, хватая щетку и гордо вышагивая вдоль раковины с ней в клюве. Я хваталась за рукоять и пыталась аккуратно вызволить свое имущество, что в итоге приводило к игре в перетягивание каната. Я говорила: «Уэсли, отдай, это мое. Уэсли, отдай сейчас же», на что Уэсли отвечал тем, что только сильнее упирался лапами, тянул изо всех сил и орал, пока я не сдавалась. «Ладно, ты победил», — уступала я и аккуратно отпускала щетку. В итоге я додумалась до того, чтобы сначала брать одну из «его» щеток, а затем, «проиграв» ее, спокойно чистить зубы своей. Победив, Уэсли моментально терял к щетке интерес и сбрасывал ее на пол, наблюдая за падением с восторгом, с которым грудничок наблюдает за скинутой им со столика непроливайкой.
Как-то вечером Уэсли сунул голову под струю воды из-под крана. Новые ощущения крайне его удивили, он отшатнулся, потряс головой и посмотрел на меня, дескать: «Что это было?» Потом попробовал снова. Так Уэсли открыл для себя воду. И ему понравилось. Даже не так — ему безумно понравилось. Он стал запрыгивать в раковину, видя, что я собираюсь открыть кран. Я нашла старую собачью миску, наполнила ее водой и поставила на стол рядом с раковиной. Так Уэсли стал копировать мой вечерний ритуал у своей собственной «раковины»: окунал личико в воду, пока я умывалась, и пил, пока я чистила зубы. Это было весьма необычно — совы в принципе стараются держаться подальше от воды, не говоря уже о том, чтобы умываться и пить. На тот момент, по нашим сведениям, ни один натуралист еще не замечал интереса к воде ни за одной совой. Все необходимые для их организма жидкости совы обыкновенно получают при поедании мышей. Однако Уэсли об этом сказать забыли, и его мисочка с тех пор стала ключевым предметом в нашей совместной жизни. В Калтехе пожелали увидеть такое нехарактерное поведение воочию, так что я принесла миску с собой на работу, и мои коллеги всей лабораторией наблюдали, как Уэсли пьет, резвится и играет в воде.
У него появилось множество удивительных движений и выражений лица. Они отражали недюжинную глубину мысли и осознанность. Я разговаривала с Уэсли точно так же, как Вэнди разговаривала со своей грудной дочерью, Энни, — сопровождая слова простыми и понятными жестами. Я была уверена, что он рано или поздно научится меня понимать до какой-то степени, я только не знала до какой. Я сопровождала одни и те же действия одинаковыми словами, например «Уэсли, хочешь мышек?», когда он ел, или «Уэсли, пора спать», когда ложилась в постель. И каждый раз, когда он смотрел на что-то, казавшееся ему интересным (то есть почти все, что было вокруг), я называла эту вещь вслух. После этого он обычно несся к этому объекту своим смешным галопом, расправив крылья на манер самолета, а я бежала сзади с криками: «Нет, стой! Это не для сов!»
Наконец настал заветный вечер свидания. Я стояла на крыльце дома, где жил Пол, держа в расцарапанных руках коробку, в которой спала моя «пятая нога». Пол с улыбкой открыл дверь, впустил нас в дом и взглянул на Уэсли.
— Это сова?
Уэсли как раз начал просыпаться.
— Ну да, совенок, — ответила я.
Пол нагнулся над коробкой, чтобы разглядеть получше.
— А это что, — воскликнул он с расширившимися глазами, — порезанные мыши?!
— Это его еда, — попыталась оправдаться я.
Пол побледнел и отступил.
— Мерзко. Реально мерзко.
В ресторан мы не пошли. Пол заказал пиццу, которую затем ел, напряженно сидя в кресле чуть поодаль от дивана, где расположились мы с Уэсли, и периодически нервно поглядывая на коробку, будто ожидая, что Уэсли или даже мертвые мыши могут в любой момент вылететь оттуда и броситься на него. Мои мечты о дорожке к алтарю под «She Blinded Me with Science» таяли на глазах, и я с удивлением поняла, что хочу домой, готовиться ко сну наедине с Уэсли.
Наконец, Пол включил телевизор и сел обратно в кресло. Отлично, расслабился, наконец, подумала я. И тут раздался храп. И это был не Уэсли. Как бы ни было горько это признавать, но мама оказалась права.
Я тихо выскользнула из дома вместе с Уэсли, поставила его коробку на пассажирское сиденье, пристегнула ее и завела машину. На меня накатила грусть. Я понимала, что Пол больше не позвонит. Я была так уверена, что он — «тот самый». Какой облом… Что ж, видимо, Уэсли можно было считать своеобразной лакмусовой бумажкой для парней. Любишь меня, люби и мою сову, подумала я. Я не могла быть с парнем, которого совсем не интересовали животные. Как Пола, например. Глаза Уэсли исследовали каждый миллиметр моего лица, он будто бы пытался вникнуть в него, как любитель искусства пытается вникнуть в суть некой картины. Возможно, мой малыш-совенок только что невольно спас меня от огромной ошибки.
Я свернула на длинную круглую подъездную дорожку у дома Вэнди. Стая ее гусей громко возвестила о моем прибытии. Всхрапывали лошади, блеяли козы, о чем-то кудахтали друг с другом куры. Легкий ветерок доносил запах соломы.
Я наконец была дома с Уэсом.
Мы приготовились ко сну и легли в обнимку. Уэсли лежал на животе на моей левой руке, свесив лапы и прижавшись к моему животу. Правой рукой я чесала ему переносицу, что ему очень нравилось — он как бы «складывал» бока своего плоского лица внутрь, как конверт, прикрывал глаза и подставлял мне участок над носом. Скорчив эту милую рожицу, он распушил перья вокруг носа, так что виден остался только розовый кончик клюва.
Одна из моих слез капнула на его пернатую спину.
— Я в норме, Уэс, — сказала я. — Я все равно не была бы счастлива с человеком, который не понимает животных.
На самом деле, Пол звонил еще несколько раз за последующий год. И каждый раз он спрашивал: «Это сова все еще у тебя?» Причем с таким выражением, будто говорил: «Ты все еще прячешь отрезанную голову у себя под кроватью?» — или что-нибудь в этом духе. «А, да!» — отвечала я и рассказывала ему о всевозможных проделках Уэсли. Он глубоко вздыхал и интересовался: «Сколько они живут в неволе?» На что я неизменно отвечала: «Лет пятнадцать или больше». Он отвечал: «Ладно» — и быстро заканчивал разговор.
Через пару лет он женился.
5 Уроки полетов
ОДНАЖДЫ, КОГДА Уэсли было уже почти семь недель и он поднял крылья над головой, наклонился вперед и хорошенько потянулся, я заметила у него на крыльях первые пеньки. Пенек — это общий термин, обозначающий любой тип пера на ранней стадии роста. Несмотря на название, пеньки по виду напоминают скорее воскообразные трубочки из кератина, из которого состоят наши волосы и ногти. Только, в отличие от них, пеньки у птиц не являются мертвыми тканями — внутри них есть кровеносные сосуды и нервные окончания, и они крайне чувствительны. В каждой из таких трубочек растет полноценное взрослое перо. Когда перо окончательно формируется, сосуды и нервы втягиваются обратно в тело, и остается лишь воскообразный кератиновый «чехол».
С тех пор как у Уэсли появились пеньки, моим любимым занятием стала его «чистка». Он лежал на моей левой руке, под боком, а пальцами правой я тем временем аккуратно подцепляла и стягивала белые восковые кожухи, обнажая полностью сформированные перья. По сути, я делала то же самое, что и сова-мать в дикой природе. Взрослые особи сами ухаживают за собой таким образом, однако пары иногда чистят перышки друг другу, выражая привязанность. Птицы в целом очень это любят, так что я чистила Уэсли часами всю его жизнь, поскольку даже взрослые птицы постоянно отращивают новые перья на смену истрепавшимся старым. Это было захватывающе — наблюдать, как у Уэсли постепенно появляются восхитительные золотистые крылья.
Наступала весна. В это время года я иногда выбиралась в леса, в пригород и в торговые центры в поисках диких сов. Да, одной лунной ночью я видела, как из какого-то закутка на крыше торгового центра вылетела сипуха. Она взлетела на несколько сотен футов вверх, после чего опустила крылья и стала стремительно опускаться боком. Она закладывала мертвые петли, летала восьмерками, а затем стала по спирали подниматься все выше и выше, пока не превратилась в маленькую точку в небе. Там, высоко, она вдруг сложила крылья и пошла штопором к земле, выровняв траекторию буквально в последнюю секунду. Никогда еще до этого я не видела столь яркого, дикого и искусного выражения счастья. Я даже не подозревала, что совы вообще способны так изумительно летать, не говоря уже о том, чтобы вытворять такое, кажется, просто ради развлечения.
Та сова была подростком, то есть ей еще не исполнилось трех лет и у нее все еще не было партнера. В большинстве монографий возрастом полового созревания считается год, однако я с этим не согласна. Уэсли, например, достиг зрелости лишь в возрасте трех с половиной лет. Насколько я знаю, похожие результаты показывали все исследования Калтеха. Мой опыт работы с совами в лаборатории развил у меня неплохой «глаз» на совиный возраст. В частности, я обнаружила, что у молодых и одиноких сов обычно более гладкие и лоснящиеся перья — всегда как новенькие. Такие совы обычно занимались своими делами и не вступали в брачные игры, поскольку не достигли еще половой зрелости. Старшие совы без пары производили несколько депрессивное впечатление и обладали, как правило, более неряшливым по сравнению с молодняком оперением. Возможно, та сова как раз отрабатывала движения, чтобы производить впечатление на дам. А может, ей просто нравилось сумасшедше и свободно летать, ни о чем не беспокоясь. Наблюдая за ней, я почти забыла, как дышать. Ее красота и сила потрясли меня, но еще и немного расстроили, так как я знала, что Уэсли не суждено достичь подобного совершенства в полетах.
К двум месяцам Уэсли растерял уже почти весь свой детский белый пух, который я собирала и бережно хранила в коробочке, подобно тому, как многие матери хранят прядки первых волос своих детей. Его взрослый пух, служивший для утепления и терявшийся под перьями, был уже не белого, а насыщенного серого цвета. Он отращивал все больше и больше длинных маховых перьев и совсем скоро должен был начать летать.
Когда я «усыновила» Уэсли, у меня в спальне стояло двенадцать клеток, в которых жили семнадцать зебровых амадин. Я была не уверена в благоприятном развитии их с Уэсли отношений, когда тот научится летать, — часто сипухи едят более мелких птиц (они составляют в норме около трех процентов от их рациона), чтобы разнообразить свою мышиную диету. Первые несколько месяцев я накрывала клетки амадин плотной тканью и убирала повыше, туда, где Уэсли не мог до них добраться. Основания для оптимизма были — все же он рос вместе с ними, — но на всякий случай я сказала знакомым, что мне вскоре может понадобится раздать своих птичек.
Первые попытки Уэсли взлететь заключались в том, что он вытягивал крылья и усиленно ими махал. В воздух его это не поднимало, но зато поднимало ветер, сносивший в комнате все, что не было приколочено. Потом он начал совмещать это с небольшими прыжками, обычно врезаясь в каждую преграду на своем пути.
Махательно-прыгательно-врезательная стадия длилась у него довольно долго, пока однажды он не подпрыгнул чуть повыше. Тогда он впервые завис в воздухе. Уэсли наконец полетел! Правда, он не слишком контролировал ситуацию. Он старался управлять своим полетом, но, кажется, не мог рассчитать силу собственных крыльев. Когда он попытался приземлиться на стол в гостиной, результат вышел примерно как у истребителя, заходящего на посадку на крошечную полосу, — он приземлился на задницу, проехал на ней на полной скорости через весь стол и свалился на пол бесформенным клубком крыльев, перьев и лап.
Я засмеялась, просто не в силах сдерживаться. После этого я подбежала помочь ему и утешить, но он отвернулся и не желал на меня смотреть.
— Уэсли, что такое?
Я тщательно его осмотрела, но не обнаружила никаких ран и повреждений. Я повернула его голову к себе и взглянула ему в глаза.
— Уэс?
С силой, которой я никогда прежде в нем не замечала, он снова повернул голову в другую сторону и уставился в стену.
— Что с тобой?
Уэсли оттолкнул меня крыльями и зашипел. Как только я отпустила его, он отступил от меня и продолжил буравить взглядом стену. Как я ни утешала, ни умасливала и ни умоляла его, он упорно не желал на меня смотреть. Я похолодела, вспомнив ту сову, которая потерялась в вентиляции и убила себя одной силой воли. Однако я убедила себя, что это не наш случай — в конце концов, всем совам приходится проходить через первые неудачные попытки полетов. Я решила оставить Уэсли в покое. Он почистил перышки (сидя, разумеется, спиной ко мне), после чего вышел из-за противоположного конца стола со всем достоинством, на которое был способен, и попробовал снова. Он махал крыльями и прыгал, пока, наконец, не поднялся в воздух, лихорадочно оглянулся по сторонам, нацелился на стол и полетел к нему. В этот раз при посадке он вытянул вперед широко растопыренные лапы, будто намереваясь схватиться за ровную поверхность. Это не помогло — он снова приземлился на пятую точку, проехал через весь стол и свалился на пол с другой стороны.
Я опять не сдержала смеха, и Уэсли опять отвернулся к стене. Я, впрочем, тут же прекратила смеяться, когда поняла, что просто-напросто стыжу его этим. Учиться летать — сложно и физически, и эмоционально, и человеческим мамам совиных детей не пристало над этим насмехаться. С тех пор я изо всех сил старалась держать лицо в подобных ситуациях.
Большая часть людей, у которых есть питомцы, способны распознавать их базовые эмоции, такие как злость, одобрение, выражения привязанности или принятия чего-либо. Но я никогда бы не подумала, что животное может чувствовать себя осмеянным. Никому из обитателей дома Вэнди больше не разрешалось смеяться над Уэсли, пока он учился летать. По крайней мере, в его присутствии — иногда нам таки приходилось бежать в ванную, запираться и хохотать там в голос.
Ученые в целом не решаются официально признать, что животные подвержены таким сложным эмоциям, как смущение, в основном из-за того, что это практически невозможно доказать при помощи экспериментов и общепринятых научных методов. Однако все больше и больше ученых в последнее время склоняются к тому, что животные способны на переживания, и к тому, что их чувства, видимо, сильнее наших, но менее четко оформлены. Эмоции зарождаются в головном мозгу, в лимбической системе, которая есть не только у людей, собак и прочих млекопитающих, но также у птиц и у рептилий. У людей, однако, есть дополнительные мозговые комплексы для обработки эмоций, язык, мимика и понятные жесты для их выражения, а также сложнейшие психологические механизмы для их регуляции, сдерживания или смягчения. Мы подавляем, отрицаем, усмиряем и делим свои эмоции на части, сознательно или бессознательно пытаясь отделиться от них. Животные неспособны на все эти махинации, и именно поэтому они испытывают столь сильные и незамутненные чувства. Вполне возможно, что на самом деле это как раз одно из тех качеств, так привлекающих нас: они предельно честны в своих чувствах. Мы интуитивно понимаем это, так как способны опознавать и различать эмоции, которые видим у других, будь то человек или животное — наши с ними эмоции по сути своей ничем не различаются. Наш мозг устроен по тому же принципу, что и у большинства животных на планете, следовательно, и эмоции наши должны быть схожи. Многие отрицают наличие чувств у животных, оправдывая этим их эксплуатацию и бесчеловечное к ним отношение, отрицают тот факт, что наши действия неизбежно влияют на психику братьев наших меньших.
Существует масса доказательств тому, что у всех животных, обладающих головным мозгом, есть эмоции. Это верно даже в отношении рептилий, мозг которых устроен проще, чем у млекопитающих. Любой, кто работает с рептилиями, подтвердит вам, что самые разные виды ящериц и змей в неволе подвержены депрессии. Черепахи особенно к этому склонны. Для змей депрессия представляет смертельную опасность, поскольку они начинают отказываться от пищи. Однажды я спасла змейку, которую после жизни у хозяина, не уделявшего ей должного внимания, год приходилось кормить принудительно при помощи специальной трубки, прежде чем она вновь начала есть самостоятельно. Иногда змеи перестают есть после травмы, связанной с мышами. Дело в том, что рептилии, будучи хладнокровными, не способны на внутреннюю терморегуляцию и вынуждены искать источники тепла в окружающей среде. В случае, если источников тепла не находится, метаболизм змеи может замедлиться настолько, что она станет абсолютно беззащитной даже против одной-единственной мыши. Беспечные хозяева иногда бросают змее мышь и оставляют ситуацию без надзора. Тогда, если змее холодно, мышь может просто-напросто начать есть ее заживо, а змея не сможет никак отреагировать. У змей, переживших такое, обычно вырабатывается настолько мощный страх мышей, что они перестают есть. Иногда приходится около года кормить змею через трубку, прежде чем она, наконец, вновь решится иметь дело с мышью. Если уж животные с таким примитивным уровнем интеллекта способны на столь мощные переживания, то какой же силы и какого разнообразия эмоции должны быть у животных с высокой организацией? Даже рептилии нуждаются в некоем «украшении» их среды обитания, а для более высоко организованных животных это просто жизненно необходимо. Смотрители в зоопарках и приютах стараются всячески разнообразить жизнь своих подопечных и сделать ее интереснее, чтобы избежать развития у них психологических нарушений, вроде обсессивно-компульсивного расстройства (характерный симптом — беспрерывное хождение из стороны в сторону в клетке или вольере) и депрессии. Например, хорошие смотрители часто прячут еду в разных уголках вольера, вместо того чтобы просто раскладывать ее по мискам, — так животное может хоть чуточку развлечься, самостоятельно «охотясь» на нее.
Недостаток подобной эмоциональной стимуляции негативно влияет на развитие головного мозга. Например, чем однообразнее и скучнее обустроена крысиная клетка, тем хуже и слабее развивается мозг крысы. При посмертном вскрытии разница между крысой, у которой при жизни было много игрушек, и крысой, у которой их не было вовсе, видна невооруженным глазом. У первой мозг окажется усеян всевозможными морщинками и холмиками, что говорит о значительном количестве нейронных связей, тогда как у второй кора головного мозга будет относительно гладкой, так как у нее отсутствовала стимуляция для развития нейронных связей. Не менее важными факторами, негативно влияющими на животное в неволе, являются банальная скука и, разумеется, депрессия.
Чем разумнее животное, тем более сложным эмоциям оно подвержено. Если верить работающим с ними ученым, попугаи, подобно многим приматам, в зависимости от вида могут по уровню интеллекта и эмоционального развития сравниться с двух- или даже пятилетним ребенком. Владельцы попугаев и любители птиц расскажут вам о том, что попугай может быть настолько раздавлен смертью хозяина, что рискует сам умереть от депрессии, подобно тому, как совы добровольно следуют на тот свет за своими партнерами, одной лишь силой мысли запуская в себе «механизм самоуничтожения».
Я так волновалась из-за эмоционального ответа Уэсли на наш смех над ним, что запретила всем в доме смеяться, что бы он ни вытворил. Этому правилу бывало крайне тяжело следовать, так как многие из его проделок были невероятно милыми, и да — уморительными. Даже то, как он двигал головой, заинтересовавшись чем-то, выглядело невероятно комично. Он двигал ею сначала по горизонтали, с лицом каменным, как на древнеегипетской фреске; затем по вертикали, сверху вниз до упора, после чего поднимал голову обратно на уровень плеч и резко вытягивал ее в сторону предмета своего интереса, совсем как персонаж какого-нибудь мультика, крайне чем-то удивленный или пытающийся что-то рассмотреть получше. Ну как можно было удержаться от смеха при виде этой картины? Это было просто невероятно мило! Нам приходилось либо сдерживаться, либо бежать в другую комнату и смеяться там. Уэсли относился к себе весьма серьезно, так что и нам приходилось отвечать ему тем же.
После примерно недели падений и неудачных аварийных посадок Уэсли, наконец, научился махать крыльями, направляя кончиками часть воздуха вперед, и таким образом полноценно парить. Теперь, подлетев к желаемой точке приземления, он несколько секунд нерешительно висел над ней в воздухе, подобно вертолету, а затем медленно опускался на ноги. Весь этот маневр, естественно, сопровождался самой активной моей похвалой и восторгом всех домашних. А уж когда Уэсли освоил технику торможения в полете перед приземлением, мы с Вэнди и вовсе завизжали от радости, причем Уэсли присоединился к нашему восхищению, и звучало это примерно как «Дии, дии, ДИП-ДИП-ДИП, дии, дии». Он смотрел на нас сияющими глазами и хлопал крыльями, словно принимая похвалу.
Мне кажется, Уэсли немного отставал в развитии от большей части совят. Возможно, виной тому было отсутствие настоящих родителей и, как следствие, необходимость учиться многим вещам самостоятельно. Опять же, поврежденный нерв наверняка тормозил процесс укрепления крыла и, соответственно, стабилизации полета. Даже научившись нормально летать, Уэсли явно испытывал трудности с выносливостью, и после нескольких минут полета его правое крыло неизменно начинало провисать. В дикой природе он не смог бы не то что прокормить целое гнездо малышей — он и одного себя-то вряд ли смог бы «содержать». Но летать ради развлечения ему определенно нравилось.
Как-то раз на выходных Уэсли проспал бóльшую часть дня у меня в комнате, и когда стемнело, я решила его проведать. Я открыла дверь в спальню, и мой любимец, явно целившийся мне на голову, не справился с управлением, врезался мне прямо в лицо и запутался в моих длинных волосах. Он, естественно, запаниковал и довольно ощутимо расцарапал мне лицо. Выпутав его из волос, я повела себя так, будто ничего не случилось, во избежание очередной сцены из серии «мне так стыдно», кои неизбежно следовали за его полетными «эксцессами». Правда, мне после этого несколько недель пришлось терпеть заботливые расспросы о моем гипотетическом «жестоком парне» и «домашнем насилии». Я за всю жизнь настолько привыкла к постоянным царапинам от животных, особенно от сов, что никогда не пыталась их как-то активно залечивать, а просто, как и все биологи, регулярно прививалась от столбняка (центры реабилитации обычно настоятельно рекомендуют своим сотрудникам прививаться еще и от бешенства, но этим рекомендациям, как правило, почти никто не следует, и я не исключение, — все же бешенство встречается достаточно редко).
Когда работаешь с хищными птицами, потеря концентрации даже на секунду чревата катастрофическими последствиями. Вскоре после столкновения с Уэсли произошел один крайне неприятный случай. Я была на работе и как раз хотела прибраться в карантинной зоне, где на тот момент жил один весьма игривый филин, бросавшийся на все, что двигалось. Он приехал к нам из другого центра, так что нам пришлось некоторое время держать его на карантине, чтобы удостовериться, что он ничем не заразит остальную популяцию.
Надо сказать, что виргинские филины огромны. Они гораздо крупнее, тяжелее (около пяти фунтов) и сильнее сипух, весящих обычно около фунта, и имеют размах крыльев до четырех-пяти футов. Конкретно этот виргинский филин временно жил в чем-то вроде большой деревянной коробки с насестом и выдвижной металлической пластиной вместо пола для удобства чистки. Я беспечно просунула руку под дверцу, намереваясь выдвинуть эту пластину, и филин немедленно отреагировал, пронзив мою кисть своими когтями до самых костей. Сначала я услышала жуткий, протяжный и высокий крик, прокатившийся по совятне, и лишь затем поняла, что кричала я сама. Несмотря на дикую боль, мне пришлось подтащить раненую руку, на которой вдобавок продолжал сидеть здоровый виргинский филин, обратно к дверце, чтобы дотянуться до нее другой рукой и отцепить напавшего. Каким-то образом я умудрилась по одному вытащить каждый его коготь из каждой косточки в руке. Филин хотел поиграть еще и требовательно ударил изнутри по дверце когтями, клацнув при этом клювом. После этого он прыгнул к краю пластины, надеясь снова добраться до моей несчастной руки.
В тот раз, поскольку это была уже отнюдь не царапина, меня немедленно отправили к врачу за счет рабочей страховки, покрывавшей увечья, полученные в ходе исполнения трудовых обязанностей. В приемной сидели мужики во фланелевых рубашках и рабочих ботинках, в основном с переломами и грыжами межпозвоночных дисков. Я заполнила анкету, сдала ее в регистратуру и села ждать своей очереди.
Вскоре появилась крайне мрачная медсестра и попросила пройти с ней в кабинет для пояснения моих ответов на некоторые пункты в анкете. Глядя на листок бумаги, она спросила:
— Так как, говорите, вы получили травму?
— На меня напала сова, — ответила я.
Она положила на стол ручку и взглянула на меня.
— Здесь нельзя это писать.
— Но это правда…
Медсестра встала и вышла из кабинета. Через несколько минут она вернулась в сопровождении заведующего отделением.
— Видите ли, юная леди, есть небольшая проблема — это не рабочая травма.
После почти часа препирательств я воскликнула:
— Слушайте, это было исследование в Калтехе. Позвоните моему начальнику, в конце концов!
— Так и сделаем, — пообещал заведующий, вставая.
С этими словами он вышел из кабинета, а вскоре робко вошла все та же медсестра, сделала мне укол от столбняка, дала антибиотики и отправила меня восвояси.
На самом деле, мне крупно повезло, что между мной и тем виргинским филином была дверца. При настоящем нападении совы обычно целятся когтями в глаза, и, не будь между нами преграды, я вполне могла лишиться зрения. Хоть нам, биологам, и рекомендуют носить защитные очки, мы редко их надеваем — они громоздкие и безумно раздражают. На одного парня как-то напала сипуха, но как раз он, по счастью, был в очках. Так что вместо слепоты он отделался лишь восемью аккуратными проколами на лице — по четыре штуки симметрично вокруг обоих глаз. Кажется, ученые до сих пор не знают точно почему, но большинство животных, что хищников, что травоядных, имеют свойство целиться в первую очередь в глаза противнику. Причем они знают, где у него глаза, даже если противник принадлежит к совершенно другому биологическому виду. Ошейниковые кобры, к примеру, стреляют своим ядом по глазам самым разным животным с меткостью, которой позавидовал бы любой снайпер. У многих животных — мотыльков, гусениц и рыб — есть ложные глаза-рисунки на маловажных частях тела, типа хвостов, призванные обмануть нападающего и отвести удар от настоящих глаз. Логично предположить, что животные, приучившиеся атаковать в первую очередь глаза противника, всегда имели большие шансы на выживание и передачу своих генов потомству, и, таким образом, бóльшая часть животных в ходе эволюции стали атаковать именно глаза — это наиболее быстрый и безопасный способ лишить боеспособности как сопротивляющуюся жертву, так и нападающего хищника.
Приближаясь к дикому зверю, я всегда отвожу глаза и стараюсь лишний раз не смотреть на него, поскольку любое животное всегда в первую очередь будет смотреть именно в глаза, пытаясь понять ваши намерения. Однако прямой взгляд в глаза ручного животного — это, напротив, проявление привязанности. Хомяки часто умываются, сидя на руке у хозяина и глядя ему в глаза, они могут спокойно лежать у него на ладони, нос к носу и глаз к глазу, как бы общаясь таким образом. Даже многие ящерицы, которых я в свое время держала у себя, часто смотрели в глаза мне и друг другу. Кажется, все сколько-нибудь разумные животные, даже рептилии, понимают, что глаза — это окна, сквозь которые можно проникнуть в разум их владельца.
После того случая, когда Уэсли случайно поцарапал меня, мы с ним переехали в спальню в другом конце дома, чтобы обезопасить семью Вэнди. Комната подходила нам идеально: она была достаточно просторной для летных экзерсисов Уэсли, к тому же между ней и остальным домом были аж две двери — первая вела из спальни в ванную и по совместительству прачечную, а вторая — уже к другим жилым помещениям. Таким образом, если бы Уэсли попытался сбежать и выскользнул из спальни, в основную часть дома он все равно не попал бы.
В той комнате Уэсли и оттачивал свое искусство летать. Он прыгал с кровати, пролетал на полной скорости через всю комнату и со всех сил бросался на диван. Он вцеплялся в него когтями и истово махал крыльями, будто бы пытаясь его поднять. Иногда он взмывал обратно в воздух, переворачивался на ходу и атаковал подушки. Периодически он промахивался и вместо этого врезался в картины на стене, хватая их когтями за рамы, и махал крыльями, стуча картинами о стену. Это позволяло ему отрабатывать движения и заодно укрепляло его крылья, поскольку, чтобы не упасть, отцепившись от картины, ему требовалось быстро развернуться в воздухе. Вскоре он уже носился по комнате, огибая углы, как профессиональный гонщик, — поворачиваясь всем корпусом в последний момент и пролетая на волосок от стены.
В этом возрасте Уэсли уже обладал силой полноценного охотника, но вместе с тем простотой и неопытностью новичка. Первый год полетов — это период, пожалуй, наибольшей уязвимости в жизни дикой совы. У нее еще просто недостаточно опыта, чтобы определять, что в жизни опасно, а что — нет. Поэтому я постоянно волновалась за Уэсли, боясь, что он тем или иным образом поранится. Сама природа, однако, помогает молодым совам, наделяя их в этот год более длинными перьями на крыльях и в хвосте, чем те, что вырастут у них позже. Более длинные маховые перья обеспечивают им большую стабильность полета, хоть и за счет маневренности. Именно по такому принципу учат военных пилотов — сперва они летают на самолетах с длинными крыльями, стабильных, но не предназначенных для сколько-нибудь сложных маневров. Затем, когда пилот набирается опыта, его пересаживают на самолеты со все более и более короткими крыльями, и наконец — на крайне маневренные истребители, на которых можно участвовать в перестрелках, разворачивая их в бою одним легким движением кисти. Как ни странно, природа точно таким же образом обучает начинающих сов-пилотов. Я так и не смогла найти ни одной научной работы, в которой сравнивалась бы длина хвостов и крыльев сипух в разные периоды жизни, но личный опыт позволил мне примерно определять это на глаз. Я всегда могла навскидку сказать, год сове или уже больше, по длине перьев на крыльях и в хвосте. Научные работы на эту тему, посвященные соколам, есть, и они подтверждают мои наблюдения.
Одним из самых сложных приемов для Уэсли оказалось как раз зависание в воздухе. Обычно сипухи не зависают на одном месте подолгу, поскольку их это выматывает. Но уметь парить так некоторое время, выслеживая добычу там, где нет возвышенности и некуда временно приземлиться, они обязаны. Также им часто бывает необходимо зависать рядом с гнездом, чтобы покормить мышами своих птенцов. Лучшими «вертолетами» среди хищных птиц я считаю северных луневых ястребов. Зрелище такого выслеживающего добычу охотника, висящего над поляной, ни на дюйм не меняя положения, поистине завораживает. Они, судя по всему, обладают недюжинной выносливостью, а летают весьма элегантно и грациозно. Чтобы зависнуть в воздухе, птица должна махать крыльями более-менее горизонтально, причем это «более-менее» должно быть идеально сбалансировано. Часть крыла держит высоту, то есть двигается в вертикальной плоскости, а часть не дает птице улететь вперед, то есть двигается горизонтально. Принцип, на самом деле, тот же, что и у пловца, зависающего на одном месте в воде: одними движениями рук он как бы отталкивает воду вниз, чтобы оставаться на плаву, а другими — не дает себе двигаться вперед, загребая руками горизонтально.
Зависать в воздухе весьма непросто, так что совы учатся этому навыку довольно долго. Уэсли, к примеру, постоянно либо срывался вперед, либо падал вниз, пытаясь осмыслить весь процесс, сбалансировать движения и добиться моментального ответа мышц крыльев на команды мозга. Чем дольше он оттачивал зависание, тем удивительнее казалось, что бóльшая часть юных птиц осваивает его так быстро.
Мне однажды довелось «полетать» на настоящем боевом полетном симуляторе, и я вполне сносно управлялась с SR‐71 — огромным, довольно неуклюжим самолетом, предназначенным для длинных, стабильных перелетов на экстремальной высоте, близкой к орбите. SR‐71 показал себя во всей красе, проводя разведку во времена холодной войны — он подходил для этого идеально. Так вот, на нем в симуляторе я не разбилась бы, даже, наверное, задавшись такой целью. Однако, «пересев» на маневренный истребитель с короткими крыльями, я очень долго мучилась, просто пытаясь взлететь на нем, не потеряв равновесие и не разбившись прямо на взлетной полосе. Собственно, я так и не смогла его выровнять. Все это в сумме наглядно показывает, какое огромное значение имеет длина крыла.
Хоть Уэсли частенько довольно громко врезался в разную домашнюю утварь, сам его полет был абсолютно бесшумен. Совы — единственные птицы, способные летать, не издавая ни единого звука. В отличие от остальных птиц, у них очень мягкие маховые перья с зазубренными краями, которые гасят звук при полете. Это, во‐первых, позволяет совам не отвлекаться на шорох собственных крыльев, когда они выслеживают жертву. А во‐вторых, благодаря этому они могут подлетать к жертве незамеченными. Перья Уэсли были настолько мягкими, что по-настоящему ощутить их мягкость я могла лишь коснувшись их губами — подушечки моих пальцев были просто-напросто слишком грубы для этого. Даже кончики перьев у сов настолько бархатистые, что внешняя поверхность их крыльев не издает звука в полете. Маховые перья второго порядка, в свою очередь, настолько пушисты, что напоминают скорее пуховые перья. Пером Уэсли можно было абсолютно беззвучно на полной скорости рассечь воздух.
В мире мало вещей, которые способны напугать человека больше, чем внезапное приземление совы ему на голову. Из-за того, что Уэсли летал беззвучно, единственное, что могло выдать его маневр, — это звук при взлете. Дело в том, что он предпочитал отдыхать, сидя или стоя на одной ноге, а перед взлетом опускал вторую. После ряда малоприятных инцидентов с запутыванием в волосах и острыми когтями в непосредственной близости от моего лица я научилась слышать этот негромкий шлепок лапы. Услышав его, я «готовилась к столкновению» и застывала на месте — если уж он собирался сесть мне на голову, то лучше пусть это будет мягкая посадка, а не очередная авария. Уэсли был довольно аккуратен в этом плане, если только не начинал терять равновесие — он ведь понимал, что садится на меня.
Перья сов вообще довольно уникальны. Тела большей части птиц покрыты специфическим белым порошком, причем его особенно много у попугаев и близких к ним видов. У некоторых птиц (цапель и голубей) есть даже особый вид перьев, которые не выпадают при линьке — так называемые «порошковые перья», они и производят это вещество, которое птица потом распределяет по всему телу при чистке. Но этот порошок хорошо заметен даже у птиц, не обладающих особыми перьями. У сипух этого порошка нет. У какаду Вэнди, Омара, его было столько, что каждый раз, когда он отряхивался, вокруг него поднималось целое облако. После каждого сеанса расчесывания Омара наши с Вэнди пальцы оказывались покрыты плотным слоем белой пыли. А после расчесывания Уэсли мои пальцы оставались абсолютно чистыми.
Почти все птицы вырабатывают в специальной надхвостной железе, расположенной, как следует из названия, в основании хвоста, особое маслянистое вещество, которое они размазывают по перьям, чтобы те дольше служили. Уэсли фанатично щипал эту железу клювом, руководствуясь, видимо, неким древним инстинктом, так как у сипух эта железа является рудиментом и ничего не выделяет. Однако Уэс все равно щипал это место и потом будто размазывал несуществующую жидкость по перьям.
Поскольку сипухи не могут смазывать свои перья, они колоссально проигрывают перед остальными птицами в плане водостойкости. Они быстро промокают и порой даже не могут летать из-за потяжелевших от воды перьев. Если сова не найдет способ быстро обсохнуть, она может замерзнуть и погибнуть от холода. Возможно, именно поэтому в ходе эволюции совы приучились жить в дуплах деревьев. Намокший пух — это мерзкая и вдобавок довольно тяжелая субстанция, вам это с готовностью подтвердит любой, кому хоть раз в походе приходилось спать в мокром пуховом спальнике.
Уэсли становился все более и более активным по ночам. Он стал подтаскивать свой насест к моей кровати (что стоило ему немалого труда) и залезать ко мне под одеяло, чтобы я проснулась и поиграла с ним. Естественно, так в итоге и получалось — все равно мне приходилось вставать, чтобы вернуть на место насест. Я спускала Уэсли с поводка и начинала шевелить ногами под одеялами (предварительно удостоверившись, что одеял именно несколько друг поверх друга), а Уэсли на них «охотился». Когда я спала днем, то обычно тоже спускала его с поводка, поскольку в это время его обычно клонило в сон и чаще всего он присоединялся ко мне в царстве Морфея. Чаще всего в таких случаях он облюбовывал себе для сна какое-нибудь местечко повыше — стопку книг на столе или одну из клеток с амадинами, — но иногда он засыпал, примостившись у меня на плече или на голове. Правда, однажды я проснулась, лежа на боку, с Уэсли, спящим у меня на голове, и обнаружила, что его лапа была расположена так, что один из его длинных изогнутых когтей находился у меня прямо в слуховом канале, едва не касаясь барабанной перепонки. Я боялась пошевелить головой, но аккуратно подняла руку и медленно вытащила коготь у себя из уха. Тогда-то я и решила, что Уэсли нужна своя собственная подушка для дневного сна. Сам он отнесся к ней совершенно естественно, будто у него уже была такая, и сразу уяснил, что его место в моей постели — на этой подушке.
Уэсли был чертовски эмоционален еще с тех пор, как только-только открыл глаза, но теперь, в возрасте трех месяцев, когда он наконец «покидал гнездо», он стал выражать свое мнение и свои чувства по поводу буквально всего, что его окружало. Еще он начал отдаляться от всех обитателей дома, не считая меня, как делают совы в дикой природе, оставляя родителей в поисках партнера. Вэнди уже не могла просто так подойти к Уэсли и погладить его: он отстранялся и шипел на нее, иногда даже делая угрожающие выпады в ее сторону.
— Видимо, прошли деньки обнимашек с малюткой Уэсли, — сказала она как-то раз. — Думаешь, он позволит мне к себе прикоснуться?
Я ответила, что попробовать в любом случае стоит. Я держала привязанного Уэсли на руках, а Вэнди медленно и осторожно приближалась к нему, мягко и успокаивающе приговаривая:
— Ну вот, все хорошо, видишь? Хороший мальчик, Уэсли хороший, все в порядке…
Уэсли не дергался и разрешил себя погладить. С тех пор он позволял ей это делать, если она вот так медленно и аккуратно приближалась, а я при этом на всякий случай держала его на руках. Наверное, это в какой-то степени давало ему чувство защищенности под маминым крылом.
Уэсли быстро определился с тем, кому он позволял подобное, а кого — на дух не переносил. Последнюю категорию составляли в основном мужчины, собаки и люди, с которыми он не был знаком с младенчества (за редкими исключениями). Несчастная собака Кортни никак не могла взять в толк, почему ее маленький друг ее разлюбил, но угрозы Уэсли поняла и приняла и в комнату к нему заходить больше не пыталась. Уэсли всегда нравились мои мама и сестра, видимо потому, что они напоминали меня внешностью и голосами. Иногда, впрочем, ему нравились те или иные люди по причинам, мне неведомым и решительно непонятным, кроме разве что любви к животным, терпеливости, мягкости голоса, плавности движений и того, что он сам им нравился. Одна женщина, ставшая его няней годы спустя, часто сидела на ступеньках у двери и читала ему вслух. Он всегда по-особому доверял Вэнди, а позднее — еще и моей близкой подруге Кейт Рид, которая в целом похожа на меня и, как и я, хорошо разбирается в животных и понимает их. Если чужаки не отходили далеко от двери, Уэсли ничего не имел против. Он иногда угрожал им, но никогда не нападал. Если он не был привязан и мог взлететь куда-нибудь повыше, где он чувствовал себя в безопасности, он даже впускал незнакомцев в комнату в моем сопровождении. Но к себе он их не подпускал и перелетал на другой конец комнаты, стоило кому-нибудь двинуться в его сторону. Проверять, что будет дальше, я никому не позволяла. Ушло время доверчивого малыша Уэсли. Теперь он был подростком.
Однако, как и у большинства подростков, у него все еще случались накладки с полетами, и он безумно этого стыдился. Он все еще не до конца отточил мастерство посадки и периодически проезжал через весь мой рабочий стол и тормозил о стену напротив, однако с каждым новым днем практики он стеснялся все меньше, и все больше наслаждался тем, что умеет это делать. А свой восторг от полетов Уэсли умел выражать огромным количеством способов.
6 Крылатый котенок атакует
В НАШЕЙ СПАЛЬНЕ в доме Вэнди обычно царил полумрак, но в остальном она ничем не отличалась от любой другой спальни, набитой плюшевыми игрушками. Правда, однажды у одной из игрушек угрожающе заблестели глаза. То был Уэсли — он неподвижно сидел, пригнувшись и не отводя взгляда от небольшого предмета перед ним. Внезапно его голова начала быстро крутиться и двигаться из стороны в сторону и сверху вниз. В одно мгновение он сорвался с места, взмыл в воздух и со всей силой обрушился на свою новую жертву — резинку для волос. Он набрасывался на нее вновь и вновь, взлетал в воздух и снова хватал ее когтями, «убивая» ее раз за разом.
Удовлетворенный окончательно и бесповоротно «убитой» резинкой, он обратил свое внимание на следующую жертву — несчастный пустой контейнер из-под пленки. Уэсли пролетел через всю комнату, набирая скорость, и изо всех сил налетел на контейнер. Хрясь! Уэсли атаковал вновь. Хрясь! Он прижал жертву к земле лапами и нанес клювом удар, который непременно сломал бы контейнеру позвоночник, если бы он у него имелся. После этого Уэсли впервые за всю охоту взглянул на меня и испустил свой новый победный клич: «Дии, дии, дии, ДИП-ДИП-ДИП-ДИП, дии, дии, дии!» Я тихо его похвалила, и он зашел на победный круг вокруг комнаты. Совсем скоро он будет готов к первой встрече с живой мышью.
Совы не сбиваются в стаи, они — убежденные одиночки, если не считать партнера и птенцов. Из-за этой врожденной склонности связь Уэсли со мной лишь крепла со временем, а к любым другим живым существам он относился враждебно. Если в комнату заглядывал кто-то, кроме меня, он с некоторых пор стал странно кривляться — я называла это «совиным не-не-не», потому что он как будто отрицательно тряс головой.
Впервые я лицезрела «совиное не-не-не» в Калтехе, столкнувшись с птенцом сипухи в секции, где держали диких сов. Уэлси стоял на полу вольера, скрючившись, будто от боли, и терся клювом о пол. Я тут же подбежала, пытаясь ему как-то помочь, но он на меня не реагировал, разве что стал тереться клювом еще сильнее. Может быть, он задыхался? Я встала на четвереньки и попыталась заглянуть ему в лицо, чтобы понять, что с ним не так. Я довольно долго так стояла, но он так и не изменил своего странного поведения и ни разу не отреагировал хоть как-то на мое присутствие. Я подумала, что ему, должно быть, совсем плохо, и помчалась в кабинет к доктору Пэнфилду сообщать о несчастном случае.
— Успокойся, — сказал он мне, — опиши в точности его поведение.
— Фух, доктор Пэнфилд, он весь сгорбился, клюв у самого пола, качает головой, словно говорит «нет, нет, нет». Я подошла проверить…
— Ты подошла?
— Да, подошла и села на пол рядом с ним, чтобы понять, что с ним случилось, к самому клюву наклонилась, но ничего такого не увидела…
— ЧТО ты сделала?! — он аж вскочил из своего кресла. — Да ты разве не знаешь, что это у сипух — последнее предупреждение, после которого они впиваются в лицо? Тебе повезло, что ты осталась с глазами, Стэйси. Он пытался тебе объяснить, что сейчас тебя убивать будет.
Я внезапно почувствовала слабость во всем теле. Чудом пронесло.
— Ну и дурацкое какое-то предупреждение, — буркнула я, смутившись из-за своего невежества. — Он ведь даже меня не видел, как он мог мне угрожать? Да и кто в здравом уме примет нечто настолько смешное и странное за угрозу?
Доктор Пэнфилд в ответ лишь моргнул.
Неясно, опознают ли другие животные в таком поведении угрозу. По крайней мере, выглядит оно довольно дико — в теории этого может оказаться достаточно, чтобы отпугнуть другого зверя. Однако наиболее вероятно, что понять такое предупреждение способна лишь другая сова. Судя по всему, «не-не-не» свойственно исключительно сипухам. Все виды сов, включая сипух, сначала разворачивают вперед крылья и распушают перья, чтобы казаться крупнее, и раскачиваются из стороны в сторону, двигая головой, шипя и клацая клювом, однако лишь сипухи после этого переходят к «не-не-не», делая противнику последнее предупреждение. Раскачиваясь, они становятся похожи на монстра из фильма «Чужой», который тоже выгибался и угрожающего раскачивался. Шипение так и вообще понимают как угрозу, кажется, почти все животные в мире, и многие распушают перья или шерсть, или вообще надуваются, чувствуя опасность. Вспомнить хотя бы лебедей или кошек — и те и другие нахохливаются и шипят. У «не-не-не» есть одно кардинальное отличие, делающее такое поведение не сильно похожим на угрозу — у сов в этот момент отсутствует прямой зрительный контакт с врагом. Но если вспомнить об основном источнике информации сов — слухе, то все становится на свои места. Наверняка они скорее среагируют на атаку не при виде движения, как мы, а при едва различимом звуке напряжения мышц врага, готовящегося к прыжку. Нам крайне сложно представить себе ход мысли сипухи, потому и многие их действия кажутся нам странными или смешными — для самих же сипух все они весьма логичны, и это — самое главное.
Теперь, когда Уэсли повзрослел и отдалился от окружающих, я осталась единственной, кто мог наблюдать за его забавными проделками. Я пыталась описать друзьям его удивительные полеты и лихие маневры, но они не особенно мне верили. Один мой друг, Курт, умолял меня придумать, как спрятать его в комнате так, чтобы он смог понаблюдать за играми Уэсли. Наконец, я сдалась, решив, что если положить Курта на кровать и тщательно укрыть кучей постельного белья, то, если он будет абсолютно неподвижен, как полевой биолог, наблюдающий за дикими животными, лежа под маскировочной сеткой, я смогу принести в комнату Уэсли и Курт сможет за ним понаблюдать. Курт радостно поддержал мой гениальный план, сказав:
— Если со мной прокатит, можно будет и остальным показать.
Я оставила Уэсли одного в ванной, а Курт тем временем тихо прокрался в спальню. Мы завалили его грудой одеял и простыней, оставив маленькую дырочку.
— Так, ладно, — сказала я. — Запомни: что бы ни случилось — не смей шевелиться. И чтобы ни звука. И еще: главное — терпение! Если он, играя, исчезнет из твоего поля зрения — не шевелись, дождись, пока он вернется, ладно?
Курт, дюжий детина-норвежец из Южной Дакоты, способный в одиночку спустить по лестнице целый холодильник, ощутимо занервничал.
— А что мне делать, если что-нибудь пойдет не так? — спросил он.
— А что может пойти не так? — нетерпеливо спросила я. — Я вернусь минут через двадцать. Если он не станет играть — попробуем в другой раз.
Успокоив Курта, я добавила:
— Всё, теперь тихо. Я пошла за ним.
— О’кей, — донеслось из-под горы белья.
Я внесла Уэсли в комнату, вышла и закрыла за собой дверь, как делала всегда, оставляя его летать и развлекаться самостоятельно. Я решила не сидеть в комнате, поскольку надеялась, что если вдруг он все же услышит под одеялами чье-то дыхание, то решит, что это я, забыв, что я вышла. Я ушла в другую часть дома, встретилась с Вэнди и Энни, мы с подругой заболтались, и я потеряла счет времени, так что на самом деле прошло не двадцать, а около сорока пяти минут, прежде чем я решила вернуться и оценить обстановку. Я стояла с другой стороны двери, надеясь услышать, как играет Уэсли, однако не услышала ровным счетом ничего. В комнате было тихо, как в склепе.
Я открыла дверь и увидела следующую картину: Уэсли стоял на кровати буквально в дюйме от смотрового отверстия Курта, раскачиваясь из стороны в сторону, нахохлившись и развернув крылья вперед в классическом жесте предупреждения. Периодически он делал «не-не-не» и слегка бросался вперед, щелкая клювом и шипя.
Из-под одеял раздалось едва слышное:
— Помогите…
— Ты чего делаешь, Уэсли? — спросила я, подняв бузотера и пристегнув к насесту.
Курт сбросил свою неудачную маскировку. Он был весь вспотевший и бледный, с неповторимой легкой зеленцой в лице.
— Ты куда пропала? — спросил он.
— Э-э, ну… Я думала, что у вас тут все в порядке. Когда он тебя нашел?
— Когда? Когда?! Да в ту же гребаную секунду, когда ты закрыла дверь, вот когда! Он тут же подлетел ко мне и два часа кряду грозился выколоть мне глаз!
— Курт, — сказала я, — Прошло всего минут сорок пять.
— Сорок пять минут? Ну, знаешь… Сама попробуй сорок пять минут пролежать рядом с совой, которая постоянно щелкает клювом прямо перед твоим глазом!
Я едва сдержала не сильно уместный смех.
— Курт, прости. Я была уверена, что все получится. По крайней мере, мы попытались.
Я должна была сразу догадаться, что Уэсли никогда не примет чужого человека, дышащего под одеялом, за меня. Я просто катастрофически недооценила его ум. В конце концов, если сова способна услышать сердцебиение мыши под снегом, то уж сердцебиение здоровяка Курта явно не пропустит и не примет за мое.
Курт вышел из комнаты, старательно обходя насест Уэсли, а тот последний раз дернулся и клацнул клювом ему вдогонку.
Теперь, когда Уэсли уже неплохо летал, ему требовался новый, взрослый насест. Я купила насест для попугаев и слегка доработала его своими силами. В итоге получилась конструкция примерно четырех с половиной футов в высоту, с деревянной перекладиной наверху, где Уэсли мог стоять, и круглой платформой внизу, около трех футов в диаметре. К перекладине я привязала поводок таким образом, чтобы он ни в чем не запутывался и не перекручивался, а область под перекладиной я набила кусочками кожи и мелкой проволочной сеткой, чтобы Уэсли ненароком не обмотал поводок вокруг нее и не оказался прикован к месту.
Платформу я застелила полотенцами и примотала кусочки кожи скотчем. Коробка-гнездышко канула в лету. На своем новом насесте Уэсли выдумал новую игру.
Однажды поздно ночью (в три часа утра, если быть точной) я, вместо того чтобы спать, наблюдала за играми Уэсли. Он точно знал длину своего поводка и летал кругами ровно по окружности, играя в «вертолетик», а потом бросился на насест, изо всех сил ударяя по перекладине выброшенными вперед лапами так, чтобы силу удару сообщили все мышцы от груди до самых пальцев. Бам! Какой удар! В моей голове этот звук стал прочно ассоциироваться со счастьем. После этого он спрыгнул с перекладины на платформу с глухим «пум!».
Потом он намеренно спрыгнул с платформы и повис вниз головой, как гигантская золотистая летучая мышь. Наслаждаясь видом из положения вверх ногами, он оглядел комнату. Когда он сделал это впервые я попыталась помочь ему перевернуться, но он так раздраженно взбрыкнул, что я оставила его в покое и больше не вмешивалась. Когда ему надоедало болтаться вниз головой, он дотягивался когтями до полотенец на платформе, цеплялся за них и подтягивался при помощи мышц живота, как заправский гимнаст на турнике. Он развлекался этим на протяжении всей своей жизни. Я часто заходила в комнату и заставала его в этом положении. Иногда я все же поднимала его обратно на насест, чтобы убедиться, что все хорошо, но с ним всегда было все в порядке. Я знала лишь один пример подобного поведения у сов в дикой природе, да и то по фотографии, на которой сова свисала с ветки с точно таким же, как у Уэсли, довольным выражением лица. Фотограф утверждал, что у нее все было под контролем, так как она с легкостью подтянулась и села обратно на ветку, когда ей наскучило. Вороны, кстати, иногда тоже так развлекаются.
Все документальные фильмы о дикой природе по телевизору в один голос утверждают, что игры нужны молодым особям для развития необходимых для выживания боевых и охотничьих навыков, координации и мышечной силы. Но это распространенное мнение на самом деле довольно далеко от правды — представители некоторых видов не играют вовсе, однако вполне себе выживают. На маленькой ферме Вэнди вместе с нами жили, помимо прочих, куры, гуси, австралийские попугаи и какаду, за которыми мы внимательно наблюдали на каждой стадии их развития. Личный цыпленок Энни, Эркомер, никогда не пытался играть с ней, хоть и был, естественно, абсолютно ручным. Другие же виды птиц, такие как попугаи и их близкие сородичи — и да, совы, — продолжают играть, даже будучи уже совсем взрослыми. У одной знакомой Вэнди жила малая ушастая сова, которая постоянно играла, подобно котенку с крыльями, уже в глубокой старости.
Я не думаю, что игры у животных напрямую связаны с охотничьими инстинктами, поскольку даже во взрослом возрасте играют не только хищники, такие как совы, выдры, кошки и собаки, но и, например, крысы, мыши, бурундуки и козы. В одном заповеднике, где я работала добровольцем, жили бенгальские тигры, которые часами играли, плескаясь в своем бассейне. Один из них всюду таскал с собой свой любимый красный мячик — он сам себе его кидал, катал по земле носом и бросал в воду, а затем прыгал за ним. Иногда он вытаскивал его из воды, ложился на спину и начинал жонглировать им всеми четырьмя лапами, как котенок. Его товарищи частенько присоединялись к нему, катаясь по земле и рыча, как набирающие обороты «харлеи».
Так почему же одни животные так склонны к играм, а другие — нет? Или же они все любят игры, и дело лишь в том, что мы не способны опознать игру в их поведении? Так или иначе, играют животные абсолютно точно не только для развития полезных навыков. Это крайне интересная тема для масштабного исследования, лишенного предвзятости многих западных ученых, которые выступают против применения к животным понятий «развлечение» или «азарт» из нежелания их очеловечивать.
В тринадцать лет Уэсли любил играть не меньше чем в год. Конечно, я могла бы сказать, что он просто привык к определенным поведенческим паттернам, провоцирующим выплеск эндорфина в кровь, но зачем? Может, ему это просто нравилось. Откуда взялись наши собственные чувства, если не от наших животных предков? Многие человеческие эмоции весьма похожи на эмоции животных. Мы — это они, а они — это мы.
Однажды, когда я спустила Уэсли с поводка, он спикировал на подушки на моей кровати, тут же взмыл обратно в воздух и, практически не теряя скорости, перелетел через всю комнату и врезался в диван, вонзив в него свои когти и оставив на нем глубокие отметины — котенок с крыльями, ни дать ни взять. Затем он подлетел к висящей на стене картине, схватился за раму и замахал крыльями, стуча ею о стену. Наконец, он отпустил картину, ловко развернулся в воздухе боком и спланировал на пол. На полу он тщательно исследовал каждый уголок комнаты, каждый чемодан, каждую коробку и сумку. Потом он на полной скорости побежал по направлению к шкафу, дверцу которого я оставила открытой, и запрыгнул внутрь.
Некоторое время я слышала, как он там рылся, а затем все стихло. Хмм, как-то подозрительно тихо. Я уже начала волноваться и заглянула в шкаф посмотреть, как он там. В шкафу обнаружился Уэсли, балансирующий на шпагате, зацепившись лапами за два платья. Он застрял, причем в совершенно нехарактерной для него манере — застрял тихо. Я вспомнила, что в дикой природе животные, попав в беду, чаще всего стараются замереть и не двигаться, чтобы не привлечь хищников в момент своей беспомощности. Он наверняка переволновался, застряв в неведомом прежде пространстве, но все же позволил себя вытащить и вернуть на насест.
То был далеко не последний раз, когда Уэсли решил заняться альпинизмом в моем шкафу. Смотря с пола на темные промежутки между вещами, он наверняка инстинктивно воспринимал их как дупла в деревьях. В порыве исследовать «дупло» он карабкался вверх по моим платьям, подобно скалолазу, который поднимается между двумя утесами враспор. В какой-то момент его лапы оказывались расставлены слишком широко, и он застревал в таком положении, цепляясь когтями. Находя его в этой позе, я обычно слегка подталкивала его снизу, помогая добраться до вешалок.
Вскоре вся моя одежда стала выглядеть так, будто кто-то тщательно истыкал ее шилом. Я, впрочем, продолжила ходить в дырявом, решив, что профессия биолога — достаточное оправдание. Ученые в массе своей не особо интересуются модой и не придают значения своему облику в глазах окружающих, хоть в научных кругах и существовует некий особенный стиль. Если бы я опросила весь Калтех, мало кто сумел бы мне ответить, что такое «Прада», не говоря уже о том, какие туфли были популярны в каком сезоне. У нас все проще — душ принял, побрился, чего еще надо? У одного из моих коллег было десять абсолютно идентичных пар серых штанов, белых рубашек и белых носков, которые он носил вместе с одной и той же неизменной парой сандалий «Биркеншток». Он десятилетиями ходил на работу в одном и том же наряде и не парился насчет обновок. И его стиль был вполне типичен и нормален среди ученых.
Уэсли оставлял свои следы практически на всем, что у меня было, и я все больше и больше предметов отдавала ему на откуп — одежду, книги, бумаги, одеяла и мебель. Мне было вовсе не жалко — благодаря Уэсли я чувствовала себя самым счастливым человеком на земле. Каждая дырка от когтя напоминала мне о великолепии моего малыша и его неповторимой личности. Я даже оставляла на память разодранные им книги, потому что на них были следы его клюва, настолько я была им одурманена.
Конечно же, я часто играла с Уэсли. Одна из наших первых игр — охота на мои ноги под одеялом, — вышла в какой-то момент на новый уровень. Сперва он просто бегал за ними по кровати, однако, научившись летать, он стал подниматься над кроватью, разворачиваться, целиться и пикировать на мои ноги с растопыренными когтями. Потом он делал круг вокруг комнаты и заходил на следующую атаку.
Конечно, случались и ошибки. Однажды во сне я высунула ногу из-под одеяла, и он, конечно же, на нее набросился. Я подскочила и заорала от боли и неожиданности, напугав Уэсли до того, что он некоторое время панически носился по комнате, прежде чем мне удалось поймать и успокоить его. Он, естественно, повел себя по своему стандартному сценарию «мне так стыдно» — отталкивал меня, отказывался на меня смотреть и пытался просверлить взглядом стену. Но я старательно баюкала его, приговаривая: «Все в порядке, все хорошо». Естественно, все было не совсем хорошо — моя нога в это время истекала кровью, но это могло подождать. Его вины в произошедшем не было — в конце концов, это ведь я приучила его к этой игре.
Поскольку совы не живут стаями, у них нет социальных установок для того, чтобы наказывать друг друга. Таким образом, любое проявлении агрессии Уэсли воспринял бы, как угрозу и покушение на свою жизнь. Именно поэтому первое правило обращения с хищными птицами гласит: никогда не проявляй к ним никакой агрессии. Их бесполезно пытаться воспитывать, как ребенка или собаку, — они этого просто не поймут. Я никогда не повышала голос на Уэсли и не делала ничего, что он мог бы воспринять как агрессию, даже если он подвергал себя серьезному риску. Все, что я могла, — это аккуратно отстранить его или унести прочь, пока он не навредил себе или мне своими действиями. В конце концов он понял, что определенных вещей делать нельзя, но пришел к этому знанию несколько по-другому. На это ушло гораздо больше времени и моего терпения, чем у любого среднестатистического родителя или владельца какого-нибудь животного.
Уэсли был весьма своенравен и не подчинялся мне. Скорее, он жил со мной по принципу взаимовыгодного сотрудничества. Я не занималась его дрессировкой как таковой — я просто старалась оберегать его от самого же себя. Он многому у меня учился, как учился бы у мамы-совы, но не путем поправлений, поощрений или наказаний, а, скорее, путем наблюдения за мной и принятия решений, как себя вести в той или иной конкретной ситуации. Я, в свою очередь, была абсолютно не заинтересована в том, чтобы как-то его менять или переламывать, ведь я сама училась у него тому, каково это — быть совой. Приручение животного вовсе не подразумевает также его дрессировку. Я не дрессировщица.
Социальных животных в целом гораздо легче чему-то обучить, так как они мыслят схожим с нами образом; они понимают, что иногда агрессия — это просто временная реакция на их неправильное поведение. Волки рычат и скалятся на членов своей стаи, как бы говоря: «Отвали!» — и таким образом избегают ненужных потасовок, которые подчас заканчиваются летально. Они по-разному воспринимают проявления агрессии. Совы же всегда воспринимают агрессию однозначно. Сова думает, что ты пытаешься ее убить, и всю жизнь потом помнит, что ты покушался на ее жизнь. Так что стоит хоть раз облажаться и накричать на хищную птицу или, боже упаси, сделать какое-то угрожающее движение в ее сторону, и она никогда уже не станет относиться к тебе так же, как прежде. У сов просто нет концепции такого поведения. Вот и всё. В природе не бывает вторых шансов. Таков Путь Совы.
Одной из причин, по которой я переехала жить к Вэнди, была ее малышка Энни, с которой нужно было помогать, когда ее папа — муж Вэнди — был в разъездах. Я с радостью нянчилась с ребенком, поскольку своих детей у меня не было. По примеру Вэнди я никогда не произносила имя Энни со злостью в голосе и никогда не говорила «нет» за исключением самых крайних случаев. Обычно мы с Вэнди говорили ей: «Это не для детей» каждый раз, когда она тянулась к чему-то для нее небезопасному. Слово «нет» звучало только в случае непосредственной серьезной опасности.
Зная, что вести себя с Уэсли следует не менее осторожно, чем с Энни, я переняла в общении с ним стратегию Вэнди и никогда не говорила «нет» по пустякам. Всякий раз, когда он начинал возиться с чем-то небезопасным, я говорила: «Это не для сов» — и мягко отстраняла его от этого предмета или отбирала его. Из-за того, что Уэсли приковывал все свое внимание к заинтересовавшему его объекту, мне часто приходилось чем-то его отвлекать. Например, заставить его отпустить мышь у меня получилось, только когда я сумела занять его чем-то другим, иначе он бы просто подрался со мной за нее. Слава богу, забирать у него мышь мне приходилось всего несколько раз в жизни, например, когда она была непригодна ему в пищу.
Энни со временем оценила всю серьезность произнесенного вслух «нет» и стала только что не замирать на месте, услышав его от одной из нас. Уэсли, однако, в подобной ситуации замирал лишь на пару секунд — поразмыслить на тему того, стоит ли прислушиваться ко мне или же нет. Несмотря на то что он прекрасно знал значение этого слова, он все равно оставался собой — упрямой и дикой совой. Большинство людей предпочитают иметь дело с социальными животными, так как те обычно более податливы. Своеволие сов часто трактуется совершенно неверно. Мне как-то сказали, что совы «тупые», а позже выяснилось, что тот человек имел в виду невозможность натаскать сову на выполнение команд. А это меж тем — две совершенно разные вещи. Сова как раз весьма и весьма умна, просто она — сама себе голова и не станет подчиняться никому из окружающих. А с какой стати? В дикой природе совы — одиночки, хоть и безгранично преданы своим партнерам.
В первый год жизни Уэсли я неотрывно наблюдала за ним во время всех его игр и развлечений, следя, чтобы он ничем себе не навредил. Опасность таилась на каждом углу, и в мои материнские обязанности входило практически ежедневное спасение его жизни. Помимо оборудования спальни специальной «защитой от детей», я тщательно контролировала все, что могло попасть в нашу комнату. Стаканы и вазы, к примеру, были под запретом, так как Уэсли мог их разбить и пораниться осколками. Помимо очевидно токсичных жидкостей вроде средств для удаления засора и отбеливателей, опасны были любые напитки, содержащие кофеин — то, что мы потребляем для заряда бодрости каждое утро, способно вызвать у птицы сердечный приступ. Растения могли быть опасны из-за целого ряда составляющих, поэтому их я тоже держала подальше от Уэсли. Никаких пластиковых пакетов — Уэсли мог засунуть в такой пакет голову, запутаться в нем и задохнуться. В конце концов, пришлось снять все картины, так как периодически в ходе своих игр Уэсли падал на пол вместе с ними и ушибался. В комнате не было предметов, которые могли врезать ему по лицу при приземлении на их край, таких как блюдца и тарелки. Любые сколько-нибудь ценные документы хранились строго в выдвижных ящиках, чтобы Уэсли не добрался до них и не порвал на кусочки.
Поскольку мы жили в стране с относительно высокой сейсмической активностью, вся мебель была прикреплена к стенам дюбелями, а на стене рядом с насестом Уэсли не висело ничего, что могло бы упасть. Землетрясения обычно начинались с легких толчков, которые тут же настраивали всех на отработанное поведение при ЧП.
Под насестом Уэсли стояла его переноска, в которую я тут же засовывала его при первых подземных толчках. Он, кажется, примерно понимал происходящее, потому как спокойно сидел в переноске, вполне довольный жизнью, пока все не успокаивалось и я не выпускала его обратно.
Время летело стрелой. Казалось, я только пару недель назад забрала Уэсли к себе, и вот он уже празднует свой первый день рождения — десятое февраля. Мы с доктором Пэнфилдом прикинули, что в нашу первую встречу в Калтехе в День святого Валентина ему должно было быть дня четыре, так что я официально постановила, что день рождения (или день вылупления?) у него — десятое число. Я решила, что настало время впервые дать ему живую мышь, в честь всего, чему он научился и чего достиг за этот год. В конце концов, он уже некоторое время оттачивал свое мастерство охотника — так почему бы не позволить ему попрактиковаться на настоящей жертве? Я, однако же, весьма серьезно подошла к вопросу и оставалась неподалеку, чтобы вмешаться, если он станет мучить или пугать мышь вместо того, чтобы мгновенно ее убить.
Я взяла маленькую мышку и посадила в душевую кабину, из которой она не могла выпрыгнуть. Это давало Уэсли время на то, чтобы спокойно прицелиться и схватить ее. Я была уверена, что Уэсли взлетит, спикирует на мышь, схватит ее когтями и ударит клювом по шее, как в случае с тем контейнером для пленки. Не тут-то было. Уэсли испугался живой мыши до трясучки — спрятался за дверью ванной комнаты и тихо шипел. Собрав в когтистый кулак остатки храбрости и гордости, он все же вышел к мыши и встал перед ней, медленно делая «совиное не-не-не». Не чувствуя никакой угрозы, мышь продолжала умывать мордочку. Доктор Пэнфилд предупреждал, что сова, росшая с человеком, никогда не научится охотиться сама, так что этого, в принципе, следовало ожидать. Причин тут могло быть несколько. Для начала очевидно, что сова, выращенная человеком, за отсутствием родителей этого самого человека и копирует. Гораздо интереснее было то, что он стал угрожать мыши. Возможно, он был сбит с толку, поскольку раньше видел мышей только дохлыми, и зрелище живого грызуна напугало его, потому он и встал в защитную позу. А может быть, причины были куда более сложные.
Люди и другие млекопитающие осмысляют опасность при помощи постоянно загруженной части головного мозга, именуемой миндалевидным телом, — она отвечает за сенсорный вход, то есть за получение сигналов от всех наших органов чувств. Миндалевидное тело — как Центральный вокзал для наших чувств: обрабатывает все наши ощущения при помощи воспоминаний и эмоций. У птиц оно гораздо более развито, чем у млекопитающих, и занимает больший объем в головном мозгу. Возможно, это объясняет их высокий интеллект и нестандартное мышление. Раньше ученые считали, что мозг у птиц устроен проще, чем у млекопитающих; теперь же они склоняются к тому, что устроен он примерно так же сложно, но кардинально по-другому.
У птиц образуются точно такие же нейронные связи, как и у млекопитающих, однако некоторые отделы их мозга в ходе эволюции развивались совершенно иначе. Например, миндалевидное тело большого размера, скорее всего, необходимо им для обработки более сложных процессов. У млекопитающих этот отдел головного мозга является основным органом, отвечающим за эмоции, тогда как у птиц он предназначен скорее для восприятия и сбора информации.
Если подытожить, то получается, что мозг птиц развил у них интеллект по совершенно иному принципу, нежели у нас, и мы только сейчас начинаем постепенно понимать их образ мыслей. Сравнивая функции головного мозга и его строение у птиц и у млекопитающих мы можем сделать вывод о том, что мы развивались по-разному на физиологическом уровне. Однако даже с учетом всех этих фундаментальных различий, в результате мы имеем сходные типы интеллекта, позволяющие нам осознанно взаимодействовать и даже сообщать друг другу различные эмоции.
В чем бы ни была причина странной реакции Уэсли на мышь, я решила отложить его «инициацию» на следующий год.
7 Вкусные мышки
КАКИЕ-ТО ОЧЕНЬ важные люди из Англии приезжали в Штаты и должны были остановиться в доме Вэнди. Все в нашей большой и дружной семье нервничали по этому поводу и старались, чтобы все прошло идеально, так что предшествующую их визиту неделю мы провели за генеральной уборкой, планированием завтраков, обедов и ужинов — и повторной генеральной уборкой.
В тот вечер, когда должны были приехать гости, я притащила домой два пакета живых мышей и оставила в ванной, намереваясь убить их там на полу и спрятать тела в холодильник до прибытия августейших персон. Как и все взрослые сипухи, Уэсли съедал три-четыре крупные мыши в день, и порой за его прожорливостью было нелегко поспевать. Однако не успела я приступить к экзекуции, как из кухни раздался голос Вэнди:
— Эй, Стэйси! Поможешь порезать овощи для салата?
— Конечно, иду! — отозвалась я и пошла помогать подруге, полагая, что это займет у меня всего пару минут. Но об этом позже.
Нарезая морковь, я переживала из-за того, что если Вэнди расскажет гостям об Уэсли, то они непременно захотят с ним познакомиться. Если я привяжу его к насесту, то гости вполне смогут просто постоять у двери и полюбоваться им, однако практика показала, что, увидев его, люди как правило загорались любопытством и начинали просить посмотреть, как он летает и играет, или даже пытались его погладить. Что было, разумеется, абсолютно невозможно, поскольку Уэсли очень стеснялся незнакомцев. Хотя ничего странного или неправильного в их просьбах, конечно, не было. В конце концов, не каждый день представляется возможность пообщаться с живой совой. Я была не против показать его им, только не была уверена, что им понравится его трапеза.
Уэсли обычно ел мышей одним из двух способов. Первый заключался в том, что он просто заглатывал их целиком с головы, как змея. Розовый кончик его клюва терялся среди перьев на его лице, однако на деле его клюв был огромен и доходил почти до самого его затылка. Можно было впечатлить зрителей, положив ему в клюв палец, чтобы он открыл рот и стало видно, насколько он велик и насколько легко туда помещается взрослая мышь. Целиком Уэсли глотал мышей, будучи особенно голодным или спеша куда-то, хотя даже в этом случае он сначала аккуратно обкусывал и «прихорашивал» мышь со всех сторон, готовя к «погрузке». Совы не жуют свою добычу — они либо просто ее заглатывают, либо разрывают на маленькие кусочки, которые также проглатывают, не жуя. Причем они спокойно дышат, даже проталкивая через пищевод грызуна, поскольку гортанная щель — трубка, через которую проходит воздух, — располагается у них близко к передней части рта, около основания языка, достаточно далеко от пищевода.
С особо крупной мышью могут возникнуть проблемы. Она может слишком долго спускаться по пищеводу, и пару раз Уэсли начинал обильно пускать слюни и даже хватался лапами за клюв, неспособный протолкнуть ее ни туда, ни обратно. Я, конечно, пугалась и вытаскивала обсосанную мышь за хвост, и впредь не давала ему крупных мышей.
Соколы и орлы обычно очищают жертву от шерсти или перьев перед едой, однако сипухам такой «грубый корм» необходим для пищеварения. У птиц, питающихся рыбой, таких как пеликаны и чайки, похожее строение верхнего отдела ЖКТ: пищевод расположен ближе к задней стенке глотки, а гортанная щель — около языка и достаточно далеко от пути, по которому пища поступает в пищевод. В отличие от большинства птиц, питающихся семенами и фруктами, и некоторых других хищников, зоба у сипух нет.
Второй способ питания Уэсли заключался в поедании его любимых частей мыши в следующем порядке: голова, а затем сердце, печень и грудная клетка, которые он вытаскивал из шеи, откусив голову. Если я давала ему сразу кучку мышей, он часто просто отгрызал им всем головы, а остальное оставлял нетронутым. Так часто делают многие совы в Калтехе и прочие хищные птицы в реабилитационных центрах, когда еды в достатке. Проголодавшись снова, они возвращаются и переходят к наиболее богатым кровью органам — сердцу и печени. И лишь затем, съев самое вкусное, они доедают все остальное.
Все «отбракованные» куски мышей Уэсли сбрасывал со своего насеста. Естественно, летела вся эта красота в совершенно произвольном направлении, приземляясь по всей комнате, в том числе на мою кровать и даже на меня саму. Мышиный ЖКТ Уэсли особенно не любил, поэтому, когда он был еще маленький, я обычно маскировала мышиные кишки, заворачивая их в шкурку с небольшим кусочком печени, чтобы он их все же проглотил. Для здоровья ему необходимо было съедать мышей целиком, хоть я, возможно, и относилась к этому трепетнее, чем нужно. Мамы-совы не принуждают к этому птенцов. Но когда Уэсли ел сам, то обычно с хирургической точностью извлекал из мыши весь ЖКТ и брезгливо отбрасывал его как можно дальше от себя. Впрочем, иногда он и целыми мышами разбрасывался, тогда приходилось поднимать их и возвращать ему на насест, чтобы съел, когда проголодается. Иногда я, разумеется, не замечала разбросанных мышиных останков и наступала на них, обычно голыми ногами. В результате кишки разлетались по всему полу и размазывались по моей стопе. Сколько раз я выходила за порог с тем, что когда-то было мышью, на подошве ботинка — не сосчитать.
С учетом такого положения дел я ощутимо нервничала, представляя, как гости заглянут в комнату и увидят мышиные внутренности на полу. Нет, я, конечно, часто убиралась, мыла пол и раскладывала чистые полотенца под насестом, регулярно их меняя. Но некоторые «отходы производства» я все же пропускала.
Будучи большим любителем покушать, Уэсли никогда не уставал от своего однообразного рациона. Каждый раз, когда я приносила ему ежедневную порцию мышей, он заметно радовался и уплетал их с большим наслаждением. Если он был особо голоден, он издавал жалобные просящие звуки, а на мышей бросался и расчленял их в мгновение ока. Если голод был не столь силен, он обычно некоторое время довольно кричал, издавая нечто вроде победного клича. Он поднимал голову с зажатой в клюве мышью и выдавал громкое «диДИИ, диДИИ, диДИИ!». Иногда он радовался обеду настолько, что обильно поливал мышь едкой слюной, причем иногда она после этого выскальзывала у него из клюва и падала на пол. Он начинал плакать, и мне приходилось поднимать обслюнявленную мышь с пола и снова подавать ему, после чего все повторялось, пока он, наконец, не приступал к еде.
Ни одно животное из тех, кого я видела, не радовалось еде так бурно, как Уэсли. Иногда он даже издавал специфический клич, которого я никогда не слышала ни от одной другой совы. Зажав в клюве любимую часть мыши, он выдавал длинный, мягкий, даже интимный звук, своеобразное низкое стаккато, сначала поднимающееся в тоне, потом долго остающееся на одной ноте — «ду-ду-ду-Ду-Ду-Ду-ДУ-ДУ-ДУ» — а затем опускающееся обратно до исходной ноты, «ДУ-ДУ-ДУ-Ду-Ду-Ду-ду-ду-ду», причем в самом конце звук был настолько тихим и мягким, что его было не слышно уже даже за дверью. К сожалению, он так редко издавал эту трель, что у меня так и не получилось записать ее на аудио.
Вся физиология американской сипухи строится исключительно на мышиной диете. Годами ранее в Калтехе, когда мы еще кормили подопечных рублеными крысиными «котлетами», произошла трагедия — одна из сов подавилась насмерть крысиным черепом. Он, видимо, застрял у нее в пищеводе и оставался там, пока сова не захлебнулась слюной или не погибла от стресса — мы нашли ее уже утром. В диких условиях такого обычно не случается, поскольку сипухи едят лишь то, что сами убили, а взрослые крысы американской сипухе не по зубам — они слишком велики и сильны для этих сравнительно небольших птиц. Более крупные совы, охотящиеся даже на скунсов, обычно едят жертву по частям, а не заглатывают целиком. Тогда мы поняли, что кормить сов можно мышами, и только мышами, их природной кормовой базой, и с тех пор не изменяли этому правилу.
Меня часто спрашивали: «Нельзя ли кормить сов орехами или сделать их веганами?» Нет. Совы в ходе эволюции приспособились к поеданию мышей, так же как кошки приспособились к поеданию мяса, и пересадить их на вегетарианскую диету не получится. Собаки и кошки питаются мясом и частично переваренными овощами из желудков их добычи или найденной падали — в отличие от сов, им для сбалансированного питания все же нужна растительная пища в некотором количестве. Настоящий хищник физически неспособен выжить без мяса. Уэсли просто не счел бы едой ничего, кроме мяса. Положить ему на насест кусочек брокколи — все равно что положить мне в тарелку камень. Невозможно изменить потребности и физиологию дикого хищника, чье тело приспособлено для поедания определенных животных.
Хищники играют в природе важную роль, не давая слишком сильно распространиться более многочисленным животным. Поскольку они обычно съедают наиболее слабых представителей вида, популяция жертв остается сильной. Без хищников стада травоядных стали бы слабыми и нежизнеспособными. В отличие от хищников, люди, охотясь ради спорта и трофеев, убивают обычно наиболее сильных представителей вида, тем самым ослабляя всю популяцию. Известный канадский натуралист Фарли Моуэт доказал это в своем превосходном исследовании волков и карибу, которое, кстати, легло в основу книги «Не кричи „Волки“!» и одноименного художественного фильма. Его исследование в сороковых годах прошлого века было настолько популярно, что помогло остановить бесчеловечный метод охоты на волков, которых загоняли до полного изнеможения на самолете и расстреливали. Правительство Канады пыталось оправдать тех, кто этим занимался, тем, что волки разоряли хозяйства, что, конечно же, было ложью. В это сложно поверить, однако факт есть факт — на момент написания этой книги эта практика вновь узаконена в США, история повторяется, несмотря на все, что мы с тех пор узнали о хищниках и травоядных. «Охотники» снова расстреливают волков с самолетов. Тех самых волков, чью популяцию биологи ценой невероятных усилий и жертв восстанавливали и охраняли в течение последних нескольких десятилетий.
Я против жестокости и уж тем более массового истребления животных, но пищевые потребности дикого хищника не дано изменить никому.
Некоторые люди сажают своих кошек на вегетарианскую диету, но при этом выпускают их на улицу (что в принципе плохо, поскольку кошки — лидирующий фактор сокращения популяции певчих птиц после потери естественной среды обитания и отравления токсичными отходами), где те охотятся на мышей, кроликов, птиц и ящериц, чтобы как-то компенсировать недостаток питательных веществ. «Коты-вегетарианцы», которых держат дома, сначала полностью теряют зрение, а затем умирают от осложнений, вызванных расстройством пищеварения. Я так и не привыкла к необходимости убивать мышей, и для меня это было жутко каждый раз, как в первый. Я думала, что со временем эмоции уйдут, но это оставалось все так же больно. В конце концов я нашла зоомагазин, в котором работники сами убивали мышей, а затем паковали — это хоть чуть-чуть облегчило мне жизнь.
Когда с мышами было туго, я пыталась кормить Уэсли курятиной — курицы хотя бы имеют отношение к мелким птицам, которых периодически едят совы. Но он обычно сначала долго смотрел на курицу, а затем начинал кричать, плакать и топтать мясо, пока я его не забирала. Однако я не сдавалась — мне было необходимо заранее найти более-менее подходящую замену мышам на случай, если в какой-то момент их просто не окажется под рукой. Методом проб и ошибок я выяснила, что Уэсли, хоть и с неохотой, но все же ел куриную печень, мышечные желудки и порезанные на маленькие кусочки и перемешанные с темным мясом почки. Однако больше одного дня кормить его курицей не удавалось — Уэсли становился вялым и апатичным. Все же для него это была нездоровая пища.
Взяв Уэсли на руки, я без всяких весов могла определить, что он недавно съел мышь — он настолько мало весил, что вес даже одной съеденной мыши был хорошо заметен. Плюс на его животе на месте желудка образовывался идеально круглый выступ. Где-то через час, готовясь сплюнуть погадку, Уэсли наклонялся в сторону, будто его сейчас стошнит, а затем драматично выплевывал шарик, иногда мотая головой, чтобы помочь ему выйти из пищевода. Выглядел он в эти моменты совершенно несчастным, но затем, оклемавшись и еще раз помотав головой, щелкал клювом с видимым облегчением, радуясь тому, что все уже позади. Каждая съеденная мышь равнялась одной погадке. Изредка, правда, съев две мыши подряд, он выплевывал гигантский двухдюймовый двойной шарик. В детстве, съедая по шесть мышей в день, он отхаркивал просто неимоверно большие шарики, содержавшие подчас останки аж трех мышей. Жаль, что я их не сохранила.
Закончив помогать Вэнди с овощами на кухне, я поспешила обратно в ванную умерщвлять мышей. Я вошла и увидела открытый пакет. Мой желудок скрутило. Нет, нет, быть того не может… Я раз за разом пересчитывала оставшихся в пакете мышей, их должно было быть двенадцать. А было десять.
Двух беглянок необходимо было найти, причем срочно. Я никому не могла ничего сказать, даже Вэнди — для нее этот визит был крайне важен, она и так места себе не находила. А ее муж обрадовался бы, пожалуй, еще меньше — он едва выносил Уэсли, но так редко бывал дома, что ему редко приходилось иметь с ним дело. Я быстро перебила оставшихся мышей, ударяя их об пол, и прокралась на кухню, чтобы спрятать пакет с трупами подальше в морозильник. Я как раз направлялась обратно в ванную, когда раздался звонок в дверь.
Во время обмена приветствиями гости наверняка решили, что я из особо нервных, так как глаза мои постоянно рефлекторно бегали по комнате. Дом был большим, и я понимала, что мои шансы найти пропавших грызунов таяли с каждой минутой.
Весь ужин гости травили занимательные байки о своих путешествиях, но я их почти не слушала: мне все время казалось, что откуда-нибудь вот-вот выскочит мышь — пробежит по столу или по нашей обуви, метнется через кухню или упадет с люстры прямо в салат.
— Все в порядке? — осведомилась Вэнди, когда я помогала ей подавать на стол десерт. — Ты сегодня какая-то тихая.
— Да-да, я просто с удовольствием слушаю все эти рассказы, — ответила я.
После десерта я вежливо покинула высокое общество и почти бегом направилась в свою часть дома. Тут же я услышала одну из мышей — она рылась в сушилке, стоявшей в коридоре между моей комнатой и ванной. Хорошо, одна есть, осталось лишь найти вторую. Я очень надеялась, что она где-то неподалеку.
Я охотилась за ней весь оставшийся вечер и даже ночью, когда все уже отправились спать. Пытаясь никого не разбудить, я кралась по дому на цыпочках с фонариком, заглядывая в каждый угол, но так и не смогла найти чертову мышь.
Наконец, уже на рассвете, я тихо открыла сушилку, вытащила первую мышь и положила в коробку. Потом я вернула сушилку в исходное состояние и проскользнула в комнату, в которую через занавески уже пробивались первые лучи солнца. Утром мы собрались за столом завтракать, все прошло спокойно. Доев, англичане вернулись в свою комнату, а я продолжила охоту. Вскоре я обнаружила крошечную черную какашку в коридоре прямо перед гостевой спальней. Я шумно сглотнула. Очевидно, ночью в темноте я проглядела эту улику. Я проскользнула дальше по коридору в поисках следующей «подсказки», как вдруг открылась дверь в гостевую спальню.
Женщина посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на коробку в моих руках.
— Простите, — мягко произнесла она. — Вы, часом, не мышь потеряли?
— Ну, да, — убито пробормотала я. — Это для моей совы.
— Вы найдете ее здесь. Ей, кажется, вполне удобно.
Наглый грызун, умываясь, уютно угнездился прямо посреди ее кровати. Я быстро смахнула его в коробку.
— Знаете, — сказала она. — В Англии многие держат у себя сов.
— Правда? — спросила я с глубочайшим облегчением. — Так вы не злитесь?
— Отнюдь, — хохотнул ее муж.
Женщина подмигнула мне и закрыла дверь.
Я никогда не кормила Уэсли мышами, которым удалось сбежать из пакета, так как они могли успеть изваляться в чем-то, опасном для его здоровья. Да и, в конце концов, эти двое просто заслужили свободу. Я прогулялась с ними до близлежащего поля, рядом с которым текла речка, и там их отпустила.
8 Взаимопонимание: звуки и язык тела
ВЕСНОЙ 1986-ГО я очень серьезно заболела и мне пришлось делать срочную операцию. Пока я лежала в больнице, уход за Уэсли взяла на себя Вэнди. Сначала я волновалась из-за этого, но потом осознала, что к своему возрасту (год и два месяца) в дикой природе Уэсли уже стал бы совой-одиночкой, не зависящей от родителей. К счастью, несмотря на свою стеснительность, он спокойно позволял Вэнди себя кормить. Каким-то образом он понял, что перекочевал под ее крыло, по крайней мере временно.
Операция прошла успешно, и вскоре я вернулась домой, но врач прописал мне «два месяца покоя и отдыха». Это казалось раздражающей помехой моей жизни и работе в Калтехе.
— Что же мне теперь делать, Уэсли? — спросила я, поглаживая его по загривку.
Он посмотрел на меня, и я поняла: да ничего. Я никуда не должна была идти и у меня не было никаких обязанностей. Впервые в своей занятой жизни я могла отдохнуть, и, что еще важнее, рядом со мной было это восхитительное существо, и у меня была гора времени, которое я могла провести с ним. Так что я сидела на кровати или на диване у окна, Уэсли сидел у меня на плече или на голове, и мы вместе просто наблюдали за миром вокруг нас. На ночь я привязывала Уэсли к насесту рядом со своей кроватью. Хоть он и был уже совсем взрослый, он все еще продолжал играть в «вертолетик» и с радостными криками нападать на перекладину своего насеста. Я поворачивалась к Уэсли и говорила ему:
— Я ложусь спать, понимаешь, Уэсли? И ты ложись спать. Мама ложится спать.
Конечно, было довольно ненаучно называть себя «мамой», но нужно было подобрать себе короткое прозвище, которое он мог бы выучить. «Мама» казалось наиболее очевидным вариантом, когда он был маленьким, и оно прижилось. Уэсли наблюдал, как я отворачиваюсь в постели, и сам стал засыпать вместе со мной. Вскоре я уже просто говорила ему: «Пора спать!» — и он медленно закрывал глаза, поднимал одну лапу и нахохливался, как будто тоже засыпал. «Как будто», потому что пару раз я ловила его на подглядывании одним глазом несколько минут спустя. Удивительно, что он вообще пытался в этом плане мне подражать, будучи ночным животным. И хоть он пытался быть как я, и спать в одно время со мной, его инстинкты часто брали верх, и он будил меня по ночам. Потом я стала говорить «Пора спать» при свете дня, и чаще всего он и впрямь засыпал, что было очень удобно, поскольку мне и самой частенько было необходимо прикорнуть.
В возрасте нескольких месяцев Уэсли стал так или иначе реагировать на определенные слова и фразы, которые я часто использовала. Это не было дрессировкой — он учился самостоятельно, подобно ребенку, постепенно выучивающему значение новых слов, повторяемых раз за разом для описания одних и тех же предметов или событий.
— Уэсли та-а-а-ако-о-о-ой красивый. Мама считает, что ты о-о-о-очень красивый, — ворковала я, гладя его по щеке и целуя в клюв.
В какой-то момент он начал ассоциировать эти слова с лаской. Теперь стоило мне сказать «Ты та-а-а-ако-о-о-ой красивый» с другого конца комнаты, как он тут же прикрывал мигательные перепонки, поворачивал лицо вбок и застенчиво дергал пару перышек, пока я не подходила и не начинала его гладить.
Уэсли обожал, когда его называли красивым. Так что когда мне изредка приходилось просить Вэнди или маму присмотреть за ним, я велела им говорить ему «Ты такой красивый» или «Пора спать», чтобы успокоить его, если он начнет бузить, и еще говорить «Вот твои мышки», кормя его. Он всегда успокаивался, заслышав из чужих уст свои «ключевые слова». Он их знал. Он их понимал, и они работали.
Еще когда он был совенком, я всегда проговаривала вслух все, что я делала. Теперь я могла подойти к его насесту и спросить: «Уэсли, хочешь мышек?» Если он был сыт и не хотел, он отворачивался. Если был не сильно, но все же голоден, то смотрел на меня, медленно прикрывая мигательные перепонки. Если он был по-настоящему голоден, он прыгал в мою сторону, кричал и иногда издавал просительный визг, напоминающий звук ножовки, которой проводят по металлу.
Впоследствии реакции Уэсли усложнились. Он мог на целые серии вопросов отвечать своей совиной разновидностью «да»: опускание век и иногда даже радостные звуки при неразрывном зрительном контакте; или же своим вариантом «нет»: отворачивание головы. Мы в какой-то момент разработали целую коммуникативную систему, похожую на игру в «двадцать вопросов».
— Уэсли, хочешь мышек? (Вне зависимости от количества мышей я постоянно использовала слово «мышки», даже если мышка была всего одна. Мне слабо верилось в то, что он поймет разницу между единственным числом и множественным.)
Не будучи голодным, Уэсли отворачивался.
— Ладно, Уэсли, хочешь наружу?
Снова поворот головы — снова «нет».
— Уэсли, хочешь поиграть с водичкой?
Опять то же самое — «нет».
— Уэсли, хочешь обнимашек?
Тут же его голова разворачивалась обратно лицом ко мне, он устанавливал зрительный контакт и негромко пищал. Ага, вот оно что. Обнимашек хотим.
Уэсли дошел до всего этого сам. Я не пыталась приучить его со мной общаться, как биологи учат, например, попугаев или шимпанзе. Вдобавок, с чисто научной точки зрения, Уэсли не общался со мной вербально. Я, впрочем, считаю, что многие из постоянно совершаемых им действий можно было счесть примитивной формой языка жестов, да и звуков тоже, если считать язык системой коммуникации, постоянно обеспечивающей связь между двумя разумными существами.
Уэсли изумительно вписался в нехарактерную для сипухи среду обитания: в помещение, да еще и с человеком под боком. И он общался. Я не стану заявлять, что у всех сипух есть зачаточные способности к развитию языка, но я с абсолютной уверенностью заявляю, что конкретно эта сипуха при помощи своей обширной слуховой коры головного мозга развила примитивную языковую систему, позволяющую лучше адаптироваться к данной среде обитания. Поскольку я разговаривала с Уэсли с младенчества, пока развивался слуховой участок коры его мозга, мне кажется, он сначала установил связь между действиями и словами, а затем — между действиями и определенными комбинациями слов, такими как «пора спать».
Человек тоже способен понимать собеседника, говорящего на языке, на котором не говорит он сам. Одна из моих лучших подруг выросла в японской семье, в которой они с братьями и сестрами говорили только по-английски, а их родители — исключительно по-японски. Так вот, их родители понимали английскую речь, а дети — японскую, хотя ни те, ни другие не могли воспроизвести язык, который с легкостью понимали на слух.
По той же логике было неважно, что Уэсли физически не мог издавать человеческие звуки из-за устройства своих голосовых связок, как и то, что я по тем же причинам не могла издавать звуки, которые издают совы. Мы нашли способ общаться на собственном языке звуков и жестов.
В возрасте двух лет Уэсли начал приспосабливать свои связки к тому, чтобы издавать новые звуки с широким спектром новых значений. Например, он менял продолжительность, громкость и тональность звука, обозначающего просьбу. Разные варианты этого звука выражали разные просьбы. Один означал: «Я хочу, чтобы ты открыла дверь». Другой означал: «Я хочу воды». Третий означал: «Отпусти меня с насеста». У одного этого «просительного» звука было около двадцати вариаций. Я учила его язык подобно тому, как он учил мой.
Если я хотела, чтобы он сел мне на руку, я говорила: «Уэсли, иди сюда» — и протягивала руку, хлопая по месту, на которое он должен был приземлиться, и он тут же летел ко мне. Но иногда ему не хватало уверенности, поскольку кожа на моей руке относительно свободно перемещалась по мышцам, и это выглядело не очень надежной «посадочной площадкой». Тогда он мотал в полете головой, садился неподалеку и ждал, пока я сама его подберу. Когда я пела или включала музыку в комнате, он тряс головой, как будто его ушам было от этого больно. Вообще, наверное, так и было. С учетом его феноменального слуха моя музыка должна была казаться ему нестерпимо громкой. Так что синтезатор из комнаты пришлось вынести, а музыку с дисков слушать в наушниках.
Однако даже после этого я заметила, что он иногда продолжал трясти головой, хотя никакой музыки уже не было. Я волновалась за его уши и впервые совершенно не знала, что делать. Я позвонила доктору Пэнфилду.
— Я боюсь, что у него воспаление среднего уха, — сказала я.
— Это вряд ли. Он не казался расстроенным или переживающим из-за чего-то? Ты ничего нового в комнату не приносила?
— Вообще да, я повесила новые картины. Но при чем тут его уши?
— А дело вовсе не в ушах, — ответил доктор Пэнфилд. — Сипухи часто так делают, если они в чем-то не уверены, чем-то расстроены или если их что-то раздражает. Чаще всего это какая-нибудь мелочь, недостаточная для шипения. Тряска головой — это у них почти бессознательное, но именно это она и выражает. Даже новая картина на стене может вызвать такую реакцию.
Доктор Пэнфилд практически сразу же определил, что именно пытался донести до меня Уэсли. Он научил меня наблюдать как можно пристальнее и замечать даже такие мелочи, которые большинство экспертов пропустили бы. Именно благодаря этому я смогла понять, что, меняя издаваемые звуки, Уэсли меняет их значение. Он все больше и больше модифицировал стандартные звуки, издаваемые сипухами, под определенные ситуации. Тут помогало еще и мое музыкальное детство — я хорошо различала тона и ритм. Я замечала каждое отклонения от стандарта и запоминала его. Такие легчайшие изменения обычно привязывались к определенным ситуациям, например, к тому, что я открыла окно или ответила на звонок. Со временем мне стало легче понимать, что он пытается мне сказать. За те девятнадцать лет, что я прожила с Уэсли, я стала свидетельницей такому, о чем прежде не было никаких упоминаний. Великий биолог Бернд Хайнрих отмечал в своей книге «Сова одного человека», что его виргинский филин лишь в два года начал изменять свои звуки подобным образом. Однако доктор Хайнрих и продержал его у себя как раз два года, так как лишь готовил его к жизни в дикой природе.
Эмоциональные реакции весьма экспрессивного Уэсли были очевидны, как у ребенка. Все делилось лишь на белое и черное, хорошее или плохое, опасное или безопасное, так что он всегда ждал от меня, что я стану делать именно то, что озвучила. В противном случае он заметно расстраивался, отказывался смотреть мне в глаза или даже кричал в знак протеста, пока я не выполняла обещанное. Совы терпеть не могут ложь. Когда я говорила «Уэсли, через два часа я с тобой поиграю» и уходила по своим делам, по прошествии двух часов он начинал кричать и беситься. Я была абсолютно поражена тем, что он понял, что означает «два часа». Я говорила «через два часа» и через два часа действительно делала обещанное, и это происходило достаточно часто, чтобы он уяснил, что именно «два часа» означают. Каким-то образом он понял, сколько это примерно — хотя никаких других измерений времени не знал. Он понимал, что значит «вечером» и «завтра». Я бы не была так удивлена, если бы все это выучила, скажем, собака, но я никак не ожидала подобных умственных способностей от совы. Если я не держала слово, Уэсли всю ночь кричал, не давая мне уснуть. То был лишь один из многих уроков, которые преподал мне он, еще одна ступень на Пути Совы: дал слово — держи.
Однажды вечером я увидела, как Уэсли жевал краешек книги, наслаждаясь мягкой, но слегка хрустящей бумагой. Я забрала у него книгу и дала вместо нее журнал, который тот исследовал сначала нерешительно, но затем принялся рвать его на длинные полоски. И ему это дико понравилось! С тех пор одним из любимых развлечений Уэсли стало кромсать журналы. Я клала очередной журнал ему на насест, а он радостно разрывал его на полоски или на кучки маленьких треугольных кусочков размером с его клюв, на которые он потом наскакивал, как дети в кучи листьев. Я спрашивала: «Хочешь журнал?» — а Уэсли издавал просящие звуки и прыгал от нетерпения, пока я не выдавала ему макулатуру.
Положим, мои старые номера «Audubon» Уэсли было не видать, а вот дочитанные мной номера «People» или «Rolling Stone» или всякие каталоги неизбежно становились совиным «кормом». Особенных предпочтений у него, кажется, не было, но чем толще был журнал, тем было интереснее. Из этого его увлечения родился ритуал «журнальной ночи». То есть «Хочешь, устроим журнальную ночь?» он понимал и отличал от обычного «Хочешь журнал?».
Журнальная ночь выглядела следующим образом. Мы готовились ко сну, затем я брала целую стопку изданий, устраивалась на кровати поудобнее и читала их, а Уэсли тем временем носился по комнате и напрыгивал на разные вещи. Дочитав очередной журнал, я клала его в отдельную стопку рядом с подушкой Уэсли, и в какой-то момент он садился рядом и начинал их терзать.
Иногда он рвал эти журналы часами напролет. Наигравшись с ними, он лез ко мне на ручки и просил обнимашек. Я поднимала его, клала на левую руку, держа голову в ладони, а правой гладила его, и так он засыпал.
Выздоравливая, я часами лежала в постели, гладя и расчесывая Уэсли. В дикой природе этим обычно занимаются партнеры сов, их это очень умиротворяет. Умиротворяло и меня. Уэсли лежал у меня на руках, а я нежно гладила его, выщипывала воскообразные трубочки и укладывала новые перья в правильном направлении. Он расслаблялся, делая мягкие щипательные движения клювом, которые я старалась имитировать пальцами. Уэсли отвечал мне взаимностью, проводя клювом по моему лицу и волосам. Правда, мои волосы оказались для него слишком длинными, так что в итоге я выделила ему для расчесывания лишь челку, чем он остался вполне доволен. У нас с ним часто случались подобные идиллические моменты. Мы наблюдали за тем, как снаружи играли кошки, собаки и козы, а сверху на них пикировали сойки, пытаясь ухватить шерсти для гнезда, по небу плыли облака, а мимо окна пролетали листья и птицы.
В один из таких ленивых дней Уэсли стал беспокоиться и просить еще мышей. Это было несколько необычно, поскольку норму свою за тот день он уже получил. Но четырех мышей внезапно перестало хватать, и за следующие несколько дней аппетит Уэсли дошел до семи мышей в день, и на меньшее он не соглашался. Я была в недоумении — я с самого его детства не видела, чтобы он столько ел. Это продолжалось несколько недель, а затем я стала находить на ковре больше перьев, чем обычно. Они были повсюду, он сбрасывал их с совершенно непонятной мне скоростью. Как-то одним июльским утром он замахал крыльями, чем поднял в воздух все перья, лежащие вокруг. Моя комната стала похожа на поле боя подушками.
Я подозревала, что он заболел, однако вел он себя как обычно и был полон энергии. Я скормила ему семь мышей и позвонила доктору Пэнфилду за советом.
— А, так это у него линька. Значит, ему уже два года или около того. Это абсолютно нормально. Моя сова линяла каждый год, начиная с двух лет. Выглядит эффектно, правда?
Да не то слово. Я была буквально по уши в перьях. Как он мог сбрасывать их в таком количестве, чтобы у него еще и оставалось на полеты и обогрев? Птицы запрограммированы реагировать на изменения длины светового дня, это запускает в их телах целый ряд реакций. Наши совы в Калтехе не начинали внезапно линять, поскольку система освещения в вольерах симулировала неизменный двенадцатичасовой цикл. Так что неожиданная линька Уэсли застала меня врасплох. А еще меня поразило разнообразие его перьев. Они разнились по виду и структуре, и было сложно поверить в то, что их сбросила одна и та же птица. Были толстые, пушистые пуховые перья, служащие для обогрева, и тонкие, изогнутые верхние перья для лучшей аэродинамики и стабильного полета. Были крохотные лицевые перья, похожие на маленькие елки, которые направляли звуки к ушам. Но моими любимыми были длинные и красивые маховые перья, кремовые с золотым с коричневыми полосками, призванные удерживать его в воздухе. Их я собирала и держала в большой коробке. Естественно, у него в тот период росло много пеньков, так что обращаться с ним приходилось особенно осторожно. Еще в детстве Уэсли высоко кричал от боли, стоило мне случайно задеть пенек. При звуке его крика я инстинктивно выпускала его из рук, он быстро смекнул, что к чему и стал кричать так каждый раз, когда хотел, чтобы я его отпустила, даже если ему не было больно.
Уэсли и тут отвечал мне взаимностью — он старался быть нежным и аккуратным со мной и каким-то образом научился почти меня не царапать. Он сам до этого дошел, хотя я никогда не показывала боли, в очередной раз получая острым когтем по руке, поскольку знала, что ему потом будет стыдно.
С тех пор он каждый год линял в июле. Где-то треть его перьев выпадала, сменяясь новыми. Это было большое событие. Целый месяц он готовился к нему, употребляя в пищу по семь мышей в день вместо обычных четырех. Уэсли сам давал понять, когда ему становилось нужно больше, — требовательно кричал, пока я не приносила столько мышей, сколько было надо. В итоге я к этому привыкла. К декабрю он заменял все сброшенные перья новыми, облачаясь в свое великолепное золотистое одеяние. Прямо перед Рождеством он линял еще раз, уже в меньших масштабах, но посмотреть все равно было на что. С каждым взмахом его крыльев комната будто превращалась в сувенирный снежный шарик, перья носились по ней как крупные хлопья снега, прежде чем осесть на пол. Декабрьская линька Уэсли была моим белым калифорнийским Рождеством.
9 Доктор Джекилл и мистер Хайд
ПО МНЕНИЮ УЧЕНЫХ, ручная сова с таким дефектом, как у Уэсли, никогда бы не выжила в дикой природе, поскольку не смогла бы охотиться. В центрах реабилитации это поняли на практике, выпустив на волю сотни сипух, которых растили с младенчества. Почти все они очень быстро погибали, причем не только потому, что не могли охотиться, но и потому, что не знали, каких опасностей стоит избегать, — в норме эти знания они должны были получить от родителей. Поскольку охота на мышь в душе у Уэсли, мягко говоря, не удалась, я полагала, что мои амадины в полной безопасности. Уэсли их просто игнорировал, преспокойно сидя на их клетках вместо насеста, когда не был на привязи. Однако я все равно прикрывала клетки, просто на всякий случай.
Так что я сильно удивилась, зайдя как-то в пятницу в комнату и обнаружив на полу одну из клеток, которая обычно стояла на шкафу. Двух амадин недоставало, и быстрый поиск не дал никаких результатов. Мое подозрение пало на Уэсли, так как он тем вечером не сильно интересовался ужином. Однако у меня не особо укладывалось в голове, каким образом он мог поймать двух маленьких, быстрых птичек после такого оглушительного провала с мышью. Он либо умел охотиться, либо не умел, третьего было не дано. Я решила, что он случайно снес клетку со шкафа, она открылась и амадины сами сбежали из комнаты, так что просто подвинула все оставшиеся клетки подальше от края.
Неделю спустя ситуация повторилась, только на сей раз уже с уликой — на полу лежала кучка перьев, принадлежавших моей любимой амадине. У меня аж ноги подкосились. Несмотря на свое крайнее недовольство, отчитывать Уэсли я не стала — все же он сделал это по велению инстинктов. Глупо винить хищника в том, что он — хищник, однако это значило, что моим оставшимся четырнадцати птичкам нужно было срочно подыскивать новый дом. Я решила отвезти их всех в Калтех в понедельник — авось кто-нибудь из коллег сжалится и приютит их у себя. Чтобы избежать новых жертв на выходных, я спускала Уэсли с привязи, только находясь в комнате и имея возможность следить за ним, хотя я до сих пор не могла взять в толк, каким образом он умудрялся их ловить.
Я вновь неверно оценила ситуацию, глядя на Уэсли материнскими глазами — как на своего дружелюбного, не умеющего охотиться малыша. В то же воскресенье я уснула днем, не привязав Уэсли. Бабах! Я проснулась от шума и увидела, как он летает кругами по комнате, набирая скорость, и со всей дури врезается в одну из десяти оставшихся клеток. После очередного удара клетка свалилась со шкафа, и я рванулась спасать птичку, но было поздно. От удара клетка открылась, и перепуганная амадина вылетела наружу. Уэсли погнался за ней с мастерством, которого я раньше за ним не замечала, в точности повторяя каждый ее маневр. Птичка-невеличка взлетала вверх вдоль углов, уходила в пике, распластывалась вдоль стен и носилась зигзагами по всей комнате, Уэсли в сравнении с ней казался огромным и неуклюжим, однако сбросить его с хвоста у нее никак не получалось. Наконец, оказавшись сзади, Уэсли вытянул когти, как орел, схватил амадину и опустился вместе с ней на пол. Он убил малютку прежде, чем я смогла что-либо сделать.
Уэсли испустил победный клич. Я была в шоке. Куда делся мой застенчивый малыш, который жался за дверью ванной, испугавшись мыши? Его место занял агрессивный боевой летчик, ас, настоящий Красный Барон — собранный, неудержимый и смертоносный. Я была ошарашена и, конечно же, расстроена из-за амадин, но в то же время поражена демонстрацией навыков Уэсли, которые он каким-то образом сумел развить в неволе.
Не спуская Уэсли с привязи остаток дня, я много думала. Сможет ли он охотиться на мышей, если научился охотиться на птиц? Нам говорили, что в дикой природе сипухи питаются мышами, а птицы составляют лишь 2–3 процента от их рациона, и исключений из этой пропорции не бывает. Может, у Уэсли все наоборот? Может, на воле он был бы птицеядной сипухой? С чего вдруг так? Пищевая ценность амадины едва компенсировала то количество энергии, которое он затратил на погоню за ней. Выживание хищника напрямую зависит от умения получить от поедания жертвы существенно больше энергии, чем было затрачено в процессе самой охоты. Спикировать на мышь гораздо проще и эффективнее с этой точки зрения, чем гоняться за маленькой юркой птичкой.
В понедельник утром я загрузила девять оставшихся клеток в свою машину и отвезла их в Калтех. Мне жаль было расставаться с моими крохами, с их песнями и щебетом, но рисковать их жизнями я не собиралась. Одна сердобольная женщина практически тут же согласилась взять к себе почти всех, за что я была ей безмерно благодарна. Почти все калтеховские постдоки жили группами в больших домах в Пасадене, и я все думала: как отреагируют сожители этой женщины на такое пополнение в полку? Хотя, конечно, любой, кто живет с биологом, должен быть готов к таким вещам.
Никто не мог дать мне сколько-нибудь разумного объяснения внезапным охотничьим талантам Уэсли. Несмотря на наличие свидетеля (то есть меня), ученые непоколебимо стояли на том, что выращенная человеком сипуха хорошим охотником стать не может. Большинство сов, выпускаемых людьми на волю, были нежизнеспособны. Более того, из-за своей доверчивости к людям они часто подлетали к незнакомцам и просили еды, и иногда их убивали. Уэсли, однако, опять же, обо всем этом забыли рассказать, и он все время не переставал удивлять меня чем-то новым, заставляя лишь гадать, на что же еще он способен.
На третий день рождения Уэсли я решила снова попробовать столкнуть его с мышью. Я знала, что для самостоятельного выживания в дикой природе у Уэсли просто не хватило бы выносливости, но мне было интересно, сможет ли он научиться охотиться на мышей без наблюдения за совами-родителями. В реабилитационных центрах совят начинают учить охотиться, стоит им только вылупиться из яйца. Даже когда они еще объективно не могут добывать пищу сами, работники используют специальные муляжи сов при их кормлении, чтобы малыши не воспринимали людей, как родителей, и не ассоциировали их с едой. Позднее совят учат уже самостоятельно выслеживать мышей и охотиться на них. Даже несмотря на мнимое неумение охотиться, ту амадину Уэсли поймал в полете так, будто делал это всю свою жизнь. Возможно, он смог бы еще раз доказать неправоту экспертов. Я вновь посадила мышь в душевую кабинку и принесла Уэсли в ванную.
Следующие три часа были настолько скучными, что я даже покормила грызуна, который за это время успел исследовать каждый сантиметр душевой, слизнуть капельки воды со слива, вздремнуть и умыться. Все это время Уэсли вежливо уступал ему дорогу. Любое его резкое движение заставляло Уэсли аж подпрыгнуть на полдюйма от страха.
Уэсли отступил в угол душевой кабинки и наблюдал за мышью. Той было плевать на него с высокой колокольни, что она не замедлила продемонстрировать, преспокойно развернувшись к нему спиной, чтобы поесть принесенной мной еды. Уэсли, собрав в кулак все свое мужество, подкрался к ней сзади, вытянул лапу, дотронулся до нее одним пальцем и тут же отпрыгнул. Ничего не произошло. Тогда Уэсли снова приблизился к ней и аккуратно поднял ее лапой, за что был немедленно укушен возмущенным такой наглостью грызуном и спешно ретировался обратно в угол.
Я уж было решила, что эксперимент провалился повторно, и собиралась забрать Уэсли и отнести обратно к насесту, как вдруг мышь почему-то рванулась от Уэса, активировав в нем, видимо, какой-то спавший до этого инстинкт. Уэсли прыгнул на нее и одним точным ударом клюва сломал грызуну шею. Судя по всему, он был поражен произошедшим не меньше меня. Пару секунд он так и стоял с зажатой в клюве дохлой мышью и обалдевшим выражением лица, а затем осознал, что сделал, и принялся гордо маршировать по полу душевой кабинки с громкими победными возгласами. Я закатила глаза.
— Мама тобой, конечно, очень гордится, Уэс, но должна тебя предупредить, что в дикой природе ни одна мышь в здравом уме не будет три часа сидеть и ждать, пока хищник соизволит ее прибить.
Уэсли выпрыгнул из душа и скрылся со своим трофеем за унитазом. Там он положил мышь на пол, расправил свои крылья и согнулся над ней. Что-то новенькое. В дикой природе совята в гнезде закрывают таким образом свою еду от братьев и сестер. Но я-то тут при чем?
— Уэсли! — упрекнула его я. — Я же сама тебе мышь дала!
Но он меня проигнорировал. Когда я попыталась его поднять, он пробежал мимо меня по полу с зажатой в клюве мышью, вбежал в комнату и взлетел на свой насест. Я попыталась привязать его, как всегда делала на время его еды, чтобы он не слишком мусорил, но в этот раз он яростно и предупреждающе закричал на меня. Это тоже было необычно. Обеспокоенная его странным поведением, я оставила его в покое.
Тем же вечером, когда я выдала ему оставшуюся часть его дневной порции мышей, Уэсли выхватил их у меня из рук, снова склонился над ними и предупреждающе вскрикнул. Он даже сделал в мою сторону выпад, щелкнув клювом. Я знала, что это не по-настоящему, но менее странным от этого происходящее не становилось — раньше он никогда так не делал.
— Уэсли, кто тебе дал этих мышек? Я!
Я думала: а вдруг я создала монстра? Вдруг у него пошел какой-то процесс одичания? А может, в дикой природе первая успешная охота и запускала у молодой совы реакцию отторжения родителей, которая и выгоняла ее из гнезда? Но если так, то почему эта реакция не запустилась у Уэсли еще после удачной «охоты» на моих амадин? Возможно, он не считал их настоящей добычей или вообще воспринимал охоту на них как игру. Главный вопрос был в другом: станет ли он теперь относиться ко мне как-то по-другому?
В течение следующих нескольких дней каждая кормежка происходила по тому же настороженно-враждебному сценарию. Одну из ночей он провел, беспрестанно хлопая крыльями, издавая свой победный клич и громко топая лапами. К утру я была в том же плачевном состоянии, в котором пребывала почти постоянно, когда он был маленьким и его нужно была кормить среди ночи.
К счастью, это его странное поведение продолжалось всего три дня с момента первого убийства мыши, а после этого он снова стал самим собой. Я решила давать ему по одной живой мыши в год, чтобы у него была возможность побыть в своей дикой «ипостаси». И каждый раз при встрече с мышью он оставался точно такой же пугливой, нервной совой, что и прежде, пока та не совершала резкий рывок в сторону или не начинала убегать. Тут же у Уэсли включался инстинкт, он мгновенно убивал грызуна и временно становился диким, относясь ко мне почти так же, как он обычно относился к чужакам. Но проходили три дня, и он снова становился прежним ручным Уэсли.
Где-то через полгода после третьего дня рождения Уэсли вновь произошло нечто странное. Однажды вечером мы с Вэнди и Энни смотрели телевизор в гостиной, как вдруг раздался какой-то неземной, ни на что не похожий звук. Он был настолько громким, что определить его источник было решительно невозможно. Мы с Вэнди переглянулись.
— Что за чертовщина?
Казалось, от этого звука вибрирует фундамент дома; впечатление было такое, как будто НЛО заходило на посадку аккурат на нашу крышу. Вэнди побежала наружу в попытке понять, что происходит, а я ринулась в спальню — проверить, все ли в порядке с Уэсли. Уэсли в комнате не было.
Звук оглушал. Что это могло быть? И где Уэсли? Я судорожно перерывала комнату: под кроватью нет, за тумбочкой нет, за занавесками тоже нет.
Шкаф! Звук явно усиливался на подходе к нему. Заглянув внутрь, я вообще чуть не оглохла. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела в дальнем углу Уэсли. Слава богу, цел! У меня аж ноги подкосились от облегчения, но счастье было недолгим. Что-то явно было не в порядке. Этот непонятный, оглушительный звук исходил как раз от Уэсли.
Уэсли топал ногами, будто маршируя на месте; вид у него был настолько отсутствующий, что он смахивал на зомби. Меня он, кажется, не замечал.
— Уэсли? Уэсли! — позвала я.
Никакой реакции.
— Уэсли, что с тобой?
Я потянулась к нему, чтобы взять на руки, но он сначала отшатнулся, а затем сам схватился за мою руку и пополз по ней. Может, он заболел, или это что-то неврологическое? Боже, что же с тобой приключилось, малыш?
Я выползла на четвереньках из шкафа, все еще держа его на руке. Каждый раз, когда я пыталась дотронуться до него другой рукой, он вцеплялся в нее клювом, а когтями — в мое левое запястье. Может, он головой ударился?
— Уэсли, успокойся, пожалуйста. Дай-ка я тебя осмотрю…
Он явно не понял моих слов, он будто вообще меня не слышал. Он снова схватил меня за кисть клювом, попытался вскарабкаться выше по моей левой руке, но вдруг будто обмяк, растеряв все силы.
Видимо, у него была мышечная слабость — один из типичных симптомов инсульта, аневризма и эмболии. Или, может быть, он чем-то отравился? Может, я недоглядела и в комнату попало что-то токсичное? Ему было плохо, а я изо всех сил напрягала мозг, пытаясь понять причину его недомогания. Вэнди уже успела вернуться и теперь неподвижно стояла в дверном проеме с каменным лицом.
Тут вдруг Уэсли перестал издавать этот дикий, душераздирающий звук и стал клекотать, как попугай. Я в жизни не слышала из уст совы ничего хотя бы отдаленно похожего. Мне становилось все страшнее и страшнее. Ему явно было больно, он клекотал и дергался всем телом. Он обхватил мою руку лапами, а клювом схватился за ладонь, и с каждым содроганием лапы сжимали мою руку все сильнее.
Может, это был приступ эпилепсии? У меня когда-то была собака, у которой случались большие эпилептические припадки. Конвульсии не стихали. С последним рывком он откинул голову и громко закричал от боли, а потом… потом… вернулся в нормальное состояние.
Все кончилось, с ним все было в порядке. Уэсли взлетел на свой насест и стал чистить перышки, как ни в чем не бывало.
Вэнди начала хихикать.
Я была в полной прострации. И тут я заметила у себя на руке каплю белой жидкости и поняла, наконец, что произошло. Моя сова только что скрепила свою связь со мной. В смысле, скрепила с моей рукой.
Вэнди унеслась по коридору, едва не падая со смеху.
Я медленно поднялась с пола, подошла к микроскопу, вытащила стекло, соскребла им капельку с руки и положила под объектив. Я включила подсветку и всмотрелась в окуляры. Ну да, вот они — энергичные частички совиной жизненной силы, рвутся к недостижимой цели.
Уэсли продолжал прихорашиваться, крайне, судя по виду, довольный собой.
Я тщетно пыталась решить, пойти мне в душ или закурить. Собрав, наконец, мысли в кучу, я привязала Уэсли и отправилась вслед за Вэнди на кухню — выпить чайку.
Я не опознала в действиях Уэсли попытку спаривания с моей рукой, так как у сов, как и у многих птиц, половые органы довольно хорошо спрятаны. У самцов нет пениса — чтобы оплодотворить самку, они трутся своей клоакой (специальной выемкой под хвостом) об ее клоаку, оставляя на ней капельку спермы, которая затем плывет по длинной трубке и, в конце концов, оплодотворяет яйцо. Все очень чисто и аккуратно.
В три с половиной года Уэсли достиг, наконец, половой зрелости. Я понимала, что срок уже приблизительно подошел, но не могла даже представить, что сама стану объектом его страсти. Никто из моих животных до этого не пытался вступить со мной в серьезные отношения. Впрочем, Уэсли ведь принадлежал к виду одиночек, выбирающих себе одного партнера на всю жизнь. Вполне возможно, что, не выбери он меня, он бы отдалился или даже стал расценивать меня, как соперника, как в случае с мышью. Таков Путь Совы.
С тех пор Уэсли стал меня всячески опекать, он вообще крайне серьезно относился к своим супружеским обязанностям. Он защищал меня и практически сдувал с меня пылинки. Помимо прочего, он постоянно выискивал укромные темные уголки и заманивал меня в них своим жутким брачным зовом. Одним из его любимых мест в этом плане был закуток за унитазом — идеальное место для гнезда. Он таскал туда журналы и рвал их на части, обустраивая уютное гнездышко. Сипухи обычно не строят гнезд сами, но, как вы уже догадались, Уэсли забыли сообщить и об этом. Возможно, некоторые сипухи собирают мягкие подручные материалы для утепления гнезда и увеличения его уровня комфортности. Мы в Калтехе заметили, что некоторые сипухи обожали отрывать кусочки от ткани, которой были обмотаны их насесты, в то время как остальные оставались к ней абсолютно равнодушны. Уэсли набивал шкафчики в ванной кусочками журналов и настойчиво звал меня к ним. Я, естественно, бежала на зов, который сотрясал весь дом, как хорошее стерео с выкрученными до упора громкостью и басами. Прекратить этот кошмар можно было только дав ему совокупиться с моей рукой. После этого он затихал и успокаивался, по крайней мере временно. Я пыталась понять, когда у него закончится период «гнездования». К счастью, он хотя бы не считал необходимым звать меня, когда я находилась с ним в комнате, однако в целом вся эта брачная шумиха меня порядком выматывала.
Однажды днем Уэсли спал на своей подушке рядом со мной. Сквозь сон я почувствовала, как что-то мягкое гладит меня по лицу. И тут мне в рот аккуратно легла дохлая мышь. Уэсли кормил меня! Буэ-э-э. Мой рот наполнился отвратительным вкусом грызуна. Тьфу! Я выплюнула мышь и побежала в ванную полоскать рот листерином.
Уэсли невозмутимо последовал за мной с мышью в клюве. Он сел на стол рядом с раковиной и принялся совать мышь мне в лицо, требовательно крича. «Ешь, ешь!» — как бы говорил он. Я попыталась сбежать, но он упорно преследовал меня, куда бы я ни пошла. В конце концов, ему это надоело — он сел мне на плечо, наклонился и начал запихивать мышь мне в рот.
— Ладно, ладно, хорошо, Уэсли, я ее съем, — сдалась я.
Я взяла мышь у него из клюва и сделала вид, что откусила кусочек, спрятав тушку в руке. Не помогло. Он потянулся к моей руке и попытался вытащить мышь. Так просто его было не одурачить. Ладно. Я снова показала ему мышь, отвернулась, поднесла ее ко рту и принялась чавкать, под шумок запихивая мышь в рукав рубашки. Повернувшись, я воскликнула:
— Все, нету, съела! Ух ты, очень вкусно, Уэс! Спасибо! Хороший мальчик!
Он недоверчиво подвигал головой из стороны в сторону и вверх-вниз, ища мышь, но не нашел и решил, видимо, что я ее таки съела. С видимым облегчением он перелетел обратно на свой насест.
Так мне и приходилось каждый день изображать поедание мышей, в противном же случае он расстраивался и волновался, что я помру с голоду. Показное поедание нормальной, человеческой еды прямо перед ним не производило на него впечатления. Еда — это мыши, все остальное — не еда. Несмотря на пристрастие к ним Уэсли, мне никогда не хотелось попробовать мышей ни в каком виде — ни сырыми, ни вареными, ни жареными, ни запеченными.
Сезон спаривания и гнездования у сов продолжается с весны и до глубокого лета. Некоторые пары выращивают за это время аж два гнезда птенцов подряд. Впрочем, кажется, совы периодически спариваются весь год в качестве приветствия или знака привязанности, несмотря на то, что самки способны понести только в период гнездования. Часто Уэсли при «спаривании» с моей рукой не выделял спермы, так что возможно, что и самцы в этот период на самом деле не способны оплодотворить самку.
Было большим облегчением узнать, что многие другие владельцы хищных птиц также сталкивались с подобным поведением своих питомцев. Я даже слышала об одном парне, у которого жила дома какая-то безумно редкая краснокнижная птица — она регулярно спаривалась с его шляпой. Он тщательно собирал сперму и отправлял ее специалистам по охране окружающей среды по всему миру, которые пытались искусственно оплодотворять самок, чтобы спасти вид от вымирания. Для них сперма его птицы была на вес золота. На фоне таких открытий моя ситуация уже не казалось дикой. Также для многих животных совершенно нормально спариваться в знак приветствия. Приматы и даже люди часто обнимаются и целуются при встрече, а это — часть ритуала спаривания. Так что не удивительно, что Уэсли приветствовал меня таким образом.
Уэсли вообще стал относиться ко мне с очень трогательным вниманием, имевшим самые разные проявления. Он стал гораздо строже и настойчивее общаться со мной, показывая свою заботу.
Я тогда встречалась с одним парнем, который, как и я, писал песни. Однажды он пришел ко мне после полудня, чтобы вместе заняться нашим общим хобби. Я как раз недавно выяснила, что если отвязать Уэсли от насеста и дать ему устроиться где-нибудь под потолком, то он вполне готов пустить моих друзей в комнату при условии, что я постоянно буду с ними. Обычно он просто дремал где-нибудь на шкафу, лишь иногда подглядывая одним глазком, чтобы удостовериться, что мы хорошо себя ведем. Мы с Нормом сидели в комнате и играли на гитаре, и я вдруг вспомнила, что у моего шкафа дверца сошла с полозьев, и попросила его помочь. Он с радостью согласился. Мы встали по разные стороны дверцы и насчет три приподняли ее и водрузили на место с громким щелчком. В следующую секунду раздался оглушительный крик, и я лишь успела заметить размазанное пятно белых с золотистым отливом перьев. Норман согнулся пополам, держась за лицо, а Уэсли уже вернулся на свой шкаф.
Норм орал как резаный.
— Дай посмотрю, — настаивала я.
Я боялась, что Уэсли попал ему когтями по глазам.
Он распрямился и спросил:
— Что там, все сильно плохо? Плохо, да? Скажи как есть, я выдержу.
У него было всего лишь несколько легких царапин прямо около пробора у верхнего края лба. Я облегченно выдохнула: ничего серьезного.
Я перевела взгляд на Уэсли, который явно сгорал от стыда, вперив взгляд в стену. Он отреагировал инстинктивно, а теперь мучился оттого, что напал на другого человека. Я была потрясена тем, что он, видимо, попытался меня защитить. Маленький Уэсли против большого мужчины. Хотел защитить меня, несмотря на такой паршивый для него расклад — настоящий герой! Он ведь не знал, что тот громкий щелчок издала вставшая на место дверца шкафа. Он подумал, что Норм сделал мне больно, и был готов положить свою жизнь, защищая меня.
— Ничего серьезного, жить будешь, — сказала я Норму и пошла утешать Уэсли.
— Все хорошо, Уэсли! Все хорошо, не расстраивайся! Спасибо, что пытался меня защитить.
Норман сзади возмутился:
— А, то есть ты рада, что он на меня напал, да?
— Нет, нет! Конечно же, нет. Уэсли просто подумал, что ты пытаешься сделать мне больно, ты разве не видишь? Он теперь расстроился — я просто пытаюсь его успокоить.
— А, я понял. Я тут истекаю кровью, а тебя, видите ли, больше волнует эта сова. Может, стоит в первую очередь обо мне подумать, а не об этой чертовой птице?!
Чертовой птице?
Ситуация явно зашла слишком далеко и исправлению не подлежала. Я неожиданно ясно осознала, что у нас с Нормом нет будущего, как у пары, и что мне, более того, даже и не обидно. Я начала хихикать. Норма это, естественно, только больше разозлило, в итоге он просто вылетел из дома, хлопнув дверью и оставив свою гитару. Я взяла Уэсли на руки и стала баюкать, поражаясь его преданности и глубине чувств по отношению ко мне.
Через неделю мы с Нормом расстались.
Вскоре после этого я, приехав однажды на работу, обнаружила коллег в каком-то трауре. У некоторых были красные глаза, и все без исключения выглядели жутко вымотанными. Сидя в нашем залитом солнцем конференц-зале, я поинтересовалась у своего руководителя, что происходит.
— Да ужас, вот что, — ответил тот. — В одной лаборатории исследовали не подлежащих выпуску на волю грифов, что-то там связанное с окружающей средой. Это все проходило в рамках проекта по разведению их в неволе.
— Зачем?
— Они готовят масштабную программу по спасению кондоров. Калифорнийские кондоры вот-вот вымрут, так что они хотят переловить их всех, чтобы обеспечить им защиту и попытаться некоторое время разводить их в контролируемой среде. А потом, когда популяция подрастет, начать приучать молодняк к жизни в дикой природе. Риск большой — если они не смогут их нормально разводить, весь вид вымрет через пару лет максимум.
— То есть они придумывают, как спасти кондоров, экспериментируя пока на грифах? — уточнила я.
— Ну да, никто же не хочет потом провалить проект с самими кондорами. Грифы физиологически схожи с кондорами, так что эти ученые железно решили узнать все об их возможных потребностях. У них было девять грифов.
— Было?
— Было. Позавчера какие-то люди вломились к ним в лабораторию, выкрали грифов и отпустили и лабораторию вдобавок разнесли. Видимо, у них был какой-то пунктик по поводу содержания животных в неволе. Так что они взяли и отпустили их. Очевидно, они понятия не имели о том, через что птицам придется пройти там, снаружи.
— О, нет… Что с грифами?
— Ну, эти ученые попросили народ из других лабораторий помочь в поисках. Вот, ищем уже третий день. Нескольких нашли, но они были в таком страшном состоянии, что их пришлось усыпить. Их нельзя было выпускать. Совсем. У некоторых по одному крылу было! Да, такого у нас давненько не случалось.
— Просто не верится, — сказала я.
— Да, это бред, но некоторые вон считают, что даже собак у себя держать нельзя.
— Что? — я не верила своим ушам. — То есть они считают, что все, у кого есть собаки, должны просто взять и бросить их у дороги?
— В целом, да. Тут была выставка недавно — так прибежали какие-то гении, выпустили всех собак из клеток, открыли ворота и такие: «Бегите! Вы свободны!» Некоторые собаки выбежали прямо на проезжую часть и попали под машины. Нет, я руками и ногами за улучшение условий содержания животных, но это уже перебор — они же чокнутые. Осталось только начать залезать в чужие дома, чтобы освобождать «несчастных пленников».
От этих слов у меня душа ушла в пятки. Я не могла себе представить ничего более ужасного, чем потерять Уэсли. Мне как-то не приходило в голову, что рассказывать о нем окружающим может быть опасно.
Через пару ночей мне, естественно, приснился кошмар о том, как кто-то узнал об Уэсли, отпустил его и кричал: «Лети! Ты свободен!» Уэсли в панике полетел к высокому дереву, а затем стал улетать все дальше и дальше, завороженный новыми впечатлениями, чудом избегая опасностей. Я изо всех сил пыталась догнать его, звала его по имени, но он был слишком сбит с толку и напуган, чтобы прислушаться. Я беспомощно наблюдала за тем, как он вылетает прямо на трассу под машины. Я проснулась в холодном поту с бешено колотящимся сердцем. Уэсли был рядом, он мирно сидел на своем насесте. Я включила свет, взяла его на руки и баюкала, пока не успокоилась.
Тогда я решила, что стану рассказывать о нем только самым близким друзьям. Однако Уэсли, к сожалению, сам обнаруживал себя своим чертовым брачным зовом. Каждый раз, слыша этот звук, я думала: «О нет. Его же слышно с улицы». Но все те годы, что Уэсли был со мной, никто это никак не комментировал. Даже когда гости сидели за столом в гостиной и пили чай, а Уэсли начинал реветь через коридор, они просто повышали голос и продолжали беседовать. Это было удивительно. Я даже потом спрашивала некоторых из них, что это было, по их мнению. Они обычно задумывались и, если и вспоминали вообще этот звук, то отвечали, что сочли его звуком очень громкой сушилки, фена или кондиционера, который давно бы пора сдать в ремонт или выкинуть.
Мы часто не воспринимаем то, чего совершенно не ожидаем. Людям просто не приходило в голову, что в доме вместе с ними находилась настоящая, живая сова — это слишком необычно. Однако среди моих коллег «обычных» людей вообще довольно мало, и мой стиль жизни по уровню экзотичности даже и близко не лежал с жизнью многих других биологов. Если бы я не бывала у них дома и не видела все это своими глазами — ни за что бы не поверила. И с такими людьми я ежедневно работала бок о бок.
10 Один день из жизни биолога
ОДНАЖДЫ УТРОМ я проснулась пораньше, чтобы по пути на работу заскочить в лабораторию морской биологии и забрать пару осьминогов для Тома — постдока, изучавшего их поведение. Я люблю осьминогов и потому с нетерпением ждала встречи с ними.
Я, как и всегда, надела треники и футболку. Одеваться с иголочки, когда тебе предстоит работать с животными, — не самая лучшая идея. По утрам я просто умывалась, чистила зубы, а вечером принимала душ — вот и вся нехитрая гигиена.
Пока я собиралась, Уэсли обычно играл с водичкой, а потом устраивался на своем насесте и спал в мое отсутствие. Было непросто расставаться с ним каждое утро, но я пересиливала себя, обнимала его, целовала на прощание в изогнутый, гладкий и теплый клюв и выходила из дома.
Поторчав в типичной для Лос-Анджелеса пробке, которая едва двигалась, я наконец доехала до пункта назначения — морской лаборатории Оксидентал-колледжа, откуда за милю пахло рыбой и формалином. К моему удивлению, меня ждал всего один контейнер вместо двух. Осьминогов необходимо держать по отдельности, так как среди них много каннибалов, но ученые уже грузили водолазное снаряжение в грузовики, готовясь отправиться к морю.
Я помахала рукой одной из моих однокурсниц из Оксидентала, Лизе, которая уезжала вместе с научной группой. Лиза была способна спокойно подойти к раздутому, гниющему трупу морского котика на пляже, засунуть руку по локоть в черную, разлагающуюся плоть, покопаться там, вытащить кость, осмотреть ее и задумчиво протянуть:
— Хмм… Кости были слабые.
Любой другой на ее месте давно сбежал бы, подавляя рвотные позывы. Это качество сильно ей помогло в плане карьеры — она проводила вскрытие морских млекопитающих и определяла причины смерти, чтобы понять, как помочь еще живым. И дело свое она знала и любила.
— А почему осьминоги в одном контейнере? — спросила я одного из подвернувшихся лаборантов. — Они не съедят друг друга?
— Ну так до Калтеха пятнадцать минут всего — успеете. Мы их только-только туда посадили, — безмятежно ответил он.
Я засунула контейнер в свою машину и заглянула внутрь. Там в морской воде плавали два осьминога — один маленький, другой ощутимо побольше. Плохо дело. До Калтеха я ехала, вдавив педаль газа в пол. Припарковавшись в зоне разгрузки, я вытащила тяжелый контейнер из машины и потащила его к задней двери.
— Стоять! Вы что тут делаете? — я подняла глаза и увидела полицейского, стоящего передо мной с самым недовольным выражением лица. — Это разгрузочная зона, — рявкнул он.
— Так я и разгружаюсь, — ответила я.
Он вытащил из кармана стопку бланков, намереваясь выписать штраф.
— Я разгружаю осьминогов, — не сдавалась я.
— Ну да, конечно.
— Так, слушайте, — выплюнула я. — У меня тут два осьминога, причем один существенно крупнее другого, и он его сожрет, если я немедленно не доставлю их в лабораторию, — и с этими словами я сдернула с контейнера крышку.
К великому моему разочарованию, здоровяк уже успел съесть мелкого и теперь довольно и безмятежно колыхался в водичке, радостно переливаясь всеми цветами радуги. Он протянул длинное щупальце и начал исследовать присосками край контейнера.
— О нет, он уже! — закричала я. — Все. Он сожрал мелкого. И что мне теперь делать? Вы гляньте — только маленькое щупальце осталось, вон, плавает…
Я подняла глаза и увидела, как полицейский пятился, издавая задушенные гортанные звуки. Наконец он развернулся, запрыгнул в свою машину и дал по газам, оставив на асфальте парковки резиновый след от покрышек.
Вот так и рождаются нездоровые сенсации и слухи о научных лабораториях, в которых ставят эксперименты на пришельцах.
Я поставила контейнер у дверей лаборатории и пошла наверх за Томом. Тут же мне в нос ударил запах химикатов вперемешку с отвратительной животной вонью. Обожаю. Затаскивая вместе с Томом контейнер в лифт, я рассказала ему об обстоятельствах безвременной кончины маленького осьминога.
— Очень жаль, — покачал он головой.
— Да я знаю, мне следовало настоять на том, чтобы их рассадили, но они почему-то были уверены, что все будет в порядке.
По крайней мере, один из двоих добрался и был выпущен в аквариум сытым и довольным жизнью.
Свой рабочий день я обыкновенно начинала с чистки клеток и кормления сов и певчих птиц. Также в мои обязанности входило следить за появлением у животных каких-либо симптомов той или иной болезни. Все это в сумме занимало обычно часа четыре, что давало мне много времени на размышления.
Я любила свою работу. Калтех был неотъемлемой частью моей жизни с восьми лет, но в последнее время меня начало беспокоить мое финансовое будущее. Серьезную карьеру в Калтехе без докторской степени было не сделать. Меня с непонятным мне упорством уже некоторое время заманивала какая-то компания, занимающаяся изучением воздушно-космического пространства, и у них, кажется, потихоньку начинало получаться. Должность была совершенно не в моем привычном поле деятельности, но деньги обещали по моим меркам весьма неплохие, плюс меня обещали обучить работе с операционными системами UNIX. И хоть биология всегда была и будет моей первой и истинной любовью, работа специалистом по UNIX открывала поистине невероятные горизонты. Уходить было мучительно больно, но я поговорила с доктором Пэнфилдом, и он заверил меня, что мои наблюдения за Уэсли останутся все столь же ценными. Так я могла поддерживать связь с лабораторией и не ощущать, что все пропало.
Я вернулась наверх за некоторыми принадлежностями и по пути заскочила в лабораторию Джона — постдока, работающего прямо под нами, «совологами». Не изменяя своей привычке, я прислонилась к лабораторной двери, собираясь с ним поболтать. Заходить внутрь я не решалась, поскольку боялась врезаться в один из захламленных шкафов и оказаться с ног до головы в его содержимом. Вернее, в его жителях. Дело в том, что в лаборатории Джона обитали несколько тысяч черных вдов, и именно их небольшие жилища, похожие на чашки Петри, стояли целыми колоннами на полках высоченных шкафов, доходивших до самого потолка. О том, что здесь произойдет в случае серьезного землетрясения, я старалась лишний раз не думать.
Особенно Джон трясся над своими «яслями», в которых располагались яйцевые камеры и только вылупившиеся паучата. Сюсюкая и кудахча над ними, как курица-наседка, он отселял малышей при помощи стеклянной трубки. Он аккуратно втягивал паучка в трубку, переносил к новой чашке и выдувал его в новый дом. Я всегда боялась, что какой-нибудь из этих крох заползет ему в рот в процессе, но такого, к счастью, никогда не происходило.
Джон часами напролет сортировал паучат, когда те вылуплялись. С ними он проводил даже больше времени, чем с людьми. Он считал, что они невероятно «миленько» подбираются перед прыжком. Я в конце концов заключила, что если постоянно на них смотреть, то начинаешь различать их крохотные лица, которые и впрямь обладали некой милой инопланетной привлекательностью. «Смотри, смотри! Они такие сладенькие, когда маленькие!» И они действительно были по-своему красивыми малютками. Не такими, как тощие, длинноногие взрослые особи, а более, э-э-э, миловидными.
В какой-то момент мне стало казаться, что Джон потихоньку съезжает с катушек. Он начал таскать черных вдов домой. Потом он запретил любые манипуляции со своим двором, поскольку они могли навредить диким паукам, так что его двор довольно быстро зарос и покрылся гигантскими сетями паутины. А потом стал профессором биологии в другом престижном университете.
Несмотря на все свое обаяние, Джон был холост. Такой мужчина пропадал! Сама я, правда, даже помыслить не могла об отношениях с человеком с таким специфическим увлечением. Как прикажете растить детей в доме, кишащем черными вдовами?
В Калтех иногда заглядывали интереснейшие люди со всего мира. Та лекция Джейн Гудолл изменила мою жизнь навсегда. Ее исследование, в ходе которого выяснилось, что шимпанзе мастерят себе подручные инструменты и пользуются ими, потрясло мир науки до самого основания и показало, насколько на самом деле приматы близки к людям. Для меня доктор Гудолл была Галилеем биологии поведения. На протяжении почти десяти лет мы с сестрой и отцом ежегодно ходили на ее лекции, когда она приезжала в Южную Калифорнию.
Особенно сильно на меня повлияла ее позиция по отношению к животным, нежелание смотреть на них как на простые, движимые инстинктами организмы. Такое мнение доминировало в ученых кругах еще со времен Рене Декарта, ученого эпохи Просвещения, писавшего, что у животных нет чувств. В двадцатый век его пронесли бихевиористы под знаменем Берреса Фредерика Скиннера, который считал животных, по сути, мохнатыми роботами. Гудолл доказала, что каждый шимпанзе — это уникальное, разумное живое существо, и этим сподвигла других ученых на исследования слонов, орангутанов, горилл, волков и прочих зверей, которые также показали, что у каждого из них есть личность, что они — индивиды. Именно это позволило мне не просто изучить Уэсли, но воспринять его как чувствующее, мыслящее, даже духовное существо. Я была для Уэсли другом, а не ученым, наблюдающим за ходом эксперимента. Упор на эмпирическое познание в биологии поведения часто застилает нам глаза, порой не давая увидеть то, что мы ищем.
Великое множество ученых, гораздо менее известных, чем доктор Гудолл, ежедневно вносят неоценимый вклад в развитие своих отраслей науки, которые многим обывателям могут показаться дикими — даже более дикими, чем изучение черных вдов. К примеру, один из моих любимых профессоров в Оксидентал-колледже всю свою жизнь посвятил изучению яичников тихоокеанских эмбиотоковых рыб. Это было его пристрастием. Когда он уходил на пенсию, я шутила, что он, дескать, всю жизнь провел в изучении правых яичников эмбиотоковых, а теперь сможет спокойно заняться изучением левых (они абсолютно одинаковы). Выйдя на пенсию, он и впрямь переехал в домик на берегу океана, обустроил себе там лабораторию и продолжил свое дело.
Когда я была маленькой, отец дружил с Ричардом Фейнманом, еще до того, как тот получил Нобелевскую премию по физике. Будучи по натуре бунтарем, Фейнман никогда и никому не позволял себе указывать. Он ходил в стрип-клубы и там проводил вычисления прямо на скатерти. Он, собственно, вовсе не ради обнаженных девушек туда ходил — ему просто нравилась атмосфера. Нобелевская премия не вскружила ему голову — он и после ее получения продолжал преподавать физику первокурсникам. Он был настолько уморительным дядькой, что даже написал научно-популярную книгу под названием «Да вы, верно, шутите, мистер Фейнман!», которая, кстати, стала бестселлером — ее до сих пор покупают студенты-физики по всему миру. Его способность ясно, объективно и без предрассудков смотреть на вещи позволила ему наглядно и доступно объяснить Конгрессу причины повреждения уплотнительного кольца, ставшего причиной катастрофы шаттла «Челленджер» в 1986‐м году.
Другой физик в Калтехе предпочитал работать у себя в кабинете в чем мать родила. В отделе физики даже висела фотография, на которой он был художественно запечатлен в профиль, сидящим голышом за своим столом. По кампусу у нас бегал какой-то мужик в исторически точном и аутентичном костюме средневекового придворного шута: шутовской колпак, полосатые шаровары, фиолетовое трико и фиолетовые же бархатные туфли с загнутыми кверху мысками, увенчанными бубенчиками. И на него никто не пялился. Понятия не имею, кто это был, но относились мы к нему с уважением.
Вернувшись после разговора с Джоном в амбар, где жили совы, я заметила, что молодые дикие особи — самые буйные из наших подопечных, которых мы держали в отдельной большой совятне — были в тот день особенно неспокойны из-за ветра Санта-Ана. Это жаркий, иссушающий пустынный ветер, который электризует воздух и в целом раздражает решительно всех, включая животных. Я решила, что немного музыки не повредит, и включила приемник наверху, настроив его на станцию с мягкой классической музыкой. Затем я облачилась в свой рабочий халат, резиновые сапоги, перчатки и шлем с щитком и отправилась чистить подростковую совятню.
Птицы все же соизволили вернуться на свои любимые насесты и дали возможность мне приступить к работе. Поглощенная делом, я не замечала, что пластинку сменили, пока не услышала, как в кульминации какой-то оперы надрывается сопрано. Совы в ужасе носились по вольеру, а певица тем временем выдавала нереально высокие ноты под аккомпанемент оркестра, игравшего образцовое длинное крещендо с литаврами. Дюжины ошалелых сов сталкивались в воздухе, врезались в меня и падали на пол. Пара штук приземлилась на меня и перепугалась еще больше, осознав, что они стоят на живом человеке. Некоторые нападали на меня, в основном задевая плечи и руки.
Я выскользнула за дверь и понеслась наверх выключать коварный приемник. Совы понемногу успокоились, некоторые просто сидели на полу, тяжело дыша. У меня подкосились ноги, и я сползла на пол, дрожа и истерично смеясь, покрытая небольшими кровавыми пятнышками в тех местах, где совы продырявили мой халат когтями. Я сочла, что совятня вычищена достаточно, и принялась кормить сов, все еще слегка трясясь.
Время шло к обеду, так что я обработала ранки раствором йода и направилась обратно в основное здание. В столовую, с чьей-то легкой руки метко прозванную «саловой», я не пошла — как и большая часть местных ученых, я предпочитала приносить еду с собой из дома, садиться за столом в конференц-зале и обмениваться с коллегами разными интересными байками. Пока мы ели, в зал свободно залетали совы, проведывая друг друга или своих людей. Ни одна из них, правда, еще не приносила нам «громовещатели» — дисциплинарные письма, которые совы приносили ученикам школы Хогвартс в книгах о Гарри Поттере.
После обеда я торопилась куда-то и в коридоре чуть не столкнулась со Стивом. А поверьте мне, столкнуться со Стивом не захотел бы никто — его кожа кишела паразитами. Он был в составе группы, исследовавшей приматов, в которую когда-то входила и я, изучал трехполосых дурукулей, которых еще называли совиными обезьянами из-за их лиц, действительно напоминающих совиные. Стив был полевым этологом и, как и Джейн Гудолл, исследовал биологию поведения диких животных. Он в одиночку забирался в самые глубокие дебри джунглей Амазонки. Лишь на то, чтобы добраться туда, частично пешком, частично — на каноэ, у него ушло около шести недель. Он исследовал почти непроходимые болота в самой чаще, так что работать ему приходилось, стоя по колено в воде, кишащей паразитами. Ночами напролет он наблюдал за жизнью совиных обезьян высоко на деревьях, чем попортил себе шею. За первый же месяц сапоги буквально сгнили у него на ногах. Естественно, вслед за ними стали постепенно гнить и сами ноги. Стив мало-помалу становился частью джунглей — носителем всех или почти всех разновидностей паразитов, обитающих в том регионе.
Я не знаю, сколько он там пробыл, но явно немало. Во всяком случае, достаточно, чтобы «заамазониться» — измениться под влиянием полученного там опыта. Он больше не был простым человеком, как мы с вами. Он по-другому смотрел на мир. На нем жило столько паразитов, что о многих я даже и не слышала (а я в свое время их довольно долго изучала). Больше всего впечатляло нечто, отложившее яйца прямо в его плоть. Черви, вылуплявшиеся из этих яиц, росли прямо у него под кожей. Вот и попробуй спокойно поболтать о том о сем с человеком, у которого под кожей копошатся черви. Стив их не трогал, пока они не дорастали до следующей стадии «вылупления», на которой уже вылезали у него из-под кожи. Он точно знал, когда это произойдет, поскольку место будущего прорыва начинало чесаться, и он расчесывал его, создавая дырочку, через которую вылезал на свет божий двухдюймовый червь. Иногда червь только высовывался из-под кожи, а когда Стив пытался его ухватить, моментально залезал обратно, так что частенько их приходилось заставать врасплох. Сам он ко всему этому хоррору относился совершенно буднично, как будто у каждого второго на земле из-под кожи прут паразиты. Для него это не было проблемой. Вот просто ни разу.
— Ты что-то говорила? Продолжай, — сказал он, пытаясь отыскать свою банку. Вылупившихся червей он сохранял для врачей, занимавшихся специфическими тропическими заболеваниями, для которых эти черви, рожденные прямо тут, в Южной Калифорнии, были просто подарком свыше. Стив, будучи этакой ходячей чашкой Петри, собирал вокруг себя специалистов, желавших его исследовать, как сладкое собирает ос в жару. Вполне разделяя их научное любопытство, он с радостью предоставлял себя для этих исследований.
Стив рассказал о другом постдоке, собиравшемся вскоре повторить его беспримерное путешествие.
— Аппендикс только удалит и поедет, — поведал он.
— У него аппендицит? — спросила я.
— Нет, нет, — засмеялся он. — Просто большей части людей удаляют аппендикс перед длительными путешествиями в глушь, ты разве не знала? Ну, подумай сама. Что будет, если у тебя в шести неделях от медицинской помощи разовьется аппендицит? Ты умрешь. Поэтому почти все просто удаляют его заранее, чтобы не рисковать.
В районе Амазонки работают многие ученые, и вот каковы условия их труда. Никто из центров или институтов не проведывает их, не знает, что с ними, живы ли они вообще — ничего, кроме: «Да где-то через год должен объявиться. Наверное. Понятия не имеем, где он сейчас». Эти полевые биологи настолько преданы своему делу, изучению каких-то определенных видов, что ставят ради этого на карту все.
Одна моя подруга занималась наукой в более «домашних» условиях — она участвовала в разработке противозачаточных таблеток для мужчин. Когда им с коллегами в клинике это удастся, все СМИ завалят нас заголовками типа: «Ученые разработали противозачаточное для мужчин», но почти никто не узнает и даже не поинтересуется тем, кто именно совершил этот прорыв.
Ее работа заключалась в исследовании свойств спермы на всех стадиях ее формирования в сложнейшем «сборочном цеху», имя которому — тестикула. Каждый сперматозоид изначально представляет из себя неспецифическую клетку и проходит где-то четырнадцать этапов развития, прежде чем стать сперматогенной клеткой. Ученые пытались найти способ прервать этот процесс развития, не дав, таким образом, клетке развиться. Это было их целью, а вот сама их работа выглядела следующим образом:
Каждый день моей подруге вручали «яйце-носку» — контейнер с тестикулами неопознанных полицией трупов и тех, кто пожертвовал свое тело науке. И каждое утро она первым делом вываливала все это добро в большой блендер, примерно такой же, как тот, при помощи которого вы у себя дома делаете смузи. Собственно, она этим же и занималась — смузи из яичек, который она затем прогоняла через специальный прибор, разделяющий не успевшие полностью развиться семенные клетки на четырнадцать категорий или около того. Она брала получившиеся четырнадцать семенных «коктейлей» и изучала их на предмет воздействия определенных препаратов.
Ученые иногда оказываются в весьма небанальных ситуациях и, как правило, стремятся поведать о них миру. Обычным же людям такие вещи чаще всего либо противны, либо просто не интересны, а жаль.
Допустим, вы — энтомолог, и при этом замужем (невероятная удача!). Ваш муж просит вас забрать еду на вынос, которую вы заказали в каком-нибудь ресторане. Вы едете туда на приличной машине, что само по себе примечательно, ведь обычно вы ездите на какой-нибудь старой развалюхе (вы в принципе не понимаете, зачем кому-то тратить деньги на нечто большее — ваша колымага вполне способна довезти вас из пункта А в пункт Б, еще и с вашими коробками с насекомыми в багажнике, что еще может требоваться от автомобиля?). Вы выезжаете.
Вы добираетесь до ресторана, забираете заказ, выходите и видите на ступеньках нечто абсолютно потрясающее. Для остальных это всего лишь две букашки, вы же видите перед собой битву между мухой и муравьем-древоточцем в самом разгаре. Вы останавливаетесь ненадолго посмотреть. Потом возвращаетесь домой с едой, вам не терпится рассказать супругу об увиденном. У вас внутри все прямо кипит, вы жаждете завалить его подробностями. Вы паркуетесь и на всех парах несетесь домой.
Ваш супруг необъяснимо холоден и как-то отстранен. Он говорит:
— До ресторана около мили. Где ты пропадала целых два часа?
— Ой! — отвечаете вы. — Сейчас расскажу, там такая история! Я видела потрясающую драку муравья-древоточца и мухи. Я не шучу! Это невероятно! А самое главное — ты не поверишь — инициатором была муха!
— Дай уже сюда чертову еду, — неласково произносит он, выхватывает у вас из рук коробку и уходит на кухню.
Вы слышите, как с силой захлопываются дверцы шкафчиков, как на стол громко опускается посуда и как гудит микроволновка, разогревая ваш ужин. Вы начинаете понимать, что вашей истории придется подождать до завтра, когда вы приедете на работу и сможете рассказать ее коллегам. Всю ночь вы лежите без сна и припоминаете в красках все подробности, чтобы точно ничего не упустить, рассказывая завтра своим. Они-то глаза закатывать точно не станут.
И вы оказываетесь абсолютно правы. Они не просто разделяют ваш энтузиазм — они требуют подробно описать, как именно муравей напал на муху в сто двадцать третьем раунде. Справа или слева? Как вам показалось, делали ли они выводы из своих прошлых ошибок? Муха лежала в тот момент на спине или встала на задние лапки? Использовали ли они свои ротовые аппараты, и если да, то как и насколько часто и активно? Каким образом они защищали свои антенны?.. Вскоре стол, за которым вы сидите, оказывается окружен учеными и завален всяким хламом, используемым для наглядного обозначения ситуации. Я, кстати, это все не выдумываю.
— Короче, представьте себе, что этот ластик — это муха, а банка газировки — муравей…
Слухи с бешеной скоростью разлетаются по лабораториям, толпа вокруг стала расти.
— Слушай, погнали в столовку — там кто-то описывает драку муравья с мухой! Это беспрецедентно!
И все тут же бросают свои дела и бегут в столовую. Прибежав, спрашивают, задыхаясь: «Так, что мы пропустили?» — и толпа наполняется тихим перешептыванием — кто-то любезно пересказывает новоприбывшим пропущенные подробности. Помещение прямо кипит, а вы про себя удивляетесь тому, насколько разительно отличалась реакция вашего супруга. Что с ним не так?
Биологи со всего мира часто приезжали в Калтех на год или около того — поделиться опытом и поучаствовать в наших исследованиях, и культурные особенности некоторых из них не особо совпадали с нашими американскими. Это касалось и личной гигиены. Можно было бы подумать, что, с учетом нашего спокойного отношения к внутренностям и запахам животных, нам, биологам, безразличны и человеческие запахи, но это не так. В нашей лаборатории все регулярно мылись. По неким нам самим не особо понятным причинам мы способны выковыривать личинок из подобранного нами животного, спасая ему жизнь, и терпеть при этом вонь, от которой обычные люди вполне могут упасть в обморок, но от запаха давно не мывшегося человека нас выворачивает. Даже биологи, работавшие с приматами и привыкшие к соответствующим запахам, не выносили вони грязного человеческого тела.
Иногда большое счастье — не понимать научную подоплеку многих повседневных процессов. Поскольку мы все знали биологию и химию, мы понимали, что, когда мы чувствуем какой-то запах, это означает, что молекулы того, что этот запах источает, проникли в наш нос и осели на обонятельных рецепторах. Так что запах немытого человека означал, что его грязные молекулы попали в наши носовые ходы. Это было довольно некомфортно. Мы не горели желанием близко знакомиться с таким человеком, и мы уж точно не желали мириться с его отвратительными молекулами на наших обонятельных рецепторах.
В итоге коллеги, подавляя рвотные позывы, заявляли протест, и наш руководитель выбирал «гонца», который должен был поговорить с возмутителем общественного спокойствия в следующий раз, когда тот являлся на работу. Суть разговора заключалась в том, что по правилам лаборатории каждый сотрудник обязан тщательно мыться каждый день без исключения, причем мыться с головой, используя мыло. Также необходимо было каждый день носить свежевыстиранную одежду. Ношеную одежду надевать повторно было нельзя, даже если она выглядела абсолютно чистой (этот пункт мы включили, столкнувшись с тем, что некоторые ученые в отсутствии откровенной грязи на одежде носили ее практически неограниченное количество времени, не стирая), и это относилось в том числе и к исподнему. Также «гастролирующие» ученые должны были регулярно чистить зубы и пользоваться дезодорантом и антиперспирантом.
Некоторых эти правила вводили в ступор, но мы непременно настаивали на их соблюдении и тщательно за этим следили. Каждому ученому выдавался листок с полным перечнем обязательных гигиенических процедур. Многих это потрясало, некоторых бесило, но мы твердо стояли на своем.
После столкновения со Стивом, который был вообще крайне чистоплотен, если не считать живущих в нем «дармоедов», я, пребывая в прекрасном настроении, поднялась наверх к лабораториям, где работали чистые и свежие ученые, и занялась одной микрохирургической операцией под чутким наблюдением моего руководителя. Проводить подобную высокотехнологичную работу было для меня большой честью. Она включала в себя множество весьма деликатных процедур, таких как ввод микроскопической стеклянной иглы в крохотное яйцо вьюрка при помощи микроскопа, который управлялся специальными педалями. Мы вводили маркеры моноклональных антител в развивающиеся эмбрионы, чтобы иметь потом возможность определить, какие именно нервные клетки активно развивались на момент инъекции. Скрупулезно делая подробные записи, мы могли отслеживать все стадии развития мозга зародыша. После введения маркера мы аккуратно перезапечатывали яйцо капелькой воска, при этом сам зародыш оставался жив. Затем мы возвращали яйцо в гнездо к остальной кладке, где из него потом вылуплялся птенец, способный вести полноценную жизнь. Другая, не менее тонкая и опасная операция позволяла нам определить пол вьюрка, что было необходимо, так как мы составляли пары для скрещивания. Для этого мы вводили микроскопическую нитку с камерой на конце между крохотных ребер вьюрка, чтобы добраться до области под легкими, рядом с диафрагмой. Там располагались половые органы, по которым мы и определяли пол птички. Делали мы все это, разумеется, под общим наркозом, что в случае с этими крохотными птичками включало в себя другую интересную технику — реанимацию путем искусственного дыхания рот в клюв.
Ввести такую крохотную птичку в состояние наркотического сна вообще само по себе проблематично, переборщи чуть-чуть с действующим веществом — и птица перестанет дышать. В таком случае приходилось вдувать воздух ей в легкие самостоятельно, пока она не отойдет от наркоза, что, к счастью, происходило достаточно быстро. Мы отрабатывали эту технику на трупах вьюрков, умерших своей смертью, чтобы потом быть готовыми идеально исполнить ее на живой особи. Н-да… Приходилось брать в рот клюв дохлой птицы. У нас был девиз: «Никакой боли, никакого вреда, никакого расточительства», и последнее подразумевало, что даже мертвый вьюрок может еще сослужить ту или иную службу. Дуть надо было очень аккуратно, чтобы его легкие не лопнули. С гордостью могу сказать, что за всю свою практику не попортила легкие ни одному животному, даже мертвому вьюрку. Мы, кажется, вообще ни разу не ошибались при расчете количества анестетика, но все равно были готовы к такому повороту событий. Тщательность и аккуратность — в этом был весь Калтех.
Благодаря нашим продвинутым методам нас иногда вызывали определять пол птиц в другие центры и приюты для животных. К примеру, когда в каком-нибудь зоопарке появлялась пара исчезающих хохлатых туканов, пол которых хотели проверить, и, в случае, если это самец и самка, попытаться спарить, вызывали не ветеринаров, а нас. В те давние дни, двадцать с лишним лет назад, ветеринары для этой цели обычно вспарывали животное и раскрывали его, как книжку. Естественно, в доброй половине случаев процедура оказывалась для животного летальной, а потому зоопарки и наиболее обеспеченные заводчики предпочитали, конечно же, наш малотравмирующий метод.
Во ходе таких операций мы с моим руководителем обычно болтали обо всем на свете. Как-то раз я спросила, знает ли он еще каких-нибудь биологов, чья работа круто изменила их образ жизни.
— Еще бы, — ответил он. — Вскоре после того, как разнесли ту лабораторию с грифами и выпустили несчастных птичек, произошло еще одно нападение — на сей раз на центр, исследующий детскую лейкемию. Мышей, которых там изучали, требовалось растить и подготавливать по десять лет, а их взяли да и отпустили. Теперь куча детей умрет из-за того, что исследования той лаборатории задерживаются еще на десять лет.
— Ужасно, — вздохнула я.
— Да. Теперь все стали бояться за свои лаборатории, если там есть животные. Один мой знакомый приматолог так привязался к своим обезьянам, что и думать не мог о том, что его любимцам кто-то может навредить, вломившись к ним ночью. Он сначала пытался регулярно ночевать в лаборатории, но долго так продолжаться не могло, так что он стал перевозить их к себе домой по одному. Вот тебе и изменения в образе жизни. Сначала забрал свою любимицу, потом еще одну, которую просто не мог потерять, потом еще и еще, и понеслось. Последний раз, когда я у него был, у него дома весь пол был усыпан слоем опилок в полтора фута глубиной, и по всему этому счастью свободно бегали четырнадцать обезьян. Несло оттуда, конечно, знатно, причем аж за милю.
— А что соседи? — спросила я.
— А ему повезло в этом плане — он за городом живет. Иначе ничего бы не вышло, конечно. Клетки у них есть, но они стоят пустыми. Ну, не считая тайм-аутов.
— Каких тайм-аутов? — не поняла я.
— Ну, обезьяны, они же как дети — жутко умные. И они обожают мучить его собаку — дергают за шерсть и тут же отскакивают подальше. Приматолог решил, что так не пойдет и что надо их как-то от этого отучить. В итоге он придумал правило: каждая обезьяна, пойманная за издевательствами над собакой, отправляется на пять минут в клетку.
— И как, помогло? — поинтересовалась я.
— Первые пару дней помогало, да. А потом они просто начали сами бегать в свои клетки и сидеть там по пять минут после каждого «преступления», без принуждения. Они решили, что теперь это ритуал такой, вот и все, — засмеялся он. — У него эти обезьяны утром сидят за столом вместе со всей семьей и едят тосты с джемом.
— Надеюсь, он хоть не одевает их и не пытается научить их вести себя как люди, — пробормотала я.
— Не-не-не, он бы никогда не стал этого делать. Они прекрасно там все уживаются, а собаки, кстати, как раз охраняют его ненаглядных обезьянок.
— Погоди, ты сказал «со всей семьей»? Он женат? — уточнила я.
— А что, ты номерок спросить хотела?
— Да нет, я просто удивляюсь, как люди умудряются находить кого-то, кого бы устраивала такая жизнь.
— А, понял. Да, женат. Жена у него, кстати, тоже приматолог.
Ага, вот оно что. Выходить замуж следовало за кого-то не менее странного, чем ты сам. Хм-м…
Закончив с операцией, я побрела по коридору, чтобы проведать зверушек. Внезапно из шкафа прямо перед моим носом вывалился заросший мужик. Таких мы назвали «троллями». Не обратив на меня никакого внимания, он прошел дальше по коридору и исчез за дверью одного из туалетов.
Тролли, то есть математики-теоретики и физики, испокон веков водятся на территории всего Калтеха. Калтех был построен в девятнадцатом веке и отапливался в те времена паром, подававшимся через запутанный лабиринт тоннелей с самыми немыслимыми изгибами и поворотами. Паровые трубы до сих пор проходят через те тоннели, как и горячий водопровод, так что там тепло зимой и не слишком жарко летом. Тролли обитают в глубинах этого лабиринта и редко выбираются на поверхность. Там их дом, все об этом знают и всех это устраивает. Они исправно получают гранты, а живут довольно скромно и экономно.
В каждом здании есть потайные двери в определенных шкафах, которые ведут в лабиринты и позволяют троллям перемещаться между зданиями и пользоваться раздевалками. Многие говорят, что если и существует в нашем мире настоящий Хогвартс, то это Калтех, и я с ними согласна. Я спускалась в те тоннели и иногда, бредя в темноте, замечала синеватое свечение — то были экраны тролльих компьютеров. Рядом с компьютером в маленькой нише обычно располагалась кровать-двушка с наваленной кучей одеял и стопками книг и бумаг. Вот и все. Многие из них проживали так всю свою жизнь. Эти гении-теоретики занимались лишь тем, что работали и публиковали свои работы. У некоторых из них явно было то, что теперь называют синдромом Аспергера — легкая форма высокофункционального аутизма. Однако несмотря на это они были по-своему счастливы, производя расчеты и делая открытия в своих уютных закутках. Математику-теоретику ведь не нужна для работы лаборатория — достаточно листка бумаги, карандаша и фантастического ума.
Мой рабочий день подошел к концу, и я вновь нырнула в пробки Лос-Анджелеса. Дома меня встретил уже привычный гомон гусей и лошадей. Вэнди сидела в гостиной и играла на гитаре, сочиняя песню. Энни что-то чертила мелками в большом альбоме для рисования. Большой белохохлый какаду Вэнди, Омар, сидел на спинке кресла и кивал в такт музыке, иногда немелодично вскрикивая, видимо, в попытках подпевать.
Уэсли закричал, едва услышав мой голос. Я, как всегда, поцеловала его в клюв, потискала пару минут и спустила с привязи поиграть.
Вскоре после катастрофы с амадинами я обзавелась несколькими клетками с сирийскими хомяками, также известными как золотые хомячки. Они были не в пример крупнее амадин, и Уэсли не расценивал их как потенциальную добычу. Вообще, они ему даже нравились — кажется, они были для него чем-то вроде «совиного телевизора». Он вроде бы не возражал, когда я играла с ними. Еще он взял на себя обязанности надсмотрщика и кричал, привлекая мое внимание, если одному из них удавалось выбраться из клетки.
Как ни странно, мы вполне мирно уживались все вместе. Мне необходимо было окружать себя животными, мне нравилось слушать звуки игр Уэсли и хомяков по ночам. Жизнь в комнате била ключом, и мне казалось, что я сплю не в спальне в пригороде, а в самом настоящем лесу.
Той ночью я не ложилась допоздна, увлекшись чтением, а когда закончила, решила перед сном проведать хомяков. Один из них, судя по виду, умер. То есть умер, да не совсем — он не дышал, но редкий-редкий пульс все же был — около двух ударов в минуту. Температура была в порядке, то есть в спячку он впадать явно не собирался. Я проверила его дыхательные пути, они тоже оказались в норме, так что я положила хомяка на правую ладонь, вытащила и прижала его язык большим пальцем и начала делать ему искусственное дыхание. Привязанный Уэсли спокойно наблюдал за происходящим со своего насеста.
Все еще вдувая воздух в легкие грызуна, я добежала до кухни, набросала короткую записку для Вэнди, запрыгнула в машину и понеслась по трассе по направлению к круглосуточной клинике для экзотических животных, которая была где-то в сорока пяти минутах езды от дома. Вела я одной рукой — в другой лежал хомяк. Я стала пальцами делать ему непрямой массаж сердца, так как оно еле билось, а разгонять кислород по телу как-то надо было. Я закрывала губами всю его мордочку, делая крошечные, частые выдохи, и стараясь смотреть при этом на дорогу. Хвала создателю за те бесконечные тренировки на вьюрках!
Машина вихляла, как будто водитель был нетрезв — мне приходилось одновременно следить и за хомяком, и за машиной, да еще и вести одной рукой, но на часах было три часа утра и трасса стояла пустая, так что я не слишком переживала на этот счет. Как выяснилось, зря — в стекло заднего вида ударил свет и раздалась сирена. Просто невероятно. Второй полицейский за день. Да я прямо настоящая угроза для общества.
Я остановилась, опустила боковое стекло, не прекращая делать хомяку искусственное дыхание. Один из двоих полицейских вышел из машины, подошел ко мне и произнес:
— Вы в курсе, что ведете так, будто вы пьяны?
— Да, в курсе, ф-ф-ф, ф-ф-ф. Извините ф-ф-ф, ф-ф-ф. Я просто делаю искусственное дыхание ф-ф-ф, ф-ф-ф хомяку и пытаюсь успеть довезти его до ветеринарной клиники!
— Что-что вы делаете?
Он включил фонарик. Второй полицейский тоже подошел и вместе с сослуживцем заглянул в машину, а тот тем временем наблюдал, как я делаю искусственное дыхание лежащему пузиком кверху на моей ладони хомяку, придерживая ему язык. Через секунду первый полицейский хлопнул по крыше моей машины.
— Давайте, вперед, гоните! За всю свою карьеру не видел ничего подобного. Если это…
Конца его фразы я уже не услышала, поскольку уже мчалась дальше по трассе. Я добралась до клиники, где выяснилось, что хомяк впал в кому, вызванную каким-то припадком. Я целый час делала ему искусственное дыхание, и в конце концов хомяк кашлянул раз, другой и задышал, наконец, сам. Он потом еще долго прожил у меня. Ветеринар не верил своим глазам.
— Черт, где ж вы такому научились-то? — спросил он.
Ну, в общем, я биолог в одной лаборатории в Калтехе…
11 Совы — птицы сухопутные
Я ПРИНЯЛА то предложение от «Аэроспейс Корпорейшн» в Эль-Сегундо. Конечно, было тяжело прощаться со всеми в Калтехе. Работа за компьютером обещала быть сильно скучнее моих каждодневных приключений с животными и биологами.
В мой последний день на работе доктор Пэнфилд выдал мне записывающую аппаратуру.
— Я хочу, чтобы ты записывала звуки, которые издает Уэсли, и приносила нам эти записи, — велел он мне. Я с радостью согласилась на свое последнее задание — приятно было сознавать, что меня все еще что-то связывает с Калтехом.
Дом Вэнди находился слишком далеко от офиса «Аэроспейс Корпорейшн», так что я, скрепя сердце, сказала ей, что съезжаю. У нас обеих в глазах стояли слезы.
— Ну брось, я же не в Африку улетаю, — попыталась я утешить подругу. — Мы сможем навещать друг друга в любое время.
Но мы обе знали, что все уже не будет, как прежде, и что это событие знаменовало конец удивительного и прекрасного периода нашей жизни.
Когда я рассказала о новой работе маме, жившей в Хантингтон-Бич, она сказала:
— Ой, так переезжай ко мне!
— Вместе с Уэсли? — уточнила я.
— Конечно, если только он весь дом не обкакает.
— Да нет, конечно, что ты. Он ведь все-таки твой внук.
Она тяжело вздохнула.
— Что, правда, мам? — спросила я.
— Да, заодно на жилплощади сэкономишь. У меня две спальни пустуют. Тут на велосипеде совсем недалеко до пляжа. Заселяйся, как только сможешь.
И вот пришло, наконец, время покидать дом Вэнди. Я загрузила вещи в машину и засунула Уэсли в переноску. Оставив его на пару минут в уже пустой спальне, я пошла на задний двор крепко обнять верную собаку Кортни. Потом я попрощалась с гусями и лошадьми. Под привычный гогот гусей я вернулась в дом.
Вэнди стояла у двери вместе с Энни, облаченной в изумительное ситцевое платье, идущее к ее длинным, густым кудрям. Она была замечательной девчонкой — задумчивой, осмотрительной и смышленой не по годам. Наконец, я вернулась в спальню за Уэсли. Вэнди наклонилась и попрощалась с ним через решетку переноски. Он, кажется, проникся серьезностью момента и не стал угрожать ей, как обычно, — вместо этого он что-то прощебетал. Возможно, виной всему было то, что он находился не на своей территории.
Я крепко обняла Вэнди и Энни.
— Пока-пока!
— Пока! Будь на связи, не пропадай, ладно? Удачи!
И мы с Уэсли отправились в путь.
Нам предстояла долгая поездка вдоль берега. Уэсли, привычный еще с детства к путешествиям такого рода до Калтеха и обратно, мирно спал в переноске. Мы проехали знак, гласивший «Добро пожаловать в Хантингтон-Бич!», и я опустила боковое стекло. Салон наполнился прохладным соленым бризом с океана.
Мама тепло встретила нас у порога. Она наклонилась поздороваться с Уэсли, и тот вежливо чирикнул в ответ. Выделенная нам спальня оказалась просторной, так что Уэсли должно было хватить места для полетов. Увидев свой насест, он тотчас понял, что мы теперь будем жить тут, все так же вместе, и что все хорошо. Он прыгнул на перекладину, почистил перышки, медленно распушился до предела, а затем отряхнулся с головы до лап, как собака. Вот теперь он окончательно переехал. Вот и все. Многие животные, особенно кошки, сильно переживают из-за таких глобальных перемен, но Уэсли это, кажется, абсолютно не волновало. Оставалась неделя до моего первого официального дня на новой работе. В Калтехе я обычно носила под лабораторным халатом старые треники и футболку, но что-то мне подсказывало, что в «Аэроспейс» такой номер мог не пройти. За завтраком я поделилась этой мыслью с мамой, на что она ответила:
— Так поехали за покупками!
И мы поехали. Я долго примеряла разнообразные модные офисные шмотки. Придирчиво оглядывая себя в зеркале, я обратила внимание на свои длинные прямые волосы.
— Мам, я не могу в таком виде выйти на новую работу, — пожаловалась я. — Я с двенадцати лет прическу не меняла.
— Ну, у тебя такие длинные волосы — из них какую угодно прическу собрать можно, — ответила она.
Когда мы вернулись домой, я пошла в ванную и надела один из своих свежеприобретенных элегантных костюмов с лодочками вместо нормальных туфель. Я чувствовала себя так, будто стою на цыпочках. «Как люди вообще в этом ходят?» — подумала я. Потом немного поэкспериментировала с волосами, закалывая их шпильками и зажимами. Даже получилось несколько вполне себе профессиональных на вид причесок. Наконец, остановившись на одной из них, я вернулась на кухню и показалась маме. Ей очень понравилось.
— Ой, Стэйси, ты такая красавица! Идеально выглядишь для новой работы. Глядишь, скоро встретишь какого-нибудь милого и обеспеченного инженера и остепенишься, вместо того, чтобы встречаться со всеми этими чокнутыми музыкантами.
— Ну ма-ам, — вздохнула я и пошла к себе. Одежда стесняла движения, и было жутко непривычно ощущать свои волосы заколотыми везде, где только можно.
Как только я вошла в комнату, Уэсли при виде меня заорал и изобразил весь свой арсенал угрожающих поз и движений.
— Стоп, что? Что? Уэсли, ты что делаешь? — спросила я.
И тут он атаковал. Я отпрыгнула и пригнулась. Он отлетел от меня, описал круг по комнате и приземлился. Он таращился на меня во все глаза, вращая и двигая головой. Как и всегда в крайнем возбуждении, он притопывал одной лапой: топ-ТОП, топ-ТОП. Потом он издал длинный шипящий крик и клацнул клювом. Только тогда я обратила внимание, что смотрит он вовсе не на меня, а на мои волосы.
— А-а-а, прическа! — я поняла — он пытался убить мою прическу. Видимо, ему казалось, что у меня на голове сидит какой-то пушистый хищник.
Я как можно быстрее выдернула все заколки и распустила волосы.
Но Уэсли все еще был настороже. Он снова и снова тряс головой, не спуская с меня своих проницательных черных глаз. Я подошла взять его на руки, но он увернулся. Все еще наблюдая за моими волосами, он снова крикнул.
— Все в порядке, Уэсли, все хорошо, — мягко сказала я, стараясь не двигаться. — Со мной все в порядке.
Он несколько раз облетел комнату и приземлился на свой насест. Вместо своих обычных игр он так и просидел на нем весь вечер, постоянно присматривая за моей головой.
— Слушай, Уэсли, — вздохнула я, — когда я брала тебя к себе, я как-то не рассчитывала на то, что никогда больше не смогу поменять прическу.
Но в дикой природе его партнерша не заявилась бы ни с того ни с сего в гнездо с новой потрясающей укладкой перьев. Помимо прочего, я и сама-то не особо хотела менять прическу. Что ж, кажется, «Аэроспейс Корпорейшн» придется принять меня такой, какая я есть.
Уэсли были абсолютно до лампочки такие существенные перемены, как переезд в Хантингтон-Бич. Но все, что было рядом со мной или тем паче на мне, волновало его крайне сильно. Однажды та же самая ситуация повторилась, когда я зашла в комнату в солнечных очках, а потом еще раз, когда я забыла, что на мне бейсболка. Тот день почти целиком ушел у меня на разбор шкафа, и оставалась еще почти неделя на то, чтобы исследовать окрестности. В один из тех дней мама ближе к вечеру предложила проехаться с ней по тихоокеанскому шоссе. Проехав всего пару миль, я заметила знак, гласивший: «Водно-болотные угодья экологического заповедника Болза-Чика».
— Что это? — спросила я.
— Заповедная зона с пешими и велосипедными тропами. Их территорию долго пытались отобрать, но не вышло. Теперь здесь живут многие исчезающие виды птиц. Почти все остальные места такого рода вырубили, разровняли и закатали в асфальт.
— Давай остановимся и сходим туда? — предложила я.
Мы заехали на небольшую парковку, на которой стоял большой знак со списком всех птиц, обитающих в заповеднике. Первыми я заметила цапель — потрясающих водных птиц, тонких, изящных и высоких. Большие голубые цапли были ростом почти с меня — около пяти футов, большие белые были чуть ниже. Некоторые из них мирно спали стоя, подняв одну ногу, остальные бродили по мелководью длинными плавными шагами. Периодически то одна, то другая останавливалась, замирала на пару секунд, а затем пронзала клювом поверхность воды, выуживая оттуда свою блестящую серебристую добычу.
Вдоль одного из мостиков выстроились фотографы, делая снимки на фоне розового закатного неба, которое постепенно становилось багрово-красным и отражалось в воде. Зрелище было волшебным.
— Хочу ездить сюда как можно чаще, — сказала я маме. — Буду брать велосипед — тут недалеко.
Когда я добралась до дома, меня поприветствовал чириканьем Уэсли.
— Знаешь, я сегодня видела целые тысячи птиц, — поделилась я с ним. — Они охотятся так же, как и ты, но в остальном они совсем другие. Они — водные птицы, идеально приспособившиеся к жизни у моря.
На следующий день, когда я наводила порядок в комнате, Уэсли вдруг стал околачиваться у двери и проситься наружу. У него был специальный звук, который он издавал, буравя взглядом дверную щель. Уэсли частенько так делал, когда мы жили у Вэнди, и немедленно несся в ванную, стоило мне открыть.
— Уэсли, ты ведь даже не знаешь, где тут ванная, — заметила я и продолжила уборку.
Уэсли встал прямо перед дверью, нетерпеливо подняв лапу в ожидании.
— Ладно, хорошо, — вздохнула я. — Сейчас открою.
Признаться, мне было интересно, куда он пойдет.
Уэсли пронесся по коридору своим смешным, неуклюжим галопом и безо всяких колебаний вбежал прямо в ванную. Откуда он узнал? А-а. Он наверняка слышал, как я мою там руки, и по звуку воды определил местонахождение ванной. Совы ориентируются по звукам, я вечно про это забывала.
Уэсли прекрасно слышал даже те звуки, которые мне были физически недоступны, и иногда пугал меня тем, что некоторое время смотрел неотрывно в одну точку на стене, шипя и даже угрожая. Когда я подходила и прижимала ухо к стене в этом месте, то улавливала едва различимый шорох — возможно, мышь или какой-нибудь жук прокладывали себе путь через простенок. Однажды Уэсли весь извелся, вращая головой в направлении мусорного ведра и пытаясь снять с себя поводок, чтобы добраться до него. Я перерыла все ведро, пока не нашла маленького жучка, бегущего по куску бумаги и издававшего звук, который так заинтересовал Уэсли.
В другой раз Уэсли атаковал стену, разогнавшись и со всей силы вонзив в нее когти, после чего съехал по ней вниз и издал свой победный клич. Он закрыл крыльями свою «жертву», будто бы убил настоящую мышь, но там ничего не было. Я искала везде — на стене, на полу, у него под лапами. Он же шипел и продолжал вести себя так, будто убил кого-то. Наконец я по одной приподняла его лапы и обнаружила на розовой «ладони» одной из них раздавленного паука. Со смехом я отлепила дохлое насекомое.
— Это твоя добыча? Это ищешь, Уэсли?
— Ди, ДИП-ДИП-ДИП-ДИП, ди-и-дип! — радостно ответил он.
Он услышал паука на стене и напал. Я никогда не уставала поражаться и восхищаться его слуху.
Уэсли тщательно исследовал ванную. У Вэнди душевая располагалась за раздвижными дверцами, доходящими до самого потолка, здесь же стояла ванна, закрытая занавеской. Последняя его крайне заинтересовала — он залезал под нее и за нее, как ребенок, играющий в прятки. Потом он решил, что пространство между самой ванной и занавеской идеально подойдет для гнезда, и издал свой оглушительный брачный зов. Я помнила о задании доктора Пэнфилда, но в контексте нормальной, обычной жизни оно казалось странноватым. В любом случае, я решила дождаться, пока мамы не будет дома.
Уэсли продолжил осмотр ванной. Поискал на бачке унитаза журналы. На месте, как и положено. Кажется, он был доволен. Потом он залез за унитаз, что обожал делать в доме Вэнди — это было одно из его любимых укромных местечек — и радостно чирикнул. Потом перелетел на стойку с раковиной. Выглядела она примерно так же, как у Вэнди, так что он начал издавать свой типичный звук: «Пожалуйста, включи водичку» — и я открыла кран. Он быстро умылся и стал пить.
В целом, я достаточно обезопасила ванную и сделала ее «пригодной для сов». У Вэнди крышка унитаза была шершавой и неровной, а эта была гладкой и скользкой. Уэсли по привычке попытался на нее приземлиться, но вместо этого поскользнулся и свалился с другой стороны унитаза с возмущенным криком.
— Ты безнадежен, — сказала я, поднимая его с пола.
Я закрыла крышку тяжелым полотенцем, на которое он мог спокойно приземлиться.
— Туалеты не предназначены для сов, Уэсли, — сказала я, относя его обратно в спальню.
Несколько часов спустя я крутила педали велосипеда, горя желанием поскорее вновь оказаться в Болза-Чика. В устье плавала небольшая стая уток, иногда с головой ныряющих в воду. Плавучесть у них была такая, что им приходилось быстро и с силой грести, чтобы просто оставаться под водой, после чего они вылетали обратно на поверхность, как пробки. Брызги слетали с их перьев, подобно крохотным алмазам. Небо заполонили калифорнийские карликовые крачки — они летали кругами, перекрикивались друг с другом и постоянно поглядывали на воду. Каждые пару секунд очередная птица пикировала к воде, ныряла, появлялась на поверхности с какой-нибудь мелкой рыбешкой, отряхивалась и снова взмывала в воздух. Хоть я и волновалась из-за новой работы, я уже знала, что поездки в Болза-Чика станут моим лекарством от тревоги. На закате я поехала домой вдоль длинного, широкого, почти пустого пляжа, на котором в ожидании ночи кучковались чайки.
Уэсли с нетерпением ждал моего возвращения и начал снова проситься наружу, как только я вошла в комнату.
— О’кей, Уэс, — сказала я. — В ванную можно.
Я выпустила его, и он тут же туда поскакал. Я закрыла за ним дверь и ушла на кухню ужинать с мамой. Стоило мне начать есть, как из ванной раздался радостный крик.
— Поди, весело там твоей сове… — заметила мама.
Я бросила вилку и понеслась по коридору.
Открыв двери, я сперва не поверила своим глазам. Уходя, я случайно оставила крышку унитаза поднятой, а Уэсли не преминул этим воспользоваться и запрыгнул внутрь. Он промок насквозь, а перья местами топорщились, напоминая панковские ирокезы. Он радостно взглянул на меня, спокойно и по-хозяйски положив одно крыло на бортик унитаза. Более того, он еще и затащил туда здоровый моток туалетной бумаги, которая теперь украшала его тело мокрыми комками. Вся ванная была в воде и в кусочках бумаги. Сам Уэсли крупно дрожал.
— Уэсли! Ты что сотворил? — возмутилась я.
Он радостно чирикнул в ответ. Я вытащила его из унитаза, что было непросто — мало того, что он был тяжелым от воды, так он еще и брыкался, пытаясь вырваться и запрыгнуть обратно в унитаз. В результате и я оказалась вся в воде и туалетной бумаге. Он не сдавался, пока я не опустила крышку.
Я закутала его в полотенца и попыталась согреть.
— Уэс, ты в прошлой жизни цаплей был, что ли?
Он все еще дрожал. Невероятно.
— Не бывает водных сов, сумасшедшая ты птица.
Полотенцами его нормально высушить не получалось, а он явно замерзал, что было очень и очень плохо. Доктор Пэнфилд говорил, что совы могут умереть от холода. На ум приходило только одно решение проблемы, но это обещало быть непросто.
— Уэсли, я тебя сейчас феном просушу, ладно? Ты мерзнешь, тебе надо согреться, так что будем тебя сейчас сушить.
Даже если самих моих слов он не понял, мой тон дал ему понять, что у меня есть четкий план, а это всегда его успокаивало в незнакомых ситуациях.
Я и сама-то редко пользовалась феном. Когда я его включила, Уэсли тут же попытался улететь подальше от источника шума, но обнаружил, что мокрые крылья не в состоянии поднять его потяжелевшее от воды тело. Это напугало его еще больше, и он начал убегать. Я его изловила и усадила на постеленное на колени полотенце. Фен я переключила на самую слабую мощность. Каждый раз, когда на Уэсли попадала струя теплого воздуха, он брыкался, пытаясь с ней бороться. Сова — существо весьма хрупкое, а потому приходилось его отпускать, когда он начинал уж слишком бузить, чтобы он не поранился. Возможно, делу мог помочь мой пример? Он ведь всегда пытался мне подражать.
Я начала сушить феном свои собственные волосы. Он, дрожа, с благоговением наблюдал за происходящим. Выглядел он при этом настолько помятым и грязным, что его невольно становилось жалко. Я навела фен сначала на себя, а потом на него. Он слегка подпрыгнул от неожиданности, расправив крылья, но я уже вновь перевела фен на себя.
— М-м-м, как здорово-о, — призывно протянула я.
Я сделала вид, что расчесываюсь, и он тут же последовал моему примеру, начав чистить свои перья. Я снова навела на него фен, в этот раз он уже не подпрыгнул. Он стоял на месте с выражением мученического стоицизма на сердцевидном лице. Я снова перевела струю воздуха на себя, прежде чем он испугался. Делая так раз за разом, я убедила его спокойно стоять на месте, пока я сушила ему перья. Вообще мне показалось, что ему даже начинает нравиться. «Надеюсь, больше не придется этим заниматься», — подумала я, выключая и убирая фен. Когда я вернулась на кухню, ужин, разумеется, давно остыл. Я была мокрой и местами на мне все еще висели кусочки туалетной бумаги. У мамы при виде меня аж челюсть отвисла.
— Моя сова решила, что она — утка.
Тем вечером я собрала и настроила звукозаписывающую аппаратуру, выданную мне доктором Пэнфилдом. Мама собиралась уехать на следующий день, так что я решила записать немного звуков Уэсли, пока не началась работа. Следующим утром я снова поехала вдоль пляжа. Я с восторгом наблюдала за стаей краснокнижных калифорнийских бурых пеликанов, летящих клином, подобно бомбардировщикам Б‐52, буквально в дюйме от поверхности воды, задрав головы и расправив крылья до предела. Заметив косяк рыбы, они поднимались выше, разворачивались, прижимали крылья к телу и пикировали, совсем как та сипуха у супермаркета пять лет назад. Только вместо того, чтобы в последний миг выровнять траекторию, они врезались в воду со скоростью 40–45 миль в час. Кожа этих пеликанов покрыта маленькими пузырьками, которые при ударе о воду надуваются, как маленькие подушки безопасности, гася удар и защищая их внутренние органы, подобно полиэтилену с пупырышками. Рыбам повезло гораздо меньше — ударная волна от одного-единственного пеликана на такой скорости оглушает их в радиусе примерно шести футов, а самому пеликану остается лишь подобрать добычу. Весьма интересный и изящный способ охоты.
Когда я вернулась домой, Уэсли тут же принялся снова проситься в свой излюбленный аквапарк — ванную.
— Уэсли, подожди минуту.
Но он был непоколебим. В дикой природе совы ничего не запрещают своим партнерам, так что, если уж Уэсли вбивал что-то себе в голову, значит, так тому и быть — остановить его было практически невозможно. Я быстро перенесла аппаратуру в ванную и расположила микрофон между ванной и занавеской.
Я отвязала Уэсли, и он тут же ринулся по коридору к своему любимому «гнезду», где принялся издавать свой брачный зов, который казался в маленькой комнате особенно громким и заставлял вибрировать кафельную плитку. Я нажала кнопку на записывающем устройстве и тихо сидела рядом, пока Уэсли заходился в своем гудящем крике. Мне удалось записать довольно приличный кусок, прежде чем Уэсли внезапно прыгнул на мою руку, и брачный зов сменился попугайским клекотом — как всегда, с протяжным криком в конце. Идеально.
Я все еще плохо понимала, зачем доктору Пэнфилду понадобились эти записи. Когда-то он сам ставил инфракрасную камеру с микрофоном в специальный сипуший «скворечник» и годами записывал звуки его обитателей. У него наверняка уже имелась полная коллекция всех звуков, которые в принципе способна издать сипуха. Так или иначе, я справилась со своим заданием, чему была очень рада.
Я собрала аппаратуру и открыла дверь ванной, за которой стояла мама.
— Что, во имя всех святых, у вас тут происходит?
— Мам! — взвизгнула я от неожиданности. — Э-э, ну, это был брачный зов Уэсли.
— Боже ты мой, звук был жуткий совершенно! Бедняга, вокруг же нет ни одной совы-девочки…
— Мам, Уэсли считает своим партнером меня. Это он меня зовет.
На лице у мамы отражалось постепенное осмысление моих слов.
— Я надеюсь, ты об этом помалкиваешь, Стэйси. Люди ведь не поймут, — с этими словами она развернулась на каблуках и ушла к себе в спальню.
Тем вечером я собиралась принять ванну. Я привязала Уэсли в комнате.
— Я ненадолго, Уэс, — пообещала я. — Я хочу принять ванну.
Не судьба. Услышав звук льющейся воды, Уэсли принялся настойчиво упрашивать, кричать, плакать и чирикать, в общем всячески обозначать свое отношение к тому, что я ушла развлекаться без него. Через несколько минут это стало невыносимо. Может, если я его пущу, он поиграет с журналами, пока я моюсь? Заливая весь пол, я вылезла из ванны и выглянула в коридор. Путь был чист, так что я метнулась в комнату, отвязала Уэсли и побежала обратно, а он догонял меня, как всегда расправив крылья. Я закрыла дверь, вручила Уэсли журнальчик и скрылась за шторой.
Только я опустилась в ванну, как вдруг — шурх, прямо рядом с моей головой. И снова шурх… шурх… шурх. Уэсли врезался в занавеску, явно пытаясь прорваться внутрь. Тут он снова влетел в занавеску, но на сей раз ухватился за ткань когтями и стал махать крыльями — он применял старую тактику молодых сов для лазанья по деревьям. И преуспел — через пару секунд его голова показалась над верхним краем занавески. Н-да, дело плохо, подумала я. Он смотрел вниз на меня с классическими признаками бескрайнего удивления: поднятые крылья и вращающаяся голова. Он буквально чуть из перьев не выпрыгнул, увидев меня, лежащей в целой ванне воды. Целой. Ванне. Для него эта ванна, верно, казалась целым океаном. Он низко-низко наклонился, держась лапами за перекладину.
— Это не для сов! — закричала я. — Не для сов!
Уэсли нырнул. Правда, едва ощутив горячую воду, он начал дергаться и бить крыльями. Я одним движением выцепила его из воды, выбросила из ванной и задернула занавеску. Ну вот и все, будет теперь ему наука, подумала я. Как бы не так. Через пару секунд он уже снова висел на перекладине сверху, прицеливаясь. В этот раз перед погружением он вытянул вперед когти. Я снова вытащила его, пока он не утонул.
— Все, Уэсли, перестань! — сказала я. — Ты не пеликан.
Совы никогда не ныряют вот так в воду. Они вообще в нее не ныряют, это неслыханно. Сипухи промокают в воде и не приспособлены к водной среде, и в норме они стараются ее избегать. Они даже не пьют, так как все необходимые для метаболизма жидкости получают из пищи. В дикой природе подобные номера для Уэсли оказались бы губительны.
Я быстро закончила с мытьем, спустила воду и дала ему обследовать ванну. Уэсли явно не нравилось то, что воды не стало, — он тихонько шипел. Потом он обратил внимание на все еще капающий кран и встал прямо под ним, упрашивая меня его открыть.
— Хорошо, Уэс, но только чуть-чуть, — вздохнула я и пустила воду.
Он попытался тут же запрыгнуть под струю, но я придержала его, пока ванна не наполнилась примерно на дюйм, и только после этого отпустила. Он принялся радостно носиться по ванне и плескаться, как ребенок, он был жутко доволен. С тех пор он полюбил проводить время в ванне, с водой или даже без нее. Жаркими летними деньками он сидел в ней и наслаждался тем, как прохладное покрытие ванны ощущается на его лапах. Иногда он даже спал, стоя в воде и подняв одну ногу! А порой просто бродил по ванне, периодически умывался и пил воду.
Доктор Пэнфилд был ошарашен, когда я рассказала ему обо всем этом.
— Сов никогда раньше не замечали за подобным поведением, — сказал он.
И правда, до тех пор не замечали. Бернд Хайнрих описывал виргинского филина, купавшегося в пруду рядом с его хижиной, но поведение Уэсли было удивительным и абсолютно беспримерным.
Теперь у меня появилась серьезная проблема — как мне самой принять ванну без участия Уэсли? Я бы просто привязала его, но он словно помешался на воде. Он просто с ума сходил, если я шла в ванную без него. Я пыталась отвлекать его собачьей миской с водой, но все было без толку. Я попробовала отдергивать занавеску и перекидывать через бортик ванны полотенце, на котором он мог сидеть, — так было значительно проще следить за ним и не давать ему нырять, чем если бы он продолжал спрыгивать с перекладины под самым потолком. Естественно, он все равно пытался запрыгнуть в ванну хотя бы с бортика. Я исправно раз за разом ловила его в прыжке и возвращала на место, а он протестующе шипел, недовольный моей жадностью и нежеланием делиться водичкой. Тогда я решила попробовать вместо ванны принимать душ. Может, он растеряет часть своего энтузиазма, если ему будет не во что прыгать? Разумеется, я ошибалась. Уэсли, как всегда, вскарабкался по занавеске и спрыгнул вниз с растопыренными когтями, а не найдя внизу воды, начал беспорядочно барахтаться в воздухе, в панике подыскивая место для приземления. Этим местом могло стать лишь мое обнаженное тело, а этого никак нельзя было допустить — пришлось ловить его в воздухе. И что прикажете делать, стоя под душем с совой в руках? Я высадила его из ванны в надежде быстро закончить мыться, но над занавеской раз за разом упорно продолжало появляться довольное лицо Уэсли, которому явно понравилось новое ощущение падающих на него струй воды. Я начала произвольно махать руками над головой, пытаясь помешать ему прыгнуть. А вот это сработало. Одной рукой я махала над головой, не давая ему рассчитать траекторию для прыжка, а другой пыталась намыливаться и брить ноги. Иногда на его лице появлялось выражение решимости прыгнуть, несмотря ни на что, — тогда приходилось все бросать и некоторое время махать обеими руками. Это его все же останавливало, и я возвращалась к странному танцу с размахиванием лишь одной рукой. Чувствовала я себя совершенно по-дурацки, слава богу, никто об этом не узнал.
Однажды в ходе этого странного балета я случайно брызнула ему на лицо, которое тут же приобрело выражение а-ля «Эврика!». Пару секунд он, кажется, осмыслял случившееся, а затем свесился с перекладины с распростертыми крыльями. Из-за невероятной мощи лап и когтей, он мог висеть под немыслимым диагональным углом.
— Не-не-не, Уэсли, не смей! Нельзя прыгать! — предупредила я.
Но он и не собирался прыгать. Вместо этого он расправил крылья, взъерошил каждое перышко на теле и принялся раскачиваться на перекладине. Он явно не угрожал мне. Может, он хотел, чтобы я еще раз на него брызнула? Я сложила руки лодочкой, набрала в них воды и окатила его. Он аж сомлел от удовольствия. Вот оно что — он просил полить его, как цветок!
— Ну все, Уэсли, тебе точно пора к врачу. Совы — птицы сухопутные, чтобы ты знал.
Но его это как-то не сильно волновало. Он просто хотел под душ, как я, и теперь он наконец понял, как достичь этой своей цели.
Я все еще старалась как можно меньше его мочить. Пока он отряхивался и чистился после того, как я разок его окатила, я успевала почти полностью помыться, прежде чем он начинал требовать еще.
На следующий вечер я решила против обыкновения наполнить ванну ему до уровня бедер. Тогда он совершил нечто поразительное. Сначала он, как обычно, просто умылся, погрузив в воду лицо и затем отряхнувшись, как собака. Затем началось странное — он медленно сгибал колени, пока не оказался по подбородок в воде. Я смотрела на происходящее, не моргая. Потом его лапы разъехались на скользком покрытии ванны, и в результате он погрузился еще глубже. После этого он расправил на полную свои золотистые крылья и опустил их в воду. Какого черта? И тут вдруг он словно превратился в бешеную водяную мельницу — дергался всем телом, лежа лицом в воде и ударяя по ней крыльями, и щедро орошал брызгами стены и даже потолок. Словом, пока Уэсли принимал ванну, я принимала незапланированный душ.
Уэсли вынырнул и поглядел на меня так, словно только сейчас меня заметил. На лице его читалась ровно та же гордость, что и в тот раз, когда я обнаружила его сидящим в унитазе. Он снова окунулся, задергался и захлопал крыльями, разбрызгивая воду по всей ванной. Шоу было то еще.
В конце концов мне пришлось вытащить его из ванны, несмотря на его громкие протесты. Он ужом извивался у меня в руках, пытаясь попасть обратно, так что я сначала слила воду, чтобы хоть как-то его урезонить. Он был словно маленький ребенок, упрямо желающий еще поиграть в воде, хотя губы уже посинели.
Когда вся вода исчезла в сливе, я посадила Уэсли на столик рядом с раковиной, и он стал любоваться собой в зеркале, расправив мокрые крылья и поворачиваясь то так, то эдак, оглядывая себя со всех ракурсов. Снова и снова он радостно чирикал своему отражению. Он никак не мог на себя наглядеться: минуту стоял в одной позе, затем вставал в другую, как один из тех парней на конкурсе культуристов по телевизору. А потом он начал дрожать.
— Знаешь, ты — единственная сова в мире, которой нужен фен, — заметила я, морально готовясь к долгим уговорам, чтобы заставить его спокойно постоять на месте.
Однако на этот раз, стоило мне поднести к нему включенный фен, он снова засиял своей «Эврикой!». Он нагнулся вперед, распушил перья, прямо как тогда, на перекладине, и начал медленно двигаться из стороны в сторону и поворачиваться, подставляя каждый сантиметр своего тела под струю теплого воздуха.
С тех пор он каждый день просил купаться. Я наполняла ванну ему по бедра, он нырял, растопырив когти, и начинал барахтаться, словно маленькая птичка в своей купальне. Вот только он был не маленькой птичкой, а большой совой, и купальня была не для птиц, а для людей. В итоге вся ванная неизменно оказывалась забрызгана водой.
— Ну ладно, Уэс, — вздохнула я как-то раз, — убедил. Может, ты и не приспособлен к воде, но в душе ты — настоящая водная птица, совсем как те, в Болза-Чике.
12 Нерушимые узы
ОДНАЖДЫ ЖАРКИМ летним вечером я лежала на кровати у открытого окна и наслаждалась океаническим бризом и звуком прибоя. Уэсли, как всегда, резвился на своем насесте и о чем-то увлеченно щебетал. Вдруг снаружи раздался крик, очень мягкий и очень, очень близкий. Я села на кровати и оказалась лицом к лицу с одинокой самкой сипухи, которая зависла снаружи перед окном, наблюдая за Уэсли. Я не поверила своим глазам — дикая сова буквально в паре дюймов от моего лица! Я затаила дыхание, а она тем временем отлетела от окна и села на ограду передохнуть — совам тяжело парить на одном месте подолгу. При этом она не переставала издавать негромкие крики.
Не совсем понимая, что происходит, Уэсли громко крикнул в ответ. Ей его ответ явно понравился, и она вновь подлетела к окну. Я старалась не двигаться, чтобы не спугнуть ее. Но я, казалось, совсем ее не волновала — все ее внимание было приковано к Уэсли.
Она была очень красивой. Может, стоило ее впустить? А если впустить, а потом закрыть за ней окно? Запаникует ли она? Может, они с Уэсли начнут спариваться? А потом что? Я могла бы оставить ее и попытаться приручить, но мне претила сама мысль о том, чтобы обречь здоровую дикую сову на жизнь в заточении. Уэсли настолько не имел понятия об окружающем мире, что не продержался бы на воле и пятнадцати минут. Он боялся деревьев, качавшихся на ветру, — наверное, они казались ему какими-то огромными чудищами. Даже если бы я попыталась реабилитировать его по тем же программам, по которым совят кормят при помощи муляжей, Уэсли все равно бы не избавился от воспоминаний о людях, что сделало бы его крайне уязвимым. Он пытался бы приблизиться ко всем незнакомцам без разбору, считая их дружелюбными, и, вероятнее всего, оказался бы застрелен каким-нибудь недоумком. У него не было возможности узнать у родителей, каких вещей следовало избегать — машин, линий электропередач, филинов, огня и еще многих и многих других опасностей.
В реабилитационных центрах сов учат охотиться, давая им сначала дохлых мышей, затем дергая трупы за ниточки, чтобы совята приучались за ними гоняться, а затем уже давая им живых грызунов. Сов нужно тренировать, чтобы они наращивали мышечную массу, достаточную для многочасовой охоты. Даже если в такие центры попадают уже взрослые дикие птицы для непродолжительного восстановительного курса, одним из главных приоритетов работников центра остается поддержание и восстановление тонуса птицы и ее выносливости. В центре, в котором работала я, мы с коллегами бегали за птицами, размахивая над головой полотенцами и не давая им приземлиться, чтобы они тренировали мышцы крыльев. От таких тренировок мы сами изнемогали не меньше наших подопечных.
Все это мне пришлось бы проделать с Уэсли, прежде чем даже подумать о том, чтобы выпустить его на улицу, и все равно пришлось бы при этом переехать подальше от автомобильных дорог и прочих опасностей. Я прекрасно знала, что Уэсли никогда не сможет самостоятельно охотиться в достаточной мере, чтобы прокормить целое гнездо птенцов. Он нуждался во мне, а я не смогла бы постоянно следить за ним, если бы стала выпускать его из дому. Нет, я не могла отпустить его полетать с дикой совой, а если бы даже я оставила ее у себя и смогла бы приручить — что бы я делала с птенцами? Этот вариант тоже отпадал. Однако в тот миг меня будто игла кольнула в сердце — я хотела, чтобы они были вместе. Она была словно из другого мира, из какой-то сказки — пришелица извне, с другой стороны. Я решила не вмешиваться и с удовольствием наблюдала, как они общаются друг с другом. Снова и снова она возвращалась к окну. Наконец, она улетела, а я осталась лежать на кровати, впервые за долгое время чувствуя себя невероятно живой и настоящей, осознавая, сколь щедро меня наградила судьба, послав мне это волшебное существо. То был первый из многих визитов влюбленной маленькой самки, привлеченной зовом Уэсли.
Моя новая работа в «Аэроспейс» подходила мне идеально, в итоге мне даже не понадобились все те строгие костюмы, что я купила. Частью моей работы, к примеру, было ползать под полом серверной и прокладывать кабели. Мой сосед по офису вообще носил каждый день одно и то же — кроссовки «Нью Баланс» и спортивный костюм с логотипом Южно-Калифорнийского университета. Да и вообще в офисе царила слегка безумная атмосфера этакого мозгового центра, прямо как в Калтехе, что мне очень нравилось.
Еще мне нравилось жить у мамы. Однажды вечером к нам зашел ее парень и партнер по танцам, Уолли. Я как раз спустилась, собираясь разморозить мышей для Уэсли, и увидела на кухне маму и Уолли, собирающихся готовить ужин. Уолли понятия не имел о существовании Уэсли. Я отвела маму в сторону и прошептала:
— Что мне делать? Мне нужно покормить Уэсли!
— Вытащи мышей, оберни в бумажное полотенце и положи в микроволновку, он и не заметит, — посоветовала она.
Ладно. Я тихонько вытащила мышей из пакета и по-быстрому завернула в бумажное полотенце. Однако ровно в тот момент, когда я собиралась положить их в микроволновку, Уолли неожиданно подошел к плите, стоящей прямо под микроволновкой, с большой черной сковородой в руках.
— Ой, простите, — вздрогнула я и на секунду ослабила хватку.
Этого оказалось достаточно, чтобы из пакета прямо на сковородку со стуком высыпались четыре обледенелые мыши. Мы с мамой замерли. Уолли тоже стоял без движения со сковородкой в руке и абсолютно ошарашенным выражением лица. Через пару секунд мы с мамой обе пришли в движение, быстро схватили мышей, бормоча что-то вроде: «Слушай, Уолли, ты чем хочешь салат заправить? А выпить хочешь? Возьми себе стаканчик» — в надежде отвлечь его. Как ни странно, у нас получилось.
Совсем недавно мы признались ему и рассказали, как все на самом деле было в тот раз, на что он ответил:
— Да нет. Да ладно вам, не верю. Что, прямо на них смотрел? Вообще не помню!
Теперь я зарабатывала значительно больше, а потому могла себе позволить чаще «выходить в свет». Однажды вечером мы с друзьями собрались большой компанией в одном кафе, и в какой-то момент напротив меня сел парень по имени Гай Риттер. Он был ударником и солистом хардкорной хэви-метал группы под названием «Tourniquet». У нас с Гаем сразу все пошло, как надо, и он пригласил меня на свидание. Наконец-то я нашла парня, способного кричать громче, чем Уэсли.
Когда мама впервые услышала один из дисков «Tourniquet», где Гай то низко рычал, то пронзительно орал, она убито опустилась на стул, повторяя: «Ох ты, божечки…». Я поведала ей о том, что мы встречаемся, и она закрыла лицо ладонью и вздохнула:
— Опять музыкант!..
Мы с Гаем оттягивались от души на его металлюжных тусовках с фан-зонами, где молодые парни врезались друг в друга грудью и трясли длинными волосами. Сам Гай столько тряс головой во время своих выступлений, что на следующий день обычно просто валялся на диване, приложив лед к шее и тихонько постанывая.
Я не рассказывала ему об Уэсли. Гай считал, что я держу дверь в спальню закрытой из-за бардака внутри. Не знаю, на что он списывал исходящие оттуда временами звуки, но у него, во всяком случае, хватало такта не спрашивать.
Мама со временем нашла общий язык с Уэсли — она становилась у двери и ласково с ним разговаривала. Если она входила в комнату, он начинал ей угрожать, но вполне спокойно и даже с приязнью относился к ней, если она не нарушала границ его территории. Он отвечал ей щебетанием, расслабленно стоял на одной ноге, чистил перышки и даже ел при ней. Она сказала, что может присматривать за ним в мое отсутствие, чтобы я могла отлучаться надолго. Входя в комнату, она всегда надевала защитные очки, тяжелую накидку, перчатки и шлем на случай, если Уэсли сумеет отвязаться и ей придется догонять его и сажать в переноску. К счастью, такого ни разу не произошло, но подстраховка еще никому не мешала.
Мама могла размораживать мышей и бросать их при помощи щипцов для барбекю на платформу его насеста. Пока он был поглощен едой, она подбирала щипцами остатки его вчерашней трапезы и мышей, которых он сбросил на пол, складывала их в мусорный мешок и выносила из комнаты. Она вообще придумала неплохую систему для всего этого. Ее помощь ощутимо развязала мне руки, поскольку не только я доверяла маме — ей доверял и сам Уэсли, не возражая против ее общества в мое отсутствие. Она вошла в его «ближний круг» — немногочисленную группу людей, которым он в некоторой степени доверял и даже позволял до себядотронуться, если я при этом держала его на руках, а человек приближался медленно и осторожно. Я чувствовала, как он дрожит, но он, кажется, был железно настроен дать себя погладить, несмотря на свои страхи, — словно активно и сознательно боролся со своими инстинктами.
Мы с Гаем ходили в походы, отправлялись в долгие поездки на машине, шутили и смеялись, играли на гитарах и пели. Как-то раз я сказала ему:
— Надо познакомить тебя с бабушкой и дедушкой, особенно с дедушкой, — вы с ним найдете общий язык. Он всю жизнь был ударником, играл в биг-бэндах в период Депрессии, когда ему было всего тринадцать. Зарабатывал достаточно, чтобы тянуть на себе аж две семьи — свою и бабушкину, иначе они бы Депрессию не пережили. В сороковых и пятидесятых выступал с легендами вроде Фрэнки Карла и Хораса Хайдта. И детей своих растил ударниками, так что у меня в семье их много.
Мы и впрямь съездили однажды к бабушке с дедушкой, и Гай им очень понравился. После знакомства и радушных приветствий бабушка ушла на кухню заваривать чай, а Гай с дедом стали болтать о музыке, травя профессиональные шутки. Я же сидела и разглядывала многосотенную бабушкину коллекцию совиных статуэток, которую она собрала за долгие годы совместных путешествий с дедушкой, покупая их у умельцев всюду, где находила. Ну и еще часть ей за многие годы подарили члены семьи и друзья. Я всегда любила бывать у них дома и еще в детстве восторгалась бабушкиной коллекцией. Теперь, конечно же, она и вовсе обрела для меня особый, почти сакральный смысл. Из-за страха перед теми экстремистами — борцами за свободу животных — я держала Уэсли в тайне ото всех, и даже из моей семьи никто, кроме мамы и сестры, не знал, что у меня живет настоящая сова. Мне даже думать было страшно о том, что я могу внезапно его потерять. Так что, как бы мне ни хотелось рассказать о нем бабушке, я держала язык за зубами, боясь, что она может ненароком кому-нибудь о нем разболтать.
Когда бабушка вернулась в гостиную, дедушкины глаза прямо загорелись.
— А вот и моя королева! — произнес он, выглядя при этом абсолютно пораженным, будто только сейчас узрел ее неземную красоту.
Они так никогда и не состарились друг для друга. У них был самый прекрасный и крепкий брак из всех, что я знала. В сороковых и пятидесятых, когда они, по сути, жили на колесах, биг-бэнды, в которых играл дедушка, собирали такие толпы, что даже после окончания концерта музыкантам иногда приходилось ночевать в гримерках, поскольку к машинам было не протиснуться. Однако подобные внимание и слава ничуть не вскружили голову деду. Он был верен бабушке и никогда бы даже не посмотрел на другую женщину. Дедушка придерживался Пути Совы.
По дороге домой я наконец сообщила Гаю про Уэсли. Я повернулась к нему и сказала:
— М-м, слушай… В общем, у меня есть один секрет. Обещай, что не расскажешь никому, даже парням из группы.
Он выглядел озабоченно.
— Ладно, обещаю…
— У меня в спальне живет сипуха.
— Да ну? Нет, серьезно? — недоверчиво спросил он. — У тебя реально есть сова?
— Ага. Это она издает все те странные звуки. Вернее, он.
— Так это была сова? Я думал, совы ухают.
— Этот — нет. Сипухи не ухают.
— Ну, тогда чего же мы ждем? Поверить не могу, что ты его от меня прятала. Я хочу с ним познакомиться. Давай, погнали, погнали! — всю дорогу до дома он ехал почти на полной скорости.
— Так, Гай, успокойся, не гони так. Уэсли — дикая птица, и он не привык к мужчинам. Заходить в комнату нельзя — ты вторгнешься на его территорию, и он на тебя нападет.
— Стоп, он… Он нападает на людей? Уже бывали случаи? — спросил он.
— Да, э-э… Вообще, он напал на моего бывшего парня.
— Шикарно, — ответил он. — Ну, тогда скажи, как мне себя с ним вести.
Я набрала побольше воздуха в грудь.
— Скажи ему, что он красивый.
Гай глянул на меня.
— Ты шутишь? Хочешь, чтобы я сказал ему, что он красивый?
Я продолжила просвещать его на тему совиного этикета прямо за дверью, так, чтобы Уэсли услышал нас и понял, что я спокойно общаюсь с этим человеком и доверяю ему. Наконец, я медленно отворила дверь.
— Уэсли, привет! Тут кое-кто хочет с тобой познакомиться.
Уэс на протяжении уже нескольких месяцев периодически слышал голос Гая и, соответственно, имел представление о его существовании в моей жизни. Они уставились друг другу в глаза.
— Эй, привет. Ты та-а-акой краси-и-ивый, Уэсли! Ты шикарный… Боже мой, Стэйси, — добавил он тихо. — Он прекрасен. Никогда раньше не видел бело-золотых сов. Это реально сова? Уау. Нет, он и правда очень красивый, честно. Как будто нарисованный!
Многие удивлялись при виде Уэсли, так как сипухи разительно отличаются от прочих сов и, соответственно, люди не готовы к тому, что увидят. У Уэсли не было кисточек на ушах, а раскраска была светлых тонов, не такой, как у других видов сов. У большей части сов глаза цветные с черными зрачками, у Уэсли же глаза были глубокого, обсидианово-черного цвета. Его абсолютно белое, сердцевидное лицо тоже добавляло его внешности экзотики. Словом, контраст с другими совами был разителен, и многих людей он заставал врасплох.
К великому моему удовольствию Уэсли не стал делать при виде Гая свои «не-не-не» — он просто пристально за ним наблюдал. Гай целый час простоял в дверях, вежливо и спокойно разговаривая с Уэсли, и, кажется, они пришли к некоему взаимопониманию. Уэсли никогда раньше не реагировал так благосклонно ни на кого, кроме Вэнди, мамы и моей сестры. Я была счастлива, что все так замечательно складывается. Гай искренне считал Уэсли «крутейшим существом на земле», и я видела, что они вполне смогут ужиться под одной крышей, если у нас все сложится и мы поженимся (мы, женщины, почти всегда рассматриваем парней в качестве потенциальных мужей и отцов наших детей, просто чаще всего в этом не признаемся).
После нескольких месяцев отношений мы с Гаем решили, что пора и мне познакомиться с его родителями в Орегоне. Отец Гая работал в области лесозаготовки, хоть сам и не был лесорубом, что меня слегка нервировало. Он был инженером-конструктором заводского оборудования, делавшего из древесины бумагу. А в то время между биологами и лесорубами существовала неприкрытая вражда. Биологи пытались доказать общественности, что девственные леса, каждый из которых представляет собой хрупкий и незаменимый биом, исчезают с катастрофической скоростью. Что реки нагреваются и забиваются из-за отходов, перекрывая нерестовые пути лосося и подрывая всю локальную экосистему. Что альфа-хищники, верхушка пищевой цепочки этих лесов — пятнистые неясыти, — находятся на грани вымирания. Благополучие окружающей среды напрямую связано с видовым благополучием ее альфа-хищников. Когда их популяция редеет, для биологов это четкий знак — скоро начнет разваливаться вся система.
Большая часть лесорубов не понимали принципа «канарейки в шахте» и считали, что все упирается исключительно в спасение самих сов, а не их естественной среды обитания. Они теряли доход из-за того, что им запрещали вырубать девственные леса, а потому злились и отыгрывались на совах. Некоторые даже привязывали их трупы к своим грузовикам в знак протеста против усилий правительства и защитников окружающей среды по спасению лесных экосистем. Они не понимали проблемы — или понимали, но предпочитали ее игнорировать — и напоминали охотников на бизонов в девятнадцатом веке, стремившихся истребить их всех до последнего. Эти охотники не понимали даже того, что им самим придется искать новую работу, когда последний бизон погибнет.
Едва мы въехали в Орегон, мне в глаза стали тут же бросаться крохотные, тонюсенькие лесополосы, за которыми виднелась обнаженная земля. Сотни и сотни миль девственных лесов были вырублены под корень, оставались лишь тонкие ряды деревьев вдоль дорог, чтобы туристам и приезжим казалось, что с лесами все хорошо. Это было не так. Орегон был бы одним из самых прекрасных и наиболее востребованных в плане туризма мест на земле, если бы эти леса сохранились.
В итоге мы с Гаем решили, что не станем никому рассказывать об Уэсли. Его окружение могло не понять, да что там — его собственные родители могли не понять этого. Сам же Гай всю юность провел в походах по орегонским лесам. Он любил их всем сердцем и не желал их уничтожения. Когда мы добрались до дома его родителей, было уже четыре часа утра, и мы были измотаны ночной поездкой. Мы тихонько вошли, стараясь никого не разбудить, и я отправилась в гостевую комнату, а Гай — вниз, в свою детскую спальню. Перед этим он написал родителям записку, в которой уведомлял о нашем приезде и просил нас не будить. Несмотря на волнение от предстоящего знакомства с родителями парня, заснула я практически моментально.
Проснулась я, когда мать Гая, Эйлин, заглянула в комнату.
— Стэйси? Привет. Я Эйлин, мама Гая. Прости ради бога, что так бесцеремонно врываюсь и бужу, но тут твоя мама звонит.
Сонливость как рукой сняло. Уэсли! Он в порядке?
— Просила передать, что спрашивала… — Эйлин глянула на записку в руке. — Я, кажется, как-то не так ее поняла… Но, в общем, она спрашивала на какой… Э-э… На какой режим в, ну… Микроволновку, да?
Я кивнула, подбадривая ее.
— В микроволновку ставить… Я точно ее не расслышала. Кажется, она сказала «мышей». Мышей?
— Ну да, — пробормотала я.
— Ладно. Ну вот, то есть на какой режим ставить в микроволновку мышей размораживаться. Размораживаться?
Я кивнула. Вот тебе и «не станем никому рассказывать».
— А, хорошо. На какой режим ставить и сколько их… Э-э… Размораживать… Для-я… Совы?! — выпалила она, кажется, чувствуя себя глупо.
— Это для Уэсли. Я же ей все написала, она должна была звонить только в случае каких-то ЧП. Простите, пожалуйста.
— А, да ничего, все в порядке, но что мне ей сказать? Она все еще на телефоне.
Супер.
— Ох, простите, Эйлин. Пусть поставит на разморозку на двадцать секунд. Потом пускай достанет пакетик с четырьмя мышами из печки и оставит просто полежать, пока температура в нем не станет равномерной — ни горячих, ни холодных участков. Скажите, что можно еще немного помять пакетик руками, чтобы убедиться, что они мягкие и что он сможет их целиком проглотить.
Эйлин, судя по виду, была на грани обморока.
Она ушла передавать мой ответ маме, а я упала лицом в подушку.
— О не-е-е-е-е-е-ет, — простонала я.
Как выяснилось, нужды скрываться на самом деле не было — родители Гая оказались прекрасными людьми. Однажды мы с ними ездили отдыхать в глубинку на десять дней на реку Маккензи, бродили там по девственным лесам, где с деревьев свисал мох и обитали желтые слизни и тигровые саламандры. Собирали дикую ягоду и пили из ледяных источников. То был настоящий рай на земле.
Эйлин очень заинтересовалась Уэсли. Она сказала, что если уж я записывала его звуки дома (подробности про спаривание с моей рукой я опустила), то мне стоило бы записать и звуки очень редкой краснокнижной пятнистой неясыти, которые они иногда слышали, сидя на террасе. Они с Гаем были уверены, что сумеют поймать эти звуки на пленку. Я решила, что народ в Калтехе будет весьма рад записям звуков этого вида.
Я тогда довольно рано легла спать, а проснувшись утром обнаружила у себя на тумбочке кассету, подписанную «Звуки северной пятнистой неясыти».
Я молниеносно оделась и спустилась на кухню, где как раз завтракала вся семья.
— Что это? — спросила я.
— Мы с Гаем ночью сделали вылазку и записали для тебя звуки пятнистой неясыти, — ответила Эйлин.
— Что, правда? — я была просто в восторге.
— Да, покатались по округе, нашли подходящее место, остановились и записали.
Гай энергично кивнул, глотая свой завтрак. Я была очень тронута. Эта семья, связанная с лесозаготовительной промышленностью, приняла меня и столько для меня делала!
По дороге домой мы заехали к Вэнди, которая теперь жила в небольшом коттеджике в лесах Орегона. Она была рада наконец-то познакомиться с Гаем, про которого я уже несколько месяцев столько ей рассказывала по телефону.
— Пойдем, Стэйси, ты просто обязана это увидеть! — Вэнди вместе с Энни отвела нас за дом, где стоял большой вольер, в котором обитали собака по имени Кортни, гигантский бурый норвежский кролик и молодой олененок. Рыжевато-коричневый с пятнышками, большеглазый олененок был прекрасен, и мы по очереди кормили его из бутылочки.
— У них просто потрясающие отношения друг с другом.
Стоило Вэнди это произнести, как крольчиха постарше, самая, кстати, большая из всех, что я когда-либо видела, по имени Свирепая, потрогала олененка за ноги лапами, тот склонился к земле, а Свирепая запрыгнула ему на спину и развалилась на нем, явно намереваясь вздремнуть.
— Пару недель назад олененок выбрался из загона, испугался какой-то собаки и убежал. На следующий день исчезла Кортни, оставив порванный ошейник. Мы с Энни чуть с ума не сошли от горя. А три дня спустя Кортни вернулась, ведя за собой олененка.
Вэнди хохотнула.
— В дикой природе олень и собака были бы врагами. Когда он подрастет, я сдам его в центр реабилитации. Это пятнистый олень, такие здесь не водятся, так что выпускать его на волю здесь нельзя — он может нарушить местную экосистему. Конечно, Кортни и Свирепая будут по нему скучать.
Олененок тем временем поднялся на ноги и принялся щипать траву. Кортни из солидарности последовала его примеру, причем смешно кривя губы, дескать: «Что это сумасшедшее копытное нашло в этой зеленой штуке?»
Муж Вэнди во время нашего визита почти не разговаривал с нами. Судя по лицам Вэнди и Энни, что-то было не так. Я из-за этого расстроилась и разволновалась за подругу.
Спустя еще два дня езды мы с Гаем наконец-то вернулись домой. Сперва я переживала из-за возможной реакции Уэсли — я никогда еще не покидала его на такое долгое время. Мама, правда, много с ним разговаривала, чтобы он не чувствовал себя одиноким и брошенным. Он довольно спокойно отреагировал на мое возвращение и совсем не одичал, как это бывает, по мнению экспертов, с прирученными совами, которых надолго оставляют хозяева. Да, он стал чуточку более диким, чуточку более несговорчивым и нервным, но не более того. Он пытался поначалу демонстративно отстраняться от меня, даже не особо хотел здороваться, но на деле был так рад меня видеть, что долго не выдержал.
Уэсли всегда спал лицом ко мне на ближней к моей кровати стороне насеста. Однако в ту ночь, когда я вернулась, он лег на другую сторону и повернулся спиной, демонстрируя свою обиду. Я, в свою очередь, ворочалась в постели и никак не могла уснуть. Около трех часов утра он все же вернулся на привычное место и сел как можно ближе ко мне, и я смогла, наконец, уснуть.
Я была благодарна маме без меры. Как по-вашему, многие матери согласятся кормить дикое животное дохлыми мышами в отсутствие своей дочери, да еще надевать при этом защитные очки и пользоваться щипцами для барбекю, чтобы защититься от возможного нападения? Вот и мне думается, что не очень.
К следующему вечеру у нас с Уэсли уже снова все было, как обычно. Он тщетно пытался всеми правдами и неправдами возбудить во мне ответное желание спариваться. Он сооружал сложные, красивые гнезда из журналов, которые тщательно отбирал, стаскивал с бачка унитаза и раздирал на ленточки, после чего начинал издавать свой неугомонный, душераздирающий брачный зов. О, точно! Этим он напомнил мне о кассете со звуками пятнистой неясыти, которую дала мне мама Гая. Я с нетерпением ждала возможности послушать содержимое пленки и гадала, как на него отреагирует Уэсли.
Я вставила кассету в проигрыватель и села слушать.
— Сюда. Мам, иди сюда.
— Ты где? Ай! (Звук ломающихся кустов.)
— Гай, включи фонарик.
— Не стоит, а то спугнем.
— А, вот ты где. Ладно, включай запись.
— Уже включил. Тс-с-с…
(Долгая тишина.)
— Слышал?
— Ага, шикарно… Ей понравится.
(Снова тишина.)
(Треск, вскрик, снова треск и шуршание кустов.)
— Это еще что?
— Не знаю, не знаю, просто иди. Давай, быстрее!
(Снова шуршание.)
— Ай! Прям на ногу!
— Ну так не останавливайся на полном ходу!
— Я ни черта не вижу.
— Думаю, это был просто олень.
— Хорошо, если так. Давай уже выбираться отсюда!
— Не толкайся.
— Прости.
(Снова долгое шуршание подлеска, много охов и ахов, потом хлопок двери машины.)
— Давай, залезай, скорей!
— Да хорошо, хорошо, уже иду, господи.
(Щелчок. Конец записи.)
Тот период моей жизни ознаменовался как приобретениями, так и потерями. Брак Вэнди развалился, и мы много ночей вместе проплакали по телефону. Эти тяготы в итоге лишь закалили нашу с ней дружбу. Вдобавок, несмотря на то что нам с Гаем было хорошо вместе, я чувствовала, что наши отношения как будто пошли на спад, и это было очень горько сознавать. Я, помню, съездила тогда к бабушке и поделилась с ней мыслями о том, что, Гай, возможно, — не мой суженый.
— Стэйси, — сказала тогда она, — мы с твоим дедушкой влюбились друг в друга, когда он окунул мою косу в чернильницу у себя на парте. Он в четвертом классе сидел прямо за мной. Мы никогда не встречались ни с кем, кроме друг друга.
— Вы с дедушкой — словно пара сов, — сказала я ей. — Я всегда мечтала о таком браке, как у вас.
Я довольно долго у них гостила, и как-то раз, рассматривая ее совиную коллекцию, я все же решилась раскрыть ей свою самую сокровенную тайну.
— Бабушка? — позвала я.
— Да?
— Я должна… Кое-что показать тебе. Приезжай ко мне как-нибудь.
— С удовольствием, — ответила она.
Мы с Гаем вскоре разошлись, однако остались близки и дружим по сей день. В тот вечер я плакалась Уэсли в перья и изливала ему душу. Он, как и всегда, смотрел на меня своими бездонными черными глазами и внимательно ловил каждое мое слово.
Я работала в «Аэроспейс» уже шестой год и на профессиональном уровне освоила системы UNIX, а мне все еще платили столько же, сколько в самом начале. В частном секторе мои навыки окупили бы эту сумму где-то вчетверо. Я пыталась решить, остаться мне или уйти, подыскивала другие варианты, но тут произошло событие исторических масштабов, которое сделало выбор за меня.
В 1992 году Лос-Анджелес всколыхнула новость об избиении полицейскими Родни Кинга, и совсем рядом с моим местом работы вспыхнули бунты. Ветер нес мимо окон нашего офиса зловещий черный дым. Я отключила серверы, чтобы предотвратить потерю данных, и вместе с еще несколькими людьми из нашего отдела стала собирать сотрудников по машинам, чтобы развезти всех по домам в целости и сохранности. Мы вооружались, чем могли. Многие все еще горячо спорили на тему того, что безопаснее — уезжать или остаться в здании, а потом нам отключили электроснабжение.
Мы оперативно эвакуировались из офиса, и наша автоколонна двинулась по дорогам Лос-Анджелеса. Вокруг царил хаос — машины ехали на красный свет и по тротуарам, чтобы вырваться из пробки. Почти в каждом квартале горело хотя бы одно здание, впечатление было такое, будто город бомбили ВВС какой-то страны-агрессора. Пробка растянулась почти на всю длину шоссе, и было довольно некомфортно сидеть в машине, уповая лишь на то, чтобы бунтующие не перелезли через стену и не начали убивать невооруженных пассажиров и водителей. Никто не знал, что будет дальше. До самого дома нам не встретилось ни одной патрульной машины. Хантингтон-Бич будто бы вымер. Я дрожала от волнения, но была рада наконец оказаться в безопасности дома с мамой и Уэсли. Он, как всегда, хотел есть, так что я отправилась к морозильнику и с ужасом обнаружила, что мыши кончились. Плохо, очень плохо. Я объехала весь город, но все магазины были закрыты. В ближайшем зоомагазине было темно, но на парковке все еще стояли машины. Я постучалась в двойные стеклянные двери.
— Джейсон! Джейсон, ты там? Это я, Стэйси! Мне нужны мыши!
В глубине магазина что-то зашевелилось, а через пару секунд из теней выступил Джейсон, впустил меня внутрь и тут же закрыл за мной двери.
— Привет, Стэйси. Бери, конечно, только быстро. Большую часть животных уже вывезли, но эвакуация все еще продолжается. Мне только что звонил знакомый из Лос-Анджелеса — бунтовщики спалили его зоомагазин дотла.
Я направилась в подсобку, в которой Джейсон держал мышей, но внезапно остановилась. За каждым стеллажом сидели мужчины с винтовками и пистолетами.
— Эти парни переночуют тут, заодно магазин постерегут, — пояснил Джейсон.
Потом выяснилось, что его зверушкам ничего не угрожало — беспорядки не распространились так далеко на юг. Лос-Анджелес горел еще несколько дней, а люди оставались на нервах еще несколько месяцев после того, как все закончилось. Выбираться в Лос-Анджелес было все еще страшновато, и это в итоге и укрепило меня в моем решении уволиться из «Аэроспейс». Вскоре после этого мы с Уэсли переехали в замечательный район на севере Сан-Диего — воздух там был чище, уровень преступности — ниже, а еще там была масса вакансий, связанных с компьютерами. Я подыскала двухкомнатную квартиру в Ла-Косте, на холме за рекой. По ночам в нашем новом доме было слышно койотов и диких сов, кричащих в оврагах по соседству.
Как-то раз вечером я сидела в кресле и читала, как вдруг подскочила от странного звука. Вернее, сам звук был знакомый — такой же оглушительный механический звук, какой издавал Уэсли, зазывая меня к гнезду, только этот доносился откуда-то издалека. До того, как в моей жизни появился Уэсли, я бы и внимания на него не обратила, но теперь я тут же бросила книгу и выбежала на улицу. В сумерках над домом кружил одинокий самец сипухи, выписывая в воздухе красивые, ровные восьмерки и издавая этот малоприятный зов. Вдруг с дерева неподалеку ему ответила самка и тут же взмыла в воздух, присоединяясь к нему. Они стали кружиться друг напротив друга, постепенно сближаясь, потом сцепились когтями, покрутились так, оторвались друг от друга и начали все по новой. Их удивительный танец продолжался несколько минут, прежде чем они улетели куда-то спариваться.
Однажды мне позвонил дядя Уоррен и сказал, что бабушка попала в больницу. Вроде бы ничего серьезного ей не поставили, но все члены семьи, включая меня, все равно постоянно ее навещали. Дедушка так и вообще проводил там все дни с утра до ночи и уходил только когда его выставляли за дверь. Иногда ему, впрочем, даже удавалось добиться разрешения остаться там на ночь. Но бабушке все никак не становилось лучше — у нее начали отказывать почки. В мой последний визит к ней она была уже под капельницами и на мощных медикаментах. Я наклонилась и сказала ей:
— Бабушка, я хотела тебе показать, когда ты приедешь, но, в общем, скажу так. У меня есть сипуха, его зовут Уэсли. Он живет у меня в комнате.
Ее глаза на секунду загорелись, и она ответила:
— У меня тоже была.
Я не совсем поняла смысл ее слов, а она не смогла пояснить, потому что уже уснула.
Вскоре после этого она умерла.
Через несколько месяцев после ее похорон, я рассказала дедушке о том, что у меня живет сипуха по имени Уэсли.
— Я рассказала бабушке, но, мне кажется, она меня уже не поняла.
— У тебя есть сипуха? — уточнил дедушка с каким-то странным выражением лица.
— Да, причем бабушка сказала, что у нее тоже была. Видимо, она имела в виду свою коллекцию.
— Да нет, Стэйси, у нас как раз была сипуха, настоящая. Его звали Умсель.
— Умсель? — в дедушкином произношении звучало очень похоже на Уэсли.
— Ну да, как бы такой старый умный сов. Умсель.
— Уау. Звучит очень похоже на Уэсли.
Он на секунду задумался.
— А ты права — похоже. Очень похоже, чтоб меня!
— А откуда Умсель взялся? — спросила я.
— Ну, она всегда обожала сов. Как-то раз соседи подобрали сипуху — спасли ее от двух собак. Собаки ее, конечно, покусали будь здоров, но все же их удалось оттащить от совы. И непонятно было, что с ней делать дальше.
— А сама сова на соседей не напала? — спросила я.
— Да нет, он, кажется, понимал, что они ему жизнь спасли. Да и вообще, думаю, он был в шоковом состоянии. Ну так вот, одна соседка вспомнила, что твоя бабушка собирает фигурки сов и подумала, что она может согласиться взять беднягу к себе. Ну и оказалась права, естественно. У него было совсем плохо с крылом, так что мы тут же повезли его к ветеринару. Тогда еще не было всех этих реабилитационных центров, подобранного дикого зверя приходилось выхаживать тому, кто подобрал. В общем, ветеринар его подлатал, как мог. Крыло было не сломано, так что Умсель мог летать, хоть и плохонько. Потом врач нам рассказал, как за ним ухаживать и что с ним делать. Сказал, что на воле он теперь без нас не выживет, так что теперь он — целиком наша забота.
Я покачала головой, пытаясь переварить услышанное. Оказывается, у бабушки тоже была сипуха, не подлежащая выпуску на волю.
— Мы с твоим дядей Уорреном смастерили ему совятню вокруг дерева, здоровую! — продолжал ностальгировать дедушка. — Классно вышло.
— А чем она его кормила? — спросила я.
— Мышами, как чем? Чем еще сипуху кормить прикажешь? И кормила его не она, а я вообще-то. Она была не в восторге от мышей, — улыбнулся он.
— То есть получается, Умсель был не ее совой, а вашей общей?
— Это да. Развлекался на полную в своей совятне на дереве. Мы там ему еще пару насестов соорудили. Здоровенный был домище! Он так до конца у нас и жил, наш Умсель.
— Слушай, дедушка, а как так вышло, что я ничего об этом не знала раньше?
Дед обнял меня.
— Ох, Стэйси, все бабушкины животные были ей как родные дети. Когда кто-то из них помирал, она так переживала, что никогда больше о них не говорила.
Дома я в который раз за все годы нашей совместной жизни излила душу Уэсли.
— Уэс, мне так горько, что мы с бабушкой так и не поговорили о том, что у нас обеих были сипухи, — сказала я.
Он отвлекся от чистки своих перьев и пару раз нежно потерся клювом о мое лицо.
Уэсли вообще постоянно прихорашивался, но дважды в день он проводил генеральную чистку, от которой его было довольно сложно чем-либо отвлечь. Он тщательно чистил каждое перышко, и эти сеансы длились у него как минимум по часу. Иногда я зарывалась лицом в его сладко пахнущие перья и следовала носом за его клювом.
Он соблюдал полную симметрию. Вытаскивая вылезающее перо с одного бока, он неизменно вытаскивал соответствующее перо с другого. Если с правого бока он выщипывал у себя третье вторичное маховое перо, то через пару минут компанию ему на полу составляло третье вторичное маховое, с левого бока. Двигая кожей, Уэсли мог переместить любое перо на теле так, чтобы иметь возможность дотянуться до него клювом. Иногда у него целый бок «съезжал» ближе к груди, чтобы ему было удобнее его вычищать, а потом возвращался на место. Я знала эту его процедуру, как свои пять пальцев.
— Однажды я все расскажу бабушке о тебе, Уэсли. Может, даже соберемся все вместе — бабушка и Умсель, ты и я.
Уэсли расправил крылья и принялся за свои длинные, роскошные маховые перья. Они у него линяли реже прочих — одна пара вылезала где-то недель за шесть. Каждый раз, когда приходило это время, он сначала махал крылом и дергал за перо, расшатывая его, а потом выдирал. Обычно он сам играл со своими перьями. Я пыталась забрать их, пока он их не растерзал — для меня они были бесценны. Однако в тот раз Уэсли меня опередил. Вытащив клювом старое перо из крыла, он протянул его мне. Я очень удивилась, искренне поблагодарила его и поставило перо в вазу, чтобы ему было видно свой подарок. Но Уэс еще не закончил. Следовало еще вытащить соответствующее перо из другого крыла. Уэс развернулся, дернул и протянул мне еще одно перо, абсолютно идентичное первому, не сводя с меня своих непроглядно черных глаз.
Дедушка так и продолжал играть на ударных и обучать этому других. По прошествии приличествующего количества времени у его порога стали ожидаемо появляться женщины, норовившие скрасить его одиночество. Дедушка с неизменной вежливостью благодарил каждую из них за заботу и внимание, но говорил, что его сердце покоится вместе с моей бабушкой. Он до самого конца оставался верен своей любви. Таков был Путь Совы.
Годы, проведенные мной в лабораториях, на лекциях и за чтением учебников утвердили меня во мнении, что наш мир — это настоящее чудо, исполненное глубокого смысла. Наука с каждым годом делает новые, все более поразительные открытия, но вместе с этими открытиями возникают все новые и все более сложные вопросы. Мы словно копаем твердую землю руками, пытаясь прорыть путь до Китая, и яма выходит совсем не глубокая. Многие ученые сейчас склоняются к тому, что в мире существуют вещи, которые наука не сможет объяснить никогда. Так, в частности, считали многие физики в Калтехе, в том числе несколько лауреатов Нобелевской премии. Чем дальше они вглядывались в бесконечные просторы космоса или не менее бесконечные пустоты атомов, тем явственнее ощущали это. Они даже проводили еженедельные собрания, на которых обсуждали духовную сторону своих опытов, гипотез и открытий.
Почти каждый день на протяжении девятнадцати лет я вглядывалась во вселенную в глазах Уэсли. Так мы общались — не словами, но самими душами. Я не могу этого толком объяснить, но со мной происходили странные вещи, когда я его так «слушала», — в голове возникали словно бы не мои мысли. Возможно, Уэсли был на самом деле гораздо умнее меня, а я просто не могла этого понять; возможно, он понимал и видел вещи, мне недоступные. Глядя в его спокойные, умиротворенные глаза, я ощущала прикосновение к чему-то далекому, непостижимому, к чему-то, лежащему за гранью нашего понимания, к древней душе, отражавшей нечто большее, нечто невыразимое, нечто вечное.
Хоть меня и учили отбрасывать мысли о духовном и о вещах, не поддающихся измерению и способных помешать научной логике, присутствие Уэсли в моей жизни существенно повлияло на мое сознание. Теперь я вижу, что исключить что-либо — значит само по себе создать предвзятость, часто ведущую к неверному выводу. Что если правда оглушительно кричит, подобно дикой сипухе в поисках партнера, а мы не замечаем этого, потому что сами запрещаем себе настраиваться на нужную частоту вещания? Или, возможно, мы были на нее настроены, но сбились с нее? Уэсли помог мне ощутить Бога — «понять» Бога и душу так, как я не понимала их никогда раньше и как не объяснил бы мне их ни один богослов. И я решила не отбрасывать эти чувства, как и безграничное удивление и безмерную благодарность, которые приходили с ними.
13 Пикантные записи
ОГРОМНЫМ ПЛЮСОМ жизни в новом городе оказалась местная кофейня, «La Costa Coffee Roasters», основанная задолго до того, как «Старбакс» плотно обосновался в каждом торговом центре. Их утренний помол был абсолютно божественен. Вдобавок, в их сувенирной лавке продавалось много вещиц на совиную тематику. Находиться там было все равно что дома у бабушки. Как-то утром, купив там плюшевую сову, я рассказала владельцу заведения, Джону, о своем увлечении совами.
— Вообще, — громко произнесла я, пытаясь перекричать обжарочную машинку, — я уже несколько лет записываю звуки сов на пленку.
Мне подумалось, что он, возможно, тоже неравнодушен к совам.
— Так что, если вдруг услышишь о гнездовьях неподалеку, дай знать, ладно?
— Совы-то?! Да, конечно! — прокричал он в ответ.
— Да нет, не игрушечные — я про настоящих сов! — крикнула я.
— Ну да, есть! — снова ответил он.
— Да я про настоящих, про пару с гнездом!
— Да говорю же, здесь они! — вновь сказал он, начиная раздражаться.
Чувствуя, что он меня не понимает, я пояснила:
— Нет, Джон, я имею в виду, что мне нужна пара живых сипух, за которыми я смогла бы понаблюдать ночью и записать их.
Он выключил машинку.
— А я тебе в сотый раз отвечаю: да, у нас тут есть настоящие, живые сипухи. А ты думала, почему у меня вся кофейня совами увешана?
— У тебя… У тебя тут есть совиное гнездо? — переспросила я, не веря своему счастью.
— Угу, уже четыре года. Орут так, что в первый год я всерьез опасался, что потеряю из-за этого бизнес. Но самое удивительное в том, что их словно бы никто не замечает. Народ спокойно ест и пьет кофе на террасе, не видя летающих прямо над ними и кричащих сов. Даже головы не поднимают. По субботам у нас обычно там живая музыка — так они ее почти заглушают своими криками, но никто упорно ничего не замечает. Странный народ.
Я не верила своим ушам.
— А можешь показать, где именно у них гнездо? — попросила я.
— Да не вопрос, — ответил он, вытер руки о полотенце и повел меня наружу через боковую дверь. Там он указал на декоративную лепную башенку на крыше.
— Вон там гнездо, под крышей башни, — сказал он.
Бинго. Я могла просто припарковать свою «Тойоту-Селика» прямо под башней и наслаждаться видом «с первого ряда».
— Повезло, что уборщики сюда рано приезжают, — добавил он. — По утрам тут все обычно усыпано кусками мышей и такими коричневыми мохнатыми шариками. Не в курсе, кстати, что это за штуки вообще?
— Это совиные погадки, — я объяснила, каким образом совы переваривают мышей и срыгивают потом кости и шкурки.
— Звучит жутко. Бедняги… Прямо как кошки — тоже давятся шерстяными комками, — ответил он. — Забавно, не знал. Я думал, что они просто гадят много.
Мы вернулись внутрь, и он снова включил машинку для обжарки зерен.
— Хорошего дня! Спасибо тебе! — прокричала я.
— Удачи! — помахал он в ответ.
Я не могла дождаться предстоящей встречи с совами, так что тем же вечером я чуть-чуть вздремнула, а в районе двух часов ночи уже подъехала к кофейне. К тому времени кинотеатр по соседству уже давно закрылся, и парковка опустела. Я опустила стекло и тут же услышала настойчивый гвалт пятерых совят, сидящих с матерью в гнезде под башенкой и требующих еды. Самый старший из них уже пробовал прыгать с башенки на основную крышу кофейни и обратно, помогая себе еще недоразвитыми крыльями.
Отец семейства охотился, беспрестанно мечась между гнездом и близлежащим полем, раз за разом принося в клюве мышей. Проблем с самой охотой у него, очевидно, не возникало, но малыши были столь прожорливы, что он едва поспевал за их аппетитами. Бедняга, подумала я, наверняка к утру совсем выдыхается. Я открыла люк и поставила устройство для записи на крышу машины. К машинам, кстати, совы явно привыкли, поскольку всецело меня игнорировали.
Самец был ощутимо меньше самки, перья у него на брюшке были в основном белыми. Обычно самки сипух темнее самцов, но это лишь приблизительный статистический вывод — из него часто бывают исключения. Основным показателем считается размер. Самки в среднем на треть больше самцов, и еще они, как правило, гораздо более агрессивны. И это подтверждалось моими наблюдениями: мать обычно была настоящей мегерой, летучим исчадием ада, а отец — наоборот, расслабленным и милым парнем. Такая разница в характерах в целом вполне понятна: задача самки — защищать гнездо, а задача самца — охотиться и спокойно переносить ор и капризы птенцов, не раздражаясь. Если бы самец не был таким добродушным и спокойным, он давно бы бросил все это визжащее безобразие; однако терпеливость самцов сипух поистине не знает границ.
Отец все охотился, а птенцы с матерью продолжали кричать, борясь за лучшее место в гнезде и ожидая следующей доставки мышей. Пару часов я наблюдала за этой семейной драмой и записала ее на пленку, а потом на парковку заехал автофургон, доставляющий товары. Солнце еще не взошло, хоть темное ночное небо уже светлело на горизонте. Водитель вылез из машины и принялся разгружать товар для кофейни. Потом он поднял какую-то коробку и двинулся с ней через террасу к закрытому складскому входу.
Сова-мать и так устала, а тут еще и на ее территорию кто-то посягнул. Она чирикнула что-то своим птенцам, и те тут же замолкли, прижавшись к ней. Затем она встала на краю крыши, подобралась и спикировала вниз со страшным криком, которого я не слышала прежде ни от одной совы. Он был больше похож на крик разъяренного орла, и даже с такого расстояния чуть не порвал мне барабанные перепонки. В последний миг она вышла из пике, и длинные острые когти пролетели в дюйме от лысины мужчины. Сова вернулась обратно на крышу. Мужчина ничего не заметил! Он не дрогнул, не поднял головы, не изменил своей усталой, медленной походки — словом, вообще никак не отреагировал.
Сова-мать пребывала, кажется, в не меньшем недоумении, чем я сама. Возможно, следовало напасть снова? Заодно еще раз продемонстрировать движения птенцам, которые уже не копошились, а слегка попискивали, внимательно наблюдая за матерью. Она вновь прыгнула и пролетела над мужчиной с еще более диким криком, снова едва не задев его скальп растопыренными когтями. И снова никакой реакции!
Я давилась хохотом, отчаянно зарываясь лицом в подушку, чтобы не испортить запись. Я не допускала и мысли, что доставщик в опасности. Сова-мать просто пыталась его отпугнуть, но у нее явно ничего не получалось. Он продолжал выгружать товар как ни в чем не бывало. Однако чтобы не услышать этих жутких криков, надо было быть абсолютно глухим. А как можно было не заметить движения воздуха, когда у тебя прямо над головой пролетает довольно большая птица? Каким-то образом этот мужик умудрялся не замечать ничего из этого. Он словно бы не обращал внимания ни на что вокруг — для него это было всего лишь еще одно унылое рабочее утро.
Вскоре после его отъезда я убрала оборудование и выехала с парковки, уставшая, но довольная, что у меня получилась запись. Я надеялась, что доктору Пэнфилду пригодятся эти пленки и он услышит на них что-то новое для себя. Хоть я и была уверена, что он слышал все звуки, которые в принципе издают дикие совы, я была в восторге от того, что мне удалось услышать и записать их самой. Мне предстояло еще многое узнать о сипухах.
Я вернулась домой, где Уэсли встретил меня своим радостным щебетанием. Он неизменно радовался и открыто выражал свои чувства, когда я возвращалась даже из короткой поездки. Он чирикал, цокотал, долго и пространно кричал, рассказывая мне о чем-то, и даже слегка шипел, вспоминая, видимо, нечто малоприятное, что произошло за время моего отсутствия, например, если его кормил кто-то, кроме меня. В таких случаях он смотрел на место, где стоял кормивший его человек, и шипел. Если он в мое отсутствие спал, то обычно вспрыгивал на свой насест и вставал в позу ласточки, вытягивая назад одну ногу и крыло.
Поскольку записывающее устройство все еще было у меня при себе, я вставила в него свежую кассету и оставила работать, а сама принялась отвязывать Уэсли. Он тут же начал носиться по всей комнате, комментируя все вокруг. Он почти всегда выражал свое мнение по поводу всего, что его окружало.
— Ну что, птица-говорун, — сказала я, — поболтаешь о чем-нибудь для доктора Пэнфилда?
Уэсли взлетел на карниз, потом перебрался на мою кровать и стал осматривать каждую складочку, пытаясь найти что-нибудь интересное. Может, получится вон в ту целиком залезть? Он просунул голову в большую складку. Нет, тело все равно не помещается. «И-и-и, И-и-и!» — прокричал он, взмыл в воздух и набросился на свою личную подушку. Я присела на край кровати, и он с интересом перевел взгляд на меня.
— Вж-ж-ж-ж-у-у-у-у! — крикнул он (этот тихий крик многим напоминал звук, издаваемый ножовкой), прося журнал.
— Хочешь журнал, Уэс? — уточнила я.
— Чирик-чирик! — значит, «да».
— Ладно, держи.
Он тут же начал раздирать его на кусочки. Через некоторое время ему это надоело, он захотел на ручки и подошел ко мне с тихим, едва различимым щебетаньем. Записывающее устройство, тем временем, все еще работало. Мы тихо переговаривались с Уэсли, а звуки, издаваемые им, попадали на пленку. Потом он забрался ко мне на руки и уснул, как всегда, на животе, свесив ноги и уложив голову в мою левую ладонь. Я гладила его по загривку и почесывала за ушами, а он издавал звуки столь тихие, что я их толком не слышала — лишь чувствовала рукой движения его диафрагмы. Я отвечала ему с почти той же громкостью и мягкостью, давая понять, что слышу его.
Ранние утренние часы всей следующей недели я провела, записывая звуки сипух у кофейни «La Costa». Птенцы уже начали делать короткие перелеты до ближайших деревьев, иногда оставаясь там на целый день. Теперь посетители вдруг заметили сов и начали спрашивать о них Джона. Эти крохи были так прекрасны, что днем стали собирать небольшие группки любителей наблюдать за птицами. Однако с двух до пяти часов утра они были мои и только мои.
Поскольку малыши научились летать, за ними стало трудно следить из машины, и я впервые решила из нее выбраться во время записи. Я старалась не совершать резких движений, двигалась медленно и аккуратно, и, как ни странно, сова-мать не стала мне угрожать — возможно, считала, что ее птенцы в этом возрасте уже должны быть способны за себя постоять. Я заметила, что отец семейства явно сдавал — у него кончались силы, он выглядел очевидно нездоровым. Он все еще охотился без передышки, вынужденный таскать еду птенцам; разница была лишь в том, что теперь они по-настоящему нападали на него каждый раз, когда он приносил к башне очередную мышь. Они уже почти доросли до его размера, так что ему было трудно отбиваться. Он уже не мог тянуть такую лямку.
Я подумала о пакете с замороженными мышами, лежавшем у меня дома на холме неподалеку. Я не могла спокойно стоять и смотреть на то, как он, истощенный и измученный, раз за разом приносит в гнездо еду, только чтобы подвергнуться очередному групповому нападению своих детей. Он был предан им до конца и выкладывался тоже до конца.
Я съездила домой, вытащила из морозильника пакет с мышами и разморозила достаточно, чтобы хватило всей семье примерно на сутки. Хоть папа-сова передохнет, подумала я. Вскоре я уже снова была на парковке с пакетом мышей в руках. Если забрасывать мышей по одной на крышу, то птенцы явно смогут получить свою норму и насытиться, а у несчастного самца появится, наконец, хоть один выходной. Я взяла одного грызуна, размахнулась и бросила. До крыши башенки он не долетел катастрофически — у меня всегда было плохо с такими вещами. Я пробовала снова и снова, но руки мои сильнее от этого не становились.
И вот представьте себе картину: я стою на парковке торгового центра в два часа ночи и швыряюсь непонятно во что дохлыми мышами, как сумасшедшая. Я настолько увлеклась своей миссией, что в какой-то момент обнаружила, что вокруг меня уже собралась группа подростков в черной коже, с пирсингом и татуировками, бритоголовых и накачанных. Внезапно я почувствовала себя очень одинокой, очень мелкой, очень блондинистой и в целом напуганной до икоты. Подростки просто смотрели на меня.
— Ты че вообще творишь? — поинтересовался наконец самый здоровый из них.
— Э-э… — сердце ушло в пятки и наотрез отказывалось возвращаться. Я показала вверх.
— Вон, видите там сов?
— Не, не вижу никаких сов.
— Ну… В общем, там наверху гнездо сипух. А отец семейства, он, э-э… Он очень устал, потому что он уже много месяцев охотится каждую ночь напролет, а дети его кошмарят и нападают на него из-за еды. А он и так не успевает их всех прокормить. Вон-вон, гляньте, это вот он как раз!
Я снова показала пальцем. Здоровый детина поднял голову.
— А, ну типа да, вижу.
— А крики эти истошные слышите? Вот это птенцы.
— Че, это птенцы так орут? Ни*уя себе!..
Как ни странно, он, кажется, заинтересовался. Возможно, эта ночь все же не была для меня последней на этой грешной земле.
— Ну вот, да, смотрите, вон на том дереве сидит один из птенцов, а остальные — там, на крыше, — все пацаны задрали головы.
— В общем, я пытаюсь забросить им туда мышей, чтобы дать их отцу передохнуть, но бросаю я не ахти, и в итоге вот весь двор завален мышами, я не могу их забросить так высоко.
Они впервые за весь разговор оглянулись и оценили разбросанных по асфальту дохлых мышей. Потом перевели взгляды на пакет с грызунами у меня в руке. Потом на четыре трупика, зажатые в другой руке.
— Мать моя женщина! Эта телка реально кидает мышей совам! Блин, ни фига! — я слышала, как они переговаривались между собой. — Охренеть!
Наконец главарь шагнул ко мне и предложил:
— Ну, короче, я могу бросить. Давай сюда.
Я, пребывая в глубочайшем шоке, положила четыре окоченевших мышиных трупа в его здоровенную ладонь. Он прицельно зашвырнул их все по очереди прямо на крышу, где на них тут же набросились птенцы. После этого он жестом потребовал весь пакет, который я тут же послушно ему отдала. Остальные парни начали забрасывать на крышу мышей, лежащих на земле.
— Блин, мерзость! УАУ! Видал, а? Не, ты видал? Э, Майк! Давай, опаньки! Ай, молодца! — каждое попадание они праздновали, давая друг другу «пять», а затем наблюдали, как совята поедали их снаряды.
— Зырь, жрет! Смотри, прям целиком жрет ее! Охренеть, чуваки! Крутотень!
— Слышь, я, это, никогда сов реальных не видел раньше. Они че, только мышей жрут? — спросил здоровяк, разговаривавший со мной. Потом он, наконец, задал самый очевидный вопрос. — А где ты вообще мышей в два часа ночью достала? И откуда у тебя их целый пакет?
Я объяснила, что всю сознательную жизнь изучаю сов, что закончила биологический факультет и работала с учеными.
— Ваще четко, я тоже так хочу!
Они кидали мышей до тех пор, пока совы не наелись. Сова-мать, наконец, успокоилась, и даже отец, кажется, наелся и расслабился, их явно стало клонить в сон. Кажется, мы вовсе не смущали маленькое совиное семейство.
Мы с этими парнями сидели у бетонной стены и болтали о совах, я рассказывала им об их особенностях и повадках. Потом мы попрощались, дали «пять» друг другу, после чего эта компания растворилась в предрассветных сумерках. Я же осталась стоять рядом с башенкой, ощущая кожей накатывающий влажный утренний туман с океана и наблюдая за совами, мирно спящими с набитыми желудками в окружении мышей на крыше, которых им должно было спокойно хватить до самого вечера.
Доктор Пэнфилд написал, что ему нужно его оборудование.
— Заодно захвати все, что успела записать, — добавил он. — Приноси — послушаем.
Мы договорились о дне моего визита в Калтех. С учетом того, что от меня до него было теперь два часа езды, я стала там нечастой гостьей. Я скучала по атмосфере института, по знакомым и была рада, что удастся их навестить.
Меня несколько смущал авторитет доктора Пэнфилда, однако он всегда был со мной любезен.
— Присаживайся, — сказал он мне, когда я зашла в кабинет, и сдвинул в сторону со стола кучу каких-то бумаг и книг.
Я поставила на стол записывающее устройство и включила запись с криками самки, защищавшей своих птенцов. Он крайне заинтересовался этими звуками и попросил описать поведение совы в момент записи. Потом я дала ему послушать интимные звуки, которые издавал Уэсли во время наших обнимашек и игр с журналами, а также веселую и оживленную «болтовню», которой он встречал меня, когда я возвращалась с работы. Доктор Пэнфилд буквально заваливал меня вопросами и делал быстрые пометки.
— Еще что-нибудь есть? — спросил он.
— Э-э, ну-у-у… Вот на этой есть еще брачный зов Уэсли. Но вы же наверняка и так слышали такие по ночам в совятнях, так ведь?
Тем не менее я вручила ему кассету, которую он тут же вставил в проигрыватель и принялся внимательно слушать. Мы прослушали «притоптывания» лапой и ту часть зова, которая звучала как «и-и-И-И-И! и-и-И-И-И! и-и-И-И-И!».
— Так, вот тут он уже подыскал место для гнезда, возможно даже уже успел его слегка обустроить кусками журналов, — пояснила я.
— Ты уверена, что он — самец? — спросил он.
— Да, — ответила я, на что он все же заметил, что я не могу быть уверена на все сто.
— О нет, я абсолютно точно знаю, что это самец, доктор Пэнфилд, — заверила я.
Тот скептически выгнул бровь, но снова включил запись.
— Хорошо, продолжай.
— Ну, тут он решил, что гнездо готово к откладыванию яиц, так что он зовет своего партнера… Э-э-э… Партнершу, в смысле… Ну-у, в общем… Зовет меня к гнезду. Видите ли… Тут как бы такое дело… Он считает своей партнершей меня… (Кхе-кхе.)
Если бы доктор Пэнфилд не был столь изысканным джентльменом, мне, наверное, было бы проще об этом говорить, но он, к несчастью, как раз был весьма и весьма изысканным и обладал соответствующей… аурой, что ли. Причем чувствовали ее абсолютно все. Сидеть у него в кабинете было все равно что сидеть в церкви.
— Он выбрал тебя в качестве партнера? — уточнил на всякий случай он.
На сей раз он поднял обе брови и поставил проигрыватель на паузу.
— Одну минутку, Стэйси.
Он выскользнул из кабинета, а через пару минут к вящему моему ужасу привел нескольких постдоков, вернулся к столу и отмотал запись обратно.
— Всем доброе утро. Тут одна сова по имени Уэсли, выбрала нашу Стэйси… — он указал на меня, и я выдавила из себя жалкое подобие улыбки. — В качестве партнера.
Затем он нажал на воспроизведение, и Уэс на записи снова зашелся в своем брачном зове. Затем звук изменился, и доктор Пэнфилд быстро спросил:
— Так, что именно он делает в этот момент?
— Ну, э-э… Это, в общем… Здесь я подхожу к гнезду. — В кабинете вдруг стало очень жарко и невыносимо душно.
Уэсли издавал короткие интимные ухи, выражая свою привязанность и любовь ко мне. Затем эти звуки сменились более настойчивым «ур-ур-ур… ур-ур-урРОУх, урх, урх, О-О-ОУ-УР-Р-РХ… ур-ур-ур-ур… ур-ур-ур О-О-О-ОУУРХ».
Глаза доктора Пэнфилда расширились, и он снова приостановил запись.
— Что это за звуки? Я в жизни таких не слышал! — потрясенно произнес он.
— Э-э-э… Ну, тут он устроился у меня на руке и…
Кабинет продолжал наполняться постдоками. За спиной у меня раздавался шепот. «Я что-то пропустила?» — «Ага — ее сова считает ее своей партнершей…»
— Как? — допытывался доктор Пэнфилд. — Как именно он устроился у тебя на руке?
— Ладно, хорошо… Так… М-м-м… О’кей… Ну, как бы… Эм-м-м… В общем, он сидел у меня на левой руке, цепляясь обеими лапами, прямо когтями. Правая рука у меня перпендикулярна левой, между его ног, он обхватывает ее, э-э-э, коленями… — (Слышен смешок одного из пост-доков.) — В первый раз я попыталась от него отбиться, но это в таких случаях неизменно выливается в полноценную драку, так что проще просто дать… Э-э-э… Ну и… М-м-м…
Доктор Пэнфилд, казалось, на глазах разгорался энтузиазмом, как пламя пожара. Я… Я тухла, как свеча на ветру.
— Ага! То есть руки у тебя лежат так, а он сидит вот так? — он сложил мои руки согласно моему описанию и поднес свою руку туда, где должен был находиться Уэсли. — Так?
— Да, все верно, — постдоки склонились надо мной, пытаясь получше рассмотреть. Я вжалась в кресло и больше всего желала провалиться прямо вместе с ним через все этажи института, подземную парковку, асфальт и землю. Желательно мили на три в глубину.
— Так, хорошо, а что означает этот повторяющийся звук? — спросил доктор Пэнфилд.
— Ну-у-у… Э-э-э… Это как бы… В общем, каждое «ур-ур-ур» — это он припадает к моей руке, сжимает ее коленями и, ну… Как бы, в общем, трется об нее и… Ну, вы поняли. (Смешки за спиной постепенно превращаются в сдавленный смех.)
— А-а-а-а! Вот оно что! Так, то есть это вот и есть «ур-ур-ур», — он изобразил своей рукой фрикции Уэсли.
— Ну да, — пробормотала я, превозмогая муки.
— Ладно, хорошо, — продолжил он, — а что тогда за «О-О-ОУ-УР-Р-РХ, О-О-ОУ-УР-Р-РХ, О-О-ОУ-УР-Р-РХ» в конце?
— А, ну да… Ну, это, в общем… Это, собственно… Сама, как бы… Собственно, это и есть само… Ну… Можно сказать, что… — Сзади раздался откровенный смешок, за который мне безумно захотелось съездить этому неизвестному умнику по роже.
Любимый руководитель был просто вне себя.
— Ты хочешь сказать, что у него был оргазм на твоей руке? Откуда ты это знаешь? Он при этом эякулирует? Прямо сперма есть?!?
— Ага, — выдавила я. — Сперма есть. Эякулирует вполне, да.
— И как, много спермы получается? Ты абсолютно уверена, что это именно сперма? Под микроскопом смотрела? — народ у меня за спиной уже просто давился смехом.
Мои ответы стали вылетать с частотой хорошей пулеметной очереди.
— Около одной восьмой чайной ложки. Да, под микроскопом смотрела — это точно сперма.
Доктор Пэнфилд громко хлопнул по столу.
— Это же совершенно новые звуки! И теперь понятна твоя уверенность в том, что у тебя самец!
Он принялся раздавать указания постдокам. Один побежал за оборудованием. Второй засунул запись в подключенный к компьютеру кассетник, после чего все столпились перед монитором, на котором медленно появлялось содержимое пленки в виде фонограмм. Мне приходилось пояснять и комментировать каждый «ур», «урх» и «оурх», а также каждый «ди-ДИП», каждый чирик и каждый вскрик, а рядом сидел еще один доктор наук и лихорадочно все это конспектировал от руки.
Какая-то женщина попросила у меня разрешения на использование записей в своей диссертации. Я его охотно предоставила, поскольку сама я диссертацию писать точно не собиралась. Были разговоры о том, чтобы я записала все это уже на видео. Слава богу, об этой идее как-то забыли.
Ближе к концу рабочего дня доктор Пэнфилд отвел меня в сторону и сказал:
— Слушай, Стэйси, интереснее всего в твоем исследовании то, что у тебя есть пятнадцать или даже двадцать звуковых последовательностей спаривания Уэсли, и при этом ни одна из них не повторяется. Видишь ли, если бы он спаривался с твоей рукой инстинктивно, то и звуки были бы каждый раз идентичными, как у певчих птиц. Но там такая сумасшедшая вариативность, что наиболее разумным объяснением представляется его индивидуальный опыт и уникальные, не похожие одно на другое переживания при спаривании.
Я буквально засияла. Еще одно подтверждение тому, как сложно на самом деле устроены совы! Уэсли, как и прочие сипухи, мог чувствовать и выражать свои чувства. Совы весьма и весьма разумны и передают свои мысли способами, которых мы подчас просто не понимаем. На самом деле многие из высших животных не так уж сильно отличаются от нас самих — они просто другие, вот и все.
14 Пятнадцать лет доверия
ДО ТОГО, КАК я стала изучать сов в Калтехе, я наивно полагала, что у них могут быть всего пара-тройка «выражений лица». Уэсли доказал мне, что это не так — сдвигая кожу под перьями и наклоняя их в стороны, он был способен выдавать бессчетное количество эмоций. Каждый вариант означал что-то свое. Иногда он был похож на чудаковатого дворецкого, желающего услужить своему господину, а иногда — на буддистского монаха, достигшего высшей степени просветления. В его черных как ночь глазах могли отражаться шаловливость, свирепость, любовь, нежность, невинность, понимание, острота ума и безграничное доверие. Внимательно наблюдая за его «мимикой» и языком его тела, я часто могла в точности определить, о чем он думал, что чувствовал или что собирался сделать. Я научилась «считывать» его перья.
Небольшой подъем третьих основных полетных перьев означал, что он думает о полетах. Если он разглаживал перья на лице и слегка наклонял голову вперед — значит, уже и впрямь собирался взлететь. Если в полете он расправлял крылья шире и чуть сильнее сжимал когти, смотря в точку приземления, — значит, рассчитывал траекторию.
Все это проявлялось еще перед началом очевидных движений крыльями и лапами, что давало возможность предугадать его следующий маневр.
— Как ты поняла, что сова сейчас сделает (нужное подставить)? — часто спрашивали меня работники реабилитационного центра, в котором я была волонтером.
— Есть три признака, по которым при желании можно понять, что сова собирается взлететь, еще прежде, чем она расправит крылья, — отвечала я.
Впрочем, у Уэсли в арсенале было не только огромное количество жестов, но и богатый лексикон, состоявший из положительного чириканья и щебетания, а также отрицательного шипения и цоканья, и он постоянно пользовался им, комментируя все вокруг. С того дня, как мы переехали в наш собственный дом, он всюду следовал за мной по пятам, просто за компанию — поглядеть, чем я буду заниматься. Я обожала свою маленькую изящную «тень», постоянно болтавшую со мной и с самим собой. Подобно спортивному комментатору, он говорил про все, что видел, причем весьма оживленно и с большим энтузиазмом. Удивительно, но за пятнадцать лет совместной жизни я научилась понимать практически каждое его «слово». Я словно была звездой телешоу, в котором он был рассказчиком.
Она направляется на кухню… Фантастическое место со множеством всяческих звенелок и громыхалок, но не предназначенное для сов, нет-нет-нет, не для сов, и мне туда нельзя.
Одним из неоспоримых плюсов собственного жилья была возможность пускать его во все комнаты, так что наконец Уэсли увидел, чем я занимаюсь вне нашей с ним спальни. Я ставила его насест так, чтобы он мог с безопасного расстояния наблюдать за мной на кухне.
Я на привязи — она собирается готовить… О-О-О-О, она готовит спагетти! Какой великолепный полдень! Направляется к раковине. Вода! «идди-дидди-ДИ-И-И ДИ-И-И дидди-дидди-ди-и!» Ох, боже мой… «Чш-ш-щ-чж-ж-щ-щ». Ой, не нравится мне эта плита… Ой, «ш-ш-ш» и «цок». Оно опасное, говорит она мне? Так, а она-то зачем тогда к нему идет?
О, нет. Пар. Я не люблю, когда он шипит, Я ТОЖЕ ТАК МОГУ: «Ш-Ш-Ш-Ш-Ш!»
Я села за стол и принялась за еду. Уэсли взволнованно заходил по насесту, взяв с платформы дохлую мышь.
Ты что там ешь? Фу, гадость! Это же отвратительно! Я просто обязан вмешаться и остановить это безобразие! У меня вот мышь есть! На, смотри! Мышь! МЫШЬ, тебе говорят! Ну гляди же, смотри сюда! Вот это еда, это надо есть! Ешь!
Он нетерпеливо дернулся в мою сторону с зажатой в клюве мышью.
Фу-у-у-у, как ты вообще можешь есть эти мерзкие спагетти? «Бр-р-р-р-рз-з-з-з-з-з». Ой, мама, буэ… «Ш-ш-ш-ш». Гадость… «Цок-цок».
В какой-то момент Уэсли устраивался поудобнее, его взгляд тяжелел, и мигательные перепонки начинали постепенно закрываться. Иногда он оставлял один глаз открытым, а другой комично наполовину прикрывался перепонкой. Затем он пушил перья и переносил вес то на одну, то на другую лапу, все больше и больше расслабляясь. Он разглаживал перья на лбу и на клюве, пока его лицо не начинало напоминать лицо персонажа какого-нибудь детского мультика, по которому хорошенько двинули сковородкой. В какой-то момент он окончательно решал, что пора поспать.
Устал я. Вздремну чуток, пожалуй.
Он распушился и поджал одну лапу.
…Стоп… Что это за звук и где зверь, который его издал? Хомяк! Хомяк на свободе! Нельзя! Неправильно! «Чирик-чик-чик ш-ш-ш, цок-цок-цок!»
А, все, хорошо. Поймали, вернули на место. Вздох облегчения.
Ах ты, божечки. Сколь прекрасна все-таки жизнь! Сколь замечательна, потрясающа жизнь! Все та-а-ако-о-о-е интересное!
Так, ладно, все — спать. Недолго, совсем чуть-чуть. Чуток вздремнуть, чуток вздремнуть… «Ти-и, ти-и, ди-и, ди-и, ти-итить, ти-итить, ти-итить…»
Черт, чешется. «Ш-ш-ш-ш-ш». Ненавижу, только устроился. Ну все, теперь — точно спать… «Ти-и, ти-и, ди-и, ди-и, ти-итить, ти-итить, ти-итить…»
Он заснул, а потом ему приснился сон и он заорал во сне.
…А-А-А-А-А-А-А-А-А! Кто? Где? Что такое? Кто кричал? Ты кричала? Я не кричал, это не я! Ты меня разбудила? Ты зачем кричала?
Это он уже непосредственно мне. Уэсли ненавидел просыпаться от собственного крика и почему-то постоянно винил в этом меня. Он повернулся ко мне и начал буравить меня фирменным взглядом пожилой строгой библиотекарши, у которой в зале кто-то учинил беспорядок.
Кто-то кричал. Я чуть из когтей не выпрыгнул! Терпеть не могу! Это ты кричала? Или это кто-то снаружи?
Потом он потряс головой и начал оглядывать комнату.
Покрутив головой пару минут, он успокаивался.
Ну ладно, попытаюсь поспать еще… «Ти-и, ти-и, ди-и, ди-и, ти-итить, ти-итить, ти-итить…»
Верным признаком того, что он действительно намерен поспать, было поджимание лапы до упора, пока она не исчезала среди перьев у него на животе. Там лапа сгибалась и клалась на изгиб другой — мы примерно так же, но в противоположном направлении, закидываем ногу на ногу, когда сидим. Потом он часто еще раз, на сей раз окончательно распушив перья, глубоко вздыхал и устраивался на одной ноге. Иногда он уже готов был заснуть, но его что-то отвлекало, и он открывал глаза. Его нога в таких случаях то поднималась, то опускалась, и так по кругу… Вот она, неопределенность!
Уэсли часто выглядел при этом настолько мило, что удержаться от того, чтобы взять его на руки и потискать, было абсолютно невозможно. Естественно, в таких случаях наступала безграничная гармония, и через пару минут я сама падала на подушку и засыпала вместе с ним.
Дикие совы редко доживают до пятнадцати лет. Я отчаянно пыталась не думать о том, что Уэсли потихоньку стареет, хоть и знала, что это неизбежно. Однажды ночью я услышала глухой удар откуда-то из ванны, ринулась туда и нашла его, молча катающегося по полу в панике. Очевидно, он упал с карниза душевой занавески. Сперва я не могла понять, что с ним не так, а потом наклонилась и увидела, что он нечаянно проткнул себе крыло одним из своих выросших и искривившихся с годами когтей — как раз дефектное, слегка провисавшее крыло. Он валялся на спине и пытался выдернуть коготь, но каждое движение вызывало лишь новую вспышку боли.
Я попыталась вытащить коготь, но как только я взялась за его крыло, Уэсли схватил меня за руку и вонзил свой острый клюв мне глубоко в руку. Мы оба кричали от боли, а я все пыталась вытащить его коготь из крыла. Наконец, мне это удалось, и он меня отпустил. Я взяла его на руки; он спокойно лежал, пока я аккуратно проверяла, нет ли в его крыле сломанных костей. Слава богу, все было в порядке.
Когда дикое животное в одиночку попадает в беду, инстинкты заставляют его хранить молчание, чтобы другие хищники не поняли, что оно ранено и уязвимо. Однако, когда ему кто-то приходит на помощь, оно может начать кричать и драться, выплескивая наружу боль и страх. Именно это и произошло с Уэсли.
Всю ночь я баюкала и успокаивала его, поскольку боялась, что он может впасть в шоковое состояние и умереть, как та сова, потерявшаяся в вентиляции Калтеха. Он лежал на моей руке, прижавшись к моему животу и свесив пораненное крыло, периодически проваливаясь в сон и снова просыпаясь, а я чесала его за ушами и гладила по шее, мягко разговаривая с ним. К утру он уже чувствовал себя вполне прилично и, казалось, снова стал самим собой. Я же, напротив, была в полном раздрае. Рука опухла, но благодаря едкой слюне его клюв был чистым, и волноваться по поводу инфекции не стоило.
Сначала я думала, что это всего лишь случайность, но потом инцидент повторился еще дважды. Я упорно не хотела подстригать Уэсли когти, так как хотела, чтобы он оставался во всеоружии на случай, если ему будет угрожать опасность. Однако теперь его оружие стало представлять слишком большую угрозу для него самого. Когти просто необходимо было подстричь.
Стоило мне только подойти к нему со специальными ножничками в руках, он тут же запаниковал, взлетел и заметался по комнате беспорядочными кругами, ища, куда бы повыше забраться. Я раздумывала, стоит ли пытаться его поймать и удерживать насильно. Я неоднократно участвовала в ловле диких птиц, особенно сов, и океанических хищников и оказывала им медицинскую помощь. Им это, разумеется, крайне не нравилось. Часто для процедуры нужны были два человека — один держит птицу, завернув в одеяло и закрыв ей глаза, а другой занимается увечьем. К тому же, я не хотела обращаться с Уэсли, как с диким животным, и уж точно не желала терять его доверие. Я боялась, что после такого никогда не заслужу его снова. Совы ничего не забывают, ничего и никогда.
Пока я пыталась найти решение этой проблемы, появилась другая. Как и его когти, клюв Уэсли рос и становился все более загнутым и все более острым. Как-то раз он случайно вогнал его глубоко в мышиный череп и из-за изгиба не мог вытащить. Он стал задыхаться, поскольку мышь в это время была у него во рту и частично перекрывала ему гортанную щель. Он тщетно пытался вытащить ее лапами. Через некоторое время он начал хрипеть. Я поняла, что сам он не справится, подошла, взяла мышь в одну руку, клюв — в другую и вытащила клюв из черепа грызуна. Причем сделать это было довольно непросто. Сомневаюсь, что такое часто происходит в дикой природе — это было осложнением, косвенным образом вызванным его преклонным возрастом, редким для диких сипух. Итак, клюв также следовало подпилить.
Каким образом я должна была убедить его подпустить меня к своему клюву с блестящей металлической пилкой в руках? Стричь ему когти я тоже боялась — он ненавидел, когда ему связывают или зажимают лапы. Когда мы обнимались, я гладила и щекотала ему пальцы, что ему как раз нравилось, но крепко держать лапы, подравнивая когти, — это совсем другое.
Сначала я попыталась просунуть ножницы под один из его когтей, пока он спал у меня на руках, но его реакция оказалась слишком быстрой. Видимо, он каким-то образом почуял неладное, так как взлетел с моих рук прямо на самый высокий шкаф в комнате. Потом пришлось долго его успокаивать — он весь вечер ждал от меня подвоха и не желал расслабляться.
Потом я попробовала подкрасться к нему, быстро схватить его за палец и отстричь кусочек когтя, крепко держа его за лапу. Он вытянулся в струнку и полетел на меня, пытаясь вырвать свою лапу из моих рук. В результате подстричь коготь оказалось невозможно, не задев живую его часть и не сделав Уэсли больно, к тому же могло начаться кровотечение.
В конце концов, больше от отчаяния, чем сознательно, я попыталась объяснить Уэсли всю ситуацию. Некоторые ученые полагают, что животные обладают чем-то вроде телепатии, которая позволяет им общаться, обмениваясь образами, причем опыты показали, что с людьми у многих животных подобная связь также устанавливается. Шансы были невелики, но попробовать, как говорится, все равно стоило. Я села прямо перед Уэсли и начала посылать ему образы того, как стригу когти и подпиливаю клюв. Вдобавок я проговаривала все мысли вслух, так как он привык, что я детально объясняю ему любое новое действие, которое как-то его касается.
Сперва я решила сосредоточиться на клюве, поскольку эта проблема была серьезней — не подпили я его, мне пришлось бы при кормлении отрезать мышам головы, чтобы он не подавился. Так что в следующий раз, когда клюв Уэсли опять застрял в мышином черепе, что его ощутимо огорчило, я сказала ему:
— Уэс, у тебя клюв стал слишком острый. Застрял клюв. Мама может помочь с клювом… — я продолжала это повторять, даже вынув мышь у него изо рта.
Уэсли знал слова «мама», «помочь» и «клюв», так что вполне можно было надеяться на то, что он свяжет их друг с другом, особенно в данной ситуации. Вдобавок, все это время я старательно представляла себе, как подпиливаю клюв.
Я показала ему пилочку. Потерла ею о его насест, демонстративно подпилила ногти себе, легонько взялась за его клюв и сказала:
— Вот этим мама может помочь с клювом.
Он отпрыгнул и начал летать кругами по комнате. Ловить его я не стала.
Вся эта канитель продолжалась несколько недель. Любое общение с животным требует терпения, а установление доверия — еще и времени, но только это в итоге и работает.
Однажды я сказала ему:
— Через два дня мама тебе поможет с клювом, хорошо? Через два дня, Уэсли. Так что подумай об этом и приготовься. Я не сделаю больно, но через два дня надо дать маме помочь с клювом.
После этого я стала посылать ему образы приятной, расслабленной процедуры. Пару раз за эти два дня я приближалась к нему с пилкой в руках, отчего он шарахался и впадал в панику, и я отступала. Но обязательно обновляла «таймер» операции:
— Завтра мама поможет тебе с клювом, ладно, Уэсли?
А сама в это время продолжала использовать пилочку на различных предметах в комнате.
И вот настал великий день.
— Так, Уэсли, мама поможет с клювом через два часа, — сказала я, не переставая посылать ему мирные и спокойные образы.
Когда время пришло, я осторожно приблизилась к его насесту.
— Сейчас мама поможет с клювом, хорошо?
Уэсли закрыл глаза, немного сгорбился, напряг лапы и застыл на месте. Невероятно! Я аккуратно взялась за клюв, продолжая говорить, и начала его подпиливать. Уэсли лишь чуть дернулся и крепко зажмурился. Я все подпиливала и подпиливала — этот длинный кривой «альпеншток» требовалось значительно укоротить. Уэсли за все это время не пошевелил ни одним мускулом и не издал ни звука. Он просто сидел, зажмурившись, и, кажется, был полностью сосредоточен на том, чтобы ничего не чувствовать. Наверняка вибрация от пилки крайне мерзко отдавалась у него в голове: все же клюв — это часть черепа.
Закончив, я вытерла значительно похорошевший клюв и похвалила «пациента»:
— Ну, вот и все, Уэсли! Молодец! Все, я закончила! Ты такой умница! Такой храбрец!
Он, кажется, испытывал значительное облегчение и был доволен собой. Стоило мне только его отвязать, как он тут же прыгнул мне на ручки, лег в свою любимую позу и приготовился ко сну. Очевидно, неприятная процедура его измотала. Но главное — он сам, наконец, позволил мне это сделать.
С когтями мы поступили точно так же — в назначенный день он сам дал их подпилить. Он снова отвернулся и пытался игнорировать мои действия. Он зажмурился, но лапы расслабил и позволил аккуратно подстричь и подпилить свои когти, не оставляя заусенцев и зазубрин.
Какое облегчение!
Я, естественно, побежала рассказывать об этом Вэнди по телефону. Оказалось, она уже давно использует этот метод со своими лошадьми, и результаты и впрямь впечатляют. Например, ее лошадь по имени Чика жутко боялась прицепа для перевозки. А Вэнди как раз предстоял переезд, и им с кобылой нужно было вытерпеть аж шесть часов пути. Так вот, за пару дней до этого Вэнди долго сидела с Чикой, тихо говорила с ней и посылала ей образы нового жилья. А в день переезда Чика сама зашла в прицеп — Вэнди даже не пришлось вести ее под уздцы! Вэнди была в полном шоке.
— Так что это по-настоящему действует! — сказала она мне.
Люди, работающие с животными по всему миру, все больше и больше уходят от насильственных практик — пришпоривания, физических наказаний, электрошока и криков — и склоняются к мирному диалогу. «Заклинатели лошадей» укрощают своих подопечных с помощью тихого шепота. Зоопарки, такие как зоопарк Австралии Стива и Терри Ирвинов, поощряют установление личных теплых отношений между своими смотрителями и животными. Ученые пытаются обучить попугаев человечьей речи, а шимпанзе — языку жестов. Многие из них заинтересованы уже не в «модификации поведения», а в естественном общении и настоящей дружбе с другим разумным существом, а это гораздо сложнее и интереснее. Люди ведь не используют техники модификации поведения, когда учат своих детей говорить? Нет, конечно. Обучение происходит в результате взаимных, любящих отношений. Вот и в случае с животными, как мне кажется, это гораздо важнее и эффективнее, чем модификация поведения. Вэнди говорит, что именно ее дружба с лошадью стала причиной их взаимного сотрудничества. Друзья не «модифицируют» поведение друг друга — они друг у друга учатся. Это гораздо сложнее любых «техник дрессировки».
Многие исследователи собирают эмпирические доказательства того, что животные используют некоторую форму телепатии для общения с нами. Не так давно та же Джейн Гудолл, будучи, как всегда, на шаг впереди всех остальных в вопросах поведения животных, вела документальную передачу на «Animal Planet», в которой рассказывала о последних исследованиях и экспериментах, доказывающих эту теорию. Ряд экспериментов показал, к примеру, что многие собаки способны заранее предугадывать возвращение своих хозяев домой, даже при отсутствии сигналов, на которые люди привыкли списывать этот феномен, вроде времени дня, звуков машины или шагов.
Самый, на мой взгляд, удивительный эксперимент проводился с попугаем жако, который обладал огромным вокабуляром и постоянно разговаривал сам с собой. Их с хозяйкой рассадили аж в разные здания и выдали им обоим по набору фотографий, которых ни один из них раньше не видел. За каждым из них наблюдали камеры с таймерами. Хозяйка взяла одну из фотографий и посмотрела на нее — на ней был синий цветок. В тот же самый момент попугай в другом здании начал бормотать что-то о «синих цветочках, красивых цветочках». Затем хозяйка посмотрела на фотографию, на которой был запечатлен мальчик, выглядывающий из окна автомобиля, и попугай тут же стал говорить: «Хочешь покататься на машине? Осторожно! Стекло опущено. Посмотри в окно!» Я передаю суть своими словами, но в итоге этот эксперимент достаточно наглядно доказал, что между животными и людьми есть телепатическая связь.
Впрочем, многие владельцы животных верят в это уже давно. Наши отношения с Уэсли вышли на новый уровень, когда я доверилась своей интуиции. Когда животные и люди понимают и любят друг друга, верят друг другу, это благотворно влияет и на тех, и на других. У Вэнди, к примеру, живет потрясающе красивый черный фризский жеребец. Моя подруга всегда налаживает с лошадьми особую связь, основанную на любви и уважении, и у них установились замечательные отношения. Тот жеребец часто обнимает ее, кладя голову ей на плечо и притягивая ее к своей груди, а она держит его руками за шею.
В наш век высоких технологий мы, увлекшись наукой и техникой, утратили древние знания о животных и в целом о природе, которыми владели наши предки. Многие сейчас страдают «синдромом дефицита природы» — люди отдалились от своих естественных истоков. Возможно, это интуитивное общение с животными было обычным явлением для наших далеких предков. Мне нравится думать, что, узнавая (или узнавая заново) о том, насколько животные умнее и сложнее, чем мы привыкли считать, мы понимаем, как глубоко связаны с ними, и становимся лучше.
Я могла бы навязать Уэсли свою волю, и это разрушило бы всякое доверие между нами. Вместо этого я терпеливо налаживала контакт, показывая, что ничего с ним не сделаю без его разрешения. Я дала ему право голоса, вовлекла его в процесс, не ущемив, таким образом, его гордости. С тех пор наши отношения изменились — совместное преодоление трудностей положило основу еще более глубокому доверию.
Уэсли явно старел, и мне стало ясно, что на всякий случай пора подыскивать хорошего ветеринара. Нужен был кто-то из моих знакомых, кто умел обращаться с дикими животными в неволе. Естественно, этот человек должен был держать в тайне существование Уэсли.
Мои хомяки в то время наблюдались у замечательного ветеринара — доктора Дугласа Л. Кауарда, который жил в Мишен-Вьехо и специализировался на экзотических животных. В его послужном списке были пациенты со всего мира: он лечил слонов в Непале, тигров в Таиланде, обезьян в Африке и сумчатых в Австралии. Мы с ним уважали друг друга, поскольку мы оба любили животных и заботились о них. Доктор Кауард имел некоторую склонность к мистике и применял всяческие практики, чтобы «заглушить» себя и вместо этого «слушать» животное. Будучи истинным целителем, он не просто излечивал тело — он проводил комплексное лечение тела, разума и духа.
Однажды доктор Кауард диагностировал у одного из моих хомяков болезнь Кушинга — редкое нарушение, вызываемое опухолью головного мозга. Я спросила, каким образом он умудрился поставить такой диагноз, в норме требующий гормональных тестов, МРТ и КТ. Не задай я ему этого вопроса, он по скромности своей не рассказал бы.
— Ну, если честно, мне понадобились услуги клиники, — ответил он.
— В смысле, человеческой? — уточнила я.
— Да, я решил, что вашему малышу нужна более серьезная экспертиза, чем я могу предоставить, так что я позвонил одному своему знакомому эндокринологу, он приехал, и все воскресенье мы с ним обследовали вашего хомяка.
— Шутите? Их услуги ведь стоят по четыре сотни долларов в час!
— В целом да, но у него был выходной, и он просто оказал мне услугу.
Типичный доктор Кауард. Ради своих пациентов он был готов буквально на все. Никогда не встречала ни одного другого ветеринара, столь же преданного своему делу.
Я рассказала ему об Уэсли и спросила, готов ли он взять его под наблюдение и не доставит ли сова неудобств в клинике.
— Без проблем, — ответил он, — я часто лечу сов и очень их люблю.
Я упомянула, что предпочла бы, чтобы он держал существование Уэсли в секрете, на что он сказал:
— Конечно, просто запишитесь на прием и скажите, что вам нужно принести мне на осмотр свою птицу и что это срочно.
Теперь у Уэсли был хороший ветеринар, что несколько успокаивало.
После того как мы разрешили проблему с клювом и когтями, наша жизнь потекла по-старому. Трудности лишь еще больше сплотили нас. Все годы нашей совместной жизни мы с Уэсли обнимались почти каждую ночь перед сном — я брала его правой рукой под пузико и баюкала в левой, положив его голову на ладонь. Он при этом сразу же втягивал лапы, как самолет — шасси, и позволял прижать себя к моему животу.
Как-то вечером я лежала и чесала его за крылышками, а он вдруг уперся в меня лапами и подполз выше, оказавшись таким образом у меня на груди. Потом он, сонно и нежно пощипывая меня клювом за шею, медленно расправил до предела свои потрясающие золотые крылья и положил их мне на плечи. Он довольно долго так проспал, а я лежала в полном восхищении.
Это были самые настоящие совиные объятия. Я очень надеялась, что он как-нибудь это повторит. Так и произошло — эта поза стала его любимым способом обнимашек. Я так и не смогла привыкнуть к этому чуду и иногда чувствовала, как на глаза наворачиваются слезы. Это прекрасное, изумительно сложное и удивительное дикое создание обнимало меня крыльями в знак абсолютного доверия. Те воспоминания я бы не променяла ни на что. Ни за что на свете.
15 Сумерки: тот, кого я приручила, спас мне жизнь
В МОЕЙ ЖИЗНИ наступили серьезные перемены. На дворе был 1998‐й, мне было под сорок, я находилась на самом пике своей карьеры и жила в достатке в окружении семьи и друзей. Жизнь была прекрасна, пока однажды я вместо кровати не проснулась в буквальном смысле на пороге своего дома. Собрав мысли в кучу, я пришла к выводу, что отключилась вечером и всю ночь пролежала без сознания. Подходящих объяснений не было — я не получала травм в последнее время, я не пьяница и никогда не употребляла наркотиков. К счастью, в доме все лежало на своих местах — меня, по крайней мере, не ограбили. Я пребывала в глубоком недоумении, но в целом жизнь продолжала идти своим чередом.
Однако потом я отключилась вечером в воскресенье и не появилась на работе ни в понедельник, ни во вторник, несмотря на то что начальство обрывало мне телефон. Внятных объяснений происходящему у меня все еще не было.
У меня всю жизнь случались мигрени, но теперь моя голова раскалывалась от невыносимой, мучительной боли, неведомой мне доселе. Любое произнесенное мной слово вибрировало у меня в черепе, усиливая боль. Вербальное общение приходилось сводить к минимуму, оно напоминало попытки выкарабкаться с самого дна глубокого бассейна, в который залили желе. Когда я шла, с каждым шагом что-то словно ударяло по моей голове кувалдой. Даже если я лежала в покое, каждый удар сердце заставлял меня стискивать зубы.
Я начала оставлять кучки мышей впрок для Уэсли на случай, если опять выйду из строя. Благодаря меху, они не портились по нескольку дней. На работе за выслугу лет мне предоставили некоторое время на то, чтобы справиться с этим странным недугом. Я отчаянно не хотела признавать, что со мной что-то серьезное, однако чем дальше, тем яснее становилось мне и моим лечащим врачам, что так продолжаться не может: я просто теряла работоспособность, и само это пройти не могло. Так что мне пришлось брать отпуск по болезни.
Поскольку жила я одна, я продолжала вести хозяйство самостоятельно. Однажды днем я выпила Адвил[4] и поехала в магазин. Я загрузила машину продуктами, села за руль и упала в обморок. Я просидела так где-то восемь часов. В конце концов кто-то на парковке заметил, что я без сознания, и забарабанил в дверь. Не сумев меня разбудить, доброхот позвонил в полицию и сообщил им, что во внедорожнике на парковке у продуктового кто-то умер.
Врачи из скорой взломали дверь моей машины, вытащили меня, погрузили в карету, поставили мне капельницу и стабилизировали мое состояние, но жизненные показатели были слабые. Очнувшись в госпитале, я стала просить, чтобы меня отпустили домой, потому что это ведь «ерунда». Врачи же настаивали, что никакой ерундой тут и не пахло и что все было очень даже серьезно.
В итоге, после бесконечной череды анализов и исследований, выяснилось, что у меня опухоль головного мозга, неоперабельная, но и не злокачественная. Называлось это «обширная базилярная гемиплегическая мигрень с осложнениями». Возможные осложнения включали обмороки, вазоспастические инсульты, комы, припадки, микроинсульты, приводящие к временному параличу, развитие диссоциативной фуги и нарколепсии. Мигрень не прекращалась ни на минуту — я мучилась беспрерывно 24 на 7, а меня пичкали то одними лекарствами с ужасающими побочными эффектами, то другими.
Некоторые мигрени, если их запустить, способны привести к полноценному инсульту, и это мне пришлось ощутить на собственной шкуре. Как-то раз в аптеке, пока мне собирали мои рецептурные препараты, я решила воспользоваться их бесплатным тонометром. На экране высветилось 278/195. Я встала было со стула, намереваясь сообщить персоналу, что их тонометр барахлит, но не смогла произнести ни слова и рухнула на пол. Спасала меня снова та же бригада скорой помощи, что и раньше, на парковке.
Месяц мне пришлось провести в инвалидной коляске, испытывая трудности с речью и провалы в памяти, но в итоге организму удалось восстановиться. Это и была «гемиплегическая» составляющая — временные параличи одной стороны тела, вызванные сужением сосудов из-за силы мигрени и кислородным голоданием определенных участков головного мозга. Опухоль в итоге закальцинировалась и перестала расти, но постоянные жуткие боли приходилось терпеть по-прежнему.
Когда боль совсем зашкаливала, я заезжала в больницу, где мне вводили 100–120 мг морфина. Для сравнения, тяжелораненым в бою вводили по 50 мг, а ста было достаточно, чтобы убить взрослого человека. Инъекции мне делали только сами врачи — ни одна медсестра не хотела брать на себя такой риск. Но даже после мощной дозы обезболивающего мое давление падало несильно. Тот уровень боли, который я испытывала, по сути, вводил организм в режим «бей или беги», накачивая его адреналином под завязку и нейтрализуя действие морфина. Как раз в этом состоянии люди и совершают удивительные вещи, о которых мы иногда слышим от очевидцев различных ЧП и катастроф, вроде женщины, приподнимающей легковую машину, чтобы вытащить из-под нее своего ребенка. В этом режиме наш организм снимает с себя все ограничения. Мою боль удавалось только чуть приглушить.
Еще одним осложнением, вызванным этой опухолью, оказалась неспособность сколько-нибудь долго бодрствовать — у меня, по сути, была разновидность нарколепсии. Я могла отключиться посреди ужина и прийти в себя через полчаса, лежа лицом в тарелке, или уснуть прямо посреди супермаркета.
Иными словами, мне было очень плохо, я не могла нормально позаботиться даже о себе самой, не говоря уже об Уэсли. Однако его здоровье и благополучие были для меня смыслом жизни, и это позволяло мне превозмогать болезнь. Я все вспоминала слова, сказанные мне доктором Пэнфилдом, когда я только брала Уэсли к себе: «Мы обязаны жизнью тем, кого приручили».
Невропатологи настаивали на том, чтобы я переехала поближе к кому-нибудь из родственников, где за мной могли бы присматривать. Узнав о тяжести моего недуга и риске смерти, мама буквально заставила меня переехать обратно к ней.
Когда я только начинала работать в аэрокосмической отрасли, мы с Уэсли и мамой вполне счастливо жили все вместе, но теперь я чувствовала себя беспомощной, потому что находилась в полной зависимости от мамы и была вынуждена жить за ее счет. Моя страховая компания в какой-то момент перестала выплачивать мне страховку по инвалидности, но у меня не было ни денег, ни сил судиться с ними. Затраты на врачей отняли все мои сбережения и опустошили мой пенсионный счет, и в итоге я осталась лишь с ничтожным пособием по недееспособности и чудовищными долгами за медицинские услуги. Это был самый настоящий кошмар, причем кошмар абсолютно беспросветный.
Я постоянно терзалась мыслями о том, каким грузом была для своей несчастной работящей матери. Они с ее парнем Уолли с головой погрузились в мои проблемы, откладывая тем самым, скорее всего, свои планы на свадьбу. Я прожила удивительную и прекрасную жизнь, любому на зависть. Теперь же я легла безнадежным, неизлечимым и тяжелым грузом на маму во всех отношениях — в финансовом, эмоциональном и социальном. Конечно же, сама она никогда бы мне такого не сказала, но временами ей становилось не по себе, когда она пересчитывала свои сбережения и гадала, сможет ли спокойно выйти на пенсию (отец к тому времени уже был на пенсии и у него самого были проблемы со здоровьем).
Врачи утверждали, что мне уже не станет лучше, что жуткие боли и постоянная усталость останутся со мной навсегда, что я никогда уже не выберусь из этой ямы. Я ощущала себя несколько аномально — в моей семье ни у кого не было подобных серьезных болезней. Даже в старости никто не становился никому обузой, все жили долго и относительно счастливо. Целых три поколения обеих ветвей моей семьи занимались музыкой или работали в телеиндустрии. «Шоу должно продолжаться» — таков был наш девиз.
Еще в шесть лет мы с сестрой, работая на ТВ и в области звукозаписи, научились не обращать внимания на болезни, скрывая от мамы такие вещи, как, например, гастроэнтерит. Мы просто крепились, зная, что рано или поздно перетерпим любой недуг. И вот теперь я не справлялась с простейшими задачами, тонула в боли, нарушая все семейные правила, и ничего не могла с собой поделать. Однажды я задумалась о самоубийстве. Казалось, иного выхода просто не было. Конечно, в теории я считала самоубийство высшим проявлением эгоизма, на которое способен человек. Покончить с собой — значит причинить огромную боль друзьям и семье, оставив им на прощанье чувство вины и мысли о том, что они могли что-то изменить, но не изменили. Двое моих старых знакомых покончили с собой, так что я на собственной шкуре почувствовала все это. Но моя ситуация представлялась мне несколько иной. Те мои друзья были еще молоды, у них впереди была вся жизнь — моя же, если верить врачам, подходила к концу. Мне казалось, что если я оставлю предсмертную записку, в которой объясню, что прожила счастливую и интересную жизнь и всего лишь не хотела становиться обузой, то все мои близкие рано или поздно придут к выводу, что так было лучше для всех.
Однако я все еще была нужна Уэсли. Он любил меня и умер бы от шока и горя вслед за мной. Уэсли не умел читать, он не понял бы моих доводов; он знал бы лишь то, что я оставила его на закате его дней. И что тогда случится с этой маленькой, удивительной душой в ангельском теле? Может, он попадет в руки к незнакомцам, которым не будет до него никакого дела. Может, абсолютное спокойствие в бездонных черных глазах сменится страхом, непониманием, болью от осознания, что его предали? Может, спокойная уверенность станет первобытным ужасом?
Я знала Уэсли, и я рассматривала и другой вариант — умереть вместе. Но я никогда бы не смогла убить его. Это тоже было бы предательством, на которое я просто не способна была пойти. Я приняла когда-то решение приручить его, сделав его уязвимым, и научила доверять мне, несмотря ни на что. Спустя столько лет его доверие оставалось абсолютным и незыблемым. Я просто не имела права его подрывать. Это было бы мерзко и подло.
Уэсли всегда был моим товарищем, моим учителем и другом. И теперь я приняла решение отдать должное этой связи и остаться с ним до самого конца. Я должна была сдержать обещание. Больше у меня ничего не осталось. Таков Путь Совы. Ты должен отдать всю свою жизнь и всю свою любовь и закончить то, что начал. Я заглянула в глаза совы, нашла в них Бога и выбрала жизнь.
16 Конец
ПЕРЕРЫВ ТОННЫ самой (и не самой) современной научной литературы и перепробовав все возможные курсы лечений, мои невропатологи подобрали, наконец, сочетание рецептурных препаратов, которое унимало боль. Что самое замечательное, от этих лекарств у меня не было «приходов» и я не набирала от них вес с такой скоростью, как при приеме всех прочих. В период с 2000 по 2002 год новый врач сумел-таки вытащить меня из замкнутой петли из постоянных больниц и экспериментов с медикаментами. Мама подыскала мне жилье всего в паре кварталов от нее и помогла с переездом. Уэсли, конечно же, отправился со мной, и я вновь поставила его насест рядом со своей кроватью на новом месте.
Мне все еще было плохо, и я постоянно спала. Я кормила Уэсли, иногда мы с ним разговаривали, но почти не обнимались — оба большую часть времени спали. «Ти-и, ти-и, ди-и, ди-и, ти-итить, ти-итить, ти-итить…» Наша жизнь превратилась в один почти сплошной сон. Хотя уже не просто старый, а прямо древний по меркам сипух восемнадцатилетний Уэсли, кажется, не имел ничего против.
Однажды, заглянув в его обсидиановые глаза, я увидела в них тусклую серость. Поначалу она была едва заметна, но со временем все усиливалась — Уэсли постепенно слеп. Впрочем, никаких признаков недовольства он не выказывал — оставался все таким же здоровым и красивым, с блестящими перьями. Единственное существенное изменение заключалось в том, что он потерял желание спариваться с моей рукой после последней не особо успешной попытки. Еще в тот июль он пропустил свою обычную линьку. Я все ждала и ждала, полагая, что виной всему сбитый моей лампой его цикл дня и ночи, но линька так и не началась.
Уэсли постепенно становился все менее и менее активным, двигаясь все меньше и медленнее. Какашки начали прилипать к перьям вокруг его задницы. Он уже не мог дотянуться туда клювом, так что я, как терпеливая сиделка, ежедневно чистила его. Он стал периодически кричать посреди ночи, так что мне пришлось даже перебраться в другую спальню, чтобы иметь возможность высыпаться.
Хоть зрение и начинало его подводить, слух оставался все таким же острым. Когда я вставала с дивана на первом этаже, он слышал, как я ставила босую ногу на ковер даже сквозь закрытую дверь своей спальни наверху, и кричал, желая мне доброго утра, а я отвечала: «Привет, малыш!» Несмотря на то что спала я теперь отдельно, мы все равно постоянно общались. Я могла спокойно негромко разговаривать с ним из противоположной части дома, и он прекрасно слышал каждое мое слово.
Я была почти уверена, что у Уэсли совсем скоро начнется линька, так как он требовал все больше и больше мышей. И еще больше. Ошибиться я не могла — есть он просил весьма четким и однозначным звуком, однако я все чаще стала находить на его насесте куски мышей или даже целых грызунов. Возможно, он уже не мог их разглядеть, хотя лапами-то мог нащупать. А может, он становился привередливым? Я давала ему новых мышей, и он набрасывался на них так, словно не ел несколько дней кряду, иногда хватая вторую клювом, еще держа в когтях первую. Он отворачивался от меня и закрывал мышей крыльями. Это было весьма странно — с чего вдруг он стал так трепетно, даже параноидально, относиться к еде? Возможно, у него было что-то не так с пищеварением? Обычно я всегда могла понять, что он хотел до меня донести, но теперь я была в полной растерянности.
Однажды Уэсли по своей привычке висел на краю насеста вниз головой, держась лишь одной лапой и тихо обозревая все вокруг. Когда ему надоедало, он обычно хватался когтями за постеленные на насесте полотенца и подтягивался обратно. Я подошла, как всегда, чтобы помочь ему и подсадить на платформу, но в этот раз он после этого упал с насеста вперед и просто повис там на своем поводке. Я снова усадила его на платформу, он вновь упал. Я отвязала его и посадила на ровный пол, а он упал лицом вниз. Что за чертовщина?..
Я пришла к выводу, что его проблемы с едой зашли слишком далеко и что виной всему был голод или обезвоживание, так что ввела ему внутривенно внушительный объем питательной жидкости и держала его на руках, пока уровень сахара в крови не повысился до нормального. Он пришел в себя — мой диагноз оказался верен. Однако теперь стало ясно, что старый насест ему уже не подходит — он плохо ел, терял силы и не мог уже взобраться на него самостоятельно.
Пора было обустраивать для Уэсли новое жилище. У него была своя огромная переноска, которую он обожал, изначально предназначенная для особо крупных пород собак. В юности она служила ему идеальным гнездом — достаточно места, чтобы ходить, и вполне можно расправить крылья. Я положила внутрь стопку книг, обернув их темными тряпками, соорудив ему мягкий приподнятый насест, и поставила тяжелую белую миску, в которую ежедневно бросала по семь-восемь мышей — так ему было гораздо проще их найти. Теперь он знал, что у него всегда есть мыши, успокоился и перестал постоянно просить еще.
На некоторое время все устаканилось. Я была уверена, что справлюсь с любыми проблемами, которые могут внезапно появиться у Уэсли, — в конце концов, я почти двадцать лет умудрялась решать их, импровизируя и находя выходы почти без какой-либо помощи окружающих. Однако вскоре Уэсли вновь стал просить есть, хотя и знал, что мыши у него были, и это доводило меня до слез. В остальном с ним все было нормально — перья были красивы, как и прежде, он все еще играл с водичкой, умывался и пил, получая достаточное количество жидкости, хотя и недоедал мышей. И все же он слишком исхудал.
Как-то раз, возвращаясь домой от врача, я решила поехать по грунтовке и насладиться загородным пейзажем. Я ехала и слушала печальную шотландскую песню в переводе на ирландский, в которой пелось о том, как молодой парень нашел свою возлюбленную лежащей в постели, погибшей из-за голода. Я учила ирландские песни, и среди них часто, надо сказать, попадались невеселые, но это была какой-то особенно мрачной. И вот я ехала, подпевая, как вдруг заметила у обочины мертвую сипуху. Сердце мое рухнуло куда-то вниз. Я словно увидела своего малыша, своего Уэсли, мертвым. Я остановилась проверить, точно ли она мертва или же просто не может двигаться. Изумительной красоты молодая сова была по виду не ранена, но бездыханна. Внутри зрело плохое предчувствие, меня словно обдало ледяным ветром, хотя солнце светило ярко и грело. Я подобрала сову, аккуратно прижала ее к себе и отнесла на ближайшее поле. Достав из багажника лопату, я осторожно и торжественно похоронила бедняжку. Это был явно дурной знак. Я размазывала слезы по щекам, повторяя: «Нет, я не могу его потерять. Не могу…»
С рассказами про животных часто бывает так, что ты почти уже дочитал до конца, привязался к зверю, а в конце тебе берут и рассказывают подробные обстоятельства его смерти. Ненавижу эти места. Ненавижу настолько, что иногда даже читаю сначала конец, чтобы сразу морально подготовить себя к неизбежному. В общем, если не хотите узнать о том, как умер Уэсли, закройте эту книгу прямо сейчас. Но я обязана написать и об этом.
Конечно, я знала, что́ надвигается — все-таки Уэсли был уже очень и очень стар. Доктор Пэнфилд говорил, что по человеческим меркам ему было около ста двадцати. Еще он отмечал, что я идеально о нем заботилась: у него не было ни одного пробора в перьях, которые обычно появляются в результате стрессов, он был идеально чистым и выглядел просто прекрасно. На мои возражения по поводу его худобы он ответил:
— Ну так ведь и люди в сто двадцать обычно худы и немощны, знаешь ли.
Я безумно жалею о том, что не наобнималась с ним в последний год его жизни, но он, кажется, не хотел. Жалею о том, что так много часов проспала на диване вместо того, чтобы провести их рядом с ним. Жалею о том, что не поняла, в чем был корень проблемы с мышами. Но я все равно ничего не смогла бы изменить. Я делала для Уэсли все, что могла и умела, а умела я немало, но Уэсли, подобно многим другим диким животным, скрывал от меня свою болезнь.
Вечером восьмого января 2004 года, в тот час, когда Уэсли обыкновенно просыпался и начинал разговаривать со мной, я услышала наверху странные звуки. Я бросилась к нему в комнату, понимая, что с ним что-то не так. Уэсли сидел в своей переноске. Он попытался поздороваться со мной, но у него выходили только тяжелые хрипы. Я вытащила его из переноски и посадила на пол; он покачнулся. О нет. Пожалуйста, нет. Он выдал жалостливый свистящий всхлип. Что такое? Может, ему хотелось воды? Я подвинула ему миску, он отхлебнул, но не смог проглотить воду, и она пошла у него носом. Я вытерла ему клюв, начиная паниковать.
Такая слабость могла означать, что он был голоден. Я пощупала его живот и почувствовала пустоту. Я принесла ему мышь, но он на нее даже не взглянул, так что пришлось покормить его насильно. Мне не раз доводилось кормить голодающих хищных птиц в бытность мою работником заповедника, так что я неплохо знала, что делать. Через пару минут он все выплюнул.
Я взяла его на руки, побежала вниз, к аптечке, и ввела ему физраствор. Он лежал на спине на диване и смотрел на меня своими большими, немного печальными глазами. Кажется, его не сильно беспокоило происходящее. Я твердила ему сквозь слезы, что что с ним все будет хорошо, что я рядом и обязательно помогу ему. Я набрала номер приемной доктора Кауарда и почти прокричала в трубку:
— Моей птице срочно нужна помощь! Ему плохо! Скажите доктору Кауарду!
— Приезжайте немедленно, — ответили мне. — Не беспокойтесь насчет времени закрытия, мы вас ждем.
Я запихнула Уэсли в маленькую путевую переноску, выложив ее изнутри мягкими подушками и одеялами, чтобы он не ушибся во время езды. Он положил на них голову и молча смотрел, как я пристегивала переноску к креслу и запрыгивала за руль. Я приоткрыла дверцу переноски и всю дорогу гладила его по голове и говорила с ним.
— Все хорошо, Уэс. Я тебя очень люблю. Мама тут, мама с тобой. Все будет хорошо, отдыхай. Доктор Кауард тебе поможет. Я так сильно тебя люблю. Ты мое солнце, мое счастье, ты всегда был моим лучшим другом, и я всегда буду тебя любить. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Мама тебя очень любит…
Я вбежала в кабинет ветеринара с переноской, аккуратно вытащила из нее Уэсли и взяла его на руки. Доктор Кауард ввел ему смесь питательных веществ и витаминов, затем стал пробовать еще какие-то профессиональные хитрости. Уэсли не сопротивлялся. К тому моменту мы уже оба плакали, я изливала свою вину: почему не сделала для него больше, почему не приложила больше усилий, почему не придумала, как… Доктор Кауард утешал меня, говорил — чудо, что Уэсли вообще дожил до такого возраста, а я заботилась о нем лучше, чем все остальные хозяева его пациентов заботились о своих питомцах, Уэсли прожил долгую и счастливую жизнь и дожил до возраста, недостижимого и непостижимого по меркам сипух.
Я баюкала Уэсли в своих руках, как делала это последние девятнадцать лет. Доктор Кауард как раз принес какое-то еще лекарство, я стала класть Уэсли на стол, и тут его голова упала на грудь. Я приподняла ее рукой, но она упала снова. Я заглянула в его глаза. Умер?.. Доктор Кауард сорвал с груди стетоскоп и стал шарить колоколом по его груди… Да. Уэсли не стало. Плакали все вокруг. Одна из ассистенток обняла меня и поцеловала в мокрую от слез щеку. Я рыдала.
Доктор Кауард выскользнул из кабинета с телом Уэсли, чтобы провести небольшой короткий анализ, который, возможно, показал бы причину смерти. Это был крайне запущенный рак печени.
— Понятия не имею, как он вообще умудрился так долго протянуть, — сказал он мне. — Там здоровой ткани просто не осталось — одна сплошная опухоль. До последнего миллиметра. Вы сделали абсолютно все, что было в ваших силах, но тут никто уже не смог бы помочь.
Я и впрямь делала все, что было в моих силах. Я защищала его, согревала, кормила, дарила ему ощущение комфорта и безопасности, и за всю его долгую жизнь ему так никто и не навредил. Мы… справились. Мои молитвы за него были услышаны.
Уэсли изменил всю мою жизнь. Он был моим учителем, моим спутником, моим ребенком, моим товарищем по играм, моим свидетельством существования Бога. Иногда я думала, что, возможно, он действительно был ангелом, посланным жить со мной и помогать мне в горе. Он помогал: многажды я плакалась в его перья и рассказывала о своих бедах, а он искренне пытался меня понять. Он выслушивал и обнимал меня.
Он сидел на моей подушке рядом со мной, пока я спала, умывался, когда умывалась я. Он пытался кормить меня своими мышами и выбрал меня своим единственным партнером. Он делал для меня сотни гнездышек. Он изъявлял свою любовь громкими восклицаниями и имел свое независимое мнение обо всем на свете. Он комментировал все, что происходило в нашей совместной жизни, на своем совином языке. Он привлекал диких сов к окну нашей спальни своими радостными, ликующими криками… Мы были с ним счастливы. Как жаль, что я не смогла сделать для него больше тогда, у самого края. Но я по-настоящему заботилась о нем и любила его без оглядки. Он был потрясающим: любопытным, веселым, волевым, полным жизни, с огромной душой. Нет таких слов ни в одном языке, которыми можно было бы описать его глаза. Я видела в них вечность — а теперь он летел на свободе. В своей последней молитве я просила лишь о воссоединении с ним в посмертии, и еще о том, чтобы Господь принял его и позаботился о нем.
Уэсли умер, лежа у меня на левой руке, как и всегда, свесив лапы и положив голову мне в ладонь. И, как и всегда, я гладила его правой рукой. Вот как его дух покинул бренное тело. Я счастлива, что мы обнялись в последний миг.
Эпилог
КОГДА УЭСЛИ не стало, я впала в ступор. Я почти не спала и вместо этого изливала свое горе и свою тоску на бумагу днем и ночью, описывая нашу совместную жизнь, чтобы помнить. Мама с пониманием отнеслась к моему состоянию и позволила практически завладеть ее компьютером, несмотря на то, что это мешало ее делам — она работала в области недвижимости. Всего за три недели я написала черновик этой книги, а после этого спала месяцами, то выныривая из какого-то вязкого тумана, то проваливаясь в него обратно.
До болезни я брала уроки игры на ирландской скрипке у Кэйт Рид — лучшей в этом деле в США. Она играет как раз в любимом мной стиле Ист-Клэр[5]. Мой недуг лишил меня возможности продолжать у нее учиться, но к тому времени Кэйт уже стала одной из моих самых близких подруг. Она была первой, кто понял, что я серьезно больна и что мне нужна медицинская помощь, хоть я и скрывала тяжесть своего состояния от друзей и семьи. Она стала заботиться обо мне.
Спустя несколько месяцев после смерти Уэсли Кэйт пригласила меня в клуб писателей в Палос-Вердес. Она часто сначала привозила меня к себе, чтобы я могла подольше поспать, а потом отвозила меня на собрание, где я зачитывала остальным свою историю об Уэсли. Направляясь на первое собрание, я наткнулась по дороге на магазин, с витрины которого на меня смотрела плюшевая сипуха. Я посчитала это добрым знаком и купила ее. Несколько месяцев спустя, когда я сидела в конференц-зале библиотеки и работала над книгой, прямо за окном на ветку дерева опустился филин и просидел там весь остаток дня. Пару раз я даже выходила наружу — проверить, действительно ли он там сидит, или это игры моего воображения.
Сменялись месяцы, и вместе с ними менялась я: кажется, болезнь отступала. Поскольку диагноз мой был безнадежным, я поначалу даже не заметила перемен. Однако, сравнив свое текущее состояние с тем, что было полгода назад, я осознала, что положительная динамика налицо. Я сменила медицинскую организацию, и мои новые врачи в «Kaiser Permanente» нашли способ сдерживать симптомы болезни, значительно увеличив время моей работоспособности. Вместо того, чтобы просто забрасывать меня лекарствами, они скрупулезно исследовали проблему и постоянно что-то меняли в моем плане лечения. Мой основной терапевт, доктор Фелдер, был любопытен как настоящий ученый, никогда не страшился трудностей и всегда прикладывал все усилия для решения проблемы. Это научило меня никогда не терять надежды и не считать малые шансы приговором.
Я нашла утешение, иногда работая волонтером в заповедниках и центрах реабилитации диких животных, особенно с морскими, болотными и хищными птицами, а также опоссумами. А еще меня продолжают навещать дикие совы. Только что, когда я писала эти самые строки, над моим домом, крича, пролетела дикая сипуха, направляясь на вечернюю охоту. Эти совы — словно ниточка между мной и Уэсли. Когда-то он спас мне жизнь, теперь они помогают мне идти дальше.
Две мои лучшие подруги, Кэйт и Вэнди, поддерживали меня в трудный период, заботливо звоня каждый день и не давая погружаться в депрессию, пока я писала и переписывала эти мемуары. Я так долго была больна и заперта в четырех стенах, что чувствовала себя изолированной от общества и от нормальной жизни. Их дружба давала мне выход и поддерживала мою связь с миром несмотря на мое слабое здоровье и боль от потери Уэсли.
Вэнди повторно вышла замуж и счастливо живет в новом браке уже много лет. Она перебралась в Колорадо и стала выводить фризских и андалузских лошадей, уорлендеров[6] и кошек породы Рэгдолл. Помимо того, что она известный художник и скульптор, Вэнди уже несколько десятилетий занимается звукозаписью. Еще она помогала мне с редактурой этой книги, вспоминая интересные моменты из жизни Уэсли. Мы порой зависали на телефоне целые ночи напролет, пока обе не засыпали, так и не повесив трубку. Ее муж, Дон Франциско, также занимается звукозаписью, а главное — он добрый и заботливый, о лучшем мужчине и мечтать нельзя. Энни уже совсем взрослая, она сама теперь замужем, все так же мудра не по годам и тоже занимается… да-да, звукозаписью. Как ни странно, Кэйт со своим мужем, Ричардом Ги, тоже переехала в горы Колорадо, и они работают теперь вместе с Вэнди и Доном.
Мне доставляет огромное удовольствие говорить об Уэсли, писать о нем и делиться с другими его историей. И, хоть иногда я все еще чувствую свою вину в произошедшем в последние его дни, я осознаю, что это нормально и что через это проходили все, кто когда-либо терял своего близкого. Чувство вины — это лишь обращенный на себя гнев, гнев на свою неспособность предотвратить неизбежное. Но мы не боги. Мир устроен так, что мы чаще всего переживаем наших любимцев, и с этим ничего не поделаешь. Мы сами выбираем — ощутить боль от их смерти вместе с радостью от их жизни. Я знаю людей, которые решили, что не могут так жить и справляться с этим, и решили больше не заводить себе питомцев. Однако я твердо убеждена в том, что оно того стоит.
Когда мне было восемь, мы с сестрой кое-что друг другу пообещали. Мы поклялись, что не будем жить на безопасном и тусклом мелководье, что нырнем в реку жизни настолько глубоко, насколько возможно, невзирая на опасное течение. Мы понимали, что жизнь дается только раз, и решили прожить каждую секунду со смыслом. Казалось бы, странная клятва для двух маленьких девчонок. На самом деле в этом нет ничего удивительного, учитывая темп нашей жизни и нашей занятости, — ведь мы уже тогда работали в области звукозаписи и проводили кучу времени в Калтехе, и успели познакомиться со многими людьми, каждый из которых жил как-то по-своему. Мы обе сдержали ту клятву, и обе нисколько не жалеем об этом.
Уэсли показал мне Путь Совы. В мире людей ценность человека часто оказывается неразрывно связана с его богатством или достижениями. Однако моя болезнь лишила меня всего этого. Уэсли показал мне, что любовь, которой ты готов поделиться, — это уже вполне достаточно, даже если больше у тебя ничего нет. Мне не нужны были деньги, авторитет, достижения, гламур и прочие «пустышки», которыми мы забиваем свою жизнь и которые так ценим.
Теперь, четыре года спустя, я все еще скорблю по нему, однако мне безумно хочется взять к себе еще одного маленького птенчика и дать ему все то, что не смогла или не успела дать Уэсли. В этот раз я буду записывать и фиксировать каждую мелочь: каждый новый звук, каждое изменение тональности, каждое новое слово, которое он выучит на моем языке. Я официально оформлю свои наблюдения, чтобы они соответствовали всем стандартам и были приняты научным сообществом.
Мы стоим на пороге открытий, которые многое расскажут о том, как животные общаются. Недавнее исследование показало, что во́роны, решая проблемы, обдумывают их логически, а не опираются на метод проб и ошибок. Они не просто используют инструменты — они создают их и переделывают старые, составляя серьезную конкуренцию человекообразным обезьянам. Известный африканский жако Алекс, скончавшийся к выходу этой книги, демонстрировал потрясающий уровень интеллекта — он доказал, что способен по-настоящему учить языки: он понимал смысл того, что говорили ему, и понимал смысл того, что говорил он сам. Он создавал новые связки слов для описания ранее неизвестных ему вещей и мог научиться еще более сложным вещам, которые доказали бы наличие образного мышления у животных. К несчастью, его не стало. Да упокоится он с миром, и пусть его запомнят, как первопроходца в области исследования разума и чувств у существ, с которыми мы делим эту планету.
У нас впереди масса открытий, и я уверена, что уже через несколько десятилетий мы станем оглядываться на сегодняшний день как на первобытную эпоху в области понимания животных, их интеллекта и эмоций.
Мою жизнь навсегда изменила одна-единственная сипуха по имени Уэсли. Я навеки благодарна ему за то, что он показал мне Путь Совы.
Интересные факты о сипухах
1. Сипухи весьма эмоциональны и способны выражать свои чувства огромным количеством способов. Они имеют свойство привязываться. Они часто нежничают со своим партнером и птенцами. Как раз такая привязанность — лучший способ скрасить жизнь не подлежащей выпуску на волю сипухе. Сипухи, живущие в неволе без ласки и физических прикосновений, быстро становятся нервными и впадают в депрессию.
2. Сипухи — однолюбы. Когда ее партнер умирает, сипуха чаще всего «выключается» и умирает по собственной воле, причем смерть приходит значительно быстрее, чем в случае голода или обезвоживания.
3. Сипухи «предохраняются». Точнее, они спариваются только будучи уверенными в том, что смогут прокормить потомство. Мы с коллегами в одном из центров, где я работала, обнаружили, что при рационе в три мыши в день сипухи спариваются, но оставляют часть еды недоеденной. При уменьшении количества мышей до двух, они перестают спариваться.
4. Брачные ритуалы сипух не сводятся к спариванию, часто до него вообще не доходит. Они, как и многие другие животные, используют брачный ритуал в качестве приветствия. Прикосновения, объятия и поцелуи людей при встрече — элементы точно такого же ритуала.
5. Сипухи откладывают от одного до десяти яиц, но чаще всего эта цифра сводится к пяти. Откладывают они их по одному в день, и каждое сразу начинают высиживать, так что и вылупляются птенцы по порядку, по одному в день. Соответственно, самый старший — по определению самый крупный и сильный, второй по старшинству — помельче и послабее, и так далее. Если год урожайный, то прокормить удается всех. Если же нет, то корм получают более сильные и агрессивные старшие совята, а младшие, как правило, погибают от голода. Так устроена природа: лучше, если выживут один-два птенца, чем если от недоедания погибнут все.
6. Сипухи, в отличие от большинства птиц, могут корчить «рожицы», с помощью множества мелких лицевых мышц. Они, подобно людям, используют мимику для общения.
7. Сипухи способны издавать огромное количество разных звуков при общении со своим партнером или владельцем: от визга и шипения до храпа, от щебетания до попугайского клекота. Причем они могут изменять звучание в зависимости от своего настроения. В отличие от певчих птиц, сипухи при помощи голоса обозначают свое отношение к ситуации, существу или предмету.
8. Рассматривая что-либо, совы делают характерные движения головой из стороны в сторону, чтобы получить информацию о «глубине кадра». Человеческие глаза подвижны — они постоянно скачут из стороны в сторону, собирая данные о том, как именно предметы расположены в пространстве. У сов нет такого механизма — их глаза неподвижны, так что им для получения тех же данных требуется водить головой.
9. Внутри когтя на среднем пальце у сипух есть своеобразная «расческа». Ею они расчесывают перья на голове и на лице, а затем чистят ее саму клювом.
10. У большей части сов в основании хвоста имеется специальная надхвостная железа. Они щиплют ее клювом, когда чистят перья, и размазывают содержимое по всему телу. Масло, вырабатываемое этой железой, является провитамином, который превращается в витамин D при попадании прямых солнечных лучей. Потом совы снова чистят перья, и витамин D попадает им в рот. У сипух эта железа также присутствует, но масла она не вырабатывает. Витамин D они получают, заглатывая мышь целиком и поглощая, в числе прочего, ее ЖКТ.
11. Сипухи — одиночки, если не считать партнера. У них нет стайного инстинкта. Владельцам диких сов не стоит даже пытаться применять к ним техники приручения или дрессировки, предназначенные для социальных животных, ведущих стайный или стадный образ жизни. Социальные животные понимают концепцию корректирующего поведения, к которому относятся резкие движения и крики, однако сипух все это лишь оттолкнет и напугает. Сипуха навсегда запомнит человека, который, по ее мнению, ей угрожал, и будет лишь более нервной и не расположенной к сотрудничеству. Смотритель тоже будет раздражаться, думая: «Я тридцать лет работаю с животными. Что не так с этой тупой совой?» Совы далеко не тупые.
12. У сов, в отличие от многих других птиц, нет зоба, который позволял бы им переносить в себе больше одной порции пищи. Таким образом, им приходится запасать пищу вне тела. Иногда, впрочем, они предпочитают держать пищу в когтях, чтобы другие животные ее не украли. Самцы сипух в брачный период привлекают самок, сваливая в гнезде целую кучу мышей и заманивая партнершу щедрыми дарами.
13. Совы — ночные птицы и охотятся в темное время суток. Самый важный для них этап охоты происходит в течение часа после заката, в это время их нельзя тревожить. Тем, кто хочет понаблюдать за совами, следует идти на прогулку после полуночи, чтобы они успели заготовить пищу. Еще одно важное правило: людям не стоит даже прикасаться к стволу дерева, на котором сидит сова, иначе заинтересовавшиеся человеческим запахом еноты могут забраться на него и убить птицу. Не стоит также проигрывать записи брачного зова сов, поскольку это может их запутать, приостановить процесс спаривания и даже почти полностью остановить размножение вида в округе.
14. Благодаря специальному устройству и расположению перьев на теле, совы летают абсолютно бесшумно. Однако их перья не обладают водоотталкивающими свойствами, поскольку походят в целом скорее на пух, нежели на перья прочих птиц. Маховые перья покрыты бархатистой, гасящей звук субстанцией, а края у них зазубрены, чтобы в движении не издавать свиста, который предупредил бы жертву о приближении совы. Также это помогает совам использовать свой мощнейший слух, не обращая внимания на помехи, издаваемые их собственными крыльями.
Не в последнюю очередь именно благодаря своей бесшумности совы часто пугают людей внезапным появлением, и когда-то именно они послужили основой для многих историй о призраках, обитающих в лесу. Крик сипухи опять же столь жуток, что лег в основу легенд о заброшенных домах с привидениями и банши (в популярном сериале «По следам призраков» один из участников заявил, что крик сипухи — точь-в-точь крик дракона. Интересно, где он драконов-то слышал?..).
15. Сипухи способны безошибочно атаковать цель даже в полной темноте, полагаясь на свой невероятно острый слух. У них нет природных сонаров, как у летучих мышей! Просто кора их головного мозга предназначена для построения звуковой карты окружающего пространства, подобно тому, как у нас в голове существуют визуальные карты тех или иных мест. Сова может точно «навестись» на мышь, спрятавшуюся и сидящую без движения под тремя футами снега, по звуку ее сердцебиения. Совы способны определять положение добычи в пространстве благодаря асимметрично расположенным ушам: правое находится довольно высоко и повернуто вниз, левое же, наоборот, находится в нижней части головы и повернуто вверх. Человеческий мозг способен за ничтожно малый промежуток времени, когда звук уже дошел до одного уха, но еще не дошел до второго, рассчитать направление источника звука в горизонтальной плоскости. Однако, чтобы получить трехмерные звуковые данные, нам приходится наклонять голову, чтобы добавить в вычисления данные о вертикальной плоскости. Мозг совы вычисляет все это сразу и мгновенно.
В отличие от человеческого мозга совиный еще и вычисляет разницу в мощности звука. Благодаря специфической форме наружных ушей, сипухи также прекрасно слышат все, что происходит у них за спиной — нам бы для такого потребовалось развернуть голову лицом или боком в нужном направлении. Их плоские лицевые диски исполняют функции спутниковой антенны, собирая звуковые волны, поступающие спереди, и направляя их к ушам. Таким образом, определять точное местонахождение добычи совам помогают даже их лица. Сипуха, у которой отсутствует часть перьев на лице, практически неизбежно будет либо перелетать цель, либо не долетать до нее.
16. Сипухи способны узнавать себя в зеркале, хотя широко этим известны лишь люди и высшие приматы. Уэсли часто любовался своими перьями в отражении после водных процедур, в точности как человек.
17. Сипухи замечательно адаптируются к новым ситуациям, а потому их жилища часто можно найти в городах и пригородах. Они устраивают себе гнезда в заброшенных зданиях, на чердаках, за фасадами жилых домов и даже на пальмовых деревьях. В Сан-Франциско существует программа, в рамках которой в местах скопления грызунов вместо яда размещают коробки, пригодные для гнездовья сипух. Имея возможность свободно перемещаться по большому открытому пространству, они без лишних вопросов селятся в этих «бытовках» и быстро и эффективно решают проблему с грызунами. Инструкции о том, как соорудить пригодную для гнездовья сипух коробку можно найти по адресу
18. Основными причинами насильственной смерти сипух являются машины и грузовики — совы охотятся, летая как раз примерно на высоте лобового стекла машины, — и еще крысиный яд. Съев отравившегося грызуна, сова погибает от внутреннего кровоизлияния или от припадка. Крысиный яд убивает вообще не только сов, но и соколов, кошек, собак и прочих животных.
Благодарности
С МОЕЙ СТОРОНЫ вовсе не будет преувеличением сказать, что есть люди, у которых я в неоплатном долгу до гробовой доски. Когда я начинала работу над этой книгой, я все еще была весьма нездорова, и многие люди помогли мне своей добротой и широтой души, дав мне силы продолжать. Без постоянной поддержки и усилий Вэнди Франциско я вряд ли смогла бы найти агента, отредактировать рукопись, оплачивать расходы, связанные с книгой. Я даже не смогла бы просто выбираться из постели и продолжать писать, не говоря уже о периодах, когда у меня наступал писательский паралич. Она заплатила за конференцию, на которой я нашла себе агента, сама сделала иллюстрации, подготовила фотографии и создала веб-сайт (за хостинг которого еще и сама платила) к началу той конференции, каждый день поднимала меня с колен своими звонками, оплачивала многие другие мои расходы и, конечно же, помогала мне с редактурой каждой строчки, после чего я сдала рукопись во «Фри-Пресс». Фотографии на обеих сторонах обложки этой книги тоже принадлежат именно Вэнди. Она была моим неутомимым, увлеченным и незаменимым партнером в то непростое время. Мы вместе работали над книгой, перечитывая и правя ее раз за разом во время бесконечных телефонных разговоров между Колорадо и Калифорнией. Для меня это был первый писательский опыт, для нее — первый редакторский, так что мы тщательно и придирчиво обсуждали каждую строчку, иногда засыпая прямо во время звонка. Мы смеялись, плакали и вместе словно проживали заново все эти моменты. Ну и, в конце концов, именно Вэнди много лет назад с готовностью впустила к себе домой крохотного совенка Уэсли, когда мы еще жили с ней вместе. Однажды ей пришлось прямо во время очередного сеанса редактуры по телефону принимать роды у кошки.
Самим существованием этой книги я обязана и другой своей лучшей подруге — Кэйт Рид, которой я столь же неизмеримо благодарна. Кэйт оставляла меня у себя дома и привела меня в свой клуб писателей, настаивая на том, чтобы я зачитывала там вслух свои наброски. Его члены стали моими первыми слушателями и помогли немного разобраться в тонкостях писательского дела. Кэйт тоже звонила мне каждый день и утверждала, что «не позволит» проекту загнуться. Она выслушивала и утешала меня, веселила и смеялась вместе со мной, и вместе со мной плакала об Уэсли. Она мотивировала меня, ставила мне четкие задачи и была незаменимым редактором-корректором. Над последними черновиками я работала у нее дома и с ее помощью.
Все это время меня поддерживала моя семья: Энн (моя мама) и Уолли Фэррис, Хак (мой папа) и Эмили О’Брайен, Уоррен и Роберта О’Брайен, Алисия О’Брайен и Том Крэймер, Джэнис Труэкс, Линда Коуран, Карэн Сэндовал, Кэрол Гилпин, Глория Герхарт, моя сестра Глория О’Брайен Фонтенот, Энн Блюмберг, мой дедушка Хаскелль (Хак) О’Брайен-старший, бабушка Цимми О’Брайен. Неоценимую помощь оказали и мои друзья: Кэт Спиделл, Брэнда Гэнт, Кит Мэлоун, Арлета Окерсон, Дон Франциско, графиня Эрин Гравина, Линда Конти, доктор Чэндлер, Рут Воллерт, Элизабет МакГрэйл, мистер Эринг, Линн Ханна, МеМе Сан, Майк О’Брайен, Генри Лоу, Эйлин, Верн и Гай Риттер и многие другие, чей энтузиазм тронул меня до глубины души и придал сил двигаться дальше.
Родители еще в детстве привили мне страсть к чтению и письму, а главное — страстную любовь к животным и некое… понимание их. Всю мою жизнь они поддерживали меня, ни на секунду не сомневаясь в том, что я добьюсь любой поставленной цели. Мама помогала мне и заботилась обо мне с самого начала моего недуга и до сих пор помогает мне держаться на плаву.
Муж Кэйт и по совместительству мой юрист, Ричард Ги, дал мне много ценных советов и помогал мне со всеми контрактами и деловыми вопросами.
Также я хочу поблагодарить Юго-Западный клуб писателей, собирающийся в библиотеке Палос-Вердес, за то, что рассказали мне все, что знали про область писательского дела, сказали, чего следует ожидать, и дали дельные советы по поиску издательства. В особенности хочется поблагодарить Джин Шрайвер за то, что она так рьяно убеждала меня, что книгу вообще стоит издавать, и Кэт Спиделл — за спасение моей неспособной написать письмо в издательство шкуры. Она расположилась со мной в библиотеке, мы собрали все мои наброски, и она сочинила основной костяк письма, а за окном тем временем сидел филин и составлял нам компанию. Шэрил Ромо постоянно подбадривала меня, и именно она в конечном счете уговорила меня записаться на конференцию писателей Южной Калифорнии.
И вновь люди, которые вовсе не должны были ради меня так стараться. Майкл Стивен Грэгори особенно заинтересовался «Совой по имени Уэсли» и переполошил весь зал еще до того, как я туда приехала, и в этом ему помогали Уэс Альберс и Крисси А. Барнетт. На этой конференции я узнала много нового и важного, благодаря ей сумела подготовиться к дальнейшим действиям, а главное — именно на ней я встретила своего агента, Салли Ван Хаицма. Не думаю, что в мире есть более преданный агент. Она идеально подходила писателю-новичку и была мне не просто литературным агентом, но тренером, учителем, наставником, другом, доверенным лицом и верным союзником. У нее была безупречная рабочая этика, и она никогда не сдавалась ни при каких обстоятельствах. Я бесконечно благодарна ей за ее преданность книге и мне и за то, что она ни на минуту не теряла веры в проект. Она даже выступила за рамки своих обязанностей, помогая мне с редактурой и причесыванием рукописи перед ее отправкой во «Фри-Пресс».
Также я благодарна Мелинде Рот за ее помощь с изначальной структурой рукописи. Особенно она помогла со структурой и темами первых нескольких глав.
Последние две трети книги в этом плане замечательно «курировала» Вэнди, у нее часто возникали интересные идеи и предложения. Вэнди помогала мне с редактурой. Она прекрасна.
Я слышала, что большая часть книг проходит где-то через дюжину переписок, прежде чем их опубликуют. Раньше мне как-то не верилось, но потом я испытала это на своей шкуре. Даже и не упомню, сколько раз я перебирала рукопись по кусочкам при помощи и поддержке моих редакторов, но каждый раз она становилась чуть лучше, так что я благодарна всем, кто ее вычитывал, критиковал и помогал мне ее редактировать, как, например, моим родителям и сестре.
Спасибо вам, Роберт С. Норд и Джэни Поитрас из «Херитадж Студиос» за работу над видео со мной и Уэсли, за выпуск DVD и за оцифрованные фотографии. Огромное спасибо также «Лайн он Лайн Инк.» за помощь и уточнения.
Отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто любил Уэсли, заботился о нем и делал его чуть счастливее: моих маму и сестру, Вэнди, Кэйт и Ричарда, Гая Риттера (которому как-то раз пришлось несколько дней подряд каждый день ездить за двести миль ко мне домой, чтобы покормить Уэсли, пока я была на похоронах), Дэбору Хикс, Рича Булера, Конни Фосса, Рэйлин, Джин, Курта Мастеллара, Джима Тэннебоэ и, конечно же, доктора Пэнфилда.
Спасибо всем тем, кто отвлекался от своих дел, чтобы помогать мне и отвечать на мои вопросы. Это: Тэрри Мингл из лаборатории орнитологии Корнелльского университета, доктор Дон Крудсма, доктор Дуглас Кауард (ветеринар Уэсли) и его замечательные ассистенты — доктор Уэлди, доктор Клиланд и доктор Московакис, и все калтеховские постдоки.
Выношу благодарность «Кайзер Перманенте» за замечательную команду врачей, сумевших побороть мою болезнь: доктору Розенбергу, доктору Фелдеру и остальным сотрудникам «Кайзер». Без вас ничего этого бы не было.
Хочу поблагодарить Джэй-лин Кларк и Лору Вуд из «Каунсил Оук Букс» за то, что верили в меня еще до публикации книги.
Особая благодарность выносится Джейн Гудолл, за то, что она была мне примером для подражания с восьми лет, за то, что отправлялась туда, куда никто не решался ступить до нее — и в физическом смысле, и в научном. Доктор Гудолл находит все новые и новые доказательства тому, что животные умнее и разумнее, чем мы можем себе представить. Она проломила стену между человеком и животным и продолжает разрушать ее и сегодня.
Ну и теперь все-таки нельзя не упомянуть, что я бы не пережила всего этого без кока-колы, 70-процентного какао-шоколада Линдт и ирландско-кельтской музыки, в особенности без «The Bothy Band», Пэдди Кэнни, «Solas», «Altan» и Эшли МакАйзек.
В издательстве «Фри-Пресс» я хочу поблагодарить ассистента редактора Донну Лофредо, которая структурировала весь этот хаос, собирала в кучу фотографии и расставляла все по своим местам — она была Центральным Вокзалом всего проекта и умудрялась при этом оставаться спокойной и собранной. Я также хочу поблагодарить Эндрю Полсона, бывшего ассистента редактора. Спасибо Джэннифер Уэйдман за ее ценные идеи. Я в глубоком долгу перед Домиником Анфусо, Эндрю Доддсом, Сьюзан Донахью, Эриком Фуэнтецилла, Шэннон Галагер, Карисой Хэйс, Мартой Левин, Эдит Льюис, Патрицией Романовски, Эллен Сасахара и всей командой «Фри-Пресс». Спасибо и работникам отдела продаж и маркетинга за отличную работу на незримом фронте и за замечательную обложку. Эта книга никогда не стала бы такой, какая она есть, без заботы и веры в нее моего редактора во «Фри-Пресс» — Лэсли Мередит. Она одинаково любит животных и писателей и обладает очень редким и ценным даром внимательности и погруженности. Она вложила в «Сову по имени Уэсли» свои душу и сердце, улучшив ее без изменения сути, интуитивно понимая, где что-то следует добавить, а где — убрать, буквально вылепляя книгу из глины. Она всегда находила время для меня и моих новичковых писательских вопросов и даже свела меня с несколькими людьми, связанными с помощью животным, поскольку сама этим увлекалась. Поистине, в мире нет и не может быть лучшего редактора.
Об авторе
СТЭЙСИ О’БРАЙЕН — биолог, специализирующийся на изучении поведения диких животных. Она окончила бакалавриат в колледже Оксидентал и затем продолжила обучение в Калтехе, где и начала заниматься исследованием сов.
Стэйси продолжает работать в сфере биологии как спасатель диких животных и эксперт по вопросам их реабилитации. Она работает со множеством местных видов животных, включая краснокнижных американских бурых пеликанов, опоссумов, а также морских и певчих птиц. Она живет в Южной Калифорнии.
Уэсли четырех или пяти дней. Стэйси О’Брайен.
Около недели.Стэйси О’Брайен.
Около пяти недель от роду, в коробке-гнездышке. Стэйси О’Брайен.
С собакой по имени Кортни. Стэйси О’Брайен.
Около двух месяцев. Интересуется фотоаппаратом. Вэнди Франциско.
Около шести недель. Рядом с рулоном бумажных полотенец для сравнения размера. Стэйси О’Брайен.
Уэсли пять недель. На руках у Стэйси. Вэнди Франциско.
Уэсли набрасывается на все: от подушек до предметов на полу. Стэйси О’Брайен.
Почти три месяца. На детском насесте. Стэйси О’Брайен.
Уэсли только-только научился летать и все еще испытывает трудности с приземлением. Стэйси О’Брайен.
Уэсли чистит свои перышки. Стэйси О’Брайен.
Примерно годовалый Уэсли резвится в раковине. Стэйси О’Брайен.
Подросток Уэсли сидит на прикрытой клетке с амадинами. Стэйси О’Брайен.
Примерно годовалый Уэсли «добивает» контейнер для пленки. Стэйси О’Брайен.
Уэсли около восьми лет. На своем взрослом насесте, наслаждается мышью на ужин, собираясь ее заглотнуть. Стэйси О’Брайен.
Несколько лет от роду, играет в куче газет рядом со своей переноской. Стэйси О’Брайен.
Примерно четырехлетний Уэсли сидит рядом со Стэйси и угрожает фотографу. Конни Фосса.
Уэсли лежит на руках у Стэйси, подняв лапы как шасси. Вэнди Франциско.
Девятилетний Уэсли смотрит на Стэйси в зеркало на ее раскладной косметичке. Стэйси О’Брайен.
Стэйси целует нервничающего из-за фотографа Уэсли. Конни Фосса.
Примерно годовалый Уэсли просится наружу. Стэйси О’Брайен.
Полностью погруженный в воду Уэсли — уникальное поведение для сипухи. Стэйси О’Брайен.
Мирно сидит в ванне. Стэйси О’Брайен.
Уэсли любуется собой в зеркало после ванны. Стэйси О’Брайен.
Около восьми лет от роду. Прыгает в ванну, вытянув когти. Стэйси О’Брайен.
Чистя перышки, Уэсли мог сдвигать целые пучки перьев в стороны, чтобы до них было удобнее добираться. Стэйси О’Брайен.
Уэсли в расслабленной позе на своем насесте, поджимает одну лапу. Стэйси О’Брайен.
Сонный трехлетний Уэсли. Стэйси О’Брайен.
Сноски
1
1 дюйм = 2,54 см; 1 фут = 30,48 см; 1 фунт = 0,45 кг.
(обратно)2
Постдок — временная должность в вузах Америки, Австралии и Западной Европы, которую занимают молодые ученые со степенью кандидата наук (прим. ред.).
(обратно)3
Амадины — маленькие певчие птички отряда воробьинообразных, которых часто разводят в неволе (прим. ред.).
(обратно)4
Адвил (Advil) — торговое название Ибупрофена(прим. ред.).
(обратно)5
Ист-Клэр — городок в Ирландии (прим. пер.).
(обратно)6
Уорлендер (англ. Warlander) — помесь фризской и андалузской пород (прим. пер.).
(обратно)



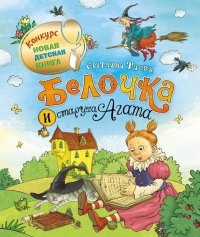



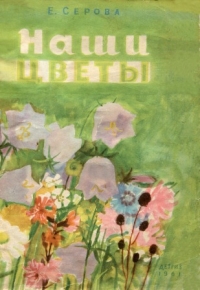

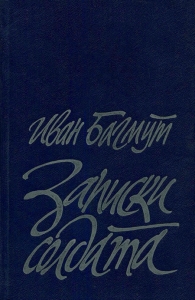
Комментарии к книге «Сова по имени Уэсли», Стэйси О'Брайен
Всего 0 комментариев