ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА Том 49
Анатолий РЫБАКОВ
Книга I КОРТИК
Первая повесть трилогии написана, автором по воспоминаниям детства. В основе сюжета — запутанная история, связанная с тайной кортика. Её герои — обычные московские школьники. Наблюдательность и любопытство арбатских мальчишек Миши, Генки и Славки не дают им скучать, они предпочитают жизнь насыщенную и беспокойную…
Загадка старинного кортика увлекает ребят в приключения, полные таинственных событий и опасностей.
Часть I Ревск
Глава 1
Испорченная камера
Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо.
Улица, широкая и пустая, дремала, согретая ранним утренним солнцем. Лишь перекликались петухи да изредка из дома доносился кашель, сонное бормотанье — первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя.
Миша жмурил глаза, ежился. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке, которой хвастал вчера рыжий Генка, заставила его решительно встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам, он пробрался в чулан.
Узкая полоска света падала из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед. Это была старая, сборная машина на спущенных шинах, с поломанными, ржавыми спицами и порванной цепью. Миша снял висевшую над велосипедом рваную, в разноцветных заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен.
Он осторожно открыл дверь, собираясь выйти из чулана, как вдруг увидел в коридоре Полевого, босого, в тельняшке, с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился, наблюдая.
Полевой вышел во двор и, подойдя к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся по сторонам.
«Чего ему не спится? — думал Миша. — И осматривается как-то странно…»
Полевого все называли «товарищ комиссар». В прошлом матрос, он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропахшей табачным дымом. Это был высокий, мощный человек с русыми волосами и лукавыми, смеющимися глазами. Из-под куртки на ремешке у него всегда болтался наган. Все ревские мальчишки завидовали Мише — ведь он жил в одном доме с Полевым.
«Чего ему не спится? — продолжал думать Миша. — Так я из чулана не выберусь!»
Полевой сел на лежавшее возле будки бревно, еще раз осмотрел двор. Пытливый взгляд его скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша, по окнам дома.
Потом он засунул руку под будку, долго шарил там, видимо ощупывая что-то, затем выпрямился, встал и пошел обратно в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным телом кровать, и все стихло.
Мише не терпелось смастерить рогатку, но… что искал Полевой под будкой? Миша тихонько подошел к ней и остановился в раздумье.
Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит? Он сел на бревно и оглянулся на окна дома. Нет, нехорошо! «Нельзя быть таким любопытным», — думал Миша, ожесточенно ковыряя землю. Он засунул руку под будку. Ничего здесь не может быть. Ему просто показалось, будто Полевой что-то искал… Рука его шарила под будкой. Конечно, ничего! Только земля и скользкое дерево… Мишины пальцы попали в расщелину. Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не посмотрит, только убедится, есть тут что или нет. Он нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. Значит, есть. Вытащить? Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку к себе и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток.
Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул стальной клинок кинжала. Кортик! Такие кортики носят морские офицеры. Он был без ножен, с тремя острыми гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком.
Обыкновенный морской кортик. Почему же Полевой его прячет? Странно. Очень странно. Миша еще раз осмотрел кортик, завернул его в тряпку, засунул обратно под будку и вернулся на крыльцо.
Со стуком падали деревянные брусья, запиравшие ворота. Коровы медленно и важно, помахивая хвостами, присоединялись к проходившему по улице стаду. Стадо гнал пастушонок в длинном, до босых пят, рваном зипуне и барашковой шапке. Он кричал на коров и ловко хлопал бичом, который волочился за ним в пыли, как змея.
Сидя на крыльце, Миша мастерил рогатку, но мысль о кортике не выходила у него из головы. Ничего в этом кортике нет, разве что бронзовая змейка… И почему Полевой его прячет?
Рогатка готова. Эта будет получше Генкиной! Миша вложил в нее камешек и стрельнул по прыгавшим на дороге воробьям. Мимо! Воробьи поднялись и уселись на заборе соседнего дома. Миша хотел еще раз выстрелить, но в доме раздались шаги, стук печной заслонки, плеск воды из ушата. Миша спрятал рогатку за пазуху и вошел в кухню.
Бабушка передвигала на скамейке большие корзины с вишнями. Она — в своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами. Чуть кося, щурятся маленькие, подслеповатые глазки на ее озабоченном лице.
— Куда, куда! — закричала она, когда Миша запустил руку в корзину. — Ведь придумает… грязными лапами!
— Жалко уж! Я есть хочу, — проворчал Миша.
— Успеешь! Умойся сначала.
Миша подошел к умывальнику, чуть смочил ладони, прикоснулся ими к кончику носа, тронул полотенце и отправился в столовую.
На своем обычном месте, во главе длинного обеденного стола, покрытого коричневой цветастой клеенкой, уже сидит дедушка. Дедушка — старенький, седенький, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Большим пальцем он закладывает в нос табак и чихает в желтый носовой платок. Его живые, в лучах добрых, смешливых морщинок глаза улыбаются, и от его сюртука исходит мягкий и приятный запах, только одному дедушке свойственный.
На столе еще ничего нет. В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее вилкой, чтобы замкнуть розу в круг.
На клеенке появляется глубокая царапина.
— Михаилу Григорьевичу почтение! — раздался за Мишей веселый голос Полевого.
Полевой вышел из своей комнаты с обвязанным вокруг пояса полотенцем.
— Доброе утро, Сергей Иваныч, — ответил Миша и лукаво посмотрел на Полевого: небось не догадывается, что Миша знает про кортик!
Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину на клеенке.
— Где Семен? — спросил дед.
— В чулан пошел, — ответила бабушка. — Ни свет ни заря велосипед вздумал чинить!
Миша вздрогнул и, забыв про царапину, снял локти со стола. Велосипед чинить? Вот так штука! Все лето дядя Сеня не притрагивался к велосипеду, а сегодня, как назло, принялся за него. Сейчас он увидит камеру — и начнется канитель.
Скучный человек дядя Сеня! Бабушка, та просто отругает, а дядя Сеня скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пенсне, теребит золоченые пуговицы на своей студенческой тужурке. А он вовсе не студент! Его давным-давно исключили из университета за «беспорядки». Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня? Лицо у него бледное, серьезное, с маленькими усиками под носом. За обедом он обычно читает книгу, скашивая глаза и наугад, не глядя, поднося ко рту ложку.
Миша опять вздрогнул: из чулана донеслось громыханье велосипеда.
И когда в дверях показался дядя Сеня с порезанной камерой в руках, Миша вскочил и, опрокинув стул, опрометью бросился вон из дома.
Глава 2
Огородные и Алексеевские
Он промчался по двору, перемахнул через забор и очутился на соседней, Огородной, улице. До ближайшего переулка, ведущего на свою, Алексеевскую, улицу, не более ста шагов. Но ребята с Огородной, заклятые враги алексеевских, заметили Мишу и сбегались со всех сторон, вопя и улюлюкая, в восторге от предстоящей расправы с алексеевским, да еще с москвичом.
Миша быстро вскарабкался обратно на забор, уселся на нем верхом и закричал:
— Что, взяли? Эх вы, пугалы огородные!
Это была самая обидная для огородных кличка. В Мишу полетел град камней. Он скатился с забора во двор, на лбу его набухала шишка, а камни продолжали лететь, падая возле самого дома, из которого вдруг вышла бабушка. Она близоруко сощурила глаза и, обернувшись к дому, кого-то позвала. Наверно, дядю Сеню…
Миша прижался к забору и крикнул:
— Ребята, стой! Слушай, чего скажу!
— Чего? — ответил кто-то за забором.
— Чур, не бросаться! — Миша влез на забор, с опаской поглядел на ребячьи руки и сказал: — Что вы все на одного? Давайте по-честному — один на один.
— Давай! — закричал Петька Петух, здоровенный парень лет пятнадцати.
Он сбросил с себя рваную кацавейку и воинственно засучил рукава рубашки.
— Уговор, — предупредил Миша, — двое дерутся, третий не мешай.
— Ладно, ладно, слезай!
На крыльце рядом с бабушкой уже стоял дядя Сеня. Миша спрыгнул с забора. Петух тут же подступил к нему. Он почти вдвое больше Миши.
— Это что? — Миша ткнул в железную пряжку Петькиного пояса.
По правилам во время драки никаких металлических предметов на одежде быть не должно. Петух снял ремень. Его широкие, отцовские, брюки чуть не упали. Он подхватил их рукой, кто-то подал ему веревку. Миша в это время расталкивал ребят: «Давай побольше места!..» — и вдруг, отпихнув одного из мальчиков, бросился бежать.
Мальчишки с гиком и свистом кинулись за ним, а сзади всех, чуть не плача от огорчения, бежал Петух, придерживая рукой падающие штаны.
Миша несся во всю прыть. Босые его пятки сверкали на солнце. Он слышал позади себя топот, сопенье и крики преследователей. Вот поворот. Короткий переулок… И он влетел на свою улицу. Ему на выручку сбежались алексеевские, но огородные, не принимая драки, вернулись к себе.
— Ты откуда? — спросил рыжий Генка.
Миша перевел дыхание, оглядел всех и небрежно произнес:
— На Огородной был. Дрался с Петухом по-честному, а как стала моя брать, они все на одного.
— Ты с Петухом дрался? — недоверчиво спросил Генка.
— А то кто? Ты, что ли? Здоровый он парень, во какой фонарь мне подвесил! — Миша потрогал шишку на лбу.
Все с уважением посмотрели на этот синий знак его доблести.
— Я ему тоже всыпал… — продолжал Миша, — запомнит! И рогатку отобрал. — Он вытащил из-за пазухи рогатку с длинными красными резинками: — Эта получше твоей будет.
Потом он спрятал рогатку, презрительно посмотрел на девочек, формочками лепивших из песка фигуры, и насмешливо спросил:
— Ну, а ты что делаешь? В пряточки играешь, в салочки? «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять…»
— Вот еще! — Генка тряхнул рыжими вихрами, но почему-то покраснел и быстро проговорил: — Давай в ножички.
— На пять горячих со смазкой.
— Ладно.
Они уселись на деревянный тротуар и начали по очереди втыкать в землю перочинный ножик: просто, с ладони, броском, через плечо, солдатиком…
Миша первый сделал все десять фигур. Генка протянул ему руку. Миша состроил зверскую физиономию и поднял кверху два послюнявленных пальца. Генке эти секунды кажутся часами, но Миша не ударил. Он опустил руку, сказал: «Смазка просохла», и снова начал слюнявить пальцы. Это повторялось перед каждым ударом, пока Миша не влепил наконец Генке все пять горячих, и Генка, скрывая выступившие на глазах слезы, дул на посиневшую и ноющую руку…
Солнце поднималось все выше и выше. Тени укорачивались и прижимались к палисадникам. Улица лежала полумертвая, едва дыша от неподвижного зноя. Жарко… Надо искупаться…
Мальчики отправились на Десну.
Узкая, в затвердевших колеях дорога вилась полями, уходившими во все стороны зелено-желтыми квадратами. Эти квадраты спускались в ложбины, поднимались на пригорки, постепенно закруглялись, как бы двигаясь вдали по правильной кривой, неся на себе рощи, одинокие овины, ненужные плетни, задумчивые облака.
Пшеница стояла высоко и неподвижно. Мальчики рвали колосья и жевали зерна, ожесточенно сплевывая пристающую к нёбу шелуху. В пшенице что-то шелестело. Испуганные птицы вылетали из-под ребячьих ног.
Вот и река. Приятели разделись на песчаном берегу и бросились в воду, поднимая фонтаны брызг. Они плавали, ныряли, боролись, прыгали с шаткого деревянного моста, потом вылезли на берег и зарылись в горячий песок.
— Скажи, Миша, — спросил Генка, — а в Москве есть река?
— Есть. Москва-река. Я тебе уже тысячу раз говорил.
— Так по городу и течет?
— Так и течет.
— Как же в ней купаются?
— Очень просто: в трусиках. Без трусов тебя к Москве-реке за версту не подпустят. Специально конная милиция смотрит.
Генка недоверчиво ухмыльнулся.
— Чего ты ухмыляешься? — рассердился Миша. — Ты, кроме своего Ревска, не видал ничего, а ухмыляешься!
Он помолчал, потом, глядя на приближающийся к реке табун лошадей, спросил:
— Вот скажи: какая самая маленькая лошадь?
— Жеребенок, — не задумываясь, ответил Генка.
— Вот и не знаешь! Самая маленькая лошадь — пони. Есть английские пони, они — с собаку, а японские пони — вовсе с кошку.
— Врешь!
— Я вру? Если бы ты хоть раз был в цирке, то не спорил бы. Ведь не был? Скажи: не был?.. Ну вот, а споришь!
Генка помолчал, потом сказал:
— Такая лошадь ни к чему: ее ни в кавалерию, никуда…
— При чем тут кавалерия? Думаешь, только на лошадях воюют? Если хочешь знать, так один матрос трех кавалеристов уложит.
— Я про матросов ничего не говорю, — сказал Генка, — а без кавалерии никак нельзя. Вот банда Никитского — все на лошадях.
— Подумаешь, банда Никитского!.. — Миша презрительно скривил губы. — Скоро Полевой поймает этого Никитского.
— Не так-то просто, — возразил Генка, — его уж год всё ловят, никак не поймают.
— Поймают! — убежденно сказал Миша.
— Тебе хорошо говорить, — Генка поднял голову, — а он каждый день крушения устраивает. Отец уж боится на паровозе ездить.
— Ничего, поймают.
Миша зевнул, зарылся глубже в песок и задремал. Генка тоже дремлет. Им лень спорить: жарко. Солнце обжигает степь, и, как бы спасаясь от него, молчаливая степь лениво утягивается за горизонт.
Глава 3
Дела и мечты
Генка ушел домой обедать, а Миша долго бродил по многолюдному и горластому украинскому базару.
На возах зеленели огурцы, краснели помидоры, громоздились решета с ягодами. Пронзительно визжали розовые поросята, хлопали белыми крыльями гуси. Флегматичные волы жевали свою бесконечную жвачку и пускали до земли длинные липкие слюни. Миша ходил по базару и вспоминал кислый московский хлеб и водянистое молоко, вымененное на картофельную шелуху. И Миша скучал по Москве, по ее трамваям и вечерним тусклым огням.
Он остановился перед инвалидом, катавшим на скамейке три шарика: красный, белый и черный. Инвалид накрывал один из них наперстком. Партнер, отгадавший, какого цвета шарик под наперстком, выигрывал. Но никто не мог отгадать, и инвалид говорил одураченным:
— Братцы! Ежли я всем буду проигрывать, то последнюю ногу проиграю. Это понимать надо.
Миша разглядывал шарики, как вдруг чья-то рука опустилась на его плечо. Он обернулся. Сзади стояла бабушка.
— Ты где пропадал целый день? — строго спросила она, не выпуская Мишиного плеча из своих цепких пальцев.
— Купался, — пробормотал Миша.
— «Купался»! — повторила бабушка. — Он купался… Хорошо, мы с тобой дома поговорим.
Она взвалила на него корзину с покупками, и они пошли с базара.
Бабушка шла молча. От нее пахло луком, чесноком, чем-то жареным, вареным, как пахнет на кухне.
«Что они со мной сделают?» — думал Миша, шагая рядом с бабушкой. Конечно, положение его неважное. Против него — бабушка и дядя Сеня. За него — дедушка и Полевой. А если Полевого нет дома? Остается один дедушка. А вдруг дедушка спит? Значит, никого не остается. И тогда бабушка с дядей Сеней разойдутся вовсю. Будут его отчитывать по очереди. Дядя Сеня отчитывает, бабушка отдыхает. Потом отчитывает бабушка, а отдыхает дядя Сеня.
Чего только они не наговорят! Он-де невоспитанный, ничего путного из него не выйдет. Он позор семьи. Он несчастье матери, которую если не свел, то в ближайшие дни сведет в могилу. (А мама вовсе в Москве живет, и он ее уж не видел два месяца.) И удивительно, как это его земля носит… И все в таком роде…
Придя домой, Миша оставил корзинку на кухне и вошел в столовую. Дедушка сидел у окна. Дядя Сеня лежал на диване и, дымя папиросой, рассуждал о политике. Они даже не взглянули на Мишу, когда он вошел. Это нарочно! Мол, такой он ничтожный человек, что на него и смотреть не стоит… Специально, чтобы помучить. Ну и пожалуйста, тем лучше. Пока дядя Сеня соберется, там, глядишь, и Полевой придет. Миша сел на стул и прислушался к их разговору.
Ну, ясно! Дядя Сеня наводит панику. Махно занял несколько городов, Антонов подошел к Тамбову… Подумаешь! В прошлом году дядя Сеня тоже наводил панику: поляки заняли Киев, Врангель прорвался к Донбассу… Ну и что же? Всех их Красная Армия расколошматила. До них были Деникин, Колчак, Юденич и другие белые генералы. Их тоже Красная Армия разбила. И этих разобьет.
С Махно и Антонова дядя Сеня перешел на Никитского.
— Его нельзя назвать бандитом, — говорил дядя Сеня, расстегивая ворот своей студенческой тужурки. — К тому же, говорят, он культурный человек, в прошлом офицер флота. Это своеобразная партизанская война, одинаково законная для обеих сторон…
Никитский — не бандит?.. Миша чуть не задохнулся от возмущения. Он сжигает села, убивает коммунистов, комсомольцев, рабочих. И это не бандит? Противно слушать, что дядя Сеня болтает!..
Наконец пришел Полевой. Теперь всё! Раньше чем завтра с Мишей расправляться не будут.
Полевой снял куртку, ботинки, умылся, и все сели ужинать. Полевой хохотал, называл дедушку папашей, а бабушку — мамашей. Он лукаво подмигивал Мише, именуя его не иначе как Михаилом Григорьевичем. Потом они вышли на улицу и уселись на ступеньках крыльца.
Прохладный вечер опускался на землю. Обрывки девичьих песен доносились издалека. Где-то на огородах неутомимо лаяли собаки.
Дымя махоркой, Полевой рассказывал о дальних плаваниях и матросских бунтах, о крейсерах и подводных лодках, об Иване Поддубном и других знаменитых борцах в черных, красных и зеленых масках — силачах, поднимавших трех лошадей с повозками, по десять человек в каждой.
Миша молчал, пораженный. Черные ряды деревянных домиков робко мигали красноватыми огоньками и трусливо прижимались к молчаливой улице.
И еще Полевой рассказывал о линкоре «Императрица Мария», на котором он плавал во время мировой войны.
Это был огромный корабль, самый мощный броненосец Черноморского флота. Спущенный на воду в июне пятнадцатого года, он в октябре шестнадцатого взорвался на севастопольском рейде, в полумиле от берега.
— Темная история, — говорил Полевой. — Не на мине взорвался и не от торпеды, а сам по себе. Первым грохнул пороховой погреб первой башни, а там тысячи три пудов пороха было. Ну, и пошло… Через час корабль уже был под водой. Из всей команды меньше половины спаслось, да и те погоревшие и искалеченные.
— Кто же его взорвал? — спрашивал Миша.
Полевой говорил, пожимая широкими плечами:
— Разбирались в этом деле много, да все без толку, а тут революция… С царских адмиралов спросить нужно.
— Сергей Иваныч, — неожиданно спросил Миша, — а кто главней: царь или король?
Полевой сплюнул коричневую махорочную слюну:
— Гм!.. Один другого стоит.
— А в других странах есть еще цари?
— Есть кой-где.
«Спросить о кортике? — подумал Миша. — Нет, не надо. Еще подумает, что я нарочно следил за ним…»
Потом все ложились спать. Бабушка обходила дом, закрывала ставни. Предостерегающе звенели железные затворы. В столовой тушили висячую керосиновую лампу. Кружившиеся вокруг нее бабочки и неведомые мошки пропадали в темноте. Миша долго не засыпал…
Луна разматывала свои бледные нити в прорезях ставен, и вот в кухне, за печкой, начинал стрекотать сверчок.
В Москве у них не было сверчка. Да и что стал бы делать сверчок в большой, шумной квартире, где по ночам ходят люди, хлопают дверьми и щелкают электрическими выключателями! Поэтому Миша слышал сверчка только в тихом дедушкином доме, когда он лежал один в темной комнате и мечтал.
Хорошо, если бы Полевой подарил ему кортик! Тогда он не будет безоружным, как сейчас. А времена ведь тревожные — гражданская война. По украинским селам гуляют банды, в городах часто свистят пули. Патрули местной самообороны ходят ночью по улицам. У них ружья без патронов, старые ружья с заржавленными затворами.
Миша мечтал о будущем, когда он станет высоким и сильным, будет носить брюки клёш или, еще лучше, обмотки, шикарные солдатские обмотки защитного цвета.
На нем — винтовка, гранаты, пулеметные ленты и наган на кожаной хрустящей портупее.
У него будет вороной, замечательно пахнущий конь, тонконогий, быстроглазый, с мощным крупом, короткой шеей и скользкой шерстью.
И он, Миша, поймает Никитского и разгонит всю его банду.
Потом он и Полевой отправятся на фронт, будут вместе воевать, и, спасая Полевого, он совершит геройский поступок. И его убьют. Полевой останется один, будет всю жизнь грустить о Мише, но другого такого мальчика он уже не встретит…
Затем кто-то черный и молчаливый тасовал его мысли, и, как карты, они путались и пропадали в темноте…
Миша спал.
Глава 4
Наказание
Это наказание придумал, конечно, дядя Сеня. Кто же больше! И самое обидное — дедушка с ним заодно. За завтраком дедушка посмотрел на Мишу и сказал:
— Набегался вчера? Вот и хорошо. Теперь на неделю хватит. Сегодня придется дома посидеть.
Весь день просидеть дома! Сегодня! В воскресенье! Ребята пойдут в лес, может быть, в лодке поедут на остров, а он… Миша скривил губы и уткнулся в тарелку.
— Чего надулся, как мышь на крупу? — сказала бабушка. — Научился шкодить…
— Хватит, — перебил ее дедушка, вставая из-за стола. — Он свое получил, и хватит.
Миша уныло слонялся по комнатам. Какой, право, скучный дом!
Стены столовой расписаны масляной краской. Потускневшие и местами треснувшие, эти картины изображали пузатое голубое море под огромной белой чайкой; ветвистых оленей меж прямых, как палки, сосен; одноногих цапель; бородатых охотников в болотных сапогах, с ружьями, патронташами, перьями на шляпах и умными собаками, обнюхивавшими землю.
Над диваном — портреты дедушки и бабушки в молодости. У дедушки густые усы, его бритый подбородок упирается в накрахмаленный воротничок с отогнутыми углами. Бабушка — в закрытом черном платье, с медальоном на длинной цепочке. Ее высокая прическа доходит до самой рамы.
Миша вышел во двор. Два дровокола пилили там дрова. Пила весело звенела: «Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь», и земля вокруг козел быстро покрывалась желтой пеленой опилок.
Миша уселся на бревно возле будки и разглядывал дровоколов. Старшему на вид лет сорок. Он среднего роста, плотный, чернявый, с прилипшими к потному лбу курчавыми волосами. Второй — молодой белобрысый парень с веснушчатым лицом и выгоревшими бровями, весь какой-то рыхлый и нескладный.
Стараясь не привлекать внимания пильщиков, Миша засунул руку под будку и нащупал сверток. Вытащить? Он искоса посмотрел на пильщиков. Они прервали работу и сидели на поленьях. Старший свернул козью ножку, ловко вращая ее вокруг пальца, и, насыпав с ладони табак, закурил. Молодой задремал, потом открыл глаза и, зевая, проговорил:
— Спать охота!
— Спать захочешь — на бороне уснешь, — ответил старший.
Они замолчали. Во дворе стало тихо. Только куры, выбивая мелкую дробь в деревянной лоханке, пили воду, смешно закидывая вверх свои маленькие, с красными гребешками головки.
Дровоколы поднялись и начали колоть дрова. Миша незаметно вытащил сверток, развернул его. Рассматривая клинок, он увидел на одной его грани едва заметное изображение волка.
Миша повернул клинок. На второй грани был изображен скорпион и на третьей — лилия.
Волк, скорпион и лилия. Что это значит?
Около Миши вдруг упало полено. Он испуганно прижал кортик к груди и прикрыл его рукой.
— Отойди, малыш, а то зашибет, — сказал чернявый.
— Малышей здесь нет! — ответил Миша.
— Ишь ты, шустрый! — рассмеялся чернявый. — Ты кто? Комиссаров сынок?
— Какого комиссара?
— Полевого, — сказал чернявый и почему-то оглянулся на дом.
— Нет. Он живет у нас.
— Дома он? — Чернявый опустил топор и внимательно посмотрел на Мишу.
— Нет. Он к обеду приходит. Он вам нужен?
— Да нет. Мы так…
Дровоколы кончили работу. Бабушка вынесла им на тарелке хлеб, сало и водку. Они выпили. Белобрысый — молча, а чернявый со словами: «Ну, господи благослови». Он потом долго морщился, нюхал хлеб и в заключение крякнул: «Эх, хороша!» — и почему-то подмигнул Мише. Они не спеша закусывали, отрезая сало аккуратными ломтиками, обгрызая и высасывая шкурку. Потом выпили по ковшу воды и ушли.
Но бабушка не уходила. Она установила на треножнике большой медный таз с длинной деревянной ручкой, наложила под ним щепок и огородила от ветра кирпичами. Сейчас она будет варить варенье и уже не уйдет со двора. Как быть с кортиком? Миша встал и, пряча кортик в рукаве, пошел к дому.
Когда он проходил мимо бабушки, она проворчала:
— Не шуми: дедушка спит.
— Я тихо, — ответил Миша.
Он вошел в зал и спрятал кортик под валиком своего дивана. Как только бабушка уйдет со двора, он положит его обратно под будку. В крайнем случае — вечером, когда стемнеет.
В доме тишина. Только тикают большие стенные часы да жужжит муха на окне. Ну, чем заняться?
Миша подошел к комнате дяди Сени и прислушался. За дверью раздавались покашливание и шелест бумаги. Миша открыл дверь и, войдя в комнату, спросил:
— Дядя Сеня, почему моряки носят кортики?
Дядя Сеня лежал на узкой смятой койке и читал. Он посмотрел на Мишу поверх пенсне и недоуменно ответил:
— Какие моряки? Какие кортики?
— Как это «какие»? Ведь только моряки носят кортики. Почему? — Миша уселся на стуле с твердым намерением не сходить до самого обеда.
— Не знаю, — нетерпеливо ответил дядя Сеня. — Форма такая. Всё у тебя?
Этот вопрос означал, что Мише надо убираться вон, и он просительно сказал:
— Разрешите я немного посижу. Я буду тихо-тихо.
— Только не мешай мне. — Дядя Сеня снова углубился в книгу.
Миша сидел, подложив под себя ладони. Маленькая комната у дяди Сени: кровать, книжный шкаф, на письменном столе чернильница в виде пистолета. Если нажать курок, она открывается. Хорошо иметь такую чернильницу! Вот бы ребята в школе позавидовали!
На стенах комнаты развешаны картины и портреты. Вот Некрасов. На школьных вечерах Шурка Большой всегда декламирует Некрасова. Выйдет на сцену и говорит: «Кому на Руси жить хорошо». Сочинение Некрасова». Как будто без него не знают, что это сочинил Некрасов. Ох, и задавала же этот Шурка!
Рядом с портретом Некрасова — картина «Не ждали». Каторжник неожиданно приходит домой. Все ошеломлены. Девочка, его дочь, удивленно повернула голову. Она, наверно, забыла своего отца. Вот его, Мишин, отец уже не вернется. Он погиб на царской каторге, и Миша его не помнит.
Сколько книг у дяди Сени! В шкафу, на шкафу, под кроватью, на столе… А почитать ничего не даст. Как будто Миша не умеет обращаться с книгами. У него в Москве своя библиотека есть. Один «Мир приключений» чего стоит!
Дядя Сеня продолжал читать, не обращая на Мишу никакого внимания. Когда Миша выходил из комнаты, дядя даже не посмотрел на него.
Какая скука! Хоть бы обед поскорей или варенье поспело бы! Уж пенки-то, наверно, ему достанутся… Миша подошел к окну. Большая зеленая муха с серыми крылышками то затихала, ползая по стеклу, то с громким жужжаньем билась об него. Вот что! Нужно потренировать свою волю: он будет смотреть на муху и заставит себя не трогать ее.
Миша некоторое время следил за мухой. Вот разжужжалась! Так она, пожалуй, дедушку разбудит. Нет! Он заставит себя поймать муху, но не убьет ее, а выпустит на улицу.
Поймать муху на стекле проще простого. Раз! — и она уже у него в кулаке. Он осторожно разжал кулак и вытащил муху за крылышко. Она билась, пытаясь вырваться. Нет, не уйдешь!
Миша открыл окно и задумался. Жалко выпускать муху. Только зря ловил ее. И вообще мухи распространяют заразу… Он размышлял о том, заставить ли себя выпустить муху или, наоборот, заставить себя убить ее, как вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Он поднял голову. Против окна стоял Генка и ухмылялся:
— Здорово, Миша!
— Здравствуй, — настороженно ответил Миша.
— Много ты мух сегодня наловил?
— Сколько надо, столько и наловил.
— Почему на улицу не идешь?
— Не хочу.
— Врешь: не пускают.
— Много ты знаешь! Захочу — и выйду.
— Ну, захоти, захоти!
— А я не хочу захотеть.
— Не хочешь! — Генка рассмеялся. — Скажи: не можешь.
— Не могу?
— Не можешь!
— Ах так! — Миша влез на подоконник, соскочил на улицу и очутился рядом с Генкой. — Что, съел?
Но Генка не успел ничего ответить. В окне появилась бабушка и крикнула:
— Миша, домой сейчас же!
— Бежим! — прошептал Миша.
Они помчались по улице, юркнули в проходной двор, забрались в Генкин сад и спрятались в шалаше.
Глава 5
Шалаш
Генкин шалаш устроен из досок, веток и листьев, меж трех деревьев, на высоте полутора-двух саженей. Он незаметен снизу, но из него виден весь Ревск, вокзал, Десна и дорога, ведущая на деревню Носовку. В нем прохладно, пахнет сосной и листва чуть дрожит под уходящими лучами июльского солнца.
— Как ты теперь домой пойдешь? — спросил Генка. — Ведь попадет тебе от бабушки.
— Я домой вовсе не пойду, — объявил Миша.
— Как так?
— Очень просто. Зачем мне? Завтра Полевой пойдет с отрядом банду Никитского ликвидировать и меня возьмет. Нужно обязательно банду ликвидировать.
Генка расхохотался:
— Кем же ты будешь в отряде? Отставной козы барабанщиком?
— Смейся, смейся, — невозмутимо ответил Миша. — Меня Полевой разведчиком берет. На войне все разведчики — мальчики. Мне Полевой велел еще ребят подобрать, но… — он с сожалением посмотрел на Генку, — нет у нас подходящих. — Миша вздохнул. — Придется уж, видно, одному…
Генка просительно заглянул ему в глаза.
— Ну ладно, — снисходительно произнес Миша, — притащи мне чего-нибудь поесть, и мы подумаем. Только смотри никому ни слова, это большой секрет.
— Ура! — закричал Генка. — Даешь разведку!
— Ну вот, — рассердился Миша, — ты уже орешь, разглашаешь тайну! Не возьму я тебя.
— Не буду, не буду! — зашептал Генка, сполз с дерева и исчез в саду.
В ожидании Генки Миша растянулся на дощатом полу шалаша и уткнул подбородок в кулаки. Что теперь делать? Не ночевать же на улице… А возвращаться стыдно. Перед дедушкой стыдно. Он вспомнил о кортике… Еще, пожалуй, кто-нибудь наткнется на него. Вот будет история!
Миша сквозь листву глядел в сад. Он усажен низкорослыми яблонями, ветвистыми грушами, кустами малины, крыжовника. Почему на разных деревьях растут разные плоды? Ведь все это растет рядом, на одной земле.
На Мишиной руке появилась божья коровка, кругленькая, с твердым красным тельцем и черной точкой головы. Миша осторожно снял ее, положил на ладонь и произнес: «Божья коровка, улети на небо, принеси нам хлеба», и она раскрыла тонкие крылышки и улетела.
Жужжит оса. Она делает круги над Мишей и, смолкнув, садится ему на ногу. Ужалит или нет? Если не шевелиться, то не ужалит. Миша лежит неподвижно. Оса некоторое время ползет по его ноге и с жужжаньем улетает.
Незаметный, но огромный живой мир копошится кругом.
Муравей тащит хвоинку, и рядом с ним движется маленькая угловатая тень. Вон скачет по траве кузнечик на длинных, согнутых, точно сломанных посередине, ножках.
На садовой дорожке как-то неуклюже, боком, прыгает воробей. А за ним полусонными, жмурящимися, но внимательными глазами наблюдает кот, дремлющий на ступеньках беседки. И ветер, пробегая, колышет запах травы, аромат цветов, благоухание яблонь. Приятная истома охватывает Мишу. Он дремлет и забывает о неприятностях сегодняшнего дня…
В шалаш, запыхавшись, вскарабкался Генка. У него за пазухой большой кусок теплой, еще не доваренной говядины.
— Вот, гляди, — зашептал он, — прямо из кастрюли вытащил. Там суп варился.
— С ума сошел! — ужаснулся Миша. — Ты же всех без обеда оставил.
— Ну и что ж! — Генка молодецки тряхнул головой. — Я ведь в разведчики ухожу. Пусть варят другую говядину… — Он самодовольно захихикал.
Миша жевал мясо, разрывая его зубами и руками. Ну и шляпа Генка! Влетит ему от отца. Папаша у него сердитый — высокий, худой машинист с седыми усами. И мама у него не родная, а мачеха.
— Знаешь новость? — спросил Генка.
— Какую?
— Так я тебе и сказал!
— Дело твое. Только какой же из тебя разведчик? Там ты тоже будешь все от меня скрывать?
Угроза, скрытая в Мишиных словах, подействовала на Генку. Теперь, после похищения мяса из кастрюли, у него одна дорога — в разведчики. Значит, надо подчиняться. И Генка сказал:
— Сейчас у нас был один мужик из Носовки, так он говорит, что банда Никитского совсем близко.
— Ну и что же? — яростно разжевывая мясо, спросил Миша.
— Как — что? Они могут напасть на Ревск.
Миша расхохотался:
— И ты поверил? Эх ты, а еще разведчик!
— А что? — смутился Генка.
— Никитский теперь возле Чернигова. На нас он никак не может напасть, потому что у нас гарнизон. Понятно? Гар-ни-зон…
— Что такое гарнизон?
— Гарнизон не знаешь? Это… как бы тебе сказать… это…
— Тише! Слышишь? — прошептал вдруг Генка.
Миша перестал жевать и прислушался. Где-то за домами раздались выстрелы и потонули в синем куполе неба. Завыл на станции гудок. Торопясь и захлебываясь, затараторил пулемет.
Мальчики испуганно притаились, потом раздвинули листву и выглянули из шалаша.
Дорога на Носовку была покрыта облаками пыли, на станции шла стрельба, и через несколько минут по опустевшей улице с гиком и нагаечным свистом пронеслись всадники в барашковых шапках с красным верхом. В город ворвались белые.
Глава 6
Налет
Миша спрятался у Генки, а когда выстрелы прекратились, выглянул на улицу и побежал домой, прижимаясь к палисадникам. На крыльце он увидел дедушку, растерянного, бледного. Возле дома храпели взмыленные лошади под казацкими седлами.
Миша вбежал в дом и замер в дверях.
В столовой шла отчаянная борьба между Полевым и бандитами. Человек шесть повисло на нем. Полевой яростно отбивался, но они повалили его, и живой клубок тел катался по полу, опрокидывая мебель, волоча за собой скатерти, половики, сорванные занавески.
И еще один белогвардеец, видимо главный, стоял у окна. Он был неподвижен, только взгляд его неотрывно следил за Полевым.
Миша забился в кучу висевшего на вешалке платья. Сердце его колотилось. Сейчас произойдет то, что виделось Мише в захлестывавших его мечтах: Полевой встанет, двинет плечами и один разбросает всех.
Но Полевой не вставал. Все слабее становились его бешеные усилия сбросить с себя бандитов. Наконец его подняли и, продолжая выкручивать назад руки, подвели к стоявшему у окна белогвардейцу. Полевой тяжело дышал. Кровь запеклась в его русых волосах. Он стоял босиком, в тельняшке. Его, видно, захватили спящим. Бандиты были вооружены короткими винтовками, наганами, шашками; их кованые сапоги гремели по полу.
Белогвардеец не сводил с Полевого немигающего взгляда. Черный чуб свисал у него из-под заломленной папахи на серые колючие глаза и пунцово-красный шрам на правой щеке. В комнате стало тихо, только слышалось тяжелое дыхание людей и равнодушное тиканье часов.
— Кортик! — произнес вдруг белогвардеец резким, глухим голосом. — Кортик! — повторил он, и глаза его, уставившиеся на Полевого, округлились.
Полевой молчал. Он тяжело дышал и медленно поводил плечами. Белогвардеец шагнул к нему, поднял нагайку и наотмашь ударил Полевого по лицу. Миша вздрогнул и зажмурил глаза.
— Забыл Никитского? Я тебе напомню! — крикнул белогвардеец.
Так вот он какой, Никитский! Вот от кого прятал кортик Полевой!
— Слушай, Полевой, — неожиданно спокойно сказал Никитский, — никуда ты не денешься. Отдай кортик и убирайся на все четыре стороны. Нет — повешу!
Полевой молчал.
— Хорошо, — сказал Никитский. — Значит, так? — Он кивнул двум бандитам.
Те вошли в комнату Полевого. Миша узнал их: это были дровоколы, которых он видел утром. Они всё переворачивали, бросали на пол, прикладами разбили дверцу шкафа, ножами протыкали подушки, выгребали золу из печей, отрывали плинтусы. Сейчас они войдут в Мишину комнату.
Преодолев оцепенение, Миша выбрался из своего убежища и проскользнул в зал.
Уже наступил вечер. В темноте на потертом плюше дивана, под валиком, Миша нащупал холодную сталь кортика. Он вытащил его и спрятал в рукав. Конец рукава вместе с рукояткой кортика он зажал в кулаке…
Обыск продолжался. Полевой все стоял, наклонившись вперед, с выкрученными назад руками. Вдруг на улице раздался конский топот. На крыльце послышались чьи-то быстрые шаги. В дом вошел еще один белогвардеец. Он подошел к Никитскому и что-то тихо сказал ему.
Никитский секунду стоял неподвижно, потом нагайка его взметнулась:
— На коней!
Полевого потащили к сеням. Оттуда был выход как на улицу, так и во двор. И вот, когда Полевой переступал порог, Миша нащупал его руку и разжал кулак.
Рукоятка коснулась ладони Полевого. Он притянул кортик к себе и, сделав уже в сенях шаг вперед, вдруг взмахнул рукой и ударил кортиком переднего конвоира в шею. Миша бросился под ноги второму, он упал на Мишу, и Полевой прыгнул из сеней в темную ночь двора.
Но Миша не видел, скрылся Полевой или нет. Страшный удар рукояткой нагана обрушился на него, и он мешком упал в угол, под висевший на вешалке брезентовый дождевик.
Глава 7
Мама
Миша лежал на кровати забинтованный, тихий, прислушиваясь к отдаленным звукам улицы, доходившим в комнату сквозь чуть колеблющиеся занавески.
Идут люди. Слышны их шаги по деревянному тротуару и звучная украинская речь…
Скрипит телега…
Мальчик катит колесо, подгоняя его палочкой. Колесо катится тихо, лишь постукивает на стыке…
Миша слышал все это сквозь какой-то туман, и звуки эти мешались с короткими, быстро забываемыми снами. Полевой… Белогвардейцы… Ночная темнота, скрывшая Полевого… Никитский… Кортик… Кровь на лице Полевого и на его, Мишином, лице… Теплая, липкая кровь…
Дедушка рассказал ему, как было дело. Отряд железнодорожников окружил поселок, и не всем бандитам удалось умчаться на своих быстрых конях. Но Никитский улизнул. Полевого в перестрелке ранили. Он лежит теперь в станционной больнице.
Дедушка потрепал Мишу по голове и сказал:
— Эх ты, герой!
А какой он герой? Вот если бы он перестрелял бандитов и Никитского взял в плен, тогда другое дело.
Интересно, как встретит его Полевой. Наверно, хлопнет по плечу и скажет: «Ну, Михаил Григорьевич, как дела?» Может быть, он подарит ему револьвер с портупеей, и они оба пойдут по улице, вооруженные и забинтованные, как настоящие солдаты. Пусть ребята посмотрят! Теперь он и Петуха не испугается.
В комнату вошла мама. Она недавно приехала из Москвы, вызванная телеграммой. Она оправила постель, убрала со стола тарелку, хлеб, смахнула крошки.
— Мама, — спросил Миша, — кино у нас в доме работает?
— Работает.
— Какая картина идет?
— Не помню. Лежи спокойно.
— Я лежу спокойно. Звонок у нас починили?
— Нет. Приедешь — починишь.
— Конечно, починю. Ты кого из ребят видела? Славку видела?
— Видела.
— А Шурку Большого?
— Видела, видела… Молчи, я тебе говорю!
Эх, жалко, что он поедет в Москву без бинтов! Вот бы ребята позавидовали! А если не снимать бинтов? Так забинтованному и ехать. Вот красота! И умываться бы не пришлось…
Мама сидела у окна и что-то шила.
— Мама, — спросил Миша, — сколько я буду еще лежать?
— Пока не выздоровеешь.
— Я себя чувствую совсем хорошо. Выпусти меня на улицу.
— Вот еще новости! Лежи и не разговаривай.
«Жалко ей, — мрачно думал Миша. — Лежи тут! Вот возьму и убегу». Он представлял себе, как мама войдет в комнату, а его уже нет. Она будет плакать, убиваться, но ничто не поможет, и она никогда уже его не увидит.
Миша искоса поглядел на мать. Она все шила, опустив голову, изредка откусывая нитку.
Тяжело ей придется без него! Она останется совсем одна. Придет со службы домой, а дома никого нет. В комнате пусто, темно. Весь вечер она будет сидеть и думать о Мише. Жалко ее все-таки…
Она такая худенькая, молчаливая, с серыми лучистыми глазами, такая неутомимая и работящая. Она поздно приходит с фабрики домой. Готовит обед. Убирает комнату. Стирает Мише рубашки, штопает чулки, помогает ему готовить уроки, а он ленится наколоть дров, сходить в очередь за хлебом или разогреть обед.
Милая, славная мамочка! Как часто он огорчал ее, не слушался, плохо вел себя в школе! Маму вызывали туда, и она упрашивала директора простить Мишу. Сколько он перепортил вещей, истрепал книг, порвал одежды! Все это ложилось на худенькие мамины плечи. Она терпеливо работала, штопала, шила, а он стыдился ходить с ней по улице, «как маленький». Он никогда не целовал мать — ведь это «телячьи нежности». Вот и сегодня он придумывал, какое горе причинить ей, а она все бросила, целую неделю моталась по теплушкам, тащила на себе нужные ему вещи и теперь не отходит от его постели…
Миша прикрыл глаза. В комнате почти совсем темно. Только маленький уголок, там, где сидит мама, освещен золотистым светом догорающего дня. Мама шьет, наклонив голову, и тихо поет:
Как дело измены, как совесть тирана, Осенняя ночка темна. Темней этой ночи встает из тумана Видением мрачным тюрьма.И это протяжное, тоскливое, как стон, «слу-у-шай…».
Это поет узник, молодой, с прекрасным лицом. Он держится руками за решетку и смотрит на сияющий и недоступный мир.
Мама все поет и поет. Миша открыл глаза. Теперь смутно видно в темноте ее бледное лицо. Песня сменяет песню, и все они заунывные и печальные.
Миша вдруг разрыдался. И когда мама наклонилась к нему: «Мишенька, родной, что с тобой?» — он охватил ее шею, притянул к себе и, уткнув лицо в теплую, знакомо пахнущую кофточку, прошептал:
— Мамочка, дорогая, я так тебя люблю!..
Глава 8
Посетители
Миша быстро поправлялся. Часть бинтов уже сняли, и только на голове еще белела повязка. Он ненадолго вставал, сидел на кровати, и наконец к нему впустили друга-приятеля Генку. Генка вошел в комнату и робко остановился в дверях. Миша головы не повернул, только скосил глаза и слабым голосом произнес:
— Садись.
Генка осторожно сел на краешек стула. Открыв рот, выпучив глаза и тщетно пытаясь спрятать под стул свои довольно-таки грязные ноги, он уставился на Мишу.
Миша лежал на спине, устремив глаза в потолок. Лицо его выражало страдание. Изредка он касался рукой повязки на голове — не потому, что голова болела, а чтобы Генка обратил должное внимание на его бинты.
Наконец Генка набрался храбрости и спросил:
— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо, — тихо ответил Миша, но глубоким вздохом показал, что на самом деле ему очень нехорошо, но он геройски переносит эти страшные муки.
Потом Генка спросил:
— В Москву уезжаешь?
— Да, — ответил Миша и опять вздохнул.
— Говорят, с эшелоном Полевого, — сказал Генка.
— Ну? — Миша сразу поднялся и сел на кровати. — Откуда ты знаешь?
— Слыхал.
Они помолчали, потом Миша посмотрел на Генку и спросил:
— Ну, ты как, решил?
— Чего?
— Поедешь в Москву?
Генка сердито мотнул головой:
— Чего ты спрашиваешь? Ведь знаешь, что отец не пускает.
— Но ведь тетка твоя, Агриппина Тихоновна, сколько раз тебя звала. Вот и сейчас с мамой письмо прислала. Поедем, будешь с нами в одном доме жить.
— Говорю тебе, отец не пускает. — Генка вздохнул. — И тетя Нюра тоже…
— Тетя Нюра тебе не родная.
— Она хорошая, — мотнул головой Генка.
— Агриппина Тихоновна еще лучше.
— Как же я поеду?
— Очень просто: в ящике под вагоном. Ты туда спрячешься, а как отъедем от Ревска, выйдешь и поедешь с нами.
— А если отец поведет поезд?
— Вылезешь в Бахмаче, когда паровоз сменят.
— Что я в Москве буду делать?
— Что хочешь! Хочешь — учись, хочешь — поступай на завод токарем.
— Как это — токарем? Я ведь не умею.
— Токарем не умеешь? Ерунда, научишься… Подумай. Я тебе серьезно говорю.
— Про разведчиков ты тоже серьезно говорил, а мне за мясо так попало, что я до сих пор помню.
— Разве я виноват, что Никитский напал на Ревск? А то обязательно пошли бы в разведку. Мы, как в Москву приедем, запишемся в добровольцы и поедем на фронт белых бить. Поедешь?
— Куда? — насторожился Генка.
— Сначала в Москву, а потом на фронт — белых бить.
— Если белых бить, то, пожалуй, можно, — уклончиво ответил Генка.
Генка ушел. Миша лежал один и думал о Полевом. Почему он не приходит? Что особенного в этом кортике? Для чего-то на рукоятке бронзовая змейка, на клинке значки: волк, скорпион и лилия. Что это все значит?
Его размышления прервал дядя Сеня. Он вошел в комнату, снял пенсне. Глазки у него без пенсне маленькие, красные, как бы испуганные. Потом он водрузил пенсне на нос и спросил:
— Как ты себя чувствуешь, Михаил?
— Хорошо. Я уже вставать могу.
— Нет, нет, ты, пожалуйста, лежи, — забеспокоился дядя Сеня, когда Миша попытался подняться, — пожалуйста, лежи! — Он неловко постоял, затем прошелся по комнате, снова остановился. — Михаил, я хочу с тобой поговорить, — сказал он.
«Неужели о камере?» — подумал Миша.
— Я надеюсь, что ты, как достаточно взрослый человек… гм… так сказать… способен меня понять и сделать из моих слов полезные выводы.
«Ну, началось!»
— Так вот, — продолжал дядя Сеня, — последний случай, имевший для тебя столь печальные последствия, я рассматриваю не как шалость, а как… преждевременное вступление в политическую борьбу.
— Чего-чего? — Миша удивленно уставился на дядю Сеню.
— Не понимаешь? Разъясню. На твоих глазах происходит акт политической борьбы, а ты, человек молодой, еще не оформившийся, принял участие в этом акте. И напрасно.
— Как это так? — изумился Миша. — Бандиты будут убивать Полевого, а я должен молчать? Так, по-вашему?
— Как благородный человек, ты должен, конечно, защищать всякого пострадавшего, но это в том случае, если, допустим, Полевой идет и на него напали грабители. Тогда — другое дело. Но ведь в данном случае этого нет. Происходит борьба между красными и белыми, и ты еще слишком мал, чтобы вмешиваться в политику. Твое дело — сторона.
— Как это — сторона? — заволновался Миша. — Я ж за красных.
— Я не агитирую ни за красных, ни за белых. Но считаю своим долгом предостеречь тебя от участия в политике.
— Значит, по-вашему, пусть царствуют буржуи? — Миша лег на спину и натянул одеяло до самого подбородка. — Нет! Как хотите, дядя Сеня, а я не согласен.
— Твоего согласия никто не спрашивает, — рассердился дядя Сеня, — ты слушай, что говорят старшие!
— Вот я и слушаю. Полевой ведь старший. Мой папа тоже был старший. И Ленин старший. Они все против буржуев. И я тоже против.
— С тобой невозможно разговаривать! — сказал дядя Сеня и вышел из комнаты.
Глава 9
Линкор «Императрица Мария»
В Ревске становилось все тревожней, и мама торопилась с отъездом.
Миша уже вставал, но на улицу его не пускали. Только разрешили сидеть у окна и смотреть на играющих ребят.
Все относились к нему с уважением. Даже с Огородной улицы пришел Петька Петух. Он подарил Мише тросточку с вырезанными на ней спиралями, ромбами, квадратами и на прощанье сказал:
— Ты пожалуйста, Миша, ходи по нашей улице сколько угодно. Ты не бойся: мы тебя не тронем.
А Полевой все не приходил. Как хорошо было раньше сидеть с ним на крыльце и слушать удивительные истории про моря, океаны, бескрайный движущийся мир… Может быть, ему самому сходить в больницу? Попросить доктора, и его пропустят…
Но Мише не пришлось идти в больницу: Полевой пришел сам. Еще издали, с улицы, донесся его веселый голос. Мишино сердце замерло. Полевой вошел, одетый в военную форму и сапоги. Он принес с собой солнечную свежесть улицы, ароматы голубого лета, лукавую бесшабашность бывалого солдата. Он сел на стул рядом с Мишиной кроватью. Стул под ним жалобно заскрипел, качнулся, но устоял на месте.
И они оба, Полевой и Миша, смотрели друг на друга и улыбались. Потом Полевой хлопнул рукой по одеялу, весело сощурил глаза и сказал:
— Здорово, Михаил Григорьевич! Как они, пироги-то, хороши?
Миша только счастливо улыбался.
— Скоро встанешь? — спросил Полевой.
— Завтра уже на улицу.
— Вот и хорошо. — Полевой помолчал, потом рассмеялся: — Ловко ты второго-то сбил! Здорово! Молодец! В долгу я перед тобою. Вот приду с фронта — буду рассчитываться.
— С фронта? — Мишин голос задрожал. — Дядя Сережа… только вы на меня не сердитесь… Возьмите меня с собой. Я вас очень прошу, пожалуйста, возьмите.
— Ну что ж, — Полевой насупил брови, как бы обдумывая Мишину просьбу, — можно… Поедете с моим эшелоном до Бахмача, а с Бахмача я вас в Москву отправлю. Понял? — Он рассмеялся.
— Ну вот, до Бахмача! — разочарованно протянул Миша. — Только дразнитесь.
— Ты не обижайся, — Полевой похлопал по одеялу, — не обижайся. Навоюешься еще, успеешь. Скажи лучше: как к тебе кортик попал?
Миша покраснел.
— Не бойся, — засмеялся Полевой, — рассказывай.
— Я случайно его увидел, честное слово, — смущенно забормотал Миша, — совершенно случайно. Вынул посмотреть, а тут бабушка! Я его спрятал в диван, а обратно положить не успел. Ведь я не нарочно.
— Никому про кортик не рассказывал?
— Никому, вот ей-богу!
— Верю, верю, — успокоил его Полевой.
Миша осмелел:
— Дядя Сережа, скажите, почему Никитский ищет этот кортик?
Полевой не отвечал. Он сидел, как-то странно ссутулясь и глядя на пол. Потом, точно очнувшись, глубоко вздохнул и спросил:
— Помнишь, я тебе про линкор «Императрица Мария» рассказывал?
— Помню.
— Так вот. Никитский служил там же, на линкоре, мичманом. Негодяй был, конечно, первой статьи, но это к делу не относится. Перед тем как тому взрыву произойти… минуты так за три, Никитский застрелил одного офицера. Я один это видел. Больше никто. Офицер этот только к нам прибыл, я и фамилии его не знаю… Я как раз находился возле его каюты. Зачем находился, про это долго рассказывать — у меня с Никитским свои счеты были. Стою, значит, возле каюты, слышу — спорят. Никитский того офицера Владимиром называет… Вдруг бац — выстрел!.. Я в каюту. Офицер на полу лежит, а Никитский кортик этот самый из чемодана вытаскивает. Увидел меня — выстрелил… Мимо. Он — за кортик. Сцепились мы. Вдруг — трах! — взрыв, за ним другой, и пошло… Очнулся я на палубе. Кругом — дымище, грохот, все рушится, а в руках держу кортик. Ножны, значит, у Никитского остались. И сам он пропал.
Полевой помолчал, потом продолжал:
— Провалялся я в госпитале, а тут революция, гражданская война. Смотрю — объявился Никитский главарем банды. Ну, вот и встретились мы. Услышал, видно, по Ревску мою фамилию и пронюхал, что это я. И налетел — старые счеты свести. На такой риск пошел. Видно, кортик ему и теперь зачем-то нужен. Только не получить ему: что врагу на пользу, то нам во вред. А кончится война, разберемся, что к чему.
Полевой опять помолчал и задумчиво, как бы самому себе, произнес:
— Есть человек один, здешний, ревский, у Никитского в денщиках служил. Думал, найду я его здесь… да нет… скрылся. — Полевой встал. — Заговорился я с тобой! Мамаше передай, чтобы собиралась. Дня через два выступим. Ну, прощевай!
Он подержал маленькую Мишину руку в своей большой, подмигнул ему и ушел.
Глава 10
Отъезд
Эшелон уже стоял на станции, и Миша с Генкой бегали его смотреть.
Красноармейцы строили в теплушках нары, в вагонах — стойла для лошадей, а под классным вагоном ребята высмотрели большой железный ящик.
— Смотри, Генка, как удобно, — говорил Миша, залезая в ящик. — Тут и спать можно, и что хочешь. Чего ты боишься? Всего одну ночь тебе в нем лежать. А там, пожалуйста, переходи в вагон, а я поеду в ящике.
— Тебе хорошо говорить, а как я сестренку оставлю? — хныкал Генка.
— Подумаешь, сестренку! Ей всего три года, твоей сестренке. Она и не заметит. Зато в Москву попадешь! — Миша соблазнительно причмокнул губами. — Я тебя с ребятами познакомлю. Знаешь у нас какие ребята! Славка на пианино что хочешь играет, даже в ноты не смотрит. Шурка Огуреев — артист, бороду прилепит, его и не узнаешь. В доме у нас кино, арбатский «Арс». Шикарное кино! Все картины не меньше чем в трех сериях… А не хочешь, оставайся. И цирка не увидишь, и вообще ничего. Пожалуйста, оставайся.
— Ладно, — решился Генка, — поеду.
— Вот и хорошо! — обрадовался Миша. — Из Бахмача напишешь отцу письмо. Так, мол, и так. Уехал в Москву, к тете Агриппине Тихоновне. Прошу не беспокоиться. И все в порядке.
Они пошли вдоль эшелона. На одном вагоне мелом написано: «Штаб». К стенам вагона прибиты плакаты. Миша принялся объяснять Генке, что на них нарисовано.
— Вот царь, — говорил он, — видишь: корона, мантия и нос красный. Этот, в белой рубахе, с нагайкой, — урядник. В очках и соломенной шляпе — меньшевик. А вот эта змея с тремя головами — это Деникин, Колчак и Юденич.
— А это кто? — Генка ткнул пальцем в плакат.
На нем был изображен буржуй в черном цилиндре, с отвисшим животом и хищным, крючковатым носом. Буржуй сидел на мешке с золотом. С его толстых пальцев с длинными ногтями стекала кровь.
— Это буржуй, — ответил Миша, — не видишь, что ли? На деньгах сидит. Думает, всех за деньги можно купить.
— А почему написано «Антанта»?
— Это все равно. Антанта — это союз всех буржуев мирового капитала против советской власти. Понял?
— Понял… — довольно неопределенно протянул Генка. — А почему здесь «Интернационал» написано? — Он показал на прибитый к вагону большой фанерный щит.
На щите был нарисован земной шар, опутанный цепями, и мускулистый рабочий разбивал эти цепи тяжелым молотом.
— Это Интернационал — союз всех рабочих мирового пролетариата, — ответил Миша. — Рабочий, — он показал на рисунок, — это и есть Интернационал. А цепи — Антанта. И когда цепи будут разбиты, то во всем мире будет власть рабочих и никаких буржуев больше не будет.
Наконец наступил день отъезда.
Вещи погрузили на телегу. Мама прощалась с дедушкой и бабушкой. Они стояли на крыльце, маленькие, старенькие. Дедушка — в своем потертом сюртуке, бабушка — в засаленном капоте. Она утирала слезы и плаксиво морщила лицо. Дедушка нюхал табак, улыбался влажными глазами и все время бормотал:
— Все будет хорошо… Все будет хорошо.
Миша взгромоздился на чемодан. Телега тронулась. Она громыхала по неровной мостовой, подскакивая, наклоняясь то в одну, то в другую сторону.
Когда телега свернула с Алексеевской улицы на Привокзальную, Миша оглянулся и в последний раз увидел маленький деревянный домик с зелеными ставнями и тремя вербами за оградой палисадника. Из-под его разбитой штукатурки торчали куски дранки и клочья пакли, а в середине, меж двух окон, висела круглая ржавая жестянка с надписью: «Страховое общество «Феникс». 1872 год».
Глава 11
В эшелоне
Прижавшись лицом к стеклу, Миша смотрел в черную ночь, усеянную светлыми точками звезд и станционных огней.
Протяжные гудки и пыхтенье паровозов, лязг прицепляемых вагонов, торопливые шаги и крики кондукторов и смазчиков, сновавших вдоль поезда с болтающимися светляками ручных фонарей, волновали эту ночь и наполняли ее тревогой, неведомой и тоскливой.
Миша не отрываясь смотрел в окно, и чем больше прижимался он к стеклу, тем ясней вырисовывались предметы в темноте.
Поезд дернулся назад, лязгнул буферами и остановился. Потом он снова дернулся, на этот раз вперед, и, не останавливаясь, пошел, громыхая на стрелках и набирая скорость. Вот уже остались позади станционные огни. Луна вышла из-за распушенной ваты облаков. Серой лентой проносились неподвижные деревья, будки, пустые платформы… Прощай, Ревск!
Когда на следующий день, рано утром, Миша проснулся, поезд не двигался. Миша вышел из вагона и подошел к ящику.
Эшелон стоял на какой-то станции, на запасном пути, без паровоза. Безлюдно. Только дремал в тамбуре часовой да стучали копытами лошади в вагонах. Миша поскреб по ящику и прошептал:
— Генка, вылезай!
Ответа не последовало. Миша снова постучал. Опять молчание. Миша залез под вагон и увидел, что ящик пуст. Где же Генка? Неужели убежал вчера домой?
Его размышления прервал звук трубы, проигравшей зорю.
Эшелон пробудился и оживил станцию. Из теплушек прыгали бойцы, умывались, забегали дежурные с котелками и чайниками. Запахло кашей. Кто-то кого-то звал, кто-то кого-то ругал. Потом все выстроились вдоль эшелона в два ряда, и началась перекличка.
Бойцы были плохо и по-разному обмундированы. В рядах виднелись буденовки, серые солдатские шапки, кавалерийские фуражки, матросские бескозырки, казацкие кубанки. На ногах у одних были сапоги, у других — ботинки, валенки, калоши, а кто и вовсе стоял босиком. Здесь были солдаты, матросы, рабочие, крестьяне. Старые и молодые, пожилые и совсем мальчики.
Миша заглянул в штабной вагон и увидел Генку. Он стоял в вагоне и утирал рукавом слезы. Перед ним за столом сидел молоденький парнишка в заплатанной гимнастерке, перехваченной вдоль и поперек ремнями, в широченных галифе с красным кантом и кожаными леями. Носик у парнишки маленький, а уши большие. Во рту трубка. Он меланхолически сплевывает через стол мимо Генки, который вздрагивает при каждом плевке, как будто в него летит пуля.
— Так, — строго говорит парнишка, — значит, как твоя фамилия?
— Петров, — всхлипывает Генка.
— Ага, Петров! А не врешь?
— Не-е-е…
— Смотри у меня!
— Ей-богу, правда! — хнычет Генка.
Опять пауза, посасывание трубки, плевки, и допрос продолжается, причем вопросы и ответы повторяются бесчисленное множество раз.
Генку арестовали! Миша отпрянул от вагона и побежал искать Полевого. Он нашел его возле площадок с орудиями, которые Полевой осматривал вместе с другими командирами.
— Сергей Иваныч, — обратился к нему Миша, — там Генку арестовали. Отпустите его, пожалуйста. Он с нами в Москву едет.
— Кто арестовал твоего Генку? — удивился Полевой.
— Там, в штабе, начальник в синих галифе, молоденький такой.
Полевой и остальные военные переглянулись и расхохотались.
— Ай да Степа! — крикнул один из них.
— Ладно, — сказал Полевой, — пойдем до штаба, попросим того начальника. Может, и отпустит.
Все влезли в штабной вагон. Парнишка вскочил со скамейки, спрятал трубку в карман, приложил руку к сломанному козырьку и, вытянувшись перед Полевым, баском произнес:
— Дозвольте доложить, товарищ командир. Так что задержан подозрительный преступник. — Он указал на хныкающего Генку. — Согласно моему следствию, признал себя виновным, что фамилию имеет Петров, имя Геннадий, сбежал от родителей в Москву до тетки. Отец — машинист. Оружие при нем обнаружено: три гильзы от патронов. Пойман на месте преступления, в ящике под вагоном, в спящем виде.
Он опустил руку и стоял, по-прежнему вытянувшись, маленький, чуть повыше Генки, не обращая никакого внимания на хохот присутствующих.
Сдерживая смех, Полевой строго посмотрел на Генку:
— Зачем под вагон залез?
Генка еще пуще заплакал:
— Дяденька, честное слово, я в Москву, к тетке, пусть он скажет. — Генка показал на Мишу.
— Сейчас разберемся, — сказал Полевой. — Ты, Степа, — обратился он к парнишке, — беги до старшины, пусть сюда идет.
— Есть сбегать до старшины, пусть сюда идет! — молодцевато ответил Степа, отдал честь, повернулся кругом и выскочил из вагона.
— А вы, — обернулся Полевой к мальчикам, — марш отсюда!
Генка вылез из вагона. Миша задержался и шепотом спросил у Полевого:
— А кто этот парнишка?
— О, брат! — засмеялся Полевой. — Это большой человек: Степан Иванович Резников, главный курьер штаба.
Глава 12
Будка обходчика
Вторую неделю стоял эшелон на станции Низковка.
— Бахмач не принимает, не хватает паровозов, — объяснял Генка.
Он, как сын машиниста, считал себя знатоком железнодорожных дел.
Генка ехал теперь в эшелоне на легальном положении. Отец разыскал его, отодрал за уши и хотел увезти обратно в Ревск, но Полевой и Мишина мама вступились за Генку.
Полевой увел отца Генки к себе в вагон. О чем они там говорили, неизвестно, но, выйдя оттуда, отец хмуро посмотрел на Генку и объявил, что сегодня он его не заберет, а вернется в Ревск и — «как решит мать».
На другой день он опять приехал из Ревска, привез Генкины вещи и письмо тете Агриппине Тихоновне. Он долго разговаривал с Генкой, читал ему наставления и уехал, взяв с Мишиной мамы обещание передать Генку тете «с рук на руки».
А эшелон все стоял на станции Низковка. Красноармейцы разводили между путями костры, варили в котелках похлебку. По вечерам в черной золе тлели огоньки, в вагонах растягивалась гармошка, дребезжала балалайка, распевались частушки. Взрослые сидели на разбросанных шпалах, на рельсах или просто на земле. Они разговаривали о политике, о железнодорожных порядках, о боге, но больше всего о продовольствии.
Продовольствия не хватало, и вот однажды Миша и Генка отправились в лес за грибами.
Лес был далеко, верстах в пяти. Мальчики вышли рано утром, рассчитывая к вечеру вернуться, но получилось иначе.
Идти пришлось не пять верст, а больше. Дорогу им объяснили неправильно. Они проплутали целый день, и, когда наконец насобирали грибов и двинулись обратно, уже смеркалось. Пошел дождь, и тучи совсем затемнили небо.
«Почему так неравномерно расположены шпалы под рельсами? — думал Миша, шагая рядом с Генкой по железнодорожному полотну. — Никак нельзя ровно идти: один шаг получается большой, другой маленький. По простой дороге и то лучше».
Дорога шла по насыпи, бескрайными полями. Изредка далеко-далеко, сквозь пелену дождя, виднелась деревенька и как будто слышалось мычанье коров, лай собак, скрипенье журавля на колодце — те отдаленные звуки, что слышатся в шуме дождя, когда далеко в вечернем тумане путник видит поселение.
Уже в темноте они добрались до будки обходчика. Отсюда до Низковки три версты.
— Давай зайдем, — предложил Генка.
— Незачем. Только время терять.
— Чего мокнуть под дождем? Переночуем, а завтра пойдем.
— Нет. Мама будет беспокоиться, и эшелон могут отправить.
— Фью! — свистнул Генка. — Его еще через неделю не отправят. Потом, ведь мы идем со стороны Бахмача, так что увидим. Зайдем! Хоть воды выпьем.
Они постучали. В ограде залился бешеным лаем пес, потом за дверью раздался женский голос:
— Чего надоть?
— Тетенька, — тоненьким голоском пропищал Генка, — водицы испить.
Пес за оградой заметался на цепи и залился пуще прежнего.
Стукнул засов, дверь открылась. Через тесные сени мальчики вошли в низкую просторную избу.
Кто-то завозился на печи, и мужской старческий кашляющий голос спросил:
— Матрена, кого впустила?
— Сынков, — ответила женщина, почесывая бок и зевая. — Водицы просят. По грибы, чай, ходили? — спросила она у ребят.
— Ага.
— Идете куда?
— В Низковку.
— Далече, — протянула женщина. — Куда же вы на ночь-то глядя?
— Да вот, тетенька, — ухватился за это замечание Генка, — я и то говорю. Может, пустите нас переночевать?
— Чего ж не пустить! Места не жалко. Куда ж вы ночью под дождем пойдете? Ишь, как сыплет, — говорила женщина, стаскивая с печи и постилая на полу тулуп, — да и лихие люди ноне шатаются, а то и под поезд попадете. Вот, ложитесь. До света вздремнете, а там и дойтить недолго.
Она набросила крючок, задула лучину и, кряхтя, полезла на печь. Ребята улеглись на тулуп и быстро уснули.
Глава 13
Бандиты
И приснилась Мише какая-то неразбериха. Жеребенок вороной с коротким развевающимся хвостом. Он резвится, вскидывая задние ноги, он мчится по полю у подножия отвесной скалы. Все смеются: Полевой, дедушка, Славка, Никитский… Смеются над ним, над Мишей. А жеребенок то остановится, нагнет голову, капризно машет ею, то брыкнет ногами и опять мчится по полю.
Вдруг… это не жеребенок, а конь, огромный вороной конь. Он с разбегу кидается на скалу, на совершенно отвесную скалу, и взбирается по ней…
Он взбирается по ней, как громадная черная муха, а Никитский стучит по дереву рукояткой нагайки: «Держи коня, держи коня!»
Конь взбирается все медленней и медленней. «Держи коня, держи коня!» — кричит Никитский. Вдруг лошадь отрывается от скалы и со страшным грохотом летит в пропасть…
Грохот прервался у Мишиных ног: ведро еще раз звякнуло и утихло.
— Держи коня! — опять крикнул кто-то из избы во двор и выругался: — А, черт, поставили ведро тут!..
Чиркнула спичка. Тусклая лучина осветила высокого человека в бурке. На дворе ржали лошади и заливался неистовым лаем пес.
— Это кто? — спросил человек в бурке, указывая нагайкой на лежащих в углу ребят.
— Ребятишки со станции, по грибы ходили, — хмуро ответил хозяин. Он стоял в исподнем, с лучиной в руках; всклокоченная его борода тенью плясала по стене. — Да они спят, чего вы беспокоитесь!..
— Поговори!.. — прикрикнул на него человек в бурке.
Он подошел к ребятам и нагнулся, вглядываясь в них. И в ту секунду, когда, притворясь спящим, Миша прикрыл глаза, над ним мелькнул колючий взгляд из-под черного чуба и папаха… Никитский!
Никитский подошел к обходчику:
— Прошел паровоз на Низковку?
— Прошел, — угрюмо произнес старик.
— Ты что же, старый черт, финтить? — Никитский схватил его за рубашку на груди, скрутил ее в кулаке, притянул к себе, и голова старика откинулась назад.
— Греха… — прохрипел старик, — греха на душу не приму…
— Не примешь? — Никитский, не выпуская обходчика, ударил его по лицу рукояткой нагайки. — Не примешь? Через час должен поезд пройти, а ты в монахи записался? — Он еще раз ударил его.
Старик упал. Никитский выбежал во двор.
Некоторое время там слышались голоса, конский топот, и все стихло. Только пес продолжал лаять и рваться на цепи.
Через час должен пройти поезд! С Низковки! Паровоз туда уже вышел… Может быть, их эшелон? И вдруг страшная догадка мелькнула в Мишином мозгу: бандиты хотят напасть на эшелон!.. Миша вскочил. Что же делать? Как предупредить? За час они не добегут до Низковки…
На полу стонал обходчик. Возле него, охая и причитая, хлопотала старуха.
Миша растолкал Генку:
— Вставай! Слышишь, Генка, вставай!
— Чего, чего тебе? — бормотал спросонья Генка.
Миша тащил его. Генка брыкался, пытался снова улечься на тулуп.
— Вставай, — шептал Миша, — вставай! — Он тряс Генку: — Вставай! Здесь Никитский… Они хотят на эшелон напасть…
Ребята тихонько выбрались из сторожки.
Дождь прекратился. Земля отдавала влагой. С крыши равномерно падали капли. Полная луна освещала края редеющих облаков, полотно железной дороги, блестящие рельсы. Пес во дворе не лаял и не гремел цепью, а выл жутко и тоскливо.
Мальчики в ужасе бросились бежать. Они бежали по тропинке, идущей вдоль насыпи, и остановились, увидев на путях темные фигуры людей. Послышался лязг железа — бандиты разбирали путь.
Это было самое высокое место насыпи перед маленьким мостиком, перекинутым через глубокий овраг. К оврагу спускалась рощица. Мальчики услышали в ней ржание лошадей, шорох, хруст ветвей, приглушенные голоса. Тихонько спустились они с насыпи, обогнули рощу и снова помчались во весь дух.
Холодный рассвет все ясней и ясней очерчивал контуры предметов, раздвигал дали. Вот видны уже станционные огни. Мальчики бежали изо всех сил, не чувствуя острых камней, не слыша шума ветра. Вдруг донесся отдаленный протяжный гудок паровоза. Они на секунду остановились и снова понеслись вперед. Они ничего не видели, кроме изогнутых железных поручней паровоза, окутанных клубами белого пара. Поручни эти всё увеличивались и увеличивались, стали совсем громадными и заслонили собой паровоз.
Миша хотел ухватиться за них, как вдруг чья-то сильная рука остановила его… Перед мальчиками стоял Полевой.
— Ну, — строго спросил Полевой, — где шатались?
— Сергей Иваныч… — Миша тяжело дышал, — там Никитский…
— Где? — быстро спросил Полевой.
— Там… в будке обходчика… Они в овраге сейчас…
— В овраге? — переспросил Полевой.
— Да.
— Вот как… — Полевой на секунду задумался. — А мы их тут ждали… Ну ладно, разведчики! А теперь марш в вагон! И смотрите: больше из вагона не вылезать, а то под замок посажу…
Глава 14
Прощанье
Бой продолжался недолго. Бандиты удрали, оставив убитых. Одинокие лошади метались по полю. Красноармейцы ловили лошадей, расседлывали и по мосткам загоняли в вагоны. Бойцы быстро восстановили путь, и поезд двинулся дальше.
В Бахмаче классный вагон отцепили от эшелона для дальнейшей отправки в Москву. Эшелон же сегодня должен был уйти на фронт.
Перед отходом эшелона Полевой позвал Мишу. Они уселись в тени пакгауза: Миша — на земле, Полевой — на пустом ящике. Они сидели молча. Каждый думал о своем, а может быть, они думали об одном и том же. Потом Полевой поднял голову, улыбнулся Мише и сказал:
— Ну, Михаил Григорьевич, что скажешь на прощанье?
Миша ничего не отвечал, только прятал глаза.
— Да, — сказал Полевой, — пришла нам пора расставаться, Мишка. Не знаю, свидимся или нет, так вот, смотри…
Он вынул кортик и держал его на левой ладони. Кортик был все такой же, с побуревшей рукояткой и бронзовой змейкой.
Продолжая держать кортик в левой руке, Полевой правой повернул рукоятку в ту сторону, куда смотрела голова змеи. Рукоятка вращалась по спирали змеиного тела и вывернулась совсем.
Полевой отъединил от рукоятки змейку и вытянул стержень. Он представлял собой свернутую трубкой тончайшую металлическую пластинку, испещренную непонятными знаками: точками, черточками, кружками.
— Знаешь, что это такое? — спросил Полевой.
— Шифр, — неуверенно проговорил Миша и вопросительно посмотрел на Полевого.
— Правильно, — подтвердил Полевой, — шифр. Только ключ от этого шифра в ножнах, а ножны у Никитского. Понял теперь, почему ему кортик нужен?
Миша утвердительно кивнул головой.
Полевой вставил на место пластинку, завинтил рукоятку и сказал:
— Человека из-за этого кортика убили — значит, и тайна в нем какая-то есть. Имел я думку ту тайну открыть, да время не то… — Он вздохнул. — И таскать его за собой больше нельзя. Никто судьбы своей не знает, тем более — война… Так вот, бери… — Он протянул Мише кортик. — Бери, — повторил Полевой. — Вернусь с фронта, займусь этим кортиком, а не вернусь… — Он поднял голову, лукаво подмигнул Мише: — Не вернусь — значит, вот память обо мне останется.
Миша взял кортик.
— Что же ты молчишь? — спросил Полевой. — Может быть, боишься?
— Нет, — ответил Миша, — чего мне бояться?
— Главное, — сказал Полевой, — не болтай зря. Особенно, — он посмотрел на Мишу, — одного человека берегись.
— Никитского?
— Никитский на тебя и не подумает. Да и где увидишь ты его! Есть еще один человек. Не нашел я его здесь. Но он тоже ревский. Может, какой случай вас и столкнет… так что его и остерегайся.
— Кто же это?
Полевой снова посмотрел на Мишу:
— Вот этого человека остерегайся и виду не подавай. Фамилия его Филин.
— Филин… — задумчиво повторил Миша. — У нас во дворе тоже Филин живет.
— Как его имя, отчество?
— Не знаю. Я его сына знаю — Борьку. Его ребята «Жилой» зовут.
Полевой засмеялся:
— Жила… А он из Ревска, этот самый Филин?
— Не знаю.
Полевой задумался:
— Ну да ведь Филиных много. В Ревске их почти половина города. А этот вряд ли в Москве. Должен он поглубже запрятаться. А все же остерегайся. Это ведь народ такой: одним духом в могилевскую губернию отправят. Понял?
— Понял, — тихо ответил Миша.
— Не робей, Михаил Григорьевич! — Полевой хлопнул его по плечу. — Ты уже взрослый, можно сказать. Снялся с якоря. Только помни…
Он встал. Миша тоже поднялся.
— Только помни, Мишка, — сказал Полевой, — жизнь как море. Для себя жить захочешь — будешь как одинокий рыбак в негодной лодчонке: к мелководью жаться, на один и тот же берег смотреть да затыкать пробоины рваными штанами. А будешь для народа жить — на большом корабле поплывешь, на широкий простор выйдешь. Никакие бури не страшны, весь мир перед тобой! Ты за товарищей, а товарищи за тебя. Понял? Вот и хорошо! — Он протянул Мише руку, еще раз улыбнулся и пошел по неровным шпалам, высокий, сильный, в наброшенной на плечи серой солдатской шинели…
Перед отходом поезда состоялся митинг. На вокзале собралось много народу. Пришли жители города и рабочие депо. Девушки прогуливались по платформе, грызли семечки и пересмеивались с бойцами.
Митинг открыл Полевой. Он стоял на крыше штабного вагона, над щитом с эмблемой Интернационала. Полевой сказал, что над Советской Россией нависла угроза. Буржуазия всего мира ополчилась на молодую Советскую республику. Но рабоче-крестьянская власть одолеет всех врагов, и знамя Свободы водрузится над всем миром. Когда Полевой кончил говорить, все кричали «ура».
Затем выступил один боец. Он сказал, что у армии кругом нехватка, но она, армия, сильна своим несгибаемым духом, своей верой в правое дело. Ему тоже хлопали и кричали «ура». И Миша с Генкой, сидя на крыше штабного вагона, тоже бешено хлопали в ладоши и кричали «ура» громче всех.
Потом эшелон отошел от станции.
В широко открытых дверях теплушек сгрудились красноармейцы. Некоторые из них сидели, свесив из вагона ноги в стоптанных ботинках и рваных обмотках, другие стояли за ними, и все они пели «Интернационал». Звуки его заполняли станцию, вырывались в широкую степь и неслись по необъятной земле.
Толпа, стоявшая на перроне, подхватила гимн. Миша выводил его своим звонким голосом. Сердце его вырывалось вместе с песней, по спине пробегала непонятная дрожь, к горлу подкатывал тесный комок, и в глазах показались непозволительные слезы. Поезд уходил и наконец скрылся, вильнув длинным, закругленным хвостом.
Вечер зажег на небе мерцающие огоньки, толпа расходилась, и перрон опустел.
Но Миша не уходил.
Он все глядел вслед ушедшему поезду, туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полосу, прорезавшую горбатый, туманный горизонт. И перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.
Часть II Двор на Арбате
Глава 15
Год спустя
Шум в коридоре разбудил Мишу. Он открыл один глаз и тут же зажмурил его. Короткий луч солнца пробрался из-за высоких соседних зданий и тысячью неугомонных пылинок клубился между окном и лежащим на полу ковриком. Вышитый на коврике полосатый тигр тоже жмурил глаза и дремал, уткнув голову в вытянутые лапы. Это был дряхлый тигр, потертый и безобидный.
Суживаясь, луч медленно двигался по комнате. С коврика он перебрался на край стола, заблестел на никеле маминой кровати, осветил швейную машину и вдруг исчез, как будто не был вовсе.
В комнате стемнело. Открытая форточка чуть вздрагивала, колеблемая струей прохладного воздуха. Снизу, с Арбата и со двора, доносились предостерегающие звонки трамваев, гудки автомобилей, веселые детские голоса, крики точильщиков, старьевщиков — разноголосые, ликующие звуки весенней улицы.
Миша дремал. Нужно заснуть. Нельзя же в первый день каникул вставать в обычное время. Сегодня весь день гулять. Красота!
В комнату, с утюгом в руках, вошла мама. Она положила на стол сложенное вчетверо одеяло, поставила утюг на опрокинутую самоварную конфорку. Рядом, на стуле, белела груда выстиранного белья.
— Миша, вставай, — сказала мама. — Вставай, сынок. Мне гладить нужно.
Миша лежал не двигаясь. Почему мама всегда знает, спит он или нет? Ведь он лежит с закрытыми глазами…
— Вставай, не притворяйся… — Мама подошла к кровати.
Миша изо всех сил сдерживал душивший его смех. Мама засунула руку под одеяло. Миша поджал ноги под себя, но холодная мамина рука упорно преследовала его пятки. Миша не выдержал, расхохотался и вскочил с кровати.
Он быстро оделся и отправился умываться.
В сумраке запущенной кухни белел кафельный пол, выщербленный от колки дров. На серых стенах чернели длинные мутные потеки — следы лопнувшего зимой водопровода. Миша снял рубашку с твердым намерением вымыться до пояса. Он давно так решил: с первого же дня каникул начать холодные обтирания.
Поеживаясь, он открыл кран. Звонкая струя ударилась о раковину, острые брызги морозно кольнули Мишины плечи.
Да, холодновата еще водичка… Конечно, он твердо решил с первого же дня каникул начать холодные обтирания, но… ведь их распустили на каникулы на две недели раньше. Каникулы должны быть с первого июня, а теперь только пятнадцатое мая. Разве он виноват, что школу начали ремонтировать? Решено: он будет обтираться с первого июня. И Миша снова надел рубашку…
Причесываясь перед зеркалом, он начал рассматривать свое лицо…
Нехороший у него подбородок! Вот если бы нижняя челюсть выдавалась вперед, то он обладал бы большой силой воли. Это еще у Джека Лондона написано. А ему совершенно необходимо обладать сильной волей. Ведь факт, что он сегодня смалодушничал с обтиранием. И так каждый раз.
Начал вести дневник, тетрадь завел, разрисовал ее, а потом бросил — не хватило терпения. Решил делать утреннюю гимнастику, даже гантели купил, и тоже бросил — то в школу надо поскорей, то еще что-нибудь, а попросту говоря, лень. И вообще, задумает что-нибудь такое и начинает откладывать: до понедельника, до первого числа, до нового учебного года… Нет! Это просто слабоволие и бесхарактерность. Безобразие! Пора, в конце концов, избавиться от этого!
Миша выпятил челюсть. Вот такой подбородок должен быть у человека с сильной волей. Нужно все время так держать зубы, и постепенно нижняя челюсть выпятится вперед…
На столе дымилась картошка. Рядом, на тарелке, лежали два ломтика черного хлеба — сегодняшний дневной паек.
Миша разделил свою порцию на три части — завтрак, обед, ужин — и взял один кусочек. Он был настолько мал, что Миша и не заметил, как съел его. Взять, что ли, второй? Поужинать можно и без хлеба… Нет! Нельзя! Если он съест сейчас хлеб, то вечером мама обязательно отдаст ему свою порцию и сама останется без хлеба…
Миша положил обратно хлеб и решительно выдвинул далеко вперед свою нижнюю челюсть. Но он в это время жевал горячую картошку и, выдвинув челюсть, больно прикусил себе язык.
Глава 16
Книжный шкаф
После завтрака Миша собрался уйти, но мама остановила его:
— Ты куда?
— Пойду пройдусь.
— На двор?
— Да… и на двор зайду.
— А книги кто уберет?
— Но, мама, мне сейчас абсолютно некогда.
— Значит, я должна за тобой убирать?
— Ладно, — пробурчал Миша. — Ты всегда так: пристанешь, когда у меня каждая минута рассчитана!
В шкафу Мишина полка вторая снизу. Вообще шкаф книжный, но он используется и под белье, и под посуду. Другого шкафа у них нет.
Миша вытащил книги, подмел полку сапожной щеткой, покрыл газетой «Экономическая жизнь». Затем уселся на полу и, разбирая книги, начал их в порядке устанавливать.
Первыми он поставил два тома энциклопедии Брокгауза и Ефрона. Это самые ценные книги. Если иметь все восемьдесят два тома, то и в школу ходить не надо: выучил весь словарь, вот и получил высшее образование.
За Брокгаузом становятся: «Мир приключений» в двух томах, собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе, Толстой — «Детство, отрочество и юность», Марк Твен — «Приключения Тома Сойера».
А это что? Гм! Чарская… «Княжна Джаваха»… Ерунда! Слезливая девчоночья книга. Только переплет красивый. Нужно выменять ее у Славки на другую. Славка любит книги в красивых переплетах.
С книгой в руке Миша влез на подоконник и открыл окно. Шум и грохот улицы ворвались в комнату. Во все стороны расползалась громада разноэтажных зданий. Решетчатые железные балконы казались прилепленными к ним, как и тонкие пожарные лестницы. Москва-река текла извилистой голубой лентой, перехваченной черными кольцами мостов. Золотой купол храма Спасителя сиял тысячью солнц, и за ним Кремль устремлял к небу острые верхушки своих башен.
Миша высунулся из окна, повернул голову ко второму корпусу и крикнул:
— Славка-а-а!..
В окне третьего этажа появился Слава — болезненный мальчик с бледным лицом и тонкими, длинными пальцами. Его дразнили «буржуем». Дразнили за то, что он носил бант, играл на рояле и никогда не дрался. Его мать была известной певицей, а отец — главным инженером фабрики имени Свердлова, той самой фабрики, где работали Мишина мама, Генкина тетка и многие жильцы этого дома. Фабрика долго не работала, а теперь готовится к пуску.
— Славка, — крикнул Миша, — давай меняться! — Он потряс книгой. — Шикарная вещь! «Княжна Джаваха». Зачитаешься!
— Нет! — крикнул Слава. — У меня есть эта книга.
— Неважно. Смотри, какая обложечка! А? Ты мне дай «Овода».
— Нет!
— Ну и не надо! Потом сам попросишь, но уже не получишь…
— Ты когда во двор придешь? — спросил Слава.
— Скоро.
— Приходи к Генке, я у него буду.
— Ладно.
Миша слез с окна, поставил книгу на полку. Пусть постоит. Осенью в школе он ее обменяет.
Вот это книжечки! «Кожаный чулок», «Всадник без головы», «Восемьдесят тысяч верст под водой», «В дебрях Африки», «Остров сокровищ»… Ковбои, прерии, индейцы, скальпы, мустанги…
Так. Теперь учебники: Киселев, Рыбкин, Краевич, Шапошников и Вальцев, Глезер и Петцольд… В прошлом году их редко приходилось открывать. В школе не было дров, в замерзших пальцах не держался мел. Ребята ходили туда из-за пустых, но горячих даровых щей. Это была суровая и голодная зима тысяча девятьсот двадцать первого года.
Миша уложил тетради, альбом с марками, циркуль с погнутой иглой, треугольник со стертыми делениями, транспортир.
Потом, покосившись на мать, пощупал свой тайный сверток, спрятанный за связкой старых приложений к журналу «Нива».
Кортик на месте. Миша чувствовал сквозь тряпку твердую сталь его клинка.
Где теперь Полевой? Он прислал одно письмо, и больше от него ничего не было. Но он приедет, обязательно приедет. Война, правда, кончена, но не совсем. Только весной выгнали белофиннов из Карелии. На Дальнем Востоке наши дерутся с японцами. И вообще, Антанта готовит новую войну. По всему видно.
Вот Никитский, наверно, убит. Или удрал за границу, как другие белые офицеры. Ножны остались у него, и тайна кортика никогда не откроется.
Миша задумался. Кто все-таки этот Филин, завскладом, Борькин отец? Не тот ли это Филин, о котором говорил ему Полевой? Он, кажется, из Ревска… кажется… Миша несколько раз спрашивал об этом маму, но мама точно не знает, а вот Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, как будто знает.
Когда Миша как бы невзначай спросил ее о Филине, она плюнула и сердито загудела: «Не знаю и знать не хочу… Дрянной человек… Вся их порода такая…» Больше ничего Агриппина Тихоновна не сказала, но раз она упомянула про «породу» — значит, она что-то знает… Да разве у нее что-нибудь добьешься! Она самая строгая женщина в доме. Высокая такая, полная. Все ее боятся, даже управдом. Он льстиво называет ее «наша обширнейшая Агриппина Тихоновна». К тому же «делегатка» — самая главная женщина на фабрике. Один только Генка ее не боится: чуть что, начинает собираться обратно в Ревск. Ну, Агриппина Тихоновна, конечно, на попятную.
…Да, как же узнать про Филина? И как это он тогда не догадался спросить у Полевого его имя, отчество!..
Миша вздохнул, тщательно запрятал кортик за журналы, закрыл шкаф и отправился к Генке.
Глава 17
Генка
Генка и Слава играли в шахматы. Доска с фигурами лежала на стуле. Слава стоял. Генка сидел на краю широкой кровати, покрытой стеганым одеялом, с высокой пирамидой подушек, доходившей своей верхушкой до маленькой иконки, висевшей под самым потолком.
Агриппина Тихоновна, Генкина тетка, раскатывала на столе тесто. Она, видимо, была чем-то недовольна и сурово посмотрела на вошедшего в комнату Мишу.
— Где ты пропадал? — крикнул Генка. — Гляди, я сейчас сделаю Славке мат в три хода… Сейчас я его: айн, цвай, драй…
— «Цвай, драй»! — загудела вдруг Агриппина Тихоновна. — Слезай с кровати! Нашел место!
Генка сделал легкое движение, показывающее, что он слезает с кровати.
— Не ерзай, а слезай! Я кому говорю?
Агриппина Тихоновна начала яростно раскатывать тесто, потом снова загудела:
— Стыд и срам! Взрослый парень, а туда же — капусту изрезал, весь вилок испортил! Отвечай: зачем изрезал?
— Отвечаю: кочерыжку доставал. Она вам все равно ни к чему.
— Так не мог ты, дурная твоя голова, осторожно резать? Вилок-то я на голубцы приготовила, а ты весь лист испортил.
— Голубцы, тетя, — лениво ответил Генка, обдумывая ход, — голубцы, тетя, это мещанский предрассудок. Мы не какие-нибудь нэпманы, чтобы голубцы есть. И потом, какие же это голубцы с пшенной кашей? Были бы хоть с мясом.
— Ты меня еще учить будешь!
— Честное слово, тетя, я вам удивляюсь, — продолжал разглагольствовать Генка, не отрывая глаз от шахмат. — Вы, можно сказать, такой видный человек, а волнуетесь из-за какой-то несчастной кочерыжки, здоровье свое расстраиваете.
— Не тебе о моем здоровье беспокоиться, — проворчала Агриппина Тихоновна, разрезая тесто на лапшу. — Довольно, молчи! Молчи, а то вот этой скалки отведаешь.
— Я молчу. А скалкой не грозитесь, все равно не ударите.
— Это почему? — Агриппина Тихоновна угрожающе выпрямилась во весь свой могучий рост.
— Не ударите.
— Почему не ударю, спрашиваю я тебя?
— Почему? — Генка поднял пешку и задумчиво держал ее в руке. — Потому что вы меня любите, тетенька, любите и уважаете…
— Дурень, ну, право, дурень! — засмеялась Агриппина Тихоновна. — Ну почему ты такой дурень?
— Мат! — объявил вдруг Слава.
— Где? Где? Где мат? — заволновался Генка. — Правда… Вот видите, тетя, — добавил он плачущим голосом, — из-за ваших голубцов верную партию проиграл!
— Невелика беда! — сказала Агриппина Тихоновна и вышла в кухню.
— Что ты, Генка, все время с теткой ссоришься? — сказал Слава. — Как тебе не стыдно!
— Я? Ссорюсь? Что ты! Это разве ссора? У нее такая манера разговаривать — и всё. — Генка снова начал расставлять фигуры на доске. — Давай сыграем, Миша.
— Нет, — сказал Миша, — пошли во двор… Чего дома сидеть!
Генка сложил шахматы, закрыл доску, и мальчики побежали во двор.
Глава 18
Борька-жила
Уже май, но снег на заднем дворе еще не сошел.
Наваленные за зиму сугробы осели, почернели, сжались, но, защищенные восемью этажами тесно стоящих зданий, не сдавались солнцу, которое изредка вползало во двор и дремало на узкой полоске асфальта, на белых квадратах «классов», где прыгали девочки.
Потом солнце поднималось, лениво карабкалось по стене все выше и выше, пока не скрывалось за домами, и только вспученные расщелины асфальта еще долго выдыхали из земли теплый волнующий запах.
Мальчики играли царскими медяками в пристеночек. Генка изо всех сил расставлял пальцы, чтобы дотянуться от своей монеты до Мишкиной.
— Нет, не достанешь, — говорил Миша, — не достанешь… Бей, Жила, твоя очередь.
— Мы вдарим, — бормотал Борька, прицеливаясь на Славину монету, — мы вдарим… Есть! — Его широкий сплюснутый пятак покрыл Славин. — Гони копейку, буржуй!
Слава покраснел:
— Я уже всё проиграл. За мной будет.
— Что же ты в игру лезешь? — закричал Борька. — Здесь в долг не играют. Давай деньги!
— Я ведь сказал тебе — нету. Отыграю и отдам.
— Ах так?! — Борька схватил Славин пятак. — Отдашь долг — тогда получишь обратно.
— Какое ты имеешь право? — Славин голос дрожал от волнения, на бледных щеках выступил румянец. — Какое ты имеешь право это делать?
— Значит, имею, — бормотал Борька, пряча пятак в карман. — Будешь знать в другой раз.
Миша протянул Борьке копейку:
— На, отдай ему биту… А ты, Славка, не имеешь денег — так не играй.
— Не возьму, — мотнул головой Борька, — чужие не возьму. Пусть он сам отдает.
— Зажилить хочешь?
— Может, хочу…
— Не выйдет. Отдай Славке биту!
— А тебе чего? — ощерился Борька. — Ты здесь что за хозяин?
— Не отдашь? — Миша вплотную придвинулся к Борьке.
— Дай ему, Мишка! — крикнул Генка и тоже подступил к Борьке.
Но Миша отстранил его:
— Постой, Генка, я сам… Ну, последний раз спрашиваю: отдашь?
Борька отступил на шаг, отвел глаза. Брошенный им пятак зазвенел на камнях.
— На, пусть подавится! Подумаешь, какой заступник нашелся…
Он отошел в сторону, бросая на Мишу злобные взгляды.
Игра расстроилась. Мальчики сидели возле стены на теплом асфальте и грелись на солнце.
В верхушках чахлых деревьев путался звон колоколов, доносившийся из церкви Николы на Плотниках. На протянутых от дерева к дереву веревках трепетало развешанное для сушки белье; деревянные прищепки вздрагивали, наклоняясь то в одну, то в другую сторону. Какая-то бесстрашная женщина стояла на подоконнике в пятом этаже и, держась рукой за раму, мыла окно.
Миша сидел на сложенных во дворе ржавых батареях парового отопления и насмешливо посматривал на Борьку. Сорвалось! Не удалось прикарманить чужие деньги. Недаром его Жилой зовут! Торгует на Смоленском папиросами врассыпную и ирисками, которые для блеска облизывает языком. И отец его, Филин, завскладом, — такой же спекулянт…
А Борька как ни в чем не бывало рассказывал ребятам о попрыгунчиках.
— Закутается такой попрыгунчик в простыню, — шмыгая носом, говорил Борька, — во рту электрическая лампочка, на ногах пружины. Прыгнет с улицы прямо в пятый этаж и грабит всех подряд. И через дома прыгает. Только милиция к нему, а он скок — и уже на другой улице.
— А ну тебя! — Миша пренебрежительно махнул рукой. — Болтун ты, и больше ничего. «Попрыгунчики»… — передразнил он Борьку. — Ты еще про подвал расскажи, про мертвецов своих.
— А что, — сказал Борька, — в подвале мертвецы живут. Там раньше кладбище было. Они кричат и стонут по ночам, аж страшно.
— Ничего нет в твоем подвале, — возразил Миша. — Ты все это своей бабушке расскажи. А то «кладбище», «мертвецы»…
— Нет, есть кладбище, — настаивал Борька. — Там и подземный ход есть под всю Москву. Его Иван Грозный построил.
Все рассмеялись. Миша сказал:
— Иван Грозный жил четыреста лет назад, а наш дом всего десять лет как построен. Уж врал бы, да не завирался.
— Я вру? — Борька ехидно улыбнулся. — Пойдем со мной в подвал. Я тебе и мертвецов, и подземный ход — всё покажу.
— Не ходи, Мишка, — сказал Генка, — он тебя заведет, а потом будет разыгрывать.
Это была обычная Борькина проделка. Он один из всех ребят знал вдоль и поперек подвал — громадное мрачное помещение под домом. Он заводил туда кого-нибудь из мальчиков и вдруг замолкал. В темноте, не имея никакой ориентировки, спутник тщетно взывал к нему. Борька не откликался. И, только помучив свою жертву и выговорив себе какую-нибудь мзду, Борька выводил его из подвала.
— Дураков нет, — продолжал Генка, уже попадавшийся на эту удочку. — Ползай сам по своему подвалу.
— Как хотите, — с деланным равнодушием произнес Борька. — Испугались — так и не надо.
Миша вспыхнул:
— Это ты про кого?
— Про того, кто в подвал боится идти.
— Ах так… — Миша встал. — Пошли!
Они вышли на первый двор, спустились в подвал и осторожно пошли по нему, касаясь руками скользких стен. Борька — впереди, Миша — за ним. Под их ногами осыпалась земля и звенел по временам кусочек жести или стекла.
Миша отлично понимал, что Борька хочет его разыграть. Ладно, посмотрим, кто кого разыграет…
Они двигались в совершенной темноте, и вот, когда они уже далеко углубились внутрь подвала, Борька вдруг затих.
«Так, начинается», — подумал Миша и, стараясь говорить возможно спокойней, спросил:
— Ну, скоро твои мертвецы покажутся?
Голос его глухо отдавался в подземелье и, дробясь, затихал где-то в дальних, невидимых углах.
Борька не отвечал, хотя его присутствие чувствовалось где-то совсем близко. Миша тоже больше не окликал его.
Так прошло несколько томительных минут. Оба мальчика затаили дыхание. Каждый ждал, кто первый подаст голос. Потом Миша тихонько повернулся и пошел назад, нащупывая руками повороты. Ничего, он сам найдет дорогу, а как выберется отсюда, закроет дверь и продержит здесь Борьку с полчасика. Вперед ему наука будет…
Миша тихонько шел. Позади себя он слышал шорох: Борька осторожно крался за ним. Ага, не выдержал! Не захотел один оставаться.
Миша продолжал двигаться по подвалу. Нет! Не туда он идет! Проход должен расширяться, а он, наоборот, сужается. Но Миша все шел и шел. Как Борька видит в такой темноте? А вдруг Борька оставит его здесь одного и он не найдет дороги? Жутковато все же.
Проход стал совсем узким. Мишино плечо коснулось противоположной стены. Он остановился. Окликнуть Борьку? Нет, ни за что… Он поднял руку и нащупал холодную железную трубу. Где-то журчала вода. Вдруг сильный шорох раздался над его головой. Ему показалось, что какая-то огромная жаба бросилась на него. Он метнулся вперед, ноги его провалились в пустоту, и он полетел куда-то вниз…
Когда прошел первый испуг, он поднялся. Падение не причинило ему вреда. Здесь светлей. Смутно видны серые неровные стены. Это узкий проход, расположенный перпендикулярно к тому, по которому шел Миша, приблизительно на пол-аршина ниже его.
— Мишка-а! — послышался голос. В верхнем коридоре зачернела Борькина фигура. — Миша! Ты где?
Миша не откликался. Ага! Заговорил! Пусть поищет.
Миша прижался к стене и молчал.
— Миша, Миша, ты где? — беспокойно бормотал Борька, высунув голову и осматривая проход. — Что же ты молчишь? Мишк…
— Где твой подземный ход? — насмешливо спросил Миша. — Где мертвецы? Показывай!
— Это и есть подземный ход, — зашептал Борька, — только туда нельзя ходить. Там самые гробы с мертвецами стоят.
— Боюсь я твоих мертвецов! — Миша двинулся по проходу.
Но Борька схватил его за плечо.
— Смотри, Мишка, — волнуясь, зашептал он, — говорю тебе, идем назад, а то хуже будет…
— Что ты меня пугаешь?
— А ты не ходи. Мы без фонаря все равно ничего не найдем. Я завтра фонарь достану, тогда пойдем.
— Не обманешь? Знаю я тебя!
— Ей-богу! Чтоб мне провалиться на этом месте! А не пойдешь назад, смотри: уйду и не вернусь. Пропадай здесь.
— Испугался я очень, — презрительно ответил Миша, но пополз вслед за Борькой обратно.
Они вышли из подвала. Ослепительное солнце ударило им в глаза.
— Так смотри, — сказал Миша, — завтра утром.
— Всё, — ответил Борька, — договорились.
Глава 19
Шурка Большой
На заднем дворе появился Шура Огуреев, или, как его называли ребята, Шурка Большой, самый высокий во дворе мальчик. Он считался великим артистом и состоял членом драмкружка клуба. Клуб этот находился в подвальном помещении первого корпуса и принадлежал домкому. Ребят туда не пускали, кроме Шурки Большого, который по этому поводу очень важничал.
— А, Столбу Верстовичу! — приветствовал его Миша.
Шура бросил на него полный достоинства взгляд:
— Что это у тебя за ребяческие выходки! Я думал, что ты уже вышел из детского возраста.
— Ишь ты, какой серьезный! — сказал Генка. — Где это тебя так выучили? В клубе, что ли?
— Хотя бы в клубе. — Шура сделал многозначительную паузу. — Вам-то хорошо известно, что в клуб пускают только взрослых.
— Подумаешь, какой взрослый нашелся! — сказал Миша. — Вырос, длинный как верста, вот тебя и пускают в клуб.
— Я клубный актив, — важно ответил Шура, — а тебе если завидно, так и скажи.
— Нас в клуб не пускают потому, что мы неорганизованные, — сказал Слава, — а вот, говорят, на Красной Пресне есть отряд юных коммунистов, и они имеют свой клуб.
— Да, есть, — авторитетно подтвердил Шура, — только они называются по-другому, не помню как. Но это для маленьких, а взрослые вступают в комсомол.
Шура намекал на то, что он посещает комсомольскую ячейку фабрики и собирается вступить в комсомол.
— Здорово… — задумчиво произнес Миша. — У ребят — свой отряд!
— Это, наверно, скауты, — сказал Генка. — Ты, Славка, что-нибудь путаешь.
— Нет, я не путаю. Скауты носят синие галстуки, а эти — красные.
— Красные? — переспросил Миша. — Ну, если красные, значит, они за советскую власть. И потом, ведь на Красной Пресне — какие там могут быть скауты! Самый пролетарский район.
— Да, — подтвердил Шура, — они за советскую власть.
— И у них есть свой клуб?
— А как же, — сказал Шура и неуверенно добавил: — У них у каждого есть членский билет.
— Здорово!.. — снова протянул Миша. — Как же я об этом ничего не слыхал? Ты это, Славка, откуда все знаешь?
— Мальчик один в музыкальной школе рассказывал.
— Почему же ты точно все не узнал? Как они называются, где их клуб, кого принимают…
— «Принимают»! — засмеялся Шура. — Думаете, так просто: взял и поступил. Так тебя и приняли!
— Почему же не примут?
— Не так-то просто! — Шура многозначительно покачал головой. — Сначала нужно проявить себя.
— Как это — проявить?
— Ну… вообще, — Шура сделал неопределенный жест, — показать себя… Ну вот как некоторые: работают в клубе, ходят на комсомольские собрания…
— Ладно, Шурка, — перебил его Миша, — не надо уж слишком задаваться! Ты много задаешься, а пользы от тебя никакой.
— То есть как?
— Очень просто. Ты ведь собираешься в комсомол поступить. Ну вот. Комсомольцы на фронте воевали. Теперь на заводах, на фабриках работают. А ты что? Стоишь за кулисами, толпу изображаешь… Ты вот что скажи: хочешь быть режиссером?
— Как это — режиссером? У нас режиссер товарищ Митя Сахаров.
— Он режиссер взрослого драмкружка, а мы организуем детский, тогда всех ребят будут пускать в клуб. Поставим пьесу. Сбор — в пользу голодающих Поволжья. Вот и проявим себя.
— Правильно! — сказал Слава. — Можно еще и музыкальный кружок, потом хоровой, рисовальный.
— Не позволят… — Шура с сомнением покачал головой, но по глазам его было видно, что ему очень хочется быть режиссером.
— Позволят, — настаивал Миша. — Пойдем к товарищу Мите Сахарову. Так, мол, и так: хотим организовать свой драмкружок. Разве он может нам запретить?
— А он вас в шею! — крикнул Борька, собиравший на помойке бутылки.
— Не твое дело! — Генка погрозил ему кулаком. — Торгуй своими ирисками.
— Конечно, — продолжал размышлять Шура, — это неплохо… Но по характеру своего дарования я исполнитель, а не режиссер…
— Ну и прекрасно, — сказал Миша, — раз ты исполнитель, так и будешь исполнять режиссера. Чего тут думать!
— Хорошо, — согласился наконец Шура. — Только уговор: слушаться меня во всем. В искусстве самое главное — дисциплина. Ты, Генка, будешь простаком. Ты, Славка, — героем, ну и, конечно, музыкальное оформление. Мишу предлагаю администратором. — Шурка покровительственно посмотрел на остальных ребят. — Инженю и прочие амплуа я распределю потом, после испытаний.
Глава 20
Клуб
Клуб состоял из одного только зрительного зала и сцены. Когда не было спектакля или собрания жильцов, скамейки сдвигались к одной стороне и в разных углах клуба работали кружки.
Домашние хозяйки и домработницы учились в ликбезе. На сцене происходили репетиции драмкружка. В середине зала бильярдисты катали шары, задевая киями музыкантов струнного оркестра. Надо всем этим господствовал заведующий клубом и режиссер товарищ Митя Сахаров. Это был вечно озабоченный молодой человек в длинной порыжевшей бархатной толстовке с лоснящимся черным бантом и в узких брюках «дудочкой». У него длинный, тонкий нос и острый кадык, готовый вот-вот разрезать изнутри Митино горло. Растопыренной ладонью Митя ежеминутно откидывал назад падающие на лицо длинные, прямые, неопределенного цвета волосы.
Шура подтолкнул вперед Мишу:
— Говори. Ведь ты администратор. — А сам отошел в сторону с таким видом, будто он совсем ни при чем и сам смеется над этой ребячьей затеей.
— М-да… — процедил Митя Сахаров, выслушав Мишину просьбу. — М-да… У меня не театральное училище, а культурное учреждение. М-да… Культурное учреждение в тисках домкома… — И он ушел на сцену, откуда вскоре послышался его плачущий голос: — Товарищ Парашина, вникайте в образ, в образ вникайте…
Миша подошел к ребятам:
— Ничего не вышло. Отказал. У него не театральное училище, а культурное учреждение в тисках домкома.
— Вот видите, — сказал Шура, — я так и знал!
— Ты всегда «так и знал»! — рассердился Миша.
Мальчики стояли задумавшись. Гулко стучали шары на бильярде. Струнный оркестр разучивал «Турецкий марш» Моцарта. А со стены, с плаката, изможденный старик протягивал костлявую руку: «Помоги голодающим Поволжья!» Глаза его горели лихорадочным огнем, и с какой стороны ни подойти к плакату, глаза неотступно следовали за тобой, как будто старик поворачивал голову.
— Есть еще выход, — сказал Миша.
— Какой?
— Пойти к товарищу Журбину.
— Ну-у, — махнул рукой Шура, — станет он заниматься нашим кружком, член Моссовета… Я не пойду к нему… Еще на Ведьму нарвешься.
— А я пойду, — сказал Миша. — В конце концов, это не собственный клуб Мити Сахарова… Айда, Генка!
По широкой лестнице они поднялись на четвертый этаж, где жил Журбин. Миша позвонил. Генка в это время стоял на лестнице. Он отчаянно трусил и, когда послышался шум за дверью, бросился бежать, прыгая через три ступеньки. Дверь открыла соседка Журбина, высокая, тощая женщина с сердитым лицом и длинными, выпирающими зубами. За злой характер ребята называли ее Ведьмой.
— Тебе чего? — спросила она.
— Мне нужен товарищ Журбин.
— Зачем?
— По делу.
— Какое еще дело! Шляются тут… — пробормотала она и захлопнула дверь, едва не прищемив Мише нос.
— Ведьма! — закричал Миша и бросился вниз по лестнице.
Он почти скатился по ней и вдруг уткнулся в кого-то. Миша поднял голову. Перед ним стоял товарищ Журбин.
— Что такое? Ты чего безобразничаешь? — строго спросил Журбин.
Миша стоял, опустив голову.
— Ну? — допрашивал его Журбин. — Ты что, глухой?
— Н-нет…
— Что же ты не отвечаешь? Смотри, больше не безобразничай. — Тяжело ступая, Журбин медленно пошел вверх по лестнице.
Миша побрел вниз. Как нехорошо получилось! Он слышал над собой тяжелые шаги Журбина. Потом шаги затихли, раздался скрежет ключа в замке, шум открываемой двери. Миша остановился, обернулся и, крикнув: «Товарищ Журбин, одну минуточку!» — побежал вверх.
Журбин стоял у открытой двери. Он вопросительно посмотрел на Мишу:
— Что скажешь?
— Товарищ Журбин, — запыхавшись, проговорил Миша, — мы хотим драмкружок организовать… вот… а товарищ Митя Сахаров нам не разрешает.
— Кто это «мы»?
— Мы все, ребята со двора.
Журбин продолжал строго смотреть на Мишу. Потом легкая усмешка тронула его усы и в глазах появилась улыбка. Он ничего не отвечал. Он стоял и улыбался, глядя на голубые Мишины глаза, черные спутанные волосы, острые поцарапанные локти. И почему улыбался и о чем думал этот пожилой, грузный человек с орденом Красного Знамени на груди, Миша не знал.
— Ну что ж, зайдем, потолкуем, — произнес наконец Журбин, входя в квартиру.
Миша вошел вслед за ним. Соседка сердито посмотрела на Мишу, но ничего не сказала.
Глава 21
Акробаты
Через полчаса Миша вышел от Журбина и побежал во двор. Большая толпа народа смотрела там представление бродячей труппы. Нагнувшись и протискиваясь в толпе зрителей, Миша пробрался вперед.
Выступали акробаты, мальчик и девочка, одетые в синее трико с красными кушаками. Они делали упражнения на коврике, и бритый мужчина, тоже в синем трико, кричал им: «Алле!»
Здорово они перегибаются! Особенно девочка, тоненькая, стройная, с синими глазами под загнутыми вверх ресницами. Она грациозно раскланивалась и затем, небрежно тряхнув длинными льняными волосами и как бы стряхнув с лица привычную улыбку, разбегалась и делала сальто.
В стороне стоял маленький ослик, запряженный в тележку на двух велосипедных колесах. На тележке под углом было закреплено два фанерных щита, и на них яркими буквами было написано:
2 БУШ 2
АКРОБАТИЧЕСКИЙ АТТРАКЦИОН
2 БУШ 2
Ослик стоял смирно, только косился на публику большими глазами и смешно двигал длинными ушами.
Представление кончилось. Бритый мужчина объявил, что они не нищие, а артисты. Только «обстоятельства времени» заставляют их ходить по дворам. Он просит уважаемую публику отблагодарить за полученное удовольствие — кто сколько может.
Девочка и мальчик с алюминиевыми тарелками обходили публику. Из окон им бросали монеты, завернутые в бумажки. Ребята подбирали их и передавали акробатам. Миша тоже подобрал бумажку с монетой и ждал, когда к нему подойдет девочка.
Она подошла и остановилась перед ним, улыбаясь и глядя широко открытыми синими глазами. Миша растерялся и стоял не двигаясь.
— Ну? — Девочка легонько толкнула его тарелкой в грудь.
Миша спохватился и бросил бумажку в тарелку. Девочка пошла дальше и, оглянувшись на Мишу, засмеялась. И потом, когда окруженные толпой акробаты пошли со двора, девочка в воротах опять оглянулась и снова рассмеялась. Кто-то ударил Мишу по спине. Он обернулся. Возле него стояли Шура, Генка и Слава.
— Что тебе сказал Журбин? — спросил Шура.
— Вот, читайте! — Миша разжал кулак и развернул листок.
Что такое? В измятой бумажке с косыми линейками и в масляных пятнах лежал гривенник. Так и есть! Он по ошибке отдал девочке записку Журбина.
— Он тебе всего-навсего гривенник дал, — насмешливо протянул Шура.
Миша выскочил из ворот и помчался в соседний двор. Акробаты уже заканчивали представление. Когда девочка начала обходить публику, Миша подошел к ней, положил в тарелку гривенник и смущенно пробормотал:
— Девочка, я тебе по ошибке дал не ту бумажку. Верни мне ее, пожалуйста. Это очень важная записка.
Девочка рассмеялась:
— Какая записка? Какой ты смешной… А почему у тебя шрам на лбу?
— Это тебя не касается, — сухо ответил Миша. — Это мне белогвардейцы сделали. Верни мне записку.
Девочка погрозила пальцем:
— Ты, наверно, драчун. Не люблю драчунов.
— Меня это не касается, — мрачно произнес Миша. — Отдай мне записку.
— Вот смешной! — Девочка пожала плечами. — Не видала я твоей записки. Может быть, она у Буша… Подожди немного.
Она закончила обход зрителей и, передавая деньги бритому, что-то сказала ему. Он раздраженно отмахнулся, но девочка настаивала, даже топнула ногой в атласной туфельке. Тогда бритый опустил руку в парусиновый мешочек, хмурясь и бурча, долго копошился там и наконец вытащил сложенный вчетверо листок, тот самый, что дал Мише Журбин. Миша схватил его и побежал к себе во двор. Девочка смотрела ему вслед и смеялась. И Мише показалось, что ослик тоже мотнул головой и насмешливо оскалил длинные желтые зубы…
Глава 22
Кино «Арс»
Сталкиваясь головами, мальчики читали записку Журбина.
На белом бланке карандашом было написано:
«Товарищ Сахаров! Инициативу ребят надо поддержать. Работа с детьми — дело важное, для клуба особенно. Прошу вас обязательно помочь детям нашего дома в организации драмкружка.
Журбин».— Все в порядке, — сказал Шура. — Я так и знал, что Журбин поможет. Завтра соберем организационное собрание, а пока всего хорошего… — Он многозначительно посмотрел на ребят. — Я тороплюсь на важное совещание…
— Ох, и строит же он из себя! — сказал Генка, когда Шура ушел. — Так его и ждут на важном совещании. Отлупить бы его как следует, чтобы не задавался!
Миша, Генка и Слава сидели на каменных ступеньках выходного подъезда кино «Арс». Вечер погрузил все предметы в серую мглу, только в середине двора чернела чугунная крышка пожарного колодца. Бренчала гитара. Слышался громкий женский смех. Арбат шумел последними вечерними звуками, торопливыми и затихающими.
— Знаете, ребята, — сказал Генка, — в кино можно бесплатно ходить.
— Это мы знаем, — ответил Миша, — целый день рекламу таскать… Очень интересно!
— Вот если бы иметь такую тележку, как у акробатов! — Генка причмокнул губами. — Вот на ней бы рекламу возить… Это да!
— Правильно, — подхватил Миша, — а тебя вместо ослика…
— Его нельзя вместо ослика, — серьезно сказал Слава, — ослики рыжие не бывают…
— Смейтесь, смейтесь, — сказал Генка, — а вот Борька наймется рекламу таскать и будет бесплатно в кино ходить.
— Борька не наймется, — сказал Миша, — Борька теперь марками спекулирует. Интересно, где он марки достает?
— Я знаю где, — сказал Генка, — на Остоженке, у старика филателиста.
— Да? — удивился Миша. — Я там сколько раз был, ни разу его не видел.
— И не увидишь. Он к нему со двора ходит, с черного хода.
— Странно! — продолжал удивляться Миша. — Что же, он таскает марки, что ли? Он ведь их по дешевке продает…
— Уж это я не знаю, — сказал Генка, — только ходит он туда. Я сам видел…
— Ну ладно, — сказал Миша. — Теперь вот что: знаете, про что мне Журбин рассказал?
— Откуда мы знаем, — пожал плечами Слава.
— Так слушайте. Он мне рассказал про этих самых ребят с Красной Пресни. Они называются «юные пионеры». Вот как они называются.
— А что они делают? — спросил Генка.
— Как — что? Это же детская коммунистическая организация. Понимаешь? Ком-мунистическая. Значит, они коммунисты… только… ну, ребята… У них знаешь как? У них все по-военному.
— И винтовки есть? — спросил Генка.
— А как же! Это знаешь какие ребята? Будь здоров!
Немного помолчав, Миша продолжал:
— Журбин так сказал: «Занимайтесь своим кружком, посещайте клуб, а там и пионерами станете».
— Так и сказал?
— Так и сказал.
— А где находится этот отряд? — спросил Слава.
— При типографии, в Краснопресненском районе. Видишь, я все точно узнал. Не то что ты.
— Хорошо б пойти посмотреть! — сказал Слава, пропуская мимо ушей Мишино замечание.
— Да, не мешает сходить, — согласился Миша. — Только надо адрес узнать, где эта самая типография находится.
Мальчики замолчали. Через открытые для притока воздуха выходные двери кино виднелись черные ряды зрителей, над которыми клубился светлый луч киноаппарата.
Мимо ребят прошла Алла Сергеевна, Славина мать, красивая, нарядная женщина. Увидев ее, Слава поднялся.
— Слава, — сказала она, натягивая на руки тонкие черные перчатки, — пора уже домой.
— Я скоро пойду.
— Не задерживайся. Даша даст тебе поужинать, и ложись спать.
Она ушла, оставив после себя запах тонких духов.
— Мама на концерт ушла, — сказал Слава. — Знаете что, ребята? Пошли в кино! Ведь сегодня «Красные дьяволята», вторая серия.
— А деньги?
Слава замялся:
— Мне мама дала два рубля. Я хотел ноты купить…
Генка вскочил:
— Что же ты молчишь? Пошли в кино! Где ты сейчас ноты купишь? Все магазины уже закрыты.
— Но я могу завтра купить, — резонно ответил Слава.
— Завтра? Завтра будет видно. И вообще никогда ничего не надо откладывать на завтра. Раз можно сегодня идти в кино — значит, надо идти.
Мальчики купили билеты и вошли в кино.
От входа узкий коридор вел в тесное фойе. На стенах вперемешку с ветхими афишами и портретами знаменитых киноактеров висели старые плакаты. Красноармеец в буденовке устремлял на каждого указательный палец: «А ты не дезертир?» В «Окне РОСТА» под квадратами рисунков краснели строчки стихов Маяковского. Над буфетом с засохшими пирожными и ландрином висел плакат: «Все на борьбу с детской беспризорностью!»
Здесь была самая разнообразная публика: демобилизованные в кепках и военных шинелях, работницы в платочках, парни в косоворотках, пиджаках и брюках, «напущенных» на сапоги.
Раздался звонок. Публика заторопилась в зрительный зал, спеша занять лучшие места. Погас свет. Киноаппарат начал яростно стрекотать. Разнесся монотонный аккомпанемент разбитого рояля. Зрители теснились на узких скамейках, шептались, грызли подсолнухи, курили, пряча папиросы в рукав…
Картина кончилась. Ребята вышли на улицу, но мыслями они были там, с «красными дьяволятами», с их удивительными приключениями. Вот это настоящие комсомольцы! Эх, жалко, что он, Миша, был в Ревске еще маленьким! Теперь-то он знал бы, как разделаться с Никитским.
Вот и кончился первый день каникул. Пора домой. На улице совсем темно. Только освещенный вход «Арса» большим светляком дрожал на тротуаре. За железными сетками тускнели фотографии. Оборванные полотнища афиш бились о двери.
Глава 23
Драмкружок
Когда на следующий день Миша пришел во двор, он заметил дворника, дядю Василия, выходившего из подъезда черного хода с молотком и гвоздями в руках.
Миша зашел в подъезд и увидел, что проем, ведущий в подвал, заколочен толстыми досками. Вот так штука!
Он выбежал из подъезда. Дядя Василий поливал двор из толстой брезентовой кишки.
— Дядя Василий, дай я полью! — попросил Миша.
— Нечего, нечего! — Дворник, видимо, был не в духе. — Много вас тут, поливальщиков! Баловство одно.
Миша испытующе посмотрел на дворника и осторожно спросил:
— Что это ты, дядя Василий, плотничать начал?
Дядя Василий в сердцах тряхнул кишкой и обдал струей воды окна второго этажа.
— Филин, вишь, за свой склад беспокоится, а ты заколачивай. Пристал, как репей. Из подвала к нему могут жулики залезть, а ты заколачивай. В складе-то, окромя железа, и нет ничего, а ты, обратно, заколачивай. Баловство одно!
Вот оно что! Филин велел забить ход в подвал. Тут что-то есть. Недаром Борька не пускал его вчера в подземный ход… Это все не зря!
Борька торговал у подъезда папиросами. Миша подошел к нему:
— Ну, пойдем в подвал?
Борька осклабился:
— Держи карман шире! Ход-то заколотили.
— Кто велел?
Борька шмыгнул носом:
— Кто? Известно кто: управдом велел.
— Почему он велел? — допытывался Миша.
— «Почему»… «Зачем»… — передразнил его Борька. — Чтобы мертвецы не убежали, вот зачем… — И, отбежав в сторону, крикнул: — И чтобы ослы вроде тебя по подвалу не шатались!..
Миша погнался за ним, но Борька юркнул в склад. Миша погрозил ему кулаком и отправился в клуб…
Записка Журбина подействовала. Митя Сахаров отвел ребятам место, но предупредил, что не даст им ни копейки.
— Основной принцип театрального искусства, — сказал он, — это самоокупаемость. Привыкайте работать без дотации… — И он наговорил еще много других непонятных слов.
Шурка Большой назначил испытания поступающим в драмкружок. Он заставлял их декламировать стихотворение Пушкина «Пророк». Все декламировали не так, как следовало, и Шура сам показывал, как это надо делать. При словах: «И вырвал грешный мой язык» — он делал зверскую физиономию и отчаянным жестом будто вырывал свой язык и выбрасывал его на лестницу. У него это здорово получалось! Маленький Вовка Баранов, по прозвищу Бяшка, потом все время глядел ему в рот, высматривая, есть там язык или уже нет.
После испытаний начали выбирать пьесу.
— «Иванов Павел», — предложил Слава.
— Надоело, надоело! — отмахнулся Шура. — Избитая, мещанская пьеса. — И он, гримасничая, продекламировал:
Царь персидский — грозный Кир В бегстве свой порвал мундир…Знаем мы этого Кира!.. Нет, не пойдет, — добавил он не допускающим возражений тоном.
После долгих споров остановились на пьесе в стихах под названием «Кулак и батрак»: о мальчике Ване — батраке кулака Пахома.
Шура будет играть кулака. Генка — мальчика Ваню, бабушку мальчика Вани — Зина Круглова, толстая смешливая девочка из первого подъезда.
Миша не принимал участия в испытаниях. Подперев подбородок кулаком, сидел он за шахматным столиком и все время думал о подвале.
Борька обманул его, нарочно обманул. Он сказал отцу, и Филин велел заколотить ход в подвал. Значит, есть какая-то связь между подвалом и складом, хотя склад находится в соседнем дворе.
Что же угрожает складу, где хранятся старые, негодные станки и части к ним? Эти части валяются во дворе без всякой охраны. Кому они нужны? Кто полезет туда, особенно через подвал, где нужно ползти на четвереньках?..
И потом, ведь Филин — может быть, это тот самый Филин, о котором говорил ему Полевой. Миша вспомнил узкое, точно сплюснутое с боков, лицо Филина и маленькие, щупающие глазки. Как-то раз, зимой, он приходил к ним. Он дал маме крошечный мешочек серой муки и взял за это папин костюм, темно-синий костюм с жилетом, почти не ношенный. Он все высматривал, что бы ему еще выменять. Его маленькие глазки шарили по комнате. Когда мама сказала, что ей жалко отдавать костюм, потому что это последняя память о папе, Филин ей ответил: «Вы что же, эту память с маслом собираетесь кушать? Ну и кушайте на здоровье».
Мама тогда вздохнула и ничего ему не ответила… Нет! Нужно обязательно выяснить, в чем тут дело. Пусть Борька не думает, что так легко провел его.
Миша встал, внимательным взглядом обвел клуб. А нельзя ли попасть в подвал отсюда? Ведь клуб тоже находится в подвале, правда, под другим корпусом, но это неважно: как-то он должен соединяться с остальной частью здания.
Миша обошел клуб, тщательно исследовал его стены. Он оттягивал плакаты, диаграммы, залезал за шкафы, но ничего не находил. Он зашел за кулисы. Пол был завален всякой рухлядью. В полумраке виднелись прислоненные к стенам декорации: фанерные березки с черно-белыми стволами, избы с резными окошками, комнаты с часами и видом на реку.
Миша раздвигал эти декорации, пробираясь к стенке, как вдруг из-за кулис появился товарищ Митя Сахаров:
— Поляков! Что ты здесь делаешь?
— Гривенник затерялся, Дмитрий Иванович, никак найти не могу.
— Что за гривенник?
— Гривенник, понимаете, такой круглый гривенник, — бормотал Миша, но глаза его неотступно смотрели в одну точку. За щитом с помещичьим, в белых колоннах домом виднелась железная дверь. Миша смотрел на нее и бормотал: — Понимаете, такой серебряный двугривенный…
— М-да… Что за чепуха! То гривенник, то двугривенный… Ты что, с ума сошел?
— Да нет, — Миша все смотрел на дверь, — был у меня гривенник, а затерялся двугривенный. Что тут непонятного?
— Очень непонятно, — пожал плечами Митя Сахаров, — м-да, очень непонятно. Во всяком случае, ищи скорей свой гривенный-двугривенный и убирайся отсюда. — Растопыренной ладонью Митя Сахаров откинул назад волосы и удалился.
Глава 24
Подвал
Миша, Генка и Слава сидели на берегу Москвы-реки, возле вновь построенной у Дорогомиловского моста водной станции.
Слава лежал на спине и задумчиво смотрел на небо. Генка метал по водной глади камешки и считал, сколько раз они отскакивают. Миша убеждал друзей пойти с ним разыскивать подземный ход.
Вечерело. Хлопья редкого тумана, как плохо надутые серые мячи, скользили по реке, почти касаясь воды и тихонько отскакивая. На мосту грохотали трамваи, торопились далекие прохожие, пробегали маленькие автомобили.
— Вы подумайте, — говорил Миша, — мертвецы, гробы — это же басни. Станет Филин заботиться о мертвецах! Все это выдумано, чтобы отпугнуть нас от подвала. Нарочно выдумано. Там или подземный ход, или они что-то прячут.
— Не говори, Миша, — вздохнул Генка, — есть такие мертвецы, что никак не успокоятся. Залезешь в подвал, а они на тебя ка-ак навалятся…
— Мертвецов там, конечно, нет, — сказал Слава, — но… зачем нам все это нужно? Ну, прячет там что-нибудь Филин, он же известный спекулянт. Нам-то какое дело?
— А если это действительно подземный ход под всей Москвой, тогда что?
— Мы его все равно не найдем, — возразил Слава, — плана-то у нас нет.
— Ладно! — Миша встал. — Вы просто дрейфите. А еще в пионеры хотите! Зря я вам все рассказал. Ничего. Без вас обойдусь.
— Я не отказываюсь, — замотал головой Генка. — Разве я отказываюсь? Я только сказал о мертвецах. Уж и слова сказать нельзя… Это Славка отказывается, а я, пожалуйста, в любое время…
— Когда я отказывался? — Славка покраснел. — Я только сказал, что с планом было бы лучше. Разве это не так?
На ближайшую репетицию друзья явились в клуб раньше всех.
Репетиции детского кружка происходили от двух до четырех часов дня. Потом тетя Елизавета, уборщица, запирала клуб до пяти, когда уже собирались взрослые. Вот в этот промежуток времени, от четырех до пяти часов, нужно было проникнуть в подвал.
Миша и Слава спрятались за кулисы. Генка стал поджидать остальных актеров. Вскоре они явились и начали репетировать. Сидя за кулисами, Миша и Слава слышали их голоса.
Шура-кулак уговаривал Генку-Ваню: «Ваня, тебя я крестил», на что Генка-Ваня высокомерно отвечал: «Я вас об этом совсем не просил». И они спорили о том, как в это время Генка должен стоять: лицом к публике и спиной к Шуре или, наоборот, лицом к Шуре, а спиной к публике. Вообще они больше спорили, чем репетировали. Шура кричал на всех и грозился бросить «всю эту канитель». Генка препирался с ним. Зина Круглова все время хохотала — такая уж она смешливая девочка.
Наконец репетиция кончилась. Генка незаметно присоединился к Мише и Славе, остальные ребята ушли; тетя Елизавета закрыла клуб. Мальчики остались одни перед массивной железной дверью, ведущей в подвал.
Припасенными клещами они вырвали гвоздь и потянули дверь. Заскрипев на ржавых петлях, она медленно отворилась.
Из подвала ребят обдало сырым, спертым воздухом. Миша зажег маленький электрический фонарик, и они вступили в подземелье.
Фонарик светил едва-едва. Нужно было вплотную приблизить его к стене, чтобы увидеть ее серую неровную поверхность.
Подвал представлял собой ряд прямоугольных помещений, образованных фундаментом дома. Помещения были пусты, только в одном из них мальчики увидели два больших котла. Это была заброшенная котельная. На полу валялись обрезки труб, куски затвердевшей извести, кирпич, каменный уголь, ящики с засохшим цементным раствором.
Фонарик быстро слабел и наконец погас. Мальчики двигались в темноте, нащупывая руками повороты. Иногда им казалось, что они кружат на одном месте, но Миша упорно шел вперед, и Генка со Славой не отставали от него.
Блеснула полоска света. Вот и заколоченный вход. Свет пробивался сквозь щели между досками. За ними виднелась узкая лестница с высокими ступеньками и железными перилами.
Мальчики пошли дальше, по-прежнему держась правой стороны. Проход суживался. Миша ощупал потолок. Вот и железная труба. Он прислушался: над ним тихо журчала вода.
Миша присел на корточки, зажег спичку. Внизу тянулся узкий проход, тот самый, в который он упал, испугавшись внезапного шороха. Мальчики поползли по этому проходу. Когда он кончился, Миша поднялся и пошарил над собой рукой. Высоко! Он зажег спичку.
Они увидели большое квадратное помещение с низким потолком.
— Ребята, — прошептал Генка, — гробы…
Вдоль противоположной стены чернели очертания больших гробов.
Мальчики замерли. Спичка погасла. В темноте им послышались какие-то звуки, шорох, глухие, замогильные голоса. Ребята стояли, точно оцепенев. Вдруг над ними что-то заскрипело, блеснула, все расширяясь, полоса света, раздались шаги. Мальчики бросились в проход и спрятались там затаив дыхание.
На потолке открылся люк. Из него вынырнула лестница. По ней в подвал осторожно спустились два человека. Сверху им подавали ящики. Они устанавливали их рядом с уже сложенными в подвале ящиками, которые мальчики со страху приняли за гробы.
Затем в подвал спустился третий человек. Сходя с лестницы, он оступился и выругался. Миша вздрогнул. Голос этот показался ему знакомым.
Этот человек был высокого роста. Он обошел помещение, осмотрел ящики, потом потянул носом воздух и спросил:
— Кто здесь спички жег?
Мальчики обмерли.
— Это вам показалось, Сергей Иванович, — ответил ему один из мужчин.
Ребята узнали голос Филина.
— Мне никогда ничего не кажется, запомните это, Филин. — Высокий подошел к проходу и стоял теперь совсем рядом с мальчиками. Но он стоял спиной к ним, и лица его не было видно. — Завалили проход? — спросил он.
— Так точно, — торопливо ответил Филин. — Дверь заколотили, а проход завалили.
И соврал: проход вовсе не был завален.
Потом все трое поднялись наверх и втащили за собой лестницу. Люк закрылся, погрузив помещение в темноту. Мальчики быстро поползли обратно, выбрались из подвала в клуб. Клуб уже был открыт. Они пробежали по нему и выскочили на улицу.
Глава 25
Подозрительные люди
Только что прошел короткий летний дождь. Блестели булыжники мостовой, стекла витрин, серые верха пролеток, черный шелк зонтиков. Вдоль тротуаров, стекая в решетчатые колодцы, бежали мутные ручьи. Девушки с туфлями в руках, громко хохоча, шлепали по лужам. Прошли сезонники с мешками в виде капюшонов на голове. Из оторванной водосточной трубы лила вода. Она ударялась в стену и рикошетом попадала на прохожих, в испуге отскакивавших в сторону. И над всем этим веселое солнце, играя, разгоняло мохнатые, неуклюжие тучи.
— Что же ты, Геннастый, страху напустил? — сказал Миша. — Всюду ему гробы мерещатся!
— А вы не испугались? — оправдывался Генка. — Сами испугались не знаю как, а на меня сваливают!
Он помолчал, потом сказал:
— Я знаю, что в ящиках.
— Что?
— Нитки. Вот что!
— Откуда ты знаешь?
— Знаю. Теперь все спекулянты нитками торгуют. Самый выгодный товар…
А Мише все слышался этот резкий, так странно знакомый голос. Кто это мог быть? Его зовут Сергеем Иванычем… Полевого тоже так звали, но ведь это не Полевой… Просто совпадение имен.
Мальчики стояли возле кино «Арс». Миша следил за воротами склада. Генка и Слава рассматривали висевшие за сеткой кадры картины «Голод… голод… голод». Это был фильм о голоде в Поволжье.
Мимо них прошел Юра Стоцкий, сын доктора «Ухо, горло и нос». Раньше Юра был скаутом. Теперь скаутских отрядов не существовало, Юра форму не носил, но его по-прежнему называли Юрка-скаут. Он шел с двумя товарищами и держал в руке скаутский посох.
Генка начал их задирать:
— Эй вы, скаутенки! — Он схватил Юрин посох. — Отдай палку!
Генка тянул посох к себе, Юра с товарищами — к себе. Генка был один против троих. Он оглянулся на друзей: что это они его не выручают? Но Миша коротко сказал:
— Брось, — и все продолжал смотреть в сторону филинского склада.
Как это «брось»? Уступить скаутам? Этим буржуйским подлипалам? Они стоят за какого-то английского генерала. Сейчас он им покажет английского генерала! Отпихивая мальчиков ногами, Генка изо всех сил потянул посох к себе.
— Брось, я тебе говорю! — снова сказал Миша.
Генка отпустил посох и, тяжело дыша от напряжения, сказал:
— Ладно, я вам еще покажу.
— Покажи! — высокомерно усмехнулся Юра. — Испугались тебя очень…
Юра со своими товарищами ушел. Генка с удивлением смотрел на Мишу, но Миша не обращал внимания ни на Генку, ни на Юру. Из ворот склада вышел высокий, худощавый человек в сапогах и белой кавказской рубахе, подпоясанной черным ремешком с серебряным набором. В воротах он остановился и закурил. Он поднес к папиросе спичку, прикрывая ее от ветра ладонями. Ладони закрыли его лицо; из-за них внимательный взгляд скользнул по улице. Человек бросил спичку на тротуар и пошел по направлению к Арбатской площади. Миша пошел вслед за ним, но высокий, пересекая улицу, неожиданно вскочил на ходу в трамвай и уехал…
Охваченный смутной тревогой, бродил Миша по вечерним московским улицам.
Пламенеющий закат зажег золотые костры на куполах церквей. Летний вечер знойно дышал расплавленным асфальтом тротуаров и пылью булыжных мостовых. Беззаботные дети играли на зеленых бульварах. Старые женщины сидели на скамейках.
«Почему голос этого человека показался таким странно знакомым? — думал Миша. — Где я его слышал? Что прячет Филин в подвале? А может быть, тут ничего и нет. Просто склад в подвале. И что голос этот знакомый, только так, показалось… А вдруг… Нет, не может быть! Неужели это Никитский? Нет! Он не похож на него. Где шрам, чуб? Нет, это не Никитский. И зовут его Сергей Иваныч… Разве стал бы Никитский так свободно разгуливать по Москве?»
Миша миновал Воздвиженку и вышел на Моховую.
Вдоль университетской ограды расположили свои ларьки букинисты. Открытые книги лежали на каменном цоколе. Буквы чернели на пожелтевших листах, золотились на тисненых переплетах. Пожилые мужчины, худые, сутулые, в очках и помятых шляпах, стояли на тротуаре, уткнув носы в страницы. Из университетских ворот выходили студенты, рабфаковцы в косоворотках, кожаных куртках, с обтрепанными портфелями.
На углу Большой Никитской дорогу Мише преградили колонны демонстрантов. Шли рабочие Красной Пресни.
Над колоннами двигались длинные, во всю ширину улицы, полотнища: «Смерть наемникам Антанты!», «Смерть агентам международного империализма!» Демонстранты шли к Дому союзов, где в Колонном зале происходил суд над правыми эсерами.
С Лубянской и Красной площадей шли новые колонны. Шли рабочие Сокольников, Замоскворечья, рабочие «Гужона», «Бромлея», «Михельсона»… Шумели комсомольцы. С импровизированных трибун выступали ораторы. Они говорили, что капиталисты Англии и Америки руками предателей-эсеров хотели задушить Советскую республику. Им не удалось этого сделать в открытом бою, интервенция провалилась, и теперь они организуют заговоры, засылают к нам шпионов и диверсантов…
А может быть, Никитский вовсе и не удрал за границу, думал Миша. Может быть, он скрывается где-нибудь и организует заговор так же, как и эти, которых судят… Ведь он белогвардеец, заклятый враг советской власти… А вдруг Филин — тот самый Филин, а высокий — Никитский? Он скрывается у Филина, загримировался, фамилию переменил… Может быть, в этом складе они прячут оружие для своей белогвардейской шайки… Ведь все это очень и очень подозрительно.
Конечно, Полевой предупреждал, чтобы он остерегался, продолжал думать Миша. Но это когда было… Тогда он был маленький… А теперь-то он, во всяком случае, во всем разбирается. Разве он имеет право ждать, пока приедет Полевой? А если там действительно заговор и оружие? Нет, больше ждать нельзя…
Миша очутился у самого входа в Дом союзов. Два красноармейца проверяли у входящих пропуска. Миша попытался прошмыгнуть в дверь, но крепкая рука ухватила его за плечо:
— Куда? Пропуск!
Миша отошел в сторону. Подумаешь, охрана! Стоят тут и не знают, какой страшный заговор, может быть, он сам скоро раскроет.
Глава 26
Воздушная дорога
Склад Филина находился в соседнем дворе. Его низкие кирпичные помещения с широкими воротами и заколоченными оконными проемами тянулись вдоль всего двора, где валялись машинные части, куски железа.
Часто бродил теперь Миша возле склада. Один раз он даже зашел туда, но Филин прогнал его. Миша стал наблюдать за воротами склада издалека. Целыми днями стоял он в подъезде кино, у закусочной с зелено-желтой вывеской, перед булочной, но тот высокий человек в белой кавказской рубахе больше не появлялся. Однажды Миша снова залез в подвал, но к складу Филина он уже пробраться не мог — проход был завален.
Между тем репетиции подходили к концу, приближался день спектакля, и Шура настойчиво требовал «реквизит».
— Раз ты администратор, — говорил он Мише, — то должен заботиться. Декорации мы сами сделаем, а чем наводить грим? Дальше: парики, кадило… Все это ты должен достать. Я загружен творческой работой и не могу отвлекаться на хозяйственные дела.
Митя Сахаров денег не давал. Тогда Миша решил организовать лотерею. Для выигрыша он пожертвовал свое собрание сочинений Н. В. Гоголя в одном томе. Жалко было расставаться с Гоголем, но что делать! Не срывать же спектакль. И, как говорил Шурка Большой, «искусство требует жертв».
Сто лотерейных билетов, по тридцать копеек каждый, были быстро распроданы. Только Борька не купил билета. Он всячески пытался сорвать лотерею. Он кричал, что выигрыш обязательно падет на Мишин билет и Миша деньги зажилит.
Ему за это несколько раз здорово попадало и от Миши и от Генки, но он никак не унимался.
Борька дружил теперь с Юркой-скаутом, который тоже начал появляться во дворе. И вот, для того чтобы отвлечь ребят от драмкружка, Юра с Борькой устроили воздушную дорогу.
Воздушная дорога состояла из металлического троса; он был протянут над задним двором, пересекая его с угла на угол. Один конец троса был прикреплен к пожарной лестнице на высоте второго этажа, другой — к дереву на высоте первого. По тросу на ролике двигалась веревочная петля. «Пассажир» усаживался в эту петлю, отталкивался от лестницы и вихрем пролетал над задним двором. Длинной веревкой петля оттягивалась назад к лестнице. Первым прокатился Борька, за ним — Юра, потом — еще некоторые мальчики.
Эта затея привлекла всеобщее внимание. Пришли ребята из соседних домов. Из окон смотрели любопытные жильцы. Дворник Василий долго стоял, опершись на метлу, и, пробормотав: «Баловство одно!», ушел.
Вдруг Борька остановил дорогу и, пошептавшись с Юркой, объявил, что бесплатное катание кончилось. Теперь за каждый раз нужно платить пять копеек.
— А у кого нет, — добавил он, — сдавай Мишке билеты и получай обратно деньги. На кой вам эта лотерея? Все равно ничего не выиграете.
Первым к Мише подошел Егорка-голубятник, за ним — Васька-губан. Они протянули Мише билеты и потребовали обратно деньги. Но тут вмешался Генка. Он заслонил собой Мишу и, передразнивая продавца из булочной, слащавым голосом произнес:
— Граждане, извиняюсь. Проданный товар обратно не принимается. Деньги проверять не отходя от кассы.
Поднялся страшный шум. Борька кричал, что это грабеж и обираловка. Егорка и Васька требовали вернуть им деньги. Юра стоял в стороне и ехидно улыбался.
Миша отстранил Генку, спокойно оглядел кричащих ребят и вынул лотерейные деньги. И когда он их вынул, все замолчали.
Миша пересчитал деньги, ровно тридцать рублей, положил на ступеньки черного хода, придавил камнем, чтобы не унесло ветром, и, повернувшись к ребятам, сказал:
— Мне эти деньги не нужны. Можете взять их обратно. Только вы подумайте: почему Юра и Борька хотят сорвать наш спектакль? Ведь Юра ходил в скаутский клуб, а скауты стоят за буржуев, и они не хотят, чтобы мы имели свой клуб. О Борьке и говорить нечего. Вот… Теперь же, у кого нет совести, пусть сам возьмет свои деньги и рядом положит свой билет.
Миша замолчал, сел на батарею и отвернулся.
Но никто не подошел за деньгами. Ребята сконфуженно переминались. Каждый делал вид, что он и не думал возвращать свой билет.
Тем временем Генка влез на пожарную лестницу и торопливо отвязывал воздушную дорогу.
— Слезай, — закричал Борька, — не смей трогать!
Генка спрыгнул с лестницы и подошел к Борьке:
— Ты чего разоряешься? Думаешь, мы ничего не знаем? Всё знаем: и про подвал, и про ящики!.. Ну, убирайся отсюда!
Борька исподлобья оглядел всех, поднял с земли трос, свернул его и молча пошел со двора.
Глава 27
Тайна
— Что? Растрепал? — ругал Миша Генку. — Эх ты, звонарь!
— А я ему молчать должен? — оправдывался Генка. — Он будет спектакль срывать, а я ему должен молчать?
Ребята сидели у Славы. Квартира у него большая, светлая. На полу — ковры. Над столом — красивый абажур. На диване — маленькие пестрые подушки.
Генка сидел на круглом вращающемся стуле перед пианино и рассматривал обложки нотных тетрадей. Он чувствовал себя виноватым и, чтобы скрыть это, был неестественно оживлен и болтал без умолку.
— «Паганини»… — прочитал он. — Что это за Паганини такой?
— Это знаменитый скрипач, — объяснил Слава. — Ему враги перед концертом оборвали струны на скрипке, но он сыграл на одной струне, и никто этого не заметил.
— Подумаешь! — сказал Генка. — У отца на паровозе ездил кочегар Панфилов. Так он на бутылках играет что хочешь. Попробовал бы твой Паганини на бутылке сыграть.
— Что с тобой говорить! — рассердился Слава. — Ты ничего в музыке не понимаешь…
— Разве мне разговаривать запрещено? — Генка, оттолкнувшись от пианино, сделал несколько оборотов на вращающемся стуле.
— Знаешь, Генка, — мрачно произнес Миша, — нужно думать, что говоришь. Если бы ты думал, то не разболтал бы Борьке о ящиках.
— Тем более что ничего в этих ящиках нет, — вставил Слава.
— Нет, есть, — возразил Генка. — Там нитки.
— Почему ты так уверен, что там нитки?
— Уверен, и всё! — тряхнул вихрами Генка.
— Ты вечно болтаешь, чего не знаешь! — сказал Миша. — Там вовсе другое.
— Что?
— Ага, так я тебе и сказал! Чтобы ты снова раззвонил!
— Ей-богу! — Генка приложил руки к груди. — Чтоб мне не встать с этого места! Чтоб…
— Хоть до утра божись, — перебил его Миша, — все равно ничего не скажу. Потому что ты всегда звонарем был, звонарем и остался.
— Но я ведь не разболтал, — сказал Слава, — значит, мне ты можешь рассказать.
— Ничего я вам не скажу! — сердито ответил Миша. — Я вижу, вам нельзя доверить серьезное дело.
Некоторое время мальчики сидели молча, дуясь друг на друга, потом Слава сказал:
— Все же нечестно скрывать. Мы все трое лазили в подвал, — значит, между нами не должно быть секретов.
— Я разве знал? — заговорил Генка, обращаясь к Славе. — Я думал: ящики, ну и ящики… Ведь меня Миша не предупредил. Сам что-то скрывает, а другие виноваты.
Миша молчал. Он сознавал, что не совсем прав. Надо было предупредить Генку. И вообще он поступил не по-товарищески. Он должен был поделиться с ребятами своими подозрениями. Но… тогда как же кортик? И о кортике рассказать? Конечно, они ребята надежные, не выдадут, и Генка не разболтает, когда будет все знать. Но рассказать о кортике?.. А если так: о Филине и о Никитском рассказать, а о кортике пока не говорить, а там видно будет… Может, и о кортике рассказать… ведь один он ничего не сделает.
Все же он проворчал:
— Когда у человека есть голова на плечах, то он должен сам мозгами шевелить… А то «не предупредили» его!
Генка почувствовал в его словах примирение и начал энергично оправдываться:
— Но ты пойми, Миша: откуда я мог знать? Разве я думал, что ты от нас что-нибудь скрываешь! Ведь я от тебя ничего не скрываю…
— И вообще, — обиделся Слава, — поскольку у тебя есть от нас секреты, то и не о чем говорить…
— Ну ладно, — сказал Миша, — я вам расскажу, но имейте в виду, что это большая тайна. Эту тайну мне доверил не кто-нибудь. Мне ее доверил… — Он посмотрел на напряженные от любопытства лица ребят и медленно произнес: — Мне ее доверил Полевой. Вот кто мне ее доверил!
Зрачки у Генки расширились, взгляд его замер на Мише. Слава тоже смотрел на Мишу очень внимательно — он из рассказов Миши и Генки знал и о Полевом и о Никитском.
— Так вот, — продолжал Миша, — прежде всего дайте честное слово, что никогда, никому, ни за что вы этого дела не разболтаете.
— Даю честное слово благородного человека! — торжественно объявил Генка и ударил себя в грудь кулаком.
— Клянусь своей честью! — сказал Слава.
Миша встал, на цыпочках подошел к двери, тихонько открыл ее, осмотрел коридор, потом плотно прикрыл дверь, внимательным взглядом обвел комнату, заглянул под диван и, показав пальцем на дверь, ведущую в спальню, шепотом спросил:
— Там никого нет?
— Никого, — так же шепотом ответил Слава.
— Так вот знайте, — прошептал Миша и таинственно огляделся по сторонам, — знайте: у Никитского есть ближайший помощник в его шайке, и его фамилия… — Он сделал паузу, потом многозначительно произнес: — Филин! Вот!
Эффект получился самый ошеломляющий.
Генка сидел, крепко вцепившись в стул, наклонившись вперед, с открытым ртом и округлившимися глазами. Даже волосы его как-то по-особому приподнялись и торчали во все стороны, словно озадаченные только что услышанной новостью. Слава часто мигал, точно ему насыпали в глаза песок.
Налюбовавшись произведенным впечатлением и чтобы еще усилить его, Миша продолжал:
— И вот… у меня есть подозрение, что тот высокий, который был в подвале, а потом вышел… Помните, в кавказской рубахе?.. Это и есть… Никитский!
Генка чуть не упал со стула. Слава поднялся с дивана и растерянно смотрел на Мишу.
— Что… это серьезно? — едва смог он произнести.
— Ну, вот еще, — пожал плечами Миша, — буду я шутить такими вещами! Тут, брат, не до шуток. Я его по голосу узнал… Правда, лица я его не видел, но уж факт, что он загримировался…
— Вот это да! — смог наконец выговорить Генка.
— Вот тебе и да, а ты болтаешь где попало!
— Раз такое дело, — сказал Слава, — нужно немедленно сообщить в милицию.
— Нельзя, — ответил Миша и придал своему лицу загадочное выражение.
— Почему?
— Нельзя, — снова повторил Миша.
— Но почему? — удивился Слава.
— Нужно все как следует выяснить, — уклончиво ответил Миша.
— Не понимаю, чего тут выяснять, — пожал плечами Слава. — Пусть даже ты не совсем уверен, что это Никитский, но ведь Филин тот…
Положение становилось критическим. Славка такой дотошный! Сейчас начнет рассуждать, а ведь неизвестно еще, тот ли это Филин или не тот…
Миша встал и решительно произнес:
— Я вам еще не все рассказал. Пошли ко мне.
Мальчики отправились к Мише. Когда они проходили по двору, Генка подозрительно оглядывался по сторонам. Ему уже казалось, что вот сейчас здесь появится Никитский…
Глава 28
Шифр
Придя к Мише, мальчики молча уселись вокруг стола.
Уже наступал вечер, но Миша света не зажигал.
Генка и Слава сидели за столом и затаив дыхание наблюдали за Мишей. Он тихо, стараясь не стучать, закрыл дверь на крючок, потом сдвинул занавески — в комнате стало почти совсем темно. Приняв эти меры предосторожности, он вытащил из шкафа сверток и положил его на стол.
— Теперь смотрите, — таинственно прошептал он и развернул сверток.
Генка и Слава подались вперед и совсем легли на стол. В Мишиных руках появился кортик.
— Кортик… — прошептал Генка.
Но Миша угрожающе поднял палец:
— Тихо! Смотрите, — он показал клеймо на клинке, — волк, скорпион, лилия… Видите? Так. А теперь самое главное… — Артистическим жестом он вывернул рукоятку, вынул пластинку и растянул ее на столе.
— Шифр, — прошептал Слава и вопросительно посмотрел на Мишу.
— Да, — подтвердил Миша, — шифр, а ключ к этому шифру в ножнах, понятно? А ножны эти… у Никитского… Вот… А теперь слушайте…
И Миша, совсем понизив голос, вращая глазами и жестикулируя, рассказал друзьям о линкоре «Императрица Мария», о его гибели, об убийстве офицера по имени Владимир…
Мальчики сидят молча, потрясенные этой загадочной историей. В комнате совсем уже темно. В квартире тишина, точно вымерли все. Только глухо зажурчит иногда вода в водопроводе да раздастся на лестнице протяжный, тоскливый крик бездомной кошки. В окружающем мраке мальчикам чудились неведомые корабли, дальние, необитаемые земли. Они ощущали холод морских пучин, прикосновение морских чудовищ…
Миша встал и повернул выключатель. Маленькая лампочка вспыхнула под абажуром и осветила взволнованные лица ребят и стол, покрытый белой скатертью, на которой блестел стальной клинок кортика и золотилась бронзовая змейка, извивающаяся вокруг побуревшей рукоятки…
— Что же это может быть? — первый прервал молчание Слава.
— Трудно сказать. — Миша пожал плечами. — Полевой тоже не знал, в чем дело, да и Никитский вряд ли знает. Ведь он ищет кортик, чтобы расшифровать эту пластинку. Значит, для него это тоже тайна.
— Все ясно, — вмешался Генка. — Никитский ищет клад. А в кортике написано, где этот клад находится. Ох, и деньжищ там, должно быть!..
— Клады только в романах бывают, — сказал Миша, — специально для бездельников. Сидит такой бездельник, работать ему неохота, вот он и мечтает найти клад и разбогатеть.
— Конечно, никакого клада здесь не может быть, — сказал Слава, — ведь из-за этого кортика Никитский убил человека. Разве ты, например, Генка, убил бы из-за денег человека?
— Сравнил! То я, а то Никитский. Я б, конечно, не убил, а для Никитского это раз плюнуть.
— Может быть, здесь какая-нибудь военная тайна, — сказал Слава. — Ведь все это произошло во время войны, на военном корабле…
— Я уж об этом думал, — сказал Миша. — Допустим, что Никитский — германский шпион, но зачем он в двадцать первом году искал кортик? Ведь война уже кончилась.
— Вообще любой шифр можно расшифровать без ключа, — продолжал Слава. — У Эдгара По…
— Знаем, знаем! — перебил его Миша. — «Золотой жук», читали. Здесь дело совсем другое. Смотрите… — Все наклонились к пластинке. — Видите? Тут только три вида знаков: точки, черточки и кружки. Если знак — это буква, то выходит, что здесь всего три буквы. Видите? Эти знаки написаны столбиками.
— Может быть, каждый столбик — это буква, — сказал Слава.
— И об этом я думал, — ответил Миша, — но здесь большинство столбиков с пятью знаками. Посчитайте! Ровно семьдесят столбиков, из них сорок с пятью знаками. Не может ведь одна буква повторяться сорок раз из семидесяти.
— Нечего философию разводить, — сказал Генка, — надо ножны искать. Тем более — Никитский здесь.
— Ну, — возразил Слава, — еще неизвестно: Никитский это или не Никитский. Ведь это, Миша, только твое предположение, правда?
— Все равно, — упорствовал Генка, — это Никитский. Ведь Филин здесь, а он с Никитским в одной шайке… Правда, Мишка?
Миша немного смутился, потом решительно тряхнул головой и сказал:
— Я еще не знаю, тот это Филин или не тот…
— Как — не знаешь? — остолбенели мальчики.
— Так… Мне Полевой назвал только фамилию — Филин, а тот это Филин или нет, еще надо установить. Мало ли Филиных! Но я почему-то думаю, что это тот.
— Да, — протянул Слава, — получается уравнение с двумя неизвестными.
— Это тот Филин, определенно, — рассердился Генка, — его по роже видно, что бандит.
— Рожа не доказательство, — возразил Миша. — Будем рассуждать по порядку. Во-первых, Филин. Фамилия уже сходится. Подозрительный он человек или нет? Подозрительный. Определенно. Спекулянт и вообще… Так. Теперь во-вторых: темными делами они занимаются? Занимаются. Склад в подвале, ящики, дверь заколотили, завалили проход… Теперь в-третьих: тот высокий — подозрительный человек или нет? Подозрительный. Видали, как он улицу осматривал, лицо закрывал? И голос мне его знаком… Допустим даже, что это не Никитский. Но ведь факт, что там действует какая-то шайка. Может быть, белогвардейцы. Разве мы имеем право сидеть сложа руки? А? Имеем? Нет! Наша обязанность раскрыть эту шайку.
— Точно, — подтвердил Генка, — шайку накрыть, ножны отобрать, клад разделить на троих поровну.
— Погоди ты со своим кладом, — рассердился Миша, — не перебивай! Теперь так. Мы, конечно, можем заявить в милицию, но… вдруг там ничего нет? Вдруг? Что тогда? Нас просто засмеют. Нет! Сначала надо все как следует выяснить… Нужно точно установить: тот это Филин или не тот, что они прячут в подвале, а главное, выследить того, высокого, в белой рубахе, и узнать, кто он такой.
— Тяжелое дело, — проговорил Слава и, заметив насмешливый Генкин взгляд, торопливо добавил: — Банду мы должны, конечно, раскрыть, но все это надо хорошенько обдумать.
— Конечно, надо обдумать, — согласился Миша. — Мы будем следить по очереди, чтобы не вызвать подозрения у Филина и Борьки.
— Вот это будет здорово! — сказал Генка. — Целую шайку раскроем!
— А ты думаешь, — сказал Миша, — так вот шайки и раскрываются. Вот тогда мы себя действительно проявим — это, знаете, не за кулисами орать.
Часть III Новые знакомства
Глава 29
Эллен Буш
Через несколько дней Миша и Шурка Большой отправились на Смоленский рынок покупать краски для грима. На улице возле склада Филина прохаживался Генка.
— Ты что здесь торчишь? — спросил его Шура. — Пойдем с нами реквизит покупать.
— Некогда, — важно ответил Генка и обменялся с Мишей многозначительным взглядом.
Миша и Шура пришли на рынок. Вдоль рядов двигалась густая толпа. Шныряли беспризорники, хрипели граммофоны, скандалили покупатели часов. Унылые старухи в старомодных шляпках продавали сломанные замки и медные подсвечники. Вспотевший деревенский парень, видимо с утра, торговал гармошку. Окруженный любителями музыки, он растягивал на ней все одно и то же «Страдание». Попугай вытаскивал конвертики с предсказанием будущего и описанием прошедшего. Шатались цыганки в развевающихся юбках и ярких платках. И барахолка казалась нескончаемой. Она уходила далеко — на усеянные подсолнечной шелухой дорожки Новинского бульвара, где рабочие городского хозяйства устанавливали первые урны для мусора и огораживали чахлую травку блестящей проволокой.
Мальчики стояли возле старика, торговавшего «всем для театра», как вдруг кто-то тронул Мишу сзади за плечо. Он обернулся и увидел девочку-акробатку. Она была в обыкновенном платье и вовсе не похожа на артистку. Девочка протянула Мише руку и сказала:
— Здравствуй, драчун!
Мише не понравился ее покровительственный тон, и он холодно ответил:
— Здравствуйте.
— Что ты такой сердитый?
— Вовсе не сердитый. Обыкновенный.
— Как тебя зовут?
— Миша.
— А меня Эллен.
Миша поднял брови:
— Что это за имя «Эллен»?
— Мой псевдоним Эллен Буш. Все артисты имеют псевдонимы. А настоящее мое имя Елена Фролова.
— А кто этот мальчик, что выступал с тобой?
— Мой брат, Игорь.
— А бритый?
— Какой бритый?
— Ваш этот, старший. Хозяин, что ли?
Лена рассмеялась:
— Хозяин? Это мой папа.
— Почему же ты его Бушем называешь?
— Я ведь тебе объяснила: это наш псевдоним.
— Вы всё по дворам ходите?
— Нет. Отец заключил договор, и, как начнется сезон, мы будем выступать в цирке. Ты бывал в цирке?
— Конечно, бывал. Но у нас в доме теперь есть свой драмкружок. Вот наш режиссер. — Миша показал на Шуру.
Шура с достоинством наклонил голову.
— В воскресенье будет наш первый спектакль, — продолжал Миша. — Пьеса замечательная! Приходи с братом. После спектакля вы выступите.
— Хорошо, — сказала Лена, — я передам Бушу. — И, подумав, спросила: — А сколько за выход?
— Что? — не понял Миша.
— Сколько за выход? Сколько вы нам заплатите за выступление?
Миша возмутился:
— Заплатим? Ты что, с ума сошла? Это спектакль в пользу голодающих Поволжья. Все наши артисты выступают бесплатно.
— Н-не знаю. — Лена с сомнением покачала головой. — Буш, наверно, не согласится.
— И не надо! Без вас обойдемся! Другие жертвуют, чтобы помочь голодающим, а вы хотите от них себе урвать. И не стыдно?
— Не сердись, не сердись! — Лена засмеялась. — Какой ты сердитый! Мы сделаем так: отпросимся с Игорем погулять и придем к вам. Ладно?
— Ладно.
— До свиданья. — Лена протянула ему и Шуре руку. — Только ты, пожалуйста, не сердись.
— Я и не сержусь, — ответил Миша.
Когда Лена ушла, он сказал Шуре:
— Ох, и канитель с этими девчонками!
Глава 30
Покупка реквизита
Они начали выбирать краски.
— Вот самые подходящие. — Шура вертел в руках коробку с карандашами. — Этот цвет называется «бордо». Бери, Мишка.
Миша опустил руку в карман и в ту же секунду с ужасом почувствовал, что кошелька в кармане нет. Все закружилось перед ним. В толпе мелькнула фигура беспризорника. Миша отчаянно крикнул и бросился вдогонку.
Беспризорник выскочил из рядов, свернул в переулок и бежал по нему, путаясь в длинном рваном пальто. Из дыр пальто торчала грязная вата, рукава волочились по земле. Он юркнул в проходной двор, но Миша не отставал от него и наконец догнал на каком-то пустыре. Он схватил его за пальто и, тяжело дыша, сказал:
— Отдай!
— Не тронь меня, я психический! — дико закричал беспризорник и выкатил белки глаз, страшные на его черном, измазанном сажей лице.
Они сцепились. Беспризорник визжал и кусался. Миша свалил его и, прижимая к земле, шарил по грязным лохмотьям, отыскивая кошелек.
Беспризорник извивался, кусал Мишину руку. Миша рванул его за рукав. Рукав оторвался от пальто, кошелек упал на землю. Миша схватил его, и страшная злоба овладела им. Сколько он трудился над созданием драмкружка, ходил, клянчил, уговаривал, отдал своего Гоголя! И этот воришка чуть не разрушил все! И ребята могли подумать, что он сам присвоил деньги… Нет! Надо ему еще наподдать!
Беспризорник лежал на земле ничком. Его грязная худая шея казалась совсем тонкой в широком воротнике мужского пальто. Из оторванного рукава неестественно торчала голая рука, грязная и исцарапанная.
Ладно. Лежачего не бьют… Миша слегка, для порядка, ткнул беспризорника ногой:
— Будешь знать, как воровать…
Беспризорник продолжал лежать на земле.
Миша отошел на несколько шагов, потом вернулся и мрачно произнес:
— Ну, вставай, довольно притворяться!
Беспризорник поднялся и сел. Всхлипывая и вытирая кулаками лицо, он бормотал:
— Справился?.. Да?..
— А ты зачем кошелек взял? Я ведь тебя не трогал.
— Иди к черту!
— Поругайся, поругайся, — сказал Миша, — вот я тебе еще добавлю!..
Но злоба прошла, и он знал, что не добавит.
Продолжая всхлипывать, беспризорник поднял оторванный рукав. Пальто его распахнулось, обнажив худенькое, с выступающими ребрами тело. Под пальто у беспризорника не было даже рубашки.
— Как же ты его пришьешь? — спросил Миша, присев на корточки и разглядывая рукав.
Беспризорник вертел рукав и угрюмо молчал.
— Знаешь что? — сказал Миша. — Пойдем к нам, моя мать зашьет.
Беспризорник недоверчиво посмотрел на него:
— Застукать хочешь…
— Вот честное слово!.. Тебя как зовут?
— Михайлой.
— Вот здорово! — Миша рассмеялся. — Меня тоже Михаилом зовут. Пойдем к нам в клуб.
— Не видал я вашего клуба!
— Ты брось, пойдем. Тебе там девочки в момент рукав пришьют.
— Не видал я ваших девчонок!
— Не хочешь в клуб — пойдем ко мне домой. Пообедаешь у нас.
— Не видал я вашего обеда!
— Вот какой упрямый! — рассердился Миша. — Пойдем, тебе говорят! — Он поднялся и потянул беспризорника за целый рукав. — Вставай!
— Пусти! — закричал беспризорник, но было уже поздно: затрещали нитки — и второй рукав очутился у Миши в руках.
— Ну вот, — смущенно пробормотал Миша, — говорил тебе: идем сразу.
— А ты собрался с силой? Да, собрался?..
Теперь на пальто у беспризорника вовсе не было рукавов, только торчали голые руки.
— Ладно, — решительно сказал Миша, — пошли ко мне! — Он взял оба рукава. — А не пойдешь — не отдам, ходи без рукавов.
Глава 31
Беспризорник Коровин
«Как встретит нас мама? — думал Миша, шагая рядом с беспризорником. — Еще, пожалуй, прогонит. Ладно. Что сделано, то сделано».
Вот и Генка на своем посту. Он с удивлением посмотрел на Мишу и его оборванного спутника. Ребята во дворе тоже уставились на них. Миша пересчитал деньги и отдал их Славе:
— На! Как придет Шурка, отдай ему. Пусть сам покупает, мне некогда.
Они пришли домой. Миша втолкнул беспризорника в комнату и решительно произнес:
— Мама, этот парнишка с нами пообедает…
Мама молчала, и Миша добавил:
— Я ему нечаянно рукава оторвал. Его тоже Мишей зовут.
— А фамилия? — спросила мама.
Миша посмотрел на беспризорника. Тот засопел и важно произнес:
— Фамилия наша Коровин.
— Ну что ж, — вздохнула мама, — идите хоть умойтесь, товарищ Коровин.
Миша отправился с ним на кухню, но особого желания мыться Коровин не проявил, да и отмыть его не было никакой возможности. Они постояли перед краном, вернулись в комнату и сели за стол.
Коровин ел степенно и после каждого глотка клал ложку на стол. На скатерти, там, где он держал локти, образовалось два темных пятна.
Миша ел молча, искоса поглядывая на мать. Она повесила на спинку стула пальто Коровина и пришивала к нему рукава. По хмурому выражению ее лица Миша понял, что после ухода Коровина ему предстоит неприятный разговор.
После супа мама подала им сковородку с жареной картошкой.
Миша отодвинул свою тарелку:
— Спасибо, мама, я уже сыт.
— Ешь, — сказала мама, — всем хватит.
Она уже приладила к пальто рукава и теперь пришивала разорванную подкладку.
Коровин кончил есть и положил ложку на стол.
— Ну вот, — сказала мама, расправляя на руках пальто, — вот и шуба готова. — Она протянула ее Коровину: — Не жарко тебе в ней?
Коровин встал, натянул на себя пальто, потом пробормотал:
— Ничего, мы привычные…
— Родные-то у тебя есть?
Коровин молчал.
— Мать, отец, есть кто-нибудь?
Коровин стоял уже у самой двери. Он засопел, но все же опять ничего не ответил.
«Куда же он пойдет?» — думал Миша.
Не глядя на мать, он спросил:
— Куда же ты теперь пойдешь?
Беспризорник запахнулся в пальто и вышел из комнаты.
Миша вышел вслед за ним.
— Погоди, здесь темно. — Он открыл входную дверь и пропустил Коровина. — Так заходи, — сказал он на прощанье. — Я всегда дома или во дворе.
Беспризорник ничего не ответил и пошел вниз по лестнице.
Глава 32
Разговор с мамой
Миша молча читал. В комнате было тихо. Только жужжала с перерывами швейная машина. Отблески солнца играли на ее металлических частях, на стальном колесе и золотых фирменных эмблемах. Предстоящий разговор был, конечно, неприятен, но мама все равно заговорит, и лучше уж поскорей…
— Где же ты с ним познакомился? — не оборачиваясь, спросила наконец мама.
— На рынке. Он у меня деньги украл.
Мама оставила машину и обернулась к Мише:
— Какие деньги?
— Лотерейные. Я ведь тебе рассказывал… Мы с Шуркой краски покупали.
— Ну, и вернул он тебе деньги?
Миша усмехнулся:
— Еще бы! Я его догнал. Ну конечно, подрались…
— Так и познакомились?
— Так и познакомились.
Мама покачала головой:
— Нечего сказать, красивая картина: на улице дерешься с беспризорниками.
— Никто не видел… Да мы и не дрались, я его так, прижал немного.
— Да… — Мама снова покачала головой. — А зачем ты его сюда привел? Чтобы он и здесь что-нибудь украл?
— Он не украдет.
— Почему ты так думаешь?
— Так думаю.
Снова молчание, равномерный стук машины.
— Ты недовольна? — сказал Миша.
Вместо ответа она спросила:
— Что все-таки побудило тебя привести его сюда?
— Так…
— Жалко стало?
— Почему — жалко? — Миша пожал плечами. — Так просто… Я ему рукава оторвал, надо их пришить.
— Да, конечно… — Она снова завертела машину. Белое полотнище ползло на пол и волнами ложилось возле ножек стула.
— Ты недовольна тем, что я привел его? — снова спросил Миша.
— Я этого не говорю, но… все же малоприятное знакомство. И потом: ты чуть было не предложил ему остаться у нас. Собственно говоря, можно было бы со мной сначала посоветоваться.
— Это верно, — признался Миша, — но жалко его, он ведь опять на улицу пойдет…
— Конечно, жалко… — согласилась мама. — Теперь многие берут на воспитание этих ребят, но… ты сам знаешь, я не имею этой возможности.
— Вот увидишь, скоро беспризорность ликвидируют! — горячо сказал Миша. — Знаешь, сколько детдомов организовали!
— Я знаю, но все же перевоспитать этих детей очень трудно… Они испорчены улицей.
— Знаешь, мама, — сказал Миша, — в Москве есть такой отряд — он называется отряд юных пионеров, — и вот там ребята, все равно, знаешь, как комсомольцы, занимаются с беспризорными и вообще, — он сделал неопределенный жест, — проводят всякую работу. Мы с Генкой и Славкой решили туда поступить. Это на Пантелеевке. В воскресенье мы туда пойдем.
— На Пантелеевке? — переспросила мама. — Но ведь это очень далеко.
— Ну что ж такого. Теперь ведь лето, времени много, будем ходить туда. А когда нам исполнится четырнадцать лет, мы в комсомол поступим.
Мама обернулась и с улыбкой посмотрела на Мишу:
— Ты уже в комсомол собираешься?
— Не сейчас, конечно, сейчас не примут, а потом…
— Ну вот, — вздохнула мама и улыбнулась, — поступишь в комсомол, появятся у тебя дела, а меня, наверно, совсем забросишь.
— Что ты, мама! — Миша тоже улыбнулся. — Разве я тебя заброшу? — Он покраснел и уткнулся в книгу.
Мама замолчала и снова завертела машину.
Миша оторвался от книги и смотрел на мать. Она склонилась над машиной. Туго закрученный узел ее каштановых волос касался зеленой кофточки; кофточка была волнистая, блестящая, аккуратно выглаженная, с гладким воротником.
Миша встал, тихонько подошел к матери, обнял ее за плечи, прижался щекой к ее волосам.
— Ну что? — спросила мама, опустив руки с шитьем на колени.
— Знаешь, мама, что мне кажется?
— Что?
— Только ты честно ответишь: да или нет?
— Хорошо, отвечу.
— Мне кажется… мне кажется, что ты совсем на меня не сердишься за этого беспризорника… Правда? Ну, скажи — правда?
Мама тихонько засмеялась и качнула головой, пытаясь высвободиться из объятий Миши.
— Нет, скажи, мама, — весело крикнул Миша, — скажи!.. И знаешь, что мне еще кажется, знаешь?
— Ну что?
— Мне кажется, что на моем месте ты поступила бы так же. А? Ну скажи, да?
— Да, да! — Она разжала его руки и поправила прическу. — Но все же не води сюда слишком много беспризорных.
Глава 33
Черный веер
— Миша-а! — раздался во дворе Генкин голос.
Миша выглянул в окно. Генка стоял внизу, задрав кверху голову.
— Чего?
— Иди скорей, дело есть! — Генка многозначительно скосил глаза в сторону филинского склада.
— Чего еще? — нетерпеливо крикнул Миша. Ему очень не хотелось уходить сейчас из дому.
— Да иди скорей! — Генка сделал страдальческое лицо. — Понимаешь? — Всякими знаками он показывал, что дело не терпит никакого отлагательства.
Когда Миша спустился во двор, Генка тут же подступил к нему:
— Знаешь, где тот, высокий?
— Где?
— В закусочной.
Ребята выскочили на улицу и подошли к закусочной.
Через широкое мутное стекло виднелись сидящие вокруг мраморных столиков люди. Лепные фигуры на потолке плавали в голубых волнах табачного дыма. В проходах балансировал с подносом в руках маленький официант. Белая пена падала из кружек на его халат.
За одним из столиков сидел Филин. Но он был один.
— Где же высокий? — спросил Миша.
— Только что здесь был, — недоумевал Генка, — сидел с Филиным… Куда он делся?..
— Хорошо, — быстро проговорил Миша, — далеко он не ушел. Ты иди налево, к Смоленской, а я направо — к Арбатской.
Миша быстро пошел по направлению к Арбатской площади, внимательно осматривая улицу. Когда он пересекал Никольский переулок, в глубине переулка мелькнула фигура человека в белой рубахе, свернувшего за угол церкви Успения на Могильцах. Миша во всю прыть помчался вперед, добежал до церкви, огляделся по сторонам. Высокий шел по Мертвому переулку. Миша побежал за ним. Высокий пересек Пречистенку и пошел по Всеволожскому переулку. Миша догнал его у самой Остоженки, но проходивший трамвай отделил его от Миши. Когда трамвай прошел, высокого на улице уже не было.
Куда он делся? Миша растерянно оглядывал улицу и увидел на противоположной ее стороне филателистический магазин. Миша знал этот магазин. Он иногда покупал в нем марки для своей коллекции. И сюда, по словам Генки, зачем-то ходит Борька Филин… Миша вошел в магазин. Над дверью коротко звякнул колокольчик.
В магазине никого не было. На прилавке под стеклом лежали марки, на полке стояли коробки и альбомы.
На звонок из внутренней комнаты магазина вышел хозяин — лысый, красноносый старик. Он плотно прикрыл дверь и спросил у Миши, что ему надо.
— Можно марки посмотреть? — спросил Миша.
Старик бросил на прилавок несколько конвертов с марками, а сам вернулся в соседнюю комнату, оставив дверь приоткрытой, чтобы видеть магазин.
Вертя в руках марку Боснии и Герцеговины, Миша искоса поглядывал в комнату, в которую удалился старик. Она была совсем темной, только на столе стояла электрическая лампа. Кто-то вполголоса переговаривался со стариком. Прилавок мешал Мише заглянуть в комнату, но он был уверен, что там находится именно этот высокий человек в белой рубахе. О чем они говорили, он тоже разобрать не мог.
Раздался звук отодвигаемого стула. Сейчас они выйдут! Миша наклонил голову к маркам и напрягся в ожидании. Сейчас он увидит этого человека… В глубине задней комнаты скрипнула дверь, и через несколько минут в магазин вышел старик. Вот так штука! Тот, высокий, ушел через черный ход…
— Выбрал? — хмуро спросил старик, вернувшись за прилавок.
— Сейчас, — ответил Миша, делая вид, что внимательно рассматривает марки.
— Скорее, — сказал старик, — магазин пора закрывать.
Он опять вышел в темную комнату, но дверь на этот раз вовсе не закрыл.
Лампа освещала край стола. В ее свете Миша видел костлявые руки старика. Они собирали бумаги со стола и складывали их в выдвинутый ящик. Потом в руках появился веер, черный веер. Руки подержали его некоторое время открытым, затем медленно свернули. Веер превратился в продолговатый предмет…
Затем в руках старика что-то блеснуло. Как будто кольцо и шарик. Вместе со свернутым веером старик положил их в ящик стола.
Глава 34
Агриппина Тихоновна
Медленно возвращался Миша домой. Итак, он не увидел таинственного незнакомца. Однако все это очень подозрительно. И ушел этот человек через черный ход. И старик вел себя как-то настороженно. И Борька-Жила сюда ходит…
Уже подойдя к своему дому, Миша подумал о веере, и неожиданная мысль мелькнула вдруг в его мозгу. Когда старик свернул веер, он стал подобен ножнам… И кольцо как ободок. Неужели ножны?
Взволнованный этой догадкой, он побежал разыскивать друзей. Он нашел их на квартире у Генки.
Ребята сидели за столом. Слава линовал бумагу, а Генка что-то писал. Он с ногами забрался на стул и совсем почти лег на стол.
Против них сидела Агриппина Тихоновна. На кончике ее носа были водружены очки в железной оправе. Она посмотрела поверх них на вошедшего в комнату Мишу. Потом снова начала диктовать, отодвигая от себя листок, который она держала высоко над столом, на уровне глаз.
— «…Рубцова Анна Григорьевна», — медленно диктовала Агриппина Тихоновна. — Написал? Аккуратней, аккуратней пиши, не торопись. Так… «Семенова Евдокия Гавриловна».
— Гляди, Миша, — крикнул Генка, — у меня новая должность — секретарь женотдела!
— Не вертись, — прикрикнула Агриппина Тихоновна: — весь лист измараешь!
Миша заглянул через плечо Генки: «Список работниц сновального цеха, окончивших школу ликвидации неграмотности». Против каждой фамилии стоял возраст. Моложе сорока лет не было никого.
— Вертишься! — продолжала ворчать Агриппина Тихоновна. — Вон Слава как аккуратно рисует, а ты все вертишься… Ну? Написал Евдокию Гавриловну?
— Написал, написал… Давайте дальше. И чего вы вздумали старушек учить?
Агриппина Тихоновна пристально посмотрела на Генку:
— Как — чего? Ты это что, всерьез?
— Конечно, всерьез. Вот, — он ткнул пером в список, — пятьдесят четыре года. Для чего ей грамота?
— Вот ты какой, оказывается! — медленно проговорила Агриппина Тихоновна и сняла очки. — Вот какой!.. А я и не знала.
— Чего, чего вы? — смутился Генка.
— Вот оно что… — снова проговорила Агриппина Тихоновна, продолжаяа пристально смотреть на Генку. — Тебе, значит, одному грамота?
— Я не…
— Не перебивай! Так, значит, тебе одному грамота? А Семенова сорок лет на фабрике горбом ворочала, ей, значит, так темной бабой и помирать? И я, значит, тоже зря училась? Двух сыновей в гражданской схоронила, чтобы, значит, Генка учился, а я как была, так чтобы и осталась? И вот Асафьеву из подвала в квартиру переселили тоже, выходит, зря. Могла бы и в подвале помереть — шестьдесят ведь годов в нем прожила… Так, значит, по-твоему? А? Скажи.
— Тетя, — плачущим голосом закричал Генка, — вы меня не поняли! Я в шутку.
— Отлично поняла, — отрезала Агриппина Тихоновна, — отлично, сударь мой, поняла. И не думала, не гадала, Геннадий, что ты такой. Не думала, что ты такое представление имеешь о рабочем человеке.
— Тетя, — упавшим голосом прошептал Генка, не поднимая глаз от стола, — тетя! Я не подумавши сказал… Ну… Не подумал и сказал глупость…
— То-то, — наставительно проговорила Агриппина Тихоновна, — а нужно думать. Слово — не воробей: вылетит — не поймаешь… — Она тяжело поднялась со стула. — В другой раз думай…
Глава 35
Филин
Агриппина Тихоновна вышла на кухню. Генка сидел, понурив голову.
— Что, — насмешливо спросил его Миша, — попало? Еще мало она тебе всыпала. Тебе за твой язык еще не так надо.
— Ведь он признался, что был не прав, — примирительно сказал Слава.
— Ладно, — сказал Миша. — Ну что, Генка, видел ты того, высокого?
— Никого я не видел, — мрачно ответил Генка.
— Так вот… — Миша облокотился о край комода и безразличным голосом произнес: — Пока вы здесь сидели… я… видел ножны.
— Какие ножны? — не понял Слава.
— Обыкновенные, от кортика.
Генка поднял голову и недоверчиво смотрел на Мишу.
— Нет, правда? — спросил Слава.
— Правда. Только что своими глазами видел.
— Где? — Генка поднялся со стула.
— У старика филателиста, на Остоженке.
— Врешь?
— А вот и не вру.
— Здорово! — протянул Генка. — А где они там у него?
Миша торопливо, пока не вошла Агриппина Тихоновна, рассказал о филателисте, высоком незнакомце и черном веере…
— Я думал, ты ножны видел, а то веер какой-то, — разочарованно протянул Генка.
— В общем, — сказал Слава, — было уравнение с двумя неизвестными, а теперь с тремя: первое — Филин, второе — Никитский, третье — веер. И вообще: если это не тот Филин, то остальное — тоже фантазия.
Генка поддержал Славу:
— Верно, Мишка. Может быть, тебе все это показалось?
Миша не отвечал. Он облокотился о край комода, покрытого белой салфеткой с кружевной оборкой, свисающей по бокам.
На комоде стояло квадратное зеркало с круглыми гранями и зеленым лепестком в левом верхнем углу. Лежал моток ниток, проткнутых длинной иглой. Стояли старинные фотографии в овальных рамках, с тисненными золотом фамилиями фотографов. Фамилии были разные, но фон на всех фотографиях одинаковый — меж серых занавесей пруд с дальней, окутанной туманом беседкой.
«Конечно, Славка прав, — думал Миша. — А все же тут что-то есть». Он посмотрел на Генку и сказал:
— Если бы ты не ссорился с теткой, то мы бы всё узнали о Филине.
— Как так?
— А так. Ведь она знает Филина. Хоть бы сказала: из Ревска он или нет.
— Почему же она не скажет? Скажет.
— Ну да, она с тобой и разговаривать теперь не захочет.
— Она не захочет? Со мной? Плохо ты ее знаешь. Она все давным-давно забыла, тем более я извинился. К ней только особый подход нужен. Вот сейчас увидишь…
В комнату вернулась Агриппина Тихоновна, внимательно посмотрела на смолкнувших ребят и начала убирать со стола.
Генка сделал вид, что продолжает прерванный рассказ:
— Я ему говорю: «Твой отец спекулянт, и весь ваш род спекулянтский. Вас, я говорю, весь Ревск знает…»
— Ты это о ком? — спросила Агриппина Тихоновна.
— О Борьке Филине. — Генка поднял на Агриппину Тихоновну невинные, простодушные глаза. — Я ему говорю: «Вашу фамилию весь Ревск знает». А он мне: «Мы, говорит, в этом Ревске никогда и не были. И знать ничего не знаем»…
Мальчики вопросительно уставились на Агриппину Тихоновну. Она сердито тряхнула скатертью и сказала:
— И какие у тебя с ним дела? Ведь сколько раз говорила: не водись с этим Борькой, не доведет он тебя до добра.
— А зачем он врет? Раз из Ревска, так и скажи: из Ревска. Зачем врать?
— Он-то, может, и не был в Ревске, — сказала Агриппина Тихоновна.
— Я и не говорю, что был, но ведь папаша-то его из Ревска. Зачем же врать?
— А он, может, и не знает про отца-то.
— Да ведь сам Филин тут же сидел. Смеется и говорит: «Мы, говорит, коренные москвичи, пролетарии…»
— Это они-то пролетарии? — не выдержала наконец Агриппина Тихоновна. — Да его-то, Филина, отец стражником, жандармом в Ревске служил, а он, вишь, теперь как: под рабочего подделывается! Пролетарии…
— Это кто же, сам Филин жандармом был? — спросил Миша.
— Не сам он, а отец его. Ну, да яблоко от яблони недалеко падает.
Агриппина Тихоновна свернула скатерть и вышла из комнаты.
— Видали? — Генка подмигнул ей вслед. — А вы говорили. Все сказала! Я свою тетку знаю. Теперь все ясно. Филин тот самый. Значит, и Никитский здесь, и ножны. Чувствую, чувствую, что клад близко!
— Не совсем ясно, — возразил Слава. — Ведь ты сам говорил, что в Ревске полно Филиных. Может быть, это другой Филин.
— Ну да! — мотнул головой Генка. — Жандармское отродье. Факт, тот самый…
— Ладно, — весело сказал Миша, — может быть, не тот, а может быть, и тот. Во всяком случае, он из Ревска. Теперь узнаем, служил он на линкоре «Императрица Мария» или не служил.
— Как мы это узнаем? — спросил Генка.
— Проще простого. Неужели у Борьки-Жилы не выведаем?
Глава 36
На Красной Пресне
В воскресенье друзья отправились на Пантелеевку, в типографию, посмотреть отряд юных пионеров. Электроэнергии не хватало, и по воскресеньям трамваи не ходили. Мальчики вышли из дому рано утром и быстро зашагали по Арбату. Окутанная серой дымкой, устремлялась вперед улица. Был тот ранний час, когда на улице никого нет. Даже дворники не вышли еще со своими метлами.
Охваченные радостной свежестью утра, мальчики бодро шагали по Арбату. Каблуки постукивали по холодному звонкому асфальту. Шаги гулко отдавались на пустынной улице. Маленькие фигурки ребят, отражаясь, мелькали в стеклах витрин.
«Как странно видеть Арбат безлюдным!» — думал Миша. Он совсем маленький, узкий и тихий. Только теперь по-настоящему видны его здания. Миша оглянулся. Вон кино «Карнавал». За ним здание Военного трибунала. А вот дом, где жил Александр Сергеевич Пушкин. Обыкновенный двухэтажный дом, ничем не примечательный. Даже странно, что в нем жил Пушкин. Пушкин, конечно, ходил по Арбату, как все люди, и никто этому не удивлялся. А появись теперь Пушкин на Арбате — вот бы суматоха поднялась! Вся бы Москва сбежалась!
— Посмотрим, что это за пионеры такие, — болтал Генка, — посмотрим. Может, там ничего особенного и нет: сидят себе и цветочки вышивают, как девочки в детдоме.
— Ну да! — ответил Миша. — Это ведь коммунистическая организация, понял? Значит, они чем-нибудь серьезным занимаются.
— Все же как-то неудобно идти туда, — сказал Слава.
— Почему?
Слава пожал плечами.
— Спросят, кто такие, зачем пришли. Неудобно как-то.
— Очень удобно! — решительно ответил Миша. — Что в этом такого? Может быть, мы тоже хотим быть пионерами. Разве мы не имеем права?
Мальчики замолчали. Невидимое, поднималось за домами великолепное утреннее солнце. Огромные прямоугольные тени домов ложились на асфальт, двигались, сокращались и приближались к одной стороне улицы, в то время как другая заливалась ярким, ослепительным светом.
Улица оживлялась. Из почтового отделения выходили почтальоны с толстыми кожаными сумками, туго набитыми газетами. Гремя бидонами, прошли молочницы. Проехал обоз ломовых лошадей.
Вот и Кудринская площадь.
— Смотри, Генка! — Миша показал на угловой дом, весь изрешеченный пулями и осколками снарядов. — Знаешь, что это?
— Что?
— Здесь в Октябрьскую революцию самые бои были. Наши по кадетам из пушек лупили. Мы со Славкой видели… Помнишь, Славка?
— Я здесь не был тогда, — сознался Слава, — и по-моему, ты тоже не был.
— Я? Сколько раз! Мы сюда с Шуркой бегали… Один раз полную шапку гильз набрали. Правда, очень давно — мне тогда было восемь лет. А ты, конечно, не видал. Ты дома сидел. Тебя мама не пускала…
Мальчики пришли на Пантелеевку.
Через широкие окна типографии виднелись большие залы, уставленные машинами. В цехах было пусто. Над воротами висела вывеска: «Типография Мосполиграфтреста». Мальчики вошли в проходную.
В тесном дощатом помещении, за низким барьером, сидел человек, по всей видимости сторож, и хлебал из большой миски суп.
Тут же вертелась девочка лет десяти с маленькими косичками, завязанными красной ленточкой.
Когда мальчики вошли, сторож поднял голову, тыльной стороной ладони вытер усы и вопросительно посмотрел на ребят.
— Скажите, пожалуйста, — обратился к нему Миша. — Где здесь находится отряд юных пионеров?
— Пионеров? — Сторож опять взялся за ложку. — А вы откудова — из райкома или как?
— Да… мы… тут… — замялся Миша, — мы по делу.
Девочка с любопытством смотрела на мальчиков. Сторож доел суп, отодвинул миску и сказал:
— Есть у нас такие — пионеры. Только в клубе они небось, у себя…
— Вы не скажете, где находится клуб?
Девочка удивленно взглянула. Сторож хмыкнул и спросил:
— Вы что же, клуба нашего не знаете?
— Да, — замялся Миша, — мы из другого района. Мы из Хамовников.
— А-а… — протянул сторож. — На Садовой клуб ихний, тут недалеко.
— На какой Садовой? Садовых много.
— Вот смешные! — захихикала девочка. — Клуба не знают! Папаня, они клуба не знают!
— Ты больно много знаешь! — прикрикнул сторож на девочку. — Проводи вот их да покажи клуб. Может, и на самом деле нужно, — добавил он, с сомнением посмотрев на ребят.
— Сейчас покажу.
Девочка сполоснула под бачком миску и ложку, завязала их в салфетку и вышла с мальчиками на улицу.
— Я пионеров хорошо знаю, — болтала девочка. — Наш Васька там самый главный — он на барабане играет.
Миша насмешливо посмотрел на нее, но промолчал. Что спорить с такой мелюзгой!
— У них и труба есть, — продолжала болтать девочка. — У них знаете как строго! Ругаться нельзя, на буферах кататься нельзя, руки в карманах держать нельзя, девчонок бить тоже нельзя. Вот. А драться можно только с буржуями. Только если драться, так галстуки снимать. В галстуке тоже нельзя.
— Не вертись под ногами! — строго сказал Миша.
— И девочек туда принимают, — опять затараторила девочка, — только не всех, только этих… ну… достигших возраста.
— А вашему Васе много лет? — спросил Слава.
— У… Ему четырнадцать лет, а может быть, и пятнадцать. Он серьезный! Приходит прямо на квартиру и все забирает.
Мальчики с удивлением посмотрели на нее.
— Как это — забирает? — спросил Генка.
— Очень просто, — важно ответила девочка, — для беспризорных детдомов… Пионеры ходят и вещи собирают. У меня кофточку отобрали! — с гордостью объяснила она.
— Отобрали кофточку?
— Угу.
— Это, положим, неправда, — сказал Генка, — никто не имеет права отбирать.
— Они не сами, им маманя дала.
— А тебе жалко стало? — засмеялся Слава.
— И не жалко вовсе. Я им еще хотела прошлогоднюю шапочку отдать, а Васька говорит: «Не надо, а то, — говорит, — тебе следующий раз отдавать нечего будет… Ты, — говорит, — не беспокойся, мы скоро опять собирать будем». И правда: утром кофточку взяли, а вечером за шапочкой пришли. — Она вздохнула. — Беспризорников ведь много — когда всех обуешь, оденешь…
Они подошли к дому на Садовой.
— Вот здесь, на третьем этаже, — показала девочка и заторопилась: — Я пойду, а то Васька увидит…
Глава 37
Маленькое недоразумение
Девочка ушла. Мальчики стояли у подъезда. Их вдруг охватила робость. Из ворот выглянул какой-то мальчишка, посмотрел на них, спрятался обратно, потом высунулась еще одна белобрысая голова и тоже скрылась…
Мальчики стояли в нерешительности. Мише вдруг захотелось уйти домой. Кто его знает, еще, может, прогонят… Но рядом были Генка и Слава. Не мог же он обнаружить перед ними такое малодушие! Миша решительно двинулся вверх по лестнице. Мальчики пошли за ним.
Они поднялись на третий этаж, открыли массивную резную дубовую дверь и увидели большую квадратную комнату. У задней стены на подставке стояло свернутое знамя с золотыми кистями и бронзовым овальным острием. Над знаменем, во всю длину стены, — красное полотнище: «Организация детей — лучший путь воспитания коммунаров. Ленин». Рядом со знаменем на тумбочке лежали барабан и горн.
В каждом из углов комнаты стояло по маленькому флажку с какими-то изображениями. На стенах висели рисунки и плакаты.
В комнате никого не было. На лестнице тоже было пусто. На секунду в верхнем этаже послышался какой-то топот, и опять все стихло.
Мальчики вошли в комнату и начали осматривать пионерский клуб. На каждом из маленьких флажков был изображен зверь. Всего было четыре изображения: сова, лисица, медведь и пантера. Рядом на стене висели рисунки, вырезки из газет, большой лист с правилами сигнализации флажками, азбука Морзе. На веревочках висели тетрадки, озаглавленные: «Звеньевой журнал».
Друзья рассматривали один такой журнал, как вдруг услышали позади шорох. Они оглянулись и увидели подкрадывающихся к ним мальчиков в красных галстуках. Их вид не оставлял никаких сомнений относительно их намерений, и наши друзья мгновенно приняли положение «к обороне». Пионеры, увидев, что их заметили, с криком бросились в атаку, но она была быстро отбита мальчиками.
Заняв неприступную позицию в углу комнаты, тесно сомкнув строй с Мишей в центре, Генкой и Славой на флангах, друзья отчаянно отбивались руками и ногами.
Пионеры дружно бросились во вторую атаку. Ими командовал белобрысый мальчишка с нашивкой на рукаве. Он был страшно возбужден, метался из стороны в сторону и кричал:
— Спокойно… так… спокойно… Не давай им уходить!.. Спокойно… растаскивай их… Спокойно!..
Вторая атака оказалась успешней. Пионерам удалось оттащить Славу. Миша бросился его выручать. Строй разорвался, и мальчики сражались в одиночку…
— Спокойно! — кричал белобрысый, вцепившись в Славу. — Спокойно… применяй бокс! Спокойно… Сережка, общую тревогу!
Один пионер выскочил из свалки и яростно забил в барабан.
Мише удалось наконец отбить Славу, и мальчики, пятясь назад и отпихиваясь ногами, снова заняли свою позицию в углу.
Обе стороны были основательно потрепаны. Все тяжело дышали. У пионеров галстуки съехали на сторону. У Славы был разорван воротник. Генка одной рукой ощупывал свои рыжие волосы, чувствуя, что они значительно уменьшились в количестве.
— Чего вы? — тяжело дыша, начал Миша.
— Пленные, молчать! — закричал белобрысый. — Сейчас мы вас… двойным морским.
Барабан продолжал издавать отчаянную дробь. В комнату вбежали несколько пионеров, за ними — еще и еще…
— Спокойно! — кричал белобрысый, продолжая метаться из стороны в сторону. — Не подходить! Это пленные нашего звена, больше никого… Медведи, лисицы… не ввязываться. Это не ваши пленные, это наши… мы их поймали…
В комнату вошел широкоплечий, коренастый парень в майке, длинных черных брюках, тоже с галстуком.
Белобрысый отдал ему салют и, волнуясь, заговорил:
— Наше звено поймало трех скаутских разведчиков. Они хотели похитить отрядное знамя. Мы их заметили еще на улице. Они совещались у подъезда. Долго совещались и всё осматривались…
— Подожди, — остановил его вожатый. — Выпустите их…
Толпа пионеров, плотно окружавшая ребят, раздвинулась.
Мальчики вышли из своего угла.
— Так, — сказал вожатый, оглядывая ребят. — Продолжай, Вася.
— Они всё осматривались, — опять быстро заговорил белобрысый, — потом пошли по лестнице. Мы — с черного хода, наверх, на четвертый этаж. Они заглянули сюда, увидели, что никого нет, обрадовались и вошли, а мы их цап — и всех в плен взяли. — Он помолчал, потом деловито спросил: — Теперь мы их как? Сами судить будем или сдадим куда?
— Вы кто такие? — обратился вожатый к мальчикам.
— Мы никто, — угрюмо ответил Миша. — Просто зашли посмотреть, что это за пионеры такие.
Все рассмеялись. Белобрысый закричал:
— Не сознаются! Это скауты. Я вот этого знаю. — Он ткнул в Славу. — Он у них патрульный.
Слава покраснел:
— Неправда! Я никогда скаутом не был!
— Да!.. Не был!.. Рассказывай! Я тебя знаю. Мы тебя сколько раз видели… Правда, Сережка?
— Правда, — не моргнув глазом, подтвердил мальчик, бивший на барабане тревогу.
— А еще отпирается! — закричал белобрысый. — Я их хорошо знаю. Они на Бронной живут.
— Неправда, — сказал Миша, — мы живем на Арбате.
— На Арбате? — удивился вожатый. — Как же вы сюда попали?
— Пришли… Ведь только здесь отряд есть.
— Нет, — сказал вожатый, — не только здесь. У вас в Хамовниках тоже отряд есть, на Гознаке. И Дом пионеров организован. Почему вы туда не пошли?
— Да? — смутился Миша. — Мы не знали. Нам сказали, что в Москве только один отряд — ваш.
— Кто сказал?
— Товарищ Журбин.
— Товарищ Журбин? Откуда вы его знаете?
— Он у нас в доме живет.
— А-а… — Вожатый дружески улыбнулся. — Я знаю товарища Журбина. Так это он вам сказал… Только наш отряд уже не единственный. Есть в Сокольниках в железнодорожных мастерских и у вас на Гознаке. А ваши родители где работают?
— На фабрике Свердлова, — вмешался Генка. — У нас в доме тоже есть клуб и свой драмкружок.
— Да, — подтвердил Миша, — у нас есть свой кружок, но… мы… мы тоже хотим быть пионерами.
— Теперь все понятно, — засмеялся вожатый. — Вышла маленькая ошибка. Мои ребята, по старой памяти, всё со скаутами воюют, вот и вам попало. Ничего, сейчас мы это дело уладим.
Он засвистел в плоский физкультурный свисток, и через несколько секунд весь отряд выстроился вдоль стен, образовав квадрат, в центре которого стоял вожатый и рядом с ним — Миша, Генка и Слава.
Мальчики с восхищением смотрели на пионеров. Это была уже не толпа ребят, а отряд. Они стояли стройными рядами, по звеньям, с звеньевым флажком на правом фланге. Косые лучи солнца падали из высоких окон, освещая ровный ряд красных галстуков. Мальчики были в трусиках, девочки — в шароварах.
— Горнист, приветствие! — скомандовал вожатый.
Горн протрубил короткий, переливчатый мотив.
— Ребята! — сказал вожатый. — К нам пришли гости из Хамовнического района. Они пришли познакомиться с нашей жизнью и работой. Они хотят последовать нашему примеру. Они хотят быть пионерами. Попросим их передать ребятам Хамовников наш пламенный пионерский привет.
И пионеры Красной Пресни приветствовали будущих пионеров Хамовников троекратным «ура».
Глава 38
Впечатления
Только к концу дня покинули мальчики гостеприимный пионерский клуб. Восхищенные всем виденным, они шли по бульварам Садовой к себе домой.
— «Пионер здоров и вынослив» — вот самый правильный закон, — разглагольствовал Генка, размахивая руками, — самый правильный! Теперь надо побольше заниматься физкультурой и развивать мускулы.
— Есть законы поважней, — заметил Слава.
— Какие это поважней? — задорно спросил Генка.
— Какие? Например: «Пионер стремится к знанию. Знание и умение — сила в борьбе за рабочее дело».
— Это поважней? Ничего ты не понимаешь! Если будешь слабым, так тебя буржуи в момент расколошматят, никакие знания не помогут. Верно, Мишка?
— Самых важных законов два, — наставительно произнес Миша. — Во-первых: «Пионер верен делу рабочего класса», и, во-вторых: «Пионер смел, настойчив и никогда не падает духом». Но самое главное — это то, что сказал Ленин. Слыхали, их вожатый читал? «Дети, подрастающие пролетарии, должны помогать революции». Вот это самое главное.
— А вы заметили, как о них сторож в типографии говорил? — сказал Слава. — С уважением.
— Еще бы, — сказал Миша, — их весь район знает, а уж в своей типографии и подавно.
— Только почему у них никакого оружия нет? — недоумевал Генка. — Хотя бы винтовочка какая-нибудь для порядка. Мы для своего отряда обязательно винтовки достанем.
— Мы как отряд организуем, — сказал Миша, — так звенья будем по-другому называть. Зачем все эти звери? Это по-детски получается. Лучше какое-нибудь революционное название. Например, имени Карла Либкнехта или Спартака.
— Это не ты придумал, — заметил Генка, — они у себя тоже хотят переделать. Слыхал, вожатый говорил?
— Слыхал. Только я это еще раньше подумал, как увидел зверей. А слышали, вожатый сказал: «К Международному юношескому дню передадим лучших пионеров в комсомол»? Видали? Этот белобрысый уже комсомольцем будет, а мы еще даже не пионеры.
— Этому белобрысому нужно наложить как следует, — проворчал Генка.
— За что? — возразил Миша. — Они защищали свое знамя. Ведь они не знали, кто мы такие.
— Теперь нужно на Гознак пойти, — сказал Слава. — Может быть, нас туда в отряд примут, или узнать, где это организуется Дом пионеров.
— Зачем нам куда-то ходить, когда у нас своя фабрика есть! — возразил Миша. — Слышал, их вожатый говорил: отряды будут организованы при всех заводах и фабриках. Есть постановление комсомола.
— Фью! — свистнул Генка. — Жди от нашего директора или вот от его папаши. — Он кивнул на Славу. — Тетя говорит, что они ни на что денег не дают, такие скупердяи.
Слава обиделся:
— Ничего ты не знаешь, а говоришь! Еще не все цехи работают, а фабрика должна обходиться своими средствами. Думаешь, так просто фабрикой управлять?
— Нужно пойти в ячейку и в райком, — сказал Миша, — и к Журбину заодно. Он тогда еще про пионеров говорил.
Мальчики подошли к своему дому. В воротах они услышали шум и крики, доносившиеся с заднего двора. Они побежали туда и увидели толпу ребят, плотным кольцом окруживших беспризорника Коровина.
Коровин стоял, прижавшись спиной к стене, озираясь кругом, как затравленный волчонок. На него наскакивал Борька Филин.
— Ты чего? — кричал Борька. — Воровать сюда пришел? А? Скажи! Воровать? Бей его, ребята!..
Миша растолкал ребят и стал рядом с беспризорником:
— Вы чего к нему пристали? Вы чего все на одного? Ты что, Борька, с ума сошел?
— Брось, Мишка, — крикнул Генка, — ведь это он у тебя деньги украл! Нечего его защищать. Знаю я этих беспризорников… Малолетние преступники! — добавил он презрительно.
Коровин вдруг засопел и пробормотал:
— Сам ты малолетний… рыжий преступник.
Все рассмеялись.
— Айда в клуб, — сказал Миша. — Пойдем с нами. — Он потянул беспризорника за рукав, но тут же отпустил его, вспомнив, что рукава у Коровина плохо держатся.
— Не пойду я, — угрюмо ответил Коровин, исподлобья поглядывая на Генку.
— Правильно, — ввязался вдруг Борька, — не ходи с ними, пацан. Давай лучше в расшибалочку постукаем.
— Пойдем, пойдем, — Миша опять потянул беспризорника, — не бузи, пойдем…
Глава 39
Художники
В клубе драмкружковцы рисовали декорации. На сцене лежали длинные полосы белой бумаги. Маленький Вовка Баранов, по прозвищу Бяшка, тщетно пытался нарисовать богатую крестьянскую избу, жилище кулака Пахома.
— Эх ты, Бяшка несчастная! — ругался Шура Большой. — Не можешь простую избу нарисовать, а еще сын художника!
— При чем здесь «сын художника»? — оправдывался маленький Бяшка. — Наследственность передается только в третьем поколении.
Неожиданно для всех Коровин поглядел на эскиз, взял уголь и качал рисовать. На белых листах быстро появились очертания печи, окошек, длинных лавок.
— Видал? — Миша подтолкнул Генку локтем.
— Подумаешь! — Генка презрительно тряхнул волосами. — Что с того, что он рисовать умеет?.. Охота тебе с ним возиться!
— Если каждый из нас сагитирует хоть одного беспризорника, то и беспризорных не останется, — наставительно изрек Миша.
Коровин кончил эскиз и, ни на кого не глядя, сказал:
— Кисть не годится.
Шура принес ему еще несколько кистей, но Коровин их все забраковал.
— Другие нужно, — твердил он.
Миша вынул остатки лотерейных денег и протянул их Коровину:
— На, сходи купи, какие надо.
Однако Коровин не брал денег и молча смотрел на Мишу.
— Иди, — сказал Миша. — Чего ты на меня глаза вытаращил?
Коровин нерешительно взял деньги, молча оглядел всех ребят и вышел из клуба.
— Фью! — свистнул Генка. — Ухнули наши денежки!
— Если ты так будешь распоряжаться финансами, — объявил Шура, — то я с себя снимаю всякую ответственность за спектакль.
— Нечего прежде времени волноваться, — спокойно ответил Миша, — подождем…
Наступило томительное ожидание. Уже собрались взрослые. Коровина все не было.
«Неужели обманет? — думал Миша. Он вспомнил, как Коровин поглядел на него, когда брал деньги. — Нет. Он придет».
Но Коровина все не было.
— Нечего больше ждать, — сказал Шура. — Давай, Бяшка, рисуй.
Вовка начал разводить краски, как вдруг дверь клуба открылась и появился Коровин. Он был не один. Его крепко держала за плечо высокая смуглая девушка с черными, коротко остриженными волосами, одетая в синюю юбку и защитного цвета гимнастерку, перехваченную в тонкой талии широким командирским ремнем. И самое интересное: на ней был красный галстук. Одной рукой девушка крепко держала Коровина за плечо, в другой у нее была пачка кистей. Вид у девушки был очень решительный.
Она подошла к ребятам и, продолжая держать Коровина за плечо, строго спросила:
— Кто из вас посылал его за кистями?
— Я, — ответил Миша. — А в чем дело?
— Зачем вам кисти?
— Декорации рисуем.
Девушка отпустила Коровина, подошла к сцене и, разглядывая декорации, спросила:
— Какую же пьесу вы ставите?
Вперед выступил Шурка Большой.
— «Кулак и батрак», — важно произнес он. — Кстати, разрешите представиться: Александр Огуреев. Художественный руководитель и режиссер. — Он протянул девушке руку.
Девушка рассмеялась, пожала Шурину руку и сказала:
— Валя Иванова. Из районного Дома юных пионеров.
— Разрешите узнать, в чем сущность инцидента? — не меняя своей серьезной мины, спросил Шура.
— А в том, — строго сказала девушка. — Мы этих ребят отучаем воровать, а вы их приучаете. Он пришел и стащил у нас кисти.
— Я не стащил, — пробормотал Коровин, — я взял с возвратом…
Миша с удивлением смотрел на девушку. Ей было на вид лет семнадцать, не больше, а она уже вожатая и работает в Доме юных пионеров.
— Где же находится ваш дом? — недоверчиво спросил он.
— На Девичьем поле… — Девушка замялась. — Собственно говоря, он еще только организуется… А вот что это у вас за дикий кружок? Кто вами руководит? При какой организации вы состоите?
— Мы при домкоме! — крикнул Генка.
Девушка засмеялась, оглядела ребят и спросила:
— А знаете вы, кто такие юные пионеры?
Миша, Генка и Слава закричали: «Знаем!», но их голоса потонули в общем крике остальных ребят: «Нет, не знаем!»
— Тише, ребята! — крикнула девушка и подняла руку.
Когда все замолчали, она сказала:
— Пионеры, ребята, — это смена комсомолу. Теперь все дети объединяются в пионерские отряды, и в этих отрядах они готовятся стать комсомольцами, настоящими большевиками. — Она посмотрела на ребят. — Вы думаете, я к вам из-за кистей пришла? Нет. Ошибаетесь. Кисти я могла просто у него отобрать. Но он сказал, что несет их к каким-то ребятам в драмкружок. Вот я и захотела посмотреть на вас…
— Мы скоро тоже пионерами будем! — крикнул Генка.
— Конечно, будете, — сказала девушка. — А пока приходите к нам в Дом пионеров. У нас будут разные мастерские, кружки. Приходите. Тогда и кисти принесете… Кто у вас тут главный?
Генка подтолкнул вперед Мишу:
— Вот наш председатель.
— Хорошо. — Девушка одобрительно посмотрела на Мишу. — Кисти оставляю на твою ответственность. А ты собери своих ребят и приходи к нам. Обязательно приходите.
— Ладно, — сказал Миша, — а вы приходите в воскресенье на наш спектакль…
Когда девушка ушла, Коровин вернул Мише деньги и начал рисовать.
— Почему же ты в магазине не купил? — спросил его Миша.
— А чего зря платить! — Коровин посмотрел на Генку. — Я ведь не для себя.
— Ему платить непривычно, — ехидно заметил Генка и примирительно добавил: — Ладно, рисуй… Эх ты, Корова…
Глава 40
Опытные сыщики
— Идет! — прошептал Генка и толкнул Славу. — Пошли…
Из ворот вышел Филин, свернул в Никольский переулок и направился к Пречистенке. Подстерегавшие его Генка и Слава двинулись за ним, внимательно приглядываясь к его походке.
— Вразвалку идет, — шептал Генка. — Определенно бывший матрос. Видишь, как ноги расставляет, точно на палубе.
— Обыкновенная походка, — возразил Слава, — ничего особенного. Потом, он в сапогах, а заправские матросы обязательно брюки клёш носят.
— При чем здесь клёш! Вот как он оглянется, ты на лицо посмотри. Увидишь: красное, как морковка. Ясно — обветренное на корабле.
— Лицо у него действительно красное, — согласился Слава, — но не забывай, что Филин алкоголик. От водки лицо тоже становится красным.
— И вовсе не красным! — раскипятился Генка. — От водки только нос красный, а лицо фиолетовое…
— Потом, смотри, — продолжал Слава, — руки держит в карманах. Разве настоящий матрос держит руки в карманах? Никогда. Он ими всегда размахивает, потому что привык балансировать во время качки.
— Брось, пожалуйста! «Руки в карманах»… Если хочешь знать, так у моряков самый шик считается во время бури держать руки в карманах и трубку изо рта не выпускать. Вот. И вообще, раз ты не веришь, что это тот Филин, так сидел бы дома.
Переговариваясь таким образом, мальчики шли за Филиным. Он пересек Пречистенку, дошел до Остоженки и, оглянувшись, вошел в магазин филателиста.
— Ну все, — сказал Слава, — пошли обратно.
Генка минуту колебался, потом сказал:
— Зайдем в магазин.
— Как тебе, Генка, не стыдно! — укорял его Слава. — Ведь договорились. И Миша сказал: в магазин не заходить… Мишу старик уже раз прогнал и нас прогонит…
— Не прогонит. Разве мы не имеем права марки купить? Пошли.
Слава хотел его остановить, но было уже поздно. Генка решительно открыл дверь в магазин. Славе пришлось войти вслед за ним.
Старик стоял за прилавком и разговаривал с Филиным. Когда мальчики вошли, они замолчали.
— Вам что? — спросил старик и подозрительно посмотрел на них.
— Марки посмотреть, — сказал Генка.
— Нечего смотреть! — раздраженно крикнул старик. — Каждый день смотрите — ничего не покупаете… Какие марки вам надо?
— Гватемалы, — прошептал растерявшийся Генка.
Старик снял с полки коробку, вынул оттуда конверт и бросил на прилавок:
— Выбирайте…
Генка начал неуверенно выбирать марки. Все молча смотрели на него. Генка совсем смутился и ткнул в одну марку:
— Вот эту.
Старик убрал конверт, оставив на прилавке выбранную Генкой марку, и сказал:
— Двадцать копеек.
Генка беспомощно посмотрел на Славу. Слава понял его взгляд: у Генки не было денег. Но и у Славы тоже не было ни копейки.
Старик и Филин выжидательно смотрели на мальчиков.
— Двадцать копеек! — повторил старик.
Вместо ответа Генка повернулся и опрометью бросился из магазина. Слава выскочил за ним.
Они перебежали улицу и быстро пошли по направлению к дому.
— Говорил тебе, не надо заходить… — начал Слава.
— А что такого? — беззаботно ответил Генка.
— Как — что? Теперь они нас заметили и поняли, что мы за ними следим.
— Так уж и поняли! Мало к нему ребят без денег ходит.
— Ладно, ладно, — сказал Слава, — попадет тебе от Мишки.
— А что мне Мишка за начальник! — с независимым видом ответил Генка. — Подумаешь!
— Он, конечно, не начальник, но кортик его, а ты своими глупыми штуками все дело портишь.
— Я сам знаю, что надо делать! — отрезал Генка. — У меня своя голова на плечах есть.
Они дошли до дома и увидели Мишу, спускающегося от Журбина.
— Мишка! — как ни в чем не бывало крикнул Генка. — Новости!
— Ну что?
— Все в порядке, — зашептал Генка. — Выследили Филина. Он к старику ходил. Походку проверили. Моряк, определенно моряк. Установлено окончательно.
— Вот видите! — сказал Миша. — Я же вам говорил. И у меня все в порядке. Был у Журбина, и в Доме пионеров, и у секретаря комсомольской ячейки.
— И что?
— В воскресенье увидите, — загадочно ответил Миша.
— Что?
— Увидите. В общем, все в порядке. Ладно. Теперь надо только установить, служил Филин на линкоре или не служил. А потом возьмемся за филателиста. Только придется вам: меня он уж в магазин не пускает.
— Не беспокойся, Миша, — вмешался молчавший все время Слава, — нам тоже не придется. — И он многозначительно посмотрел на Генку.
— Почему?
— Потому что нас в магазин тоже больше не пустят.
— В чем дело? — Миша переводил недоуменный взгляд с Генки на Славу и со Славы на Генку. — Почему не пустят?
— Пусть он сам скажет. — Слава кивнул на Генку.
Генка торопливо заговорил:
— Понимаешь, Миша, мы идем за Филиным. Ведь надо узнать, куда он идет. Он в переулок — мы за ним. Он на Остоженку — мы за ним. Он в магазин — мы за ним. А в магазине у нас не оказалось денег, чтобы марки купить. Ну, мы спокойно повернулись и ушли. Вот и всё.
— Понятно… — протянул Миша и покачал головой. — В общем, попались… Ведь говорил, говорил: не ходить в магазин. А теперь никому из нас и не подойти к старику. Нет, ты уже второй раз все дело срываешь! То Борьке о ящиках разболтал, теперь в магазине все дело провалил. Хватит. Придется без тебя дело делать. Довольно.
Генка не стал спорить. Он знал, что Миша посердится и успокоится, а уж без него «дело делать» не будут.
Глава 41
Спектакль
Уже несколько дней на дверях клуба висела афиша о предстоящем в воскресенье спектакле для детей. Будет представлена пьеса в трех действиях «Кулак и батрак». Руководитель студии — Александр Огуреев. Режиссер — Александр Огуреев. В главной роли — Александр Огуреев. И в самом низу, маленькими буквами: «Художник Михаил Коровин, под руководством Александра Огуреева».
Коровин очень гордился тем, что его имя упомянуто в афише, посмотреть на которую приходили целые толпы беспризорных.
Билеты были распроданы задолго до спектакля. Ребята весь сбор отнесли в редакцию газеты «Известия» и сдали в фонд помощи голодающим Поволжья.
В воскресенье клуб с утра заполнился ребятами. Пришли дети из соседних домов и большая толпа беспризорных из Рукавишниковского приемника; явились акробаты Буш — Игорь и Лена. Валя Иванова привела с собой комсомольца, в кепке и кожаной куртке, из кармана которого торчала пачка газет. Под расстегнутой курткой виднелась синяя косоворотка с комсомольским значком на груди.
Комсомолец протянул Мише руку:
— Будем знакомы. Севостьянов Николай, или просто Коля.
Он говорил, пристально разглядывая Мишу, чуть наклонясь вперед, высокий и как будто немного сутуловатый. Из-под кепки на бледный лоб свисала косая прядь мягких белокурых волос. Глаза у него были серые, усталые и очень умные.
— Товарищ Севостьянов посмотрит ваш спектакль, — сказала Валя, — а потом вам кое-что расскажет.
Перед поднятием занавеса выступил заведующий клубом Митя Сахаров. Откинув волосы назад, он сказал:
— Товарищи! Сейчас вам будет показан спектакль, поставленный силами детского драмкружка нашего клуба. Администрация клуба, товарищи, не жалела средств для постановки спектакля, потому что работа с детьми — дело важное, для клуба особенно. Администрация надеется, что ее расходы будут полностью возмещены. А теперь, товарищи, попросим… — Он захлопал в ладоши, и весь зал ответил грохотом рукоплесканий.
Спектакль прошел с большим успехом.
Зина Круглова по ходу действия так хватила Шуру кочергой, что у него спина затрещала. Эффект получился необыкновенный; юные зрители в восторге кричали: «Бей его, Зина, лупи!» Но Шура, как настоящий артист, даже виду не подал, что ему больно.
В эпилоге все действующие лица пели и плясали. В заключение выступили Лена и Игорь Буш.
Потом на сцену поднялся Коля Севостьянов. Он обвел зал внимательным взглядом и спросил:
— Понравилось?
— Понравилось! — хором ответили зрители.
— Вот видите, — сказал Коля. — Ребята этого дома помогли нашим маленьким товарищам в Поволжье. Как по-вашему: хорошо они сделали?
— Хорошо! — опять хором ответили ребята.
— Так, — продолжал Коля. — Теперь я задам вам один вопрос…
Он замолчал. Все ждали вопроса. После маленькой паузы Коля спросил:
— Знаете вы, кто такие юные пионеры?
— Знаем! — закричал изо всех сил Генка.
Миша толкнул его в бок кулаком:
— Не ори! Ты знаешь, а другие не знают.
«Знаем!» — кричали одни. «Не знаем!» — кричали другие. Все старались перекричать друг друга, и в нескольких местах уже началась потасовка.
Коля поднял руку и, когда все утихли, сказал:
— Пионеры должны довести до конца то дело, которое начали их отцы и старшие братья, — дело коммунизма. В нашем районе уже есть три таких отряда: на «Каучуке», «Ливерсе» и Гознаке…
— А почему у нас нет? — спросил Миша.
— Об этом я и хотел вам сказать. Этот клуб, ребята, переходит в ведение нашей фабрики. И вот при фабрике организуется пионерский отряд… Кто из вас хочет стать юным пионером, может сейчас у меня записаться.
— Сейчас я ему задам один вопросик, — тихо проговорил Генка. — А имеют ли право пионеры скаутов лупить?
— Что за глупые вопросы! — рассердился Миша. — И вообще, что это у тебя за привычка: лупить да лупить… Лупить тоже надо с толком.
Часть IV Отряд № 17
Глава 42
Уголок звена
— Пионер свое дело делает быстро и аккуратно, — размахивая молотком, разглагольствовал Генка.
Он стоял на верхней ступеньке деревянной лестницы, под самым потолком клуба, и прибивал к стене плакат.
— Вот-вот: «быстро и аккуратно», а ты уже целый час копаешься, — заметил Слава.
Одной рукой Слава поддерживал лестницу, в другой держал свисающий конец плаката.
Клуб готовился к торжеству по случаю пуска фабрики на полную мощность. С потолка свисали гирлянды еловых ветвей с рассыпанными по ним разноцветными лампочками. Пионеры кончали устройство звеньевых уголков. Пахло свежей елью, столярным клеем, краской.
Все пионеры были в новенькой форме защитного цвета. Костюмы им выдала дирекция фабрики, когда пионеры давали торжественное обещание. Отряду тогда вручили знамя, барабан и горн.
— Вот, ребята, — сказал директор фабрики, подписывая наряд на материал, — страна наша разута, раздета, только из разрухи вылезает, а для вас ничего не жалеет. Помните это…
Миша стоял, закинув кверху голову, и следил за Генкиной работой. Когда Генка прибил второй конец плаката, Миша крикнул:
— Слезай, довольно болтовней заниматься!
Генка слез и стал рядом с Мишей и Славой. Мальчики с удовольствием осматривали свою работу.
В центре звеньевого уголка помещался выпуклый фанерный щит: «Звено № 1 имени Красного Флота». Буквы были вырезаны в фанере и заклеены красной бумагой. Внутри щита помещалась электрическая лампочка. Буквы горели ярко-красным пламенем. Получилось очень красиво.
— А? Здорово? — хвастался Генка. — Никто так не придумал!
Действительно, ни у кого не было такого светящегося щита. Уголки были скромные, украшенные рисунками, вырезками из газет, лозунгами.
С банкой краски в руках мимо них пробежал маленький Вовка Баранов. Он чуть не задел Генку. Генка отскочил в сторону и с испугом посмотрел на рукав своей новенькой гимнастерки — не запачкал ли ее Бяшка. Но все было в порядке.
— Бяшка несчастная! — рассердился Генка. — Носится как угорелый! Чуть гимнастерку не запачкал! — Он с удовольствием пощупал гимнастерку. — Материальчик первый сорт! — Он причмокнул губами. — Вот тебе и текстильная промышленность. А то ребята с «Каучука» хвастают: мы, мол, химики, резинщики… Дадут им резиновые комбинезоны, будут знать «резинщики»…
К ним подошел вожатый отряда Коля Севостьянов.
— Коля, — сказал ему Генка, — смотри, как мы здорово придумали. Лучше, чем у всех.
— Неплохо, — равнодушно ответил Коля, — а хвастать этим нечего. Ваше звено старшее, у вас и должно быть лучше других… Поляков! — обратился он к Мише.
— Да? — отозвался Миша.
— Быстро! Со звеном на площадку. Там Коровин со своими пришел.
— Есть! — ответил Миша.
— Смотри, — продолжал Коля, — первая встреча самая ответственная. Сумеете подружиться — будут ребята ходить. Не сумеете — они больше не придут. Держитесь просто. Для первого раза постарайтесь вовлечь их в игру. Понял? Ну, отправляйтесь!
— Звено Красного Флота, — крикнул Миша, — становись!
Глава 43
Площадка
Пионеры выскочили из клуба и строем побежали на площадку — так назывался теперь задний двор. Ничто там, впрочем, не изменилось, только висела сетка для волейбола.
Возле корпуса на асфальте тесной кучкой сидели человек десять беспризорных. Некоторые из них курили. Все они были в лохмотьях, грязные, с нестрижеными волосами. Только один паренек был в новенькой серой кепке, вероятно, только сегодня где-то раздобытой. Они изредка перебрасывались между собой словами, не обращая никакого внимания на окруживших их маленьких ребятишек, с любопытством разглядывавших странных пришельцев.
Как было заранее условлено, пионеры сразу разбились на две группы и заняли места на волейбольной площадке.
— Еще шесть человек! — крикнул Миша, приглашая этим беспризорных вступить в игру.
Никто из них не пошевелился. И все время, пока пионеры играли, они сидели в прежних позах, равнодушные и к игре, и ко всему окружающему.
— Не поддаются! — прошептал Генка Мише.
Вместо ответа Миша, подавая мяч, сильно ударил его и направил прямо в группу беспризорных. И это не произвело на них никакого впечатления. Только Коровин лениво отпихнул мяч ногой.
Пионеры играли с азартом. Поминутно слышались выкрики: «пасок», «бей», «удар», «режь», «свечка», «туши», «мазила», но это не подзадоривало беспризорных. Некоторые из них, прислонившись к стене, дремали, жмурясь от солнца.
«Они присматриваются, сразу их не вовлечешь, — думал Миша, — но как бы они не ушли».
Миша дал свисток. Игра прекратилась. Девочки остались на площадке, мальчики подсели к беспризорным.
— Здорово, Коровин! — сказал Миша. — Как дела, тезка?
— Ничего, — нехотя ответил Коровин, — помаленьку.
— Что это у вас за палка? — спросил вдруг беспризорник с таким обилием веснушек на лице, что их не мог скрыть даже толстый слой грязи, и показал на оборудованный меж двух деревьев самодельный турник из водопроводной трубы.
— Турник, — охотно объяснил Миша.
— Зачем?
— А вот зачем. — Миша подошел к турнику, подтянулся, сделал преднос и соскочил. — Сумеешь так?
— Не знаю, не пробовал, — ответил беспризорник.
— А ты попробуй, — предложил Миша.
— А и правда… попробовать, што ль…
Беспризорник лениво встал, вразвалку подошел к турнику, посмотрел на него снизу, покачал с сомнением головой, подпрыгнул, ухватился за турник и выжал стойку. Пальто опустилось ему на голову, в воздухе торчали босые грязные ноги, но все же это была стойка…
Потом он соскочил, так же вразвалку отошел от турника и сел на свое место. Беспризорники ухмылялись и насмешливо поглядывали на пионеров.
— Здорово! — сказал Миша. — Мы так не умеем. А ну, Генка, попробуй…
— Где уж мне! — Генка махнул рукой.
— А ты попробуй, — уговаривал его Миша.
Генка стал под турником, поднял голову, вытянулся, присел, подпрыгнул и ухватился за турник. Потом, не сгибая колен, выбросил ноги вперед и начал раскачиваться.
Он раскачивался все быстрей, быстрей, быстрей — и вдруг… раз! Он сделал стойку. Два! — вторая стойка. Три! — третья стойка. Он описывал быстрые круги, и красный галстук летел вслед за ним. Потом опять раскачивание, все медленней и медленней, и Генка спрыгнул на землю.
— Подходяще, — сказал Коровин.
— Это называется «вертеть солнце», — объяснил Миша. — Этому можно научиться легко.
— Нам это ни к чему, — сказал беспризорник в кепке.
— Ничего не бывает «ни к чему», — вмешался Шурка Большой. — Все надо уметь и все надо знать, — наставительно добавил он.
— А, «кулак»! — хихикнул маленький беспризорник. — Здорово тебя кочергой огрели…
— Ну что же, — сказал Шура, — настоящий артист должен ко всему привыкать. Искусство требует жертв.
— Верно, — подтвердил беспризорник в кепке. — Лазаренко, того и гляди, шею сломает, а все прыгает.
— В цирке и вовсе под крышей кувыркаются и то не дрейфят, — подхватил беспризорник с веснушками.
Беседа завязалась. Разговором овладел Шурка Большой. Он уже собирался рассказать содержание новой кинокартины — «Комбриг Иванов», как вдруг неожиданное обстоятельство нарушило так удачно начатую беседу.
Глава 44
Юркин велосипед
Во дворе появились Юрка-скаут и Борька. Но они не просто появились — они въехали на велосипеде. Велосипед был дамский, но настоящий, двухколесный, новый, с яркой шелковой сеткой на заднем колесе.
Юра стоя вертел педалями, а Борька сидел на седле, расставив ноги и торжествующе улыбаясь во весь свой щербатый рот.
Они объехали задний двор. Потом Борька слез с велосипеда, и Юра начал кататься один, выделывая разные фигуры.
Он ехал «без рук», становился коленями на седло, делал «ласточку», ехал на одной педали, соскакивал назад…
В это время Борька, стараясь привлечь к этому зрелищу всеобщее внимание, орал во все горло: «Вот это да!», «Вот это дает!», «А ну еще, Юрка!» — и в избытке восхищения хлопал себя руками по штанам и бросал вверх шапку.
Все смотрели на Юру. Разговор пионеров с беспризорниками оборвался.
«Это они нарочно, — думал Миша, — нарочно мешают, чтобы работу сорвать».
— Давай их сейчас отсюда наладим, — шепотом предложил ему Генка.
Но Миша отмахнулся: не затевать же здесь драку. Только дело испортишь.
Он думал, что же делать, как вдруг увидел в воротах Юриного отца, доктора Стоцкого. Юра не видел отца. Он стоял за углом корпуса и вместе с Борькой поправлял цепь на велосипеде.
— Юрка-а-а, — крикнул Миша, — иди сюда! — и подмигнул Генке, скосив глаза в сторону Юриного отца.
Юра оглянулся и с недоумением посмотрел на Мишу.
— Да иди! — крикнул снова Миша. — Чего боишься?
Юра, придерживая рукой велосипед, нерешительно подошел.
— Это какая марка? — Миша кивнул на велосипед.
— «Эйнфильд».
— Ах, «Эйнфильд»! — Миша потрогал велосипед. — Ничего машина.
Коровин и беспризорник в кепке тоже начали ощупывать велосипед.
Вдруг Генка заложил пальцы в рот и отчаянно засвистел. Стоявший в воротах доктор обернулся и, увидев Юру, подошел к ребятам. Это был красивый мужчина с холеным лицом и полными белыми руками. От него пахло не то одеколоном, не то аптекой.
Юра стоял у своего велосипеда и растерянно смотрел на отца.
— Юрий, — строго произнес доктор, — домой!
— Я вовсе… — начал было Юра.
— Домой! — ледяным голосом повторил доктор, посмотрел на беспризорников, брезгливо поморщился, круто повернулся и пошел со двора.
Придерживая рукой велосипед, Юра побрел за ним.
— Здорово разыграл! — сказал Коровин.
— Не задавайся, — поучительно добавил беспризорник с веснушками.
Глава 45
Ленточка
Разговор снова наладился, и мальчики беседовали еще целый час. Уходя, беспризорники обещали опять прийти завтра.
Довольные первым успехом, пионеры оживленно обсуждали поведение беспризорных. Невдалеке, на асфальтовой дорожке, сидел Борька и играл сам с собой в расшибалочку.
— Эй, Жила, — крикнул Генка, — что же ты на велосипеде не катаешься?
Борька промолчал.
— Имей в виду… — продолжал Генка, — сам имей в виду и скауту своему несчастному передай: будете срывать нам работу, смотрите — таких кренделей вам навешаем, что вы их в год не соберете.
Борька опять промолчал.
— Чего ты, Генка, к нему привязываешься? — примирительно сказал Миша. — Чего привязываешься? Борька — парень ничего, только зря с этим скаутом водится.
Борька насторожился, опасаясь подвоха.
— И чего он с ним водится? — продолжал Миша. — Юра его и за человека не считает. Видали, как его папаша на нас на всех посмотрел?
Борька молчал, не понимая, к чему клонит Миша.
— Видали? — повторил Миша и, обращаясь к Борьке, сказал: — Верно, Борька, я говорю?
— Ты чего меня агитируешь? — ответил Борька. — В пионеры, что ли, хочешь записать? Не нужны мне ваши пионеры. Зря стараешься.
— Тебя никто и не примет! — крикнул Генка.
— Подожди, — остановил его Миша и снова обратился к Борьке: — Я тебя не агитирую, я просто так говорю. А с тобой я хотел одно дело сделать. Серьезное дело. Вот только вчера об этом со Славкой говорили… Верно, Славка?
Слава ничего не понимал, но на всякий случай подтвердил, что верно, только вчера говорили.
— Какое такое дело? — недоверчиво спросил Борька.
— Видишь ли, — сказал Миша, — мы новую пьесу ставим, из матросской жизни, и нам нужна матросская форма. Понимаешь? Настоящая тельняшка, брюки, бескозырка. Старую или новую, все равно. Главное, чтоб всамделишное название корабля было. Ленточку бы, например. Вот я и хотел с тобой поговорить. Ведь ты все ходы-выходы знаешь… Может быть, достанешь?
Борька усмехнулся:
— С какой это радости я буду для вас доставать? На дармовщинку хотите? Дураков всё ищете?
— Мы заплатим.
— Гм! — Борька задумался. — А сколько заплатите?
— Посмотреть надо сначала. А сумеешь достать?
— Я что хочешь из-под земли достану. — Он посмотрел на Мишу. — Дашь ножик? Сейчас ленточку принесу.
— Настоящую?
— Настоящую.
— Ладно. Тащи.
Борька поднялся с земли:
— Без обману?
— Точно тебе говорю. Неси. Получишь ножик.
Борька побежал домой.
— В чем дело, Миша? — возмутился Шурка Большой. — Что это за пьесу ты собираешься ставить? Почему я об этом ничего не знаю?
— Я тебе потом расскажу. Это… для другого дела.
— Как это «потом»? Я все же руководитель драмкружка. Ты не имеешь права меня обходить.
— Раскипятился… — сказал Генка. — Миша знает, что делает, на то он и звеньевой.
— А я отвечаю за всю художественную часть.
— Ну и отвечай, — пожал плечами Генка, — никто тебе не мешает…
— Тише, — остановил их Миша, — Борька идет…
Борька подбежал к ним; в кулаке он что-то держал.
— Давай ножик!
— Покажи сначала.
Борька чуть разжал и показал краешек смятой черной ленточки.
Миша протянул руку:
— Дай посмотрю. Может, она не настоящая.
Борька быстро сжал кулак:
— Так я тебе и дал… Ножик давай сначала. Не беспокойся, настоящая. Головой отвечаю.
Эх, была не была! Миша протянул Борьке ножик.
Тот схватил его и передал Мише ленточку. Миша развернул ее. Сзади на него навалились Генка и Слава.
И на потертой ленточке мальчики увидели отчетливые следы серебряных букв: «Императрица Мария».
Глава 46
Проекты
Теперь беспризорники каждый день приходили на площадку. Они приводили с собой товарищей, играли с пионерами в лапту, в волейбол, слушали Шурины рассказы, но заставить их снять свои лохмотья было невозможно, хотя стояли жаркие июльские дни.
Воздух был пропитан терпким запахом горячего асфальта. Асфальт варился в больших котлах, дымился на огороженных веревкой тротуарах.
Трамваи, свежевыкрашенные, с рекламными вывесками на крышах, медленно ползли по улицам, отчаянно трезвоня каменщикам, перекладывавшим мостовую. Дворы были завалены паровыми котлами, батареями, трубами, кирпичом, бочками с цементом и известью. Хозяйство Москвы восстанавливалось…
— «Циндель» пустили, — объявлял всезнающий Генка, показывая на дальний дымок, поднимавшийся из невидимой за домами фабричной трубы. — Вчера пустили, а завтра «Трехгорка» пойдет в ход.
— Все ты знаешь, — насмешливо отвечал Миша, — даже из чьей трубы дым идет. А вот это что? — Он показал на работавших на столбах монтеров.
— Как — что? Сам видишь: электричество починяют.
— «Электричество починяют»! — передразнил Миша. — Много ты знаешь! А почему починяют?
— Испортилось, наверно.
— Эх ты! Каширскую электростанцию пустили, вот почему. Она на угле работает. Теперь фонари будут всю ночь гореть, и не по одной, а по обеим сторонам улицы. Понял? И Шатурскую станцию начали строить… та на торфе… А вот на Волхове первую гидроэлектростанцию строят, ее будет вода вертеть…
— Все это я сам, без тебя знаю, — сказал Генка. — Думаешь, ты один только газеты читаешь?
У Генки дома действительно лежала целая кипа газет: все это были номера «Известий» за одно и то же число. В этом номере, в графе «В фонд помощи голодающим Поволжья», было написано: «От детей жилтоварищества № 267–287 рублей». Все ребята очень этим гордились, а Генка всегда таскал газету с собой и всем показывал.
Дни проходили, а мальчики не могли придумать, как же им добыть ножны. Теперь, когда было твердо установлено, что Филин — это тот самый Филин, нужно было окончательно выяснить, видел ли Миша у филателиста ножны или это был просто веер. Но как это сделать?
— Залезть к старику, и всё, — говорил Генка. — Раз они бандиты, так и нечего с ними церемониться.
— Как же ты собираешься к нему залезть? — спросил Слава.
— Очень просто: через форточку. А еще лучше — Коровину поручить. Он знает, как такие дела делаются.
— Ты лучше помалкивай, — сказал Миша, — из-за тебя теперь нельзя к старику показаться. Ведь попробовали вчера, а он даже в магазин не пустил. Факт, что подозревает. А Коровина нечего сюда ввязывать. Новое дело: будем его подбивать в форточку залезть! Что он о пионерах подумает! Ведь он ничего не знает о кортике. Тут что-то другое надо придумать.
И Миша действительно придумал. Только мысль эта пришла к нему несколькими днями позже — во время поездки отряда в двухдневный лагерь на озеро Сенеж.
Глава 47
Сборы в лагерь
В день выезда в лагерь Миша проснулся рано утром.
В комнате уже было светло; за окном в предутреннем тумане виднелись серые стены соседнего корпуса. Кое-где в окнах горели утренние огни, тусклые и беспокойные.
Миша вскочил с кровати:
— Мама, который час?
— Пять. Поспи еще, успеешь.
Мама двигалась по комнате, собирая завтрак.
— Нет, надо вставать. — Миша быстро одевался. — Нужно еще за ребятами зайти. Наверно, спят.
— Только поешь сначала, — сказала мама.
— Сейчас.
Миша наспех умылся и теперь собирал свой вещевой мешок.
— Мама, — отчаянно закричал он, — где же ложка?
— Там, где ты ее положил.
— Да нет ее! — Миша торопливо рылся в мешке. — Ага, вот она.
— Никто не трогал твоего мешка. — Мама зевнула и зябко передернула плечами. — И не копайся там, ты все перевернешь. Пей чай, я сама одеяло скатаю.
— Нет, нет, ты не знаешь как. — Миша скатал одеяло и привязал его к мешку, на котором болтались уже кружка и котелок. — Вот как надо!
— Хорошо… Делай сам. Только не потеряй там ничего и, пожалуйста, далеко не плавай.
— Сам знаю. — Миша, обжигаясь, прихлебывал чай на краю стола с откинутой скатертью. — Ты меня все маленьким считаешь, и напрасно… Вот вернусь из лагеря, обязательно эту штуку сломаю. — Он показал на сложенную в углу печь. — Скоро паровое отопление пустят. Знаешь, как тепло будет!
— Когда пустят, тогда и сломаем, — ответила мама.
С мешком за плечами Миша выбежал из квартиры. В дверях он столкнулся с шедшим к нему Генкой. Генка тоже был в походной форме. Миша послал его во двор собрать остальных ребят, а сам поднялся к Славе.
Как и следовало ожидать, Слава еще не проснулся.
— Так и знал! — рассердился Миша. — Сколько можно спать?
— Ведь мы договорились, что ты за мной зайдешь, — оправдывался Слава, потягиваясь и протирая глаза.
— Нужно на себя надеяться. Одевайся быстрей!
Из спальни вышел Константин Алексеевич, Славин отец. Его большой живот спускался на ремешок, поддерживавший брюки. Низкий ворот вышитой рубашки открывал мощную грудь, заросшую рыжими волосами. И без того маленькие глазки теперь, со сна, казались совсем узенькими щелочками на полном, добродушном лице.
— Ну, пионеры, — зевая, произнес Константин Алексеевич, — в поход? — Он протянул Мише руку: — Здравствуйте! С утра подчиненных пробираете! Муштруйте их, муштруйте!
— Здравствуйте, — ответил Миша. — Мы просто так разговаривали.
Он всегда почему-то смущался, встречаясь с Константином Алексеевичем. Мише казалось, что тот в душе посмеивается над ним и вообще над ребятами. К тому же технический директор фабрики — «спец», как говорила Агриппина Тихоновна.
— Ну-ну, разговаривайте.
Шлепая туфлями, Константин Алексеевич вышел в кухню. Вскоре оттуда послышалось шипенье примуса.
«Чай затевают! — тоскливо подумал Миша. — Опоздаем мы из-за этого Славки!»
— Костя! — донесся из спальни голос Аллы Сергеевны. — Костя!
— Папа в кухне, — громко ответил Слава.
— Слава! Слава!
— Что?
— Скажи папе, чтобы котлеты завернул в вощеную бумагу.
— Хорошо, — ответил Слава, продолжая зашнуровывать ботинки.
— Не «хорошо», а иди сейчас скажи ему!
Слава промолчал.
— Кто к тебе пришел? — снова раздался голос Аллы Сергеевны.
— Миша.
— Миша? Здравствуйте, Миша!
— Здравствуйте! — громко ответил Миша.
— Мишенька, голубчик, — заговорила Алла Сергеевна, не вставая с кровати, — я вас очень прошу: не позволяйте Славе купаться. Ему врачи категорически запретили.
Слава покраснел и отчаянно затеребил шнурки ботинок.
— Хорошо, — улыбнулся Миша.
— И вообще, — продолжала Алла Сергеевна, — посмотрите за ним. Без вас я бы не пустила его. Вы рассудительный мальчик, и он вас послушает.
— Хорошо, я посмотрю за ним, — ответил Миша и скорчил Славе рожу.
В комнату с чайником и проволочной подставкой в руках вошел Константин Алексеевич.
— Ну, путешественники, — сказал он, ставя чайник на стол, — пейте чай.
— Спасибо, — ответил Миша, — я уже позавтракал.
— Костя, — снова раздался из спальни голос Аллы Сергеевны, — что ты там возишься? Разбуди Дашу!
— Не нужно, — ответил Константин Алексеевич, нарезая хлеб, — уже все готово.
— Скажи Даше… — продолжала Алла Сергеевна, — скажи Даше: когда придет молочница, пусть возьмет только одну кружку.
— Хорошо, скажу. Ты спи, спи…
— Разве я могу заснуть! — капризным голосом ответила Алла Сергеевна. — Ну зачем ты разрешил ему ехать! Я теперь два дня должна беспокоиться. А у меня сегодня концерт.
— Ничего, пусть съездит. — Константин Алексеевич лукаво посмотрел на мальчиков. — Как же ему не разрешишь?
— Нет, нет… это безумие! Отпускать ребенка на двое суток, одного, неизвестно куда, неизвестно зачем… Слава! Не смей там бегать босиком!
— Хорошо, — пробурчал Слава, допивая чай.
— Ну-с, — продолжая улыбаться, спросил Мишу Константин Алексеевич, — куда вы побросали тиски, которые я вам дал?
— Мы их не побросали, — ответил Миша. — Они в Доме пионеров, в слесарной мастерской.
— На наших тисках весь дом работает?
— Что вы! — Миша рассмеялся. — Там собрано оборудование со всего района.
— Так уж со всего района?
— Да-а… Ведь там, кроме слесарной мастерской, есть еще столярная, швейная, сапожная, переплетная…
— Скажите, целый комбинат!
— Только ты пожадничал, — сказал Слава, натягивая на плечи мешок, — а вот директор «Напильника» целый токарный станок дал.
— Да ведь у меня токарных станков нет. — Константин Алексеевич с деланным огорчением развел руками. — Пожалуйста, берите ткацкий. Я вам большой дам, вот с эту комнату… Не хотите?
— Ты всегда смеешься! — сказал Слава. — Пошли, Миша.
Прощаясь, Константин Алексеевич сказал:
— Все же хотя вы люди и самостоятельные, но постарайтесь вернуться с целыми руками и ногами, а если сумеете, то и с целой головой.
Глава 48
В лагере
Мальчики Мишиного звена только что закончили сооружение большого плота, выкупались и теперь отдыхали на берегу.
Безбрежное, расстилалось перед ними озеро. Облака лежали на его невидимом краю, как лохматые снеговые горы. Острокрылые чайки разрезали выпуклую синеву воды. Тысячи мальков шмыгали по мелководью. Белые лилии дремали на убаюкивающей зыби. Их длинные зеленые стебли путались в прибрежном камыше, где квакали лягушки и раздавался иногда шумный всплеск большой рыбы.
— Главное, нужно как следует загореть, — озабоченно говорил Генка, натирая грудь и плечи какой-то мазью. — Загар — первый признак здоровья. А ну, Мишка, натри мне спину, потом я тебе.
Миша взял у Генки баночку, понюхал, брезгливо поморщился:
— Ну и дрянь! Фу!
— Много ты понимаешь! Это ореховое масло. Первый сорт. А пахнет банка. Она из-под гуталина.
Миша продолжал брезгливо рассматривать мазь:
— И крошки здесь какие-то, яичная скорлупа…
— Это ничего, — мотнул головой Генка. — У меня, понимаешь, в мешке все перемешалось. Ничего, давай мажь!
— Нет! — Миша вернул Генке банку. — Сам мажься. Я к ней притрагиваться не хочу.
— И не надо. Вот увидишь: к вечеру буду как бронза.
— Пошли, ребята, — сказал Слава. — Вон Коля идет.
Мальчики пошли к лагерю, к разбитым на опушке леса серым остроугольным палаткам.
В середине лагеря уже высилась мачта. Завтра утром будет торжественный подъем флага. Свежевскопанная и утоптанная ребячьими ногами земля вокруг мачты серым бугорком выделялась на опушке. Кругом земля была коричневая, в опавшей сосновой коре, желтых иглах и сухих, потрескивающих ветках.
Из-за крайней палатки доносились крики хлопотавших у костра девочек. Над костром, на укрепленной на двух рогатках палке, висели котелки. Запах подгоревшей каши быстро распространился по лагерю.
— Чего они орут? — сказал Генка. — Девчонки ничего не могут делать спокойно. Обязательно крик поднимут. Простое дело — кашу сварить, а они шумят, будто быка жарят.
Из лесу вышел Коля, окруженный беспризорниками — теми, что уже регулярно ходили на отрядную площадку. Все они были в своих лохмотьях, один только Коровин был обнажен до пояса.
«Интересно, куда их Коля водил? — думал Миша. — Конечно, он увел их нарочно, пока лагерь устраивали. К работе они не привыкли. Пока устраивался лагерь, они бы заскучали, а может быть, и вовсе разбежались. Но куда он их все же водил?»
— Вы куда ходили? — спросил Миша у Коровина.
— В деревню.
— Зачем?
— Хлеба смотрели, молотьбу… — Он вздохнул. — Мы раньше тоже… И корова у нас была…
Миша с восхищением посмотрел на Колю. Он стоял у костра, окруженный девочками, и пробовал кашу, смеясь и дуя на ложку.
«Какой он все-таки умный, — думал Миша. — Повел этих ребят в деревню. Ведь все они деревенские. И он повел туда, чтобы ребята вспомнили свой дом, свою семью…»
— Еще на станцию ходили, — продолжал Коровин.
— Зачем?
— Детдом там… Смотрели, как ребята живут.
— Ну, как у них, хорошо?
— Ничего живут, подходяще… Свой огород имеют…
«И в детдом их нарочно повел», — подумал Миша.
Миша подошел к костру.
— Ну как я буду все делить? — плачущим голосом говорила Зина Круглова. — Тут сто всяких продуктов! Никто не принес одинаковые. Вот, — она показала на разложенную возле костра провизию, — вот… котлет пять штук, селедок — восемь, яиц — двенадцать, мяса девять кусков, воблы — четыре, крупы все разные. — Она обиженно замолчала и вдруг расхохоталась: — А второе звено рыбы наловило — шестнадцать пескарей… — И ее красное от жары лицо с маленьким вздернутым носиком стало совсем круглым.
— Мелковата рыбешка, — согласился Коля. — Ничего, пообедаем, только пальчики оближете…
Глава 49
Генерал-квартирмейстер
И действительно, пообедали.
Каша чудесно пахла дымом, вареной воблой, в чае плавали еловые иглы, капельки жира и яичная скорлупа.
Ели сделанными из бересты ложками, рассевшись вокруг костра. Вверху шумели сосны, встревоженно каркали вороны. Коля распрямил кусок проволоки, нанизал на него кусочки мяса и тут же сделал шашлык. Всем досталось по маленькому кусочку, но зато шашлык был настоящий…
После обеда Коля сказал:
— Завтра мы с детским домом проведем большую военную игру «Взятие Перекопа». Чтобы не ударить лицом в грязь, сегодня немного потренируемся. Вон там будет штаб белых. — Он показал на рощицу на правом берегу озера. — Задача: проникнуть в штаб белых и захватить их флаг. Врангелем назначается Шура Огуреев, а Генка Петров — начальником штаба.
— Почему мы будем белыми? — запротестовал Генка.
— Действительно, — сказал Шура. — Это несправедливо. К тому же у белых не было должности начальника штаба. Он назывался генерал-квартирмейстером.
— Хорошо, — улыбнулся Коля, — значит, Генка будет генерал-квартирмейстером. А приказ выполняйте! Как только услышите сигнал трубы — игру кончить и всем собраться в лагере.
Шура и Гена страшно обиделись этим назначением, и когда Перекоп был взят и штаб белых разгромлен, Врангель и его генерал-квартирмейстер исчезли.
Их долго искали, несколько раз трубили в горн, но они явились только к вечеру.
Впереди шел Шура, а за ним с поникшей головой, охая и вздыхая, как будто его только что поколотили, плелся Генка.
Они подошли и молча остановились в нескольких шагах от Коли.
— Зачем пришли? — сухо спросил Коля.
— Мы сдаемся, — с важным видом объявил Шура.
— Почему вы не явились по сигналу?
Шура начал приготовленную заранее речь.
— Мы решили, — сказал он, — соблюдать историческую правду. Нужно следовать действительности исторических событий. Ведь Врангель удрал из Крыма. Вот и мы скрылись. — Он помолчал, потом добавил: — А если, по-вашему, это неправильное толкование роли, то прошу впредь меня Врангелем не назначать.
— Почему же вы все-таки пришли?
Шура показал на Генку:
— Мой генерал-квартирмейстер опасно заболел.
«Генерал-квартирмейстер» действительно имел жалкий вид. Лицо его горело, как в лихорадке, глаза были красные. Он болезненно передергивался всем телом, как будто его кололи иглами.
— Что с тобой, Генка? — спросил Коля.
Генка молчал.
— Тяжелое повреждение кожных покровов, — ответил за него Шура.
Коля поднял Генкину рубашку, и все увидели, что спина у Генки покрыта большими волдырями.
— Мазался чем-нибудь? — спросил Коля.
— Ма… мазался, — пролепетал Генка.
— Чем?
— Оре… ореховым маслом.
— Покажи.
Болезненно морщась, Генка вытащил из кармана баночку и протянул ее Коле.
Коля понюхал, потом спросил:
— Где ты ее взял?
— Сам… сам сделал… по рецепту.
— По какому рецепту?
— Борька-Жила дал.
— Это смесь цинковой мази с сапожным кремом, — сказал Коля. — Эх ты, провизор…
Несчастного Генку смазали вазелином и уложили в палатку.
Глава 50
Костер
Вечером отряд расположился вокруг зажженного на берегу костра.
Луна проложила по озеру сверкающую серебряную дорожку. Под черной громадой спящего леса белели маленькие палатки. И только звезды, сторожа уснувший мир, перемигивались, посылая друг другу короткие сигналы.
Коля рассказывал о далеких, чужих странах: о маленьких детях, работающих на чайных плантациях Цейлона; о нищих, умирающих на улицах Бомбея; об измученных горняках Силезии и бесправных неграх Соединенных Штатов Америки.
Вспыхивающее пламя вырывало из темноты лица ребят, галстуки, худощавое Колино лицо с косой прядью мягких волос, падающих на бледный лоб. Хворост трещал под огнем и распадался на маленькие красные угольки, горевшие коротким фиолетовым пламенем. Иногда уголек выскакивал из костра, и тогда кто-нибудь из ребят осторожно подталкивал его обратно в огонь к жарким, пылающим поленьям.
И еще Коля рассказывал о коммунистах и комсомольцах капиталистических стран, отважных солдатах мировой революции.
Миша лежал на животе, подперев кулаками подбородок. Лицу его было жарко от близости огня, по ногам и спине пробегал тянущий с озера холодок. Он слушал Колю, и перед его мысленным взором вставали суровые образы бесстрашных людей, сокрушающих старый мир. Он представлял их себе идущими на казнь, мужественно переносящими пытки в тюрьмах и застенках, поднимающими народ на восстание. Его охватывала жажда подвига, и он мечтал о жизни, подобной этой, до последнего вздоха отданной революции…
Коля кончил беседу и приказал дать отбой. Протяжные звуки горна всколыхнули воздух и дальним эхом отозвались за верхушками деревьев. Все разошлись по палаткам. Лагерь уснул.
Миша не спал. Он лежал в палатке и через открытую полость смотрел на звезды.
Рядом с Мишей, вытянувшись во весь свой длинный рост и с головой покрывшись одеялом, спал Шурка Большой. За ним, съежившись и чуть посапывая, — Слава. А вон ворочается и стонет Генка… Ребята спали на мягких еловых ветках, уткнув головы в самодельные, набитые травой подушки.
Хрустнула ветка. Миша прислушался. Это часовые. Из палатки девочек послышался тихий, приглушенный смех. Наверно, Зина Круглова. Все ей смешно…
Он почему-то вспомнил Лену и Игоря Буш. Где они теперь, эти бродячие акробаты? Давно ребята их не видели, почти все лето. Где их ослик, тележка? Генка все мечтал об этой тележке, хотел рекламу на ней по городу возить, чтобы в кино бесплатно пускали… Чудак Генка!
Миша представил себе Генку возящим тележку по московским улицам, и вдруг неожиданная мысль пришла ему в голову.
Тележка… тележка… Как это он раньше не сообразил! Миша даже привстал от волнения. Вот это идея! Это будет здорово! Он ясно представил себе всю картину. Черт возьми, вот это да!
Ему захотелось сейчас же разбудить Генку и Славу и поделиться с ними своим планом… но ничего, он завтра им расскажет. Теперь самое главное — найти Бушей, а там… Миша еще долго не мог заснуть, обдумывая возникший у него такой верный, чудесный план…
Потом он заснул. Шаги часовых удалились, смех в палатке девочек прекратился, и все стихло.
Потухший костер круглым пятном чернел на высоком, залитом лунным светом берегу. В его пепле еще долго попыхивали и гасли маленькие огоньки. Вспыхивали и гасли, точно играя в прятки меж обгоревших и обуглившихся поленьев.
Глава 51
Таинственные приготовления
Кончился август. Зябнувшие бульвары плотнее закутывались в яркие ковры опавших листьев. Невидимые нити плыли в воздухе, пропитанном мягким ароматом уходящего лета.
После одного сбора отряда Миша, Генка и Слава вышли из клуба и направились к Новодевичьему монастырю.
В расщелинах высокой монастырской стены гнездились галки. Их громкий крик оглашал пустынное кладбище. Унылая травка на могильных холмиках высохла и пожелтела. Металлические решетки вздрагивали, колеблемые резкими порывами ветра.
— Придется подождать, — сказал Миша.
Друзья уселись на низкой скамейке, опиравшейся на два шатких столбика и совсем припавшей к земле.
— Половину покойников хоронят живыми, — объявил Генка, поглядывая на могилы.
— Почему? — спросил Слава.
— Кажется, что человек умер, а на самом деле он заснул летаргическим сном. В могиле он просыпается. Пойди тогда доказывай, что ты живой.
— Это бывает, но редко, — сказал Миша.
— Наоборот, очень часто, — возразил Генка. — Нужно в покойника пропустить электрический ток, тогда не ошибешься.
— Новая теория доктора медицины Геннадия Петрова! — объявил Миша.
— Прием от двух до четырех, — добавил Слава.
— Смейтесь, смейтесь, — сказал Генка. — Похоронят вас живыми, тогда узнаете. Смейтесь! — Он обиженно умолк, потом нетерпеливо спросил: — Когда они придут?
— Придут, — ответил Миша. — Раз обещали — значит, придут.
— Может быть, все же лучше не затевать этого дела? — сказал Слава, взглянув на ребят.
— А что же? — спросил Миша.
— Можно пойти в милицию и все рассказать.
— С ума сошел! — рассердился Генка. — Чтобы милиции весь клад достался, а мы с носом?
— В милицию мы успеем, — сказал Миша. — Прежде надо все как следует выяснить, а то засмеют нас, и больше ничего… В общем, как решили, так и сделаем.
Из-за монастырской стены показались Лена и Игорь Буш. Они поздоровались с мальчиками и сели рядом на скамейку.
Лена была в демисезонном пальто и яркой косынке. Игорь, в костюме, с галстуком и в модном кепи, имел, как всегда, серьезный вид. Усевшись на скамейке, он посмотрел на часы и пробасил:
— Кажется, не опоздали.
Лена, улыбаясь, оглядела мальчиков:
— Как поживаете?
— Ничего, — ответил за всех Миша. — А вы как?
— Мы тоже ничего. Только недавно вернулись из поездки.
— Где были?
— В разных местах. В Курске были, в Орле, на Кавказе…
— Хорошо на Кавказе! — сказал Генка. — Там урюк растет.
— Положим, урюк там не растет, — заметил Слава.
— Как с нашей просьбой? — спросил Миша.
— Мы всё устроили, — пробасил Игорь.
— Да, — подтвердила Лена, — мы договорились. Можете ее взять. Но зачем она вам нужна? Она вся сломана.
— Резина совершенно негодная, — сказал Игорь.
— Это неважно, — сказал Миша, — мы ее починим.
— Но зачем вам нужна эта тележка? — допытывалась Лена.
— Для одного дела, — уклончиво ответил Миша.
— Знаете, ребята, — сказала вдруг Лена, — я уверена, что вы ищете клад.
Мальчики растерянно вытаращили глаза.
— Почему ты так думаешь? — Миша покраснел.
Она рассмеялась:
— Глядя на вас, это очень легко отгадать.
— Почему?
— Вы хотите знать почему?
— Да, хотим знать почему.
— Потому что у людей, которые ищут клад, бывает ужасно глупый вид.
— Вот и не угадала, — сказал Генка, — никакого клада мы не ищем. Сама понимаешь: уж кто-кто, а я такими пустяками ведь не стану заниматься.
— Ладно, — сказал Миша, — шутки в сторону. Когда мы можем взять тележку и сколько мы должны за нее заплатить?
— Можете взять ее в любое время, — сказала Лена, — а платить ничего не надо. Она цирку больше не нужна.
— Списана по бухгалтерии, — солидно добавил Игорь. Он встал, посмотрел на часы: — Лена, нам пора.
Мальчики проводили Бушей к трамваю. Возле остановки притопывал ногами, потирая зябнущие руки, лоточник. Его фуражка с золотой надписью «Моссельпром» была надвинута на самые уши, и завитушка, идущая от последней буквы, согнулась пополам. Мальчики купили «Прозрачных», угостили ими Бушей. Потом Лена и Игорь уехали. Друзья по Большой Царицынской, через Девичье поле, отправились домой.
Глава 52
Рекламная тележка
На пустынном сквере осенний ветер играл опавшими листьями. Он собирал их в кучи, кружил вокруг голых деревьев, метал на серый гранит церковных ступеней, шуршал ими по одиноким скамейкам, бросал под ноги прохожим и грязными, растоптанными клочьями волочил вверх по Остоженке, где забивал под колеса яркой рекламной тележки, стоявшей на углу Всеволожского переулка.
На тележке были укреплены под углом два фанерных щита с развешанными на них афишами новой кинокартины — «Комбриг Иванов». Вверху, там, где щиты сходились, качались вырезанные из фанеры буквы: «Кино арбатский Арс».
Постоянные прохожие Остоженки привыкли к тележке, уже несколько дней неизменно торчавшей на углу. Вечером за ней являлся мальчик и увозил ее. Лысый старик, хозяин филателистического магазина, всегда ругал мальчика за то, что он ставит тележку против магазина. Мальчик ничего ему не отвечал, подкладывал камни под колеса и спокойно удалялся.
Однажды вечером мальчик явился, вынул камни из-под колес тележки, вкатил ее во двор и пошел в дворницкую.
Дворник, худой рыжий татарин, сидел на широкой кровати, свесив на пол босые ноги.
— Дяденька, — сказал мальчик, — моя тележка сломалась. Можно ей постоять во дворе?
— Опять сломалси, — дворник лениво посмотрел в окно, — опять сломалси. — Он зевнул, похлопал ладонью по губам. — Пущай стоит, нам разви жалка…
Мальчик вышел, внимательно осмотрел тележку, тронул верхнюю планку, тихонько стукнул по щиту и ушел.
Двор пустел. В окнах гасли огни. Когда совсем стемнело, из подъезда черного хода вышли старик филателист и Филин. Они остановились у самой тележки. Старик вполголоса спросил:
— Значит, решено?
— Да, — раздраженным шепотом ответил Филин, — чего ему ждать? Год, как вы его за нос водите.
— Сложный шифр, — пробормотал старик, — по всем данным — литорея, а вот, поди ты, без ключа не могу прочесть.
— Если б вы знали, что там есть, — зашептал Филин, наклоняясь к старику, — то прочли бы.
— Понимаю, понимаю, да что делать! — Старик развел руками. — Выше головы не прыгнешь. Может, подождет еще Валерий Сигизмундович. Право, лучше подождать.
— Не хочет он больше ждать. Понятно? Не хочет. Так что к воскресенью всё приготовьте. И остальное все. Я сам не приду: мальчонку пришлю.
Филин ушел. Шамкая беззубым ртом, старик побрел в подъезд. В освещенном окне появилась его сгорбленная фигура. Старик медленно передвигался по кухне. Наклонившись, он подкачал примус. Длинные красные языки высовывались из-под чайника, облизывая его крутые бока.
Потом старик начал чистить картошку. Чистил он ее медленно, аккуратно. Кожура длинной, изломанной лентой свисала все ниже и ниже, пока не падала в ведро.
Из кухни старик перешел в комнату и склонился над столом. Некоторое время он стоял неподвижно, потом поднял голову, посмотрел в окно, перед которым стояла тележка, и начал задергивать занавеску. Задергивал он ее одной рукой. В другой он держал ножны. Они были теперь отчетливо видны. Черные, кожаные, с металлическим ободком наверху и шариком на конце…
Вышел дворник, почесался, глядя на луну, зевнул и пошел к воротам. Только он хотел их закрыть, как появились Генка и Слава.
— Бери свой тележка, — сказал дворник, — в порядке тележка. Бери.
Мальчики вынули камни из-под колес тележки и выкатили ее на улицу. Дворник запер ворота…
Мальчики вкатили тележку в безлюдный переулок, отодвинули верхнюю планку и раздвинули щиты. Из тележки выскочил Миша…
Поздно ночью вернулся Миша домой. Мамы не было дома: она работала в ночной смене.
Миша разделся и лег в постель. Он лежал с открытыми глазами и думал.
Здорово они придумали с тележкой! Целую неделю изо дня в день следили они из нее за магазином старика. Провожая посетителей, старик разговаривал с ними возле тележки и не догадывался, что там кто-то сидит. Ночью они ставили тележку во дворе и таким образом узнали весь распорядок жизни старика. И ножны несколько раз видели. Если снять ободок и вывернуть шарик, они разворачиваются веером. На веере что-то написано. Непонятно только одно: старик сказал Филину, что без ключа он не может расшифровать, но ведь ключ-то у него в ножнах. Что же он расшифровывает?
Ладно. Нужно добыть ножны, тогда видно будет. Того высокого зовут Валерий Сигизмундович. Ясно, что это Никитский.
Они его, правда, больше не видели, но важно завладеть ножнами, а Никитский потом никуда не денется. Теперь дело будет проще. Борьку-то они сумеют надуть. Борька давно на тележку зарится.
С тележкой, конечно, придется расстаться. Правда, за то, что они ее возят, их бесплатно пускают в кино, но все равно — с понедельника в школу, некогда будет. И не к лицу пионерам заниматься такой коммерцией.
Мысли Миши перенеслись на дела отряда. Предстоит детская коммунистическая неделя. Нужно написать письмо пионерам города Хемница, в Германии. Социал-предатели, всякие там Шейдеманы и Носке, совсем обнаглели. И чего это иностранные рабочие терпят до сих пор капиталистов? Рабочих много, а капиталистов мало. Неужели они не могут справиться?
Потом нужно серьезно поговорить с Зиной Кругловой. Девочки задерживают пошивку белья для детдомов. Правда, на сборе постановили, что шить будут и мальчики и девочки. Между мужским и женским трудом не должно быть разницы — это, конечно, буржуазный предрассудок, но… все же пусть шьют лучше девочки…
Глава 53
Ножны
Посвистывая, Борька-Жила шел по Никольскому переулку. В руках он держал пакет, аккуратно обернутый газетой и обвязанный шпагатом. Борька шел не останавливаясь. Отец приказал ему по дороге от филателиста домой нигде не задерживаться и принести пакет в целости и сохранности.
Это приказание было бы выполнено в точности, если бы внимание Борьки не привлекла рекламная тележка кино «Арс». Она стояла на церковном дворе. Вокруг нее собрались Миша, Генка, Слава и беспризорник Коровин. Они рассматривали тележку и о чем-то горячо спорили.
Борька подошел к ним, с любопытством оглядел всю компанию.
— Ты на резинку посмотри, на резинку, — говорил Миша, тыкая ногой в колеса, — одни покрышки чего стоят.
Коровин засопел:
— Цена окончательная.
— Уж это ты брось! — сказал Генка. — Пять рублей за такую тележку!
— Вы что, тележку продаете? — Борька придвинулся ближе к ребятам.
Миша обернулся к нему:
— Продаем. А тебе что?
— Спросить нельзя?
— Нечего зря спрашивать.
— А я, может, куплю!
— Покупай.
— Сколько просите?
— Десять рублей.
Борька присел на корточки и начал осматривать тележку. Ощупывая колеса, он положил пакет рядом с собой на землю.
— Чего ты щупаешь? — сказал Миша и взялся за ручки. — Колеса-то на подшипниках. Смотри, ход какой. — Он толкнул тележку вперед. — Слышишь ход?
Борька подвигался вместе с тележкой, прислушиваясь к шуму колес с видом большого знатока.
Миша остановился:
— Сама идет. Попробуй.
Борька взялся за ручки и толкнул тележку. Она действительно катилась очень легко.
Генка и Слава тоже подвигались вслед за тележкой, загораживая собой сидевшего возле пакета Коровина.
— А самое главное, смотри. — Миша отъединил планку, раздвинул щиты. — Видал? Можешь хоть спать. Поставил тележку и ложись.
— Ты уж нахвалишь, — сказал Борька, — а резинка-то вся истрепалась.
— Резинка истрепалась? Смотри, что написано: «Треугольник», первый сорт».
— Мало ли чего написано. И краска вся облезла. Нет, вы уж давайте подешевле…
— Ладно, Мишка, — раздался вдруг голос Коровина, сидевшего на прежнем месте, рядом с Борькиным пакетом, — я забираю тележку.
Мишкин азарт вдруг пропал:
— Вот и хорошо. Бери… Прозевал ты тележку, Жила!
— А я, может, дороже дам.
— Нет, теперь уж не дашь.
— Почему? — Борька подошел к своему пакету, поднял его.
— Потому! — Мишка усмехнулся.
Борька недоуменно оглядел ребят. Они насмешливо улыбались, только Коровин, как всегда, смотрел мрачно.
— Не хочешь — как хочешь! — сказал Борька. — Потом сам будешь набиваться, но уж больше двугривенного не получишь.
Когда Борька скрылся за поворотом, мальчики забежали за церковный придел, и Коровин вытащил из кармана ножны.
Миша нетерпеливо выхватил их у него, повертел в руках, затем осторожно снял сверху ободок и вывернул шарик.
Ножны развернулись веером. Мальчики уставились на них, потом удивленно переглянулись…
На внутренней стороне ножен столбиками были нанесены знаки: точки, черточки, кружки. Точно так же, как и на пластинке кортика.
Больше ничего в ножнах не было.
Часть V Седьмая группа «Б»
Глава 54
Тетя Броша
На уроке математики не оказалось мела.
Преподавательница Александра Сергеевна строго посмотрела на Мишу:
— Староста, почему нет мела?
— Разве нет? — Миша вскочил со своего места и с деланным изумлением округлил глаза. — Перед самым уроком был.
— Вот как! — насмешливо сказала Александра Сергеевна. — Значит, он убежал? Верните его обратно.
Миша выскочил из класса и побежал в раздевалку за мелом. Он прибежал туда и увидел, что тетя Броша, гардеробщица, плачет.
— Ты что, тетя Броша? — спросил Миша, заглядывая ей в глаза. — Ты почему плачешь? Кто тебя обидел?
Никто точно не знал, почему гардеробщицу называли тетей Брошей. Может быть, это было ее имя, может быть, из-за большой желтой броши, приколотой к полосатой кофте у самого подбородка, а возможно, и потому, что она сама походила на брошку — маленькая такая, толстенькая старушка. Она всегда сидела у раздевалки, вязала чулок и казалась маленьким комочком, приютившимся на дне глубокого колодца из металлической сетки, которой был обит лестничный проем. Она будто бы умела заговаривать ячмени. И действительно: посмотрит на глаз, пошепчет что-то — ячмень через два дня и проходит.
И вот теперь тетя Броша сидела у раздевалки и плакала.
— Скажи, кто тебя обидел? — допытывался Миша.
Тетя Броша вытерла платком глаза и, вздохнув, сказала:
— Тридцать лет прослужила, слова худого не слышала, а теперь дурой старой прозвали. И на том спасибо.
— Кто? Кто назвал?
— Бог с ним, — тетя Броша махнула рукой, — бог с ним!
— При чем тут бог! — рассердился Миша. — Никто не имеет права оскорблять. Кто тебя обругал?
— Стоцкий обругал, Юра. Опоздал он, а мне не велено пускать. Иди, говорю, к директору… А он мне — «старая дура!» А ведь хороших родителей… И маменька его здесь училась, когда гимназия была. Только, Мишенька, — испуганно забормотала она, — никому, деточка, не рассказывай!
Но Миша ее уже не слушал. Он схватил мел и, прыгая через три ступеньки, помчался в класс.
У доски стоял и маялся Филя Китов, по прозвищу «Кит». Александра Сергеевна зловеще молчала. Кит при доказательстве равенства углов в равнобедренном треугольнике помножил квадрат гипотенузы на сумму квадратов катетов и уставился на доску, озадаченный результатом. Кит остался в седьмой группе на второй год и, наверно, останется на третий. На уроках он всегда дремал или вырезал ножиком на парте, а на переменках клянчил у ребят завтраки. Клянчил не потому, что был голоден, а потому, что был великим обжорой.
— Дальше! — Александра Сергеевна произнесла это тоном, говорящим, что дальше ничего хорошего не будет.
Кит умоляюще посмотрел на класс.
— На доску смотри, — сказала Александра Сергеевна.
Кит снова повернулся к классу своей толстой, беспомощной спиной и недоуменным хохолком на белобрысой макушке.
Александра Сергеевна прохаживалась между партами, зорко поглядывая на класс. Маленькая, худенькая, с высокой прической и длинным напудренным носом, она все замечала и не прощала никакой мелочи. Когда она отворачивалась, Зина Круглова быстро поднимала руку с растопыренными пальцами, показывая всему классу, сколько минут осталось до звонка. Зина была единственной в классе обладательницей часов и к тому же сидела на первой парте.
Миша с возмущением посмотрел на Юру Стоцкого: «Задавала несчастный! Все ходит с открытыми коленками, хочет показать, какой он закаленный. Воображает себя Печориным. Так и написал в анкете: «Хочу быть похожим на Печорина». Сейчас, после урока, я тебе покажу Печорина!»
Миша вырвал из блокнота листочек бумаги и, прикрывая его ладонью, написал: «Стоцкий обругал Брошу дурой. Броша плачет, нужно обсудить на собрании». В это время он смотрел на доску, и буквы разъехались вкривь и вкось.
Он придвинул записку Славе. Слава прочел ее и в знак согласия кивнул головой. Миша сложил листок, надписал: «Шуре Огурееву и Генке Петрову» — и перебросил на соседнюю парту.
Шурка Большой прочел записку, подумал и написал на ней: «Лучше устроить показательный суд. Согласен быть прокурором». Потом свернул и перекинул записку к сестрам Некрасовым, но Александра Сергеевна, почувствовав сзади себя какое-то движение, быстро обернулась. Все сидели тихо, только Зина Круглова едва успела опустить руку с растопыренными пальцами.
— Круглова, к доске, — сказала Александра Сергеевна.
Кит побрел на свое место.
От сестер Некрасовых записка через Лелю Подволоцкую добралась до Генки. Он прочитал ее и написал внизу: «Нужно его отлупить как следует, чтобы помнил».
Тем же путем записка вернулась к Мише. Он прочитал Шурин и Генкин ответы и показал Славе. Слава отрицательно мотнул головой. Миша придвинул записку к себе и начал на ней что-то писать, как вдруг Слава толкнул его под партой ногой. Миша не обратил внимания. Слава толкнул его вторично, но было уже поздно. Рядом стояла Александра Сергеевна и протягивала руку к записке:
— Что ты пишешь?
Миша смял записку в кулаке и молча встал.
— Покажи, что у тебя в руке!
Миша молчал и не отрываясь смотрел на прибитые к стенам планки для диаграмм.
— Я тебя спрашиваю, — совсем тихо сказала Александра Сергеевна, — что ты писал на уроке? — Она заметила лежавшую под тетрадями книгу и взяла ее. — Это что еще такое? — Она громко, на весь класс, прочла: — «Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала девятнадцатого века». Почему у тебя посторонние книги на парте во время урока?
— Она просто так лежала, я не читал ее, — попробовал оправдаться Миша.
— Записку ты тоже не читал?.. Постыдись! Староста группы, пионер, член учкома… Эту книгу ты получишь у директора, а пока оставь класс.
Ни на кого не глядя, Миша вышел из класса.
Глава 55
Классное собрание
Он вышел из класса и сел на подоконник. В окне виднелись противоположная сторона Кривоарбатского переулка, два фонаря, уже зажженных, несмотря на ранний час, школьная площадка, занесенная снегом.
В коридоре тихо. Только слышно, как падают в ведро капли из бачка с кипяченой водой да сверху, из гимнастического зала, доносятся звуки рояля: трам-там, тара-тара, трам-та-та, трам-та-та, трам-та-та, и на потолке глухо отдается равномерный топот маршировки: трам-та-та, трам-та-та…
Нехорошо получилось! Являйся теперь к директору. Алексей Иваныч, конечно, спросит о книге… Зачем да почему…
И все из-за этого задавалы Юрки-скаута! Он все фасонит. Определенно буржуазный тип.
Раздался звонок. Тишина разорвалась хлопаньем многочисленных дверей, топотом, криком и визгом.
Из класса вышел Юра Стоцкий.
— Ты зачем тетю Брошу обругал? — остановил его Миша.
— Тебе какое дело? — Юра презрительно посмотрел на него.
— Ты на меня так не смотри, — сказал Миша, — а то быстро заработаешь!
Их окружили ребята.
— Какую привычку взял, — продолжал Миша, — оскорблять технический персонал! Это тебе не дома — на прислугу орать.
— Чего ты с ним, Мишка, разговариваешь! — Генка протолкался сквозь толпу ребят и стал против Юры. — С ним вот как надо!
Он полез драться, но Миша удержал его:
— Постой… Вот что, Стоцкий, — обратился он к Юре, — ты должен извиниться перед Брошей.
— Что? — Юра удивленно вскинул тонкие брови. — Я буду извиняться перед уборщицей?
— Обязательно.
— Сомневаюсь! — усмехнулся Юра.
— Заставим, — твердо сказал Миша. — А если не извинишься, поставлю вопрос на классном собрании.
— Мне плевать на ваше собрание!
— Не доплюнешь!
— Посмотрим.
— Посмотрим.
Перед последним уроком немецкого языка Генка вбежал в класс и закричал:
— Ура! Альма не пришла, собирай книжечки!
— Подожди, — остановил его Миша и крикнул: — Тише, ребята! Сейчас будет классное собрание.
— Ну вот еще!.. — недовольно протянул Генка. — Ушли бы домой на два часа раньше!
— Как будто нельзя в другой раз собрание устроить, обязательно сегодня! — сказала Леля Подволоцкая, высокая красивая девочка с белокурыми волосами.
— Не останусь я на собрание, — объявил Кит, — я есть хочу.
— Останешься. Ты всегда есть хочешь. Будет собрание, и всё. — Миша закрыл дверь.
Когда все сели по местам, он сказал:
— Обсуждается вопрос о Юре Стоцком. Слово для информации имеет Генка Петров.
Генка встал и, размахивая руками, начал говорить:
— Юра Стоцкий опозорил наш класс. Он назвал тетю Брошу старой дурой. Это безобразие! Теперь не царский режим. Небось Алексея Иваныча он так не назовет, побоится, а тетя Броша — простая уборщица, так ее можно оскорблять? Пора прекратить эти барские замашки. Вообще скауты за буржуев. Предлагаю исключить Стоцкого из школы.
Потом поднялся Слава. После некоторого размышления он сказал:
— Стоцкому пора подумать о своем мировоззрении. Он индивидуалист и отделяется от коллектива. Подражать Печорину нечего. Печорин — продукт разложения дворянского общества. Это все знают. Юра должен извиниться перед тетей Брошей, а исключить из школы — это слишком суровое наказание.
Слово попросила Леля Подволоцкая.
— Я не понимаю, за что пионеры нападают на Юру, — сказала она. — Генка в тысячу раз больше хулиганит, а еще пионер. Это несправедливо. Нужно прежде всего выслушать Юру. Может быть, ничего и не было.
Стоцкий, не поднимаясь с места, глядя в окно, сказал:
— Во-первых, я в скаутах больше не состою. Если Генка не знает, пусть не говорит. Кроме того, он еще не директор, чтобы исключать из школы. Нечего так много брать на себя. Во-вторых, я принципиально не согласен с тем, что закрывают вешалку, — это ограничивает нашу свободу. В-третьих, я вообще ни перед кем отчитываться не желаю. Извиняться я не буду, так как не намерен унижаться перед каждой уборщицей. Вы можете постановлять что вам угодно, мне это глубоко безразлично.
Потом выступил Шура Огуреев. Он вышел к учительскому столику, обернулся к классу и произнес такую речь:
— Товарищи! Инцидент с тетей Брошей нужно рассматривать гораздо глубже. Что мы имеем, товарищи? Мы имеем два факта. Первый — оскорбление женщины, что недопустимо. Второй — употребление слова «дура». Такие слова засоряют наш язык, наш великий, могучий, прекрасный язык, как сказал Некрасов…
— Не Некрасов, а Тургенев, — поправил его Миша.
— Нет, — авторитетно произнес Шура, — сначала сказал Некрасов, а потом уже повторил Тургенев. Нужно читать первоисточники, тогда будешь знать… Я предлагаю запретить употребление таких и подобных слов.
Весьма довольный своей речью, Шура направился к парте и с важным видом уселся на свое место.
— Кто еще хочет высказаться? — спросил Миша и, увидев, что Зина Круглова хочет, но не решается выступить, сказал ей: — Говори, Зина, чего боишься?
Зина поднялась и быстро затараторила:
— Девочки, это ужасно! Я сама видела, как тетя Броша плачет. И нечего Юру защищать. А если он нравится Леле, пусть она так и скажет. Потом Шура. Он очень красиво говорил о женщинах, а сам на уроках пишет письма девочкам. Это тоже неправильно… Потом, — продолжала Зина, — я хотела сказать о Генке Петрове. Он на уроках всегда меня расхохатывает. — Тут Зина рассмеялась и села на свое место.
После всех выступил Миша:
— Стоцкий обругал тетю Брошу потому, что считает себя выше ее. А чем он выше тети Броши? Я думаю, ничем. Она тридцать лет работает в школе, приносит пользу обществу, а Юра сидит на шее своего папеньки, в жизни еще пальцем о палец не ударил, а уже оскорбляет рабочего человека. Я предлагаю: Юра Стоцкий должен извиниться перед Брошей, а если он не захочет, передать вопрос в учком. Пусть вся школа обсуждает его поступок.
Классное собрание постановило: обязать Стоцкого извиниться перед тетей Брошей.
Глава 56
Литорея
После собрания Миша явился к директору школы.
Алексей Иваныч сидел в своем кабинете за столом и перелистывал книгу, ту самую, что отобрала у Миши Александра Сергеевна. Он глазами указал Мише на диван и сказал:
— Садись.
Миша сел.
— Что вы обсуждали на собрании? — спросил Алексей Иваныч.
Миша рассказал.
— Постановить — это полдела, — сказал Алексей Иваныч. — Нужно, чтобы Стоцкий осознал низость своего поступка.
Он помолчал, потом спросил:
— А твое поведение обсуждали?
— Какое поведение? — Миша покраснел.
— Посторонние книги читаешь на уроке, записки пишешь.
— Книгу я не читал, — сказал Миша, — она просто так лежала. Записку действительно писал…
— Скажи, Поляков, — Алексей Иваныч внимательно посмотрел на Мишу, — почему тебя интересует холодное оружие?
— Просто так, — ответил Миша, глядя на пол.
— Кроме того, — продолжал Алексей Иваныч, как бы не слыша Мишиного ответа, — ты и твои приятели интересуетесь шифрами. Хотелось бы узнать: зачем?
Миша молчал, и опять, как бы не замечая его молчания, Алексей Иваныч продолжал:
— Возможно, ваши занятия очень интересны, но дают ли они желаемый результат? Если все идет успешно, то продолжайте, а если нет, скажи: может быть, я помогу.
Миша напряженно думал. Может быть, показать пластинку? Вот уж два месяца, как они бьются и не могут прочесть надпись. На обеих пластинках совершенно одинаковые значки, а ключа к ним нет. Значит, Полевой думал, что ключ к шифру в ножнах, а Никитский предполагал, что он в кортике. На самом же деле ни там, ни здесь ключа нет… А пожалуй, надо показать… Уж если Алексей Иваныч не прочтет — значит, никто не разберет.
Миша вздохнул, вынул из кармана пластинку от рукоятки кортика и протянул ее Алексею Иванычу:
— Вот, Алексей Иваныч, мы никак не можем расшифровать эту надпись. Я слыхал, что это литорея, но мы не знаем, что такое литорея.
— Да, — сказал Алексей Иваныч, рассматривая пластинку, — похоже. Литорея — это тайнопись, употреблявшаяся в древнерусской литературе. Литорея была двух родов: простая и мудрая. Простая называлась также тарабарской грамотой, отсюда и «тарабарщина». Это простой шифр. Буквы алфавита пишут в два ряда: верхние буквы употребляют вместо нижних, нижние — вместо верхних. Мудрая литорея — более сложный шифр. Весь алфавит разбивался на три группы, по десяти букв в каждой. Первый десяток букв обозначался точками. Например, «а» — одна точка, «б» — две точки и так далее. Второй десяток обозначался черточками. Например: «л» — одна черточка, «м» — две черточки и так далее. И, наконец, третий десяток обозначался кружками. Например, «х» — один кружок, «ц» — два кружка… Значки эти писались столбиками. Понял теперь?
— Это же очень просто! — удивился Миша. — Теперь я понимаю, как прочесть пластинку!
— Это было бы просто в том случае, — возразил Алексей Иваныч, — если бы на этой пластинке в каждом столбике было от одного до десяти знаков, а здесь самое большее пять…
Алексей Иваныч сидел задумавшись, потом медленно проговорил:
— Если это литорея, то здесь только половина текста. Где-то должна быть и другая.
Глава 57
Странная надпись
Вот оно в чем дело! Миша пощупал в кармане ножны. Теперь понятно, почему старик не мог расшифровать текст.
— Где-то должна быть вторая половина текста, — повторил Алексей Иваныч и вопросительно посмотрел на Мишу.
Эх, была не была! Миша вынул ножны, снял ободок, развернул их веером и молча положил на стол.
Алексей Иваныч соединил обе пластинки. Миша только сейчас увидел, что на одной из них есть выпуклость, а на другой углубление, показывающее, где их нужно соединять. Как это он раньше не заметил?
Соединив обе пластинки, Алексей Иваныч положил их плашмя и придавил пресс-папье.
— Видишь, — сказал он Мише, — получилась десятизначная литорея. Теперь попробуем читать.
Он встал, подошел к шкафу, снял с полки какую-то книгу, положил ее перед собой и внимательно перелистал.
— Так, — сказал Алексей Иваныч, заложив страницы двумя пальцами. — Бери карандаш, бумагу и пиши… «с». Написал? «И», «м». Что получилось?
— «Сим», — прочел Миша.
— Хорошо. «Г», «а», «д», «о», «м». Что написал?
— «Гадом», — сказал Миша.
И так, слово за словом, Миша написал следующее:
«Сим гадом завести часы понеже проследует стрелка полудень башне самой повернутой быть».
— Странная надпись, — задумался Алексей Иваныч, — странная. — Он молча разглядывал ножны, потом посмотрел на Мишу и спросил: — Что ты скажешь по этому поводу?
Миша молча пожал плечами.
— Во всяком случае, ты больше меня знаешь, — сказал Алексей Иваныч. — Например: где кинжал?
Миша молча смотрел на пол.
— Раз есть ножны, то должен быть и кинжал, — сказал Алексей Иваныч.
Миша вынул кортик и показал, как закладывается туда стержень.
— Остроумно, — заметил Алексей Иваныч, — это подобие кортика.
— Это кортик и есть, — сказал Миша.
Алексей Иваныч поднял брови:
— Ты уверен в этом?
— Конечно.
— Хорошо, если ты уверен, — говорил Алексей Иваныч, рассматривая кортик. — Рукоятка с секретом — вещь распространенная в средние века. В рукоятки мечей вкладывались мощи святых, и рыцари перед боем «прикладывались к мощам». Отсюда и пошел обычай целовать оружие. Так… — Алексей Иваныч продолжал рассматривать кортик. — Так… Бронзовая змейка, по-видимому, и есть искомый гад. Следовательно, недостает только часов, которые надо завести. Ну, Поляков, теперь рассказывай все, что ты знаешь об этом кортике…
Выслушав Мишин рассказ, Алексей Иваныч некоторое время задумчиво барабанил пальцами по столу, потом сказал:
— Я отлично помню историю гибели линкора «Императрица Мария». Было много шуму в газетах, но этим и кончилось: виновников взрыва не нашли. Но то, что ты рассказал, проливает на все это новый свет. Никитский не мог безнаказанно убить офицера. Он рассчитывал, что все покроет взрыв. Значит, он знал о том, что готовится взрыв корабля…
Миша удивленно посмотрел на Алексея Иваныча. Действительно! Как это он раньше не сообразил? Значит, Никитский участвовал во взрыве корабля.
— Что ты теперь намерен делать? — спросил Алексей Иваныч.
— Право, не знаю, — сказал Миша. — Мы думали, что после расшифровки все будет ясно; оказывается — нет. — Он вопросительно посмотрел на Алексея Иваныча: — Нужно узнать, кто этот убитый офицер…
— Правильно, — сказал Алексей Иваныч. — Тебе ведь Полевой назвал его имя.
— Да, только имя: Владимир. Но фамилии он сам не знал. Правда… — Миша замялся.
— Что ты хотел сказать? — спросил Алексей Иваныч.
— Мы с ребятами кое-что выяснили о кортике…
— Исследовали?
— Да.
— Хорошо. — Алексей Иваныч встал. — На днях я вас вызову, и вы мне расскажете о своих исследованиях.
Глава 58
Стенная газета
Через несколько дней в коридоре, возле седьмого класса, висел первый номер стенгазеты «Боевой листок». Газета начиналась Мишиной статьей «Нездоровое увлечение».
НЕЗДОРОВОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
В нашей седьмой группе «Б» наблюдается нездоровое увлечение некоторыми личностями, как, например, Печориным и Мери Пикфорд.
Начнем с Мери Пикфорд. Каждая ее картина кончается тем, что она выходит замуж за миллионера. Чего же ей подражать, когда всем известно, что в нашей стране миллионеров нет и вообще их скоро нигде не будет?
Теперь о Печорине.
Во-первых, он дворянин и белый офицер.
Во-вторых, он стопроцентный эгоист. Из-за своего эгоизма он доставляет всем страдания: губит Бэлу, обманывает Мери (правда, она княжна, но и Печорин сам дворянин), высокомерно относится к Максиму Максимычу.
Печорин даже не скрывает своего эгоизма, он говорит: «Какое мне дело до бедствий и радостей человеческих». Значит, он не уважает общество, его интересует только собственная персона. Отсюда вывод: человек, который не приносит обществу пользы, приносит ему вред, потому что он не хочет считаться с другими людьми. (Это мы видим на одном примере, который недавно обсуждал наш класс.) Из всего этого ясно, что если все будут подражать Печорину и думать только о себе, то все люди передерутся и будет чистейший капитализм.
ПоляковВслед за этой статьей шли заметки:
ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ?
Как известно, в нашей школе существует кружок по изучению театра и кино. Председателем кружка является выдающийся актер нашего времени Шура Огуреев. Кружок существует полгода, но ни разу не собирался. Зато сам Шура имеет мандат и бесплатно ходит в кино и театр. Сам ходит, а другим контрамарок не выдает. Где справедливость?
ЗрительО ПОРЧЕ МЕБЕЛИ
Некоторые учащиеся любят вырезать на партах ножиком. Этим усиленно занимается Китов, воображая, вероятно, что перед ним лежит колбаса. Пора прекратить эту недопустимую порчу школьной мебели. Тот, кто режет парты, увеличивает разруху.
ШилоО БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ
Некоторые учащиеся во время большой перемены стараются остаться в классе (мы не будем указывать на личности, но все знают, что этим занимается Геннадий Петров). Этим они мешают проветривать класс и преступно расходуют и без того ограниченный запас кислорода. Пора это прекратить. А кому надо сдувать, пусть сдувает в коридоре.
ЗоркийО КЛИЧКАХ
Учащиеся нашего класса любят наделять друг друга, а также преподавателей кличками. Пора оставить этот пережиток старой школы. Кличка унижает достоинство человека и низводит его до степени животного.
ЭльдаровВся школа читала «Боевой листок». Все смеялись и говорили, что в заметке о Печорине и Мери Пикфорд написано про Юру Стоцкого и Лелю Подволоцкую.
Прочитав листок, Юра презрительно усмехнулся, а на другой день рядом со стенгазетой появился листок такого содержания:
КТО ЭГОИСТ?
(Послание с того света)
Господа!
Я — Григорий Александрович Печорин. Ученик седьмой группы «Б» Михаил Поляков потревожил мой мирный сон. Я встал из гроба, и две недели мой дух незримо присутствовал в седьмой группе «Б». Вот мой ответ.
Поляков утверждает, что я эгоист. Допустим. А как же сам Поляков? Он целые ночи зубрит, чтобы быть первым учеником. Зачем? Затем, чтобы показать, что он лучше и умнее всех. С этой же целью он нахватал себе всякие нагрузки: он вожатый звена, и староста, и член учкома, и член редколлегии.
Спрашивается, кто же из нас эгоист?
ПечоринЭта заметка возмутила Мишу. Все в ней неправда! Разве он зубрит и разве это эгоизм, если он хорошо учится? Ведь ясно, что надо хорошо учиться. Юра тоже неплохо учится, но ему отец за хорошие отметки всегда что-нибудь покупает. И потом, разве он, Миша, виноват, что его выбрали старостой группы и членом учкома?
— Вот видишь, — говорил ему Генка, — видишь, что Стоцкий вытворяет! Я тебе давно говорил: нужно его вздуть как следует, будет знать…
— Кулаками ничего не докажешь, — сказал Слава, — нужно в следующем номере «Боевого листка» ответить на это загробное послание.
— Дело не в том, что он про меня написал, — сказал Миша, — дело в принципе: что такое эгоизм. Юрка хочет запутать этот вопрос. А мы его должны распутать.
И мальчики начали готовить следующий номер стенной газеты, посвященный вопросу: «Что такое эгоизм?»
Глава 59
Полковой оружейный мастер
В назначенный день Миша, Генка и Слава вошли в кабинет Алексея Иваныча.
Возле Алексея Иваныча сидел человек в шинели и военной фуражке. Он обернулся к мальчикам и осмотрел каждого с ног до головы.
— Садитесь, — сказал Алексей Иваныч. — Миша, ты принес кортик?
Миша нерешительно посмотрел на военного.
— При этом товарище можешь все рассказывать, — сказал Алексей Иваныч.
Военный долго и внимательно рассматривал пластинки, и, когда он положил кортик на стол, Алексей Иваныч сказал ребятам:
— Ну, мы вас слушаем, — и ободряюще улыбнулся им.
Миша оглянулся на друзей и, откашлявшись, произнес:
— Мы установили, что этот кортик принадлежал полковому оружейному мастеру, жившему во время царствования Анны Иоанновны, то есть в середине восемнадцатого столетия.
Алексей Иваныч удивленно поднял брови, военный внимательно посмотрел на Мишу.
— Анны Иоанновны? — переспросил Алексей Иваныч.
— Да, Анны Иоанновны, — сказал Миша.
— Это та, что ледяной дом построила, — вставил Генка.
Он хотел еще что-то сказать, но Слава толкнул его ногой, чтобы не мешал.
— Как вы это установили?
— Очень просто. — Миша взял в руки кортик, вынул из ножен клинок. — Прежде всего клейма. Их три: волк, скорпион и лилия. Видите? Так вот. Волк — это клеймо золингенских мастеров в Германии. Такие клинки назывались «волчата». Они изготовлялись до середины шестнадцатого века.
— Есть такая марка оружия, очень знаменитая, — сказал Алексей Иваныч.
— Изображением волка или собаки, — продолжал смелее Миша, — отмечал свои клинки толедский мастер Юлиан дель Рей, Испания.
— Крещеный мавр, — вставил Генка.
— Он жил в конце пятнадцатого века, — продолжал Миша. — Теперь скорпион. Это — клеймо итальянских мастеров из города Милана. Наконец лилия. Клеймо флорентийского мастера…
— Параджини, — подсказал Генка.
— Да, Параджини. Он тоже жил в начале шестнадцатого века. Вот что обозначают эти клейма. Они обозначают мастеров.
— Кто же из них сделал кортик? — спросил Алексей Иваныч.
— Никто, — решительно ответил Миша.
— Почему?
— Потому что во всех книгах, которые мы прочли, написано, что кортики появились только в начале семнадцатого века, а все эти клейма относятся к шестнадцатому веку.
— Логично, — сказал Алексей Иваныч. — Но зачем же, в таком случае, клейма?
Миша пожал плечами:
— Этого мы не знаем.
— Ребята правы, — сказал вдруг военный, взял у Миши клинок и поднес его к свету. По всей длине клинка тянулись едва заметные волнообразные рисунки в виде переплетенных роз. — Это дамасская сталь. Она изготовлялась только на Востоке. Значит, клейма европейских мастеров не имеют к клинку никакого отношения. По-видимому, мастер, изготовивший этот кинжал, хотел показать, что его клинок лучше самых знаменитых. С этой целью он и поставил эти три клейма.
Миша несколько смутился тем, что военный сразу определил то, над чем мальчики трудились столько времени, но решительно продолжал:
— Тогда мы решили познакомиться с образцами кортиков, употреблявшихся в России. Их было три типа. Во-первых, морской, но он четырехгранный, а этот трехгранный. Значит, не подходит. Во-вторых, кортик егерей, но его длина тринадцать вершков, а нашего — только восемь. Значит, тоже не подходит. Наконец, третий — это кортик полковых оружейных мастеров при императрице Анне Иоанновне. Он имел в длину восемь вершков, наш — тоже. Он был трехгранный, наш — тоже. И другие приметы сходятся. Поэтому мы решили, что этот кортик принадлежал какому-то оружейному мастеру времен Анны Иоанновны.
Миша кончил говорить, постоял немного и сел на диван рядом с Генкой и Славой, с волнением ожидая, что скажут Алексей Иваныч и военный.
— Толково, — сказал военный, — что ж, попробуем искать владельца.
Алексей Иваныч взял со стола большую квадратную книгу. На ее плотной обложке Миша прочел заглавие: «Морской сборник. 1916 год».
— Так вот, — сказал Алексей Иваныч, — при взрыве линейного корабля «Императрица Мария» погибло три офицера, носивших имя «Владимир». Иванов — мичман, Терентьев — капитан второго ранга, Неустроев — лейтенант. Встает вопрос: кто из них владелец кортика? Сейчас посмотрим некрологи. — Алексей Иваныч перелистал и пробежал глазами несколько страниц. — Иванов… молодой и прочее… Неустроев… исполнительный… — Алексей Иваныч замолчал, читая про себя, потом медленно проговорил: — А вот интересно, прошу слушать: «Трагическая смерть унесла В. В. Терентьева, выдающегося инженера Российского флота. Его незаурядные способности и глубокие познания, приобретенные под руководством незабвенного П. Н. Подволоцкого, давали ему все основания стать для вооружения флота тем, чем был для вооружения сухопутных войск его знаменитый предок П. И. Терентьев».
— Кажется, попали в точку, — сказал военный. — Есть у вас военная энциклопедия, Алексей Иваныч?
— Петров, — сказал Алексей Иваныч, — сбегай к Софье Павловне и возьми для меня военную энциклопедию Гранат на букву Т.
Генка принес книгу, Алексей Иваныч перелистал ее и сказал:
— Есть. Прошу слушать: «Терентьев, Поликарп Иванович. Родился в 1701 году. Умер в 1784 году. Выдающийся оружейный мастер времен Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны. Служил при фельдмаршале Минихе. Участник сражений при Очакове, Ставучанах и Хотине. Создатель первой конструкции водолазного прибора. Известен как автор фантастического для своего времени проекта подъема фрегата «Трапезунд».
— Вот и пригодился ваш оружейный мастер, — сказал военный.
— Интересное совпадение, — заметил Алексей Иваныч, — упоминаемый в некрологе профессор Военно-морской академии Подволоцкий — дедушка одной из наших учениц.
Мальчики переглянулись. Лелька! Вот здорово!
— Ну, ребята, — сказал военный, — поработали вы на славу. — Он встал. — Кортик, Миша, я пока у тебя возьму. Не беспокойся, придет время — верну. Вижу, что и у тебя какая-то тайна есть. Может быть, скажешь нам?
— Никакой тайны у меня нет, — ответил Миша. — Мы просто хотим открыть секрет кортика.
Военный положил ему руку на плечо:
— Я вам в этом деле помогу. Только дела свои ограничьте библиотекой. Больше ни во что не ввязывайтесь. Вы свое дело сделали. Фамилия моя Свиридов, товарищ Свиридов. Ну, по рукам, что ли? — Он протянул Мише руку, большую и широкую, как у Полевого, и Миша пожал ее.
Глава 60
Урок рисования
— Новое дело! — негодовал Генка, спускаясь по лестнице. — Мы достали ножны, провели серьезные исследования, из библиотеки не вылезали, всё выяснили, а теперь, когда остается только клад взять, он у нас ножны забрал!
— Он прав, — сказал Слава, — мы можем все дело испортить.
— До сих пор не портили, — проворчал Генка.
— Мешать мы ему, конечно, не должны, — сказал Миша, — но почему нам не узнать про Терентьева? Этим мы никому не помешаем.
Ребята пришли в класс рисования. Вместо парт здесь табуреты и мольберты. На стенах висят работы лучших художников школы — в большинстве эскизы декораций школьных постановок. Под картинами, на полочках, — «мертвая натура»: статуэтки греческих богов, животных, фрукты из папье-маше. Сегодня рисуют статую «классической лошади».
На уроке рисования весело. Можно сидеть в любой позе, вставать, разговаривать. Преподаватель рисования Борис Федорович Романенко — ребята называют его «Барфед», — среднего роста, плотный, добродушный пожилой украинец с длинными казацкими усами, расхаживал между мольбертами и поправлял работы.
Миша подсел к Леле Подволоцкой.
— Леля, — сказал он, — у меня к тебе есть вопрос.
— Какой? — спросила Леля, водя глазами от рисунка к натуре.
— Скажи, Подволоцкий, адмирал, профессор Морской академии, — твой дедушка?
— Да. А что? — Леля оторвала глаза от рисунка и с удивлением посмотрела на Мишу.
Миша замялся:
— Видишь ли, у него в академии учился один мой дальний родственник, потом он пропал без вести. Так вот, не знает ли твой дедушка о его судьбе?
— Но дедушка умер давным-давно, — ответила Леля.
— Ах да, — спохватился Миша, — я и забыл совсем. Кто жив из его семьи?
— Бабушка и тетя Соня.
— Как ты думаешь, они не знали дедушкиных учеников?
— Не думаю. Он ведь читал лекции один, без бабушкиной помощи.
— Это я сам понимаю, — с досадой ответил Миша. — Возможно, что некоторых учеников они все же знали.
— Не думаю…
— Секретничаете? — раздался за ними насмешливый голос Юры Стоцкого.
Леля покраснела и растерянно пробормотала:
— Понимаешь, Юра, Миша интересуется моим дедушкой.
— Вот как! — Юра усмехнулся и, круто повернувшись, отошел от них.
Миша пересел к Славе и сказал:
— После этого дедушки остались бабушка и тетя Соня. Вдруг они знали Терентьева?
— Попроси Лелю — она тебя познакомит с бабушкой.
Миша махнул рукой:
— Я уже говорил. Да, свяжись с девчонкой! Юрка Стоцкий подошел, так она ему все раззвонила…
Миша хотел сообщить об этом деле Генке, но увидел, что Генка занят важным делом: он дразнил Кита.
— Кит, а Кит!
— Чего?
— Ты из какого океана?
Кит привык к этой шутке и молчал. Тогда Генка начал его обстреливать из стеклянной трубочки жеваной бумажкой. Он попадал ему в затылок, и Кит, не понимая, в чем дело, проводил по шее ладонью, как бы смахивая муху, к великой потехе Зины Кругловой. Мише, как старосте, конечно, надо бы остановить Генку, но Кит так смешно смахивал несуществующую муху, что Миша сам давился от смеха.
Между тем Кит, одной рукой проводя по затылку, другой тщетно пытался нарисовать лошадь. Ничего у него не получалось.
Борис Федорович постоял возле Кита, затем подошел к доске и начал показывать, что такое пропорции.
— Вам, Китов, — говорил Борис Федорович, рисуя мелом лошадь, — нужно больше живописью интересоваться, развивать художественный вкус. А вы ничем не интересуетесь. Ну-ка, назовите мне великих художников, которых вы знаете.
Кит не знал никаких художников и только сопел, вытаращив глаза на Бориса Федоровича.
— Что вы молчите? — спросил Борис Федорович. — Ведь вы были с нами в Третьяковской галерее. Вспомните, картины каких художников вы там видели. Вспомните, вспомните…
— Репин, — тихо прошептал Генка позади Китова.
— Репин, — громко повторил Кит.
— Правильно, — сказал Борис Федорович, заштриховывая гриву коня на своем рисунке. — Какие картины Репина вы помните?
— «Иван Грозный убивает своего сына», — подсказал Генка.
— «Иван Грозный убивает своего сына», — грустно повторил Кит.
— Хорошо, — сказал Борис Федорович, деля лошадь на квадраты. — Вспоминайте, вспоминайте.
— Романенко нарисовал лошадь, — давясь от смеха, прошептал Генка.
— Романенко нарисовал лошадь, — провозгласил Кит, и весь класс грохнул от хохота.
— Что? Что вы сказали? — Рука Бориса Федоровича повисла в воздухе.
— Он нарисовал лошадь, — повторил несчастный Кит.
— Кто — он?
— Ну… этот… как его… Романенко, — сказал Кит.
На этот раз никто не рассмеялся. Лицо Бориса Федоровича побагровело, усы оттопырились. Он бросил мел на стол и вышел из класса…
Глава 61
Борис Федорович
— Не знал я, что он Романенко, — пробурчал Кит, — я думал, Барфед, ну и Барфед.
— Ты думал! — передразнил его Генка. — Я про себя сказал, а ты повторяешь, как попугай! Привык на подсказках выезжать. Теперь не выдавай. Попался, так выворачивайся.
— Знаешь, Генка, — громко, на весь класс, сказал Миша, — это подлость!
— Что ты, Миша? — Генка покраснел. — При чем тут я?
Миша не успел ему ответить. Дверь отворилась, все бросились по местам. В класс вошел Алексей Иваныч.
Высокий, худой, гладко выбритый, он стал у учительского столика и окинул притихший класс отчужденным, неприязненным взглядом.
— Я не намерен обсуждать здесь ваш возмутительный поступок, — начал Алексей Иваныч. — Не намерен. Как и не собираюсь говорить о вашем отношении к Борису Федоровичу, отдавшему столько лет своей жизни вам, детям.
Алексей Иваныч сделал паузу. Все сидели притаив дыхание.
— Я хочу поговорить с вами совсем о другом, — внушительно произнес Алексей Иваныч. — Совсем о другом, — повторил он и оглядел класс. — Должен сознаться, — он поднял брови, — я не знал за Китовым склонности к шуткам. Мне казалось, что его интересы и способности лежат несколько в иной области…
Все отлично поняли, о какой способности говорит Алексей Иваныч, и насмешливо посмотрели на Кита.
— Очевидно, — продолжал Алексей Иваныч, — сидение по два года в каждом классе развивает в Китове остроумие, но должен сказать, что это остроумие очень низкого сорта. Китову, видите ли, кажется очень смешным сравнение великого художника со скромным учителем рисования, а вот я ничего в этом смешного не нахожу. И вот почему не нахожу.
Алексей Иваныч помолчал, посмотрел в окно и продолжал:
— По-видимому, Китов предполагает, что Борис Федорович не стал великим художником из-за своей бесталанности. Могу уверить его, что это не так. Борис Федорович — человек очень талантливый, окончил в свое время Академию художеств, перед ним была открыта широкая дорога к славе, известности, к тому, что, по мнению Китова, только и достойно уважения. А Борис Федорович пошел другой дорогой. Он стал скромным учителем рисования, то есть тем, что, по мнению Китова, уважения недостойно и может служить предметом его глупых шуток.
Китов сидел, не поднимая глаз от парты.
— По окончании академии, — продолжал Алексей Иваныч, — Борис Федорович еще с некоторыми товарищами, такими же выходцами из народа, как он сам, создал бесплатную художественную школу для детей рабочих. Даже не одну, а несколько таких школ. Они искали способных ребят, привлекали их в школу, приобщали к великому искусству. Что заставило его пойти по этому пути? Его заставил это сделать пример своей собственной жизни, жизни человека из народа, претерпевшего огромные лишения, чтобы добиться права заниматься искусством. Потому что искусство тогда было доступно только богатым и обеспеченным людям. Это было благородное решение. Всю жизнь добиваться одной цели, преодолеть тысячи преград, голодать, холодать, отказывать себе во всем и, когда цель достигнута, отказаться от всех благ, которые могло принести достижение этой цели, во имя другой, трудной, но благородной задачи!.. Борис Федорович решил стать учителем. Он решил посвятить свою жизнь тем маленьким народным талантам, многие тысячи которых гибнут, задушенные всей омерзительной системой капиталистического общества. Вот на что ушла жизнь Бориса Федоровича! Мы с вами, конечно, понимаем, что он во многом ошибался. Нужно было изменить весь строй, создать общество, обеспечивающее каждому человеку развитие его способностей. Это и сделала Октябрьская революция. Все же, оценивая его жизнь, мы говорим, что такой жизнью можно гордиться. Ею можно гордиться потому, что этой жизнью руководила чистая и благородная цель…
В коридоре раздались шаги. Дверь открылась, и в класс вошел Борис Федорович.
После паузы, вызванной приходом Бориса Федоровича, Алексей Иваныч продолжал:
— Рассказываю я вам все это вот зачем. Великий художник, великий ученый, великий писатель — это звучит очень гордо. Но есть в культуре и незаметная, будничная, но главная работа, и во многом ее делает учитель. Он несет культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на ниву таланта, чтобы потом на ней выросли чудесные, прекрасные цветы. И если кто-нибудь из вас станет большим и знаменитым человеком, пусть он, увидя скромного сельского учителя, с почтением снимет перед ним шляпу, помня, что этот маленький и незаметный труженик воспитывает и формирует самое лучшее, самое прекрасное творение природы — Человека.
Алексей Иваныч замолчал. В классе стояла все та же напряженная тишина.
— Вот о чем я хотел с вами поговорить… — сказал Алексей Иваныч. — А теперь, — он повернулся к Борису Федоровичу, — прошу продолжать урок.
Он вышел из класса.
Генка стоял у своего мольберта и смотрел на Бориса Федоровича.
— Ты чего встал? — спросил Борис Федорович.
— Борис Федорович, — сказал Генка, — извините меня, я вас очень прошу. Это я подсказал Китову, извините меня.
— Ладно, — просто сказал Борис Федорович, — рисуй. — Потом посмотрел на Китова и добавил: — Значит, и киты на удочку попадаются.
И, усмехаясь в усы, Борис Федорович пошел по классу, рассматривая приколотые к мольбертам рисунки «классической лошади».
Глава 62
Бабушка и тетя Соня
Леля все же дала Мише бабушкин адрес. На другой день вечером Миша, Генка и Слава, направляясь к Лелиной бабушке, скользили по ледяным дорожкам, тянувшимся вдоль тротуаров Борисоглебского переулка.
Тихая пелена снежинок струилась в мутном свете редких фонарей. Голубые звезды висели в небе. Над зданием Моссельпрома, выкрашенным в белые и синие полосы, вспыхивала и гасла, пробегая по буквам, электрическая реклама: «Нигде кроме, как в Моссельпроме».
Генка, как обычно за последнее время, был на коньках, прикрепленных к валенкам веревками, затянутыми деревянными палочками. Его старенькое пальтишко было расстегнуто, уши буденовки болтались на плечах.
— Что за безобразие! — негодовал Генка. — Раньше только улицы песком посыпали, а теперь уж до переулков добрались! Жалко им, если человек прокатится. Видно, только на катке придется кататься. Эх, жалко — нет у меня «норвежек», а то бы я показал Юрке Стоцкому, какой он чемпион…
Они подошли к небольшому деревянному домику.
— Всем идти неудобно, — сказал Миша. — Я пойду один, а вы дожидайтесь меня здесь.
По темной, скрипучей лестнице с шатающимися перилами Миша ощупью добрался до второго этажа и зажег спичку. В глубине заваленной всякой рухлядью площадки виднелась дверь с оборванной клеенкой и болтающейся тесьмой. Миша осторожно постучал.
— Ногами стучите, — раздался в темноте голос поднимавшегося по лестнице человека. — Старухи-то глухие, ногами стучите.
Миша загрохотал по двери ногами. За дверью послышались шаги. Женский голос спросил:
— Кто там?
— К Подволоцким! — крикнул Миша.
— Кто такие?
— От Лели Подволоцкой.
— Подождите, ключ найду.
Шаги удалились. Минут через пять они снова раздались за дверью. В замке заскрежетал ключ. Он скрежетал очень долго, и наконец дверь открылась.
Натыкаясь на какие-то вещи, Миша шел вслед за женщиной. Он ее не видел, только слышал шаркающие шаги и голос, бормотавший: «Осторожно, не споткнитесь, осторожно», как будто он мог что-нибудь видеть в совершенно темном коридоре.
Женщина открыла дверь и впустила Мишу в комнату. Тусклая лампочка освещала столик и разложенные на нем карты. За пасьянсом сидела бабушка Подволоцкая, а тетя Соня вошла вслед за Мишей. Это она открывала ему дверь.
Миша огляделся. Комната была похожа на мебельный магазин. В полном беспорядке стояли здесь шкафы, столы, тумбочки, кресла, сундуки. В углу виднелись округлые контуры рояля. Через всю комнату от железной печи тянулись к окну трубы, подвешенные на проволоке к потолку. На полу валялась картофельная шелуха. В углу облезлая щетка прикрывала кучу мусора, того мусора, который всё собираются, но никак не соберутся вынести. Возле двери стоял рукомойник, и под ним — переполненное ведро.
— Проходите, молодой человек, — сказала бабушка и отвернулась к картам. Края ее потертого бархатного салопа лежали на полу. — Проходите. За беспорядок извините — теснота. — Она задумалась над картами. — От холода спасаемся. (Пауза и шелест карт.) Вот и перебрались в одну комнату: дровишки нынче кусаются…
— Мама, — перебила ее тетя Соня, взявшись за ручку ведра с явным намерением его вынести, — не успел человек войти, а вы уже о дровах!
— Соня, не перечь, — ответила бабушка, не отрывая глаз от карт. — Ты положила на место ключ?
— Положила. Только вы, ради бога, его не трогайте. — Тетя Соня опустила ведро, видимо, прикидывая, можно ли его еще наполнить.
— Куда ты его положила?
— В буфет, — нетерпеливо ответила тетя Соня.
— Уж и слова сказать нельзя! — Бабушка смешала карты и начала их снова раскладывать. — Постыдилась бы — чужой человек в доме.
Потом бабушка обратилась к Мише:
— Садитесь, — она показала на стул, — только осторожнее садитесь. Беда со стульями. Столяр деньги взял, а толком не сделал. Кругом, знаете, мошенники… Приходит мужчина, прилично одет — хочет купить трюмо. Я прошу десять миллионов, а он дает пятнадцать рублей. И смеется. Каково? — Старушка переложила карты. — Каково? Я ему говорю: «Знаете, милостивый государь, когда миллионы ввели, я год не верила и по твердому рублю вещи продавала, а теперь уж извините, миллионы так миллионы…»
— Мама, — опять прервала ее тетя Соня, все еще в нерешительности стоявшая у ведра, — кому интересно слушать ваши басни? Спросили бы, зачем человек пришел.
— Соня, не перечь, — нетерпеливо ответила бабушка. — Вы, наверно, от Абросимовых? — обратилась она к Мише.
— Нет, я…
— Значит, от Повздоровых?
— Нет, я…
— От Захлоповых?
— Я от вашей внучки Лели. Скажите: вы знали Владимира… Владимировича Терентьева? — одним духом выпалил Миша.
Глава 63
Письма
— Как вы сказали? — переспросила старуха.
Миша медленно повторил:
— Не знали ли вы Владимира Владимировича Терентьева, офицера флота? Он учился в академии у вашего мужа, адмирала Подволоцкого.
— Терентьев Владимир Владимирович? — Старушка задумалась. — Нет, не знавала такого.
— Как же вы не помните, мама! — сказала тетя Соня. Она уже подняла ведро и теперь, вмешавшись в разговор, поставила его обратно. От этого помои еще больше расплескались. — Это несчастный Вольдемар, муж Ксении.
— Ах! — Старушка всплеснула руками. — Ах, Вольдемар! Боже мой! Ксения! — Она подняла глаза к потолку и говорила нараспев: — Вольдемар! Ксения! Боже мой! Несчастный Вольдемар… — Она повернулась к Мише и неожиданно спокойным голосом добавила: — Да, но он погиб.
— Меня интересует судьба его семьи.
— Что же, — старушка вздохнула, — знавала я Вольдемара. И супругу его, Ксению Сигизмундовну, тоже знавала. Только давно это было.
— Простите, — Миша встал, — как вы назвали его жену?
— Ксения Сигизмундовна.
— Сигизмундовна?
— Да, Ксения Сигизмундовна. Красавица женщина, — затараторила старушка, — красавица, картина!..
— Ее брата вы не знали? — спросил Миша.
— Как же, — с пафосом ответила старушка, — Валерий Никитский! Блестящий офицер. Красавец. Он тоже погиб на войне. — Она вздохнула. — Всех знавала, да ушло это время. Мамашу Владимира Владимировича, эту самую Терентьеву… как, бишь, ее… Марию Гавриловну, скажу по правде, я недолюбливала. Из простых… Впрочем, нынче простые в моде…
— Вы не знаете, где они теперь? — спросил Миша.
— Не знаю, не знаю. — Старушка отрицательно покачала головой. — Вся их семья странная, загадочная. Какие-то тайны, предания, кошмары…
— Возможно, вы знаете их прежний адрес?
— В Петербурге жили, а адрес не помню.
— Адрес можно узнать, — сказала вдруг тетя Соня. Она стояла у самой двери с ведром в руках. — На его письмах к папе есть обратный адрес. Но разве в таком хаосе что-нибудь найдешь!
— Я вас очень прошу, — сказал Миша, переводя умоляющий взгляд с бабушки на тетю Соню и с тети Сони на бабушку. — Знаете, родственник, пропал без вести… — Он вскочил со стула. — Только скажите, что надо сделать. Я вас очень прошу.
— Найди ему, Соня, найди, — благосклонно проговорила бабушка, снова принимаясь за карты.
Тетя Соня колебалась, но представившаяся возможность отложить выливание помоев взяла, видимо, верх. Она поставила ведро обратно в лужу и начала указывать Мише, что надо делать. Он передвинул шкаф, комод, влез на рояль, вытащил ящик, за ним корзину. Тетя Соня нагнулась над корзиной и вытащила из груды бумаг пакет, на котором потускневшими от времени буквами было написано: «От В. В. Терентьева».
— Большое спасибо, — сказал Миша, задвигая обратно корзину и надевая шапку, — большое спасибо!
— Пожалуйста, молодой человек, пожалуйста, — сказала бабушка, не отрывая глаз от карт. — Заходите к нам. До свиданья.
Сжимая в кармане пакет с письмами, Миша выскочил на улицу, к дожидавшимся его ребятам.
Часть VI Домик в Пушкине
Глава 64
Слава
Все письма были в одинаковых конвертах. Аккуратным почерком на них был выведен адрес: «Его Превосходительству Петру Николаевичу Подволоцкому. Москва, Ружейный переулок, собственный дом. От В. В. Терентьева, С.-Петербург, Мойка, дом С. С. Васильевой».
Содержание писем тоже было одинаково: поздравления с днем ангела, с Новым годом и тому подобное. Только одна открытка, датированная 12 декабря 1915 года, была несколько пространнее.
«Уважаемый Петр Николаевич, — писал в ней Терентьев, — пишу с вокзала. До поезда тридцать минут, и я, к сожалению, лишен возможности лично засвидетельствовать Вам свое почтение. Задержался в Пушкине, а к месту назначения должен явиться не позднее 15-го сего месяца. Какова бы ни была моя судьба, остаюсь искренне преданный Вам В. Терентьев».
— Дело в шляпе, — сказал Генка, — нужно ехать в Питер.
— В открытке упоминается еще Пушкино, — заметил Миша.
— Чего тут думать, когда у нас точный адрес есть, — возразил Генка. — Нужно ехать.
— Письма написаны восемь лет назад, — сказал Слава. — Может быть, там никто из Терентьевых не живет.
— Запросим сначала адресный стол, — решил Миша.
Мальчики тут же сочинили письмо, вложили его в конверт, но марки у них не оказалось, и они решили отправить письмо завтра утром.
Мальчики сидели у Славы. Алла Сергеевна, как обычно, была в театре, Константин Алексеевич еще не пришел с работы.
— Да, — мечтательно произнес Генка, поглядывая на лежащий на столе зеленый конверт, — да… Теперь уж клад от нас не уйдет.
— Ты все о кладе мечтаешь, — засмеялся Слава.
— А что? — Генка упрямо тряхнул головой. — Я все точно узнал. В те времена все боялись Бирона и прятали от него сокровища. Это я точно узнал.
— Что ты еще узнал? — насмешливо спросил Миша.
— Еще я узнал, — невозмутимо продолжал Генка, — что тому, кто найдет клад, принадлежит двадцать пять процентов. Так что нужно свою долю сразу забрать, а то будешь за ней целый год ходить, — добавил он деловито.
Мальчики засмеялись, потом Слава посмотрел на друзей и сказал:
— Конечно, я ни в какой клад не верю. Но допустим, там действительно сокровища. Нам достанется какая-то их часть. Что мы будем с ней делать?
— Я уж давно решил! — воскликнул Генка.
— Что?
— Ты первый скажи, тогда и я скажу.
— Если там действительно клад, — сказал Слава, — то я бы отдал его на детский дом или санаторий для ребят.
— Нет уж, пожалуйста, — замотал головой Генка, — свою долю можешь на это дело отдавать, а моей я сам распоряжусь. Детдомов у нас хватает. И вообще, скоро никаких беспризорных не останется. Если по-серьезному говорить, так нужно, чтобы на эти деньги в Москве, в самом центре, построили большой стадион с катком, футбольным полем и теннисной площадкой. Вот. Для ребят вход бесплатный, а всяких контролеров и билетеров за версту не подпускать.
— Все распределили, ничего не забыли? — насмешливо спросил Миша.
— Видишь ли, Миша, — улыбаясь, сказал Слава, — это, конечно, не всерьез, но скажи: если там действительно клад, то на какое дело ты его отдашь?
— Не знаю, — сказал Миша, — я об этом не думал. И ни в какой клад я не верю.
— А я верю, — сказал Генка. — Обязательно стадион построим. А детские дома, санатории… это всё Славкины фантазии. Ты еще придумай какую-нибудь музыкальную школу построить.
— А что в этом такого? — обиделся Слава. — Думаешь, стадионы нужней, чем музыкальные школы?
— Сравнил! Музыкальные школы! Эх ты… Вообще, Славка, тебе нужно как следует подумать о своем будущем.
— То есть?
— Чего «то есть»? Если ты хочешь, чтобы тебя приняли в комсомол, то надо серьезно подумать о своем будущем.
— Почему?
— Будто и не знаешь! — усмехнулся Генка. — Ведь ты музыкантом собираешься стать?
— Допустим. Что же из этого?
— Как — что? Ведь ты на сборе был? Беседу о задачах комсомола слышал? Что Коля говорил? Он говорил, что задача комсомольцев — строить коммунизм. Так?
— Так. Но при чем тут музыка?
— Как — при чем? Все будут строить, а ты будешь на рояле тренькать. Этот номер не пройдет.
— Ты много построишь! Тоже строитель нашелся! — обиделся Слава.
— Конечно, — Генка развеселился, — конечно. Кончу семилетку, поступлю в фабзавуч. Буду металлистом, настоящим рабочим. Меня в комсомол и без кандидатского стажа примут. Мы с Мишей это давно решили. Правда, Мишка?
Миша медлил с ответом.
На последнем сборе отряда Коля читал речь Ленина на III съезде комсомола. И одно место в этой речи поразило Мишу: «…поколение, которому сейчас пятнадцать лет… увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество. И оно должно знать, что вся задача его жизни есть строительство этого общества».
Миша много думал над этими словами. Они относились прямо к нему, к Генке, к Славе. Задача всей их жизни — строить коммунизм. То же самое говорил ему Полевой: «Будешь для народа жить — на большом корабле поплывешь». Это и значит строить коммунизм — жить для народа, а не для себя. А как же Слава? Разве он для себя будет сочинять музыку? Разве песня не нужна народу? А «Интернационал»?.. Миша посмотрел на Славу и сказал:
— Не беспокойся, Слава: я думаю, тебя примут в комсомол.
Глава 65
Константин Алексеевич
Послышался шум открываемой двери. Кто-то раздевался в коридоре, снимал калоши, сморкался.
— Папа пришел, — сказал Слава.
Продолжая сморкаться в большой носовой платок, Константин Алексеевич вошел в комнату. Всегда красные, его щеки были теперь пунцовыми от мороза. Плохо повязанный галстук обнажил большую медную запонку на смятом воротничке. Маленькие, заплывшие глазки смотрели насмешливо и добродушно.
— Ага, пионеры! — приветствовал он мальчиков. — Здравствуйте. — Он поздоровался за руку с каждым, в том числе и со Славой. — Мы ведь сегодня с тобой еще не виделись.
Вслед за Константином Алексеевичем вошла домработница Даша и начала накрывать на стол.
Константин Алексеевич вымыл руки, повесил полотенце на спинку стула и сел за стол. Слава перевесил полотенце в спальню и вернулся в столовую.
— О чем беседовали? — Константин Алексеевич заметил лежащий на столе конверт, взял его в руки, начал рассматривать. — «Петроград, адресный стол…» Кого это вы разыскиваете?
— Так, одного человека. — Слава забрал у отца письмо и спрятал в карман.
— Ну-ну, дела секретные! — засмеялся Константин Алексеевич, отщипывая и жуя хлеб. — Так о чем беседовали? О чем разговор?
— Мы, папа, о разных специальностях говорили. Кто кем будет, — ответил Слава.
— Гм! Ну и что же, кто куда?
— Мы так… неопределенно… просто разговаривали…
— Все же… — Константин Алексеевич посыпал суп перцем, хлебнул. — Все же?
— Я музыкантом буду, а они… — Слава показал на ребят, — пусть сами скажут. Вон Генка говорит, что комсомолец не может быть музыкантом.
— Я этого не говорил, — запротестовал Генка.
— Как не говорил? Вон Миша слыхал.
— Значит, вы меня не поняли. Что я сказал? — Генка посмотрел на Константина Алексеевича. — Я сказал, что, кроме музыки, надо иметь еще какую-нибудь специальность, чтобы быть полезным… — Генка слукавил совершенно обдуманно, потому что хорошо знал главный предмет разногласий между Константином Алексеевичем и Славой.
— Ай да Генка, — сказал Константин Алексеевич, — молодец! Вот об этом и мы со Славой часто беседуем. Специальность обязательно надо иметь. В жизни нужно на ногах стоять твердо. А там — пожалуйста, хоть канарейкой пой.
— Все же я буду музыкантом, — сказал Слава.
— Пожалуйста, кто тебе мешает! Бородин тоже был как будто неплохим композитором, а ведь химик… А? Химик… — Константин Алексеевич отодвинул тарелку, вытер салфеткой губы. — Необязательно быть именно химиком. Можно и другую специальность избрать, но чтобы ремесло было настоящее.
— Разве музыка, театр, живопись, вообще искусство — это не ремесло? — возразил Слава.
— Только ремесло это такое… воздушное. — Константин Алексеевич пошевелил в воздухе пальцами.
— Почему же воздушное? — не сдавался Слава. — Разве мало людей искусства прославили Россию: Чайковский, Глинка, Репин, Толстой…
— Ну, брат, — протянул Константин Алексеевич, — то ведь гиганты, титаны, не всякому это дано. — Он помолчал, посмотрел на Мишу. — Ну, а что Миша скажет по этому поводу?
— Я согласен со Славкой, — сказал Миша. — Если он хочет быть музыкантом, то и должен учиться на музыканта. Вот вы говорите: он должен получить специальность. Значит, он пойдет в вуз, станет инженером, а потом это дело бросит, будет музыкантом. Зачем же он тогда учился, зачем на него государство тратило деньги? На его месте мог бы учиться кто-нибудь другой. У нас ведь не так много вузов.
— М-да… — Константин Алексеевич задумчиво крошил хлеб. — Да… Не сговориться, видно, мне с вами… Я ведь человек старой закалки.
Он встал, заходил по комнате.
— Я ведь и сам не бирюк, понимаю. В молодости в спектаклях участвовал, чуть было актером не стал… Вот и жена у меня актриса. Я понимаю, молодость — она всегда жизнь за горло берет. — Он шумно вздохнул. — Да здесь дело совсем в другом…
Он придвинул к столу стул, одернул скатерть, опять прошелся и продолжал:
— Ведь и мне когда-то было четырнадцать лет. А кругом жизнь — дремучий лес. И моя мать, помню, все меня жалела: как, мол, ты один пробиваться будешь… «Пробиваться»! Слово-то какое! — Он рассек кулаком воздух. — Пробиваться!!! Биться!!! Вот как… Я молод был, думал: «Ага, вот хорошее место есть, доходное, как бы мне его заполучить», а он, Миша, говорит: «Ты, Слава, зря в вузе места не занимай, на этом месте другой может учиться…» Другой. А кто этот другой? Иванов? Петров? Сидоров? Кто он? Родственник его, приятель? Да нет! Он его и в глаза не видел, он его не знает и знать не хочет… Ему важно, чтобы государство еще одного инженера получило. Вот он о чем печется.
— Разве это плохо? — улыбнулся Слава.
— Я не говорю, что плохо. — Константин Алексеевич молча прошелся, потом остановился против Генки. — Вот, Генка, разбили они нас… А?
— Почему это «нас»? — возразил Генка. — «Вас», а не «нас».
— Как это так? — искренне удивился Константин Алексеевич. — Ведь ты только что поддерживал мою точку зрения?
— О, — протянул Генка, — это когда было!.. — и отошел в сторону.
— Единственного союзника потерял… — развел руками Константин Алексеевич. — Ну, а ты сам кем собираешься быть?
— Я пойду во флот служить, — объявил Генка.
— У него семь пятниц на неделе, — засмеялся Слава, — полчаса назад он собирался в фабзавуч, а теперь во флот.
— Сначала в фабзавуч, а потом во флот, — хладнокровно ответил Генка.
— Так, так. Ну, а ты, Миша?
— Не знаю. Я еще не решил.
— Он тоже в фабзавуч собирается, — крикнул Генка, — я знаю, а потом поступит в Коммунистический университет!..
— Брось ты, Генка! — перебил его Миша.
— Да, — покачал головой Константин Алексеевич, — далеко вы прицеливаетесь… А я думал, Миша, ты будешь девятилетку кончать.
— Не знаю, — нехотя ответил Миша, — маме трудно…
— Его не отпустят, — сказал Слава, — он первый ученик.
— Учиться буду вечерами… — сказал Миша. — Очень многие комсомольцы днем работают, а вечером учатся. В общем, там видно будет.
Он посмотрел на часы, обрамленные бронзовыми фигурами. Взгляд его поймал мгновенное движение большой стрелки, дернувшейся и застывшей на цифре «девять». Без четверти двенадцать. Мальчики стали собираться домой.
— Ну-ну, — весело сказал Константин Алексеевич, пожимая им на прощанье руки, — а на меня не сердитесь. Уж я-то желаю вам настоящей удачи.
Глава 66
Переписка
Пришел ответ адресного стола. «На ваш запрос сообщаем, — говорилось в нем, — что для получения справки об адресе нужно указать год и место рождения разыскиваемого лица».
— Поди знай, где и когда родилась эта самая Мария Гавриловна! — сказал Генка. — Нет, надо ехать в Питер.
— Успеем в Питер, — сказал Миша, — а этот ответ — чистейший бюрократизм и формализм. Напишем секретарю комсомольской ячейки.
Они сочинили такое письмо:
«Петроград, адресный стол, секретарю ячейки РКСМ. Дорогой товарищ секретарь! Извините за беспокойство. Дело очень важное. До войны 1914 года в Петрограде, на улице Мойке, дом С. С. Васильевой, проживали гражданин Владимир Владимирович Терентьев, его жена Ксения Сигизмундовна и мать Мария Гавриловна. Пожалуйста, сообщите, живут они там или куда переехали. Не все, конечно, потому что Владимир Владимирович взорвался на линкоре, а мать и жена, наверно, живы. Мы уже запрашивали, но от нас требуют год и место рождения, что является чистейшим бюрократизмом. Вам, как секретарю РКСМ, нужно обратить на это самое серьезное внимание и выжечь каленым железом.
С пионерским приветом Поляков, Петров, Эльдаров».Ребята отправили письмо и стали дожидаться ответа.
Приближался конец первого полугодия. Ребята много занимались, да и в отряде хватало работы. Не было почти ни одного свободного вечера. Работа в подшефном детском доме, занятия в мастерских Дома пионеров, сбор звена, заседание учкома, комсомольский день (мальчики уже не пропускали ни одного открытого собрания ячейки), кружки занимали всю неделю. А в воскресенье с утра проходил общий сбор отряда. Кроме того, Мишино звено переписывалось с пионерами Хемшица в Германии, пионерами Орехово-Зуевского района и с краснофлотцами.
А ведь надо было еще раза два-три в неделю побывать на катке.
Ребята приходили на каток вечером, торопливо переодевались на тесных скамейках и, став на коньки, несли свои вещи в гардероб. Коньки деревянно стучали по полу, этот дробный стук речитативом выделялся в общем шуме раздевалки, окутанной клубами белого морозного воздуха, врывающегося с катка через поминутно открываемые двери.
Взрослые конькобежцы раздевались в отдельной комнате. Они выходили оттуда затянутые в черные трико. Ребята с почтительным восхищением шептали: «Мельников… Ипполитов… Кушин…»
Пятна фонарей освещали снежные полосы на льду. По кругу двигались катающиеся, странные в бесцельности своего движения. Они двигались толпой, но каждый ехал сам по себе, в одиночку, парами, перегоняя друг друга. Новички ехали осторожно, высоко поднимая ноги, неуклюже отталкиваясь и двигаясь по инерции.
Все ребята ездили на «снегурочках», «нурмисе», и только один Юра Стоцкий — на «норвежках».
Одетый в черный вязаный костюм, он катался только на беговой дорожке, нагнувшись вперед, заложив руки за спину, эффектно удлиняя чрезножку на поворотах. Всем своим видом он показывал полное пренебрежение к другим ребятам.
Миша и Слава не обращали внимания на Юру, но Генка никак не мог спокойно переносить Юрино высокомерие и однажды, выехав на круг, попробовал гоняться с Юрой. Генка ездил на коньках очень хорошо, лучше всех в школе, но разве мог он на «снегурочках» угнаться за «норвежками»! Он позорно отстал от Юры на целых полкруга.
После этого случая все начали дразнить Генку. Ездили за ним и кричали:
— Эй, валенки, даешь рекорд!
Генка с досады перестал посещать каток, по улицам на коньках тоже не бегал. Он ходил мрачный и однажды объявил Мише и Славе, что приглашает их прийти к нему в субботу на день рождения. Мальчики удивились:
— С собственным угощением?
— Угощение мое, подарки ваши.
Глава 67
День рождения Генки
В субботу вечером друзья пришли к Генке и изумленно вытаращили глаза при виде праздничного стола. На краю его свистел струйками пара самовар с расписным чайником на верхушке. В середине были расставлены тарелки с различным угощением: ломтики сала, вареники в сметане, пирожки и монпансье. По бокам стояло шесть приборов. У стола хлопотала Агриппина Тихоновна.
— Вот это да! — протянул Миша. — Ай да Генка!..
— Ничего особенного, — небрежно произнес Генка. — Прошу… — Он театральным жестом пригласил их к столу.
— Что ты, Геннадий, сразу к столу приглашаешь, — сказала Агриппина Тихоновна, — еще гости должны прийти.
— Кто? — спросили мальчики.
Генка покраснел:
— Мишка Коровин, а больше никто, ей-богу никто.
— А это для кого? — Миша показал на шестой прибор.
— Это? Ах, это… Это на всякий случай, мало ли… вдруг кто-нибудь придет…
— На какие капиталы ты все это оборудовал? — спросил Миша.
Генка ухмыльнулся:
— Это уж дело хозяйское… — Он повернулся к Агриппине Тихоновне, но не успел остановить ее.
— Отец прислал, — сказала Агриппина Тихоновна. — Я говорю: тебе, Геннадий, этих продуктов на месяц хватит, а он и слушать не хочет — давай на стол, и дело с концом. Весь в отца! — добавила она не то с осуждением, не то с восхищением.
— Даже конфеты прислал, — сказал Миша.
— Нет, — сказала Агриппина Тихоновна, — монпансье Геннадий сам купил: коньки-то он продал…
— Тетя! — закричал Генка. — Ведь я вас просил!..
— Чего уж там… — отмахнулась Агриппина Тихоновна. — Оно и лучше: валенок не напасешься.
— Если бы я знал, что ты ради фасона продал коньки, — сказал Миша, — то я бы к тебе в гости не пришел.
— Я и без коньков проживу, — мотнул головой Генка. — Подумаешь, «снегурочки»! Поступлю в фабзавуч — «норвежки» куплю. Ты ведь тоже свою коллекцию марок продал. А? Зачем?
— Нужно было, — уклончиво ответил Миша.
— Я знаю, — сказал Генка, — ты на кожаную куртку копишь. Хочешь на настоящего комсомольца походить.
— Может быть, — неопределенно ответил Миша. — Славка свои шахматы тоже продал.
— Да? — удивился Генка. — Костяные шахматы? Зачем?
— Надо было, — тоже уклончиво ответил Слава.
Раздалось три звонка.
— К нам, — сказала Агриппина Тихоновна и пошла открывать.
В комнату вошел Миша Коровин, одетый в форменное пальто и фуражку трудколониста. Он поздоровался с ребятами, разделся, вынул из кармана пачку папирос «Бокс» и закурил.
— Как дела? — спросил его Миша.
— Движутся помаленьку. Вчера на четвертый разряд сдал.
— Сколько ты теперь будешь получать?
— Рублей девяносто, — небрежно ответил Коровин, вытащил из кармана часы размером с хороший будильник, приложил их к уху и сказал: — Никак к мастеру не соберусь. Почистить надо.
— Покажи! — Генка взял в руки часы и тоже послушал. — Ход что надо.
— Ничего ход, — сказал Коровин, — пятнадцать камней. — Он спрятал часы в карман куртки. — Ячейку у нас организовали, комсомола. Я уж заявление подал.
Девяносто рублей в месяц и часы ребята с трудом, но выдержали, но это уже было свыше их сил. Они еще пионеры, только мечтают о комсомоле, а Коровин уже заявление подал.
— Нас тоже скоро в комсомол передают, — сказал Миша, — прямо из отряда. — При этом он искоса посмотрел на Генку и Славу.
Они важно молчали, как будто Миша действительно сказал правду.
— Знаете, кого к нам в колонию прислали? — спросил Коровин.
— Кого?
— Борьку-Жилу.
— Ну?
— Ага. За ножны-то отец его чуть не убил. Сбежал он тогда. Теперь у нас.
— И как он?
— Ничего, исправляется.
Снова раздалось три звонка. Агриппина Тихоновна пошла открывать. Генка стоял посреди комнаты, смущенный и молчаливый. Открылась дверь. В комнату вошла Зина Круглова… Вот оно что! Миша и Слава многозначительно переглянулись. Генка стоял, не двигаясь, затем, протянув руку к столу, пролепетал:
— Прошу…
Зина прыснула, все расхохотались. Тогда Генка оправился, стал в торжественную позу и объявил:
— Дорогие гости, принимаю поздравления и подарки! Прошу не толкаться и соблюдать очередь.
Зина смеялась без передышки. Такая уж она смешливая! Она подарила Генке клоуна, своими взлохмаченными волосами очень похожего на именинника.
— Замечательно! — сказал Генка. — Девочки, как всегда, отличаются аккуратностью. Чем порадуют меня мальчики?
— Ах да, — спохватился Миша, — чуть не забыл!
Он открыл свою сумку и вытащил оттуда пакет. Он с таким серьезным видом разворачивал его, что все молчали и напряженно следили за его руками. Миша разворачивал пакет медленно, не торопясь, и взволнованное молчание присутствующих, казалось, не доходило до него.
Когда остался один, последний лист и уже ясно обрисовывались контуры какого-то длинного предмета, Миша остановился и оглядел всех. Генка подался вперед. Миша развернул лист… В его руках блеснуло стальное лезвие конька… «Норвежка»!
Генка осторожно взял в руки конек. Сначала он молча его разглядывал, потом провел ногтем по лезвию, приложил к уху, щелкнул и наконец проговорил:
— Здорово… А где второй?
Миша развел руками:
— Только один… второго не достал.
У Генки вытянулось лицо.
— Ничего, — вздохнул Миша, — поездишь пока на одном, а там видно будет.
У Генки было такое жалкое выражение лица, что даже Зина и та не рассмеялась. А уж как смешно было представить себе Генку бегающим по катку на одном коньке!
Генка положил конек на табурет, глубоко вздохнул и упавшим голосом произнес:
— Ну что ж, прошу к столу.
— Погоди, — остановил его Слава, — у меня ведь тоже подарок есть. — Он засунул руку в портфель, долго шарил там и… вытащил второй конек.
— Разыграли! — взвизгнул Генка, потом замолчал, внимательно посмотрел на друзей и медленно произнес: — Значит… коллекция, шахматы, кожаная куртка…
— Ладно, — перебил его Миша, — обойдем для ясности.
Глава 68
Пушкино
Наконец пришел ответ из Петрограда.
«Здравствуйте, ребята! Ваше письмо попало ко мне. По карточкам Терентьевых много, но всё не те. Бывшая домовладелица Васильева, которую я специально посетила, сказала, что Терентьев с женой действительно проживали у нее до войны, а мамаша жила где-то под Москвой. Вот все, что я могла узнать. Насчет бюрократизма вы не правы. В Петрограде проживает несколько тысяч Терентьевых, и без точных данных адрес дать невозможно. С комсомольским приветом Куприянова».
— Вот, — сказал Миша. — Учитесь, как пользоваться достижениями науки и техники.
— Какая же тут техника? — спросил Генка.
— Почтовая связь разве не техника? Вот так действуют рассудительные люди, а безрассудные летят неизвестно куда…
Генка в ответ съязвил:
— Тебя она тоже здорово поддела с бюрократизмом. Здорово поддела…
— Ничего не здорово, — сказал Миша, — но не в этом дело. В воскресенье поедем в Пушкино и с собой возьмем лыжи.
— Зачем лыжи? — удивился Слава.
— Для конспирации.
…В ближайшее воскресенье друзья сошли на станции Пушкино. В руках у каждого были лыжи и палки.
Вдоль высокой деревянной платформы с покосившимся павильоном тянулись занесенные снегом ларьки. За ларьками во все стороны расходились широкие улицы в черной кайме палисадников. Они замыкали квадраты дачных участков, где протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застекленными верандами. Только голубые дымки над трубами оживляли пустынный поселок.
— По одной стороне туда, по другой — обратно, — сказал Миша. — Главное — не пропустить ни одной таблички.
— Целый год проищем, — сказал Слава. — Лучше в сельсовете спросить.
— Нельзя, — возразил Миша, — поселок маленький, это вызовет подозрения.
— Кого нам бояться! — сказал Генка. — Старушка сама обрадуется, когда мы клад найдем.
— Ты ее в глаза не видел, а рассуждаешь, — сказал Миша. — Поехали.
Они проискали целый день, но дома Терентьевой не нашли.
— Так ничего не выйдет, — сказал Слава, когда мальчики снова собрались на станции. — Половина домов без табличек. Нужно в сельсовете спросить.
— Я тебе уж сказал, что нельзя! — рассердился Миша. — Забыли, что Свиридов говорил? Дело очень щепетильное. В следующее воскресенье опять приедем и будем искать.
Мальчики сняли лыжи. Когда они подошли к кассе, их окликнули: «Здравствуйте, ребята!» Мальчики обернулись и увидели Елену и Игоря Буш, акробатов.
Лена приветливо улыбалась. Ее белокурые локоны падали из-под меховой шапочки на воротник пальто. Игорь, как всегда, смотрел серьезно и, пожимая ребятам руки, пробасил:
— Сколько лет, сколько зим!
— На лыжах катались? — спросила Лена. — Почему к нам не заехали?
— Мы не знали, что вы здесь живете, — сказал Миша.
— Да, мы здесь живем, у нас свой дом. Пойдемте к нам.
— Поздно, — сказал Миша, — мы приедем в следующее воскресенье.
— Обязательно приедем, — подтвердил Генка и таинственно добавил: — У нас тут дело есть.
— Какое дело? — спросила Лена.
— Так, ерунда… — Миша свирепо посмотрел на Генку.
— Нет, скажите, — настаивала Лена.
— Я тетку свою разыскиваю, — сказал вдруг Генка.
Лена удивилась:
— Она ведь в Москве, твоя тетка?
— То одна тетка, а это другая. Разве мне запрещено иметь двух теток?
— И вы ее не нашли?
— Нет, адрес потеряли.
— Как ее фамилия?
Мальчики молчали.
— Как ее фамилия? Или вы фамилию тоже потеряли?
— Ее фамилия Терентьева, а зовут Мария Гавриловна, — неожиданно сказал Миша. — Вы не знаете ее?
— Терентьева, Мария Гавриловна? Знаю, — сказала Лена, — она живет рядом с нами. Пойдемте, мы вам покажем…
Глава 69
Никитский
— Имейте в виду, — говорил по дороге Миша, — тетке нельзя говорить, что Генка ее ищет.
— Почему?
— Это длинная история. Она думает, что Генка умер, и ее нужно сначала приготовить. Если ей так прямо и бухнуть, то у нее от радости может разрыв сердца случиться. Здоровье у нее очень хрупкое, тем более такой «племянничек», сами видите…
— Мы с ней почти незнакомы, — сказала Лена. — Она живет очень замкнуто.
— Вообще, — продолжал Миша, — абсолютно никому не говорите. И папе своему не говорите…
— Папа умер, — сказала Лена.
Миша смутился:
— Извини, я не знал. — И, помолчав, спросил: — Как же вы теперь?
— Одни живем. Работаем с Игорем «2 БУШ 2, воздушный аттракцион».
Они подошли к домику Бушей.
— Вот здесь она живет. — Лена показала на соседний дом.
Из-за высокого забора виднелась только крыша, покрытая на краях ноздреватой коркой снега.
— Как эта улица называется? — спросил Миша.
— Ямская слобода, — сказал Игорь. — Наш номер восемнадцать, а Терентьевых — двадцать.
— Хорошо ты искал! — Миша с упреком посмотрел на Генку.
— Не понимаю, — бормотал Генка, отводя глаза, — как это я пропустил…
— На этой стороне даже нет лыжных следов, — заметил Слава.
— Как — нет? — бормотал Генка, рассматривая дорожку. — Куда они делись?.. Стерлись! Ну конечно, стерлись. Видите, движение какое! — Он показал на пустынную улицу.
— Зайдемте к нам, — предложила Лена. — Мы, правда, три дня дома не были, но сейчас затопим, и будет тепло-тепло.
Домик был маленький и тихий. Пушистый иней лежал на окнах. Равномерно тикали на стене часы. Чуть скрипели под ногами половицы. Пестрые дорожки лежали на чисто вымытом полу. Большая керосиновая лампа висела над столом, покрытым цветастой клеенкой. На стене в рамах висели большие портреты мужчины и женщины. У мужчины были густые нафабренные усы, аккуратный пробор на голове, бритый подбородок упирался в накрахмаленный воротничок с отогнутыми углами. «Точно так же, — вдруг подумал Миша, — как на дедушкином портрете там, в Ревске».
Лена переоделась в старое пальтишко, обула валенки и повязала голову платком. Она выглядела теперь деревенской девочкой с большими синими глазами и прямым носиком.
— Пошли за дровами, — сказала она Игорю.
— Мы принесем! — закричали мальчики. — Покажите где.
Всей гурьбой вышли во двор. Лена отперла сарай. Миша и Генка начали колоть дрова. Слава и Игорь носили их в дом. Лена, позвякивая ведрами, ушла за водой.
Генка вошел в азарт.
— Мы их все переколем, — бормотал он, замахиваясь топором. — Зачем вам каждый раз возиться…
Полено никак не поддавалось.
— Брось ты его, — сказал Миша, — возьми другое.
— Нет, — Генка раскраснелся, буденовка его сдвинулась на самую макушку, — полено упрямое, но и я тоже…
Вскоре обе печи в доме запылали ярким пламенем. Ребята уселись вокруг печи в маленькой кухне: Лена и Слава на стульях, а остальные — на полу.
— Вот так и живем, как видите, — сказала Лена. — Приезжаем сюда только в свободные дни, когда не выступаем.
— Нужно переехать в Москву, — пробасил Игорь.
— А мне жалко, — сказала Лена, — здесь папа и мама жили…
Пламя в трубе протяжно завывало, огненные пятна заплясали на полу.
— Мы здесь всю неделю будем, — сказала Лена. — Приезжайте к нам в гости.
— Не знаю, — сказал Миша, — на этой неделе мы будем очень заняты. Завтра на сборе отряда решается вопрос о передаче в комсомол. Если нас передадут, то нужно пройти бюро ячейки, ячейку, райком.
— Вы уже комсомольцами будете? — удивилась Лена.
— Да. — Миша помолчал, потом спросил: — Скажи, у вас есть чердак?
— Есть.
— Из него виден двор Терентьевых?
— Виден. Зачем тебе?
— Хочу посмотреть.
— Пойдем, покажу.
Миша и Лена вышли в холодные сени и по крутой лестнице поднялись на чердак.
— Дай руку, — сказала Лена, — а то упадешь.
Они перелезли через стропила и подошли к слуховому окну.
Поселок лежал большими квадратами кварталов; за ним темнел лес, разрезанный надвое дальней железнодорожной колеей.
От домов, сараев, заборов повсюду чернели на снегу длинные тени. Телеграфные провода струились от столба к столбу, фарфоровые ролики комочками ютились на перекладинах. Было светло почти как днем.
Лена стояла рядом с Мишей. Лицо ее, освещенное луной, казалось совсем прозрачным, только чернели на нем тонкие брови и длинные, загнутые вверх ресницы. Она держала Мишу за руку, и оба они молчали… Миша посмотрел на соседний терентьевский двор. Он был большой и пустой. Вдоль забора тянулись постройки и лежали сваленные бревна.
Завыл где-то гудок паровоза и сразу оборвался.
Миша смотрел на терентьевский двор и вдруг увидел, что дверь дома открылась. На заднее крыльцо вышел высокий человек в накинутом на плечи полушубке. Он стоял спиной к Мише и курил. Потом он бросил окурок в снег и медленно повернулся. Миша изо всех сил сжал руку Лены.
Это был Никитский…
Глава 70
Отец
Домой ребята вернулись поздно вечером.
Мама сидела за столом и читала книгу. Она обернулась к Мише и молча укоризненно покачала головой.
— Понимаешь, мама, — быстро заговорил Миша, — встретили в Пушкине знакомых, вот и задержались. Я там и поужинал, так что ты не беспокойся. — Он заглянул через ее плечо в книгу. — Ты что читаешь? А… «Анна Каренина»…
Она почувствовала в его голосе равнодушие и спросила:
— Тебе не нравится?
— Не особенно. Я больше «Войну и мир» люблю. — Миша сел на кровать и начал раздеваться.
— Почему?
— Почему? В «Войне и мире» герои все серьезные: Болконский, Безухов, Ростов… А здесь не поймешь, что это за люди. Стива этот — бездельник какой-то. Ему сорок лет, а он из себя все деточку строит.
— Не все герои легкомысленны, — возразила мама. — Например, Левин.
— Да, Левин, конечно, посерьезней. Да и то его ничего, кроме своего хозяйства, не интересует.
— Видишь ли, — мама медленно подбирала слова, — это были люди своего времени, своего общества…
— Я понимаю. — Миша уже лежал под одеялом, заложив руки под голову. — Это великосветское общество. Но и в «Войне и мире» тоже рисуется великосветское общество. А посмотри, какая разница. Там люди имеют какие-то цели, стремления, сознают свой долг перед обществом, а здесь не поймешь, для чего живут эти люди — например, Вронский, Стива. Вот скажи: ведь человек должен иметь какую-то цель в жизни?
— Конечно, должен, — сказала мама, — но, по-моему, каждый из героев «Анны Карениной» имеет цель. Правда, эти цели сугубо личные: например, личное счастье, жизнь с любимым человеком. Маленькие цели, но всё же цели.
Миша поднялся на локте:
— Какая же это цель, мама! Если так рассуждать, то каждый человек имеет цель. Выходит, у алкоголика тоже есть цель: каждый день пьянствовать. И у нэпмана: деньги копить. Я вовсе не о такой цели говорю.
— А о какой же?
— Ну, как бы тебе сказать… Цель должна быть возвышенной, понимаешь? Благородной.
— Всё же?
— Ну, например, мы вот на днях разговаривали с Константином Алексеевичем. Он сам рассказывал. Раньше он служил только из-за денег. Где больше платят, там и служит. Значит, у него цель не возвышенная. А если он сейчас работает круглые сутки и хочет восстановить фабрику, чтобы у нас в стране было много товаров, — значит, у него цель благородная. Может быть, я привел неудачный пример, но я так понимаю.
— Чем же он виноват? Ведь раньше он не мог ставить себе такой цели. Он работал у капиталиста, и, конечно, ничто, кроме жалованья, его не интересовало.
— Значит, он не должен был работать, — решительно ответил Миша. — Ведь папа не работал на капиталистов.
— Не совсем так, — мама качнула головою, — папе приходилось работать и у капиталистов.
— Это совсем другое дело. Он работал, чтобы заработать на существование. Но ведь не это было главным в его жизни. Ведь он был революционер. И отдал жизнь за революцию. Значит, у него была в жизни самая возвышенная, самая благородная цель.
Они помолчали.
— Знаешь, мама, — сказал Миша, — я себе очень хорошо представляю папу. Мне вот кажется, что он никогда ничего не боялся.
— Да, — сказала мама, — он был очень смелый человек.
— И потом, — продолжал Миша, — мне кажется, что он никогда не думал о себе, о своем благополучии, и самое высшее для него были интересы партии.
Они замолчали. Миша знал, что маме тяжело вспоминать об отце, и он больше не задавал ей вопросов.
Потом мама закрыла книгу, потушила свет и тоже легла в постель, а Миша еще долго лежал с открытыми глазами, всматриваясь в лунные блики, скользившие по комнате.
Разговор с матерью взволновал его. Может быть, только сейчас, когда они говорили о цели в жизни, он впервые отчетливо почувствовал, что детство кончается и он вступает в жизнь.
И, думая о своем будущем, он не хотел никакой другой жизни, кроме такой, какую прожил отец и такие люди, как отец, — люди, отдавшие свою жизнь великому делу революции…
Глава 71
Генкина ошибка
О том, что он видел Никитского, Миша рассказал товарищу Свиридову. Свиридов велел ребятам ждать и в Пушкино больше не ездить.
Впрочем, другие заботы владели теперь нашими друзьями. Совет отряда постановил передать в комсомол группу пионеров, в их числе Мишу, Генку, Славу, Шуру Огуреева и Зину Круглову. Ячейка РКСМ уже их приняла, и они готовились к приемной комиссии райкома.
Миша очень волновался. Ему никак не верилось, что он станет комсомольцем. Неужели исполнится его самая сокровенная мечта? Он с тайной завистью поглядывал на комсомольцев, заполнявших коридоры и комнаты райкома. Какие веселые, непринужденные ребята! Интересно, что они испытывали, когда проходили приемную комиссию? Тоже, наверно, волновались. Но для них все это позади, а он, Миша, робко стоит перед большой, увешанной объявлениями дверью. За этой дверью заседает комиссия, и там скоро решится его судьба.
Первым вызвали Генку.
— Ну что? — кинулись к нему ребята, когда он вышел из комнаты.
— Все в порядке! — Генка молодецки сдвинул свою буденовку набок. — Ответил на все вопросы.
Он перечислил заданные ему вопросы, в том числе: какой кандидатский стаж положен для учащихся.
— Я ответил, что шесть месяцев, — сказал Генка.
— Вот и неправильно, — сказал Миша. — Год.
— Нет, шесть месяцев! — настаивал Генка. — Я так ответил, и председатель сказал, что правильно.
— Как же так, — недоумевал Миша, — я сам читал устав.
Вызвали Мишу. Он вошел в большую комнату. За одним из столов заседала комиссия. Сбоку стола сидел Коля Севостьянов. Миша робко сел на стул и с волнением ждал вопросов.
Председатель, молоденький белобрысый паренек в косоворотке и кожаной куртке, торопливо прочел Мишину анкету, поминутно вставляя слово «так»: «Поляков — так, Михаил Григорьевич — так, учащийся — так…»
— Это наш актив, — улыбнулся Коля Севостьянов, — вожатый звена и член учкома.
— Ты своих не хвали, — отрезал председатель, — сами разберемся.
Миша ответил на все вопросы. Последним был вопрос о кандидатском стаже. Миша знал, что год, но Генка… И он нерешительно сказал:
— Шесть месяцев…
— Неправильно, — сказал председатель. — год. Ладно, иди…
Из райкома ребята поспешили к Свиридову, вызвавшему их на десять часов утра, и всю дорогу Миша и Слава ругали Генку. Слава тоже неправильно ответил.
— Теперь начинай все сначала, — говорил Миша. — Всех примут, а нас нет. Позор на всю школу!
— Зато у него большие успехи по конькам! — сказал Слава. — Целые дни на катке пропадает, даже газеты в руки не берет.
Подавленный всем случившимся, Генка молчал и только яростно дышал на замерзшее стекло трамвая. Однако молчание ему не помогало. Друзья продолжали его ругать и, самое обидное, говорили о нем в третьем лице, даже не обращались к нему.
— У нас все в порядке, — передразнил Миша Генку, — знай наших! Мы сами с усами, лаптем щи хлебаем.
— Шапками закидаем, — добавил Слава.
— Он все о кладе мечтает, — не унимался Миша, — все клад и клад. Какой кладовщик нашелся!..
— Он в миллионеры метит, — добавил Слава, но более мягко. Ему, видно, стало жаль удрученного Генку.
Они доехали до большого здания, где внизу их ожидал пропуск в комнату № 203, к товарищу Свиридову.
— Что же вы, друзья, опаздываете? — строго спросил Свиридов, когда они явились к нему.
— В райкоме задержались, на приемной комиссии, — ответил Миша.
— Ого! — Свиридов поднял брови. — Поздравляю молодых комсомольцев.
Мальчики сокрушенно вздохнули.
— Что вы? — спросил Свиридов и внимательно посмотрел на них. — Что случилось?
— Провалились, — глядя в сторону, сказал Миша.
— Провалились? — удивился Свиридов. — На чем?
— На вопросе о кандидатском стаже.
— Это я виноват, — угрюмо произнес Генка.
— А на остальные вопросы как вы ответили?
— Как будто правильно.
— Что ж вы горюете? — рассмеялся Свиридов. — Из-за одного неправильного ответа вам не откажут. Кто хочет и достоин быть комсомольцем, тот им будет. Так что не огорчайтесь… А теперь, ребята, приступим к делу. Слушайте меня внимательно. Никитский упорно именует себя Сергеем Ивановичем Никольским. При этом он ссылается на ряд свидетелей, в том числе и на Филина. — Свиридов усмехнулся. — Хотя после пропажи ножен они все передрались: Филин сваливает на филателиста, филателист — на Филина. Между прочим, — он внимательно посмотрел на ребят, — свой склад они заблаговременно ликвидировали: видимо, их кто-то спугнул.
Мальчики покраснели и молча уставились в пол.
— Да, — едва заметно улыбнувшись, повторил Свиридов, — кто-то их спугнул. А сейчас будет очная ставка между каждым из вас и Никитским. Вы должны рассказать все, что знаете. На все вопросы отвечайте честно, так, как оно есть на самом деле, ничего не выдумывая. Теперь идите в соседнюю комнату и ждите. Когда надо будет, вас вызовут. Да, еще… — Свиридов вынул из ящика кортик и протянул его Мише: — Когда я спрошу, из-за чего Никитский убил Терентьева, то ты, Поляков, предъявишь кортик.
Глава 72
Очная ставка
Сначала вызвали Славу, за ним Генку и наконец Мишу.
Когда Миша вошел в комнату, за столом, кроме Свиридова, сидел еще один пожилой человек, в флотской форме, с трубкой во рту. Генка и Слава чинно сидели у стены, держа на коленях свои шапки.
У дверей, с винтовкой в руках, стоял часовой. В середине комнаты, против стола Свиридова, сидел на стуле Никитский.
Одетый в защитный френч, синие галифе и сапоги, он сидел в небрежной позе, положив ногу на ногу. Его черные волосы были аккуратно зачесаны назад.
Блестящие солнечные блики двигались по комнате.
Когда Миша вошел, Никитский бросил на него быстрый колючий взгляд. Но здесь был не Ревск и не будка обходчика. Миша смотрел прямо на Никитского. Он смотрел на Никитского и видел Полевого, избитого и окровавленного, разобранные рельсы и зеленое поле, по которому бегали кони, потерявшие всадников.
— Вы знаете этого человека? — спросил Свиридов и указал на Никитского.
— Знаю.
— Кто он такой?
— Никитский Валерий Сигизмундович, — твердо ответил Миша, продолжая смотреть на Никитского.
Никитский сидел не шевелясь.
— Расскажите подробно, откуда вы его знаете, — сказал Свиридов.
Миша рассказал о налете на Ревск, о нападении на эшелон, о складе Филина.
— Что вы на это скажете, гражданин Никитский? — спросил Свиридов.
— Я уже сказал, — спокойно ответил Никитский, — у вас есть более авторитетные показания, нежели измышления этого ребенка.
— Вы продолжаете утверждать, что вы Сергей Иванович Никольский?
— Да.
— И вы проживали в доме Марии Гавриловны Терентьевой как бывший подчиненный ее сына, Владимира Владимировича Терентьева?
— Да. Она может это подтвердить.
— Вы продолжаете утверждать, что Владимир Владимирович Терентьев погиб при взрыве линкора?
— Да. Это всем известно. Я пытался его спасти, но безуспешно. Меня самого подобрал катер.
— Значит, вы пытались его спасти?
— Да.
— Хорошо… Теперь вы, Поляков, скажите… — Свиридов помедлил и, не отрывая пристального взгляда от Никитского, спросил: — Не знаете ли вы, кто застрелил Терентьева?
— Он! — решительно ответил Миша и показал на Никитского.
Никитский сидел по-прежнему не шевелясь.
— Мне Полевой рассказывал, он сам видел.
— Что вы на это скажете? — обратился Свиридов к Никитскому.
Никитский криво усмехнулся:
— Это такая нелепость… И после этого живу в доме его матери! Если вы склонны верить таким бредням…
— Поляков! Какие у вас есть доказательства?
Миша вынул кортик и положил его перед Свиридовым. Никитский не отрываясь смотрел на кортик.
Свиридов вынул из ножен клинок, выдернул рукоятку и вытянул пластинку. Потом не торопясь снова собрал кортик. Никитский неотступно следил за его руками.
— Ну-с, гражданин Никитский, знаком вам этот предмет?
Никитский тяжело откинулся на спинку стула:
— Я впервые его вижу.
— Продолжаете упорствовать, — спокойно сказал Свиридов и положил кортик под бумаги. — Пойдем дальше… Введите свидетельницу Марию Гавриловну Терентьеву, — приказал он часовому.
В комнату медленно вошла высокая пожилая женщина в черном пальто и черном платке, из-под которого выбивались седые волосы.
— Пожалуйста, садитесь. — Свиридов указал на стул.
Она села на стул и устало закрыла глаза.
— Гражданка Терентьева, назовите имя этого человека, — сказал Свиридов.
— Сергей Иванович Никольский, — не поднимая глаз, тихо произнесла Терентьева.
— Где, когда и при каких обстоятельствах вы с ним познакомились?
— Во время войны он приезжал ко мне с письмом от сына.
— Как звали вашего сына?
— Владимир Владимирович.
— Где он?
— Погиб.
— Когда?
— Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года при взрыве линкора «Императрица Мария».
— Вы уверены, что он погиб именно при взрыве?
— Конечно, — она подняла глаза и с недоумением посмотрела на Свиридова, — конечно. Я получила извещение.
— Вам прислали его вещи?
— Нет. Разве их могли прислать? Кто мог спасти его вещи?
— Значит, все вещи вашего сына пропали?
— Я думаю.
— Подойдите к столу.
Терентьева тяжело поднялась и медленно подошла к столу.
Свиридов вынул из-под бумаг кортик и протянул его Терентьевой.
— Вы узнаете кортик вашего сына? — жестко спросил он.
— Да… — произнесла Терентьева, разглядывая кортик. — Да… — Она растерянно посмотрела на Никитского, он сидел не шевелясь. — Да… это наш… это его кортик… Владимира…
— Вас не удивляет, что все вещи вашего сына погибли, а кортик остался цел?
Терентьева ничего не отвечала. Пальцы ее дрожали на краю стола.
— Вы молчите, — сказал Свиридов. — Тогда ответьте мне… я вас спрашиваю в последний раз: кто этот человек? — Он указал на Никитского.
— Никольский, — едва слышно произнесла Терентьева.
— Так вот, — Свиридов встал и протянул руку по направлению к Никитскому, — он убийца вашего сына!
Терентьева покачнулась, дрожащие ее пальцы впились в край стола.
— Что… — задыхаясь, прошептала она, — что вы сказали?
Не глядя на нее, Свиридов сухим, официальным голосом прочитал:
— «Седьмого октября тысяча девятьсот шестнадцатого года лейтенант Никитский выстрелом из пистолета убил капитана второго ранга Терентьева Владимира Владимировича… Целью убийства было похищение кортика».
В комнате стало совсем тихо. Часовой переступил с ноги на ногу, приклад винтовки чуть слышно стукнул о ковер. Никитский сидел не шевелясь, устремив взгляд на носок своего сапога. Терентьева стояла неподвижно. Она смотрела на Никитского, и ее длинные, сухие пальцы сжимали краешек стола.
— Валерий… — прошептала она, — Валерий…
Ее помертвевшее лицо белым пятном разрезало синеву комнаты. Свиридов и моряк бросились ее поднимать.
Глава 73
Семья Терентьевых
По Ярославскому шоссе мчалась большая легковая машина. В ней сидели Свиридов, моряк, Терентьева и мальчики. За широкими обочинами шоссе мелькали маленькие домики московских пригородов, мачты высоковольтной передачи, стальная излучина Окружной железной дороги. Потом потянулись сосновые леса, кюветы с серым, рыхлым снегом, подмосковные деревни.
— Этот кортик, — рассказывала Мария Гавриловна, — принадлежал Поликарпу Терентьеву, известному оружейнику, жившему сто пятьдесят лет назад. По преданию, он вывез его с Востока во время одного из своих походов.
Миша толкнул ребят и многозначительно поднял палец.
— При Елизавете Петровне, — продолжала Мария Гавриловна, — Поликарп Терентьев попал в опалу, претерпел ряд злоключений и удалился в свое поместье, где устроил в доме тайник. Вероятно, его принудили к этому обстоятельства того тревожного времени, а может быть, страсть к механике, которой отличался старик. В доме до сих пор сохранились сделанные им вещи: шкатулка с секретами, особенные блоки, подъемники, даже часы собственной конструкции. Самым сильным его увлечением было водолазное дело. Но все его проекты водолазного прибора и подъема какого-то затонувшего корабля были для того времени, конечно, фантастическими. Между прочим, водолазное и судоподъемное дело стало традиционным в нашей фамилии. Этим занимались сын и внук Поликарпа Терентьева и мой сын Владимир. Многие из них участвовали в экспедициях. Дед Владимира несколько лет пробыл даже на острове Цейлон, всё какой-то корабль поднимали, да так и не подняли. А отец Владимира собирал материал о «Черном принце». Но все эти работы были окружены тайной, ставшей в семье традиционной.
— Интересно! — сказал Свиридов.
— Особенность тайника, — продолжала Мария Гавриловна, — заключалась в том, что о нем знал только один человек в доме — глава семьи. Мы, женщины, этим не интересовались. Шифр, указывающий местонахождение тайника, старик заделал в кортик. Мой сын Владимир был последним представителем рода Терентьевых. Он получил кортик от моего мужа в декабре пятнадцатого года. Владимир специально приезжал в Пушкино. Тогда-то и произошла ссора его с женой Ксенией. Она требовала, чтобы он оставил ей кортик и показал тайник. Большую роль в этой ссоре сыграл брат Ксении, Валерий Никитский. Возможно, он был уверен, что в тайнике хранились ценности. Он, конечно, ошибался. Если бы это было так, то Владимир, уезжая на войну, несомненно оставил бы мне кортик.
Миша и Слава ехидно посмотрели на Генку.
— В прошлом году, — продолжала свой рассказ Мария Гавриловна, — приехал Валерий. Он уверил меня, что в тайнике хранятся компрометирующие Владимира документы. Он говорил, что Владимир умер у него на руках и перед смертью будто бы просил эти документы уничтожить и тем спасти его честь. Для этой цели Валерий якобы остался в России и вынужден скрываться…
Машина въехала в Пушкино и остановилась возле дома Терентьевой.
Дом был каменный, старинной постройки, с колоннами на фасаде. Многочисленные дворовые постройки были запущены, частью разрушены, но дом сохранился. Нетронутый снег на правой стороне участка и замерзшие окна показывали, что под жилье используется только левая его половина.
В столовой, куда все вошли, стоял длинный обеденный стол на круглых резных ножках. Один угол скатерти был откинут. На клеенке лежали три кучки гречневой крупы: ее, видимо, перебирали.
— Часов в доме много, — сказала Мария Гавриловна, — но какие из них, я не знаю.
— Вероятней всего, те, о которых вы упоминали, — сказал Свиридов.
— Тогда пройдем в кабинет.
В кабинете, в глубокой нише, стояли высокие часы в деревянном футляре. За стеклом желтел циферблат. В нем рядом с отверстием для завода часов виднелась едва приметная узкая щель. Свиридов открыл дверцу часов. Маятник криво качнулся и звякнул.
Свиридов перевел стрелки на двенадцать часов без одной минуты, вставил в щель змейку кортика и, осторожно поворачивая ее вправо, завел часы.
Все присутствующие напряженно ожидали. Генка стоял, широко раскрыв рот.
Минутная стрелка дрогнула, подвинулась — открылась дверца над циферблатом, оттуда выскочила кукушка. Она двенадцать раз прокуковала, потом часы захрипели, кукушка дернулась вперед, вслед за ней дернулась вся башня часов, открывая верхнюю часть футляра. Футляр был с двойными стенками. Хитроумие тайника заключалось в том, что снаружи башня часов и футляр казались неотделимыми, сделанными из цельного куска дерева. Только после завода часов змейкой внутренняя пружина поднимала башню и открывала тайник, представлявший собой глубокий квадратный ящик, наполненный бумагами.
Здесь лежали свернутые трубкой и обвязанные ниткой чертежи с примятыми, обтрепанными краями, папки, туго набитые пожелтевшими от времени листками бумаги, тетради, большой блокнот в сафьяновом переплете.
Свиридов и моряк осторожно вынули все эти документы, разложили на столе и начали их внимательно рассматривать, изредка перебрасываясь короткими фразами. Мальчики жались к столу, тоже пытаясь что-нибудь увидеть.
— Все разложено по морям, — говорил моряк. — Вот даже Индийский океан. — Он прочитал на обложке одной папки: — «Английский корабль «Гросвенор». Затонул в 1782 году у острова Цейлон. Груз: золото и драгоценные камни». «Бриг «Бетси»…»
— Давайте-ка лучше свои моря поглядим, — перебил его Свиридов.
— Так. — Моряк перебрал папки и развязал одну из них. — Черное море. Вот оглавление: «Трапезунд», корабль крымского хана Девлет-Гирея… «Черный принц» — затонул двадцать четвертого ноября 1854 года в Балаклавской бухте, разбившись во время шторма о прибрежные скалы, груз — пять миллионов рублей золотом…» Да тут целый список! — Он перелистал бумаги, покачал головой. — Какие сведения! Точные координаты места гибели, показания очевидцев, огромный справочный материал…
— Крепко! — весело сказал Свиридов. — Для нашей новой организации «Судоподъем» все это пригодится.
— Да, — подтвердил моряк, — материал неоценимый.
Глава 74
Вступление
Машина мчалась по Ярославскому шоссе в направлении Москвы. На заднем сиденье развалились Миша, Генка и Слава. Свиридов и моряк остались у Терентьевой, а ребят отправили, потому что они торопились в школу на торжественное заседание, посвященное пятилетию Красной Армии.
Генка откинулся на мягкую спинку и сказал:
— Люблю на легковых машинах ездить!
— Привычка, — заметил Миша.
— Все ж таки он вредный старикашка, — снова сказал Генка.
— Кто?
— Поликарп Терентьев.
— Почему?
— Не мог в тайник немного наличными подбросить…
— Вот-вот, — засмеялся Миша, — ты еще о нитках поговори…
— При чем тут нитки! Думаешь, я тогда не знал, что у них в складе оружие? Отлично знал. Только я нарочно о нитках говорил… для конспирации. Честное слово, для конспирации. А про Никитского я сразу понял, что это шпион. Вот увидите: в конце концов он признается, что взорвал «Императрицу Марию».
— А здорово, — сказал Миша, — Никитский еще в Пушкине прятался, а Свиридов уже все знал, так что все равно бы он на границе попался.
— Миша, — сказал Слава, — а письмо?
— Ах да! — спохватился Миша.
Он вынул из кармана письмо, которое только что вручил им Свиридов. На конверте крупным, четким почерком было написано: «Михаилу Полякову и Геннадию Петрову. Лично».
— Видал? — Генка ехидно посмотрел на Славу. — Тебя здесь и в помине нет…
Миша вскрыл письмо и вслух прочел:
«Здравствуйте, дорогие ребята Миша и Генка!
Угадайте-ка, от кого это письмо. Угадали? Ну конечно. Угадали. Правильно! Это я, он самый. Полевой, Сергей Иванович. Ну, как же они, пироги-то, Михаил Григорьевич? Хороши? А?
Товарищ Свиридов написал мне о ваших делах. Молодцы! Вот уж никогда не думал, что вы с Никитским справитесь! Так что мне даже немного стыдно, что он тогда, в Ревске, бока мне намял.
Кортик дарю вам на память. Вырастете большие, посмотрите на кортик и вспомните свою молодость.
О себе могу сообщить, что опять служу на флоте. Только работаю сейчас на новом деле. Поднимаем со дна корабли, ремонтируем их и пускаем плавать по морям-океанам…
На этом кончаю.
Желаю вам вырасти настоящими большевиками, верными сынами нашей великой революции.
С коммунистическим приветом
Полевой».…Машина въехала в город. Сквозь ветровое стекло виднелась Сухарева башня.
— Опоздали мы на собрание, — сказал Миша.
— Может быть, вовсе не идти? — предложил Слава. — Очень интересно смотреть, как другим будут комсомольские билеты вручать.
— Именно поэтому мы и должны прийти на собрание, — сказал Миша, — а то еще больше засмеют.
— Приехали, — объявил шофер.
Мальчики вылезли из машины и вошли в школу. Собрание уже началось. На лестнице было тихо и пусто, только тетя Броша сидела у раздевалки и вязала чулок.
— Не велено пускать, — сказала она, — чтобы не опаздывали.
— Ну, Брошечка, — попросил Миша, — ради праздника.
— Разве уж ради праздника, — сказала тетя Броша и приняла их одежду.
Мальчики поднялись по лестнице, тихо вошли в переполненный ребятами зал и стали у дверей.
В глубине зала виднелся стол президиума, стоявший на возвышении и покрытый красной материей.
На стене, над широкими окнами, висело красное полотнище с лозунгом: «Пусть господствующие классы дрожат перед коммунистической революцией. Пролетариям нечего в ней терять, кроме своих цепей, приобретут же они целый мир». Миша едва разобрал эти слова. Бесцветный диск февральского солнца блестел в окнах нестерпимым блеском, яркие его лучи кололи глаза.
Коля Севостьянов кончал доклад. Он закрыл блокнот и сказал:
— Товарищи! Этот день для нас тем более торжествен, что сегодня решением бюро Хамовнического районного комитета РКСМ принята в комсомол первая группа лучших пионеров нашего отряда, а именно…
Приятели покраснели. Генка и Слава стояли потупившись, а Миша не отрываясь, до боли в глазах, смотрел через окно на солнце, и весь горизонт казался ему покрытым тысячью маленьких блестящих дисков.
— …а именно, — продолжал Коля и снова открыл блокнот: — Воронина Маргарита, Круглова Зинаида, Огуреев Александр, Эльдаров Святослав, Поляков Михаил, Петров Геннадий…
Что такое? Не ослышались ли они? Приятели посмотрели друг на друга, и… Генка в порыве восторга стукнул Славу по спине. Слава хотел дать ему сдачи, но сидевшая неподалеку Александра Сергеевна угрожающе подняла палец, и Слава ограничился тем, что толкнул Генку ногой.
Потом все встали и запели «Интернационал». Миша выводил его звонким, неожиданно дрогнувшим голосом.
Блестящий диск за окном разгорался все ярче и ярче. Сияние его ширилось и охватывало весь горизонт с очертаниями домов, крыш, колоколен, кремлевских башен.
Миша все смотрел на этот диск. И перед глазами его стояли эшелон, красноармейцы, Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар.
Книга II БРОНЗОВАЯ ПТИЦА
Друзья отправляются в пионерский лагерь под Москву. Это совершенно особенное место: бывшая дворянская усадьба, в которой до сих пор живет старая дама, по слухам — сама графиня. Но самое интересное в том, что где-то рядом с усадьбой спрятан клад. Путь к нему должна указать бронзовая птица — старинная скульптура, установленная в усадьбе.
Но как? Ответ будут искать пионеры.
Часть I Беглецы
Глава 1
Чрезвычайное происшествие
Генка и Славка сидели на берегу Утчи.
Штаны у Генки были закатаны выше колен, рукава полосатой тельняшки — выше локтей, рыжие волосы торчали в разные стороны. Он презрительно посматривал на крохотную будку лодочной станции и, болтая ногами в воде, говорил:
— Подумаешь, станция! Прицепили на курятник спасательный круг и вообразили, что станция!
Славка молчал. Его бледное, едва тронутое розоватым загаром лицо было задумчиво. Меланхолически жуя травинку, он размышлял о некоторых горестных происшествиях лагерной жизни…
И надо было всему случиться именно тогда, когда он, Славка, остался в лагере за старшего! Правда, вместе с Генкой. Но ведь Генке на все наплевать. Вот и сейчас он как ни в чем не бывало сидит и болтает ногами в воде.
Генка действительно болтал ногами и рассуждал про лодочную станцию:
— Станция! Три разбитые лоханки! Терпеть не могу, когда люди из себя что-то выстраивают! И нечего фасонить! Написали бы просто: «прокат лодок» — скромно, хорошо, по существу. А то «станция»!
— Не знаю, что мы Коле скажем, — вздохнул Славка.
— При чем тут мы? А если он будет выговаривать, то я ему прямо скажу: «Коля! Надо быть объективным. Никто тут не виноват. И вообще, в жизни без происшествий не бывает». — И он с философским видом добавил: — Да без них и жизнь была бы неинтересной.
— Без кого — без них?
— Без происшествий.
Вглядываясь в дорогу, идущую к железнодорожной станции, Славка сказал:
— Ты лишен чувства ответственности.
Генка презрительно покрутил в воздухе рукой:
— «Чувство», «ответственность»!.. Красивые слова… Фразеология… Каждый отвечает за себя. А я еще в Москве предупреждал: «Не надо брать в лагерь пионеров». Ведь предупреждал, правда? Не послушались.
— Нечего с тобой говорить, — равнодушно ответил Славка.
Некоторое время они сидели молча, Генка — болтая ногами в воде, Славка — жуя травинку.
Июльское солнце пекло неимоверно. В траве неутомимо стрекотал кузнечик. Речка, узкая и глубокая, прикрытая нависшими с берегов кустами, извивалась меж полей, прижималась к подножиям холмов, осторожно обходила деревни и пряталась в лесах, тихая, темная, студеная…
Из приютившейся под горой деревни ветер доносил отдаленные звуки сельской улицы. Но сама деревня казалась на этом расстоянии беспорядочным нагромождением железных, деревянных, соломенных крыш, утопающих в зелени садов. И только возле реки, у съезда к парому, чернела густая паутинка тропинок.
Славка продолжал вглядываться в дорогу. Поезд из Москвы уже, наверно, пришел. Значит, сейчас Коля Севостьянов и Миша Поляков будут здесь… Славка вздохнул.
Генка усмехнулся:
— Вздыхаешь? Типично интеллигентские охи-вздохи!.. Эх, Славка, Славка! Сколько раз я тебе говорил…
Славка встал, приставил ладонь козырьком ко лбу:
— Идут!
Генка перестал болтать ногами и вылез на берег.
— Где? Гм!. Действительно, идут. Впереди — Миша. За ним… Нет, не Коля… Мальчишка какой-то… Коровин! Честное слово, Коровин, беспризорник бывший! И мешки тащат на плечах…
— Книги, наверно…
Мальчики вглядывались в маленькие фигурки, двигавшиеся по узкой полевой тропинке. И, хотя они были еще далеко, Генка зашептал:
— Только имей в виду, Славка, я сам объясню. Ты в разговор не вмешивайся, а то все испортишь. А я, будь здоров, я сумею… Тем более — Коля не приехал. А Миша что? Подумаешь! Помощник вожатого…
Но как ни храбрился Генка, ему стало не по себе. Предстояло неприятное объяснение.
Глава 2
Неприятное объяснение
Миша и Коровин опустили на землю мешки.
— Почему вы здесь? — спросил Миша.
Он был в синей кепке и кожаной куртке, которую не снимал даже летом — ведь в ней он выглядел заправским комсомольским активистом.
— Так просто. — Генка ощупал мешки: — Книги?
— Книги.
— А где Коля?
— Коля больше не приедет. Его мобилизовали во флот…
— Вот оно что… — протянул Генка. — А кого пришлют вместо него?
Миша медлил с ответом. Он снял кепку и пригладил свои черные волосы, которые частым смачиванием превратил из курчавых в гладкие.
— Кого же пришлют? — переспросил Генка.
Миша медлил с ответом потому, что вожатым отряда назначили его самого. И он не знал, как сообщить эту новость ребятам, чтобы они не подумали, что он задается, но и чтобы сразу признали его вожатым… Сложная задача — командовать товарищами, с которыми сидишь на одной парте. Но по дороге Миша придумал два спасительных словечка. Скромно, с подчеркнутым безразличием он сказал:
— Пока меня назначили.
«Пока» и было первым спасительным словом. Действительно, кто должен временно заменить вожатого, как не его помощник?
Но скромное и учтивое «пока» не произвело ожидаемого действия. Генка вытаращил глаза:
— Тебя? Но какой же авторитет мы будем иметь в деревне? Колю все уважали… И старики.
Тогда Миша произнес второе спасительное слово:
— Я отказывался, но райком утвердил. — И, почувствовав за собой авторитет райкома, строго спросил: — Как же вы бросили лагерь?
— Там Зина Круглова осталась, — поспешно ответил Генка.
Вот что значит спросить построже… А Славка и вовсе каким-то извиняющимся тоном начал:
— Видишь ли, Миша…
Но Генка перебил его:
— Ну как, Коровин, в гости к нам приехал?
— По делу, — ответил Коровин и шумно втянул носом воздух. Плотный, коренастый, он в форменной одежде трудколониста выглядел совсем толстым и неуклюжим. Лицо его лоснилось от пота, и он все время отмахивался от мух.
— Раздобрел ты на колонистских хлебах, — заметил Генка.
— Кормят подходяще, — ответил простодушный Коровин.
— А по какому делу ты приехал?
Миша объяснил, что детдом, в котором живет Коровин, превращается в трудовую коммуну. И разместится трудкоммуна здесь, в усадьбе. Завтра сюда приедет директор. А Коровина вперед послали. Узнать, что к чему.
Из скромности Миша умолчал о том, что это, собственно говоря, его идея. Вчера он встретил Коровина на улице и узнал от него, что детдом ищет под Москвой место для трудовой коммуны. Миша объявил, что знает такое место. Их лагерь размещен в бывшей помещичьей усадьбе Карагаево. Правда, это Рязанская губерния, но и от Москвы недалеко. Усадьба пуста. В огромном помещичьем доме никто не живет. Отличное место. Ничего лучшего для коммуны не придумаешь… Коровин рассказал об этом своему директору. Директор велел ему ехать с Мишей, а сам обещал приехать на другой день.
Вот как было на самом деле. Но Миша не рассказал этого, чтобы ребята не подумали, что он хвастается. Он им только сообщил, что здесь будет трудкоммуна.
— Фью! — засвистел Генка. — Так и пустит их графиня в усадьбу!
Коровин вопросительно посмотрел на Мишу:
— Кто такая?
Размахивая руками, Генка начал объяснять:
— В усадьбе раньше жил помещик, граф Карагаев. После революции он удрал за границу. Все с собой увез, а дом, конечно, оставил. И тут живет теперь одна старуха, родственница графа или приживалка. В общем, мы ее зовем графиней. Она охраняет усадьбу. И никого туда не пускает. И вас не пустит.
Коровин опять втянул носом воздух, но уже с некоторым оттенком обиды:
— Как — не пустит? Ведь усадьба государственная.
Миша поспешил его успокоить:
— Вот именно. Правда, у графини есть охранная грамота на дом как на историческую ценность. Не то царица Елизавета здесь жила, не то Екатерина Вторая. И графиня всем тычет в нос этой грамотой. Но ты сам пойми: если будут пустовать все дома, в которых веселились цари и царицы, то где, спрашивается, народ будет жить? — И, считая вопрос исчерпанным, Миша сказал: — Пошли, ребята! Мы с Коровиным от самой станции мешки тащили. Теперь понесете вы.
Генка с готовностью ухватился за мешок. Но Слава, не двигаясь с места, сказал:
— Видишь ли, Миша… Вчера Игорь и Сева…
— Ах да, — перебил его Генка, опуская мешок, — я только хотел сказать, а Славка вперед вылез. Всегда ты, Славка, вперед лезешь!
Потом он заканючил:
— Понимаешь, какое дело, Миша… Такое, понимаешь, дело… Как бы тебе сказать…
Миша рассердился:
— Что ты тянешь? Тянет, тянет… «Как бы», «что бы»!
— Сейчас, сейчас… Так вот… Игорь и Сева убежали.
— Куда убежали?
— Фашистов бить.
— Каких фашистов?
— Итальянских.
— Глупости ты болтаешь!
— Почитай сам.
Генка протянул Мише записку. Она была очень короткой: «Ребята, до свиданья, мы уезжаем бить фашистов. Игорь, Сева».
Миша прочитал записку раз, потом другой, пожал плечами:
— Чепуха какая-то!.. Когда это случилось?
Генка начал путано объяснять:
— Вчера, то есть сегодня. Вчера они легли спать вместе со всеми, а утром просыпаемся — их нет. Только вот эта записка. Мне, правда, они еще вчера показались очень подозрительными. Вздумали ботинки чистить! Никакого праздника нет, а они вдруг ботинки чистить… Смешно…
И он неестественно засмеялся, приглашая Мишу тоже посмеяться над тем, что Игорь и Сева вздумали чистить ботинки.
Но Мише было не до смеха.
— Где вы их искали?
— Всюду. И в лесу, и в деревне…
— Может, они с жиганами связались? — сказал Коровин. — У нас как кто убежит — значит, ищи жигана поблизости. Он подбил. И обязательно в Крым бегут. Сейчас все в Крым бегут.
Миша махнул рукой.
— Какие здесь жиганы! Просто эти вот помощнички всех распустили. — И он смерил Генку и Славку взглядом, исполненным глубочайшего презрения.
— При чем здесь мы? — в один голос закричали Генка и Славка.
— При том! Раньше не бегали, вот при чем!
Генка прижал руки к груди:
— Честное благородное слово…
— Не нужно твоего благородного слова! — оборвал его Миша. — Пошли в лагерь!
Генка и Славка взвалили на плечи мешки. Мальчики двинулись к лагерю.
Глава 3
Усадьба
Тропинка, по которой шли мальчики, вилась полями.
Генка болтал без умолку. Но разговаривать он умел, только размахивая руками. Мешок с книгами как-то незаметно, сам собой перекочевал обратно на плечи Коровина.
— Если вам даже удастся перебороть графиню, — разглагольствовал Генка, — то все равно организовать здесь коммуну, наладить хозяйство будет очень трудно. Прямо скажем — невозможно. В усадьбе ничего нет. Только один дом. Инвентаря никакого. Ни живого, ни мертвого. Ни бороны, ни сохи, ни плуга, ни телеги. И думаешь, все крестьянам досталось? Ничего подобного. Кулаки растащили. Честное слово! Тут, брат Коровин, такие кулаки, каких, может быть, больше нигде и нет. Ты себе представить не можешь, что они вытворяют.
— А что?
— Ах ты, чудак! Ведь мы сюда приехали, чтобы организовать пионерский отряд. А все против нас. Во-первых, кулаки. Во-вторых, религия. В-третьих, несознательность родителей: не пускают ребят в отряд. Даем спектакль — битком набито. Объявим после спектакля собрание — все разбегаются.
— Дело известное, — глубокомысленно заметил Коровин.
— Вот именно, — подхватил Генка. — А сами ребята деревенские… Сколько у них предрассудков! Только и рассуждают о леших и чертях. Поработай с ними!
— Трудно, значит?
— Нелегко, — сокрушенно подтвердил Генка. Но тут же хвастливо добавил: — Но мы ведь и потруднее дела делали. Раз должны организовать — значит, организуем. Вот книжечки им привезли, — он тронул рукой мешок, который за него тащил Коровин, — спектакли даем, в ликбезе работаем, ликвидируем неграмотность. Увидишь: мы здесь самые первые организуем пионерский отряд. Правда, Миша?
Миша ничего не ответил. Он молча шагал по дороге и думал о том, как неудачно начинается его работа в качестве вожатого отряда. В первый же день пропали два пионера. Куда они делись? Без денег, без продуктов они далеко не убегут. Но мало ли что может случиться с ними в дороге. Могут и в лесу заблудиться, и в реке утонуть, и под поезд попасть… Такая неприятность!
Поставить в известность их родителей или нет? Пожалуй, не стоит. Зачем зря волновать? Ведь все равно беглецы найдутся. А родители всех взбудоражат. Подымут на ноги всю Москву. Неприятностей не оберешься. В школе, в райкоме только и будут говорить об этом происшествии. А в деревне уже, наверно, сплетничают, что пионеры разбегаются и, значит, не надо отдавать ребят в отряд. Вот что наделали Игорь и Сева… Подорвали авторитет отряда. Отряд целый месяц работал в таких трудных условиях, и на тебе!
Эти мрачные размышления прервал Генкин выкрик:
— А вот и усадьба!
Мальчики остановились.
Перед ними, высоко на горе, в гуще деревьев, стоял двухэтажный помещичий дом. Казалось, что у него несколько крыш и много дымовых труб. Большая полукруглая веранда, огороженная барьером из белых каменных столбиков, разделяла дом на две равные части. Над верандой возвышался мезонин с двумя окнами по бокам и нишей посередине. К дому, пересекая сад, вела широкая аллея, вначале ровная, земляная, затем в виде отлогих каменных ступеней, постепенно образующих каменную лестницу, двумя крыльями огибающую веранду.
Генка прищелкнул языком:
— Красиво?
Коровин с шумом втянул воздух:
— Хозяйство — вот что важно.
— А хозяйства там никакого нет, — заверил его Генка.
Действительно, усадьба казалась заброшенной. Сад зарос. Скамейки вдоль аллей были сломаны, большая гипсовая ваза на клумбе разбита, пруд затянулся ядовито-зеленой тиной. Все было мертво, безжизненно, мрачно.
И только когда мальчики углубились в сад, звонкие ребячьи голоса нарушили эту угнетающую тишину…
За сломанной оградой на лужайке белели палатки. Это и был лагерь. Ребята бежали навстречу мальчикам. Впереди — Зина Круглова. На своих толстых, коротких ногах она бегала быстрее всех.
Глава 4
Отряд
Собственно говоря, здесь был не весь отряд, а только пятнадцать ребят, самых старших. Из них девять комсомольцев. Остальные будут вступать в комсомол этой осенью. Но называли они себя отрядом — а как же еще?
Три палатки стояли под деревьями по окружности лужайки. В середине высилась мачта с развевающимся в воздухе вымпелом. В стороне горел костер. На двух треногах лежала палка, порядком обгоревшая. Возле костра хлопотали дежурные, варили обед. Сильно пахло подгоревшим молоком.
— Все в порядке, — быстрой скороговоркой докладывала Зина, — письмо краснофлотцам отправили, занятия в ликбезе вчера провели. Пришло восемь человек вместо двенадцати. А насчет Игоря и Севы они, — Зина кивнула на Генку и Славку, — наверно, уже тебе рассказали.
При упоминании об Игоре и Севе ребята загалдели. Всех перекричал Борька Баранов. Он совсем не рос, и его по-прежнему звали Бяшкой. Но он стал ужасным борцом за правду. Ему казалось, что если бы не он, Бяшка, то в мире воцарились бы ложь и несправедливость. И он громче всех закричал:
— Они убежали из-за Генки!
— Что ты врешь, Бяшка несчастная! — возмутился Генка.
Но Миша велел Бяшке рассказывать.
Как всегда, когда он боролся за правду, Бяшка начал очень торжественно:
— Я расскажу всю правду. Мне незачем прибавлять и выдумывать.
— Ближе к делу, — поторопил его Миша: Бяшкино предисловие могло затянуться на добрых полчаса.
— Так вот, — продолжал Бяшка, — когда мы легли спать, то начали разговаривать. Это было после спектакля «Смерть фашизму». Игорь и Сева сказали, что надо не спектакли ставить, а фашистов громить, чтобы не убивали коммунистов. Тогда Генка начал над ними смеяться: «Поезжайте, поезжайте бить фашистов, а мы посмотрим». Игорь разозлился и сказал: «Захотим — и поедем». Тогда Генка говорит: «Захотите, захотите!» Такой был разговор. А утром Генка проснулся и спрашивает: «Вы еще здесь? А я думал, что вы убежали фашистов бить». И потом каждое утро Генка как проснется, так и спрашивает их: «Вы сколько сегодня фашистов побили?» Так их задразнил, что они в конце концов и убежали. Вот как было. А врать мне незачем. Я никогда не вру.
— Генка, это правда? — спросил Миша.
— Правда, правда! — закричали ребята из Генкиного звена.
— Он все время дразнится! — проворчал Филя Китов, по прозвищу «Кит». Как и раньше, он любил поесть, всегда жевал что-нибудь и еще больше растолстел.
— Генка, это правда?
Генка пожал плечами:
— Какое это имеет отношение? Верно. Я их немного подразнил. Но для чего? Для того, чтобы они эту чепуху выбросили из головы. А они, дурачки, взяли да убежали. Пошутить нельзя! Смешно, честное слово!
— Ах, смешно! — закричал Миша.
Не в силах сдержать свое возмущение, он вдруг сорвал с головы кепку, бросил ее на землю, повернулся вокруг себя один раз, потом другой и, застыв на месте, уставился на Генку.
Пораженный Генка ошалело вытаращил глаза. Все ребята, остолбенев, смотрели на Мишу.
Миша вспомнил, что он теперь вожатый отряда и должен сдерживать себя. Он поднял кепку, натянул ее на голову.
— Ладно! Мы их сначала найдем, а потом разберемся, кто виноват. Быстро обедайте, и начнем искать.
Генка сразу оживился:
— Правильно! Мы их враз найдем. Вот увидишь, Миша…
За обедом Миша опросил дежурных. Но они клялись, что ничего не видели. А ведь Игорь и Сева забрали все свои вещи, вплоть до кружек и ложек. И никто этого не заметил.
Конечно, они могли уехать домой. Но, прежде чем ехать за ними в Москву, надо как следует поискать здесь.
Наиболее вероятным местом, где могли спрятаться мальчики, представлялась Мише усадьба. Он пойдет туда сам вместе с Коровиным. А остальные ребята пусть прочешут лес.
— Прочешете лес, — сказал Миша. — Генка со своим звеном — со стороны деревни, звено Славки — от реки, звено Зины — из парка. Идите цепью и все время перекликайтесь. К семи часам возвращайтесь в лагерь.
Выстроив свои звенья, Генка, Славка и Зина побежали к ближнему лесу, каждый со своей стороны.
Миша и Коровин пошли в усадьбу.
В лагере остался только Кит. Он всегда охотно дежурил за других на кухне. Облизнув губы, Кит начал готовить ужин.
Глава 5
Помещичий дом и его обитатели
Чтобы не попасться на глаза «графине», Миша пошел не по главной аллее, а по боковой.
— Посмотрим сначала, дома ли хозяйка, — сказал он Коровину.
— Как ты узнаешь?
— Увидишь, — загадочно ответил Миша.
Продираясь сквозь кусты, они дошли до центральной аллеи и отогнули ветви деревьев.
Старый дом стоял прямо перед ними. Штукатурка на нем местами облупилась, оттуда торчали полосы дранки и клочья пакли. Разбитые стекла в окнах были заменены фанерой, обрезанной простой пилой, с неровными краями и кое-как прибитой. Иные окна и вовсе были заколочены досками, разными по размеру и толщине.
— Дома, — с досадой прошептал Миша.
В ответ на вопросительный взгляд Коровина Миша глазами показал ему на мезонин.
В нише, широко распластав крылья, стояла большая бронзовая птица с непомерно длинной шеей и загнутым книзу хищным клювом. Острыми когтями она цеплялась за толстый сук. Глаза, огромные, круглые, под длинными, как у человека, бровями, придавали птице странное и жуткое выражение.
— Видел?
— Видел, — прошептал Коровин, ошеломленный зловещим видом бронзового истукана.
— Орел.
Коровин с сомнением качнул головой:
— Какой же это орел? Видал я на Волге орлов.
— Орлы бывают разные, — зашептал Миша, — на Волге одни, здесь другие. Но не в этом дело. Посмотри внимательно. За птицей ставни? Они открыты, видишь?
— Вижу.
— Ну вот, раз ставни открыты — значит, графиня дома. Как только она уезжает в город, то закрывает ставни, а приезжает — открывает. Понял? Только имей в виду: это секрет, никому не рассказывай.
— А мне и ни к чему, — равнодушно ответил Коровин, — все равно мы дом отберем. Ребят двести можно разместить, а она одна живет. Разве правильно?
— Конечно, неправильно, — согласился Миша. — И забирайте усадьбу поскорее… Вот что! Поищем ребят в сараях. Может быть, они там спрятались. Сидят и посмеиваются над нами.
Прячась за кустами, мальчики обогнули дом, подошли к задней стене конюшни и через маленькое разбитое оконце проникли в нее.
Затхлый запах трухлявых бревен, сгнивших досок, старого навоза ударил им в нос. Перегородки между стойлами были разобраны; там, где лежали опорные бревна, чернели провалы земли. Мальчики вздрогнули: не замеченная ими стая воробьев поднялась и с шумом вылетела из конюшни. Осторожно ступая по разбитому деревянному полу, Миша и Коровин перебрались из конюшни в сарай.
Здесь было темнее. Окон не было, а ворота, снятые с петель, были прислонены к проему и не пропускали света.
Пахло мышами, прелой соломой, протухшей мучной пылью.
Миша ухватился за стропила, подтянулся и вскарабкался на сеновал. Затем помог подняться и неуклюжему Коровину. Сгнившее перекрытие подгибалось под ногами. Крыша изнутри была усеяна комками осиных гнезд. Сквозь прорехи крыши синело небо.
Друзья обошли сеновал, через слуховое окно перебрались в соседний сарай. Тех, кого они искали, не было. Впрочем, искал один Миша. Коровин пробовал крепость бревен, сокрушенно причмокивал губами в знак того, что все здесь очень старое.
Тем же путем мальчики спустились обратно. Теперь предстояло осмотреть сарай, который назывался машинным: раньше в нем хранился сельскохозяйственный инвентарь. Он стоял на отшибе. Чтобы попасть в него, надо было перебежать кусок площадки, прямо на виду у дома.
Миша уже собирался выскользнуть из сарая, как вдруг отпрянул назад, чуть не опрокинув стоявшего за ним Коровина. Коровин хотел посмотреть, что так взволновало приятеля. Но Миша крепко стиснул его руку и головой показал на дом.
На верхней ступеньке лестницы стояла высокая, худая старуха в черном платье и с черным платком на голове. Ее седая голова была опущена, лицо изборождено длинными морщинами, острый крючковатый нос загнут книзу, как у птицы. Эта черная, неподвижная фигура казалась мрачной и зловещей в пустынном молчании заброшенной усадьбы.
Мальчики стояли не шевелясь.
Потом старуха повернулась, сделала несколько шагов, медленных, прямых, точно шла она, не сгибая колен, и исчезла за дверью.
— Видал? — прошептал Миша.
— Прямо сердце захолонуло, — тяжело отдуваясь, ответил Коровин.
Глава 6
Что делать дальше
Миша и Коровин вернулись в лагерь. Все были уже в сборе. В лесу тоже никого не нашли.
Огорченные неудачей, обеспокоенные судьбой пропавших товарищей, усталые и измученные, сели в этот вечер ребята за ужин. А тут еще Кит объявил, что продуктов осталось мало, едва хватит на завтрашний день.
— Не суди по собственному аппетиту, — заметил Генка.
— Можете сами проверить, — обиделся Кит. — Масла почти совсем нет. Сухарей тоже. Круп…
— Не волнуйся! — сказал Миша. — Завтра Генка и Бяшка поедут в Москву и привезут продукты.
Теперь обиделся Генка:
— Все Генка и Генка! Думаешь, приятно таскаться по такой жаре с мешками? Да еще выпрашивать у родителей продукты! Тех дома нет, те не приготовили. Клянчишь, клянчишь…
— Ничего не поделаешь, — сказал Миша. — Не будет же нас кормить государство. Ведь наше государство только восстанавливается. А родителям тоже трудно. В московских семьях размещено десять тысяч детей с Поволжья. Кроме того, каждый москвич отчисляет дневной заработок в пользу голодающих. Понимать надо! — Он многозначительно поднял вверх ложку. — И посылаю тебя потому, что у тебя есть опыт.
Запихивая в рот кашу, Генка самодовольно ухмыльнулся:
— Да, уж будь здоров! Привык я с ними разговаривать: «Ваш Юрочка поправляется. Аппетит зверский. Вчера отгрыз хвост у хозяйской овцы». Вот мне и дают… Эх, черт возьми, найти бы нам богатых шефов, вот бы подкормили! Какую-нибудь кондитерскую фабрику.
— Лучше бы колбасную, — вздохнул Кит и, представив себе, как шипит на сковородке жареная колбаса, зажмурил глаза от удовольствия.
Ребята кончили ужинать, но все еще сидели у костра. Дежурные мыли посуду. Кит, шевеля губами, пересчитывал кульки с мукой и ломти хлеба. Его толстое лицо выражало озабоченность, как и всегда, когда глаза видели, а руки ощупывали что-либо съестное. Генка и Бяшка готовили мешки и сумки для сбора продуктов. Вернее, готовил их Бяшка. Генка же давал ему руководящие указания, а сам в это время осматривал свой знаменитый портфель. Хотя и потрепанный, этот портфель был настоящий, кожаный, со множеством карманчиков и отделений и блестящими никелированными замками. Генка им очень гордился. Отправляясь в Москву за продуктами, он всегда брал его с собой. Генке казалось, что портфель производит большое впечатление на родителей. Чтобы усилить это впечатление, Генка, разговаривая, клал портфель на стол и с важным видом щелкал замками.
«Действует неотразимо, — говорил Генка про свой портфель. — Если бы не портфель, весь отряд давно бы помер с голоду».
А в то время как Генка упражнялся со своим портфелем, Генкин спутник должен был таскать мешок с продуктами.
— Вот что, Генка, — сказал Миша, — родителям Игоря и Севы ничего не говори, а постарайся дипломатично выяснить, не приезжали ли Игорь и Сева в Москву.
— Все выясню, не беспокойся.
— Только осторожно, а то разволнуешь родителей.
— Сказал: не беспокойся! Мамаши и не догадаются. Я спрошу так, между прочим.
— Как ты спросишь?
— Я даже не спрошу, а так это, безразлично скажу: ваш Игорь собирается приехать к вам…
— А зачем?
— Помыться в бане.
— Кто тебе поверит?
— Ага! Тогда я скажу так: он должен приехать в Москву за книгами.
— Это ничего.
— Ну вот, — продолжал Генка, — а если он в Москве, то мамаша скажет: «Ведь он уже дома». А я скажу: «Да? Удивительно! Значит, он меня опередил». Потом спрошу: «А где он?» Она скажет: «Играет на заднем дворе». Тогда я вежливо попрощаюсь, выйду на задний двор и закачу этому Игорю такую плюху, что он подпрыгнет до четвертого этажа.
— Драться, пожалуй, не надо, — заметил Слава.
— Драться, конечно, не надо, — согласился Миша, — но проучить их придется. Я сам бы поехал, но… — он презрительно посмотрел на Славку, — не на кого лагерь оставить. Пусть уж едут Генка и Бяшка.
Бяшка вдруг объявил:
— Я, конечно, поеду, но предупреждаю: если Генка заставит меня таскать мешок, а сам будет своим портфелем размахивать, то я все брошу и уеду! Вот! Прямо заявляю!
— Когда я заставлял тебя одного таскать?! — с негодованием возразил Генка.
— Всегда заставляешь! — закричали все, кто ездил с Генкой за продуктами.
— Спокойно! — сказал Миша. — Таскать будете одинаково. Только не проспите поезд. А мы завтра отправимся в деревню. Пора уже клуб закончить.
Некоторое время все сидели молча, усталые после забот и треволнений сегодняшнего дня.
Костер горел ярким пламенем. Сухие ветки трещали в огне. Искры взвивались в воздух и пропадали в темной вышине ночи.
— Тише! — прошептала вдруг Зина.
Все замолчали и обернулись к лесу.
Хрустнула ветка… Зашелестели листья деревьев, точно слабый ветерок пробежал по ним… Послышался чей-то вздох…
Миша сделал рукой знак всем сидеть на месте, поднялся и замер, вглядываясь в темный лес, прислушиваясь к странным звукам…
Неужели Игорь и Сева наконец вернулись?
Глава 7
Васька Жердяй
Но это были не Сева и не Игорь…
К костру подошел Васька Жердяй, высокий парнишка в белой рубахе и узких холщовых штанах, едва прикрывавших острые, худые колени. Прозвали его Жердяем, потому что был он высок для своих лет, очень худ и тощ. Он жил с матерью и старшим братом Николаем на самом краю деревни, в полуразвалившейся избушке. Отец его погиб в германскую войну.
Жердяй больше других деревенских ребят дружил с комсомольцами. И они любили его. Он был добр, услужлив. Правда, верил в чертей и прочую ерунду, но зато знал хорошо лес, реку и очень интересно рассказывал всякие истории и небылицы. Старший брат Жердяя, Николай, был плотник и помогал ребятам устраивать клуб.
— Ты, Жердяй… — разочарованно протянул Миша.
— Я! — Жердяй присел к костру и дружелюбно улыбнулся.
В мелькающих тенях костра его большая голова с неровно подстриженными (видно, тупыми ножницами) белобрысыми космами казалась еще всклокоченнее, чем обычно. Он веточкой подгреб угли к костру и сказал:
— На деревне говорят, у вас два пионера пропали.
— Ерунда, — деланно безразличным голосом ответил Миша, — найдутся.
Жердяй с сомнением покачал головой:
— Не скажи… Если на Голыгинскую гать забредут, так могут и не вернуться.
Заинтересованные словами Жердяя, ребята теснее окружили костер.
— Что за гать такая? — спросила Зина.
— Гать-то? Дорога лесная.
— Гать — дорога из хвороста, а иногда из бревен. Строится обычно на болоте, — пояснил Славка.
— Верно, — подтвердил Жердяй, — из хвороста. И на болоте построена. Только давно. Ею никто и не пользуется.
Генка нетерпеливо спросил:
— Что ты хочешь рассказать про эту самую гать?
— Про Голыгинскую? А то, что если попали ваши ребята на Голыгинскую гать, так могут и не вернуться.
— Утонут? — спросила Зина Круглова.
Жердяй покачал головой:
— Утонуть не утонут, а увидят старого графа и помрут.
— Опять ты басни рассказываешь! — усмехнулся Генка. — Не надоело выдумывать?
— Не выдумываю я, — серьезно ответил Жердяй, — всё истинная правда. Старики рассказывают. Там граф с сыном закопаны. Прямо в гати. Царица приезжала сюда, давно, еще до Наполеона. Вот царица приехала и казнила графа с сыном. А хоронить не позволила. Велела прямо в грязь закопать, на гати, чтобы все по ним ездили. Так они там закопанные и лежат.
— А наши ребята здесь при чем? — спросил Миша.
— Вот слушай… Значит, старый граф с сыном там закопаны. Только не похоронены они как полагается, вот и томятся их души. Никак не попадут ни в рай, ни в ад.
— Ох, и умора! — закричал Генка. — Бабьи сказки!
Коровин недовольно заметил:
— Дай послушать, что человек говорит!
— Томятся, значит, их душеньки, — строго и печально продолжал Жердяй, — так и стонут под гатью, так и стонут. Я сам туда ходил, слышал. Старый граф этак глухо стонет; постонет да перестанет, постонет да перестанет. А молодой — громко, точно плачет, ей-богу!..
— Страшно! — прошептали сестры Некрасовы и опасливо посмотрели на лес; но им сделалось еще страшнее, и они придвинулись ближе к костру.
Жердяй глухим, монотонным голосом, подражая старикам, продолжал:
— А в самую глухую полночь старый граф выходит на гать. Старый, борода до колен, белый весь, седой. Выходит и ждет. Увидит прохожего человека и говорит ему: «Пойди, говорит, к царице и скажи, пусть, мол, похоронят нас по христианскому обычаю. Сделай милость, сходи!» Так это просит слезно да жалостливо… А потом кланяется. А вместо шапки снимает голову. Держит ее в руках и кланяется. Стоит без головы и кланяется. Тут кто хошь испугается, с места не сдвинешься от страху. А старый граф кланяется, голову в руках держит и идет на тебя. А прохожему главное что? Главное — на месте выстоять. Коли выстоишь, так он подойдет к тебе вплотную и сгинет. А ежели побежишь, так тут и упадешь замертво. Упадешь замертво, а граф тебя под гать и утащит.
— И много он утащил? — улыбнулся Миша.
— Раньше много утаскивал. А теперь туда и не ходит никто. Из Москвы приезжали. Рыли эту самую гать. Да разве их найдешь! Как милиция уехала, так они снова залегли.
— А за что их казнили? — спросил кто-то.
— Кто их знает! Кто говорит — за измену, кто говорит — клад золотой царский запрятали.
— Ну конечно, — иронически заметил Генка, — клад уж обязательно. Без клада не обойдется.
Миша протянул руку по направлению к помещичьему дому:
— Про этих графов ты рассказываешь?
— Про них, — кивнул головой Жердяй, — про предков ихних. Который граф за границу убежал, так тому, что под гатью, он внуком приходится.
Миша зевнул:
— Сказки!
— Не говори, — возразил Жердяй, — старики рассказывают!
— Мало ли что старики рассказывают, — пожал плечами Миша. — Сколько чудес рассказывали про мощи, а когда стали в церквах изымать ценности в пользу голодающих, так ничего и не нашли в этих мощах. Одна труха, и больше ничего. Обман! Опиум! Затуманивают вам мозги, и всё!
Потом Миша посмотрел на свои часы. Хотя он носил их на руке, но они были переделаны из карманных, такие большие, что даже рукава рубашки не могли их закрыть. Полдевятого.
— Давай отбой! — приказал Миша горнисту.
В ночной тишине громко прозвучал горн.
Прощаясь с Жердяем, Миша сказал:
— Завтра мы придем клуб оборудовать. Так ты сходи с ребятами в лес и наруби еловых веток. Мы ими клуб украсим.
— Можно, — согласился Жердяй. — А книжки принесете?
— Обязательно. И попроси Николая, чтобы он тоже пришел. Поможет нам закончить сцену и скамейки.
— Придет! — уверенно ответил Жердяй.
Белая рубашка мелькнула среди деревьев. Послышался хруст ветвей. Все стихло.
— Как он не боится ходить ночью по лесу один! — сказала Зина.
— А чего бояться? — хвастливо возразил Генка. — Я ночью куда угодно пойду. Хотя бы даже на эту дурацкую гать.
— Ложись лучше спать, — сказал Миша, — а то завтра к поезду опоздаешь.
Все разошлись по палаткам. Некоторое время слышались смех и возня. Миша в последний раз обошел лагерь, проверил посты. Останавливаясь у палаток, он громко говорил: «А ну давайте заснем»… Наконец лег и Миша. Все стихло.
Луна освещала спящий лагерь.
Но спали не все.
Часовые ходили по поляне, сходились у мачты и снова расходились в разные стороны.
Миша лежал и думал о том, куда могли деваться Игорь и Сева и что предпринимать, если их завтра не окажется в Москве.
Славка терзался тем, что ребята сбежали именно тогда, когда он оставался за старшего.
Девочки прислушивались к тишине ночного леса и, вспоминая рассказ Жердяя про Голыгинскую гать, боязливо натягивали на себя одеяла.
Коровин размышлял о том, что усадьба, в общем, подходящая для трудкоммуны. А старуха хоть и страшная, но директор детдома Борис Сергеевич так ее шуганет, что она сразу образумится.
Генка как лег, так и заснул.
Бяшка лежал и уже заранее негодовал при мысли, что Генка будет размахивать портфелем, а его заставит таскать мешок с продуктами. И он придумал справедливый и гордый ответ Генке и злорадствовал при мысли, как опешит Генка, когда увидит, что он, Бяшка, взял с собой вместо одного два мешка, чтобы им тащить поровну.
Дольше всех ворочался Кит. Он прикидывал, какие продукты привезут завтра из города Генка и Бяшка и что из этого можно будет сварить.
Наконец в мечтах о завтраке уснул и Кит.
Глава 8
Николай, брат Жердяя
Миша проснулся. В щели палатки пробивались первые лучи солнца. Пахло сухими еловыми ветками, служившими ребятам постелью.
Миша просунул часы под полог палатки… Что такое? Всего полпятого. Может быть, часы остановились?.. Он поднес их к уху и услышал равнодушное тиканье. Пытаясь снова заснуть, Миша натянул на себя одеяло. Но сон не возвращался. Беспокойные мысли лезли ему в голову. Но за всеми заботами, которые владели им теперь как вожатым отряда, неотступно стояла мысль об Игоре и Севе.
Не в силах больше заснуть, Миша осторожно, чтобы не задеть лежащих кругом ребят, выбрался из палатки.
Поляна была подернута прозрачным холодноватым утренним светом. С верхушек деревьев доносился птичий гомон. Возле мачты, лениво передвигая ноги, бродил Юрка Палицын, дежурный. Второй дежурный, Сашка Губан, спал, привалившись к дереву… Так и есть — спят по очереди! На дежурстве! Нечего сказать… Миша подкрался к Губану и дал ему щелчка в лоб. Губан вскочил и уставился на Мишу.
— На посту не спят! — прошептал Миша внушительно.
Потом он обошел лагерь. Все в порядке, все на месте. До побудки еще два часа. Можно бы еще поспать. Но уж раз встал, чего теперь ложиться… Сходить, пожалуй, искупаться, тогда уже не захочется спать…
С реки тянуло влажным холодком. Острые закрытые бутоны лилий торчали на воде среди широких зеленых листьев. Берег был влажен от росы.
Миша разделся, бросился в ледяную воду и сажёнками поплыл на другую сторону. Он раза три переплыл узкую, но глубокую речку, пока наконец согрелся. Но когда вылез на берег, снова ощутил холод. Стуча зубами, он долго прыгал на одной ноге, пытаясь другой попасть в штанину.
Потом он увидел подходивших к реке Николая Рыбалина, брата Жердяя, и еще одного крестьянина из их деревни — Кузьмина, пожилого, хмурого, бородатого мужчину. Они шли к маленькой бухточке, где неподвижно покоилось на воде несколько простых деревенских лодчонок.
Увидев Мишу, Николай заулыбался и приветливо махнул ему рукой. Это был человек лет двадцати пяти, в накинутой на плечи старой солдатской шинели без хлястика, высокий, худой, костлявый. Но лицо его, тоже худое и костлявое, с острыми, выпирающими скулами, длинным, острым носом и тонкими, бледными губами, было добродушно и приветливо.
— Зябко небось купаться? — спросил Николай.
— Холодно, — признался Миша.
От нечего делать он пошел за ними к лодкам.
Кузьмин долго возился с замком. Скручивая цигарку, Николай молча посматривал на Мишу, улыбаясь неизвестно чему — может быть, тому, что он встретил Мишу, а может, тому, что начиналось прекрасное, погожее утро.
— Николай, — сказал Миша, — помните, вы обещали поработать сегодня с нами в клубе…
— Поработаем, — ответил Николай. — Съезжу только с Севастьяновичем на Халзин луг, вернусь, и поработаем.
— Не подведите.
Кузьмин справился наконец с замком и бросил цепь на дно лодки.
Николай перешел в лодку и сказал:
— Зачем подводить? Разве можно подводить?
Кузьмин тоже вошел в лодку и, упираясь ногой в сиденье, оттолкнулся веслом от берега.
На Кузьмине была рубаха без пояса, серые холщовые брюки, а на ногах — стоптанные короткие сапоги, похожие на боты.
Так Кузьмин и запомнился Мише — хмурый бородатый мужик со спутанными волосами, упирающийся ногой в сиденье и отталкивающийся от берега веслом…
— Мы вас будем ждать в клубе, — сказал Миша Николаю.
Николай опять улыбнулся в знак того, что он не обманет и исполнит обещанное.
Глава 9
В деревне
После завтрака Генка и Бяшка отправились на станцию. Плата за проезд в поездах и трамваях была введена недавно, ребята к ней еще не привыкли. Да и денег у отряда было мало.
— Туда поедете зайцем, — сказал Миша, — а обратно возьмете один билет. С ним Бяшка будет сидеть возле продуктов. А Генка будет бегать от контролера.
— Не надо нам никакого билета, — заявил Генка, — не в первый раз. Проедем.
— Нет! С мешками трудно бегать. Только продукты растеряете. Так что один билет возьмите обязательно.
Коровин тоже пошел на станцию — встречать директора детдома Бориса Сергеевича.
Звено Зины Кругловой осталось в лагере по хозяйственным делам.
Остальные ребята, предводительствуемые Мишей и Славкой, отправились в деревню.
Деревня раскинулась под горой, на самом берегу реки. Бревенчатые избы, крытые тесом и соломой, тянулись вдоль широкой, длинной улицы. Дворы были обсажены ветлами. Дома богатеев были двухэтажные, на красном кирпичном основании, а дом кулака Ерофеева был весь выложен из кирпича. Высокие, могучие дубы группами по два-три дерева виднелись здесь и там. Возле новых, выложенных из свежеобтесанных бревен срубов валялась на земле желтоватая стружка.
Трубя в горн, отряд прошел по улице и остановился возле сельсовета. За ним тянулся длинный пустой сарай. Это и был будущий клуб.
Привлекаемые звуками трубы и видом шагающего по деревне отряда, деревенские мальчишки и девчонки сбегались со всех сторон. Кто постарше, подошел ближе, малыши стояли в отдалении: засунув пальцы в рот и тараща глаза, они смотрели на пионеров, хотя видели их уже не в первый раз.
Но почему-то не было Жердяя.
— Что же вы елок для клуба не припасли? — спросил Миша.
— Пошли мы утром в лес, а он как заверещит, как застрекочет! — ответил маленький чернявый паренек по прозвищу «Муха».
— Кто — он?
— Известно… Леший.
Пионеры засмеялись.
Муха боязливо оглянулся по сторонам:
— Вы не смейтесь. Грешно смеяться.
Кит, которому на этот раз не удалось остаться на кухне, сказал:
— Дрова, хворост, грибы вы небось собираете, не боитесь.
Муха качнул головой:
— То другое дело. Тогда леший молчит, не сердится. А на клуб, видишь, не дает, не позволяет.
— И без лешего обойдемся, — сказал Миша. — Славка, беги со своим звеном за елками, а мы здесь займемся книгами.
С книгами возились долго. Одни ребята принесли прочитанные, другие побежали за книгами домой, третьи просили, чтобы им дали новые, а старые они потом отдадут. Еще дольше выбирали книги. Каждый рассматривал свою, затем ту, которую взял сосед. И, конечно, последняя нравилась больше. Книги с картинками брали охотно, а от антирелигиозных отказывались: «Мамка увидит — выбросит».
Подошли еще два мальчика. Один, толстый, мордастый, с носом кнопкой, — Сенька, сын кулака Ерофеева. Второй — шестнадцатилетний, высокий, глуповатый, — Акимка-балбес, хотя и бедняцкий сын, но верный друг и холуй Сеньки Ерофеева.
— А! — закричал Сенька. — Пионеры юные, головы чугунные, сами оловянные, черти окаянные!.. Это что? — Он вырвал у одной девочки книгу. — Опять против бога? — Потом с заискивающей и в то же время нахальной улыбкой обратился к Мише: — Дал бы и мне почитать, а?
— Дать можно. Только не эту. Эту Вера берет.
Миша хладнокровно взял из рук Сеньки книгу и возвратил ее Вере.
— Подумаешь, Верка сопливая! — хмыкнул Сенька. Потом ехидно спросил: — Что это вас так мало? Разбежались, что ли?
— В лагере остались, — ответил Миша.
— Знаем! — Сенька обернулся к Акимке-балбесу. — Разбежались кто куда. Теперь не соберете.
— А ты и рад! — укоризненно заметил Муха.
— Помалкивай, Муха! — огрызнулся на него Сенька. — Ты мне плот подавай, слышишь! Голову оторву.
— Не брал я твоего плота.
— Врешь, брал! Вместе с Жердяем и утащили. Своего нет, так чужое воруете, жулье несчастное!
Начиная кое о чем догадываться, Миша спросил:
— Что за плот?
— Плот у меня Жердяй с Мухой угнали, — сердито проговорил Сенька. — Угнали, подлюги, и не говорят куда. Жулье!
— Почему ты думаешь, что это сделали именно они?
— Кому же больше! Жердяй — вор. Брат его Кузьмина убил? Убил. Наплачется теперь в тюрьме.
— Какой брат?.. Какого Кузьмина?.. — ничего не понимая, спросил Миша.
С радостным удивлением сплетника Сенька уставился на Мишу:
— А ты не знаешь?
— Ничего не знаю…
— Так ведь Николай, Жердяев брат, Кузьмина убил, — делая страшное лицо, сказал Сенька, — Кузьмина, мужика нашего одного. Из револьверта застрелил. Как же вы не знаете? Там уж вся деревня была. И доктор приезжал, и милиция. Уж их в город увезли — и Кузьмина мертвого, и Николая, бандита этого…
— Когда это было, где? — в страшном волнении спросил Миша.
— Утром сегодня. На Халзином лугу. Там его Николай и застрелил. И лодку куда-то запрятал. А еще активист считается! Все они, активисты, — бандиты.
— А где Жердяй?
— Кто его знает? Дома сидит. Стыдно небось людям в глаза смотреть, вот и сидит дома… А вы и не знаете ничего? Эх вы, пионеры-комсомольцы!.. Пошли, Акимка…
И они, лузгая семечки, вразвалку пошли по улице. Ошеломленный, Миша растерянно глядел им вслед. Может быть, Сенька все наврал?..
Но Муха печально проговорил:
— Это он верно рассказал. Николая заарестовали и в город увезли. На телеге.
Миша приказал Славке вести отряд в клуб, а сам побежал к Жердяю.
Глава 10
Загадочное убийство
Только теперь Миша обратил внимание на то, как взбудоражена деревня.
Везде стояли кучки крестьян, а возле сельпо шумела большая толпа. И по тому, как люди волновались, было очевидно, что говорят они именно об этом загадочном убийстве. А оно было загадочным. Трудно поверить в то, что Николай убил Кузьмина. Как мог этот добрый, приветливый человек убить?.. Ведь всего несколько часов назад Миша видел Николая и Кузьмина, разговаривал с ними. Они как живые стояли перед его глазами: Николай в потертой солдатской шинели без хлястика, Кузьмин в старых ботах, веслом отталкивающий лодку от берега. И это тихое утро, первые лучи солнца, свежий холодок реки, лилии меж зеленых листьев… Нет. Николай не виноват! Недоразумение, ошибка… И зачем ему было убивать Кузьмина? Миша никак не мог в это поверить. И с каким злорадством говорил Сенька Ерофеев: «Все активисты — бандиты…»
Рыбалины жили на краю деревни, в покосившейся избе под соломенной крышей. Концы тонких стропил торчали над ней крест-накрест. Два крохотных оконца падали на завалинку. Дверь из грубо сколоченных досок вела в холодные сени, где висели хомуты и уздечки, хотя ни лошади, ни даже коровы у Рыбалиных не было. Они были безлошадники, наибеднейшие крестьяне…
— Здравствуйте, — сказал Миша, входя в избу.
Мать Жердяя, Мария Ивановна, худая женщина с изможденным лицом, раздувала на загнетке огонь под черным чугунным горшком. Не разгибая спины, она обернулась на Мишин голос, тупо посмотрела на него и снова отвернулась к печке.
Жердяй тоже с безучастным видом посмотрел на Мишу и отвернулся.
На земляном, плотно убитом полу виднелись закругленные следы метелки. Грубый деревянный стол был испещрен светлыми полосками от ножа, которым его скоблили. Вдоль стен тянулись лавки, темные, потертые, гладкие; видно, что на них сидели уже не один десяток лет. В переднем углу висела маленькая потускневшая икона с двумя засохшими веточками под ней. На другой стене — портрет Ленина и плакат, на котором был изображен красноармеец, пронзающий штыком всех белых генералов сразу: и Деникина, и Юденича, и барона Врангеля, и адмирала Колчака. Красноармеец был большой, а генералы маленькие, черненькие, они смешно барахтались на острие штыка.
— Чего в клуб не идешь? — спросил Миша, присаживаясь рядом с Жердяем.
Жердяй посмотрел на спину матери и ничего не ответил. Миша кивнул головой на дверь:
— Пойдем!
— Николая нашего арестовали, — сказал Жердяй, и губы его задрожали.
— Я слыхал, — ответил Миша. — Я их утром видел, они в лодку садились. И Николай, и Кузьмин.
Ворочая ухватом горшок в печи, Мария Ивановна вдруг сказала:
— Может, они и поспорили там, не знаю. Только не мог его Николай убить. Он и муху не тронет. И незачем ему. И спорить им не из-за чего. И никакого револьвера у него нету. — Она вдруг бросила ухват и, закрыв руками лицо, заплакала. — Четыре года в армии отслужил… Только жить начал… И такая беда… Такая беда… — Она тряслась и повторяла: — Такая беда… Такая беда…
— Надо ехать в город и защищать его, — сказал Миша.
Мария Ивановна вытерла глаза передником:
— На защитников деньги нужны. А где их возьмешь?
— Никаких денег не надо. В городе есть бесплатная юридическая помощь. При Доме крестьянина. И вообще Николая оправдают. Вот увидите.
Мария Ивановна тяжело вздохнула и снова принялась за свои горшки и ухваты.
Миша глядел на ее сгорбленную спину, худую, натруженную спину батрачки, на безмолвного Жердяя, на убогую обстановку нищей избы, и его сердце сжималось от жалости и сострадания к этим людям, на которых свалилось такое неожиданное и страшное горе. И хотя Миша ни секунды не сомневался, что Николай невиновен и его оправдают, он понимал, как тяжело теперь Марии Ивановне и Жердяю. Сидят одни в избе, стыдятся выйти на улицу, никто к ним не ходит.
— Спрашивает его милиционер, — снова заговорила Мария Ивановна, — «Ты убил?» — «Нет, не я». — «А кто?» — «Не знаю». — «Как же не знаешь?» — «А так, не знаю. Обмерили мы луг, я и ушел». — «А почему один ушел?» — «А потому, что Кузьмин на Халзан пошел».
— Что за Халзан? — спросил Миша.
— Речушка тут маленькая, — объяснил Жердяй, — Халзан называется. Ручеек вроде. Ну, и луг — Халзин.
Мария Ивановна продолжала свой рассказ:
— Вот и говорит ему Николай: «Кузьмин на Халзан пошел. Верши там у него расставлены. А я уж как стал к деревне подходить, гляжу — за мной бегут. Говорят, Кузьмина убили. Побежали мы обратно. Действительно, лежит Кузьмин». — «Стрелял-то кто?» — «Не знаю». — «А лодка где?» — «Не знаю». А милиционер говорит: «Ловок ты, брат, сочинять». Нет того, чтобы разобраться…
Миша пытался себе представить и луг, и убитого Кузьмина, и Николая, и толпу вокруг них, и милиционера… А может быть, поблизости орудуют бандиты… Миша подумал об Игоре и Севе. Ведь и их могли бандиты пристукнуть… Вот что делается…
Миша не хотел оставлять Жердяя и Марию Ивановну одних. Но Коровин со своим директором уже, наверно, пришли со станции. Надо идти в лагерь.
— Вы только ни о чем не беспокойтесь, — сказал он вставая, — все разъяснится. Николай не сегодня-завтра вернется домой. Да его и взяли в город как свидетеля.
— Нет уж, — вздохнула Мария Ивановна, — не скоро ее, правду-то, докажешь!
Глава 11
«Графиня»
Директор детского дома Борис Сергеевич оказался высоким, сутуловатым, еще молодым человеком в красноармейской гимнастерке, кавалерийских галифе и запыленных коричневых сапогах. Но он был в очках. Это удивило Мишу: военная, да еще кавалерийская форма, и вдруг — очки! Как-то не вяжется…
Очки придавали молодому директору строгий и даже хмурый вид. Он искоса и, как показалось Мише, неодобрительно посмотрел на палатки, точно ему не нравился и лагерь, и вообще все. Мишу это задело. С того дня, как его назначили вожатым, он стал очень чувствителен. Ему казалось, что взрослые относятся к нему снисходительно, не так, как к настоящему вожатому отряда. Не глядя на Бориса Сергеевича, Миша продолжал выговаривать Зине за то, что ее звено запоздало с обедом. Хоть Борис Сергеевич и директор, а он, Миша, тоже вожатый отряда и начальник этого лагеря.
Впрочем, по дороге в усадьбу Миша убедился, что директору вообще все здесь не нравится. Борис Сергеевич зыркал по сторонам глазами и так многозначительно молчал, что Миша начинал себя чувствовать виноватым в том, что усадьба запущена.
Они вышли на главную аллею и сразу увидели «графиню». Старуха неподвижно стояла на террасе, подняв кверху голову, в той самой позе, в какой ее уже видели мальчики, когда прятались в конюшне. Казалось, что она поджидает их. И приближаться к этой неподвижной фигуре было довольно жутко.
Они остановились у нижних ступенек террасы. Но старуха к ним не спустилась. И так они все молча и неподвижно стояли: старуха наверху, а директор с мальчиками внизу.
Борис Сергеевич спокойно, со знакомым уже Мише неодобрением смотрел на старуху, на ее обрамленное седыми волосами лицо с крючковатым носом и грязно-пепельными бровями. И Миша видел, как под действием его взгляда все беспокойнее становится «графиня» и ее большие круглые глаза с волнением и ненавистью смотрят на пришельцев.
И чем больше наблюдал Миша эту сцену, тем больше нравились ему уверенность и спокойствие Бориса Сергеевича. И странно — Коровин тоже держался так, точно этой старухи и не было здесь вовсе. А когда приходил сюда с Мишей, так «сердце захолонуло».
Наконец старуха спросила:
— Что вам угодно?
— Будьте любезны спуститься, — ответил Борис Сергеевич голосом педагога, убежденного, что ученик обязательно выполнит его приказание.
Старуха сделала несколько шагов и остановилась. Но опять же двумя-тремя ступеньками выше Бориса Сергеевича и мальчиков.
Потом она надменно проговорила:
— Слушаю вас.
Ответа не последовало. Борис Сергеевич точно не видел старухи. Миша был восхищен его выдержкой. Вот что значит настоящий руководитель! Ничего не говорит, не произносит ни слова, а приказывает… Вот кому следует подражать!
И только тогда, когда «графиня» сделала еще несколько шагов и очутилась на одной ступеньке с Борисом Сергеевичем, он сказал:
— Я директор московского детского дома номер сто шестнадцать. Разрешите узнать, кто вы.
— Я хранительница усадьбы, — объявила старуха.
— Прекрасно, — сказал Борис Сергеевич. — Есть предположение организовать здесь детскую трудовую коммуну. Я бы хотел осмотреть дом.
Старуха вдруг закрыла глаза. Миша испугался. Ему показалось, что она сейчас умрет. Но ничего со старухой не случилось. Она постояла с закрытыми глазами, потом открыла их и сказала:
— Этот дом — историческая ценность. Я имею на него охранную грамоту.
— Покажите, — сухо проговорил Борис Сергеевич.
Старуха вытащила из-под платка бумагу, подержала ее в руках и протянула Борису Сергеевичу.
Тот взял и, по своему обыкновению недовольно морщась, начал читать.
Подавшись вперед и скосив глаза, Миша из-за плеча Бориса Сергеевича тоже заглянул в бумагу.
В левом углу стоял большой расплывшийся штамп, точно наляпанный фиолетовыми чернилами. Текст был напечатан на пишущей машинке. Сверху крупно: «Охранная грамота». Ниже, обыкновенными буквами: «Удостоверяется, что жилой дом в бывшей усадьбе Карагаево, как представляющей историческую ценность, находится под охраной государства. Всем организациям и лицам использовать дом без особого на то разрешения губнаробраза воспрещается. Нарушение охранной грамоты рассматривается как порча ценного государственного имущества и карается по законам Республики. Зам. зав. губернским отделом народного образования Серов». И затем следовала мелкая, но длинная подпись этого самого Серова.
— Все правильно, — сказал Борис Сергеевич, возвращая бумагу, — и все же здесь будет организована коммуна.
— Не извольте мне приказывать, — старуха вскинула голову, — и попрошу больше не беспокоить.
Она повернулась, поднялась по лестнице и скрылась за высокой дубовой дверью.
Борис Сергеевич обошел усадьбу, осмотрел сараи, конюшни, сад, пруд и расстилающиеся за усадьбой поля.
И Коровин тоже долго и внимательно смотрел на поля. Потом Борис Сергеевич сказал:
— Под самой Москвой — и помещики сохранились. На шестом году революции. Удивительно!
Когда они покидали усадьбу, Борис Сергеевич обернулся и снова посмотрел на дом. Остановились и мальчики. В ярких лучах заката бронзовая птица горела, как золотая.
Она смотрела круглыми злыми глазами, словно была готова сорваться и броситься на них.
— Эффектная птица, — заметил Борис Сергеевич.
— Самый обыкновенный орел, — презрительно сказал Миша.
— Да? — ответил Борис Сергеевич, но, как показалось Мише, с некоторым сомнением в голосе.
Глава 12
Новые планы
Борис Сергеевич и Коровин уехали в Москву. Через час должны приехать Генка с Бяшкой. Хотя в Мише еще теплилась надежда, что они разыскали беглецов в Москве, он был почти уверен, что именно Игорь и Сева забрали Сенькин плот и поплыли на нем вниз по реке… Но все же вдруг…
Приехали Генка и Бяшка и объявили, что Игоря и Севы в Москве нет.
Генка делал вид, что он очень устал, хотя оба мешка тащил Бяшка; Генка взял один перед самым лагерем, чтобы показать, что и он работал.
В мешках оказалось много хлеба: по четверть и по полбуханки и даже две целые буханки.
— Я старался горбушками собирать, — хвастался Генка. — Если мне давали середину, то я говорил: «Нельзя! Плохая выпечка. Может случиться заворот кишок».
И Генка театрально размахивал руками, показывая, как он все это говорил.
Затем Кит извлек из мешка несколько кульков с крупами, пакет с сухими фруктами для компота и немного муки — вещь очень ценная, потому что из нее можно выпекать оладьи.
— Нам этих круп надолго хватит, — разглагольствовал Генка, — при экономном расходовании — до конца лагеря. Если, конечно, Кит не сожрет всю эту крупу в сыром виде. Вот по линии сахара слабовато. Никто не дал. Зато есть немного конфет.
Эти слипшиеся конфеты Миша распорядился тут же пересчитать и выдавать поштучно: две конфеты в день, к утреннему и вечернему чаю.
Потом Кит вытащил кусок свиного сала, пакет с селедками, топленое масло в вощеной бумаге, десятка два крутых яиц.
В добавление ко всему Генка вручил Мише деньги — тридцать восемь рублей.
— Урожай хороший, — одобрительно заметил Миша. — Видишь, Генка, что значит тебя посылать.
Генка хотел рассказать, кто из родителей что дал, но Миша остановил его:
— У нас все общее, следовательно, кто что дал, не имеет никакого значения. Как только продукты очутились в мешке, они принадлежат всему отряду. И незачем об этом говорить. Лучше расскажи, что ты узнал дома у Игоря и Севы.
— Пришли мы к Севиной маме, — начал рассказывать Генка, — я ей вежливо говорю: «Здрасте!» Она мне тоже отвечает: «Здрасте!» Потом я говорю: «Вот приехали за продуктами». А она спрашивает: «Как там мой Сева?» Я отвечаю: «Здоров, купается». — «А когда он вернется?» — это она спрашивает. «В самые ближайшие дни», — отвечаю я. «Зачем?» — «За книгами». — «Очень хорошо. Передайте ему привет». Мы попрощались и ушли. Так же приблизительно было и у Игоря.
— Приблизительно, да не так, — вставил борец за справедливость Бяшка.
— Начинается! — пробормотал Генка.
— А как было у Игоря? — спросил Миша, предчувствуя, что Генка что-то натворил.
— Мы как вышли от Севиной мамы, — начал Бяшка, — так Генка говорит: «Что-то очень подозрительно Севина мама с нами разговаривала. Может быть, Сева уже приехал, прячется от нас, а мамаше своей велел ничего нам не говорить. Нет, у Игоря мы будем умнее, они нас не проведут». Я его еще предупредил: «Не выдумывай, Генка, а то напортишь». Ведь предупреждал тебя, предупреждал?
— Рассказывай, рассказывай, — мрачно произнес Генка, — я потом отвечу.
— Ну вот, — продолжал Бяшка, — приходим мы к Игорю, а там бабушка — мама дежурит на работе. «Ну, — шепчет мне Генка, — эту старушенцию мы вокруг пальца обведем». Я попытался его удержать, но Генка меня не слушает и говорит: «Здрасте, мы к Игорю». А бабушка отвечает: «Игоря нет, он в лагере». Тогда Генка подмигивает ей и говорит: «Вы нас не бойтесь. Мы тоже из лагеря сбежали. А теперь нам надо посоветоваться с Игорем, как действовать дальше». Бабушка хлопает на нас глазами, видно, что ничего не понимает, а Генка все свое: «Давайте, говорит, побыстрее своего Игоря, нам тоже некогда». Старушка сначала онемела, глотает воздух, потом как завопит: «Батюшки! Значит, наш Игорек сбежал из лагеря! Куда же это он? Да где же это он? Что теперь делать? Надо поскорее матери сообщить! Надо сейчас же в милицию бежать!..» Верно, Генка, так ведь было?
— Ладно, ладно, рассказывай.
— Тут, конечно, Генка перетрусил, стал говорить, что нарочно соврал. Я тоже стал доказывать, что Генка просто пошутил; если бы Игорь действительно сбежал, то мы не брали бы для него продукты. Едва-едва старушку успокоили. Но хоть мы ее на время успокоили, она все равно Игоревой маме все расскажет. Вот увидите!
— Ты безответственный человек, Генка, — с сердцем сказал Миша, — тебе ничего нельзя поручить! Мало того, что Игорь и Сева из-за тебя сбежали, ты еще их родителей разволновал. А ведь предупреждали тебя! Теперь всё! Найдем ребят и выгоним тебя из звеньевых.
— Как же так? — плаксиво пробормотал расстроенный Генка. — Я комсомолец, я назначен…
— Тем более что комсомолец. Безобразие! Что ему ни поручи — все наоборот делает!
Глава 13
Художник-анархист
Итак, беглецов надо искать на реке. Ясно: они уплыли на Сенькином плоту. И, конечно, вниз. Какой им смысл подниматься против течения?
На чем же гнаться за ними? Готового плота нет, да и движется плот слишком медленно. Значит, надо плыть за ними на лодке. Ее можно достать на лодочной станции. Но ведь лодочник заломит такую цену, что никаких денег не хватит!
Есть еще лодки у некоторых крестьян, но кто даст? Особенно нравилась Мише одна лодка, хотя и четырехвесельная и нелепо раскрашенная, но небольшая, быстроходная и легкая. Она принадлежала странному человеку, который жил в деревне у своей матери и именовал себя художником-анархистом. В чем заключался его анархизм, Миша не знал. Он видел его два раза на улице. Художник был пьян и то бормотал, то выкрикивал какие-то непонятные слова. Это был маленький голубоглазый человек лет тридцати, вечно небритый и вечно пьяный.
Единственный, кто мог помочь Мише достать у художника лодку, был Жердяй. К нему и направился Миша, тем более что решил взять Жердяя с собой. Никто так не знает реку, окрестные леса и села, как Жердяй. И ему самому будет интересно поехать. Ведь они поплывут мимо Халзина луга, и мало ли что бывает: вдруг нападут на след истинных убийц Кузьмина? И тогда легко будет оправдать Николая. Этот довод подействовал на Жердяя. Он согласился ехать с Мишей и идти к анархисту за лодкой.
— Зовут его Кондратий Степанович, — рассказывал Жердяй про анархиста, — художник он. Картин у него полно, всю избу разрисовал. Если он пьяный — слова не даст сказать, если с похмелья — то вовсе прогонит, а если трезвый — тогда, может, и уступит лодку.
Изба сельского художника поразила Мишу прежде всего смешанным запахом овчины, олифы, масляных красок, сивухи, огуречного рассола и прокисших щей. Она была довольно вместительной, но заставлена необычными для крестьянской избы вещами: мольбертом, коробками красок, старинной, видимо привезенной из города, мебелью.
Но поразительнее всего было то, что и изба, и все предметы в ней были разрисованы самым странным и даже диким образом.
Стены — одна зеленая, другая желтая, третья голубая, четвертая и вовсе не поймешь какая. Печь вся в разноцветных квадратиках, ромбах и треугольниках. Полы желтые. Потолок красный. Скамейки вдоль стен коричневые. Оконные рамы белые. Ухваты возле печи и те были разных цветов, а кочерга красная. Только городская мебель сохраняла свой натуральный цвет, но было ясно, что и до нее доберется эта деятельная кисть.
Художник сидел на лавке и что-то сосредоточенно строгал. Редкие на висках, но длинные сзади волосы рыжими мохнатыми космами опускались на белый от перхоти ворот толстовки, не то бархатной, не то вельветовой, изрядно вытертой и перепачканной всевозможными красками. Шея была повязана грязной тряпкой, изображавшей бант. Он поднял на ребят мутные голубые глаза и тут же опустил, продолжая свою работу.
— Мы к вам, Кондратий Степанович, — сказал Жердяй.
— Зачем? — спросил художник низким, глухим басом, неожиданным в этом маленьком и тщедушном человечке.
Жердяй показал на Мишу:
— Начальник отряда к вам пришел.
Художник опять поднял голову. Взгляд его остановился на Мишином комсомольском значке.
— Комсомол?
— Комсомол, — ответил Миша.
— А кто я есть, тебе известно?
— Вы художник.
— По убеждениям?
— Не знаю, — едва удерживаясь от смеха, ответил Миша.
— По убеждениям я есть анархист-максималист, — важно объявил Кондратий Степанович.
— Мы хотели попросить у вас лодку на два дня, — сказал Миша.
— Анархисты-максималисты, — продолжал Кондратий Степанович, — не признают власти. По отношению к советской власти — нейтралитет. В опыт не верим, но и не мешаем. Вот так… — Больше ему нечего было сказать о своих политических взглядах, и он повторил: — Вот так… — И снова начал строгать.
— А лодку дадите? — спросил Миша.
— Зачем?
Миша уклончиво ответил:
— Нам надо съездить в одно место.
— Анархисты имеют отрицательное отношение к собственности, — витиевато проговорил Кондратий Степанович. — Почему лодка моя?
Миша пожал плечами:
— Говорят, что ваша.
— Зря говорят! Привыкли к собственности, вот и говорят. Все общее.
— Значит, нам можно взять лодку?
— Берите, — продолжая строгать, сказал Кондратий Степанович.
— Спасибо! — обрадовался Миша. — Мы ее вернем в целости и сохранности.
Жердяй тихонько толкнул его в бок:
— Ключ проси!
— Тогда дайте нам ключ от лодки, — сказал Миша.
Кондратий Степанович сокрушенно покачал головой:
— Ключ… Трудное дело…
— Почему? — обеспокоенно спросил Миша, начиная понимать, что получить лодку будет вовсе не так просто, как ему показалось.
— Ключ — это личная собственность.
— Ну и что же?
— Лодка — общественная собственность, пользуйтесь, а ключ — собственность личная, могу и не дать.
— Что же нам, замок взломать?
Кондратий Степанович скорбно покачал головой:
— Экс-про-при-ация! Нельзя без общества.
— А мы всем отрядом, — нашелся Миша.
Кондратий Степанович еще печальнее качнул головой:
— В милицию заберут.
— Ведь вы не признаете милиции, — ехидно заметил Миша.
Совсем упавшим голосом художник сказал:
— Мы не признаем. Она нас признает.
— Мы бы вам заплатили за лодку, но у нас нет денег, — признался Миша.
Кондратий Степанович отрицательно замотал головой:
— Анархисты-максималисты не признают денежных знаков. — И, подумав, добавил: — Обмен — это можно.
— Какой обмен?
— Ключ я дам, а вы взамен дадите мне подряд на оборудование клуба.
— Что за подряд? — удивился Миша.
— Клуб вы устраиваете? Украсить его надо? Вот я его и оформлю.
— Но ведь мы делаем его бесплатно.
— Плохо, — поник головой художник. — Труд должен вознаграждаться.
— Ведь анархисты не признают денег, — опять съехидничал Миша.
— Я не говорю — оплачиваться, а говорю — вознаграждаться, — пояснил анархист.
— Ребята вам за это картошку прополют, Кондратий Степанович, — сказал практичный Жердяй.
— Эксплуатация, — задумчиво пожевал губами художник.
— Какая же это эксплуатация! — возразил Миша. — Вы вложили в лодку свой труд, а мы вам поможем своим трудом.
— Разве что так, — размышлял вслух Кондратий Степанович. — А когда прополете? Время не ждет. — И он посмотрел в окно, через которое виднелся заросший бурьяном огород.
— Как только вернемся, — ответил Миша, — дня через два.
— Ладно уж, — согласился наконец художник, — и насчет клуба подумайте. Я его так оформлю, что и в Москве такого не найдется.
Он снял со стены и протянул Мише ржавый ключ.
— Хорошо, — радостно говорил Миша, пряча ключ в карман. — Мы обязательно подумаем насчет клуба.
Жердяй снова подтолкнул его:
— Весла!
— А где весла? — спросил Миша.
— Весла… — проговорил Кондратий Степанович печально.
Миша с испугом подумал, что он опять начнет рассуждать о собственности и не даст весел.
— Весла и уключины. Иначе как же мы на ней поедем?! — решительно сказал Миша.
— И уключины… — вздохнул Кондратий Степанович.
Ему очень хотелось еще поговорить, но, вспомнив, видимо, и о прополке и о клубе, он еще раз вздохнул и сказал:
— Весла и уключины в сарае возьмете. А потом на место поставите.
Глава 14
Всегда готовы
На время своей отлучки Миша решил оставить старшей в лагере Зину Круглову. Генка легкомыслен, Славка нерешителен, Зина же хоть и девочка, а ребята ее уважают и даже побаиваются.
Но чтобы Генка и Славка не обиделись, Миша решил их взять с собой в поездку. Значит, вместе с Жердяем их поедет четверо. Двое — на веслах, третий — за рулем, четвертый — дозорным, на носу.
Вернувшись в лагерь, Миша приказал Генке готовить снаряжение, а Славке — провизию.
— Рассчитывайте на два дня, — сказал Миша. — Ты, Генка, проверь лодку; нет ли течи, как сидят уключины и весла. Приготовь на всякий случай запасное весло и шест. Возьми пару удочек. Не забудь компас, топор, веревку, ведро, котелок, фонарик с батарейками. И свистки для каждого. И два флажка для сигнализации.
— А палатку?
— Не надо. И так переночуем. Да, спички не забудь. Все! Записал?
— Записал! — Генка подвел под списком жирную черту.
Миша повернулся к Славке:
— Теперь ты, Славка! Продукты возьмешь в двух мешках — на случай, если разделимся попарно. Каждому — кружку, ложку, нож. Продукты: одну буханку хлеба, лапши на две варки, крупы какой-нибудь тоже на две варки, немного масла, чай, восемь штук конфет. Все!
Генка зароптал:
— Голодать будем! А яйца, сало?
— Надо здесь ребятам побольше оставить. А мы наловим рыбы. Не забудь соль.
— Можно картошки взять, — предложил Славка.
— Верно, — согласился Миша. — И учти: никаких бумажных пакетов, только из материи. Вообще все снаряжение надо подогнать так, чтобы ничего не скрипело, не болталось, а главное, не звякало и не брякало. Понятно? Ты, Генка, смажь уключины и возьми с собой кусок холстины: может быть, придется обвязать весла для бесшумности.
— Не беспокойся, Миша, — заверил Генка, — все будет сделано как нельзя лучше.
— Мы, конечно, всё сделаем, — сказал рассудительный Славка, — но, честно говоря, я сомневаюсь в успехе нашей поездки.
— Ты всегда во всем сомневаешься! — разозлился Генка.
— Сева и Игорь имеют перед нами преимущество двух суток, — продолжал Славка, — и мы их никогда не догоним.
— Мы не догоним таких пентюхов? — закричал Генка.
Миша сказал:
— Во-первых, они плывут на плоту, а мы на лодке, это втрое быстрее. Во-вторых, они делают много остановок: и продукты им надо купить, и маршрут они плохо знают, и дрыхнут, наверно, до полудня. И, наконец, в-третьих, не вечно же они собираются плыть по реке! Где-то они должны остановиться и пересесть на железную дорогу. Значит, в этом месте они оставят плот. Мы этот плот увидим. И по этому следу будем их искать.
— Понятно теперь? — насмешливо заключил Генка. — А если непонятно, то сиди здесь и вари с Китом кашу.
К вечеру все было готово. Снаряжение и продукты сложены в лодку, а сама она, проверенная и смазанная, подведена ближе к лагерю, и возле нее поставлены часовые. Отплытие было назначено на четыре часа утра. Чтобы не опоздать, Жердяй остался ночевать в лагере.
Вечером у костра Миша, взывая к сознательности ребят, убеждал их слушаться Зину.
— Положение очень серьезное. Я уже не говорю о международной обстановке, это все знают. Но даже здесь тревожно. Сева и Игорь убежали. А тут загадочное убийство. Может быть, рядом бродят бандиты. И помещичья усадьба со старухой тоже очень подозрительна. Так что нам надо быть настороже. Дисциплина прежде всего.
Зина Круглова, чтобы усилить впечатление, добавила:
— Эта старорежимная графиня возьмет и сожжет усадьбу, чтобы коммуне не досталась.
— Даже очень просто, — подтвердил Миша, единственно для поддержки Зининого авторитета. В то, что старуха сожжет усадьбу, он, конечно, не верил.
— Подумать только, — закричал Генка, — один человек занимает такую домину! Двести ребят можно разместить. Безобразие, честное слово!
— Безобразие, — согласился Славка. — Но какое это имеет отношение к Игорю и Севе? Усадьба, убийство Кузьмина — при чем тут Игорь и Сева?
— А при том, что идет классовая борьба, — назидательно проговорил Миша, — понял? Зря людей не убивают. И графиня, наверно, тоже ждет, когда вернутся всякие там помещики и князья. Вот и стережет для них усадьбу.
Славка в знак сомнения покачал головой:
— Вряд ли есть люди, которые надеются, что вернется старый режим.
— Не беспокойся, есть, — заверил его Миша.
Жердяй сказал:
— Кулаки у нас на деревне говорят… Теперь лорд этот самый английский…
— Лорд Керзон, — подсказал Миша.
— Вот-вот… Керзон этот самый… Написал Ленину письмо.
— Ультиматум.
— Так говорят, теперь советской власти конец.
Все рассмеялись.
— Эх ты, Жердяйчик! — закричал Генка. — Не дождутся ваши кулаки конца советской власти. И графиня тоже не дождется. И граф ее, белоэмигрант, тоже не дождется!
— Керзон нам предъявил наглые требования, — сказал Миша, — совсем заврался. Требует, чтобы мы отозвали своих представителей из Ирана и Афганистана. Видали его? Английские капиталисты боятся, что их колонии не захотят больше быть колониями. Понятно? Народы Востока! А ну-ка, Славка, прочитай газету, которую Генка сегодня из Москвы привез.
Славка развернул газету. Вверху, слева, было написано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а справа: «Берегите газеты, у нас их мало!»
Славка вслух прочитал и об ультиматуме Керзона, и о демонстрациях против ультиматума под лозунгом «Руки прочь от Советской России!».
— Видал? Нас поддерживают рабочие всего мира, — объяснил Миша. — И никакие капиталисты нам не страшны.
Жердяй задумчиво сказал:
— Еще говорят, что Ленин совсем болен.
— Что же из того, что он болен? Переутомился, вот и болен. Слушай… — Миша взял у Славки газету и громко прочитал: — «Резолюция рабочих Гознака… Дать Владимиру Ильичу трехмесячный отпуск и потребовать от него точного исполнения предписаний врачей, дабы он мог восстановить свои силы на благо трудящихся». Понятно? — сказал Миша, свертывая газету. — Ленин отдохнет и выздоровеет. Так что пусть ваши кулаки не радуются.
Неожиданная мысль пришла ему в голову, и он сказал:
— Знаете что, ребята? Сейчас все пишут Ленину, давайте и мы напишем.
Все удивились. Что они могут написать Ленину?
А Миша уже увлекся своей идеей. Забыв, что он твердо решил быть таким же спокойным и невозмутимым, как директор детского дома Борис Сергеевич, он вскочил и, размахивая руками, сказал:
— Напишем, чтобы он скорее выздоровел.
— Правильно! — поддержал его Генка. — Все пишут.
Зина Круглова сказала:
— Если даже Ильич не прочтет нашего письма, то ему о нем расскажут. И ему будет приятно, что все о нем помнят, любят и желают ему здоровья.
И ребята, крича и перебивая друг друга, сочинили такое письмо Владимиру Ильичу Ленину:
«Дорогой Ильич! Мы, юные пионеры и комсомольцы, шлем тебе горячий пролетарский привет. Мы хотим, чтобы ты скорее выздоровел. Мы хотим бороться за рабочее дело так же, как боролся и ты всю свою жизнь. Мы всегда готовы защищать и укреплять Советскую Россию. Выздоравливай скорее, дорогой наш Ильич!»
Часть II Погоня
Глава 15
Лодочная станция
Миша уперся ногой в скользкий от ночной росы берег, столкнул лодку в воду, перевалился через борт и вскарабкался на нос.
Поехали!
Белесый туман окутывал реку. Берега едва виднелись. Кусты ракитника достигали почти середины реки. Толстые стволы лежали над самой водой. Генка и Славка едва не задевали их веслами. Но сидевший на корме Жердяй искусно направлял лодку по узкой и извилистой речонке.
Миша засек время. Если они будут делать восемь километров в час, то к вечеру достигнут устья реки. Туда считается не то семьдесят, не то восемьдесят километров.
Размышляя таким образом, Миша зорко поглядывал по сторонам. В этот предутренний час река казалась совсем чужой. Все вдруг стало огромным, глубоким, таинственным, причудливым: неожиданно высокие деревья, верхушек которых не было видно, кусты, казавшиеся непроходимыми… Почему они никак не могут обогнуть мысок, за которым должна быть лодочная станция? Может быть, в темноте он проглядел ее?..
Миша приподнялся. В эту минуту они обогнули мыс. Сразу стало светлее. Миша увидел маленькую будку лодочной станции. Но тут же он заметил приближающуюся к станции женщину. Миша узнал ее. Это была «графиня». Зачем она пришла сюда так рано? Миша торопливо прошептал:
— Тихо! Не гребите!
Генка и Славка подняли весла. Лодка сразу сбавила ход. Ухватившись рукой за ветку, Миша подтянул лодку под куст орешника. Отсюда была хорошо видна лодочная станция.
Туман еще не сошел. Люди у будки казались мутными тенями. За будкой виднелся неподвижный силуэт лошади, запряженной в повозку. И оттого, что будка была очень маленькой, лошадь и телега казались громадными.
На берегу стояли «графиня» и кулак Ерофеев, отец Сеньки, маленький кособокий старичок в черном картузе и очках в железной оправе.
Лодочник Дмитрий Петрович возился в лодке, потом выпрямился и вышел на берег. Это был человек лет тридцати, среднего роста, ловкий и сильный. Миша его не то что побаивался, а чувствовал себя с ним неудобно: как-то неискренне и хитро улыбался всегда лодочник. Ходил он босиком, в сатиновой рубашке без пояса. Но лицо у него было чистое, холеное, совсем не крестьянское, с маленькими острыми усиками.
Ерофеев и лодочник подошли к телеге. С нее кто-то соскочил. Ребята вгляделись — это был Сенька. Ерофеев снял с телеги рогожу. Затем они втроем перетащили в лодку два больших мешка.
Дмитрий Петрович прыгнул в лодку. Ерофеев оттолкнул ее. Лодка качнулась, отошла от берега и, влекомая течением, повернулась на середине реки. Табаня одним веслом, Дмитрий Петрович направил ее вниз по течению.
Все смотрели вслед лодке: мальчики — из своего укрытия, старуха и Ерофеев — с берега, Сенька — с телеги.
Лодка скрылась за поворотом. Ерофеев что-то сказал «графине» и пошел к телеге. Уже держа в руках вожжи, он опять что-то сказал. Старуха молча кивнула головой.
По береговой дороге телега двинулась к деревне. Старуха полевой тропинкой пошла к усадьбе. В высокой пшенице мелькнул ее черный платок. Раз, другой… Потом она совсем скрылась из глаз…
Глава 16
На реке
Первым нарушил молчание Генка.
— Интересно, что они увезли в лодке? — проговорил он, вставая и вглядываясь в даль реки, хотя ни лодки, ни лодочника уже не было видно. — Недаром эта несчастная лодочная станция всегда казалась мне подозрительной. Я еще вчера Славке говорил. Правда, Славка, говорил я тебе, что станция очень подозрительная, говорил?
— Не вчера, а позавчера, — ответил точный Славка, — и ничего подозрительного я здесь не вижу. Мало ли что людям надо перевезти на лодке.
— «Перевезти», ага! — передразнил его Генка. — В такую рань, чтобы никто не видел! И Ерофеев, кулак и мироед, со своим Сенькой примазались. — Он обернулся к Мише: — Знаешь, Миша, давай лучше высадим Славку.
— Зачем?
— Он всю дорогу будет сомневаться: «Ничего такого», «Ничего особенного», «Ничего у нас не выйдет», «Ничего мы не найдем»… Так и будет канючить…
Миша в ответ только отмахнулся. Но что все это значит? «Графиня», лодочник, Ерофеев — все вместе. Что-то отправляют, ночью, тайком…
— Возможно, старуха инвентарь вывозит, чтобы коммуне не достался, — предположил он.
— Какой у нее инвентарь! — сказал Жердяй. — Нет у нее никакого инвентаря.
— Что же по-твоему?
— А я почем знаю!
— Ладно! — решил Миша. — Все равно нам плыть вниз. Будем искать Игоря и Севу и заодно посмотрим, куда лодочник отвезет эти мешки. Главное — чтобы он нас не увидел. Поехали!
Жердяй оттолкнул лодку от берега. Генка и Славка взмахнули веслами. Приставив к глазам бинокль, Миша вглядывался вперед. Лодочника не было видно. Но ничего, они его нагонят.
Извилистая речка протекала в глубокой, узкой долине. Высокий, правый берег был сильно подмыт — над водой желтели ноздреватые известняки, белели причудливые обрывы мела. На низком левом берегу виднелись узкие полоски заливных лугов и торфяных болот. Сквозь мутную воду дно проглядывалось только на очень мелких местах — вязкое, покрытое тиной. Местами вода быстро кружилась — на дне били ключи и родники.
Мальчики миновали деревню, паромную переправу, а лодочника все не было. Неужели на двух парах весел они не могут его догнать? Миша дал знак пристать к берегу, вылез из лодки и взобрался на холмик, пытаясь оттуда увидеть лодочника.
Широкая панорама долины открылась перед ним: бескрайные поля, темные леса, тихие перелески, одинокие ветряные мельницы, белые колокольни церквей, на ближних полях телеги с поднятыми к небу оглоблями… Солнце медленно подымалось из-за горизонта. Его косые лучи раздвигали дали, окрашивая весь мир в яркие краски. Но узкая черная полоска реки была скрыта холмами и зарослями, и ничего на ней нельзя было увидеть.
Миша вернулся в лодку. Они с Жердяем сменили Генку и Славку и поплыли дальше. Теперь Генка сидел на руле, а Славка с биноклем в руках — на носу.
— Нажмем, Жердяй, — говорил Миша, изо всех сил работая веслами. — Ты, Генка, на руле поосторожнее…
— За меня не беспокойся, не в первый раз, — не замедлил ответить Генка.
В тельняшке и подвернутых брюках, с кормовым веслом в руках он выглядел очень живописно.
— Ты, Славка, — продолжал командовать Миша, — смотри в оба! И не только за лодочником. Главное — Игорь и Сева. Смотри, нет ли плота или каких-нибудь других следов.
— Пока ничего нет, — ответил Славка, — ни лодочника, ни ребят, ни плота, ни следов.
Так плыли они еще с полчаса, гребя изо всех сил. Миша уже хотел произвести замену, как вдруг Славка, не отрывая глаз от бинокля и поворачивая его то в одну, то в другую сторону, сказал:
— Тише, ребята! Кажется, лодочник…
— Где?!
Миша и Жердяй подняли весла. Генка привстал, всматриваясь вперед.
— Опять пропал, — поворачивая бинокль, сказал Славка. — Только что, за тем поворотом, я видел лодку. Ага, вот он опять мелькнул…
— Сколько до него?
— С километр, — неуверенно проговорил Славка.
— Сейчас будет Халзин луг, — волнуясь, сказал Жердяй.
— К берегу! — тихо скомандовал Миша.
Когда он с Жердяем выскочили на берег и посмотрели на реку, то увидели, что лодочник не гребет. Его лодка покачивалась на воде, а сам он, повернув голову, смотрел на берег.
— На Халзин луг смотрит, — прошептал Жердяй, белый как полотно.
— А ты чего волнуешься? Нечего волноваться.
Лодочник по-прежнему смотрел на луг, изредка медленным движением весла выравнивая лодку. Ага, не хочет подплывать к месту, где убили Кузьмина…
Генка не утерпел и тоже вылез на берег. Теперь они трое, как и лодочник, смотрели на Халзин луг.
Покрытый ярко-зеленой травой, залитый солнечным светом, он тянулся по левому берегу Утчи и по правому берегу впадающей в Утчу крошечной, почти высохшей речушки Халзан.
В зеленом однообразии луга было столько спокойствия, что мальчикам казалось, будто они слышат оттуда монотонное жужжание комаров и звонкое стрекотание кузнечиков. Место было совершенно открытое. Несколько одиноких деревьев свешивали к земле свою низкую листву. И только на берегу довольно густо росли кусты. Откуда же стреляли в Кузьмина? И почему Николай не слышал выстрела? И кто угнал лодку? Странно…
Наконец лодочник взмахнул веслами. Лодка поплыла дальше. Мальчики тут же сползли с берега и двинулись вслед за ней. На веслах — Генка и Славка, на носу — Миша, на корме — Жердяй.
Теперь они держались от лодочника на таком расстоянии, чтобы за каким-нибудь поворотом можно было рассмотреть его в бинокль.
Лодочник то появлялся, то исчезал за частыми излучинами реки. Он сидел на веслах, лицом к следовавшим за ним мальчикам, и им приходилось быть очень осторожными, чтобы не попасться ему на глаза. Перед каждым поворотом реки Миша выскакивал на берег и смотрел в бинокль, где лодочник. В азарте погони они совсем забыли о цели своего путешествия.
— Сейчас самые лесистые места пойдут, — сказал Жердяй, — скоро я вам тропочку покажу. Если по этой тропочке идти, то как раз на Голыгинскую гать и выйдешь.
— Ту самую, где мертвый граф закопан?
— Ту самую.
— Так далеко от усадьбы?
— По реке далеко. А через лес близко.
Длинная излучина реки, прикрытая густыми зарослями, опять укрыла лодочника. Боясь потерять его из виду, Миша приказал грести скорее. Генка и Славка налегли на весла. Лодка вынеслась за поворот. И Миша сразу убедился в опрометчивости своего поступка… Метрах в трехстах от них лодочник, шагая по воде, втягивал свою лодку в маленькую бухточку возле двух белых камней… Ребят выручило только то, что лодочник стоял к ним спиной и, расплескивая ногами воду, не слышал шума их весел.
Мальчики быстро подтянулись к берегу и укрылись за высоким деревом, ветки которого спускались к самой воде. Оставаясь сами незамеченными, они хорошо видели лодочника.
— От этих двух камней и идет дорога на Голыгинскую гать, — прошептал Жердяй.
Миша сделал ему знак молчать.
Лодочник вытащил лодку, забросил цепь за камень и обернулся к лесу.
Тишину реки огласил троекратный крик совы.
Глава 17
Лодочник
Это была маленькая, обмелевшая бухточка. Густые листья могучего дуба заслоняли ее от солнца — только поэтому она не высохла. На берегу лежали два больших белых камня. Короткая тропинка тянулась от них к орешнику и исчезала в лесу.
Лодочник стоял на берегу, к чему-то прислушиваясь. Прислушались и мальчики. В лесу раздался далекий ответный крик совы. Притаившись за деревом, мальчики ждали, что будет дальше.
Опушка была покрыта ярким цветочным ковром. Высокие темно-желтые лютики, прямые кисти бледно-желтого борца, белая гвоздика, светло-голубые лесные колокольчики — все это, цветущее и переливающееся под ослепительными лучами солнца, было таким мирным, таким радостным, добрым, что Мише вдруг показались нелепыми все его подозрения. И ему казалось, что если он сейчас подойдет к лодочнику, то тот будет с ним мирно разговаривать, как всегда улыбаясь своей насмешливой, довольно неприятной, но, в общем, ничего не значащей улыбкой… Но это чувство безмятежного доверия угасло так же быстро, как зародилось… Из леса опять, но уже совсем близко, раздался крик совы…
Лодочник встал, прошелся по берегу и, убедившись, что никого вокруг нет, обернулся к лесу и сделал рукой жест, подзывая того, кто скрывался за деревьями.
Из леса вышли два парня с заспанными лицами, одетые в зимнюю крестьянскую одежду; на одном был рваный полушубок, на другом — длинный вытертый зипун; оба в помятых солдатских шапках.
Парни перетащили мешки в лес. Лодочник что-то им сказал.
Парни ничего не ответили. И, уже сидя на веслах, лодочник опять что-то сказал. Но ветер отнес его слова в сторону.
Как только лодочник сел в лодку, Миша сообразил, что надо покидать убежище. Мальчики быстро поплыли назад. Отойдя с полкилометра, они развернулись и медленно поплыли навстречу лодочнику с таким видом, будто они просто катаются по реке. Даже бинокль Миша запрятал под сиденье.
И, как только они развернулись, показался лодочник. Он греб медленно, сильно откидываясь назад, и когда наклонялся, то сквозь рубашку было видно, как сжимаются и разжимаются его острые лопатки…
Он оглянулся на шум весел ребячьей лодки и перестал грести. Его лодка, покачиваясь на воде, медленно поворачивалась и, когда ребята поравнялись с ней, она уже стояла посередине реки, загораживая проезд. Чтобы не зацепить ее веслами, мальчики тоже перестали грести. Наклонив голову, лодочник исподлобья оглядел мальчиков и, неожиданно улыбнувшись, спросил:
— Далеко плывете, товарищи?
Он улыбался одним ртом. Концы его маленьких острых усов при этом хищно топорщились кверху, а холодные голубые глаза пристально и недоверчиво смотрели на мальчиков. Эта улыбка лодочника и раньше коробила Мишу, а сейчас была особенно неприятна.
— Так, плывем, — спокойно ответил Миша.
Лодочник по-прежнему улыбался. Но рука его уже лежала на борту ребячьей лодки, и он медленно подтягивал ее к себе.
Миша понял, что он тянется к цепи, и крепко прижал ее ногой.
Продолжая улыбаться, лодочник обвел оценивающим взглядом ребят. Перед ним сидели четыре здоровых и, в сущности, уже взрослых парня. По его лицу было видно, что он обдумывает, как ему поступить. Потом он сказал:
— И Жердяй с вами?
Миша ничего не ответил. Минуту продолжалось молчание.
Лодочник крепко держал лодку за нос. Потом опять сказал:
— Знакомая лодка.
— Да, — ответил Миша, — это лодка Кондратия Степановича.
— Вот как? — недоверчиво усмехнулся лодочник, ухватив наконец рукой металлическое кольцо, к которому была приторочена цепь. — Значит, Кондратия Степановича? — переспросил лодочник, и Миша почувствовал ногой, что лодочник потихоньку дергает цепь.
Но Миша крепко держал ее.
— Да, Кондратия Степановича, — повторил Миша, не понимая, к чему клонит лодочник.
— Интересно, — насмешливо протянул лодочник. — А ведь Кондратий Степанович сегодня утром уехал на рыбалку. И на своей лодке. Я сам его видел.
Миша, конечно, мог бы напомнить, кого лодочник в действительности видел сегодня утром. Но этого делать было нельзя, и Миша сказал:
— Не знаю, кого вы видели, но Кондратий Степанович разрешил нам взять лодку.
По-прежнему улыбаясь, лодочник покачал головой:
— Так, так… Некрасиво, товарищи, некрасиво… А еще комсомольцы…
Он опять потянул цепь, но Миша крепко держал ее ногой.
— Что некрасиво? — нахмурился Миша. — Что вы нас стыдите?
— Лгать нехорошо, — укоризненно сказал лодочник. — Нехорошо покрывать преступников… Ведь я знаю, чья это лодка…
— Чья же? — усмехнулся Миша.
— Это лодка Кузьмина, которого вчера здесь убили. А убил его брат. — Лодочник показал на Жердяя. — Эту лодку милиция разыскивает, а вы ее прячете… Нехорошо. Очень нехорошо.
Перед таким нелепым обвинением Миша растерялся и забыл про цепь. В ту же секунду лодочник изо всех сил дернул ее. Миша упал. Падая, он попытался рукой схватить цепь, но опоздал. Усмехаясь, лодочник накинул ее на крюк, который торчал на корме его лодки, и тут же оттолкнулся. Цепь натянулась. Мальчики могли достать ее теперь, только перебравшись в лодку к Дмитрию Петровичу.
— Нехорошо, нехорошо, — нагло улыбаясь, повторил лодочник. — Жердяй хочет брата выручить — понимаю, а вам, комсомольцам, не к лицу. Придется, дорогие друзья, вернуться в деревню, придется!
Дрожа от возмущения, Миша закричал:
— Какое вы имеете право?
— Каждый должен помогать правосудию, — издеваясь, ответил лодочник.
Между тем, как ни слабо было течение, оно относило обе лодки к берегу.
Этого Миша опасался больше всего. Если Дмитрию Петровичу удастся задержать их лодку на берегу, то он сможет каким-либо образом вызвать из леса своих парней, и тогда мальчики будут бессильны перед ними. Значит, нельзя терять ни секунды…
Лодки уперлись в берег. Миша вскочил на нос:
— Сейчас же отпустите, слышите!
— Рад бы, да не могу, — рассмеялся лодочник.
Он не успел договорить — Миша перепрыгнул в его лодку и схватил цепь.
— Не трогать! — заорал лодочник и вскочил, высоко подняв в руках весло.
Но Миша одним движением сорвал цепь с крюка и перебросил ее в свою лодку. Потом он выпрямился:
— Ударьте! Попробуйте!
Дмитрий Петрович стоял, высоко подняв весло, с бледным, искаженным от бешенства лицом. Он ударил бы Мишу, но Генка и Славка уже карабкались в его лодку. Генка так навалился всем телом на борт, что лодка накренилась… Лодочник покачнулся и закричал:
— Не лезь, сволочь!
Он наклонился к Генке, пытаясь достать его веслом, и в ту же секунду Славка, тихий, стеснительный Славка, схватил с другой стороны лодочника за ноги и рванул к себе. Дмитрий Петрович полетел в воду.
— Назад! — крикнул Миша.
Мальчики поспешно вскарабкались в свою лодку. Изрыгая проклятья, Дмитрий Петрович метнулся за ними. На него испуганно смотрел сжавшийся и ошалевший от страха Жердяй.
— Гребите! — завопил Миша.
Генка и Славка, торопливо сталкиваясь веслами, начали грести. Дмитрий Петрович был уже совсем близко. Он дернулся к корме, но промахнулся. Генка и Славка ударили веслами один раз, другой… Набирая скорость, лодка понеслась по реке. Расстояние между ней и лодочником все увеличивалось… Дмитрий Петрович постоял некоторое время, повернулся и пошел к берегу…
Лодка неслась все быстрее… Поворот… За ним другой… Вот и дерево, под которым они прятались… Вот и два белых камня… Еще поворот… И они выплыли на прямой, длинный отрезок реки, уходивший в сторону от леса. Здесь их лодочник уже не догонит.
Глава 18
В чем дело
И все же мальчики продолжали грести изо всех сил, тяжело дыша и оглядываясь назад. Им казалось, что сейчас из-за поворота опять появится лодочник. И не один, а с парнями, которых он оставил в лесу…
Но страх, который вначале придал Генке и Славке силы, начал проходить. Они вдруг почувствовали себя совершенно изможденными и объявили, что не в состоянии больше грести. Миша и Жердяй сменили их.
Очутившись на корме, Генка, с дружелюбной насмешливостью поглядывая на Славку, сказал:
— Славка-то, а? Как лодочника дернул!.. Вот уж от кого не ожидал!
Никто ему не ответил.
— А вот Жердяйчик наш перепугался, — продолжал Генка. — Прямо душа в пятки ушла…
Жердяй покраснел:
— Вам-то что? Уехали в Москву, и всё, а мне с матерью здесь оставаться.
— Ну и что?
— А то, что зарежут они нас, вот что! — убежденно ответил Жердяй.
— Так уж и зарежут… — усмехнулся Генка.
— А ты думаешь… Тут тебе не Москва. Зарежут, и всё. Не первый случай.
— Кто — они и кого они зарезали? — спросил Миша.
Но в ответ Жердяй только засопел и еще старательнее стал грести.
Сидевший на носу Славка сказал:
— Все же непонятно, почему лодочник к нам пристал. Неужели он действительно думал, что мы на лодке убитого Кузьмина?
— Эх ты, святая простота! — закричал Генка. — Разве он не может лодки отличить?..
— У Кузьмина однопарка, а эта двухпарка. Другой двухпарки у нас в деревне нет, — сказал Жердяй.
— Вот видишь! — подхватил Генка. — Нет, тут дело в другом.
— В чем же?
— Он боялся, что мы в лес пойдем и увидим этих парней и мешки. Вот чего он боялся. Недаром мне лодочная станция казалась такой подозрительной.
— Правильно, только при одном условии, — сказал Славка.
— При каком?
— При том, что в мешках есть что-то тайное.
Генка трагически воздел руки к небу:
— Невыносимо! Налицо банда, а ты сомневаешься! Нас только что хотели утопить, а тебе кажется, что ничего не произошло. Что ты за человек, не понимаю!
— Какие теперь банды? — сказал Славка.
— Видали его! — закричал Генка. — «Какие банды»! Самые настоящие, бандитские! И Кузьмина они убили, это уж определенно!
Жердяй перестал грести и испуганно смотрел на Генку.
— Почему ты решил, что они убили Кузьмина? — спросил Славка.
— А кто? Его брат? — Генка кивнул на Жердяя. — Скажи, Жердяй, убивал твой брат Кузьмина?
— Не убивал он, — проговорил Жердяй, снова начиная грести.
— А кто убил?
— Не знаю.
— А я знаю, — упрямо повторил Генка, — они и убили.
Миша не вмешивался в разговор. Все только что происшедшее казалось ему диким, невероятным…
Конечно, насчет лодки Кузьмина Дмитрий Петрович выдумал — это лишь предлог, чтобы задержать их. Уж кто-кто, а он знает каждую лодку в деревне… Тогда в чем же дело? Из-за парней? Вряд ли… Парни уже давным-давно скрылись в лесу. А вот к убийству Кузьмина это может иметь прямое отношение. По лицу лодочника видно, что он убийца. Увидал Жердяя в лодке и испугался, что Жердяй доискивается настоящего виновника. Вот и хотел их повернуть обратно, чтобы они не напали на настоящий след…
А вдруг… Миша даже похолодел. А вдруг это связано не только с убийством Кузьмина, но и с исчезновением Игоря и Севы? Может быть, с ними что-то случилось? И именно поэтому лодочник не хотел их пропускать вперед… Может быть, Игорь и Сева оказались случайно свидетелями убийства или набрели в лесу на парней и те их убили, боясь разоблачения… Все может случиться в такое неспокойное время. В деревне идет борьба. То здесь, то там убивают то селькора, то сельского активиста… Мало ли в какую переделку могли попасть ребята… Что же делать? Ведь ребята ему доверены.
В эту минуту раздался голос Генки:
— Справа по борту шалаш!
Глава 19
Удивительная встреча
На берегу, в тени дерева, стоял крошечный шалаш, сделанный из веток и листьев. Возле него горел небольшой костер. У костра сидели мужчина и женщина.
— Спросим, не видели ли они ребят, — предложил Миша.
Мальчики положили весла на борта. Лодка замедлила ход. Миша приставил ладони рупором ко рту:
— Алло! На берегу!
Мужчина и женщина обернулись к мальчикам. Оба они были в больших роговых очках.
— Скажите, — крикнул Миша, — здесь не проплывали два мальчика на плоту?
Мужчина и женщина переглянулись. Потом, как по команде, снова обернулись к мальчикам, но ничего не ответили.
— Глухие, что ли? — пробормотал Миша.
— Это же нэпманы, — объявил Генка. — Посмотрите, как нелепо расплылася рожа нэпа… Он толстый, лысый, в очках, у нее тоже волосы крашеные…
Миша снова крикнул:
— Вы двух мальчиков не видели на плоту?
Мужчина и женщина опять переглянулись. Потом мужчина встал и крикнул:
— Не понимай…
Мальчики во все глаза смотрели на него…
— Иностранец, — растерянно пробормотал Генка.
Перед ними действительно стоял иностранец — плотный лысый человек в роговых очках, рубашке с короткими рукавами и серых широких брюках гольф, спускающихся чуть ниже колен на серые же, явно заграничные чулки. Пожилой мужчина в брюках гольф мог быть только иностранцем.
— Не понимай! — снова крикнул иностранец, засмеялся и отрицательно покачал большой круглой лысой головой.
— Поговорить с ними, что ли? — нерешительно сказал Миша.
— А чего, — поддержал Генка, — посмотрим, что за иностранцы такие. Шпрехен зи дёйч…
Мальчики подгребли к берегу, вышли из лодки и подошли к шалашу.
Мужчина смотрел на ребят и улыбался. Женщина сидела у костра, помешивая ложкой в котелке. Она смерила мальчиков внимательным взглядом. Мальчики потянули носами: из котелка пахло шоколадом.
— Вы далеко кричать, а ми плохо понимать руськи, — сказал иностранец.
Возле палатки лежали два рюкзака с ремнями и блестящими застежками, два фотоаппарата на тоненьких ремешках, консервная банка с яркой этикеткой, два термоса и еще какие-то мелкие вещи заграничного происхождения.
«Иностранные туристы, — решил про себя Миша, — буржуазия. Пролетарии по заграницам не раскатывают…»
То же самое подумали Генка и Славка. Мальчики с неприязнью смотрели на представителей капиталистического мира, так неожиданно появившихся на берегу реки Утчи. Как сюда попали эти хищники и акулы?
— Ви повторяйт ваш вопрос, — сказал иностранец.
Вблизи оказалось, что он не так уж лыс. На голове у него были волосы, но очень редкие и светлые, как пушок. И весь он, полный, розовощекий, походил на большого откормленного ребенка.
— Здесь не проплывали два мальчика на плоту?
— Плёт? Что значит плёт?
— Это как лодка, — объяснил Миша и показал руками, — такой четырехугольный, из бревен…
Иностранец радостно закивал головой.
— Понимайт, понимайт! — Он обернулся к женщине и произнес какое-то иностранное слово, потом опять радостно закивал головой: — Плёт. Понимайт! От слова «плить», «плавять». Понятно… Были здесь два мальшик, пайонир, гальстух, — он тронул свою шею, — пайонир, хорош пайонир. Биль тут, биль…
— Когда?
— Ночеваль. Не эта ночь, а после эта ночь… Вчера утро дальше плить на свой плёт… Плёт подчинял и поехал.
У Миши отлегло от сердца. Наконец-то! Значит, Игорь и Сева живы, здоровы, ничего с ними не случилось.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что Игорь и Сева приплыли сюда позавчера вечером, переночевали, вчера до полудня починили плот и поплыли дальше. Значит, вчера, в среду, во время убийства Кузьмина Игорь и Сева преспокойно сидели здесь, беседовали с иностранцами и происшествие на Халзином лугу их никак не коснулось. Ну и прекрасно! Хоть с этим все в порядке… Теперь-то их наверняка можно будет догнать. Расстояние между ними было два дня, а теперь только один. К вечеру и нагонят…
Из котелка распространялся аппетитный запах шоколада. Мальчики бросали на котелок голодные взгляды и беззастенчиво принюхивались. Генка просто дрожал от жадности.
Женщина что-то сказала мужчине. Улыбаясь, он проговорил:
— Мальшики, кофей пить.
Вот еще! Станут они угощаться у буржуев! Миша отрицательно качнул головой, собираясь произвести какую-нибудь вежливую формулу отказа, но Генка прошептал:
— Давай обожрем капиталистов…
Мише это предложение показалось дельным. Теперь, когда они выяснили, что с Игорем и Севой все в порядке, можно было особенно не торопиться. Поесть-то им все равно надо. А если они будут сами варить обед, то потеряют еще больше времени.
Мальчики уселись вокруг костра. Только один Жердяй продолжал стоять. Он очень стеснялся — ведь в своей деревне он никогда не видел иностранцев, — и только когда Миша велел ему сесть, он присел на корточки, но на порядочном расстоянии от костра.
Женщина разлила дымящийся кофе по металлическим стаканчикам, которые она вытащила один из другого. Из кожаного несессера были извлечены крошечные ложечки и щипчики для сахара. Все это женщина проделала довольно проворно, но молча, без улыбки. У нее были коротко подстриженные волосы рыжеватого оттенка, с сильной проседью. За очками вокруг глаз виднелась частая сеточка морщинок. Руки худые, загорелые, а на запястьях белые полоски.
«Наверно, кисти не загорели из-за браслетов, — подумал Миша, — а теперь она браслеты оставила в гостинице. Боится, что ограбят. Да кто их ограбит, кому они нужны?»
На салфетке лежали тонюсенькие ломтики хлеба, намазанные чем-то коричневым. Славка и Миша взяли по бутерброду и один передали Жердяю. Но Генка как накинулся на бутерброды, так уже не мог оторваться от них. Через минуту салфетка была чиста. Славка его несколько раз подталкивал, но Генка словно осатанел. А ведь не обжора, не Кит, просто изголодался, да и из озорства решил обожрать буржуев…
Впрочем, все изголодались. И этот маленький бутерброд, похожий на папиросную бумагу, только раздразнил аппетит. Мальчики забыли о деликатности, необходимой в сношениях с представителями иностранной державы.
Женщина не успевала намазывать бутерброды. Мужчина вскрыл новую банку консервов, затем сардины и, наконец, банку сгущенного молока. Все это ребята уничтожили, особенно же навалились они на хлеб. Говорят, что иностранцы едят мало хлеба, но ведь они-то не иностранцы.
По тому, как смущенно заглядывал иностранец в свой рюкзак и наконец вывернул его, ребята поняли, что все иностранные запасы уничтожены. Впрочем, они уже были сыты. Даже несколько осоловели. Им дремалось. Ведь в лагере они привыкли спать после обеда. Миша посмотрел на свой «будильник» и сказал:
— Минут двадцать отдохнем и поедем дальше. А то неудобно сразу смываться.
Отяжелевшие от еды мальчики прилегли вокруг костра. Жердяй и тот уселся поудобнее.
Глава 20
Неожиданный поворот
— Комсомоль, — улыбаясь, сказал иностранец, показывая на комсомольские значки ребят. — Ким… Интернациональ.
— Да, мы есть комсомольцы, — ответил Миша не без вызова и тоже коверкая слова, вероятно думая, что иностранец его лучше поймет.
— Карашо, карашо. Комсомоль — это карашо, Интернациональ — это карашо…
«Притворяешься, буржуазия несчастная! — подумал Миша. — Не любишь ты ни комсомола, ни Интернационала». Потом спросил:
— Путешествуете? Вояж?
— О да, да, — закивал головой иностранец, — мы есть путешественник. Ходить, ездить. Россия карошая страна, красивая страна…
— Нравится вам у нас? — насмешливо спросил Генка, поглаживая свой туго набитый живот.
— О, нравится, отшень нравится… Очень карашо.
«Знаем, как вам у нас нравится, — подумал Миша. — Разве капиталистам у нас может нравиться? Живьем бы съели нашу республику!»
— Как там у вас лорд Керзон поживает? — развязно спросил Генка.
Иностранец брезгливо сморщил лицо:
— О, лорд Керзон… Это некарашо — лорд Керзон, отшень некарашо… Фуй, Керзон… Керзон — это плохо…
— Значит, Керзон нехорошо? — насмешливо переспросил Миша. Ему даже стало неприятно, что иностранец так притворяется. Уж если имеешь убеждения, то отстаивай их.
Иностранец отрицательно покачал головой:
— Некарашо, отшень некарашо. Керзон… Ультиматум, Тори… Империализмус…
— А Муссолини хорошо?
— О, — иностранец энергично замотал головой, — Муссолини савсем некарашо. Фашизмус… Коммунист, социалист — убивать… Диктатур… Савсем некарашо…
— А почему у вас есть всякие керзоны и муссолини? — ехидно спросил Миша. И, видя, что иностранец его не понял, он энергично махнул рукой: — Керзон, Муссолини вон! Долой!
Иностранец радостно закивал головой:
— О да… Конешно… Долёй Муссолини, долёй… Керзон — долёй!
«Хитрый!» — подумал Миша и сказал:
— Вот вы их и долой.
Иностранец задумчиво качнул головой и, медленно подбирая слова, сказал:
— Врэмя… Рэволюций не устраивать, рэволюций приходят.
«Какой политически грамотный! — подумал Миша. — Уж такие, как вы, конечно, никакой революции не устроят…»
А иностранец с серьезным и многозначительным выражением лица, несколько напряженным от необходимости вспоминать русские слова, продолжал:
— Кризис, безработний, война… Пролетарият — некарашо… Коммунист — агитация… Капиталист его в тюрьма. — Он вдруг засмеялся и схватил себя за кисти рук: — Кандали, тюрьма! — И смешно сморщился: — Некарашо — тюрьма…
Миша посмотрел на золотое кольцо иностранца, на белые полоски кожи на кистях женщины и подумал, что очень хорошо смеяться, когда сами носят золотые кольца и браслеты.
Иностранец перехватил его взгляд, засмеялся и показал на руки женщины:
— Кандали — три лет… Тюрьма — десять лет.
Женщина в это время перемывала чашки.
Мальчики сразу не сообразили, о чем говорит иностранец. Какие десять лет тюрьмы? Какие три года кандалов?.. И только Славка первым обрел дар речи.
— Вы коммунистка? — спросил он у женщины.
Иностранец, улыбаясь, повторил Славкин вопрос на незнакомом ребятам языке.
Женщина засмеялась, ткнула себя пальцем в грудь и сказала:
— Коммунисьт! — потом показала на мужчину: — Коммунисьт, — потом опять на себя: — Румэн, — потом опять на своего спутника: — Куба, Эмерика…
Мальчики молчали, потрясенные таким неожиданным оборотом дела. Те, кого они приняли за буржуев, оказались коммунистами. Они, наверно, делегаты Коминтерна. Ведь недавно был конгресс. Как же они так опростоволосились, так бессовестно обожрали их! И как они могли принять их за капиталистов? Какие капиталисты будут путешествовать по берегам Утчи? Капиталисты отдыхают во всяких Баден-Баденах… Да и если приглядеться, то сразу видно, что это коммунисты и революционеры. Одеты хотя по-иностранному, но просто, как рабочие. У мужчины доброе, умное лицо, приветливая улыбка, сильный подбородок. У женщины тоже волевое лицо, и седина, и морщинки. И они отдали мальчикам всю свою еду. Разве капиталисты поделились бы с ними? Ах, как нехорошо получилось!..
— Значит, вы с Кубы? — переспросил Миша только для того, чтобы нарушить неловкое молчание.
— Куба, Куба, — засмеялся кубинец.
— Капабланка! — сказал Генка.
— О да, да, Капаблянка, чемпьоне…
— Хорошо на Кубе?
— Карашо, отшень карашо. — Кубинец показал на землю. — Ходить земли карашо. — Потом он обвел рукой вокруг шеи, как бы изображая петлю, показал на дерево: — Висеть на дерев плёх, отшень плёх. — Он засмеялся. — Мне надо висеть, а я удираль…
Мальчики с восхищением смотрели на кубинца. Этот толстый, веселый, такой на вид заурядный человек был приговорен к смертной казни и сумел уйти от палачей, сумел добраться до России! Каким мужеством, какой отвагой надо обладать! А он сидит на берегу Утчи, вскрывает банки с консервами и смеется как ни в чем не бывало! Вот это люди!
Хорошо бы с ними поговорить, порасспросить, узнать, как обстоит дело с мировой революцией. Но надо ехать за Игорем и Севой. Да и после этого недоразумения мальчики чувствовали себя неудобно. Они встали и начали прощаться.
— До свидания, — говорили они, пожимая руки кубинцу.
А Генка добавил:
— Если будете идти все берегом и берегом, то обязательно к нам в лагерь попадете.
Кубинец не понял Генку и только весело улыбнулся в ответ.
Румынке мальчики пожали руку особенно почтительно: на этих руках были кандалы!
Потом они спустились к лодке.
Собственно, никто не говорил, что им надо сделать, но каждый понимал это. Они сложили все свои продукты в один мешок, только хлеб мальчики оставили себе: ведь иностранцы его почти не едят.
Кубинец и румынка стояли на берегу, поглядывая на сборы и не понимая их назначения. Миша торопился: может быть, кубинец улыбается тому, что у мальчиков столько продуктов, а их они оставили безо всего.
Наконец мешок был уложен. Миша вынес его из лодки и положил у ног кубинца и румынки. Они сначала не поняли, но потом, когда сообразили, замахали руками:
— Не надьо, не надьо, возьмийть, не надьо…
Но Миша уже оттолкнул лодку и прыгнул в нее.
Кубинец поднял мешок и, протягивая его мальчикам, пошел по берегу вслед за лодкой. Но Генка и Славка налегли на весла. Лодка быстро удалялась.
На берегу стоял кубинец с мешком в руках. Он растерянно улыбался и качал головой. А маленькая рыженькая румынка стояла неподвижно, внимательно и серьезно глядя вслед мальчикам. Косая тень белой березы падала на ее худенькие плечи.
И тогда Миша поднял руку и крикнул:
— Рот фронт!
Женщина молча подняла сжатый кулак.
Кубинец засмеялся, опустил мешок и тоже поднял сжатый кулак:
— Рот фронт! До свиданьия! Рот фронт!
Глава 21
Плот
Скрылись из виду и кубинец, и румынка, и их маленький шалаш из веток. Опять потянулись леса, поля, луга, перелески, овраги, мельницы.
— Некрасиво получилось, — сказал Славка, работая веслами, — приняли за буржуев, набросились на еду.
— Все Генка! — не оборачиваясь, ответил Миша. — «Нэпманы», «буржуи»! Всегда лезет со своими дурацкими идеями!..
— Меня брюки гольф подвели, — оправдывался Генка. — Вижу, гольф, ну и подумал, что буржуи.
Миша пожал плечами:
— Разве можно по штанам судить о человеке? И меня сбил с толку. Я сразу подумал, что это иностранные коммунисты.
— А если ты подумал, то и продолжал бы думать! — огрызнулся Генка. — Каждый имеет свое мнение.
— А кто на бутерброды накинулся? — заметил Славка.
— Как будто из голодной губернии приехал! — усмехнулся Миша. — Стыдно было смотреть!
Генка собирался опять огрызнуться, но Миша приподнялся и крикнул:
— Плот!
На небольшой песчаной отмели лежал плот — ветхое сооружение из коротких, тонких бревен, скрепленных лыком, рваной веревкой и ржавой проволокой. Крепления разорвались, и бревна плота разошлись в разные стороны. В таком виде он был непригоден к употреблению.
— Сенькин плот, — сказал Жердяй.
— Точно. Вот эта проволока моя. А кол Акимка притащил, из ограды вынул. Сенькин плот.
Мальчики вышли на берег. Справа тянулся лес, слева виднелась деревня. За полями, на расстоянии километра, высилась насыпь железной дороги. По ней тащился товарный состав. За ним волочился длинный хвост дыма.
Мальчики обсудили положение.
Здесь Игорь и Сева оставили плот. Куда же они ушли?
— Они ушли на станцию, — сказал Генка.
— А может быть, в деревню? — предложил Славка.
— Зачем?
— За веревками. Хотят починить плот и плыть дальше.
— На такой развалине!..
— Вот что, — сказал Миша. — Генка со Славкой отправятся на станцию, а мы с Жердяем поплывем в деревню. Как она называется, Жердяй?
— Грачьи Выселки.
— В Грачьи Выселки мы и пойдем. Может быть, ребята туда заходили. Если не за веревками, то хотя бы за продуктами. А вы со станции вернетесь в деревню. Мы будем вас ждать, только особенно не задерживайтесь. — Миша посмотрел на часы: — Ого, уже половина пятого! Вот и день прошел.
Генка и Славка зашагали к станции. Миша и Жердяй вернулись к лодке и поплыли к деревне Грачьи Выселки. Подыматься в деревню им не пришлось. Возле берега купались деревенские ребятишки. И они сказали, что действительно вчера вечером здесь были два пионера. Приплыли они на лодке, расспросили, какая деревня будет дальше, и поплыли вниз.
— На лодке? — удивился Миша. — А какие они из себя, эти пионеры?
По описанию ребятишек, это были именно Игорь и Сева. Один худощавый, черный, горбоносый, другой беленький, толстенький.
Откуда же у них лодка?
Вот еще новости!
— А какая у них лодка? — спросил Миша.
Ребята объяснили, что лодка была самая обыкновенная. Но такой лодки в деревне не было, это была чужая лодка, и Сева и Игорь поплыли на ней дальше.
— Дальше Фролкиного брода не уплывут, — сказал Жердяй, — там мостики всю реку перегораживают. А за мостиками — мельница с плотиной.
— А далеко до Фролкиного брода? — спросил Миша.
— Верст десять будет, — неуверенно ответил Жердяй. — До ночи доберемся.
— Так ведь надо еще Генку и Славку подождать, — уныло проговорил Миша. — Пока вернутся Генка и Славка, день уже пройдет.
Полуденный зной сменился вечерней прохладой. Рои комаров закружились над рекой. Даль ее заволакивалась туманом. Длинные тени лежали на воде. И только за дальними горами сверкали последние бронзовые отблески заката.
Наконец явились со станции Генка и Славка, усталые, злые, запыленные. Станция оказалась совсем не близко. К тому же в деревне на них напали собаки, черт бы их побрал! И это вовсе не станция, а какой-то несчастный полустанок. Здесь останавливается только один поезд, в десять часов утра. И никаких ребят никто не видел.
В двух словах Миша объяснил положение. Мальчики сели в лодку и двинулись дальше.
Сразу за деревней им преградили путь коровы. Они стояли в воде по всей ширине реки. Мальчики гребли осторожно. Стоявший на носу Славка яростно махал руками, но коровы только косились на него настороженными глазами и не двигались с места.
— Н-но, проходи, чего стала! — кричал Славка.
— Кому ты говоришь «но»? Ведь это не лошади, — сказал Генка. — Надо кричать «аллё».
— Аллё! — закричал доверчивый Славка.
Но и этот окрик не подействовал на коров.
Генка покатывался с хохоту.
И только размахивая веслами и подняв страшный крик, мальчики заставили коров посторониться и проложили себе дорогу.
Некоторое время они плыли без особых приключений.
Погасли последние огни заката. Река сразу стала безмолвной. Мальчики молчали. Уж очень пустынно и тоскливо было вокруг.
— Где же Фролкин брод? — спросил Миша.
— Скоро должен быть, — ответил Жердяй.
Быстро темнело. Берега теряли свои очертания.
Ничего не поделаешь, придется остановиться на ночевку, иначе в темноте они могут проглядеть Игоря и Севу.
Глава 22
Путешествие продолжается
Они устроились на ночлег в большом стогу сена; перенесли туда свои вещи, а лодку вытащили из воды и приторочили цепью к дереву. На ужин им достались только кусочки хлеба, смоченные речной водой.
Последние лучи солнца светились в верхушках деревьев, но на лесных тропинках лежали густые тени. Утих птичий гомон. Сразу пропали куда-то шмели и мухи.
И вот уже в кустах и на траве заискрились светлячки. Новые звуки оживили лес: визгливо хохотал филин, отвратительно закричала сова; она то плакала жалобно, как маленький ребенок, то стонала, как тяжелобольной, свистела, пищала, то просто ухала: «Уху! Уху!..» И этот крик сразу напомнил мальчикам лодочника.
Им стало жутко. В сене что-то шуршало. Генка предположил, что это змеи. Но Жердяй уверил его, что змей здесь нет.
Опять прокричала сова.
— Вот раскричалась! — поежился Генка. — Не надоело ей.
— Еще, бывает, леший так кричит, — сказал Жердяй.
Генка заворочался на сене и засмеялся.
— Вот-вот, ты еще сегодня про леших не рассказывал.
— В лесу лешие водятся, — убежденно сказал Жердяй, — а в болоте — болотные, моховики, боровики. В воде — водяные и еще русалки. А в избе — домовые.
— Сам-то ты их видел? — громко зевнул Генка.
— Разве их увидишь! — тихо засмеялся Жердяй. — Их только колдун или ведьма могут увидеть. А чтобы человек увидел — этого не бывает. А пойдешь в лес, леший тебя и начнет кружить… Кружит, кружит… Пять верст пройдешь и опять на старое место выйдешь. Почему так получается? А потому, что леший кружит.
— Не поэтому, — сказал Миша.
— А почему?
— Вот почему. Когда человек идет, то он левой ногой делает шаг чуть больше, чем правой, и постепенно забирает вправо. И в результате получается круг. Понял?
— Как же так? — Генка приподнялся на локте. — Значит, если я иду по улице по левой стороне, то постепенно приду на правую?
— Нет, — возразил Миша, — на улице есть ориентир — сама улица. Человек идет и незаметно для самого себя все время исправляет шаг. А в лесу прямого ориентира нет, и человек своего шага не исправляет. Правильно, Славка, так я объяснил?
Но в ответ он услышал только тихое посапывание. Славка спал.
— Последуем его примеру, — сказал Миша, — а то завтра рано вставать.
…С первыми лучами солнца Миша проснулся и начал будить ребят.
Жердяй поднялся сразу. Славке очень не хотелось вставать, но он пересилил себя и, зевая, поплелся к реке умываться. Генка же зарылся в сено и так скрючился, что за него невозможно было уцепиться. Спал он даже тогда, когда ребята потащили его к реке. И только когда раскачали, чтобы бросить в воду, он проснулся, вырвался и объявил:
— Зря будили, я бы сам проснулся к завтраку.
Но завтрак не из чего было готовить. Подтянув потуже пояса, мальчики сели в лодку и двинулись в путь.
Они проплыли версты три. Вдруг Генка потянул носом раз, другой и сказал:
— Ребята, каша!
Мальчики тоже принюхались. Действительно, пахло кашей, пшенной, чуть пригорелой. Пахло так густо, смачно, аппетитно, что у мальчиков даже слезы навернулись на глаза.
— Пахнет с правого берега, — деловито сказал Миша. — Жердяй, правь туда, а вы, ребята, нажмите!
Вдохновленные все усиливающимся запахом каши, ребята нажали на весла. Миша стоял на носу лодки, поворачивая собственный нос то в одну, то в другую сторону…
Вскоре они увидели на пригорке белые палатки красноармейского лагеря. Возле коновязи били копытами кони, блестел на солнце длинный ряд умывальников, подвешенных к перекладине меж двух деревьев, трепетали на ветру красные полотнища с лозунгами, виднелись щиты на стрельбищах, рвы и насыпи. Но лагерь был пуст, красноармейцы, вероятно, были на ученье. Только у самого берега дымилась походная железная кухня. Из нее-то и пахло кашей. Красноармеец с красным от жара лицом орудовал у котла громадной шумовкой. Второй красноармеец, стоя на коленях, колол дрова и подбрасывал их в печь.
Мальчики подошли к кухне. Повар покосился на них, но, ничего не сказав, отвернулся.
Мальчики стояли, хотя и понимали, что стоять глупо. Но ужасно хотелось есть, и они не знали, как приступить к делу. Наконец Миша спросил:
— Скажите, пожалуйста, товарищи, здесь вчера не появлялись два пионера, два мальчика в лодке? Мы их разыскиваем.
Повар даже не обернулся. А его помощник сказал:
— Не видали. Может, и были. Не видали.
Опять наступило молчание.
Генка льстиво посмотрел в спину кашевару:
— Вам не надо чем-нибудь помочь?
Повар скосил на него сердитые глаза, отвернулся и сказал:
— Игнатюк, миски!
Второй красноармеец поднялся, достал из-под навеса четыре глубокие алюминиевые тарелки. Повар большой черпалкой наложил в них кашу, затем другим черпаком, поменьше, полил кашу маслом. Генка сбегал к лодке за ложками. Обжигаясь, мальчики принялись за еду. Некоторое время слышалось только громкое чавканье и хлюпанье каши.
Когда тарелки были пусты, повар опять обернул к ним свое красное, сердитое лицо, посмотрел каждому в глаза и ударил черпаком по котлу:
— Игнатюк, добавки!
Игнатюк собрал тарелки. Повар наполнил их новой порцией каши, меньше первой, но именно как раз такой, какая требовалась, чтобы окончательно насытиться. Повар хотя и не любил разговаривать, но хорошо знал свое дело.
— Игнатюк, — сказал он, не оборачиваясь, — сухим пайком по порции хлеба!
Игнатюк вынес из-под навеса по большому ломтю хлеба и вручил ребятам.
— Кру-гом марш! — не оборачиваясь, скомандовал повар.
— Спасибо! — весело прокричали мальчики и побежали к лодке.
В лодке Миша отобрал у всех хлеб, спрятал в мешок и, подняв кверху палец, глубокомысленно изрек:
— Свет не без добрых людей!..
Сытые и веселые, мальчики энергично гребли. Теперь-то уж близко Фролкин брод. А дальше, по словам Жердяя, Игорь и Сева уплыть не могли…
— А вот и Фролкин брод, — сказал Жердяй.
Речку перегораживали два бревна, опирающиеся на вбитые у берега сваи. Это и был Фролкин брод. Вдали слышался глухой шум.
— На мельнице вода шумит, — сказал Жердяй. — Тут она, плотина, близко.
На берегу лежала опрокинутая вверх дном лодка. Поднатужась, мальчики перевернули ее.
— Знакома тебе эта лодка? — с неожиданной тревогой спросил Миша Жердяя.
Заикаясь от волнения, Жердяй сказал:
— Кузьмина лодка, убитого.
— Не может быть! — закричал Генка.
Но Жердяй хорошо знал все лодки в деревне. Это была лодка Кузьмина.
Ошеломляющее известие! Мальчики испуганно переглянулись. Опять Кузьмин, опять загадочное убийство. И в эту историю замешаны Игорь и Сева. Как им досталась лодка Кузьмина? Где они ее взяли? Ведь когда Кузьмин и Николай поплыли на Халзин луг, Игорь и Сева были уже у иностранцев, то есть гораздо ниже Халзина луга. А с плота они сошли еще ниже, у Песчаной отмели…
— Они эту лодку взяли случайно, — неуверенно произнес наконец Миша, — не знали, что она принадлежала Кузьмину. Жердяй, ты уверен, что это лодка Кузьмина?
— Спрашиваешь!..
— Допустим, — продолжал Миша, — но ребята этого не знали и не могли знать. Просто нашли беспризорную лодку. А вытащили ее на берег, чтобы хозяин увидел и забрал.
— Безобразие! — сказал Генка. — Из лагеря удрали, чужую лодку захватили…
— Подожди, не ругайся, — остановил его Миша. — Во всяком случае, ясно: Николай никуда не угнал и не спрятал лодку. А это очень важно. Найдем ребят и все разузнаем. Видите, лодка еще мокрая, ее недавно вытащили из воды. Может быть, даже сегодня утром. Тут какая деревня близко?
— Стуколово, — ответил Жердяй. — Версты три будет.
Мальчики оставили Жердяя стеречь обе лодки, а сами отправились в деревню.
Глава 23
Беглецы
Дорога шла сначала берегом, потом опушкой леса, затем круто поворачивала в поле.
По опушке за стадом коров шел пастух, парень с перекинутым за плечо кнутовищем. Две собачонки отчаянно залаяли на ребят, но, подбежав к ним, подхалимски завиляли хвостами.
— Пройдем мы тут в деревню? — спросил Миша пастуха.
— Пройдете, — ответил пастух. И долго потом смотрел вслед мальчикам.
Деревня, казалось, еще спала. На улице ни души, все ворота заперты, собаки и те не лаяли. Мальчики миновали сельпо и увидели большую избу с вывеской «Стуколовский сельсовет».
Двери в сельсовете были открыты настежь. Но внутри никого не было. Одиноко стоял обшарпанный стол с выдвинутыми ящиками. Висел на стене деревянный ящик телефона. Хлопала открытая оконная рама. Скрипели под ногами половицы, краска на них сохранилась только у стен, а в середине была вытерта.
Мальчики вышли из сельсовета и увидели старичка сторожа в тулупе, с колотушкой в руке. Он подозрительно уставился на них и спросил:
— Вам чего?
Мальчики объяснили, что они из лагеря, разыскивают двух ребят, приплывших сюда вчера на лодке.
Сторож молча слушал их, не то жуя что-то, не то просто шевеля губами. Потом строго сказал:
— Пошли!
— Куда?
— Там разберут! Пошли!
В полном недоумении мальчики последовали за ним. Сторож, смешно ковыляя в огромных рваных валенках, со странной и в то же время комичной подозрительностью поглядывал на ребят.
Так они дошли до большой пятистенной избы.
— Входите! — строго сказал сторож и вошел вслед за ними.
В темных сенях Миша нащупал ручку двери и потянул ее. Дверь открылась. Мальчики вошли в избу, и их глазам представилась такая картина.
За большим квадратным столом без скатерти сидели Игорь, Сева и милиционер. Обыкновенный милиционер в форме. Его фуражка и ремень с пристегнутым пистолетом лежали на лавке.
У печи возилась хозяйка. Задняя половина комнаты была отгорожена ситцевой занавеской, за ней слышались визг и возня ребятишек.
Игорь, Сева и милиционер мирно ели картошку с огурцами. Но Миша сразу сообразил, что ребята арестованы. И ему стали понятны и удивление пастуха, и суетливая строгость сторожа.
— Вот, товарищ, — сказал сторож милиционеру, — еще троих привел. Этих двух разыскивали.
Из-за занавески высунулась белобрысая голова, за ней другая. Через минуту шесть ребятишек, белобрысых, нестриженых, в длинных рубахах, выстроились перед занавеской и молча уставились на вошедших мальчиков.
При виде своих товарищей Сева и Игорь перестали жевать и приподнялись. Но предупреждающий жест милиционера удержал их на месте.
— Кто такие? — с важным видом спросил милиционер.
Миша объяснил, кто они такие и зачем сюда явились.
— Так, — сказал милиционер, перебрасывая картошку с ладони на ладонь и дуя на нее. — Документы у вас есть?
При ребятах были комсомольские билеты, у Генки, кроме того, членские билеты МОПРа и Авиахима. Все это они положили перед милиционером. Тот скосился на документы и снова принялся за картошку. Ел он ее долго, и все молча смотрели, как он это делает. Даже старик сторож, которому давно бы следовало отправиться на свой пост, не двигался с места. Игорь, чернявый, горбоносый нервный паренек с ежиком жестких черных волос на голове, беспокойно поглядывал то на мальчиков, то на милиционера. Сева, толстый, флегматичный, сидел, опустив голову, затем, не поднимая головы, протянул руку, взял огурец и захрустел на всю избу.
Наконец милиционер вытер губы и руки и начал рассматривать документы. Делал он это так долго, что Миша усомнился в его грамотности. Но милиционер назвал его фамилию, потом Генкину, Славкину и даже заметил, что у Генки не уплачены членские взносы в МОПР и Авиахим.
Однако документы произвели на него кое-какое впечатление, и он, вынув из сумки лист бумаги и карандаш, начал составлять протокол.
На вопрос, знает ли он «предъявленных» ему мальчиков, Миша ответил, что знает, назвал фамилию Севы и Игоря и их московский адрес. Милиционер сверил с показаниями Игоря и Севы и убедился, что сведения совпадают. На вопрос, когда и зачем Игорь и Сева уехали из лагеря, Миша ответил, что уехали они третьего дня утром по глупости, что видно из оставленной ими записки. С бесстрастным видом милиционер приколол записку к протоколу.
В заключение Миша подписал протокол. Все в нем было написано правильно, хотя и с грамматическими ошибками.
— Почему вы их задержали? — спросил Миша.
— По подозрению, — ответил милиционер, затягивая на себе пояс и оправляя кобуру.
— Какому подозрению?
— В соучастии.
— Каком соучастии?
— Соучастии в убийстве гражданина Кузьмина.
— Что вы говорите! — закричал Миша. — Этого не может быть.
— Есть улики, — сказал милиционер, надевая фуражку. Он повернулся к сторожу: — Аким Семенович, я в уезд позвоню. А ты посмотри, — он многозначительно кивнул на мальчиков.
Сторож закрыл за милиционером дверь, придвинул табурет и уселся с видом, доказывающим его твердую решимость никого отсюда не выпускать.
Теперь мальчики могли поговорить.
— Добегались? — спросил Генка.
Игорь и Сева опустили головы.
— Расскажите, что произошло, — сказал Миша.
— Ни в чем мы не виноваты! — ответил Игорь дрожащим голосом.
Сева засопел, но ничего к этому не добавил.
— Почему вас задержали?
— Вот честное слово, — захныкал Игорь, — мы ни в чем не виноваты! У нас развалился плот. Видим — на реке лодка, беспризорная. Мы ее взяли, только доплыть сюда. А нам не верят…
— Лодку нашли на Песчаной косе? — спросил Миша.
— Да. Откуда ты знаешь?
— Знаю, — ответил Миша с таким видом, по которому Игорь и Сева могли судить, что ему известно не только это, но и многое другое.
— Будете теперь знать, как из лагеря бегать! — добавил Генка.
— Когда вы прибыли к иностранцам и когда уехали от них? — спросил Миша.
Пораженные такой осведомленностью, Игорь и Сева рассказали, что к иностранцам они приплыли в первый же день, то есть во вторник, а уплыли от них на другой день, то есть в среду. И как только уплыли, то почти тут же нашли лодку, пересели в нее и поплыли дальше. И вот здесь их задержали.
— А красноармейцы вас кормили?
— Кормили.
— Вот видите, а вы говорите, что сразу приплыли сюда. Надо точно рассказывать, а вы путаете. Вот вам и не верят.
Игорь и Сева опять понурили головы.
— Мы вас, конечно, выручим, — продолжал Миша, — хотя вы этого и не заслужили…
— Чтоб знали в другой раз, как из лагеря бегать, — вставил Генка.
Игорь и Сева еще ниже опустили головы.
— Вас, конечно, не стоит выручать, — продолжал Миша, — выкручивайтесь как хотите… Но мы вас выручим только ради чести и репутации отряда. Хотя вам, видно, наплевать и на то и на другое.
Игорь мотнул головой в знак протеста. Сева подумал и снова потянулся за огурцом.
— Да, да, — продолжал Миша, — вам наплевать… Если бы вы дорожили авторитетом отряда, то не сбежали бы. Теперь вся Москва говорит, что в нашем отряде нет ни дисциплины, ни порядка. Вам это безразлично, конечно… Что для вас отряд, что для вас коллектив? Но мы дорожим репутацией отряда и выручим вас. Выручим вас, вернем в лагерь, и пусть все обсуждают ваш поступок. Посмотрим, как вы будете оправдываться, посмотрим…
Миша еще, наверно, долго выговаривал бы Игорю и Севе, но вернулся милиционер и объявил, что Игоря и Севу приказано доставить в город, к следователю.
— Мы тоже поедем, — заявил Миша, — одних ребят мы не отпустим.
— Проезд для всех свободный, — ответил милиционер.
Миша взял с собой Генку, а Славке велел вместе с Жердяем вернуться в лагерь. И он велел Славке ничего в лагере не рассказывать о злоключениях ребят. И если приедут их родители, то сказать, что ребята нашлись и скоро вернутся в лагерь.
Славка отправился к лодке. Милиционер с Игорем и Севой двинулись к станции. Вслед за ними зашагали Миша с Генкой.
Глава 24
В городе у следователя
Следователь оказался вовсе не таким, каким представлял себе Миша. Мише всегда казалось, что следователь должен быть высоким, мрачным, сосредоточенным человеком с настороженным и проницательным взглядом, подтянутый, молчаливый, недоверчивый.
Перед ними же сидел небольшой человек с самым обыкновенным лицом, серенькими глазами, рассеянный и, как казалось Мише, невнимательный. Заваленный папками шатающийся стол был покрыт рваным куском зеленого картона, усеянным чернильными кляксами и испещренным неразборчивыми надписями и ничего не значащими рисунками.
Следователь несколько раз выходил из комнаты, оставляя на столе бумаги, и Миша удивлялся этому: ведь бумаги несомненно секретные. И вообще, все здесь открыто, сотрудники громко разговаривают, люди входят и выходят. Это сильно поколебало Мишино уважение к учреждению, где, по его представлению, велась тайная, опасная и самоотверженная борьба с преступниками.
Игоря и Севу следователь, казалось, совсем не слушал. Он писал и писал что-то постороннее: бумагу он передал другому сотруднику со словами: «Это к делу Кочеткова», и тут же принялся писать следующую. Когда Миша рассказывал про то, что на них напал лодочник Дмитрий Петрович, и про парней в лесу, то следователь был так невнимателен, что Миша обиженно замолчал.
Продолжая писать, следователь наконец спросил:
— Вы сумеете показать место, где нашли лодку?
— Конечно, — ответил Игорь. — У Песчаной косы.
— Сколько до нее от Халзина луга?
На этот вопрос ответил Миша:
— Верст семь или восемь.
Следователь поднял голову и, постукивая по столу карандашом, сказал:
— Семь верст… Как же там очутилась лодка? Отнести ее течением не могло: расстояние большое, река узка и извилиста, лодку бы обязательно прибило к берегу. Значит, лодку отогнали. Кто? Рыбалин? Но какой ему смысл отгонять лодку на такое расстояние и затем возвращаться обратно? Допустим, что убийца не Рыбалин, а кто-то другой. И этот другой отогнал лодку. Зачем? Ведь таким образом он только наводит на свой след, доказывает свое присутствие, в то время как его задача — скрыть свое присутствие и свалить все на Рыбалина. Третья возможность: лодку увел посторонний человек. Но убийство произошло вчера утром, и лодку вы нашли тоже вчера утром. Следовательно, она была отогнана сразу после убийства. И этот случайный человек не мог не видеть того, что произошло на берегу, хотя бы тела убитого Кузьмина.
Он на минуту задумался, потом продолжал:
— Рыбалин категорически отрицает свою причастность к убийству. Улики против него тяжелые, но обстоятельства еще неясны. Одним из обстоятельств, кстати, самым загадочным, и является угон лодки. Будь лодка на Песчаной косе, нам было бы легче найти человека, пригнавшего ее туда. Но вы забрали лодку и этим запутали следы. Теперь все сложнее.
Игорь и Сева сидели не поднимая глаз, подавленные сознанием своей вины.
— Все, что вы рассказали, — правда? — спросил следователь и первый раз посмотрел на мальчиков так, как, по мнению Миши, и полагалось смотреть следователю: пытливо и строго.
— Честное слово! — в один голос сказали Игорь и Сева.
Миша заявил, что ручается за мальчиков.
— Верю, — сказал следователь, — но ребята еще могут мне понадобиться. Придется дня на два задержаться в городе. У кого бы они могли остановиться? Есть у вас в городе знакомые?
Знакомых у ребят не было.
— Куда же вас девать? — задумался следователь. — Вот что… Я дам записку в губоно. Ребят дня на два поместят в детдом, а потом мы их переправим в лагерь.
Он написал записку и передал ее Мише.
— А к кому там обратиться? — спросил Миша.
— Кто там… Обратитесь лучше всего к товарищу Серову. Детские учреждения в его ведении.
Серов, Серов… Кто же это такой? Знакомая фамилия… Ах да, ведь это им подписана охранная грамота на усадьбу…
— Вы их надолго задержите? — спросил на прощание Миша.
— Дня два, не больше, — ответил следователь.
Глава 25
Серов
Серов был одет в обычный костюм губернского совработника: галифе, сапоги и защитный френч с большими накладными карманами. Ведал он в губоно хозяйственными делами и сидел в отдельном кабинете за большим письменным столом с круглыми резными ножками.
При взгляде на Серова Мише сразу вспомнился урок геометрии, на котором они рисовали куб и шар. Только там куб и шар стояли рядом, а здесь шар был водружен на куб: к короткому квадратному телу была привинчена большая, круглая, совершенно лысая голова. Шеи не было вовсе, ее заменяли несколько толстых складок между головой и туловищем.
Жирные губы, маленькие живые карие глазки и сытая улыбка придавали лицу Серова такое выражение, точно он только что встал из-за обильного стола, но не прочь вернуться к нему. Его квадратное тело, утолщенное оттопыренными на жирной груди накладными карманами, покоилось в кресле неподвижно, а голова вертелась во все стороны, как у тех кукол, у которых голову можно повернуть задом наперед и даже обернуть несколько раз вокруг оси.
— Написано двое, а вас четверо, — сказал Серов, переводя живой взгляд с одного мальчика на другого. Миша показал на Игоря и Севу:
— Это про них.
— Зачем они нужны следователю?
Миша рассказал об убийстве Кузьмина.
— Что за Карагаево? — спросил Серов.
— Карагаево. Там, где бывшая графская усадьба.
— Знаю, знаю. — Серов закивал головой и многозначительно поднял короткий толстый палец. — Историческая ценность.
Потом он подробно расспросил об обстоятельствах убийства, про лагерь, про деревню, про то, как Игорь и Сева попали на реку и угнали лодку. Слушая Мишин рассказ, он одобрительно кивал головой. Что именно он одобрял, ребята так и не поняли. А когда Миша рассказал про лодочника, то Серов даже всплеснул руками, и на лице у него появилось огорченное выражение: «Вот, мол, какие дела творятся на белом свете»…
Но еще больше огорчился Серов, когда узнал, что Миша не рассказал следователю о встрече с иностранцами. Как же так? Надо было рассказать. Следователю все важно.
— Иностранные коммунисты, — удивился Миша, — при чем здесь они?
Серов живо ответил:
— Я не говорю, что они причастны, но иностранцы! Ведь вы не видели их документов. Может быть, они не коммунисты. Надо быть начеку.
Краснея от волнения, Миша сказал:
— И Рыбалин никого не убивал, и иностранные коммунисты здесь ни при чем.
— Хорошо, хорошо, — сразу согласился Серов, — это дело следствия, путь они занимаются…
Он вдруг засмеялся тонким, как у девчонки, смехом, а потом начал обстоятельно рассказывать про усадьбу, про ее историческую ценность. Это гордость губернии, говорил Серов, ее инвентарь хранится в местном краеведческом музее, в разделе «Быт помещика XVIII столетия». Ребята как сознательные комсомольцы должны беречь усадьбу, ничего в ней не трогать и не портить. Усадьба, сказал Серов, — достояние народа. Настоящие революционеры должны беречь и охранять достояние народа.
Говорил он быстро, все время перебегая своими живыми карими глазами с одного мальчика на другого. Но ребятам ужасно хотелось спать. Чтобы не заснуть, Генка вертелся на стуле, Игорь хлопал глазами, а Сева встряхивал головой, которая поминутно падала на грудь. Миша хотел прервать Серова, но ему не удавалось вставить ни одного слова.
В заключение Серов сказал:
— Теперь насчет ребят. Поместить их в детский дом я не могу. Нет свободных мест, и нет свободных пайков.
Миша с удивлением посмотрел на Серова. Зачем же он их держал целый час? Дело к вечеру, как и где теперь устраивать ребят?
— Нет свободных мест, нет свободных пайков, — повторил Серов и нетерпеливо заерзал в своем кресле.
— Здрасте! — сказал Генка. — Что же им, на улице ночевать?
Серов задумался, потом спросил:
— У вас есть знакомые в городе?
— Нет.
— Никого?
— Никого!
— Ладно, — сказал вдруг Серов, — я этих ребят подержу два дня у себя дома. Не на улице же им, в самом деле, ночевать. — Он сокрушенно покачал лысой головой. — Хороши в угрозыске: вызывают и бросают детей на улице… Вот вам и беспризорничество… Мы боремся с беспризорностью, а они ее создают.
Он встал. И оказалось, что хотя он широкоплеч и тучен, но совсем мал ростом. Почти такой же, как и ребята.
— Вот так, — сказал Серов, — подержу их два дня у себя. Будут сыты.
Глава 26
Борис Сергеевич
Выйдя из губоно, ребята столкнулись с директором московского детского дома Борисом Сергеевичем, тем самым, который с Коровиным приезжал несколько дней назад в усадьбу и разговаривал с «графиней».
Услышав, что ребята были у Серова, он спросил:
— Велел вам убираться из усадьбы?
— Нет, почему? — удивился Миша. — Мы у него были совсем по другому делу… Я бы вам рассказал, да вот, — он показал на Игоря и Севу, — надо ребят отвести…
— Я вас провожу, — сказал Борис Сергеевич.
По дороге Миша рассказал Борису Сергеевичу о происшествиях последних дней. Генка живописно прокомментировал его рассказ. Борис Сергеевич пожал плечами:
— Здесь два детских дома. Оба наполовину свободны. Почему же Серов не поместил ребят туда? Непонятно.
— Он решил, что Игорю и Севе будет у него лучше, — сказал Генка, — все же домашняя обстановка.
— Серов мог бы так и сказать, — ответил Борис Сергеевич, — но он сослался на то, что детдома загружены, а это неверно.
— Мы не могли отказаться, — сказал Миша, — ребят-то надо куда-то поместить.
— Да, конечно, — согласился Борис Сергеевич.
— А как же иначе? — подхватил Генка. — У Серова их и накормят, и напоят, и в постельку уложат… «Накормила, напоила и поесть дала ему»… Везет этим дурачкам, честное слово! Из лагеря убежали, всех растревожили, в дурацкую историю влипли и вышли сухими из воды. Им бы не у Серова на пуховиках прохлаждаться, а посидеть бы эти два дня в милиции…
— Откуда ты знаешь, что у Серова пуховики? — возразил Игорь.
— Знаю. По лицу видно, что на пуховиках спит.
— Какой проницательный! — засмеялся Борис Сергеевич.
Серов жил на окраине, и им пришлось пересечь весь город.
— Ну и город! — разглагольствовал Генка. — Даже трамвая нету. И смотрите, как интересно — все улицы называются: Стрелецкая, Сторожевая, Пушкарская, Солдатская, Ямская… Старинный город. Наверно, здесь раньше крепость была.
— Город старинный, — подтвердил Борис Сергеевич, — он существовал еще до возникновения Москвы.
— Вы по поводу трудкоммуны приехали? — спросил Миша.
— Да, — нахмурился Борис Сергеевич.
Но как обстоит дело с трудкоммуной, рассказывать не стал.
Зато он подробно расспросил об убийстве Кузьмина. В ответ на уверения Миши, что Рыбалин к этому непричастен, Борис Сергеевич сказал:
— Мне трудно судить. Я не знаю обстоятельств дела. Но виноват тот, кто заинтересован в убийстве Кузьмина.
Наконец они дошли до квартиры Серова.
Это был одноэтажный домик с небольшим крылечком и тремя окнами, завешенными белыми занавесками. За длинным забором, выкрашенным, как и дом, в ярко-красную краску и утыканным сверху длинными, острыми гвоздями, виднелись верхушки яблонь и груш. Возле двери висела на проволоке ручка звонка.
— Устраивайте свои дела, я подожду вас, — сказал Борис Сергеевич и медленно пошел вдоль улицы.
Мальчики поднялись на крыльцо. Миша потянул ручку звонка. За дверью послышался металлический грохот, потом шаги.
— Кто там? — спросил женский голос.
— Мы от товарища Серова, — ответил Миша.
Загремели запоры. Дверь открылась. На пороге стояла высокая красивая женщина в ярком халате, на котором были нарисованы зеленые и желтые цветы.
— Нас прислал товарищ Серов… — начал Миша.
— Я знаю, — проговорила женщина, и ее тонкие губы брезгливо искривились. — Кто остается?
Миша показал на Игоря и Севу:
— Вот они…
Она сделала шаг назад и шире раскрыла двери:
— Проходите!
Игорь и Сева нерешительно вошли в дом. Женщина сразу захлопнула за ними дверь.
Несколько озадаченные таким приемом, Миша и Генка стояли на крыльце.
— Я думал, что и нас обедом угостят, — уныло проговорил Генка.
— Угостят! Как же! — ответил Миша. — Дожидайся! — И он с возмущением посмотрел на дверь: даже попрощаться не дали с ребятами.
Но на кого похожа эта женщина? Определенно знакомое лицо. Может быть, на кого-нибудь из жильцов их дома на Арбате?..
— Честное слово, — сказал Генка, — еще немного — и я умру от голода…
Глава 27
Быт помещика
Генка не умер с голоду. Через час мальчики вместе с Борисом Сергеевичем вышли из столовой Нарпита с животами, туго набитыми щами и рисовой кашей.
За обедом Борис Сергеевич рассказал, что с трудкоммуной пока ничего не получается. Возражает Серов, его поддерживает кое-кто из местных руководителей. Ссылаются на историческую ценность усадьбы. Следовательно, сказал Борис Сергеевич, задача заключается в том, чтобы опровергнуть эту версию. А ее можно опровергнуть. Он уже собрал в Москве кое-какие данные. С этой же целью он сейчас пойдет в местный краеведческий музей. Там хранится обстановка усадьбы. Возможно, в музее найдется кое-что полезное.
— Нам Серов тоже рассказывал про музей, — сказал Миша. — Можно, мы с вами туда пойдем?
— Пожалуйста.
— Ну вот, — скривился Генка, — охота тебе тащиться в этот музей! Что там интересного? Опять бивни мамонта. В какой музей ни придешь, всюду бивни мамонта. Все хотят доказать, что в их губернии когда-то обитали мамонты. А если и обитали, какое это имеет значение?
— А вдруг, кроме бивней мамонта, там есть еще что-нибудь, и что-нибудь интересное? — заметил Борис Сергеевич.
— Нет уж, — возразил Генка, — ничего, кроме бивней, там нет. Еще, наверно, рака с мощами какого-нибудь святого. Да и в этой раке одна только труха и опиум для народа.
— Не хочешь — не ходи, — сказал Миша, — отправляйся на вокзал и жди меня.
— Нет уж, чем на вокзале болтаться, я лучше пойду в этот несчастный музей, — заявил Генка.
Генка оказался прав. Первое, что они увидели при входе в музей, были именно бивни мамонта. Изогнутые, желтоватые, они украшали маленький вестибюль музея, свидетельствуя, что и эта губерния не отстала от других по части мамонтов.
От вестибюля по всей окружности музея тянулась длинная анфилада комнат. Каждая была «отделом». Отдел животного мира, полезных ископаемых, растительного царства, кустарных промыслов, земледелия, истории края… Впрочем, история края занимала несколько комнат. На одной из них висела табличка: «Быт помещика XVIII столетия». В этом отделе и находилась обстановка усадьбы.
Это была экспозиция гостиной. За канатом стояла мебель красного дерева: стол, диван, кресла и стулья, обитые темно-красным атласом, каминный экран с нарисованными на нем китайскими птицами, большая арфа с порванными струнами, два высоких зеркала с канделябрами по бокам.
Были здесь еще три шкафа. В первом, под названием «Одежда помещика», стояли манекены в старинных парадных одеждах с медалями, орденами, звездами и голубыми лентами через плечо. Во втором («Досуг помещика») лежали длинные трубки, чубуки, игральные карты, бильярдные шары и шахматы из слоновой кости. В третьем («Отдых помещика») стоял почему-то обеденный сервиз, обложенный огромными пистолетами и другим старинным оружием.
Генка комментировал быт помещика очень неодобрительно:
— Зачем такие длинные трубки? Как из них курить? Потаскай за собой такую трубочку! Или кафтан. Как в нем ходить? А халаты… Какое старье! И кому это интересно?! Отдых помещика, досуг помещика, кому это нужно? Нет у нас никаких графов, никаких помещиков, зачем же выставлять их напоказ?..
Но Миша не слушал Генку. Ее внимание сразу привлекла бронзовая птица. Такая же, как и в усадьбе, но гораздо меньше. Она стояла на мраморной подставке и круглыми злыми глазами смотрела на мальчиков.
— Смотрите, Борис Сергеевич, — сказал Миша, — точно такой же орел, как и в усадьбе.
Борис Сергеевич оторвался от висевших на стене таблиц, которые он внимательно рассматривал.
— Эта птица нарисована на гербе графов, — сказал он, — а вот для чего сделаны их бронзовые изваяния, не знаю. Возможно, графская прихоть. — И он снова отвернулся к таблицам.
Мише вдруг захотелось спать. Вот так всегда! Как только придешь в какой-нибудь музей, так обязательно тебя одолевает сонливость. Почему в музеях так клонит ко сну? Хочется поскорее пробежаться по залам и выйти на улицу.
Но Мише было неудобно перед Борисом Сергеевичем. Он призвал на помощь всю свою волю и продолжал осмотр картин и таблиц, показывающих богатство графов и изображающих их быт. На одной картине секли крепостного. Он лежал на скамейке, связанный по рукам и ногам. По сторонам стояли два молодца в красных рубашках, с прутьями, с картинно поднятыми руками, в некотором отдалении — сам помещик в халате с длинной, до самого полу, трубкой в зубах.
Затем висела большая карта уезда, на которой разными красками было показано, что графы Карагаевы владели таким же количеством земли, сколько имели две тысячи крестьянских дворов. Крестьянская земля была обозначена красным цветом, а графская — черным. И она представляла собой большой массив по обоим берегам Утчи, вплоть до речушки Халзан, той самой, где убили Кузьмина…
Перед картой Борис Сергеевич стоял особенно долго и даже срисовал ее. И он объяснил Мише, что после революции почти вся графская земля была роздана крестьянам. Только некоторая ее часть осталась при усадьбе. Но и ее позабирали себе деревенские кулаки. И если будет организована трудкоммуна, то кулакам придется землю вернуть.
— Как же, — усмехнулся Генка, — так они вам ее и вернут! Попробуйте получите у Ерофеева…
Была здесь еще одна карта. Она изображала, каким богатством владел граф в России. Кроме Карагаева, у него было еще три имения и, помимо этого, рудники на Урале.
— Безобразие! — возмутился Миша. — Один человек всем владел, а другие ничего не имели! Ведь это же несправедливо! А правда, что на Урале у него были алмазные россыпи?
— Были, — подтвердил Борис Сергеевич. — Старый граф упорно искал на Урале алмазы. Но, кажется, ничего существенного не нашел. Ведь алмазы ценятся только крупные. А больших он не находил. Но через всю историю этой фамилии проходят какие-то загадочные происшествия с драгоценными камнями. Кто-то кого-то убивал, кто-то сходил с ума. Перед самой революцией старого графа даже лишили всех прав, и состоянием завладел его родной сын. В общем, грязные истории.
— Ну и черт с ними! — сказал Генка. — Пойдемте отсюда. Даже противно стоять здесь!
Когда они уходили, Миша оглянулся. И ему, как и тогда в усадьбе, показалось, что бронзовая птица зловеще смотрит им вслед…
Часть III Голыгинская гать
Глава 28
Сенька Ерофеев
Жизнь лагеря снова вошла в свою обычную колею. Привычный распорядок дня — сигнал побудки, утренняя линейка, подъем флага, работа в деревне, игры, беседа у костра. Но ощущение того, что отряд окружает какая-то тайна, не покидало Мишу.
Вина Николая Рыбалина не доказана, но он пока и не оправдан. Зато лодочник ходит как ни в чем не бывало. Встречая Мишу, он ухмыляется так, будто тогда, на реке, ничего не произошло. Даже подмигнул один раз.
С лодочником связана «графиня». Что-то отправляла в лес. И кулак Ерофеев с ними заодно. Да… Во всем этом надо обязательно разобраться: ведь может пострадать невинный человек!
Но как действовать? Пойти в лес, узнать, что это за парни? Но где их там искать? Да и опасно. Сам бы он, конечно, пошел. А ребята? Мало ли что может случиться, а он за них отвечает.
Значит, остается только одно: узнать, что повез лодочник в лес. Узнать через Сеньку Ерофеева. Ведь он тоже перетаскивал мешки в лодку. Конечно, так просто он не скажет. А попытаться надо. Вдруг проболтается…
Генка поддержал этот план.
— Но тебе неудобно, — сказал он, — ты вожатый, ребята тебя стесняются. А мне Сенька все выложит, будь уверен.
— Что-нибудь сделаешь не то, — усомнился Миша. — Так напортишь, что потом и не исправишь.
Но Генка заверил его, что будет осторожен и осмотрителен. Разве он не выполнял серьезных поручений!
Генка еще не обдумал плана действия. Как всегда, он надеялся на случай. Важно заговорить, а там будет видно.
Пионеры занимались оборудованием клуба. Им помогали деревенские ребята. Только Сенька и Акимка не принимали участия. Они сидели на куче бревен, грызли семечки и, лениво поругиваясь, перекидывались картами. Генка остановился возле них и, изобразив на лице любопытство, стал смотреть на их игру.
— Садись с нами, — предложил Сенька, тасуя колоду.
Генка присел на бревна:
— В карты не играю, а посмотреть — посмотрю.
— Не бойся, — усмехнулся Сенька, — не на деньги. На щелчки.
Генка важно ответил:
— Со мной играть нельзя. Я кого угодно обыграю.
— Так уж обыграешь?
— Точно тебе говорю. Дай колоду.
Генка взял колоду, перетасовал ее и показал карточный фокус.
Фокус был несложный. Но Сенька и Акимка были потрясены. Так, во всяком случае, показалось Генке. Уж очень удивленно они смотрели на него.
Довольный своим успехом, Генка деланно равнодушным голосом проговорил:
— Я и не такие вещи могу отгадать. Вот посмотрю на человека и сразу скажу, что он сегодня делал и что вчера делал и позавчера.
— Это ты врешь, — усмехнулся Сенька.
— Могу доказать!
— Ну, чего я вчерась делал?
— Ишь ты! Так я тебе и сказал.
— Конечно, не скажешь: откуда тебе знать.
— Значит, не знаю?
— Не знаешь!
— Не знаю?
— Нет!
— А если знаю?
— Так скажи!
— Так вот, — внушительно сказал Генка, — если я тебе скажу, что ты делал вчера, то ты мне скажешь, что ты делал позавчера.
— Ладно.
— Вчера ты на мельницу ездил, — сказал Генка.
— Верно! — пробормотал Сенька. — Это ты мог и видеть…
— Где я мог видеть? На мельнице я не бываю. Просто посмотрел на тебя и отгадал. А теперь ты скажи, что ты позавчера делал.
Сенька исподлобья посмотрел на Генку:
— Думаешь, только ты один можешь отгадывать?
— При чем здесь один или не один? Мы с тобой условились — вот я и отгадал. Теперь ты скажи, что делал позавчера, а я уж скажу, правду ты говоришь или неправду.
— Какой ловкий! Думаешь, ты один мастак отгадывать? И другие есть.
— Я что хошь отгадаю, — хрипло проговорил Акимка, большим загнутым пальцем ноги чертя на песке фигуры.
— Что ты можешь отгадать? — насмешливо спросил Генка.
— А что хошь.
— Верно, верно, — подтвердил Сенька, — Акимка все отгадает.
— Что же он может отгадать? — продолжал допытываться Генка.
— А что хошь, — Сенька повернулся к Акимке. — Вот, Акимка, мы тут одну вещь спрячем, а ты найди. Найдешь?
— А чего ж…
— Ладно. Давай…
Акимка поплелся к сараю.
— Не оглядывайся! — крикнул ему вдогонку Сенька.
Акимка уткнулся лицом в сарай.
— Так, — прошептал Сенька и вытащил из-за пазухи яйцо — обыкновенное куриное яйцо. — Видал? Пусть ищет. Ввек не найдет.
Генка подозрительно посмотрел на Сеньку. А что, если они в сговоре с Акимкой? Ведь друзья. Может быть, они его разыгрывают. Ладно, пусть попробуют!
— Давай его под бревно спрячем, — предложил он.
Сенька замотал головой:
— Не годится! Враз найдет! Вот что мы сделаем. Наденем шапки, а под шапку и положим. Пусть ищет! Ввек не найдет.
И не успел Генка ничего ответить, как Сенька приподнял его кепку, осторожно подсунул под нее яйцо и снова надвинул Генке козырек на лоб.
— Здорово будет! — зашептал Сенька. — Ни за что не найдет. А мы ему пять горячих за это влепим.
«Хорошо, — подумал Генка, — пусть яйцо будет у меня. Но обмануть им меня не удастся».
— Все? — спросил он.
— Все!
— Хорошо, — сказал Генка, — только условие: повернемся к нему спиной, и пусть он так ищет.
— Зачем?
— Чтобы ты ему не подмигнул.
— Ладно, — согласился Сенька.
Они сели спиной к Акимке.
— Давай, Акимка, можно! — крикнул Генка. — И, если ты ему хоть слово скажешь, я играть не буду.
— Ладно, ладно, — пробормотал Сенька.
Мальчики сидели не оборачиваясь. Сзади них послышались шаги и сопенье Акимки.
— Чего отвернулись? — спросил он.
— Ищи, ищи, — ответил Генка, торжествуя в душе.
Ловко он их провел! Эта штука, видимо, у них давно разыграна. Сенька должен каким-нибудь условным знаком показать Акимке, где спрятано яйцо. А на то, что придется отвернуться, они, конечно, не рассчитывали. Пусть поищет!
И Генка искоса поглядывал на Сеньку, опасаясь, что тот подаст Акимке тайный знак. Но Сенька сидел спокойно, сложив руки на коленях. Спиной он, конечно, ничего не сумеет изобразить. Попался! Теперь-то уж придется рассказать, что делал позавчера…
Мальчики, с надвинутыми на лоб кепками, сидели на бревне не оборачиваясь. Акимка ходил и сопел сзади них.
— Отгадывай скорей, — сказал Генка. — Целый год будешь искать?
— Сейчас, сейчас, — ответил Акимка.
Он засопел где-то совсем у Генкиного уха, и не успел Генка опомниться, как Акимка изо всех сил ударил ладонью его по голове, прямо по кепке. В ту же секунду липкая, вонючая яичная жижа потекла Генке на лоб и глаза.
Разъяренный Генка вскочил и сорвал с себя кепку. Жижа потекла сильнее, залепляя глаза. Яйцо было тухлым. Генке казалось, что весь он с головы до ног издает нестерпимое зловоние.
— А ты говорил, не отгадает! — покатывался с хохоту Сенька.
Акимка со своим обычным понурым видом что-то чертил на песке кривым ногтем ноги.
Краем рубахи и пучком травы Генка вытер лицо и голову (носовой платок он, как всегда, забыл в палатке) и сказал:
— Ладно, ваша взяла. В другой раз не разыграете!
— Там посмотрим, — отрезал Сенька. — Больно вы много из себя воображаете!
И уже совсем злобно добавил:
— Подумаешь, комсомольцы!
Глава 29
Гвоздь
В мрачном настроении вернулся Генка в клуб.
Там кипела работа. Заделывались дыры в стенах, выравнивались земляные полы, устраивались сцена, кулисы и занавеси, стеклились окна, в полы вкапывались столбики, к ним прибивались доски — будущие скамейки; ребята писали лозунги, рисовали плакаты, устанавливали елки вдоль стен, а под потолком подвешивали гирлянды из елочных ветвей вперемежку с разноцветными бумажными флажками.
— Ну как? — спросил Миша.
— Пока ничего, — мрачно ответил Генка.
— Не проболтался?
— Нет!
— А почему желтые пятна на лице?
— Где?! — Генка провел рукой по щеке. — Ничего, просто так… Они меня, черти, с яйцом разыграли…
— И ты попался?
— Я не знал.
— Не знал, как с яйцом разыгрывают… Эх ты!
— Что же ты меня не предупредил?
— Откуда я знал, что ты попадешься на такой дешевый розыгрыш?
Генка обиделся:
— И ты еще смеешься! Ну, попался, что же из этого? Во всяком случае, я вел себя осторожно. Сенька ни о чем не догадался. Так что можешь не беспокоиться.
— А это главное, — примирительно сказал Миша. — Ладно! Все, что нам надо, мы узнаем. А пока бери этот плакат, влезай на лестницу и прибей его вот здесь, на стене.
Расстроенный Генка взял плакат, подтащил к стене лестницу, зажал в зубах четыре гвоздя и с молотком в руках полез наверх.
Он прибивал плакат, но мысль о постигшей его неудаче не выходила из головы. Как хорошо все шло! А теперь Сенька будет над ним смеяться… При всех. Очень приятно!..
Растравляя себя таким образом, он вбил один гвоздь, потом другой. И когда он вынимал изо рта третий гвоздь, то обнаружил, что четвертого гвоздя нет. Куда же он делся? Ведь он не выронил ни одного гвоздя. Генка пересчитал прибитые гвозди — ровно три! Затем осторожно пошарил языком за одной щекой, потом за другой — нет!
Генка похолодел: неужели он проглотил гвоздь?
Гвозди маленькие, обойные, проглотишь — и не заметишь. Генка медленно спустился с лестницы и тщательно осмотрел пол. Может быть, он уронил гвоздь?.. Нет, нигде нет!.. Генка выпрямился, и в эту минуту у него закололо в животе, под ложечкой… Закололо и перестало… Так и есть — проглотил гвоздь! Что же будет?!
Вытаращив от ужаса глаза, Генка хватал себя то за грудь, то за живот. Он уже чувствовал, как гвоздь медленно движется у него по пищеводу. То тут заколет, то там… И вот сейчас на каком-нибудь повороте гвоздь застрянет и начнет прокалывать ему и кишки и желудок.
— Что с тобой? — спросил Славка.
Генка глотнул воздух и, едва дыша, произнес:
— Проглотил…
— Что проглотил?
— Гвоздь.
Это потрясающее известие было сообщено подошедшему Мише, затем подбежавшей Зине Кругловой, Киту, Бяшке. Через несколько минут все окружили Генку.
— Как же ты проглотил его? — спросил Миша.
Но Генка только разевал рот и делал рукой движения, показывающие, как гвоздь совершает свой путь по животу.
— Может быть, ты его не проглотил? — с надеждой в голосе спросил Миша.
Генка растопырил четыре пальца и прошептал:
— Было четыре, осталось три…
— Надо его по спине ударить, — предложила Зина Круглова.
— Что ты, что ты! — закричал Бяшка. — Только хуже будет: вобьем гвоздь в кишки и больше ничего. Рвотное — вот единственное средство.
— Рвотное? — ужаснулся Кит. — Ты с ума сошел! Разве можно так просто выдирать гвоздь обратно? Он обязательно застрянет. Помню, я однажды кость проглотил…
— Подожди ты со своей костью! — перебил его Миша. — Нашел когда о кости рассказывать!..
— Нужно Генку опустить вниз головой, — предложил Сашка Губан, — потрясти за ноги, гвоздь и выскочит.
Слушая эти приятные советы, Генка только поворачивал голову то в одну, то в другую сторону.
— Вы его в земскую отведите, — посоветовал Жердяй.
— Что за земская?
— Больница земская. В соседней деревне.
— Он не дойдет.
— А вы его на лошади. Попросите у председателя подводу и отвезите.
Миша с Жердяем побежали к председателю сельсовета. Через некоторое время они вернулись на подводе. Генка сидел на стуле и стонал, поминутно хватаясь то за грудь, то за живот. Ему казалось, что проглоченный гвоздь путешествует по всему телу, то вверх, то вниз, то вправо, то влево.
Генку погрузили на телегу. На ней, держа в руках вожжи, сидел художник-анархист Кондратий Степанович. Председатель сельсовета поручил ему отвезти Генку в больницу. Вместе с Генкой поехал Миша. Остальным ребятам он велел вернуться в клуб и быть осторожными: ни в коем случае не брать в рот гвоздей.
Глава 30
В больнице
Всю дорогу Генка стонал, корчился, хватался за живот и мотал головой. Каждое подрагивание телеги на ухабах и неровностях разбитой мостовой причиняло ему мучительную боль. Он так жалобно смотрел на Мишу, что у того разрывалось сердце от сострадания. Он боялся, что Генка сейчас умрет, и ему казалось, что Кондратий Степанович едет слишком медленно и больше занят своими рассуждениями.
— Ничего страшного в этом гвозде нет, — рассуждал Кондратий Степанович. — Переварится в желудке, и дело с концом. Обойный гвоздь, это что? Ерунда! Вот я еще когда в Москве жил, оборудовали мы с приятелем Большой театр…
— Вы оборудовали Большой театр? — усомнился Миша.
— А то кто же, — невозмутимо ответил Кондратий Степанович. — Оборудовали мы Большой театр. Артисты там, дирижеры, вся, в общем, дирекция. А приятель мой возьми да и проглоти костыль. Большой такой железный костыль. Дюйма, может, два в нем. Не шутка…
— Ну и что?
— А ничего, переварился. В день две бутылки водки выпивал для лучшего сгорания, вот и переварился этот костыль. А гвоздочек что? Ерунда. И ни к какому доктору не надо ехать. Только зря людей обеспокоили.
— Жалко отвезти больного человека? — обиделся Миша.
— Больного не жалко. А тут что, ерунда!
— Зачем же вы поехали?
— Власть.
— Вы же не признаете власти.
— Принуждение.
Миша вспомнил про лодку.
— Когда мы плыли на вашей лодке, то лодочник Дмитрий Петрович набросился на нас, хотел ее отнять.
— Дурак! — коротко ответил художник.
— Кто дурак?
— Дмитрий Петрович. И авантюрист.
— Чем же он авантюрист?
— Всё клады ищет. А этих кладов здесь давным-давно нет.
При таком сообщении Миша с изумлением воззрился на художника.
— Уж об этих кладах все позабыли, — продолжал Кондратий Степанович, — а он ищет. Сумасшедший. И Софья Павловна сумасшедшая.
— Кто это Софья Павловна?
— А та, что в помещичьем дому живет. Экономка графская.
— Вот, оказывается, кто она, — протянул Миша. — А я думал, графиня…
— Какая там графиня!.. — сказал художник и больно хлестнул лошадь кнутом.
Больница стояла на краю соседнего села. Большой деревянный дом с несколькими верандами и несколькими входами был окружен множеством подвод. На ступеньках крыльца и просто на траве сидели крестьянки. Дети всех возрастов бегали, дрались, плакали и шумели невообразимо.
Охая и корчась от боли, Генка слез с подводы и, поддерживаемый Мишей, поплелся к больнице. Не обращая внимания на возмущение длинной очереди, они вошли в кабинет.
Врач, седоватый тучный человек с взлохмаченной бородой, в пенсне с перекинутой за ухо черной ниткой, склонившись, ощупывал лежавшего на деревянном топчане человека. Самого человека не было видно, только торчали ноги в огромных сапогах. Врач повернул к мальчикам голову, строго спросил:
— Что такое?
Миша показал на Генку:
— Он гвоздь проглотил.
Генка едва втащил ноги в кабинет. Ему казалось, что все здесь — и врач, и больница — только мерещится ему, а самого его уже давным-давно нет на свете.
Врач велел мужчине в сапогах встать и, выписав рецепт, отпустил. Потом из-под пенсне внимательно посмотрел на Генку:
— Когда это случилось?
— Эбе-бе-бе-кур-да-е, — только и сумел проговорить Генка.
— Час тому назад, — ответил за него Миша. — Он прибивал плакат в клубе, держал гвозди во рту и один проглотил.
— Большой гвоздь?
— Обойный.
Доктор снова посмотрел на Генку. В этом взгляде Генка прочел смертный приговор.
— Раздевайся!
Генка начал с галстука. Привычным движением одной рукой потянул конец галстука, другой придержал узел. И в ту секунду, когда взялся за узел, он ощутил в своей ладони маленький холодный металлический предмет…
Неужели гвоздь?! Генка остолбенел и выпученными глазами смотрел на врача.
— Раздевайся быстрее, — сказал тот, что-то записывая в журнале.
— Сейчас, — пробормотал Генка.
Он чувствовал на своей ладони металлический предмет, но не решался ощупать его. Боялся, что это именно гвоздь, а не что-нибудь другое.
Но ничего не поделаешь, надо раздеваться. Генка нерешительно сжал ладонь и совершенно явственно ощутил в ней гвоздь. Так и есть! Он его вовсе не проглотил. Он его уронил. Гвоздь застрял в галстуке. Черт возьми! У него уже ничего не болит… Но как признаться?..
Сжимая в кулаке гвоздь, Генка медленно раздевался. Когда он остался в одних трусах, доктор сказал:
— Ложись!
По-прежнему сжимая в кулаке гвоздь, Генка лег на холодную простыню. Доктор присел на кушетку и положил пальцы на Генкин живот. От этого холодного прикосновения у Генки по всему телу пошли мурашки. Он увидел над собой лицо доктора, пытливо смотревшего на него сквозь стекла пенсне. Неужели доктор понимает, что никакого гвоздя он, Генка, не проглотил? Генка закрыл глаза и лежал, крепко сжимая в кулаке гвоздь и пытаясь засунуть кулак себе под бок. Доктор легонько нажал на живот:
— Больно?
— Нет.
Доктор нажал еще в нескольких местах. Ничего, кроме холода его пальцев, Генка не ощущал.
— Медленно поднимай руки, — приказал доктор, — и, если почувствуешь резь в животе, скажи.
Генка начал медленно поднимать руки. Чтобы его сжатый кулак не вызвал подозрений, он сжал и второй кулак…
Его руки были уже в вертикальном положении. Генка начал медленно опускать их за голову. Никакой рези он не чувствовал. Все, что приказывал ему доктор, он делал автоматически, понимая, что рано или поздно его обман обнаружится. Лучше бы он в действительности проглотил гвоздь!
— Разожми кулаки, — услышал он откуда-то издалека голос врача. Генка разжал один кулак, тщательно пытаясь во втором кулаке засунуть гвоздь как-нибудь между пальцев. Это ему не удавалось, и он не разжимал кулака.
— Разожми кулаки, — повторил доктор, — оба!
Генка вдруг поднялся и объявил:
— Гвоздь нашелся.
Доктор и Миша с удивлением смотрели на него. Тогда он разжал кулак.
— Вот он!
— Гм! Где же он был? — спросил доктор.
— В галстуке. Когда я развязывал галстук, то и нащупал его там. Я его, оказывается, выронил изо рта прямо на галстук.
— Почему ты сразу не сказал?
— А я хотел провериться. Может быть, я действительно проглотил гвоздь, только другой.
— И нигде у тебя ничего не болит?
— Нет, — ответил Генка уже совсем весело, однако стараясь не смотреть на Мишу, который с мрачным видом стоял у двери.
— Хорошо, — довольно мирно сказал доктор, — встань и несколько раз присядь.
Генка несколько раз присел. Потом, по приказу доктора, сделал еще несколько движений, перегибался, поворачивался в разные стороны.
Он послушно делал все это, впрочем, не понимая, для чего: ведь гвоздя в нем нет.
Доктор вымыл руки, приказал Генке одеваться и снова сел за стол. Он записал Генкину фамилию и сказал:
— Поедешь в город.
— Зачем? — оторопел Генка.
— На рентгеновское исследование.
— Так ведь у меня ничего нет, никакого гвоздя! — закричал несчастный Генка.
— Ты сам хотел провериться.
— Но у меня ничего не болит.
— Это не имеет значения. Предмет мог залечь в таком месте, где не дает болевых ощущений. Временно, конечно. А потом будут неприятности.
Доктор повернулся к Мише:
— Где ваш лагерь?
— В Карагаеве.
— В деревне?
— Нет, в усадьбе.
— Вот как! — Доктор насмешливо посмотрел на Мишу. — Клады ищете?
— Какие клады? — удивился Миша. — Никаких кладов мы не ищем.
— Ладно, идите. А в город его свезите сегодня же. Понятно?
— Понятно, — ответил Миша.
Они молча вышли из больницы и остановились на крыльце.
Генка беззаботно поглядывал по сторонам, делая вид, что ничего особенного не произошло. Миша укоризненно глядел на него:
— Ты отдаешь себе отчет в том, что ты наделал?
— А что такого я наделал?
— Еще спрашивает!
— Что я наделал? Думал, что проглотил гвоздь. Что же мне было — молчать? Молчать и ждать, пока он меня проколет насквозь? Ну, проверился. Ничего не оказалось. И все в порядке.
— Но почему именно с тобой случаются все эти истории? — закричал Миша. — Ни с кем больше, только с тобой. То одно, то другое. Всех поднял на ноги, всех разволновал, заставил лошадь просить у председателя. И все это зря! Только на смех нас поднял. Все! Поедешь в город, и пусть там тебя просвечивают.
Глава 31
Сельская живопись
Генка ездил на рентген. Но ничего у него в животе не оказалось. Только кишки и желудок. Так, вернувшись из города, он объявил Мише.
В тот же день, к вечеру, вернулись в лагерь и Сева с Игорем. Они выезжали на Песчаную косу, показывали следователю место, где нашли лодку. Потом их отпустили домой.
Игорь и Сева чувствовали себя героями. Они ходили по лагерю с таким видом, будто совершили нечто необыкновенное. Они не сумели осуществить свой главный замысел — убежать в Италию бить фашистов, — но зато своим участием в следствии по делу Рыбалина будто бы поставили себя в особенное и исключительное положение.
Хотя они очень гордились и хвастались, ничего существенного Миша от них не узнал. На Песчаной косе они показали следователю место, где взяли лодку. Следователь обмерил это место рулеткой, прошел до деревни, потом до железнодорожной станции. Зачем он это делал, Игорь и Сева не знали…
Миша презрительно усмехнулся. Ну и следователь! Ищет на Песчаной косе!.. Надо искать в лесу, там, где прячутся парни. Ведь они вместе с лодочником и убили Кузьмина! Миша ни секунды не сомневался в этом…
Что касается Серова, то Игорю и Севе жилось у него, в общем, хорошо. Спали они в сарае, на сене. Правда, жена Серова относилась к ним неважно, даже в дом не пускала, говорила, что они ей полы запачкают, но сам Серов каждый вечер приходил к ним и подробно обо всем расспрашивал.
— О чем же он вас расспрашивал? — насторожился Миша.
— Обо всем, о чем с нами следователь разговаривал.
— И вы ему рассказывали?
— Конечно. Ведь он ответственный работник.
Эх, шляпы, шляпы!.. Впрочем, чего можно ожидать от них? Из лагеря удрали, всех взбаламутили и еще ходят, как победители!
— Поменьше фасоньте, — сказал Миша, — вы столько натворили, что должны ходить тише воды, ниже травы. А вы, наоборот, гордитесь неизвестно чем. Глупо! И не думайте, что на вас будет наложено взыскание. Нет, взысканием не отделаетесь. А вот будут самохарактеристики, и тогда вы узнаете… Узнаете, какого все мнения о вас.
Но Миша не торопился назначать самохарактеристики. На это нужно затратить самое меньшее два дня. А как их выкроить? Ведь надо в конце концов закончить клуб. Он был уже полностью оборудован, оставалось только покрасить. А в этом деле они получили могучую поддержку в лице художника-анархиста Кондратия Степановича.
Он пришел в клуб, долго смотрел, как ребята работают, потом спросил у Миши:
— Приступать?
— Приступайте. А что вы будете делать?
Кондратий Степанович обвел вокруг себя рукой:
— Красить надо. Вкруговую.
Миша вспомнил нелепо раскрашенную избу художника. Опасение, что он испортит клуб, на мгновение закралось в Мишино сердце. Но выражать недоверие человеку, который сам, добровольно предлагает свои услуги, было неудобно. И вообще надо привлекать местное население к устройству клуба. Все же Миша спросил:
— А хорошо будет?
— В отличном виде, — пробормотал художник, обводя стены сарая мутным взглядом, — по самому последнему слову… Большой театр делали…
— Денег у нас нет, придется бесплатно, — предупредил Миша.
— Бесплатно так бесплатно, — вздохнул художник.
— Красок тоже мало.
Кондратий Степанович опять вздохнул:
— Пожертвуем свои. Немного осталось. Одолжил леснику, да теперь с него не получишь.
— Какому леснику?
— Кузьмину, убитому.
— Разве он был лесником?
— Был. До революции. У графа служил. Доверенное лицо…
Вот что!.. Кузьмин служил у графа лесником. Значит, он хорошо знал лес… Опять лес! Тот самый лес, куда парни утащили привезенные лодочником мешки. Таинственный лес!
Эта легенда о Голыгинской гати, о мертвецах без головы — не выдумана ли она для того, чтобы отпугнуть всех от леса? Тут что-то есть. Теперь ясно: надо пойти в лес и посмотреть, что это за Голыгинская гать. Там ли по-прежнему эти подозрительные парни и что они делают?
Мишины размышления прервал Кондратий Степанович, объявивший, что красить он будет сегодня ночью. Никто не помешает, не будет пыли, и вообще он привык творить ночью. Но ему в помощь нужны два мальчика.
Миша выделил для этой цели Бяшку и Севу.
Подходя на следующий день к клубу, ребята еще издали увидели около него большую толпу народа.
Что такое? Ребята ускорили шаг. Но по улыбающимся лицам крестьян, по их смеху и шуткам Миша понял, что в клубе произошло скорее нечто смешное, чем трагическое. И когда он сам вошел в клуб, то не знал, плакать ему или смеяться.
Клуб был размалеван самым диким и невообразимым образом: изогнутые линии, круги, полосы, треугольники, просто кляксы, то бесформенные, то напоминающие морды диких зверей. Скамейки — полосатые, как зебры. Занавес — похожий на фартук маляра. Балки, поддерживающие крышу, — одна черная, другая красная, третья желтая. Под каждой балкой — по лозунгу: «Анархия — мать порядка», «Да здравствует чистое искусство!», «Долой десять министров-капиталистов!»
Миша ужаснулся.
Кондратий Степанович с гордым и независимым видом расхаживал по клубу. Так же гордо и независимо держались Бяшка с Севой. Они совершенно серьезно объявили Мише, что это последнее слово в живописи. Так теперь рисуют во всех странах. Так рисовал и Маяковский, пока был художником. Но теперь он так не рисует, потому что стал поэтом. Бяшка даже попробовал объяснить Мише значение какой-то кляксы, но запутался и ничего объяснить не смог.
В кучке крестьян стояли кулак Ерофеев и председатель сельсовета — молодой парень, демобилизованный красноармеец. Его все звали Ванюшкой, а Ерофеев величал Иваном Васильевичем. Он был хороший человек, из середняков, но на своей должности чувствовал себя неуверенно, а потому, как казалось Мише, робел и пасовал перед кулаками. Как-то раз Миша был на сельской сходке. Председатель произнес горячую и убедительную речь по поводу общественного луга, куда выгоняли пасти скот. Ерофеев на словах поддержал его, но потом все перевернул по-своему и так запутал председателя, что тот в конце концов согласился с ним. Так было и сейчас. Председатель посмеивался над художеством Кондратия Степановича, но Ерофеев сказал:
— Смешно-то смешно, да ведь денежки общественные. Приедут товарищи из губернии или из уезда, разве можем мы им такое показать? Значит, все надо переделывать. Опять расход. Нехорошо, не годится на ветер деньги бросать.
— Большие ли тут деньги? — возразил председатель.
— Хоть и небольшие, а народные, — сказал Ерофеев.
— Деньги пропали, не о чем теперь говорить, — нахмурился председатель.
— Разве я о деньгах? — возразил Ерофеев. — Ну, потратили, куда теперь денешься. Я о том, что нельзя ребятишкам такие вещи поручать. Кондратий Степанович что? Любит он малевать, все мы знаем. А комсомол в ответе. Надо бы прийти в сельсовет, посоветоваться: как, мол, можно такое дело Кондратию Степановичу поручать? А молодые люди на себя понадеялись. Вот и нехорошо.
Так всегда. Председатель сначала спорил с Ерофеевым, доказывал и отстаивал свое. Но то, что говорил ему Ерофеев, видно, так сильно запечатлевалось в его мозгу, что потом он незаметно для самого себя менял взгляды. Он чувствовал, что Ерофеев опытнее, и всегда попадал под его влияние.
После происшествия в клубе председатель начал косо поглядывать на ребят. Он даже выговорил Мише за то, что тот зря брал лошадь для Генки…
А тут подоспела новая неприятность. И все из-за дурацкой игры в «зелень».
Глава 32
«Зелень»
Глупая игра! Надо всегда носить с собой что-нибудь зеленое. И когда тебе говорят: «Покажите вашу зелень», ты должен выполнить это требование. А если зеленого при тебе не окажется, то надо платить фант, то есть выполнить любое приказание того, кто обнаружил, что ты не имеешь при себе зелени.
Глупая игра, но ужасно привязчивая. Она превратилась в повальную болезнь, в массовый психоз, особенно у девочек. Взрослые — половина из них комсомолки, а как только упоминают про зелень, становятся совсем детьми, для которых, кроме этой игры, ничего не существует. И если кто-нибудь проиграет, то обязательно исполнит фант, как бы глуп он ни был. Даже мальчики и те втянулись в игру. Миша замечал, что Генка и Славка носят с собой пучок зеленой травы. Дошло до того, что Миша как-то раз, совсем против воли, неожиданно для самого себя вдруг сказал Зине Кругловой: «Покажи свою зелень!» Зина изумленным взглядом посмотрела на него и вытащила зеленую ленточку. Но тут Миша спохватился и презрительно сказал: «Не стыдно тебе заниматься таким ребячеством?» В общем, сделал вид, что потребовал у Зины зелень только для того, чтобы уличить ее в этой дурацкой игре.
И вот к чему это привело.
Как-то Миша был в сельсовете. Раздался телефонный звонок. Звонили из уезда и велели председателю послать человека в соседнюю деревню Борки и передать, чтобы председатель сельсовета Борки немедленно явился в уезд.
Председатель сказал: «Хорошо» и повесил трубку. Но так как никого в деревне не было, все были в поле, то он попросил Мишу послать кого-нибудь из своих ребят.
Миша вернулся в лагерь и приказал идти Генке. Тот ответил: «Есть!» Но тащиться в Борки ему не хотелось. Уличив Бяшку в отсутствии зелени, Генка перепоручил это тому. Бяшка, не будь дурак, целый час ходил по лагерю, спрашивал всех насчет зелени и наконец подловил одну из сестер Некрасовых, которой и передал поручение. Сестра Некрасова перепоручила Наташе Бойцовой. Наташа снова обыграла Генку. Тот уже во второй раз поймал Севу. Короче говоря, к вечеру исполнительницей оказалась самая маленькая девочка, Лара. Она прошла немного по дороге, но дальше идти побоялась, посидела и вернулась.
Просьба председателя оказалась невыполненной. Когда Миша на следующий день попробовал разобраться, кто же виноват, то не добился толку. Каждый сваливал на другого. К одним и тем же это поручение попадало несколько раз, и разобраться было совершенно невозможно.
А поручение оказалось невыполненным. Из Борков никто в уезд не явился, и председателю сельсовета Ивану Васильевичу за это попало.
Председатель ужасно обиделся на Мишу.
— Я думал, от вас помощь будет, — угрюмо сказал он, — а теперь вижу, что помощи никакой. И лошадей зря гоняли. И клуб испортили. И даже в таком простом деле подвели. А мне от этого неприятности. И лодку ваши ребята угнали, следы запутали, теперь всю деревню из-за этого таскают. Плохо, плохо получается!
На это Мише нечего было возразить. Председатель прав. Но разве только из ошибок состояла их работа в деревне? Разве мало они сделали? Ну, неудачно раскрашен клуб, но ведь клуб-то есть! Сколько бесед провели с ребятами! Скоро здесь будет отряд. А ликвидация неграмотности? Двенадцать человек уже читают по складам. А разве было легко организовать? Никто не хотел идти, стыдились, каждого приходилось уговаривать, за каждым ходить. Очень было трудно заниматься в этих условиях. А все-таки занимались и кое-чего добились. И упрекать теперь клубом и тем, что не сходили в Борки, несправедливо.
Но оправдываться Миша не стал. Хвастаться своими заслугами нечего, а в чем виноваты, в том виноваты.
— Нехорошо получилось, — согласился Миша, — но клуб мы перекрасим своими силами, а тех, кто виновен и не пошел в Борки, накажем. Что касается лодки, то это дело следователя, и не будем об этом сейчас говорить.
Председатель как будто немного успокоился. Но дело ведь не в том, успокоился он или не успокоился. Дело в том, что в отряде расшаталась дисциплина. История с зеленью, раскраска клуба…
Разве не мог Бяшка сообщить, что анархист портит клуб! А побег Игоря и Севы? А Генкина история? Плохо с дисциплиной. Надо подтягивать. И подтягивать срочно. Не откладывая.
Вечером Миша объявил, что через два дня назначаются самохарактеристики.
Глава 33
Что такое самохарактеристики?
Самохарактеристики — это самообсуждение. Каждого комсомольца обсуждают на общем собрании ячейки. Любой может выступить и сказать о данном комсомольце все, что хочет. Какие у него достоинства и недостатки (в основном, конечно, недостатки). Какой он комсомолец, какой товарищ, как выполняет задания и поручения. Каковы его моральные качества: честен ли он, правдив, смел, бескорыстен… А тот, о ком говорят, должен молчать. Возражать тут нечего. Слушай, что о тебе говорят товарищи, мотай на ус и исправляйся. Иначе на следующих самохарактеристиках тебя еще больше раскритикуют.
Процедура, конечно, не особенно приятная. Сиди и слушай, как тебя честят. Особенно плохо тем, кто стоит в начале списка. На них направляется первый пыл. Впрочем, и последним неважно: те, о ком уже отговорили, свободно вздохнув, наваливаются на тех, кто стоит в конце списка. Но личные счеты никогда не сводились. Достаточно было ребятам почувствовать даже оттенок этого, как все начинали кричать: «Личные счеты!», «Личные счеты!» Они были очень чутки и непримиримы к любой неправде, неискренности, несправедливости. Да и у кого бы повернулся язык сказать неправду здесь, на коллективе, перед лицом своих товарищей…
Все побаивались самохарактеристик. Даже самые лучшие, самые безупречные. Даже такие, которые ничего плохого за собой не чувствовали. Даже Миша, Славка, Зина Круглова, Наташа Бойцова, очень добрая и справедливая девочка. Все волновались перед самохарактеристиками. Каждый знал за собой тот или иной недостаток, и каждый понимал, что товарищи знают не только этот недостаток, но и много других, которые он сам за собой не замечал.
Но перед самохарактеристиками все вели себя по-разному. Одни оставались такими же, какими были раньше, другие сразу менялись до неузнаваемости.
Например, Генка. Просто удивительно было смотреть, в какого невинного барашка превратился он в тот день и час, когда узнал, что предстоят самохарактеристики. Такой стал добрый, хороший, внимательный, услужливый! Особенно старался он сдружиться с теми, от кого ожидал критики. Но критиковали его обычно все. И он пытался расположить к себе всех.
Всем он теперь ласково улыбался. Ни на кого не повышал голоса. Если кто в чем провинится, то защищал виновного и говорил: «Мало ли что с кем случается? Надо быть терпимым к недостаткам других людей». И при этом заискивающе заглядывал в глаза провинившемуся: мол, запомни, как я тебя защищал. Даже обжоре Киту он два раза отдал свою порцию, ссылаясь на то, что ему самому не хочется есть.
Повелительные наклонения совершенно исчезли из его речи. Пионерам своего звена он ничего не приказывал, а кротко говорил: «Я бы на твоем месте сделал так…» Или: «Это дело, конечно, твое, но на твоем месте я бы поступил таким образом…» Ласковое и доброжелательное «на твоем месте» не сходило теперь с его языка.
И это Генка, самонадеянный Генка! Никого и ничего он не боялся, кроме товарищей. Боялся их плохого суждения о себе.
Особенно заискивал он перед «борцом за справедливость» Бяшкой. Ходил с ним в обнимку, старался достать ему медикаменты (Бяшка ведал санитарной частью), убеждал всех нерях выполнять Бяшкины распоряжения.
Но именно от Бяшки ему и досталось больше всех на самохарактеристиках.
Глава 34
Самохарактеристики
После обеда все уселись на лужайке в тени деревьев. Председателем выбрали Славку: он был справедлив и умел вести собрания спокойно и тактично.
Миша произнес краткое вступительное слово. Он бегло остановился на текущем моменте, указал на сложное международное положение республики, на гнусные происки капиталистов и империалистов и необходимость в связи с этим повышения ответственности каждого комсомольца перед коллективом и перед самим собой, перед своей революционной и комсомольской совестью. Самохарактеристики, сказал Миша, должны помочь каждому комсомольцу и пионеру совершенствовать самого себя, помочь ему увидеть свои недостатки и побыстрее изжить их. Тем более, добавил Миша, что за последнее время имели место факты несознательности…
В этом месте Славка прервал его и сказал, что, говоря таким образом, Миша уже предрешает характеристику некоторых товарищей. Поэтому, как председатель, Славка предлагает Мише сделать только общие замечания, и, по возможности, краткие, а о фактах говорить конкретно при обсуждении того или иного товарища.
Все хором подтвердили, что Славка прав.
Миша не ожидал, что Славка сделает такое замечание ему, вожатому (все же и об авторитете надо подумать). Но в душе он не мог не согласиться, что Славка прав: такова традиция, и не надо ее нарушать. Скрепя сердце он согласился и предложил начать обсуждение с Генкиного звена. Славка поставил это предложение на голосование. За него голосовали все, кроме пионеров Генкиного звена. Но их было меньшинство, и обсуждение началось.
Первым по списку шел Генка.
Слово взял Бяшка. Он встал, сделал серьезное лицо и сказал:
— За последнее время мы очень подружились с Генкой. Но именно потому, что я его друг, я обязан прямо сказать о его недостатках… Самое главное в Генке — это неустойчивость характера. Не может он сдержать себя. Чувствует, что не надо этого делать, не надо этого говорить, а делает и говорит. Комсомолец должен обдумывать и взвешивать свои поступки. А Генка не умеет ни обдумывать, ни взвешивать. Поэтому он и попадает в разные истории…
Бяшка напомнил истории, в которые попадал Генка из-за своей несдержанности, и в заключение сказал:
— У Генки, конечно, много еще других недостатков. Но тот, о котором я говорил, — главный. И Генке надо его изжить как можно скорее.
И хоть бы кто-нибудь защитил бедного Генку! Даже Зина Круглова, единственная девочка, с которой он дружил, вскочила и быстро затараторила:
— Генка недисциплинирован. Как может такой человек быть помощником вожатого отряда? Вместо того чтобы подавать пример, он сам на каждом шагу нарушает дисциплину. История с тем, как он дразнил Игоря и Севу, говорит сама за себя. А случай в Москве с бабушкой Игоря, а гвозди эти несчастные? Генке пора, в конце концов, подумать о своем авторитете.
— Генка груб, — сказала Некрасова Надя.
— Генка легкомыслен, — добавила Некрасова Вера.
— Генка любит дразнить других! — в один голос прокричали Игорь и Сева.
— Генка болтлив и не дает никому слова сказать, — объявил Кит.
И Генка с сожалением подумал о зря отданных Киту порциях каши.
А Наташа Бойцова сказала:
— Генка слишком самоуверен и самонадеян. Он хвастлив и любит все приписывать себе одному. Стыдно так много воображать о себе. Нескромно. Это ярко выраженный индивидуализм.
Последним о Генке говорил Славка:
— Я думаю, что главная беда Генки в том, что он слишком импульсивный человек. Все его действия подчинены мгновенному чувству, то есть импульсу. А наши поступки должны быть подчинены не импульсу, а трезвому учету обстоятельств.
Здесь Славка пустился в длинные рассуждения о воле, характере, импульсах и даже добрался до «категорического императива» Канта, о котором прочитал в какой-то философской книге. Книгу он не понял, но слова «категорический императив» ему очень понравились.
В конце концов Славка выбрался из чащи философских рассуждений и закончил Генкино обсуждение такими словами:
— Перед Генкой стоит серьезная задача: переделать самого себя. Он, безусловно, честный комсомолец, предан делу революции, но его недостатки мешают ему приносить обществу ту пользу, которую он мог бы приносить. И Генке надо серьезно задуматься над тем, что говорили о нем здесь товарищи.
В таком приблизительно духе обсудили еще нескольких ребят Генкиного звена.
Про Кита сказали, что его обжорство — это уже не физический, а моральный недостаток.
— Чего можно ожидать от человека, который думает только о еде? — сказал Игорь про Кита. — Ведь он все подчиняет интересам своего желудка. Со временем из него вырастет мещанин-чревоугодник, он будет заботиться только о своем материальном благополучии. Вспомним комсомольцев времен гражданской войны! — с пафосом воскликнул Игорь. — Подумаем о комсомольцах капиталистических стран, особенно фашистской Италии. Разве они думают о еде? Представим, что среди них есть вот такой Кит. И вот он попадает, скажем, в сигуранцу или дефензиву. Его там допрашивают и пытают голодом. Разве Кит выдержит пытку голодом? Скажи, Кит, выдержишь?
Кит поник головой.
Славка как председатель заметил Игорю, что вопросов задавать нельзя. Критиковать — критикуй, а если задавать вопросы, то получится перебранка и ненужная полемика.
— Нет, Кит не выдержит пытки голодом, — с горечью произнес Игорь, — значит, его физические потребности сильнее его убеждений. А такой человек даже не может быть комсомольцем. Вот когда мы с Севой решили поехать в Италию бить фашистов…
Славка прервал его и сказал, чтобы он о себе не говорил. О нем и о Севе будут скоро говорить другие, и если он пожелает, то может тогда объяснить свой поступок.
Но когда перешли к обсуждению Игоря и Севы, то ни тот, ни другой не пожелали объяснить свой поступок. Да и что было объяснять? Их побег вызвал всеобщее возмущение. Разве они дети? Разве не понимают, что ни в какую Италию они бы не попали, никаких бы фашистов не побили? Вся их затея не только смешна. Она вызвана желанием порисоваться, показать себя героями, а разве это большевистское качество?
— Это попахивает эсеровщиной, — сказал Миша. — Этаким мелкобуржуазным индивидуализмом. Что хочу, то и делаю, а на остальных мне наплевать! Что мне до товарищей, до родных! Пусть волнуются, пусть беспокоятся, а я вот исполню свою прихоть, и всё! Значит, прихоть дороже окружающих. Значит, личные интересы поставлены выше общественных. А это называется эгоизмом. А эгоизм — самая отвратительная отрыжка буржуазной идеологии. Вот о чем надо подумать Игорю и Севе!
Глава 35
Самохарактеристики
(Продолжение)
На следующий день собрание начали с утра, чтобы к вечеру обязательно его закончить.
Начали со Славки. И он уступил председательствование Мише. Конечно, на то время, пока его будут обсуждать.
Первым о Славке выступил Генка:
— Славка, конечно, хороший комсомолец. Честный, справедливый и добросовестный. Но, — Генка поморщился, — нерешительный он какой-то. Не способен к быстрому действию. Во всем сомневается… «А почему?», «А зачем?», «А для чего?»… Так не годится! — Генка взмахнул кулаком. — Во всем нужны решительность, смелость, быстрота! Где у Славки волевые качества? Главный недостаток Славки — это замедленная реакция, — Генка обвел всех победоносным взглядом: когда надо, и он умеет щегольнуть ученым словом. — Вот. Надо тренировать свою волю. А с чего начать? Начать надо с физкультуры. Да-да, не смейтесь! Славка не занимается спортом, не развивается физически, даже увиливает от утренней зарядки. А что сказано? Сказано: «В здоровом теле — здоровый дух». Вот как сказано. И это надо помнить.
Но остальные хвалили Славку. Его любили в отряде. Хвалил его и Миша, но заметил, что Славка немного мягкотелый интеллигент. Правда, он вырос в интеллигентной семье, отец его «спец». Но надо перевоспитываться, надо приобретать пролетарские, рабочие качества…
— А я не понимаю, — заявила Зина Круглова, — какие это особые рабочие, пролетарские качества? Человек остается человеком, будь он рабочий, служащий или интеллигент. Идеология действительно может быть разная, но человеческие качества от этого не зависят. Иной рабочий паренек по своим человеческим качествам не хуже другого интеллигента. Так что социальное происхождение здесь ни при чем.
— Нет, при чем! — воскликнул Генка. — Ведь бытие определяет сознание. У пролетариата одно сознание, у буржуазии другое. А интеллигенция — это промежуточная прослойка, и она колеблется…
Славка обиделся:
— Выходит, я промежуточная прослойка?
— Ты — нет, — примирительно ответил Генка, — ты воспитан при советской власти. А я говорю о старой интеллигенции.
Но Зина Круглова стояла на своем:
— Нет, я не согласна. У Славки, как и у всякого человека, есть свои недостатки, но его интеллигентское происхождение здесь ни при чем. Вон Генка пролетарского происхождения, а недостатков у него гораздо больше.
Генка вскочил и заявил, что его обсуждение кончено и нечего к нему возвращаться. Что же касается роли интеллигенции, то он, Генка, целиком согласен с Мишей. Конечно, всех интеллигентов нельзя стричь под одну гребенку — Славка, например, свой парень, — но социальная сущность интеллигенции как промежуточной прослойки от этого не меняется.
Так как Славка обиделся, то Миша счел нужным разъяснить свою позицию.
— Я имел в виду следующее, — сказал он. — В чем заключается пролетарская психология? В том, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. А буржуазия имеет собственность, держится за нее. Поэтому пролетариат — за общее дело, буржуазия — против общего дела. Интеллигенция же сердцем за пролетариат, а своим положением связана с господствующими классами. Вот отсюда ее колебания и шатания. Я, конечно, имею в виду не Славку, а вообще. У Славки вполне пролетарская психология, но в характере еще есть интеллигентская мягкотелость. Впрочем, я высказываю свое мнение, и дело Славки — принимать его во внимание или не принимать…
Самохарактеристики продолжались. Обсудили уже большинство ребят. Всех разобрали по справедливости, даже самого борца за справедливость — Бяшку Баранова. Про Бяшку сказали, что уж очень он кичится своей борьбой за правду. Эта борьба превращается у него в самоцель. Его уже не столько возмущает неправда сама по себе, сколько привлекает поза борца за справедливость. Бороться с неправдой надо для того, чтобы устранить ее, а не для того, чтобы прослыть непримиримым борцом за справедливость.
Миша, как и все, участвовал в обсуждении. Но его все время занимал один вопрос: будут обсуждать его самого или не будут?
Дело в том, что вожатый отряда, например Коля Севостьянов, никогда не обсуждался. Вполне понятно — он старший… Теперь вожатый Миша. Значит, и его не должны обсуждать. Но, с другой стороны, он не старший, а такой же комсомолец, как и другие ребята. В сущности, здесь скорее не отряд, а маленькая комсомольская ячейка. Если бы Коля Севостьянов был здесь, то Мишу бы обсуждали наравне со всеми. Как же быть? Особенного желания обсуждаться у Миши не было. Он не боялся критики, но сам факт его обсуждения покажет, что он хоть и вожатый, но еще не настоящий, не такой, как, допустим, Коля Севостьянов. Однако запретить обсуждать себя Миша тоже не мог. Это будет недемократично, ребята расценят как зазнайство. Ладно, пусть решают сами. Может быть, они и не собираются его обсуждать — ведь привыкли к тому, что вожатый не обсуждается. А если даже решат обсуждать, что плохого могут о нем сказать? Он был со всеми справедлив, со всеми одинаков. А если что и требовал, на то он и руководитель.
Но тайные Мишины надежды не оправдались. Когда кончились обсуждения, Славка сказал:
— Товарищи! Список исчерпан. Остался один Миша. Он вожатый, и вожатого мы, как правило, не обсуждаем. Но Миша наш товарищ, одноклассник и член нашей комсомольской ячейки. Как мы поступим? Миша, твое мнение?
— Пусть ребята сами решают, — ответил Миша не без тайной надежды, что все устали и будут рады на этом закончить.
Но большинство высказалось за обсуждение. Даже подавляющее большинство. Против был только один Кит. Ему ужасно хотелось ужинать. Сказать об этом прямо после того, как его только что раскритиковали за обжорство, он не мог, а потому он предложил не обсуждать Мишу. Но остальные с этим не согласились. Киту осталось только бросить грустный взгляд на котелки, которые лежали возле потухшего костра.
Первой взяла слово Зина Круглова.
— Я не собиралась выступать о Мише, — сказала она, — но меня поразила Мишина нескромность…
Миша с удивлением воззрился на Зину.
— Да, да, — продолжала Зина, — у Миши спросили, надо ли его обсуждать. Я думала, он скажет: «Конечно, надо. Чем я отличаюсь от остальных?» Но вместо этого Миша сказал: «Пусть ребята решают». Таким ответом Миша поставил себя в исключительное положение, он выделил свою персону из коллектива. Это нескромно. Мише надо учесть, что хотя он и вожатый отряда, но такой же комсомолец, как и все. И не надо ставить себя в особое положение.
Миша криво усмехнулся, но в душе он признал справедливость этого обвинения.
Действительно, надо было прямо сказать, чтобы обсуждали, и всё. А он хотел увильнуть от обсуждения. Вот как надо взвешивать каждое свое слово. От ребят ничто не укроется.
Потом слово взял Бяшка.
— Мы давно знаем Мишу, — сказал он, — хорошо знаем и его достоинства, и недостатки. Но вот мы увидели Мишу в новой роли — вожатым. В общем, надо сказать, что он справляется со своими обязанностями удовлетворительно. Не задается и не фасонит. Но у него есть один крупный недостаток: он очень любит секретничать вместе с Генкой и Славкой. Это секретничанье отдаляет Мишу от коллектива, ставит его над коллективом. Конечно, в прошлом году Миша, Генка и Славка открыли тайну кортика, но это не значит, что и теперь они должны от всех секретничать.
Кит проворчал:
— Как актив, так обязательно секретничают! И потом, Миша делает поблажки некоторым лицам.
— Кому, например?
— Генке, вот кому.
— А…
Миша встал и сказал:
— Вот что, ребята. Насчет Генки, я думаю, Кит не прав. Я никому не делаю исключения, а Генке тем более. Насчет же секретов — в этом есть доля истины. Но скажу честно; без секретов трудно обойтись. Вспомните историю с кортиком. Если бы я не держал ее в секрете, то ничего бы и не нашел.
— Тогда было другое дело, — перебила его Наташа Бойцова, — тогда мы еще не были ни пионерами, ни комсомольцами. А теперь совсем другое дело.
— Да, это правильно, — согласился Миша, — и поэтому тот секрет, о котором говорил Бяшка, я сделаю общим. Но с условием, что он для всех останется секретом.
Миша оглянулся вокруг и понизил голос:
— Все вы знаете, зачем Игорь и Сева ездили со следователем на Песчаную косу. Дело идет о том, чтобы спасти брата Жердяя, которого неправильно обвиняют в убийстве. — Мишин голос перешел на шепот. — У нас есть некоторые данные, это относится к лодочнику. Он не зря тогда на нас напал. Но все надо проверить. И поэтому никому ни слова! Вот и весь наш секрет. Повторяю: теперь это наш общий секрет, и никому ни слова! — Миша выпрямился, опять повысил голос. — Теперь, когда самохарактеристики закончены, каждый учтет, что о нем говорили, и постарается исправиться. Каждый должен вырасти настоящим коммунистом, настоящим большевиком, и если он не воспитает себя сейчас, то потом уже будет поздно. Ученые говорят, что человеческий характер складывается к восемнадцати годам. Так что времени для перевоспитания осталось не так уж много, и надо торопиться. Мы здесь поругали друг друга. Но все мы — члены одной комсомольской семьи, и те, кто уже в комсомоле, и те, кто осенью будет вступать. И в знак этого закончим наш двухдневный сбор «Молодой гвардией».
Все встали и запели:
Вперед заре навстречу, Товарищи в борьбе, Штыками и картечью Проложим путь себе…Глава 36
Следователь в лагере
Миша рассказал на сборе не все. Он только поделился своими подозрениями насчет лодочника, но умолчал о старухе, о Серове, о бронзовой птице. Но и того, что он рассказал, было достаточно. Теперь все горели желанием выручить невиновного Николая и разоблачить злодея-лодочника. Но для Николая они пока ничего не могли сделать, и поэтому их заботы обратились на его семью — на Марию Ивановну и на Жердяя.
Ребята помогали им чем могли. И в поле работали, и на огороде, и в доме. Хотели даже корову купить вскладчину. Но оказалось, что корова стоит слишком дорого. Они делились своими скудными пайками с Марией Ивановной, а Жердяй тот и вовсе питался в лагере. Особенно старались девочки. Зато внимание мальчиков было больше обращено на лодочника. Им был теперь известен каждый его шаг. И каждый его шаг толковался очень многозначительно, о чем немедленно сообщалось Мише. В конце концов Мише так это надоело, что он запретил ребятам даже подходить к лодочнику и вообще к лодочной станции. Но разве ребят остановишь? Тем более что вскоре вся деревня была взбудоражена приездом следователя.
Следователь приехал в сельсовет и многих туда вызывал: лодочника, Ерофеева, нескольких крестьян, даже художника Кондратия Степановича. Потом следователь явился в лагерь якобы за тем, чтобы поговорить с Игорем и Севой. Якобы потому, что он их почти ни о чем не спрашивал. Игорю он задал только один вопрос: «Ну, как живешь?» На что Игорь ответил, что живет хорошо. Севе нездоровилось, и он лежал в палатке. Следователь посмотрел на него и отошел от палатки со словами: «Раз болен, пусть спит», хотя Сева вовсе не спал и даже приподнялся.
Следователь долго ходил по лагерю. Миша сказал, что лагерь ограничен вот этой маленькой лужайкой, но следователь обошел весь парк. И он так вертелся вокруг лагеря, и так подробно обо всем расспрашивал, что Миша подумал: не подозревает ли он, что ребята убили Кузьмина?
Следователь интересовался распорядком жизни лагеря. Когда встают, когда ложатся, куда уходят на прогулки или на игры и кто в это время остается в лагере. И есть ли ночью дежурные и каков маршрут их обхода. Миша показал ему маршрут, и следователь прошелся по нему.
Вообще этот маленький человек вел себя очень странно: тщательно осмотрел все тропинки, обследовал кусты, даже, как показалось Мише, обнюхал деревья. И что он здесь высматривает, непонятно! Лодочник — у своих лодок, парни — в лесу, а он ходит здесь и чего-то вынюхивает…
— Может быть, вы и лес осмотрите? — насмешливо спросил Миша.
Следователь спокойно ответил:
— Лес большой, как его осмотришь…
— Именно потому, что он большой, там и легче спрятаться.
Продолжая осматривать дорожку, следователь сказал:
— Но ведь это только твои подозрения.
— Что?
— Лодочник и парни в лесу.
— Николая Рыбалина вы тоже только подозреваете, а арестовали.
— Против него улики, а против этих нет улик.
— А все же Николай не виноват, — объявил Миша.
— Никто и не говорит, что виноват. Есть улики, вот и держим. — И загадочно добавил: — Может быть, и для него лучше, что в городе держим… А парни копают, и пусть их копают.
— А что они ищут? — спросил Миша, удивленный тем, что следователь знает об этих парнях.
Следователь засмеялся:
— Наверно, ищут то, что обычно ищут в лесу: клад. Я родился в этих краях, и, сколько помню себя, здесь всегда искали клады. Одно время так землю перекопали, что и пахать не надо было. Граф был богач и чудак. Добывал на Урале драгоценные камни, вот и говорили люди, что зарыты здесь драгоценности. Никто никогда ничего не находил. А вот верят.
— Может быть, Кузьмин знал, где зарыт клад, но не хотел рассказать, они и убили его, — предположил Миша.
— Зачем же убивать? — возразил следователь. — Наоборот, если бы он знал, то они всячески оберегали бы его в надежде, что рано или поздно он им расскажет. Только ведь никакого клада нет.
— А почему лодочник напал на нас?
Следователь пожал плечами:
— Трудно сказать. Он утверждает, что из-за лодки: думал, что лодка Кузьмина. Врет, конечно. Но к делу это не имеет отношения. Лодочника мы знаем: старый рецидивист. Специальность — валюта и драгоценные камни. Но не убийца. Нет, убивать он не будет. Тем более что недавно из отсидки.
Миша не знал, что ему думать… Как же так! Известно, что лодочник вор, рецидивист, а он расхаживает на свободе как ни в чем не бывало…
И, точно угадав Мишины недоумения, следователь сказал:
— Закон есть закон. Сажать его пока не за что… А скажи-ка, — он повернулся к Мише, — не попадался ли тебе здесь, в усадьбе, совсем незнакомый человек, мужчина средних лет, не местный житель?..
— Как будто нет, не видал…
— Подумай, — настаивал следователь. — Может быть, видел, совсем случайно, мельком… Здесь, на реке, в деревне… Возможно, твои ребята видели?
Миша напряг память, но никого не мог вспомнить.
— Нет, я никого не видел. И ребята, кажется, тоже… Мы ведь здесь всех знаем.
— Не видел, значит, не видел, — оборвал разговор следователь. — Я просто так спросил…
Глава 37
Надо идти в лес
Следователь уехал. О своем разговоре с ним Миша рассказал Генке и Славке.
Генка объявил, что такому следователю заниматься делами о похищении кур, а не искать убийцу. И нечего его слушать. Надо самим все выяснить и доказать невиновность Николая и, наоборот, виновность лодочника и его подручных. Короче — надо идти в лес.
Но Славка был несколько иного мнения:
— Беда наша в том, что мы занимаемся этим делом не на научной основе. Помните с кортиком? Мы ходили в библиотеку, провели серьезное исследование и все установили. А в данном случае? В данном случае мы пользуемся слухами: граф был богач, владел копями на Урале, люди верят, что здесь зарыт клад, и так далее. Ведь все это слухи. А нам необходимо научное обоснование. Кто такие графы Карагаевы? Чем в действительности они владели на Урале? Чем питаются слухи о кладе? Вот что нам надо узнать. Надо обратиться к первоисточникам. Тогда мы не будем действовать вслепую, как сейчас.
Миша подумал и сказал:
— Одно другому не мешает: познакомимся с материалом и проверим, что они делают в лесу. Поэтому отправляйся, Славка, в Москву, посиди в Румянцевке и все как следует узнай. Кстати, пора уже собрать у родителей продукты.
Славке очень не хотелось таскаться с продуктами.
— Как же я буду в Румянцевке сидеть и продукты собирать? Надо делать что-нибудь одно.
— Ничего, ничего. Возьми с собой Кита, он поможет. Пока ты будешь сидеть в библиотеке, он обойдет всех мамаш.
— С Китом, пожалуй, можно, — согласился Славка.
— Вот и хорошо. А мы с Генкой пойдем в лес. Не сейчас, а когда ты вернешься из Москвы. Конечно, можно пойти всем отрядом и доказать, что никаких мертвецов, никаких графов без головы там нет. Но если пойти всем отрядом, то можно спугнуть бандитов. Они уйдут на другое место, и тогда ничего не узнаешь. Нет, надо пойти одному или вдвоем с кем-нибудь. И обязательно с Жердяем. Кроме него, никто не сумеет провести на Голыгинскую гать. Конечно, Жердяй будет отказываться. Но мы его уговорим!
Славка с Китом уехали в Москву, а Миша отправился к Жердяю, Жердяй был дома. Он топором обтесывал колья и подпирал ими обвалившийся плетень.
— Хозяйствуешь?
— Приходится.
— От брата есть что?
— А что от него может быть? В тюрьме сидит.
— Слушай, Жердяй, — сказал Миша, — у меня есть новый план. Если мы его выполним, то сумеем доказать, что твой брат ни при чем.
— Пробовали уже, — вздохнул Жердяй, — за этим и на лодке плавали, только не нашли ничего.
— А все же мы доказали, что кто-то угнал лодку. И следователь сам говорит, что дело сомнительное. А теперь, если ты мне поможешь, то мы еще больше сумеем доказать. Вот увидишь!
— Что я должен сделать?
— Ты знаешь, что Кузьмин раньше служил у графа лесником?
— Откуда мне знать?
— Так вот: он раньше служил у графа лесником. Я точно узнал.
— Ну и что?
— Раз он служил раньше лесником, значит, имеет какое-то отношение к лесу. Так ведь?
— Выходит, что так.
— А кто прячется в лесу? Парни, которым лодочник возил мешки. Так?
— Выходит, что так, — повторил Жердяй, напрягая всю свою сообразительность, чтобы понять, к чему клонит Миша.
— Значит, — заключил Миша, — есть какая-то связь между убитым лесником и этими парнями в лесу.
Как ни далеко было следствие от посылки, но Жердяю оно показалось убедительным. Может быть, потому, что он никогда не изучал логики.
— И верно, — сказал он, разинув в удивлении рот.
— Вот видишь, — продолжал Миша, торопясь укрепить в Жердяе это убеждение, — значит, надо узнать, в лесу ли эти парни и что они там делают, тогда мы наверняка все выясним.
— Как же мы узнаем?
— Очень просто: пойдем ночью в лес.
— Это на Голыгинскую-то гать? — ужаснулся Жердяй.
— Почему же на Голыгинскую гать? Просто пойдем в лес, и всё.
— Ни за что не пойду! — заявил Жердяй. — Убей — не пойду. И не говори больше, не упрашивай.
Миша был готов к этому отказу. Но он понимал, что без Жердяя ему в лесу делать нечего: ночью он один заблудится.
— Эх ты, — сказал Миша, — родного брата не хочешь из беды выручить!
— Кабы я знал, что это брату поможет… А то ведь не знаю…
— Наверняка поможет, — настаивал Миша. — Ты только подумай: твоего брата могут засудить, а ты не хочешь ему помочь. Я посторонний человек, и то хочу помочь — иду ночью в лес, не боюсь. А ты родной брат и не хочешь, боишься. И не стыдно тебе!
Жердяй молчал.
— Ты о матери подумай. Ведь убивается она? А, убивается?
— Убивается, — мрачно ответил Жердяй.
— Вот видишь! Она убивается, пока следствие идет. А если его невиновного засудят? Ведь она совсем сойдет с ума с горя. И тебе ее не жаль. Эх ты!
— Я идти не отказываюсь, — сказал Жердяй, — только на самую гать не пойду. Дойдем до гати, и всё.
— Ладно! Ты нас только туда выведи, а остальное мы сами сделаем.
— А еще кто пойдет?
— Генка… Только ты смотри, Жердяй, никому не говори!
— Зачем я буду говорить?
— И матери своей не говори, никому, понял?
— Понял.
— Пойдем сегодня ночью.
— Уж сегодня?
— А зачем откладывать? Сегодня и пойдем. Приходи вечером в лагерь. Как все заснут, мы втроем и пойдем.
— Ладно, приду, — ответил Жердяй и снова взялся за топор.
Глава 38
Славкины розыски
К вечеру Славка вернулся из Москвы и рассказал следующее:
— Графы Карагаевы — родственники знаменитых Демидовых. Был такой тульский кузнец Демид Антуфьев. Его сын Никита поставлял оружие Петру Великому. За это Петр подарил ему уральские заводы, дал дворянство и фамилию Демидов. Дочка одного Демидова вышла замуж за графа Карагаева.
— Кому это интересно? — презрительно скривился Генка.
— Слушай. Демидовы были самые богатые люди в России. Даже королевы за них выходили. Был такой Анатолий Демидов, так он женился на родной племяннице императора Наполеона.
— Уж это ты врешь!
— Честное слово! И Анатолий Демидов, чтобы тоже быть именитым, купил в Италии княжество Сан-Донато и стал именоваться князем Сан-Донато.
Такому сообщению не мог поверить даже Миша, хотя и знал, что Славка никогда ничего не выдумывает. Но, может быть, он прочитал какой-то вымысел и уверовал в него? Как можно купить целое княжество, можно сказать — целое государство?
Но Славка настаивал на своем. Он даже обиделся:
— Если вы мне не верите, то поезжайте на Урал. Там увидите железнодорожную станцию, которая называется Сан-Донато.
— Зачем же обижаться? Рассказывай.
— Я не обижаюсь. Но если бы ты при такой жаре целый день просидел в Румянцевке, то тоже бы обиделся.
— Ладно, рассказывай, — примирительно сказал Миша.
— Так вот. Демидовы были очень богатые люди. Владели на Урале заводами и рудниками. И были большими чудаками. Например, один Демидов, Прокофий, устроил в Петербурге такое пьянство, что пятьсот человек умерли от перепоя…
— Вот врет! — взвизгнул Генка и хлопнул себя по коленкам.
— Честное слово! Этот Прокофий был в Англии и за что-то обиделся на англичан. Тогда он вернулся в Россию и скупил всю пеньку, чтобы не досталась англичанам. Ведь они импортировали из России главным образом пеньку, вот он их и проучил.
— Проучил… за свои денежки.
— А что для него деньги? Вот, например, другой Демидов — Павел. В 1835 году подарил царю Николаю Первому алмаз, который стоил ровно полмиллиона рублей…
— Видно, был большой подхалим, — заметил Миша.
Генка опять не поверил:
— Один камешек стоит полмиллиона рублей золотом? Больно дорого!
— Представь себе — полмиллиона, — продолжал Славка. — Это был знаменитый алмаз Санси… Вот интересная история. Этот алмаз был вывезен из Индии лет пятьсот назад и принадлежал Карлу Смелому Бургундскому. Карла убили на войне, и алмаз подобрал один швейцарский солдат. Но он не знал цену алмаза, думал, что просто красивый камень, и продал какому-то священнику за один гульден, то есть за один рубль. Священник, не будь дурак, загнал алмаз португальскому королю Антону. Король Антон, тоже хороший спекулянт, продал его за сто тысяч франков французскому маркизу Ле-Санси. С тех пор этот алмаз называется Санси. Теперь слушайте, что произошло дальше. Слуга Санси вез к нему этот алмаз. На слугу напали разбойники и убили его. Но слуга успел проглотить алмаз. Санси велел вскрыть труп своего слуги и нашел алмаз в его желудке.
— Веселенькая история! — заметил Генка, протягивая руку к животу в том месте, где, по его предположениям, был желудок.
— Затем, — продолжал Славка, — короли опять начали спекулировать алмазом. Санси продал его английскому королю Якову Второму, Яков Второй — французскому королю Людовику Четырнадцатому, потом он попал к Людовику Пятнадцатому. В общем, его долго перепродавали, пока наконец, в 1835 году, Павел Демидов не купил его для Николая Первого… Вот какая история…
Мальчики помолчали. Потом Миша сказал:
— Ты, конечно, провел серьезное исследование. Но какое это имеет отношение к усадьбе?
— А то, что одна из дочерей Демидова вышла замуж за Карагаева.
— Ну и что?
— Может быть, алмаз Санси вместе с приданым перешел к графу Карагаеву.
— Но ведь Демидов отдал алмаз Николаю Первому?
— Он мог ему отдать поддельный. Ведь все там было построено на жульничестве.
Генка свистнул:
— Наверно… Попробуй надуй Николая Первого с его Бенкендорфом.
— Видишь ли, Славка, — сказал Миша, — конечно, трудно предполагать, что алмаз попал к графу. Но допустим даже, что это так. Что же из этого?
— Как — что? — обиделся Славка. — Возможно, как раз его и ищут. Ведь все говорят, что здесь всегда искали клады. Может быть, и сейчас ищут.
— Может быть, — согласился Миша. — Но это только подтверждает, что мы должны идти в лес. Этот ли алмаз или что-нибудь другое, но факт, что ищут. А когда ищут драгоценности, то и убивают друг друга. А нам важно узнать, кто убил Кузьмина, и тем самым оправдать Николая.
— Разве я возражаю? Я только указываю на то, что именно ищут.
— Вот и хорошо, — заключил Миша. — Значит, сегодня ночью мы пойдем в лес.
Глава 39
Костер
Сегодня ночью они пойдут в лес, на Голыгинскую гать. Конечно, от ребят этого не скроешь. Но все понимали, что это не просто тайна: если лодочник проведает, что мальчики отправились на гать, то он может их проследить, а потом в лесу и убить. Он и его парни на это способны. Убили же они Кузьмина.
У всех ребят на лицах было то серьезное, таинственное и даже несколько торжественное выражение, которое бывает перед всяким важным, а тем более опасным предприятием. Все вели себя как нельзя лучше и всячески старались угодить Мише и Генке — кто знает, в каком виде они вернутся и вернутся ли вообще. Мише так надоели эти жалостливые взгляды, что он ушел на реку, на то место, где любил сидеть вечерами и смотреть на пламенеющий за дальними горами закат.
К тому же у Миши была еще одна тайна, маленькая тайна, принадлежащая только ему одному: он сочинял стихотворение.
Раньше Миша никогда не сочинял стихов. Это занятие казалось ему несерьезным. Другое дело, когда стихи пишут настоящие поэты: Пушкин, Лермонтов, Некрасов… Или современные поэты: Маяковский, Безыменский… Это поэзия. А то, что сочиняют ребята, не более как рифмованные слова. И плохо рифмованные. К школьным поэтам Миша всегда относился иронически. Конечно, если стихи пишут для стенгазеты, к какой-нибудь знаменательной дате, это куда ни шло — без стихов нет и стенгазеты. Частушки для «Синей блузы» тоже нужны — критика недостатков получается острее. Но вот стихи из-за «настроений» Миша терпеть не мог, как не мог терпеть и сами эти «настроения»…
«Настроения» бывали обычно у мальчиков морально неустойчивых, далеких от общественной жизни. Впрочем, случались «настроения» и у комсомольцев, хотя и реже. «Настроения» заключались в том, что парень ходит грустный, скучный, как в воду опущенный. На все он смотрит скептически, все ему кажется мелким, ничтожным, неинтересным. Да и сама жизнь представляется ему совершенно ненужной. Говорит он философскими изречениями: «жизнь коротка и неинтересна», «все пройдет», «все повторяется», «если уж жить, то от жизни надо брать все». В общем, несет вздор. Как правило, такой «упадочник» говорит об одиночестве, о том, что никто его не понимает и никогда не поймет, и читает при этом упадочные стихи. Да и сам сочиняет упадочные стихи — о загадочном мире, о бренности жизни и прочее в таком духе…
Директор школы Алексей Иванович сказал как-то на педсовете, что «настроения» — неизбежный спутник переходного возраста. Конечно, Алексей Иванович человек умный, опытный педагог, но все же некоторые понятия у него старомодные. При чем здесь переходный возраст? И что это за переходный возраст? Возраст как возраст. Миша был твердо убежден, что «настроения» есть не более как проявление моральной неустойчивости. Отсюда и сочинение упадочных стихов. Как только кто начинает сочинять стихи, значит, у него непременно начались «настроения».
И вдруг, совершенно неожиданно для себя, Миша сам начал сочинять стихи. Вернее, он сочинил одно стихотворение. И то не до конца. Он никак не мог подобрать рифмы к двум последним строчкам. Конечно, не упадочное стихотворение, а настоящее революционное. Оно зародилось в те часы, когда он сидел на берегу Утчи вечером, смотрел на пламенеющий за дальними горами закат и вспоминал маленькую железнодорожную станцию, удаляющиеся огоньки поезда, эшелон красноармейцев, Полевого и большой плакат, на котором был нарисован рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар…
Неожиданно возникла рифма: «шар земной — рабочий молодой», потом другая: «мосты — бойцы»… И в результате почти двухнедельного труда появилось стихотворение, несовершенство которого Миша сознавал, но которое все же ему очень нравилось. И он надеялся со временем подобрать последние две строчки. Вот это стихотворение.
Пока живы, не забудем Все, что видели тогда: Эшелон на бой уходит За Республику Труда. Широко раскрыты двери, И толпой стоят в дверях Бойцы в разорванных шинелях И в стоптанных сапогах. И, опутанный цепями, Пламенеет шар земной, И молотом тяжелым цепи рубит Рабочий молодой. Хоть крут подъем и взорваны дороги И падают убитые бойцы, Мы рельсы выложим, нарежем шпалы, Туннели вырубим и наведем мосты. Борьба лишь начата, и нам передан молот, Цепями все еще опутан шар земной… . .Последние две строчки Миша никак не мог сочинить. Не подбирались рифмы. К слову «земной» можно бы подобрать — в крайнем случае опять повторить «молодой», — но к слову «молот» Миша никак не мог найти рифму. А менять это слово Миша не хотел. Уж очень красиво звучало:
Борьба лишь начата, и нам передан молот…Молот, молот, молот… Какую же рифму к нему подобрать?
Миша мусолил карандаш, напрягал воображение, но ничего подходящего найти не мог… Все слова, которые приходили ему на ум, не годились. Молот, долот, сколот, проколот…
Искал Миша рифму и вечером, на костре.
Костер в этот вечер был не похож на другие костры. Обычный разговор не вязался. Никто не шутил, не рассказывал веселых историй.
Зина Круглова попробовала было пересказать смешной ответ одной крестьянки на уроке ликбеза, но никому ее рассказ не показался ни смешным, ни интересным.
Все сознавали ответственность момента.
Торжественное, романтическое состояние охватило и Мишу.
Его так и подмывало прочитать свое стихотворение. И в то же время было стыдно: вожатый, а сочиняет стишки. Но они так вертелись у него на языке, что он не удержался и сказал:
— Знаете, ребята, сейчас, когда мы с Генкой и Жердяем пойдем на Голыгинскую гать, мне кажется, что мы там узнаем что-то очень серьезное и важное. И это поможет нам не только оправдать Николая, но и открыть какую-то тайну. И мне сейчас припомнилась история с кортиком: Полевой, Никитский и все другие. И как-то само собой у меня сочинились стихи. Если хотите, я их вам прочту.
Все изъявили желание послушать. Миша встал и, немного волнуясь и боясь, что он забудет какую-нибудь строчку, прочитал стихи.
Ребята молча слушали. Молчание царило еще некоторое время после того, как Миша кончил читать. Потом Генка спросил:
— А где же конец?
— Конца я еще не сочинил, — ответил Миша.
Ему вдруг стало очень стыдно. Стихи казались ему плохими, скверными, нехудожественными. Он увидел, что в них нет правильного размера. И рифма подгуливает. И вообще все пышно, выспренне, не доходит до сердца. Зря он их читал! Кой черт его дернул? Зачем? Ведь он не собирается быть поэтом. Вот и ребята молчат. Понимают, что стихи плохие, но не говорят, не хотят его обидеть. Зачем он это затеял! Миша опустил руку в карман, незаметно измял и разорвал листок со стихами на мелкие кусочки.
— Что ж, — сказал Славка, — стихи неплохие. Только конца нет и размер не всюду правильный. Потом, нет рифмы между первой и третьей строчками.
— Это не обязательно, — заметила Зина.
— Но желательно. И потом, в разных строчках разное количество слогов…
— Зато по идее хорошо, — сказал Генка. — Я как услышал эти стихи, так сразу вспомнил и станцию, и эшелон, и комиссара Полевого. Ты, Славка, потому критикуешь, что не видел этого. А мы с Мишей видели. Правда, Миша?
— Правда, — подтвердил Миша. — Но зачем я сочинил эти стихи, вы не знаете. Я вижу, что вы сидите скучные, и решил вас немного развлечь. Я знаю, что стихи плохие, но мне хотелось вас немного позабавить и оживить наш скучный костер. Вот я взял и на ходу сочинил эти стихи…
— Прямо сейчас вот и сочинил? — усомнился Генка.
— А то когда же? Прямо в уме сочинил и прочитал. — Миша встал. — Все! А теперь спать, по палаткам. И имейте в виду: ничего с нами не случится. Мы скоро вернемся. Так что никакой паники. А вот уж если мы к утру не придем, тогда ищите нас в лесу. У Голыгинской гати.
Глава 40
Опасная экспедиция
Лагерь затих. Миша, Генка и Жердяй тихонько вылезли из палаток и быстро пошли в сторону леса.
Полная луна освещала спящий лагерь. Было так светло, что Миша отчетливо видел верхушки деревьев. И синее небо над ними. И звезды.
— Как к лесу пойдем: берегом или лугами? — шепотом спросил Жердяй, дрожа не то от холода, не то от страха.
— Берегом, мимо лодочника, — тоже шепотом ответил Миша.
Три маленькие фигурки двигались по полевой тропинке, ведущей из лагеря к реке. Впереди Жердяй, за ним Миша и последним Генка. Жердяй шел легко, неслышно. Миша решительно шагал за ним. Генка же, успевший в палатке заснуть, теперь плелся позади, зевая и чувствуя себя очень несчастным оттого, что не выспался. Конечно, он был храбрый мальчик, но любил поспать.
Не доходя до реки, Миша велел ребятам подождать, а сам ползком подобрался к лодочной станции. Луна заливала ее своим светом. Лодки на воде казались черными спящими рыбами. Но никого на станции не было. Тихо. Ни голоса, ни плеска. Так же ползком Миша вернулся к друзьям, и они отправились в путь.
До леса было верст пять. Дорога сначала вилась вдоль берега, потом углубилась в поля. В свете луны все казалось причудливым и таинственным. Что-то шелестело в пшенице. Таинственные зверьки перебегали дорогу.
Два быстрых зеленых глаза показались впереди и исчезли.
— Заяц, — прошептал Генка, стряхивая с себя сонливость.
— Кошка, — сказал Жердяй.
Лес возник перед мальчиками черной, мрачной громадой.
— Как пойдем? — спросил Жердяй дрожащим голосом.
Он еще надеялся, что Миша побоится идти в лес и они вернутся в лагерь.
Но Миша и не думал возвращаться.
— Веди нас к болоту.
Вслед за Жердяем мальчики обогнули опушку и углубились в лес.
Сразу стало темно. Пересекавшие тропинку бугристые корневища деревьев казались клубками черных уснувших змей.
Лес жил ночной, потаенной жизнью. Невидимые, проносились меж деревьев птицы. Это козодой или летучая мышь. Часто раздавался сухой, отрывистый хруст ветки, как будто кто-то подкрадывался. Но Жердяй шел вперед, и мальчики двигались за ним. Если Жердяй не останавливается, значит, никакой опасности нет.
Шли они долго. Миша совсем потерял направление. Без Жердяя, конечно, не выбраться отсюда. И как Жердяй здесь ориентируется?
Между тем лес становился все реже, деревья ниже и мельче. Мальчики вышли еще на одну опушку.
Жердяй остановился и обернулся к Мише. Лицо его казалось мертвенно-бледным.
— Сейчас будет болото, а там Голыгинская гать, — дрожащим голосом прошептал Жердяй.
— Пойдешь? — тихо спросил Миша.
Жердяй отрицательно качнул головой.
— Хорошо. Останешься здесь. Будешь нас ждать. Не побоишься?
Жердяй кивнул головой в знак того, что он согласен остаться здесь и ждать ребят.
— Покажи, как идти.
Жердяй протянул руку вправо и зашептал:
— Пойдете краем леса. Как дойдете до четырех дубов, так возьмите влево, там просека… А как просеку пройдете, так увидите болото… Тут и начинается гать… А я тут посижу, — добавил Жердяй и присел под березой, привалившись к ней спиной.
Миша и Генка пошли вперед. Они осторожно двигались по опушке, прижимаясь к лесу, чтобы их не было видно. Луна светила со стороны поляны, и тени мальчиков сливались с тенями деревьев.
Вдруг Генка схватил Мишу за руку:
— Тише! Слышишь?
Прижавшись к дереву, мальчики оглянулись. Мише тоже показалось, будто кто-то крадется за ними. Они прислушались. Все стихло.
Мальчики двинулись вперед и опять услышали, что за ними кто-то крадется.
Они опять остановились. Раздался едва слышный хруст ветки. Мальчикам казалось, что лес полон таинственными людьми, которые крадутся за ними. Они почувствовали себя одинокими, окруженными врагами. Генка прижался к Мише. Миша слышал, как у Генки бьется сердце. Сам он тоже порядком перепугался, и не будь рядом с ним Генки, перед которым он не мог оказаться трусом, Миша бросился бы бежать со всех ног.
Они стояли затаив дыхание и прислушивались к лесу. Им чудились таинственные звуки, шорохи, осторожные шаги, хруст ветвей, шепот людей, и казалось, что какие-то тени двигаются в поле, на опушке, меж деревьев.
— Вернемся, — едва слышно, одними губами прошептал Генка.
— Боишься? — так же шепотом спросил Миша.
Генка кивнул головой:
— Боюсь…
Тогда, с радостью в душе, но с таким видом, будто он уступает Генкиной трусости, Миша пожал плечами и тихонько стал пробираться назад…
Но не успел он сделать и шага, как увидел за деревом фигуру человека. Миша замер на месте. Человек вышел из-за дерева. Это был Жердяй. Так вот кто крался за ними! Чудак! Только зря напугал их.
— Боязно одному сидеть, — тихо сказал Жердяй.
— Так какого же ты черта… — с негодованием начал Генка, обрадованный тем, что есть на кого свалить свой испуг.
Но Миша сделал ему знак молчать. Он сам злился на Жердяя, но сейчас не время разговаривать и не место: их могут услышать…
Втроем мальчики почувствовали себя увереннее. И уже перед Жердяем ни Миша, ни Генка не могли обнаружить своего страха. Миша снова повернул к Голыгинской гати. Генка и Жердяй осторожно двинулись за ним.
Они шли по-прежнему молча, прячась в тени деревьев. Наконец вышли к просеке. Если бы не Жердяй, Миша никогда бы не догадался, что это просека, настолько густо заросла она молодым ельником.
Движением руки Миша приказал Жердяю идти впереди и показывать дорогу. Тот жалобно посмотрел на него, но подчинился. Только поминутно оглядывался, чтобы убедиться, что Миша здесь, рядом с ним.
Они прошли еще с версту. Лес перешел в мелколесье. Чувствовались гнилые запахи болота.
Вдруг Жердяй остановился и стал внимательно всматриваться в землю. Миша и Генка тоже наклонились и увидели рядом с собой глубокую яму длиной аршина в три и шириной в аршин. Рядом высился холмик свежевыкопанной земли.
Мальчики вгляделись. На некотором отдалении виднелась другая яма, потом третья. Жердяй развел руками, показывая, что этих ям раньше не было.
Мальчики прошли еще немного. Просека кончилась.
Жердяй остановился, протянул вперед дрожащую руку:
— Гать…
Луна освещала темное бугристое болото. Местами из него торчали не то бревна, не то поваленные деревья. Белесые испарения поднимались над болотом, образуя таинственные движущиеся фигуры. Изредка перебегали огоньки — зеленые, синие, желтые… И хотя Миша знал, что это болотные огни и больше ничего, а белесые движущиеся фигуры, похожие на мертвецов в саванах, не более как испарения, подымающиеся с болот, но и ему было жутко.
Мальчики стояли безмолвные, окаменевшие перед жуткой картиной ночного болота. Им казалось, что вот сейчас один из этих белесых движущихся призраков приблизится к ним и они увидят мертвого графа и страшную бородатую голову у него в руках.
Вдруг совсем близко мальчики услышали глухие, равномерные удары. Как будто кто-то стучал под землей. Жердяй от страха присел и уткнул голову в колени.
Миша и Генка тоже присели. Но, как они потом говорили, не от страха, а для того, чтобы их не заметили люди, производившие эти звуки.
Удары повторялись равномерно через короткие, но точные промежутки времени.
Миша прислушался. Когда первый страх прошел, он сообразил, что удары доносятся не из-под земли и не с болота, а откуда-то справа, из леса, и совсем близко.
Он сделал мальчикам знак оставаться на месте, а сам, пригибаясь к земле, ползком стал подвигаться в сторону, откуда слышались странные звуки. Но за ним пополз Генка, а за Генкой — Жердяй.
Они проползли шагов двести. Удары раздавались все ближе и ближе. Теперь было ясно, что где-то копают и отбрасывают землю. Между деревьями мелькнула полоска лунного света. Миша осторожно раздвинул ветки…
Перед ним была крошечная полянка, а в середине полянки — яма. Два бугра земли высились по ее краям. Возле ямы сидели два человека и курили.
Это было совсем близко. Удивительно, что эти люди не услышали приближения мальчиков.
Как ни меняется лицо человека при лунном свете, Миша сразу узнал парней, которым лодочник передал мешки.
Один парень плюнул на окурок, бросил его, поднялся, взял лопату и прыгнул в яму. То же сделал и второй парень. И все это без единого слова.
Снова раздались равномерные удары лопат.
Миша сделал Генке и Жердяю предупреждающий жест и начал тихо отползать назад. Генка и Жердяй поползли за ним.
Через несколько минут три маленькие юркие тени быстро мелькнули по краю просеки, направляясь в обратный путь, к лагерю.
Часть IV Краеведческий музей
Глава 41
Ерофеев
Итак, парни — в лесу. Ребята торжествовали. Ведь они оказались правы. Здесь действует банда. И возглавляет банду лодочник. И, конечно, они убили Кузьмина.
Правда, они что-то ищут, весь лес перерыли. Может быть, клад, о котором с такой насмешкой говорили и следователь, и доктор, и художник. Но тогда тем более вероятно, что именно они убили Кузьмина, который был лесником. Теперь остается только доказать это.
Но как доказать? Ведь следователь не обращает на мальчиков никакого внимания. А может быть, он сам хочет во что бы то ни стало доказать виновность Николая? Трудно в это поверить, но некоторые обстоятельства укрепили Мишины подозрения.
Когда следователь приезжал в деревню, то он долго разговаривал с кулаком Ерофеевым. А на другой день Миша увидел Ерофеева в избе у Жердяя.
Ерофеев сидел на скамейке. Он часто вынимал из заднего кармана большой цветастый носовой платок, похожий на небольшую скатерку, и вытирал им сначала красную морщинистую шею, потом лоб и, наконец, очки. Глаза его без очков были совсем маленькие, красные, беспомощные…
Потом он надел очки и сказал:
— Так-то вот, Мария Ивановна, по-божески надо думать, по-божески жить. Тебе общество поможет, и ты обществу помоги.
— Что же я сделать-то могу? — грустно спросила Мария Ивановна; она сидела у стола, подперев голову рукой.
— В город съезди, с сыном поговори. Зачем он невинных подводит?
— Разве он винит кого?
— Винить не винит, а от своей вины отказывается, — строго и внушительно сказал Ерофеев. — Потому и ищут других. Глядишь, и невинного привлекут… Вот приезжал следователь, допрашивал: «Кто лодку угнал?» А кто ее угнал? Может, мальчонка какой… А тут на всю деревню, на все общество подозрение падает. Разве в лодке дело? Тут человек убитый, вот что.
— Может, Микола и не виноват вовсе, — уныло проговорила Мария Ивановна.
— Кто же тогда виноват? Были-то они двое. — Ерофеев вздохнул. — Нет, согрешил, так уж покайся. Нехорошо. Всей деревне, всему обществу неприятности. Разве можно? Ну, поспорили, в бессознательности был. Разве много ему дадут? Тем более бедняк. Советская власть к беднякам снисходительна. Через год и под амнистию попадет.
— Как же можно такой грех на себя принять, ежели не убил? — сказала Мария Ивановна.
— Грех будет, если не покается, — сказал Ерофеев. — Невинных из-за него таскают. Следователи ездют, шарят… Конечно, никому от них не боязно, совесть у всех чистая, а все же неприятность. Нельзя так… Общество — сила. Разве можно против общества идти? Общество и в нужде выручит, общество и в беде поможет. Николая твоего все равно засудят, потому виноват. А тебе тут с людьми оставаться. Вот и подумай: как на тебя люди-то будут смотреть, ежели сын твой общество подводит?
Мария Ивановна тупо смотрела на угол стола.
Мишу удивляло, что Ерофеев при нем так откровенно и цинично требует, чтобы Николай признался в том, в чем он не виноват. И, точно угадав Мишино недоумение, Ерофеев ханжески добавил:
— Конечно, если бы Николай не был виноват, тогда другой разговор. А раз виноват — признавайся. И органы судебные не надо обманывать. И следователя не надо зря водить. Люди государственные, занятые. Правду им надо говорить. Не должны мы государство наше советское обманывать.
Мишу передернуло от такого лицемерия. Ишь ты, о советской власти заботится!
— Советская власть нас и землей наделила, — продолжал Ерофеев. — Правда, слухи ходют, собираются эту землю отобрать в колонию беспризорническую. Ну, да власть не позволит. Не оставит она крестьян без земли.
Здесь уже Миша не мог смолчать.
— Никто у крестьян землю не отбирает, — сказал он. — Ее должны будут вернуть только те, кто незаконно владеет сотнями десятин и эксплуатирует бедняков и батраков.
— Таких у нас нет, молодой человек, — елейным голоском возразил Ерофеев. — Живем мы всем обществом, мирно, справедливо, по христианскому обычаю. Нет у нас ни кулаков, ни бедняков — все едины. — Ерофеев встал, надел на голову фуражку. — Вот так, Ивановна, подумай… — Потом добавил: — Вечером мальчонку подошли. Мучицы наскребу. Ох-ох!.. А насчет Николая подумай. Очень тебя общество просит.
Ерофеев вышел. Мимо низеньких окошек, на мгновение затемнив избу, проплыли его сапоги и длиннополый сюртук.
— И не вздумайте его слушаться! Понятно, Мария Ивановна? — сказал Миша.
Мария Ивановна молчала.
— Неужели вы его не раскусили? — воскликнул Миша. — Ведь он хочет, чтобы Николай взял вину на себя. Он боится, что найдут того, кто действительно убил Кузьмина. И не вздумайте даже говорить об этом с Николаем. И никакой муки у него не берите.
— Жить-то надо, — проговорила Мария Ивановна.
— Разве вы без кулаков не проживете? Да мы вам отдадим все, что у нас есть!
— Я не про то, я не про муку, — печально ответила Мария Ивановна. — Как против общества-то пойдешь? Жить-то с ними. Вот, — она показала на Жердяя, — Ваську надо подымать.
— Ерофеев — общество? — воскликнул Миша в негодовании. — Никакое он не общество! Кулаки тут у вас все захватили. Боитесь вы их. Советская власть вас поддерживает, а вы кулаков боитесь. Безобразие! И я вас предупреждаю, Мария Ивановна: если только вы будете уговаривать Николая взять вину на себя, то я все расскажу, что вас подговорил Ерофеев. Так и знайте! А ты, Жердяй, не смей ходить к Ерофееву, не смей! Какой благодетель нашелся! Хочет, чтобы вы за кулечек муки сына продали. Как угодно, Мария Ивановна, а мы не допустим этого. Ни за что!
Глава 42
Клуб
Опасаясь, что Мария Ивановна все же пошлет Жердяя к Ерофееву за мукой, Миша увел его с собой в клуб.
Зина Круглова объясняла деревенским ребятам законы и обычаи юных пионеров.
— «Пионер смел, честен и правдив», — говорила Зина. — Что это значит? Это значит, что пионер ничего и никого не боится, никогда не врет, всегда говорит только одну правду. Вот что это значит. Понятно?
Ребята молчали.
— Я спрашиваю: понятно или нет? — переспросила Зина.
— А как же отца-мать, тоже не бояться? — спросил Муха.
— Конечно, не надо.
— Выпорют! — уверенно сказал Муха.
— Если вы перед родителями ни в чем не провинились, то чего вам их бояться?
— Разбираться не станут, — сказал Муха, — выпорют, и всё. Поди потом доказывай!
— Родителей надо не бояться, а уважать, — объяснил Славка. — Понятно?
Все молчали.
— Значит, понятно? — неуверенно проговорила Зина.
— А как же, например, грозу, — спросил Жердяй, — или молнию? Ее тоже не бояться? А если убьет?
— Трусость и осторожность — это совсем разные вещи, — объяснила Зина. — Конечно, человек должен опасаться молнии, должен ее беречься, для этого и делаются громоотводы. А бояться не надо. Оттого, что будешь бояться, все равно от молнии не спасешься.
— Разве громоотвод поможет от молнии? — улыбнулся Жердяй.
— Конечно!
— Нет!
— Почему?
— А потому! Гроза — это что? Это пророк Илья ездит по небу в колеснице и гонит бесов. А бесы прячутся. И в деревья, и в зверей разных, и в людей даже прячутся. Вот Илья-пророк и бьет по ним молнией. Спрятался бес в дерево — молния по дереву лупит. Спрятался бес в человека — молния в человека бьет. А чтобы бес в тебя не вселился, молиться надо. Будешь в грозу молиться, то бес в тебя не вселится и ты жив останешься. Больше ничем не спасешься.
Поднялся страшный шум. Комсомольцы доказывали, что ни пророка Ильи, ни вообще никакого бога нет. Жердяй и Муха стояли на своем. Так каждый раз! О чем бы ни говорили, всегда переходили на бога.
— Давайте потише! — навел порядок Миша. — Сейчас беседа не о боге, а о законах и обычаях юных пионеров. О боге поговорим в другой раз. А пока вам надо хорошо понять законы и обычаи. Иначе как же вы сможете вступить в пионеры?
В это время в клуб вошли Сенька Ерофеев и Акимка. Услышав последние Мишины слова, Сенька сказал:
— Кто в пионеры поступает? — Он повернулся к сидевшим на скамейках ребятишкам и грозно повторил: — Кто? Покажись!
Никто не показался. Все боялись Сеньки.
Только Жердяй не боялся ни Сеньки, ни Акимки. И хотя именно он не собирался вступать в пионеры, потому что верил в бога (впрочем, после посещения Голыгинской гати эта вера изрядно поколебалась), Жердяй сказал:
— А хотя бы я собираюсь. Тебе какое дело!
— Только попробуй! — угрожающе проговорил Сенька.
— И попробуем. У тебя не спросили! — сказал осмелевший Муха.
Миша молчал. Он хотел, чтобы ребята сами дали отпор Сеньке. Пусть почувствуют свою силу, пусть поймут, что им всем вместе нечего бояться ни Сеньки, ни Акимки. Иначе зимой организованный здесь отряд развалится, Сенька и Акимка его разгонят.
— Поговорите!
Но уж такой угрозы ребята допустить не могли. Генка подошел к Сеньке и встал против него:
— Ты чего кулаками размахался? А ну, катись отсюда!
— Но-но, поосторожней! — нагло и трусливо ответил Сенька. — «Катись»!.. Подумаешь, какой хозяин нашелся! Ваш, что ли, этот клуб, собственный? Вот как наверну! — и поднял кулак.
— Наверни, наверни! — сказал Генка, наступая на Сеньку. — Наверни, попробуй!
Ребята повскакали со своих мест. Сенька затравленно осмотрелся по сторонам. Акимка бочком отходил к дверям и уже стоял там, готовый при первой опасности улизнуть.
— Что же не наворачиваешь? — говорил Генка, продолжая наступать на Ерофеева.
Он вошел в азарт и лез в драку. Наконец-то он рассчитается за яйцо, разбитое на его голове!
Но драки здесь, в клубе, нельзя было допускать. Миша встал между ними:
— Знаешь что, Ерофеев? Тебе здесь не нравится — уходи, не мешай другим. И имей в виду, никто тебя не боится. Нас много, а ты один. И со всеми ты не справишься.
Сенька обвел всех злобным взглядом, повернулся и пошел к выходу, сопровождаемый веселым смехом и улюлюканьем всех деревенских ребят. Поражение всесильного Ерофеева было для них неожиданным и приятным событием.
В дверях Сенька оглянулся и опять погрозил всем кулаком. Раздался новый взрыв хохота. Тогда, в бессильной ярости, Сенька опустил кулак прямо на шею Акимке.
— А меня за что? — жалобно спросил Акимка.
Глава 43
Борьба разгорается
Сенька и Акимка были с позором изгнаны из клуба. А на следующий день в бывшем помещичьем саду кто-то сломал четыре яблони. Ребята этих яблонь и в глаза не видели. Но явился председатель с двумя крестьянами, пригласил Мишу в сад, показал ему сломанные яблони и мрачно спросил:
— Твоих ребят работа?
— Нет, — твердо ответил Миша, — никто из ребят не мог этого сделать.
— Кто же их сломал?
— Не знаю.
— Кроме ваших ребят, некому, — сказал председатель. — Разве вы видали кого постороннего?
Но никого постороннего Миша не видел.
— То-то и оно, — сказал председатель. — Не было здесь посторонних и не могло быть. Значит, ваши ребята и сломали.
— Нет! — закричал Миша. — Никогда они не будут ломать деревья.
Председатель покачал головой:
— Ведь вот сломали…
Миша немедленно созвал сбор отряда, рассказал о поломанных деревьях и строго спросил, кто это сделал. Ответом ему было общее недоуменное молчание. Миша пытливо всматривался в лица. Но ни на одном не уловил и тени смущения. Да ему и без того было ясно, что никто деревьев не ломал, да и не мог сломать. Кто решится на такой подлый поступок?
Почему же их в этом обвиняют?
Через несколько дней Миша понял почему…
В уездной газете одна за другой появились три заметки. Первая называлась «Хороши клубные устроители», вторая — «Прекратить уничтожение народного добра!», третья — «Разве так помогают старшим?». Все они были подписаны неким «Шило».
Смысл этих заметок заключался в том, что комсомолец Миша Поляков несерьезно относится к своим обязанностям, распустил пионеров, превратил отряд в банду хулиганов. Вместо того чтобы помочь крестьянам деревни Карагаево устроить клуб, Миша связался с местным алкоголиком, выбросил на ветер общественные деньги и испортил клуб. Ребята ломают фруктовые деревья в усадьбе, которая является народным достоянием. Комсомолец Миша Поляков не хочет помогать местным органам власти, пример тому — случай с Борками. И у него установились подозрительные связи с семьей лица, обвиняемого в уголовном преступлении.
Это был неожиданный удар. Ребята были подавлены. Как их опозорили! Публично, в печати… Ведь все это несправедливо, неверно.
— Надо послать опровержение, — сказал Славка.
— Разве газета напечатает опровержение против самой себя? — возразила Зина Круглова.
— А мы их заставим! — вращая глазами, закричал Генка. — Я сам поеду в редакцию. Пусть попробуют не напечатать!
— Никто там тебя не испугается, — резонно заметил Миша. — И что, спрашивается, мы будем опровергать? Ведь с клубом было, с Борками тоже, только насчет деревьев неправильно. Очень хорошее будет опровержение: «Клуб мы изуродовали — это действительно. Поручение председателя не выполнили — тоже правда. А вот уж деревья мы не ломали, неверно». После такого опровержения над нами еще больше будут смеяться.
Кто же скрывается за подписью «Шило»? И как мог редактор газеты напечатать это? Безусловно злой, нехороший человек. Бюрократ. Так казенно, ни за что ни про что, опозорить целый коллектив, смазать их работу! Такая несправедливость!
Миша выходил из себя. Может быть, действительно написать опровержение? Не в эту газету, в другую, в центральную. Например, в «Правду» или в «Известия». Ведь есть же справедливость на свете…
И почему, когда здесь вожатым был Коля Севостьянов, ничего подобного не случалось? Никаких происшествий. Все было в порядке. А при нем, при Мише, все получается неладно. И Сева с Игорем сбежали, и клуб испортили, и вообще. Может быть, действительно он еще молод и не умеет руководить отрядом? Что же такого неправильного он сделал?
Ребята не знали, куда деваться от стыда. Они проходили по деревне с опущенной головой. Им казалось, что все читали газету и теперь осуждают их. Впрочем, никто их не осуждал. Только один Сенька Ерофеев со злорадством объявил:
— Пропечатали вас в газете! Подождите, еще не то будет!
Сенькины угрозы оправдались. Через несколько дней председатель вызвал Мишу в сельсовет и вручил ему бумагу из губоно. Отряду предлагалось немедленно покинуть усадьбу «ввиду систематической порчи таковой». Бумага была подписана Серовым.
Итак, их выгоняют. Какой позор!
Разве они могут уйти отсюда? Уйти — значит признать свою вину. Какая память останется о них в деревне? И как все бросить: отряд, который вот-вот уже организуется, ликбез, клуб, который они уже успели привести в порядок, закрасив мазню анархиста Кондратия Степановича.
Как они могут бросить все это? Бросить из-за того, что их оклеветали! И оклеветали специально для того, чтобы выжить отсюда. Значит, они кому-то мешают! Нет, они так быстро не сдадутся! Они ни в чем не виноваты и докажут свою правоту.
Было решено, что Миша и Славка поедут в город и будут там добиваться отмены распоряжения Серова. Тем более что «графиня» тоже выехала в город и, конечно, будет там наговаривать на отряд. Вожатым на время отсутствия Миши останется Генка.
— Смотри, Генка, — сказал ему Миша, — до моего возвращения лагерь ни за что не оставлять. Кто бы ни приказывал.
— Не беспокойся, — ответил Генка, — никто нас отсюда не выселит. — И сделал театральный жест: — Только через мой труп.
Глава 44
Борьба продолжается
Товарно-пассажирский поезд тащился медленно, останавливаясь на каждом полустанке. За окном вагона проплывала знакомая однообразная картина: железнодорожные будки, телеграфные столбы, стаи воробьев на проводах, закрытые шлагбаумы и вереница подвод за ними, баба-стрелочница со свернутым желтым флажком в руке, деревня на косогоре, пруд за насыпью и утки на пруду, на платформе — бородатый мужчина с маленьким блестящим бидончиком в руках, рабочие с ломами и лопатами, ремонтирующие путь, старуха, бредущая по тропинке с цветастым узелком, дачники на велосипедах…
Впрочем, наслаждаться пейзажем Миша и Славка особенно не могли: они ехали без билета, зайцами.
Миша знал много способов такого передвижения. Самый простой заключался в том, чтобы сидеть в середине вагона и, как только в дверях появится контролер, немедленно уходить в другую сторону, вливаясь в жизнерадостную толпу других зайцев.
Но за последнее время контролеры изловчились и входили вдвоем с разных концов вагона. Поэтому Миша ездил теперь по самому сложному способу. Во время движения поезда он стоял на площадке. Как только поезд подходил к остановке, он соскакивал на платформу, смотрел, куда садятся контролеры, и действовал в зависимости от этого. Сначала по вагонам уходил в другой конец поезда, затем на следующей остановке слезал, по платформе перебегал в тот вагон, где контролеры уже проверили билеты, и спокойно ехал дальше. Он так навострился, что, увидев контролеров, мог с точностью до одной минуты предсказать, когда они появятся в том или ином вагоне.
Таким способом они со Славкой добирались до города. Славка не то чтобы трусил, но он был щепетильный и стеснительный мальчик. Ему казалось, что все понимают, что он заяц, и ему было стыдно перед другими пассажирами. Мише тоже было стыдно. Но, как всегда, он подвел теоретическую базу.
— Конечно, нехорошо ездить зайцем, — говорил он, — но зайцы — явление восстановительного периода. Вот когда страна наша разбогатеет, то никто не будет ездить без билетов.
— Если все так будут рассуждать, то никто не будет покупать билетов. А ведь железные дороги на хозрасчете, — возражал Славка.
Обсуждая таким образом этот вопрос, они маневрировали, перебегая из вагона в вагон, потому что на этот раз контролеров по линии было много. Перебегали они до тех пор, пока одно обстоятельство не привлекло их внимания.
Они увидели «графиню»…
Вагон был набит битком. Только на верхнем ярусе люди лежали. На второй полке они сидели, свесив ноги в лицо тем, кто сидел на нижней. Было жарко и душно. «Графиня», притиснутая в угол, клевала носом. Она сидела у открытого окна, против хода поезда, и черная паровозная пыль садилась ей на лицо.
Мальчики знали, что «графиня» тоже поехала в город, и потому не придали бы особого значения встрече с ней, но в другом вагоне они увидели лодочника.
Зачем же они едут оба? И в разных вагонах?
— Возможно, каждый из них едет сам по себе, — предположил Славка.
Миша отрицательно качнул головой:
— Не думаю… Вот приедем и посмотрим, вместе они приехали или отдельно.
Поезд прибыл в город. Вышедшие из поезда пассажиры заполнили мокрую платформу. Видно, только что прошел дождь. Капли его блестели на урнах, на переплетах вокзальных ферм.
— Я буду следить за лодочником, а ты за «графиней», — прошептал Миша. — Только смотри не прозевай.
Не спуская глаз с «графини» и лодочника, мальчики медленно двигались в толпе. «Графиня» и лодочник шли отдельно, она впереди, он на некотором расстоянии сзади. Поэтому мальчики хорошо видели лодочника, а «графиня» то появлялась, то снова исчезала в толпе.
Вот и привокзальная площадь, оживленная на то короткое время, когда на нее выплескивается поток прибывших пассажиров. Извозчики на высоких, неуклюжих пролетках, зазывающие седоков. Когда такая пролетка трогается по булыжной мостовой, то ее черный откидной, похожий на гармошку верх прыгает и трясется… Разносчики «фруктовой» с большими бутылями, в которых плещется обыкновенная водопроводная вода, подкрашенная дешевым сиропом. Лоточники с лотками на груди. Беспризорники, «последние из могикан», растянувшиеся в тени вокзала в ленивых позах, но зорко поглядывающие на вещи пассажиров.
«Графиня» исчезла, но лодочника мальчики не упустили. Он пошел по улице, мальчики — на некотором расстоянии за ним. И когда они шли за ним, то снова увидели шедшую впереди «графиню».
Вскоре мальчики убедились, что лодочник не просто шел за «графиней», а следил за ней. Он держался от нее на солидном расстоянии, прижимаясь к стенам, очень ловко скрываясь за идущими впереди прохожими. Когда «графиня» задержалась на углу, пропуская длинный обоз, то лодочник тоже остановился, даже спрятался за крыльцом дома и сделал вид, что скручивает папиросу. Мальчики едва успели укрыться за газетным киоском.
Так шли они некоторое время — лодочник за «графиней», мальчики за лодочником, — пока все не пришли на улицу, где помещался краеведческий музей и где Миша уже был с Борисом Сергеевичем.
Это была тихая, пустынная улица. Спрятавшись за углом, мальчики видели, как «графиня» вошла в музей, как, притаившись за выступом стены, следил за ней лодочник. Потом лодочник перешел улицу и улегся на траве на небольшой лужайке в тени дерева.
Мальчики некоторое время постояли за своим укрытием. Затем выбрались в боковую улицу и начали совещаться, как им действовать дальше.
— Кто знает, сколько времени «графиня» пробудет в музее, — говорил рассудительный Славка. — Может быть, до вечера. Что же, так и будем здесь стоять? Ведь у нас есть более серьезное дело. Надо идти.
Но Миша не согласился. Упустить такой случай! Если бы «графиня» пришла сюда одна, другое дело: хочет посмотреть на имущество усадьбы. Понятно. Но почему лодочник следит за ней? Ее верный слуга и сообщник! Тут что-то есть. И очень важное.
— Я к Серову пойду один, — сказал Миша, — а ты оставайся здесь и постарайся узнать, зачем «графиня» пошла в музей и почему лодочник за ней следит.
— Но… — попытался возразить Славка.
— Давай, давай, — сказал Миша, — все выясни. И жди меня здесь. Я скоро вернусь.
Глава 45
Опять у Серова
Вот и серое здание губоно. Миша с волнением посмотрел на него. Что же скажет Серов? Хорошо бы встретить здесь Бориса Сергеевича, директора детдома. Вот кто бы их поддержал! Уж он-то не дал бы выгнать отряд. Ну ладно, если здесь ничего не выйдет, то Миша пойдет… Куда же он пойдет? Конечно, в губком комсомола. А если там не помогут, то в губком партии. Вот куда он пойдет!
Серов встретил Мишу, как старого знакомого. Он замахал руками, сокрушенно закачал головой:
— Знаю, знаю… Про все ваши несчастья знаю… Кое-как дело потушил… Могло быть хуже.
Миша остолбенел:
— Какое дело?
— Тут против вас такое поднялось, — Серов крутнул головой, махнул рукой, — такое… Хотели в Москву писать. А я говорю: «Бывает! Бывает! Ребята молодые, неопытные, вот и не поладили с местным населением. Что же, казнить их? Перейдут на другое место, и дело с концом».
— Но почему мы должны перейти на другое место?
Серов придал своему голосу оттенок мягкого и дружеского убеждения:
— Долго ли перенести палатки? Сам подумай… И какая разница, где будет лагерь? Только от неприятностей уйдешь.
— Палатки перенести нетрудно, — сказал Миша, — но почему мы должны уйти? Это несправедливо.
Серов огорченно развел руками:
— Ну, товарищи, так нельзя… Газету читал?
— Там все неправильно написано, — ответил Миша.
Серов совсем сокрушенно закатил глаза и, чуть не плача, проговорил:
— Разве можно? Комсомолец, а так относишься к нашей советской печати!
— Не к печати, а к тому, кто написал заметки, — насупившись, ответил Миша.
Неожиданно строго Серов сказал:
— Редакция не печатает без проверки фактов. И газетой руководят коммунисты, твои старшие товарищи. Извольте их уважать.
Сильный довод, особенно для Миши. И все же он не мог уступить.
— Все это неправильно и несправедливо! — сказал он. — Посмотрим, что еще скажет губком комсомола.
Серов на мгновение закрыл глаза. Опущенные веки, сильно припухшие, неестественно большие для таких маленьких глазок, на мгновение превратили его лицо в толстую, неподвижную маску. И когда он открыл глаза, они уже не перебегали с предмета на предмет, а пристально и отчужденно смотрели на Мишу.
— Вы собираетесь жаловаться?
— Не жаловаться, а поставить в известность.
— Так-так… А знаете, чем это для вас кончится?
— Чем?
— Вас исключат из комсомола.
— За что меня исключат из комсомола? — поразился Миша.
— За все, что вы там натворили, — грубо сказал Серов. — Я сам хотел передать дело в губком комсомола, но пожалел вас. И мой вам совет: забирайте свои палатки и переходите на новое место. Без шума. Комсомол вас за такие дела по головке не погладит. Так что без шума. Не ввязывайтесь в историю.
— Я комсомолец, — ответил Миша, — и от комсомола никуда не прячусь. И всегда готов держать ответ.
— Виновных в порубке яблонь должны привлечь к ответственности, — пригрозил Серов, — и привлекут. И взыщут не только стоимость испорченных яблонь, но и стоимость испорченных в клубе красок и материалов. Приятно вам будет, если об этом узнают в школе, в комсомольской организации? Так что, повторяю, самое правильное — уйти без шума и скандала. Вовремя смыться. Понятно?
Серов добавил, что история с побегом Игоря и Севы тоже выглядит не слишком красиво. Что за вожатый, у которого пионеры разбегаются! Разбегаются и попадают в дела об убийстве, воруют лодки. И неизвестно еще, просто ли стащили лодку или за этим кроется нечто более серьезное. Да-да, у него создалось впечатление, что дело вовсе не так просто, как хотят его представить. Ведь мальчики-то у него жили! Вот что получается, молодой человек! Вот какой клубок. И надо подумать! Миша только начинает жизнь, и не следует на пороге жизни пятнать себя таким делом. Самое выгодное для Миши — вовремя уйти.
Опустив голову, Миша слушал Серова. В его передаче все звучало ужасно. Как же так получилось? И ведь Серову могут поверить. А тут еще эти заметки… Какое пятно ляжет на отряд!
— Договорились? — спросил в заключение Серов, заглядывая Мише в лицо.
И в его голосе Миша услышал желание получить утвердительный ответ.
— Я подумаю.
— Очень хорошо, — удовлетворенно сказал Серов, кладя обе ладони на стол. — Губерния наша большая, везде есть место. Надо побольше путешествовать, изучать родной край. Сегодня вернешься в лагерь, а завтра рано утром и подымайтесь…
Миша вышел от Серова. Противоречивые чувства обуревали его. Как быть, как поступить?
Серов плохой человек, ясно! Никаких дружеских чувств к Мише он не испытывает, а заинтересован в том, чтобы отряд ушел из Карагаева. Но ведь его скорее послушают, чем Мишу. Даже Борис Сергеевич, директор детдома, не может с ним справиться, не может отобрать усадьбу. И Серову ничего не стоит доказать в губкоме комсомола, что ребята во всем не правы. Он сумеет очень ловко использовать их ошибки, действительные и мнимые. И это может кончиться большими неприятностями для отряда.
Что же делать? Вернуться в лагерь, поднять ребят и уйти подальше от усадьбы? Все бросить? И клуб, и деревенских ребят, и ликбез, где люди уже читают по складам? Оставить на произвол судьбы Николая Рыбалина, Жердяя и его мать? И ничем не помочь Борису Сергеевичу в организации трудкоммуны? В общем, отказаться от борьбы, признать себя виновными? Трусливо уйти от суда своих товарищей?!
Нет! Так комсомольцы не поступают! Нельзя сдаваться! Что бы там ни было, но никакого преступления они не совершали. Ошибки были, но они честные комсомольцы и ни перед кем не боятся держать ответ… Неужели в губкоме комсомола не смогут разобраться?
Глава 46
Победа
Секретаря губкома Миша поймал на лестнице. Это был русый паренек в кожаной куртке, брюках клёш и серой кепке.
— Тебе чего? — спросил он на ходу у Миши, когда тот обратился к нему.
Миша пошел с ним рядом и начал рассказывать свое дело. Но секретаря все время останавливали, иногда он останавливался сам, окликал кого-нибудь и в конце концов объявил, что ничего не понял.
— Ничего я, брат, не понял. Сядем-ка здесь, и расскажи все по порядку.
Они уселись на подоконнике, Миша снова рассказал все по порядку. На этот раз секретарь понял и сказал:
— С убийством этого крестьянина разберутся и без вас. И уже разбираются. Что касается усадьбы, музея, птицы — это все выдумки, романтика. — Он презрительно покрутил в воздухе рукой. — Начитался ты приключенческих романов. Все вы, молодые, любите тайны, приключения и прочее такое. А ничего такого прочего нет. Есть старая усадьба, бывшие хозяева держатся за нее, не хотят отдавать под детдом, а Серов воображает себя ценителем древностей и объективно помогает бывшим помещикам. Я в курсе дела. У меня был директор московского детдома. Мы ему обещали помочь и поможем. Усадьбу они получат. А тайны и все прочее — ерунда! Что же касается вашего отряда, то Серов слишком много берет на себя. Нашелся хозяин! Если ваши ребята в чем-нибудь виноваты, то ты как вожатый будешь за это отвечать. Но не перед Серовым, а перед комсомолом. Вот как стоит вопрос. А теперь сам скажи: какую положительную работу вы проделали и какие ошибки, с твоей точки зрения, допустили?
Миша перечислил все положительное, что они проделали в деревне. К ошибкам же и недостаткам он отнес побег Игоря и Севы.
Также к ошибкам Миша отнес то, что художник плохо раскрасил клуб, но добавил, что они уже все сами перекрасили. Действительно, они не выполнили поручения председателя сельсовета, но это было только один раз, а так ребята всегда и во всем помогали сельсовету. А уж в поломке деревьев они никак не виноваты.
— В общем, все у вас хорошо, даже ошибки и те хорошие, — сказал секретарь.
— Я говорю так, как есть! — обиделся Миша. — Мне незачем врать. Мне Серов советовал не ходить в губком, советовал уехать с отрядом, но я ведь сам пришел, меня никто не заставлял.
— Ладно. — Секретарь встал. — Парень ты, видно, хороший, и я тебе верю. Оставайтесь на месте и никуда не переезжайте. Никуда! И работу в деревне продолжайте. А ребят своих подтяни, дисциплина должна быть.
— А если Серов опять прикажет убираться? — спросил Миша.
— Пусть приказывает сколько угодно, — беззаботно ответил секретарь, — вы ему не подчиняетесь. Хватит ему головотяпствовать. В случае чего сошлись на меня. А с заметками в газете мы разберемся. Понял? Ну и катись! Без тебя дел вагон.
«Боевой парень! — подумал Миша про секретаря, выйдя из губкома. — Хорошо я сделал, что пошел к нему. Какой стыд! Чуть было Серова не испугался! Если бы я послушался Серова, то никогда бы в жизни себе этого не простил…»
Точно гора свалилась с Мишиных плеч.
Все ясно, все понятно, все честно сделано.
Ребят, конечно, надо подтянуть, надо положить конец разболтанности, распущенности, дурацким играм в «зелень», всем этим Генкиным штучкам, но отряд остается на месте и доведет до конца все начатые дела.
Как здорово он все провернул!
Миша шагал по улице, гордо выпятив грудь. Теперь ребята докажут свое! Раз они остаются здесь, то всё сумеют сделать.
Надо бы еще зайти к следователю, узнать насчет Николая. Но это потом… А сейчас важно поскорее вернуться в лагерь и успокоить ребят. И пусть в деревне все узнают, что они остаются в усадьбе. И председатель пусть узнает. А то их уже считают какими-то преступниками.
Глава 47
Опять в музее
Славка дожидался Мишу у музея.
— Ну как? — спросил он.
— Все в порядке, — ответил Миша. — Серов, конечно, и слушать ни о чем не хотел. Уговаривал меня свернуть лагерь. А я ни в какую. Пошел в губком комсомола, поговорил с секретарем. Он велел нам оставаться и не двигаться с места.
— Прямо так, без проверки?
— Что проверять? Не бюрократ же он! Я ему все честно рассказал. А Серова он сам хорошо знает, знает, что это за тип. В общем, мы остаемся. Что у тебя? Видел «графиню»?
Славка оглянулся по сторонам, таинственно округлил глаза:
— Я пошел в музей, прямо в отдел быта помещика, про который ты рассказывал…
— А лодочник?
— Лодочник ушел. Я как раз этим моментом и воспользовался… Хорошо. Стою я в комнате, смотрю — «графиня» идет. Я сделал вид, что разглядываю старинные костюмы. Народу в музее никого. Она медленно прошла мимо меня. И хотя я стоял к ней боком, почти спиной, я заметил, что она подозрительно посмотрела на меня. Я продолжаю стоять. Она прошла вперед, потом снова появилась в этом коридоре. Я перешел к другому шкафу. Она опять посмотрела очень нетерпеливо и подозрительно и прошла. Я ей мешал. Тогда я спрятался за портьеру. Немножко там было страшновато и ужасно пыльно…
— Пыльно — я понимаю, а почему страшновато?
— А вдруг бы старуха проверила, нет ли кого за портьерой.
— Ну и что, съела бы?
— Конечно бы, не съела, но неудобно. А кроме того, я боялся чихнуть: пыль страшная, а когда боишься чихнуть, то обязательно чихнешь… Так вот. Стою я за портьерой и в щелочку все вижу. Старуха опять возвращается, смотрит, нет ли кого, и остается. Сначала она сделала вид, что рассматривает шкафы, а потом подошла к канату — знаешь, который отгораживает обстановку…
— Знаю, знаю…
— Она подняла канат и подошла к бронзовой птице. Что она там делала, я не видел, она стояла ко мне спиной и загораживала птицу. И пробыла возле нее ну буквально минуту. Мне, естественно, показалось, что она пробыла очень долго, но на самом деле не больше минуты. Потом вышла обратно, повесила канат на место и ушла.
— Теперь ясно, — решительно сказал Миша, — в бронзовой птице — тайник. Вот что в бронзовой птице.
— И знаешь, — продолжал Славка, — там висит таблица — генеалогия графов. И видно, что они были в родстве с Демидовыми.
— Сейчас не это важно, — сказал Миша, — не Демидовы. Сейчас главное — тайник. Пошли!
— Куда?
— В музей. Посмотрим еще раз бронзовую птицу.
Мальчики вошли в музей и медленно, небрежно, так, чтобы их ни в чем не заподозрил служитель, прошли сквозь анфиладу комнат. Всегда, когда делаешь что-либо тайно, кажется, что тебя подозревают. Так и сейчас. Мише казалось, что служитель уселся на стуле у входа нарочно, чтобы следить за ними.
Дожидаясь, пока он уйдет, мальчики рассматривали экспонаты. Сторож дремал на своем табурете. Он клевал носом и через равные промежутки времени встряхивал головой.
Наконец сторож встряхнулся окончательно, сонными глазами посмотрел по сторонам, поднялся и побрел по комнатам.
Славка стоял в коридоре, готовый предупредить Мишу о малейшей опасности, Миша прошел в глубь отделения, решительно снял канат… как вдруг Славка подал ему знак. Миша быстро повесил канат обратно и отвернулся к стене, делая вид, что рассматривает картинки, изображающие быт помещиков XVIII столетия.
Подошли две девицы студенческого вида, в очках, коротко подстриженные. Вскидывая глаза на развешанные на стенах экспонаты, они что-то записывали в записные книжки, не обращая на мальчиков никакого внимания. Пришлось ждать, пока они пройдут коридор и завернут за угол. Наконец они исчезли. Миша снова взялся за канат, но появился сторож. Он шел, шаркая огромными рваными валенками, и меланхолически смахивал тряпкой пыль со всего, что попадалось ему на пути. А так как шел он по коридору, никуда не сворачивая, то на его пути мало что попадалось. Мальчики опять сделали вид, что внимательно рассматривают экспонаты. Для конспирации Миша рассказывал Славке о крестьянской реформе 1861 года. Весной он писал о ней домашнюю работу, но многое позабыл, и его речь представляла набор следующих слов: надел, выкуп, Столыпин, дореформенная Россия, послереформенная Россия, компенсация, отруба, община, эксплуатация… Произносил он эти слова очень громко, и сторож попросил его объяснять потише.
Наконец сторож прошаркал за угол. Славка стал на свой пост. Миша поднял канат, подошел к бронзовой птице и начал ее ощупывать, отыскивая тайник. Но никаких признаков тайника он не нашел. Тогда он стал потихоньку трогать то голову птицы, то ее крылья, шею, лапы, пытаясь установить, что в ней отворачивается или открывается. Но ничего не открывалось и не отворачивалось. Миша крутил, дергал, нажимал, ничего не получалось. Тогда он попробовал приподнять ее — может быть, тайник в подставке. Но птица оказалась наглухо приделанной к подставке.
Раздался звонок. Музей закрывался.
Миша лихорадочно дергал птицу, но безрезультатно.
Славка опять сделал предупреждающий знак. Миша едва успел выскочить за канат. Шли девицы…
Когда они прошли, Миша снова поднял канат, но Славка опять подал знак. Да и Миша сам услышал шаркающие шаги сторожа.
— Закрывается, — сказал сторож и встал, ожидая, пока мальчики выйдут.
Им ничего не оставалось, как направиться к выходу.
Охая и вздыхая, сторож закрыл за ними дверь.
Глава 48
Снова лодочник
На улице уже темнело. Тяжелый выпал денек! Но зато сколько сделано! Отстояли лагерь — раз. Установили, что лодочник следит за «графиней», — два. Обнаружили, что старуха пользуется бронзовой птицей в музее как тайником. Тайника они не открыли, но это дело времени. Еще одна-другая попытка, и они его откроют.
Правда, они опоздали на поезд. Вечерний уже ушел, придется дожидаться утреннего. Но это мелочь. Ведь лето. Они могут переночевать под любым кустом.
Оживленно обсуждая события сегодняшнего дня, мальчики дошли до угла и остановились. Миша предложил пойти в городской парк и переночевать там на скамейках.
— Неудобно, — возразил Славка, — ведь мы не бродяги.
— Что ты предлагаешь?
— Переночевать на вокзале.
— Во-первых, там противно, а во-вторых, не пустят. А если тебе не хочется в парке, то пойдем к собору. Возле него садик, мы и переспим…
— Ладно, — согласился Славка.
Мальчики повернулись и… застыли на месте. Перед ними стоял лодочник…
— Ба! — сказал лодочник, улыбаясь своей противной улыбкой. — Привет старым знакомым!
— Здравствуйте, — ответил Славка, вежливый даже по отношению к человеку, которого сам вывалил из лодки.
Миша промолчал, исподлобья поглядывая на лодочника.
— Гуляли? — продолжая улыбаться, спросил лодочник.
— А вам какое дело! — огрызнулся Миша.
Лодочник неодобрительно качнул головой:
— Ай-ай-ай… Зачем так грубо?! Вижу — земляки. Как не подойти. Или вы обижаетесь на меня?
— Ни на что мы не обижаемся, — проворчал Миша.
— А я думал, обижаетесь. И напрасно. Не вам надо обижаться, а мне. В реке искупали, а вот видите, не обижаюсь.
И он засмеялся одним ртом, в то время как глаза его продолжали настороженно смотреть на мальчиков.
— Обратно в лагерь?
— Да.
— Так ведь поезда кончились.
— Есть добавочный, ночной, — соврал Миша.
— Вот как? — притворно удивился лодочник. — А я и не знал. Думал, придется в городе ночевать. Отлично! Значит, уеду.
И вместе с Мишей и Славкой зашагал к вокзалу.
Мальчики не знали, как от него избавиться. Но, кроме вокзала, им некуда было идти. А ночного поезда нет. Да они все равно не поехали бы с лодочником. Шагай с ним ночью по лесу от полустанка к лагерю. Еще зарежет по дороге…
Тускло освещенный вокзал был пуст, только несколько пассажиров дремали на деревянных скамейках с высокими спинками, придерживая во сне руками узлы, мешки, чемоданы.
— Поезда, оказывается, нет, — сказал лодочник, тонкой усмешкой показывая, что ребята его напрасно обманывали: он хорошо знал, что поезда не будет.
— Значит, нет, — невозмутимо ответил Миша, усаживаясь на скамейке.
Рядом с ним сел и Славка.
— Что-то надо придумать, — с деланной озабоченностью проговорил лодочник. — Вот что: здесь поблизости живут мои знакомые, пойдемте. Они с удовольствием пустят нас переночевать.
— Нам и здесь хорошо, — решительно ответил Миша.
Лодочник убеждал их пойти с ним, то суля сытный ужин и мягкую постель, то угрожая тем, что все равно в двенадцать часов вокзал закроют и им придется ночевать на улице.
Но мальчики отказались наотрез, и было ясно, что они не сдвинутся с места.
Лодочник без них тоже не уходил.
Часы пробили девять, потом десять, одиннадцать, Дмитрий Петрович расспрашивал их об отряде, о лагере, но мальчики, привалившись к жестким деревянным спинкам сидений, дремали или делали вид, что дремлют.
Изредка грохотали на путях скорые поезда и товарные составы. За большими окнами на платформе мелькали красные и зеленые огоньки, качались белые огни ручных фонарей. Слышались резкие свистки кондукторов, им отвечали протяжные гудки паровозов. В двенадцать часов служитель в черном неуклюжем пальто обошел зал, встряхивая за плечо дремлющих пассажиров и предлагая им очистить зал. Но никто не поднялся с места. А милиционер отвернулся в сторону, делая вид, что это его не касается.
Так прошло несколько томительных часов. Сквозь дремоту мальчики чувствовали на себе неусыпный взгляд лодочника. Он то сидел, то прохаживался по залу, выходил на площадь, на платформу, возвращался, но мальчики понимали, что он ни на минуту не выпускает их из виду.
Часы еще не показывали четырех, а уже за окном начало быстро светлеть. Сразу стали видны люди на платформе, смазчики, весовщики…
Вокзал постепенно заполнялся пассажирами. Рабочий поезд, которым мальчики могли доехать до своей станции, отходил в шесть часов. Впрочем, они не собирались уезжать: охота им ехать вместе с лодочником! Через час будет еще поезд, они и уедут.
Часовая стрелка приближалась к шести. Лодочник становился все беспокойнее. Скрытый высокой спинкой сидений, он следил за входной дверью, иногда вставал и через окно смотрел на привокзальную площадь.
— «Графиню» дожидается, — тихо сказал Славка.
— Точно, — подтвердил Миша.
Появилась «графиня». Она пересекла зал и вышла на платформу. Лодочник незаметно последовал за ней. Наверно, чтобы увидеть, в какой вагон она сядет.
Вскоре лодочник вернулся:
— Поехали, ребята! Есть у вас обратные билеты?
— Они нам не нужны, — ответил Миша.
— Зайцы, — рассмеялся лодочник.
Раздался первый звонок.
— Мы не едем. У нас дела, — сказал Славка.
Лодочник нахмурился, исподлобья посмотрел на ребят:
— Как это не едете?.. Почему?
— Не едем, и всё, — сказал Миша. — И вообще, какое ваше дело? Чего вы к нам пристали? Вам нужно — и поезжайте!
Лодочник стоял с нахмуренным лицом.
Раздался второй звонок.
— Дело ваше!
Лодочник повернулся и пошел на перрон.
Глава 49
Полезный больной
Отряд ликовал. Не удалось их выгнать отсюда! Авторитет Миши вырос неизмеримо… Всем казалось, что он совершил нечто героическое: ездил в город, разговаривал в разных учреждениях… И с ним посчитались, как с настоящим, взрослым вожатым.
Вырос Миша и в собственных глазах. В отношении к ребятам у него появилась этакая добродушная покровительственность. Подражая Коле Севостьянову, он, разговаривая с ними, снисходительно улыбался, как улыбаются взрослые милому ребячеству детей. Он уже не спорил, не горячился, а терпеливо разъяснял тот или иной вопрос, именно так, как взрослые объясняют что-либо детям. При этом он покровительственно обнимал своего собеседника за плечи, как всегда делал Коля Севостьянов. Правда, Коля делал это с высоты своего большого роста, но Мише казалось, что и у него неплохо получается.
Впрочем, не всем так казалось.
Зина Круглова отозвала в лес Генку и Славку и с тревогой сказала:
— Ребята, вы заметили, что с Мишей делается?
Генка и Славка поникли головами: они заметили, что делается с Мишей.
— Он задается, строит из себя большого начальника, — сказал Генка.
— У него появились элементы «вождизма», — добавил Славка.
— Но ведь он может оторваться от коллектива! — с ужасом проговорила Зина.
— Очень даже просто, — подтвердил Генка.
— «Вождизм» всегда приводит к отрыву от коллектива, — изрек Славка.
— Надо что-то делать, — в страшном волнении сказала Зина. — Мы не можем допустить, чтобы он на наших глазах погиб для общего дела. Его надо спасти.
Ребята задумались. Спасти, конечно, надо, но как?
— Может быть, поговорить с ним? — предложил Славка. — Объяснить ему, куда он катится.
Генка отрицательно замотал головой:
— Не послушает он тебя. Скажет, что это у него стиль руководства. Нет! Нужны сильные средства. Надо ударить так, чтобы сразу очухался. Тогда подействует.
— Что же ты предлагаешь?
— Поставить вопрос на комсомольском собрании.
— Сразу выносить на собрание? Давайте сначала поговорим с ним. А уж если не исправится, тогда вынесем на собрание…
Так ребята и решили. Но Миша ничего не знал об их разговоре и продолжал вести себя по-прежнему.
Со взрослыми он держался степенно, с сознанием собственного достоинства. Правда, и председатель сельсовета, и крестьяне не знали о его разговоре с секретарем губкома комсомола, но то, что Миша не подчинился приказу Серова, а Серов не настаивал на своем распоряжении, свидетельствовало, что за отрядом стоит какая-то сила и выселить отряд отсюда не так просто.
И в отряде дела шли как нельзя лучше. Происшествий почти никаких. Только вот Сева расхворался самым серьезным образом.
У него болела голова, першило в горле, ему было трудно глотать и даже дышать. Термометр показывал тридцать девять и девять десятых градуса.
Бяшка, известный знаток медицины (его мать служила в амбулатории няней), велел Севе открыть рот, посмотрел и объявил, что у Севы ангина.
— Краснота и вообще все распухло, — сказал Бяшка. — У тебя гланды вырезали?
Сева отрицательно закачал головой.
— Может быть, тебе маленькому вырезали, а ты забыл?
Но Сева категорически отрицал это обстоятельство.
Бяшка снова посмотрел ему в рот и объявил, что миндалины действительно на месте, но сильно распухли и их необходимо удалить.
— В медицине существуют два направления, — сказал Бяшка, — одно за удаление миндалин, другое — за прижигание. Я сторонник первого.
Севу укрыли несколькими одеялами, дали горячего чая с добавочной конфетой и начали думать, что делать дальше.
В таком состоянии везти Севу в Москву опасно. До больницы не дойдет. Лошадь председатель теперь не даст. И Миша решил послать доктору записку с просьбой приехать в лагерь. Ведь ездит он к тяжелобольным. И лошадь в больнице есть.
Доктор приехал на маленьких открытых дрожках. В них была запряжена огромная лошадь, настоящий московский ломовой битюг. Доктор, высокий, толстый, со своей взлохмаченной бородой и в пенсне с перекинутой за ухо черной ниткой, выглядел верхом на дрожках очень смешно. Казалось, что он двигается вслед за битюгом, только держась за вожжи, и зажал между ног крохотные дрожки.
Доктор сказал, что у Севы ангина (Бяшка обвел всех гордым взглядом). Ему надо удалить миндалины (Бяшка с еще большей гордостью посмотрел на всех). Но, добавил доктор, пока Сева не выздоровеет, операцию делать нельзя. Он должен принимать лекарства, и его необходимо перевести из палатки в дом.
— В какой же дом его положить? — недоумевал Миша. — Его дом в Москве.
— Неужели никто из крестьян не согласится подержать его у себя несколько дней? — сказал доктор. — Впрочем… Почему бы не положить его в барском доме? До сих пор, кажется, пустует.
— Разве она позволит? — возразил Миша.
— Кто — она?
— Ну, хозяйка, экономка…
— Гм! — Доктор нахмурился. — Идем со мной…
Когда они шли по аллее, Миша посмотрел на окна мезонина. Ставни за бронзовой птицей были открыты. Значит, «графиня» дома. Но сам дом, как всегда, казался необитаемым.
По тому, как доктор уверенно шел по аллее и решительно поднялся на ступеньки веранды, было видно, что он хорошо знает и дом, и усадьбу. Но Миша был убежден, что из этой затеи ничего не выйдет. Старуха предъявит охранную грамоту, и дело с концом! Предстоящая встреча с «графиней» интересовала Мишу. Ему казалось невероятным, что сейчас вот они откроют дверь таинственного дома и войдут в него.
Только поднялись они на веранду, как дверь открылась и появилась старуха. Она поджидала их в своей обычной позе, закрыв глаза, высоко подняв голову, отчего ее длинный крючковатый нос казался еще длиннее.
Потом она открыла глаза. Миша знал, что она сейчас спросит: «Что вам угодно?»
«Графиня» действительно открыла рот и проговорила: «Что…» Но в это мгновение она посмотрела на доктора и сразу, смешавшись, замолчала. В глазах ее мелькнуло смятение. Не договорив фразы, она снова закрыла глаза. Некоторое время все стояли молча, потом доктор сказал:
— Софья Павловна, у этих молодых путешественников заболел мальчик. Ангиной. Лежать ему в палатке нельзя. Прошу приютить его дня на три-четыре…
— А больница? — спросила старуха после некоторого молчания, по-прежнему не открывая глаз.
— Больница на ремонте.
— Кто же за ним будет ухаживать? — спросила старуха.
И Миша удивился тому, что она произносит самые обыкновенные человеческие слова и что ее зовут просто Софья Павловна.
— Кто-нибудь из них, — доктор кивнул на Мишу. — Я тоже буду наведываться.
Старуха помолчала, потом опять закрыла глаза.
— Вы считаете возможным являться в этот дом?
— Я исполняю свой долг, — спокойно ответил доктор.
— Хорошо, — после некоторого молчания проговорила старуха. — Когда привезут мальчика?
— Сейчас привезут.
— В людской ему будет приготовлено место. Но прошу никуда, кроме людской, не ходить.
— Ваше право, — ответил доктор.
Старуха повернулась и исчезла в доме.
Глава 50
Людская
Севу на носилках принесли к помещичьему дому. Дверь в людскую была открыта. Это означало разрешение войти. Ребята вошли.
Людская представляла собой большое, очень низкое помещение. Если подтянуться на носках, то рукой можно достать до потолка, срубленного из старых, почерневших от времени бревен, ровно стесанных, со множеством продольных трещин. Из таких же бревен, проложенных в пазах паклей, были выложены стены.
Все здесь старое, черное, прокопченное. Стол, длинный, узкий, опирающийся на расшатанные козлы, тянулся вдоль одной стены. Его крышка, сбитая из узких тонких досок, рассохлась. За столом виднелась прикрепленная к стене узкая лавка. Больше ничего в людской не было, если не считать подвешенной к потолку длинной, от стены к стене, палки. Для чего эта палка, было непонятно.
Низкая, широкая дверь с облупившейся краской соединяла людскую с остальным домом. Когда Миша тронул ее, то оказалось, что она забита гвоздями, которые едва держались в своих гнездах. Если нажать посильнее, то они вылетят.
Ребята деятельно принялись за устройство «госпиталя», как перекрестил людскую Бяшка: выгребли мусор, все тщательно вымыли и вытерли, промыли окна, набросили на лавку еловых веток и уложили там Севу.
Чтобы не было столкновений со старухой, Миша запретил ребятам ходить по усадьбе и вообще запретил приходить к Севе кому бы то ни было, кроме дежурных. Но сам он приходил сюда несколько раз. Должен же он знать состояние Севы… И его интересовал дом. Он подходил к двери и прислушивался. Мертвая тишина стояла за ней. Иногда Мише казалось, что за дверью тоже кто-то стоит и прислушивается, что делается в людской. Почему ему так казалось, он и сам не знал. Уж слишком напряженной была тишина за дверью, слишком таинственен был дом. Когда Миша тронул дверь, пробуя, крепко ли держится она, ему казалось, что за стеной кто-то следит за ним. Он оставил дверь в покое.
На следующий день старуха уехала в город. Опять будет жаловаться Серову. И, конечно, Серов снова попытается их отсюда выжить. А Мише очень не хотелось выселяться — находясь в доме, можно кое-что узнать. Надо во что бы то ни стало задержаться здесь. Конечно, хорошо, если Сева скорее выздоровеет, но если он выздоровеет, то ребят отсюда выгонят. И когда Миша спрашивал у Севы, как тот себя чувствует, то хотел услышать в ответ что-нибудь успокаивающее по части здоровья и в то же время обнадеживающее в том смысле, что Сева еще здесь полежит.
Но утром Сева сказал, что чувствует себя лучше, а к вечеру объявил, что ему надоело лежать и завтра он встанет.
— Только попробуй! — пригрозил ему Миша. — Ты встанешь, когда разрешит врач. А он скоро не разрешит: после ангины надо вылежать, иначе будет осложнение.
С такой же тревогой смотрел Миша на градусник. Как быстро падает температура! Вчера было 39,9, а сегодня утром 36,7. Хорошо хоть к вечеру опять поднялась до 37,2.
— Видишь, какая у тебя нестойкая температура, — сказал он Севе. — Это самое опасное, когда нестойкая температура. Правда, Бяшка?
Бяшке очень нравилось, что у него есть в подчинении госпиталь, и он подтвердил, что нестойкая температура самая опасная. Главное — вылежать. Лежать и лежать.
Но рано или поздно Сева выздоровеет. И скорее рано, чем поздно. И тогда надо будет убираться из людской. Что же делать?
Но пока Миша думал, что ему предпринять, вернулась из города старуха. Вернулась она в отсутствие Миши, прошла в людскую, стала в дверях и спросила:
— Скоро выздоровеет ваш больной?
У Севы дежурили сестры Некрасовы. Они испугались и поторопились задобрить старуху:
— Ему уже лучше. Он завтра встанет.
«Графиня» повернулась и ушла.
Миша ужасно расстроился:
— Как вы могли это сказать? Откуда вы знаете, что Сева завтра встанет? А вдруг он не выздоровеет? Он не выздоровеет, а «графиня» будет требовать, чтобы мы его забрали. Вот что вы наделали своей болтовней!
— Мы растерялись, — оправдывались сестры Некрасовы, — мы боялись, что она скажет: убирайтесь отсюда вон…
— Я завтра уезжаю в город, — сказал Миша, — и, пока я не вернусь, Сева должен лежать в доме. Даже если врач скажет, что он здоров. Понятно?
Глава 51
Ночь в музее
Миша уезжал в город, чтобы вновь попытаться открыть бронзовую птицу. Днем это невозможно — то сторож ходит, то студентки, — а ночью никто не помешает. Они с Генкой спрячутся за портьеру, дождутся, когда закроется музей, и тогда спокойно займутся своим делом.
Мальчики пошли в музей за час до его закрытия. Расположение музея они знали теперь хорошо: два выхода — один на улицу, другой во двор. Сторож сначала закрывал наружную дверь, а потом уже со двора заднюю. Мальчики решили пробыть в музее всю ночь, а утром снова спрятаться за портьеру, дождаться, когда сторож откроет музей, и уже тогда выбраться на улицу или сделать вид, что они только что пришли.
Все шло как нельзя лучше. Музей был пуст. Мальчики дождались, когда сторож ушел на другую сторону музея, и спрятались за портьеру. И только теперь Миша понял, как трудно было здесь Славке: пыли столько, что невозможно дышать. Миша боялся, что Генка не выдержит и чихнет. Но Генка держался стойко и не чихал.
Послышались шаркающие шаги сторожа.
Мальчики затаили дыхание. И как раз перед портьерой шаги сторожа стихли. Мальчики стояли ни живы ни мертвы…
Старик закашлялся. Что он делал в комнате, мальчики не видели… Потом снова раздались его шаркающие шаги. Все глуше и глуше… Послышалось звяканье у входной двери — сторож наложил большой металлический крюк. Потом раздался глухой удар — это деревянный засов, и наконец скрежет замка — дверь закрыта!
Опять послышались шаркающие шаги. Сначала они приближались, потом начали отдаляться… Миша раздвинул портьеру, прислушался. Хлопнула дверь. Послышалось скрипенье ключа в замке. Все! Мальчики одни! Немного выждав, они сняли ботинки, босиком подошли к задней двери и тихонько потрогали ее — дверь была заперта.
Ребята обошли музей. Редкий предвечерний свет едва пробивался сквозь складки занавесок. Таинственно темнели картины на стенах, блестели на столах стеклянные ящики футляров. Причудливо застыли чучела зверей и птиц.
Мальчики вернулись в отдел быта помещика. Генка остался в коридоре, готовый в случае опасности предупредить товарища.
Миша снял канат. Спокойно, не торопясь, он исследовал бронзовую птицу.
Прежде всего Миша тщательно, сантиметр за сантиметром, ощупал ее, ища какую-нибудь скважину или дырочку: может быть, она открывается ключом? Но ни одного отверстия он не нашел. Под его пальцами была шероховатая бронза и больше ничего. Тогда он попробовал вращать голову, хохолок на голове, одно крыло, за ним другое крыло, лапу, потом другую лапу. Он пытался повернуть каждый коготь на ее лапах, каждое перо на крыльях. Ничего не вращалось, не открывалось, не двигалось с места.
Волнение охватило Мишу. Неужели они ничего не узнают? Неужели напрасно остались здесь на всю ночь, прятались, рисковали? Главное, ничего не видно… Зажечь карманный фонарик? Нет, опасно! С улицы могут заметить свет, и тогда будут страшные неприятности. Их обвинят в попытке что-нибудь украсть в музее. Позор и им, и всему отряду… Но главное, не волноваться. Спокойно. Надо взять себя в руки. Снова начать все сначала. Ведь открывается же она как-нибудь!
— Ну что? — тихо спросил Генка, подходя к Мише.
— Стой на своем месте и не разговаривай, — прошипел Миша.
Генка вернулся на свой пост. Миша снова принялся за исследование. А может быть, никакого тайника в птице нет? Нет, не мог Славка ошибиться… Славка зря никогда ничего не скажет, это не Генка. Вот Генка мог бы нафантазировать, а Славка нет.
Размышляя таким образом, Миша продолжал исследовать птицу… Он старался собрать все свое хладнокровие. Главное, не волноваться, не суетиться, исследовать ее сантиметр за сантиметром.
Миша возился очень долго. Генка уже несколько раз подходил и просил дать попробовать ему.
— Вот увидишь, Миша, — нетерпеливо шептал он, — я враз найду.
Миша прогонял его, но в конце концов уступил. Предоставив Генке искать тайник, он сам стал на его пост.
— Только, смотри, осторожно, — предупредил он, — а то сломаешь, и тогда все пропало…
— Не беспокойся, — проворчал в ответ Генка.
Хотя Генка сопел изо всех сил, тяжело дышал и поминутно бормотал: «Ага, вот, вот, есть, нащупал», он тоже ничего не нашел.
Опять взялся Миша, и опять безрезультатно. Уже первая полоска рассвета легла на пол. Миша посмотрел на свои огромные часы — пять часов утра. А музей открывается в девять.
Они снова начали лихорадочно искать. Теперь они взялись за подставку, небольшую круглую колонну из цветного камня. К ее вершине наглухо была прикреплена птица. Но колонна была совершенно гладкой. Они осторожно наклонили ее. И под колонной ничего не было.
Возможно, Славка ошибся и дело вовсе не в птице, а в чем-нибудь другом? Мальчики тщательно осмотрели стол, кресла, все предметы, которые были в комнате. Только шкафы они не могли исследовать — шкафы были заперты.
Но поиски не дали никаких результатов.
Миша посмотрел на часы. Половина девятого. В девять откроют музей. Сторож может прийти каждую минуту. Даже странно, почему он не приходит. Ведь надо убрать помещение.
Мальчики проверили, не осталось ли каких-нибудь следов их поисков, и снова спрятались за портьеру, ожидая прихода сторожа.
Глава 52
Вторая ночь в музее
Прислушиваясь к скрипу дверей, мальчики стояли в своем укрытии. Но все было тихо. Миша снова посмотрел на часы. Ровно девять. Что же это значит?
Миша поминутно смотрел на часы. Стрелка хотя и медленно, но неуклонно двигалась вперед. Вот уже четверть десятого. Вот уже половина десятого. В чем же дело? Ведь на табличке у входа в музей ясно написано: «Музей открыт с 9 до 7-ми. Перерыв на обед с 2-х до 3-х. Ежедневно, кроме…»
И вдруг Миша оторопело посмотрел на Генку:
— Генка, какой сегодня день?
— Как — какой? Понедельник.
— Это вчера, когда мы приехали сюда, был понедельник.
— Правда. Значит, сегодня вторник.
— Вторник, — повторил Миша. — Но ведь во вторник музей закрыт.
— Почему?
— Ведь на табличке написано: «Закрыт по вторникам».
— Вот так штука! — протянул Генка. — Вляпались!
— Черт возьми, как же я этого не учел! — сокрушался Миша. — Ведь я знал, что во вторник музей закрыт. Но мы поехали в понедельник, и у меня совершенно вылетело из головы, что мы здесь останемся до вторника. Как я не сообразил? Вот дурак, честное слово!
— Все потому, что ты делаешь и решаешь один, никогда ни с кем не советуешься, — сказал Генка.
Случай казался ему прекрасным поводом для того, чтобы начать с Мишей серьезный разговор о его отрыве от коллектива.
— Нашел время мораль читать! — рассердился Миша. — Что вы все мораль читаете? Славка, Зина, теперь ты!
— А они уже с тобой говорили? — удивился Генка.
— Говорили… Но не в этом дело. Надо выбраться отсюда. Ах, какой я дурак!
Они тихонько вышли из своего укрытия и отправились к задней двери. Она была заперта. Мальчики прислушались. Со двора доносились оживленные крики, смех. Видно, там играли ребятишки.
Затем они пошли к входной двери, отодвинули засов и сняли большой металлический крюк. Дверь не открывалась: она была заперта на замок. А ключ у сторожа. Значит, через дверь им не выбраться.
Мальчики задвинули засов, набросили крюк и вернулись в комнаты. Оставалась единственная возможность — окна. Но окна выходили на улицу, и между рамами была проложена металлическая сетка.
Потянулись томительные часы. Тревожная, бессонная ночь и голод совершенно измучили ребят. Миша еще кое-как держался, а Генка, присев на пол, дремал, уткнув голову в колени.
Тогда Миша решил, что они будут спать по очереди. Сначала Генка, потом он. Генка тут же завалился на диван и уснул.
Миша ходил по музею. Гнетущая тишина, спертый воздух одурманивали его. Но он мужественно боролся со сном. Он ходил не переставая, боясь присесть хотя бы на секунду.
Немного его развлек отдел фауны. Чучела зверей, птиц, под которыми рядом с русскими названиями стояли мудреные латинские. Насекомые и букашки за стеклом. Мышь полевая, мышь домашняя. И зачем? Мышь полевая еще туда-сюда, но мышь домашняя… Кто ее не видел?..
Прошло два часа. Мише хотелось спать. Но он не будил Генку. Если Генка не выспится, то обязательно заснет на дежурстве.
И еще добрых два часа Миша ходил, как в тумане.
Наконец он разбудил Генку. Тот долго потягивался, никак не мог сообразить, где он и что с ним.
— Через два часа разбуди меня, — сказал ему Миша, — а главное, не засыпай. Если уж очень захочешь спать, то лучше разбуди меня, понял?
— Ни о чем не беспокойся, — зевая и потягиваясь, ответил Генка.
Миша лег на диван и тут же заснул.
Он проснулся сам… Было уже темно. Миша посмотрел на свой «будильник»… Что такое?! Он проспал восемь часов! Миша вскочил. Где же Генка? Разыскивая его, Миша прошелся по коридору, затем по другому, обошел все комнаты. Генки не было.
Куда он делся? Не мог же он уйти! На всякий случай Миша осмотрел обе двери. Они, как и прежде, были заперты.
Куда же девался Генка? Миша стал волноваться. Может быть, он завалился куда-нибудь и спит?
Миша обшарил все углы — Генки нигде не было.
Миша стоял совершенно растерянный, как вдруг услышал храп. Миша прислушался. Храп доносился из комнаты, где помещался отдел «Религия — опиум для народа». Да, точно, слышен храп. Но где же Генка? Миша снова прислушался и похолодел: храп доносился из гроба, который стоял посреди комнаты. На нем было написано, что это рака. В ней якобы хранились чьи-то нетленные мощи, но каждый может убедиться, что никаких мощей в раке нет.
Дрожа от страха, Миша подошел к раке и приподнял крышку.
Так и есть! В раке преспокойно, подложив ладонь под голову, спал Генка.
Уйти с поста! Заснуть! Миша так толкнул Генку, что чуть не свалил всю раку…
— Что такого? — оправдывался Генка, вылезая из раки. — Все равно никто сюда сегодня не придет… А будешь ходить — могут шаги услышать… Зато мы оба отлично выспались.
— Но какое ты имел право оставить пост? — горячился Миша. — Уж если ты так хотел спать, то мог разбудить меня!
— Жалко было, — ответил Генка. — Понимаешь, мне тебя было жалко. Ведь жрать у нас нечего, чем же нам заглушить голод? Только сном. И видишь, ничего не случилось.
Конечно, ничего не случилось, но все же для порядка Миша как следует отругал Генку.
Выспавшись, они почувствовали себя гораздо лучше. Если бы не мучительный голод, то было бы совсем хорошо.
И снова потянулись часы…
Опять захотелось спать. Ребята то ходили, то дремали, то ходил один Миша, а дремал Генка… В конце концов заснули оба…
Глава 53
Незнакомец
Проснувшись утром, Миша первым делом посмотрел на часы. Восемь часов. Он тут же разбудил Генку, и хорошо сделал: не прошло и нескольких минут, как звякнул замок задней двери и в музей вошел сторож.
Мальчики спрятались за занавеску. Генка, правда, предложил залезть в раку, но Миша воспротивился: здесь им все видно, а в раке они будут как в западне.
Мальчики стояли за портьерой. Они слышали шуршание веника и звяканье совка — сторож подметал пол. Задняя дверь была открыта, оттуда тянуло утренним свежим холодком, явственно слышались голоса детей со двора. Через эту дверь сторож несколько раз выходил, выносил мусор. Но парадная дверь оставалась закрытой.
Мальчики едва держались на ногах. Сказались эти две ужасные ночи. Дышать было нечем. Сторож, лентяй, даже форточек не открыл! И время двигалось страшно медленно.
Когда сторож подметал возле них, мальчики не дышали. Они боялись, что сторож откинет портьеру, ведь здесь столько мусора. Но сторож, видно, решил, что если за портьерой не подметалось год, то какой смысл делать это сейчас?
Он даже прошелся веником по Мишиным ногам. Сейчас-то он обязательно откинет портьеру… Но нет! Шаркающие шаги старика удалились. Удалились звуки метлы и совка.
Девять часов! Сейчас сторож откроет музей. Миша лихорадочно отсчитывал минуты: как только старик откроет дверь и пройдет обратно, сразу же надо выходить на улицу.
Звякнул упавший крюк, стукнул откинутый деревянный засов, заскрипел ключ в замке, яркая полоса солнечного света упала на пол в конце коридора. Итак, дверь открыта. Приготовились! Сейчас старик пойдет обратно.
Вот послышались его шаги. Но что это? Он не один, он с кем-то разговаривает.
Миша выглянул в щелку. Впереди шел сторож, за ним высокий человек в зеленом костюме. Он шел чуть прихрамывая, как будто волочил ногу. Шли они по направлению к отделу быта помещика. Туда, где за портьерой прятались Миша и Генка.
Сторож и человек в зеленом остановились против портьеры.
— Рисовать будете? — спросил сторож.
— Немного, — ответил человек в зеленом костюме, вынимая из кармана блокнот и карандаш.
— Прикажете стульчик?
— Спасибо. Не беспокойся. Иди по своим делам.
Сторож прошаркал дальше.
Незнакомец быстро водил карандашом по раскрытому блокноту.
Это был мужчина лет тридцати пяти — сорока, гладко выбритый, с туго приглаженными рыжеватыми блестящими волосами, подтянутый, в зеленом костюме и белом крахмальном воротнике.
Шаги старика стихли.
И тут случилось самое неожиданное…
Незнакомец положил блокнот в карман, снял канат, подошел к птице, поднял ее голову, вложил туда маленькую записку, закрыл, повесил канат, вернулся на прежнее место и снова начал рисовать.
Он проделал все это очень быстро, но Миша заметил, что незнакомец поднял голову птицы левой рукой. Двумя же пальцами правой он нажимал в это время на глаза птицы. Вот почему она открылась!
Потом незнакомец положил блокнот в карман и пошел за стариком. Послышались их приближающиеся голоса. Мимо мальчиков они прошли к выходу.
— Всего хорошего, счастливо оставаться, — сказал незнакомец, пожимая сторожу руку и, видимо, что-то кладя в нее.
Старик изогнулся в подобострастном поклоне и, продолжая низко кланяться, проговорил:
— Благодарю, благодарю… И вам счастливого…
Старик опять прошаркал по коридору. Как только он зашел за угол, мальчики вышли из своего убежища, тихо прошли к входной двери, потом, делая вид, что только вошли, стукнули ею и, громко разговаривая, направились обратно к комнате.
Появился сторож, подозрительно посмотрел на мальчиков:
— Опять пришли?
— В субботу не успели всё закончить, — ответил Миша.
— В этот зал только и ходют, только и ходют, — покачал головой старик.
— Теперь все изучают помещичий быт, — объяснил Миша, — вот и ходят сюда.
— И помещиков-то давно нет, а все интересуются. Видно, жизнь-то ихняя поавантажнее была, — сказал старик и поплелся дальше.
— Старорежимный старикашка, — прошептал ему вслед Генка.
Сторож скрылся за поворотом.
Миша приподнял канат, подошел к птице и, подражая незнакомцу, левой рукой взялся за голову птицы, а двумя пальцами правой руки нажал ей на глаза… Птица не открылась.
Миша нажал сильнее — и вдруг голова птицы открылась.
В углублении лежала записка. Миша схватил ее и прочитал… Всего три слова:
«Будущая среда дневным».
Миша положил записку обратно, опустил голову птицы, повесил канат…
Мальчики вышли из музея и быстро зашагали к вокзалу.
Часть V Тайна бронзовой птицы
Глава 54
Кит объелся
«Среда дневным»… Понять нетрудно: кто-то приедет в среду дневным поездом. И предназначается записка «графине». Тайник в музее служит для переписки между ней и человеком в зеленом костюме.
Среда… И Кузьмина убили в среду…
Но если есть тайник в маленькой птице, то почему не быть ему и в большой, той, что стоит в усадьбе? Надо проверить. Но как? Конечно, теперь, когда ребята проникли в людскую, их шансы подобраться к бронзовой птице увеличились. Но… Но Сева катастрофически быстро выздоравливал.
Миша заставлял его держать термометр по полчаса. Но столбик ртути никак не поднимался выше тридцати шести и шести десятых. Потом приехал врач и объявил, что Сева здоров и завтра может встать и выйти на улицу. Значит, надо покидать людскую. Что же делать?
Эх, если бы кто-нибудь заболел! Миша ходил по лагерю, с надеждой заглядывал каждому в лицо и спрашивал, как кто себя чувствует. Но все чувствовали себя прекрасно. Никто ни на что не жаловался. Тогда Миша сказал Бяшке:
— Мы спохватываемся, когда кто-нибудь заболеет. А по правилам медицины надо предупреждать заболеваемость.
Бяшка обиделся:
— Я все время говорю о профилактике, а меня никто не слушает! И ты первый.
— Хорошо, хорошо, — не стал с ним спорить Миша, — но, пока нас не выгнали из госпиталя, надо им воспользоваться. Осмотри всех ребят и если найдешь кого-нибудь подозрительным, то сразу клади в госпиталь. А завтра мы вызовем врача. Осматривай как следует. Если ошибешься и уложишь в постель здорового, тоже не беда. Лучше ошибиться в эту сторону, чем в другую.
Бяшка ревностно принялся за дело. Всем была измерена температура. Эта процедура длилась долго, так как в лагере был всего один градусник. Пока один его держал, Бяшка другому осматривал горло. Он считал себя большим специалистом по горлу. Его мать служила няней именно в той больнице, где лечили ухо, горло и нос.
— Раздвинь-ка пошире пасть, — говорил Бяшка, заглядывая каждому в рот, а так как был мал ростом, то вставал при этом на цыпочки.
Потом он глубокомысленно объявлял:
— Мда… Краснота… Плохо дело…
В каждого он готов вцепиться и тащить в госпиталь.
Но кому охота ложиться в госпиталь в такую жару! И настоящий больной не сознался бы в своей болезни. В конце концов всем это надоело. Надоел Бяшка, который своими бровями залезал в рот, надоел дурацкий термометр… И Миша видел, что эта затея ни к чему не приведет. Разве здорового человека уговоришь, что он больной? Миша махнул на все рукой. Ничего не поделаешь. Придется завтра освободить людскую. Придется расстаться с такой прекрасной возможностью проникнуть в дом и осмотреть бронзовую птицу.
И все же спаситель явился… Явился он в образе Кита, изможденного и страждущего, стонущего и держащегося за живот. Кит объелся!
Радости Миши не было границ. Кит, конечно, выздоровеет, не в первый раз объедается. Полежит денек-другой и встанет как ни в чем не бывало. Ясно, он объелся, когда ездил со Славкой в Москву за продуктами. Но Миша не стал допытываться, чем объелся Кит. Важно, что он действительно объелся, это самое главное и самое приятное. Завтра приедет доктор, даст ему касторки или английской соли, а сейчас надо уложить его на место Севы, которого держали уже буквально силой.
Кит был немедленно водворен в людскую. Сева со всех ног бросился бежать от нее подальше.
Когда ««графиня» узнала, что взамен одного больного в ее доме помещен другой, она ничего не сказала. Повернулась и ушла. Но вскоре приехал доктор. А ведь Миша его не вызывал.
— Что опять приключилось? — спросил доктор. Он слез с дрожек и привязал лошадь к дереву, хотя при одном взгляде на тяжелого, ленивого коня было ясно, что он и сам не сдвинется с места.
— Еще один парень у нас серьезно заболел, — сообщил Миша.
— Посмотрим, — хмуро проговорил доктор, направляясь к дому.
Осмотр Кита подтвердил, что он действительно болен. Доктор даже предположил, что у него дизентерия. Но Миша объяснил, что подобные расстройства желудка у Кита случаются систематически, приблизительно в две недели раз.
Доктор выписал лекарство и предупредил, что больному есть почти ничего нельзя, чем поверг Кита в крайнее уныние.
Потом, еще больше нахмурившись, доктор вышел к «графине», ожидавшей его возле веранды.
О чем они там говорили, Миша не слышал. Через некоторое время доктор вернулся совсем мрачный и, уезжая, сказал:
— Мальчик пусть лежит, пока я не разрешу ему встать. Держите его на строгой диете. Он должен вылежать. А на всякие побочные обстоятельства не обращайте внимания.
Из этого Миша заключил, что «графиня» сама вызывала доктора и требовала, чтобы он удалил ребят из дома. Но ничего у нее не получилось.
На следующее утро «графиня» выехала в город. Ясно, чтобы нажаловаться на ребят и добиться изгнания их из усадьбы…
Ну что ж, пусть едет! Она думает, что Серов сильнее всех, но ошибается. А в ее отсутствие можно будет проникнуть в дом и осмотреть бронзовую птицу. Ничего предосудительного в этом нет. Ведь дом не ее собственность, а государственная. Она всего-навсего хранительница. Значит, это не жилье, а народное имущество. Вот и все.
Глава 55
В таинственном доме
Дежурными возле Кита назначили Славку и Бяшку. Бяшка будет сидеть в людской, а Славка — на улице. Обоим было приказано при малейшей опасности подать сигнал двумя короткими и одним длинным свистком.
Низкая массивная дверь с облупившейся темно-коричневой краской едва держалась на ржавых гвоздях и ржавых петлях. Мальчики открыли ее и увидели небольшой коридорчик, заваленный всякой рухлядью…
Кит тоже захотел посмотреть, что за дверью, но ему дали рисового отвара, и он отстал.
Итак, коридорчик был завален всякой рухлядью: сломанными креслами, покосившейся этажеркой, умывальником с треснутой мраморной доской и пустым черным овалом на том месте, где полагалось быть зеркалу, ящиками, корзинами, бочонками. Но Миша заметил, что середина коридорчика была очищена от старья и представляла собой узкую дорожку. Ее, конечно, проделала «графиня», чтобы бесшумно подходить к двери и подслушивать, что делается в людской. Другой конец дорожки упирался в железные ступеньки винтовой лестницы.
На всякий случай ребята набросали схематический чертеж дома. Ниша с бронзовой птицей выходила на фасад, ближе к его левому углу, людская же находилась сзади дома, ближе к правому. Таким образом, им предстояло: первое — подняться в мезонин, второе — с задней стороны дома перейти на переднюю, третье — пересечь дом с правого угла на левый. Задача нелегкая, если надо тайком, неслышно пробираться по незнакомому дому.
Пока дверь в людскую была открыта, еще можно было различить набросанные здесь предметы, но, как только Миша закрыл дверь, коридорчик погрузился во мрак. Только чуть-чуть света проникало сверху сквозь узорные прорези чугунных ступеней винтовой лестницы. И оттого, что здесь, внизу, было темно, а наверху светло, казалось, что там есть люди, и страшно было подниматься туда.
— Может, проще сделаем? — прошептал Генка. — Вернемся обратно на улицу, залезем на веранду, потом по карнизу подберемся к нише. Ведь заплутаемся в доме.
— С улицы нельзя — увидят, — так же шепотом ответил Миша. — А если боишься, то оставайся.
— Ничего я не боюсь! — буркнул в ответ Генка.
Мертвая тишина стояла кругом. Не было слышно даже громкого чавканья Кита — видно, доел рисовый отвар.
Стараясь ничего не задеть в темноте, мальчики подошли к лестнице. Первым начал подниматься Миша, за ним Генка. Как только они встали на чугунные ступеньки, лестница заходила и завизжала под их ногами. Если в доме есть кто-нибудь, то наверняка их услышит. Генке казалось, что лестница сейчас развалится: ведь непонятно, на чем она держится. Лестница была очень узкая, крутая, ступеньки представляли собой маленькие металлические треугольники. Генка оступился и ссадил коленку. Мысленно он проклинал помещичий строй, обрекавший дворовых людей подыматься по таким вот спиралям. Приходилось вертеться волчком, одно плечо упиралось в стену, другое — в железный столб, а голова стукалась непонятно обо что.
Наконец они поднялись на второй этаж. Здесь они опять увидели коридор, несколько больше нижнего. Широкое, во всю наружную стену, окно придавало ему вид галереи. Окно было в частых переплетах из разноцветных стекол, в большинстве поломанных. Мальчики увидели двор и сарай. Значит, они все еще на задней стороне дома.
В коридоре были две двери, высокие и когда-то белые, одна — в середине, другая — в конце.
Мальчики тихонько открыли первую. Их взору представился пустой зал, беспорядочно обставленный ветхой старинной мебелью.
Под потолком висела огромная люстра со множеством стекляшек. Высокие стрельчатые окна были местами забиты досками, местами завешены каким-то подобием гардин. Сквозь них виднелся парк, сад, река, а вот и флажок на мачте лагеря. Вид этого маленького остроугольного красного флажка, изредка и лениво вздрагивающего под слабым ветерком, сразу успокоил и даже развеселил ребят. Они уже не думали ни о какой опасности, им казалось, что они играют в веселую, захватывающую игру. Им было весело оттого, что они всё видят, даже лагерь, но никто не видит их… К тому же они выбрались теперь к фасаду, а это уже что-то.
В зале были три двери: одна — через которую мальчики вошли сюда, и две по бокам. Но боковые двери были заперты. Ребятам пришлось вернуться в коридор и открыть вторую дверь.
Она вела в третий по счету коридор, размером со второй, но только с одним круглым окошком и небольшой одностворчатой дверью справа.
Мальчики открыли ее и увидели две небольшие смежные комнаты. Первая была пуста, вторая заперта. Мальчики посмотрели в замочную скважину и увидели кровать с неубранной постелью, ночной столик, шкаф, бюро с полукруглой крышкой и два больших мягких кресла. Там была, по-видимому, спальня «графини».
В той комнате, где сейчас стояли ребята, подымалась вверх лестничная клетка. Зашитая со всех сторон досками, она имела вид огромной деревянной коробки. Несомненно, она вела в мезонин. Но начиналась лестница в спальне «графини», а спальня была заперта. Значит, «графиня» нарочно устроила здесь свою спальню, чтобы никто не мог подняться по лестнице в мезонин.
Мальчики попытались открыть дверь в спальню, но она не поддавалась. В прорезь двери было видно, что она закрыта на два замка. Не взламывать же ее!
Тогда они попробовали, крепка ли деревянная обшивка на лестничной клетке. Доски едва держались. Чуть-чуть нажать ломиком — и они отойдут вместе с гвоздями… Но у мальчиков не было с собой никакого инструмента. Миша велел Генке спуститься по винтовой лестнице вниз, в нижний коридор, и поискать там ломик.
— Даже не ломик, а какую-нибудь железяку, — сказал Миша, — чтобы можно было ее просунуть под доски. Только осторожно, тихо…
Вскоре Генка вернулся с каминными щипцами в одной руке и большим, хотя и сломанным, утюгом — в другой. Мальчики вставили щипцы между досками и, тихонько постукивая по ним утюгом, оторвали две доски.
Через образовавшееся отверстие они вскарабкались на лестницу. Она была деревянная, прямая, довольно широкая и приводила в мезонин — низкое квадратное помещение, заваленное всякой рухлядью. И, так же как внизу, среди этой рухляди была проложена узенькая дорожка к окнам.
Их было три: два крайних — застекленные, а среднее — закрытое ставнями. Ставни запирались простым ржавым крючком. Мальчики откинули его, распахнули ставни. В нише стояла бронзовая птица.
Птица стояла к ним спиной. Высота ее была приблизительно около метра, размах крыльев — метра полтора.
Отсюда отлично просматривалась вся окрестность, все подходы к дому.
Лагерь был как на ладони. Виднелись фигуры ребят, и было совершенно очевидно, что они бездельничают: одни без толку снуют взад и вперед, другие занимаются чем-то совершенно непонятным, прохаживаются, куда-то бегут. Их поведение казалось нелепым и смешным.
Но не следует отвлекаться. Надо поскорее открыть бронзовую птицу.
Как и тогда, в музее, Миша двумя пальцами правой руки сначала осторожно, а потом сильнее нажал ей на глаза.
Есть! Голова птицы откинулась назад. Значит, и здесь тайник. Все предусмотрено правильно, все точно!
Миша засунул руку в тайник, нащупал там бумажку и вытащил ее.
Это был свернутый трубкой чертеж, нанесенный на обыкновенную кальку. Мальчики развязали ленточку и развернули чертеж. На нем были нанесены какие-то линии и цифры…
Но разбираться сейчас в чертеже не было времени. Надо взять его с собой, перерисовать и до возвращения «графини» положить обратно.
Мальчики закрыли птицу, накинули крючок на ставни, спустились во второй этаж, вставили на прежнее место доски лестничной клетки и по винтовой лестнице добрались до людской.
Здесь они плотно закрыли дверь, стараясь загнать гвозди на их прежние места. Иначе «графиня» догадается, что дверь открывали.
Глава 56
Чертеж
Кит давно съел свой рисовый отвар и лежал теперь, сладко зажмурив глаза и томно потягиваясь. В людской было темно и пыльно. Сквозь низкие оконца на пол падали узкие, короткие солнечные лучи, в них роились тысячи пылинок.
— Пошли, Славка, — сказал Миша и незаметно кивнул ему в знак того, что все в порядке, — а ты, Бяшка, оставайся здесь. Сейчас мы пришлем тебе замену.
— Пришлите чего-нибудь пожрать, — простонал Кит.
— Хочешь ты выздороветь или нет? — рассердился Бяшка. — Неужели ты не можешь один день, всего один день, пробыть на диете!
— Не могу, — со вздохом признался Кит.
Оставив их препираться по этому поводу, Миша, Генка и Славка вышли из людской.
Позабыв о своем обещании прислать Бяшке замену, они обогнули лагерь, вышли в поле, забрались в маленькую рощицу, уселись там и начали рассматривать чертеж.
Это была калька размером в обыкновенный лист писчей канцелярской бумаги. По ее сторонам были обозначены страны света: С., Ю., З., В., то есть север, юг, запад, восток.
Над буквой «Ю» был нарисован фасад помещичьего дома. От него вверх, строго на север, подымалась прямая линия, которая сворачивала сначала на северо-запад, потом на запад и затем снова подымалась на север. Там, где линия кончалась, были нарисованы четыре дерева.
Над каждым отрезком пути стояла цифра «1», а под каждым поворотом был обозначен его угол: 135 градусов, еще раз 135 градусов и, наконец, 90 градусов. Ничего больше на чертеже не было, если не считать рисунка бронзовой птицы в правом верхнем углу. Но птица обозначала всего лишь графский герб.
Мальчики молча разглядывали чертеж, потом переглянулись. Они не знали, верить или нет. Неужели тайна в их руках? Ведь по чертежу они несомненно всё найдут!
Первым нарушил молчание Генка. Совершенно спокойно, как само собой разумеющееся, он сказал:
— Все в порядке. Можем хоть сейчас отправляться за кладом.
— В порядке-то в порядке, — заметил Славка, — только непонятно, в каких единицах здесь обозначена длина отрезков. «Один», а что означает «один»?
Генка снисходительно улыбнулся:
— В верстах. Ведь раньше всё обозначали в верстах.
— И в аршинах и в саженях… — возразил Славка.
— Чудак, — рассмеялся Генка, — если в аршинах или в саженях, тогда это было бы рядом с домом. А здесь нарисован лес, а лес отсюда как раз в четырех верстах. Впрочем, — Генка пожал плечами, — можно сначала проверить и в четырех аршинах, и в четырех саженях. Но я уверен, что это версты. Уж прятать так прятать подальше.
Миша предложил не спорить, а рассуждать логично.
— Будем рассуждать логично, — сказал он. — Значит, так: отсчет надо начинать от дома, по-видимому, прямо с того места, где стоит бронзовая птица. Согласны?
Мальчики были согласны.
— Итак, — продолжал Миша, — от дома нужно идти строго на север одну версту.
— Или аршин, сажень, а может быть, метр или километр, — не уступал Славка.
— Возможно, — согласился Миша, — хотя я на стороне Генки: обозначено, конечно, в верстах. И будем рассуждать в верстах, условно, конечно.
— Если условно, тогда другое дело, — согласился Славка.
— И не перебивай, — кротко заметил Генка. — Давай, Миша, рассуждай дальше.
Миша продолжал:
— Будем рассуждать дальше. Значит, проходим строго на север одну версту и поворачиваем на северо-запад, под углом в сто тридцать пять градусов.
— Повернули… — подсказал Генка.
— Повернули, — продолжал Миша, — и прошли еще одну версту…
— Здесь опять повернули, — подсказал Генка.
— Да, здесь повернули строго на запад под углом опять в сто тридцать пять градусов и прошли еще одну версту. И уже здесь…
— …повернули в последний раз, — громко и нетерпеливо проговорил Генка.
— Да, повернули в последний раз под углом в девяносто градусов и пошли строго на север еще одну версту и…
— …подошли к четырем деревьям, — воскликнул Генка, вскакивая со своего места, — воткнули лопаточки в землю, подрыли и нашли все, что нам нужно. И, может, даже знаменитый алмаз Панси.
— Не Панси, а Санси, — поправил его Славка.
Мальчики пришли в веселое и даже несколько буйное настроение.
— Подумать только, — хохотал Генка, — эти дурачки там ищут, ищут, роют, роют… Вспотели, бедняги, исхудали, всё роют, роют, а где надо рыть, не знают. А мы знаем.
Миша не прыгал и не бесновался, как Генка. Он лежал на спине и, самодовольно улыбаясь, говорил:
— Да, теперь дело в наших руках. Конечно, неизвестно, что там такое. Вряд ли алмаз Санси-Панси. Но если так здорово зарыли и так упорно все ищут, то бесспорно что-то очень ценное.
А Генка продолжал хохотать:
— Нет! А «графиня»-то, «графиня»! Бережет этот чертеж, хранит его, лелеет, все ждет, когда свергнут советскую власть и вернется ее графин. А чертежик уже у нас…
При упоминании о «графине» некоторое смущение овладело Мишей. Если по чертежу так просто найти клад, то почему «графиня» этого не сделала? Ведь парни-то в лесу роют с ее ведома, ведь она посылала им какие-то мешки.
То же самое подумал и Славка.
— Странно, почему этот клад до сих пор не нашли, — сказал он. — Чертеж лежит самое меньшее шесть лет после революции, «графиня» о нем знает. Значит, знают и лодочник, и парни. А ведь они-то как раз и копают в лесу.
— Она их водит за нос! — закричал Генка. — Неужели не понятно? Ведь мы сами видели, как лодочник следил за «графиней». Значит, он ей не доверяет. А почему? Потому что она ему все время показывает не те места и даже не говорит, что у нее есть чертеж.
— А почему сама не выкопает?
— Разве такая старуха справится? Разве она сумеет выкопать? А если бы и смогла, то не хочет. Зачем ей? Куда она денется с ценностями? «Графиня» их обязана сберечь до приезда графина.
Славка согласился, что Генка, пожалуй, прав. Миша тоже согласился. В душе у него оставались кое-какие сомнения, но так хотелось верить, что клад теперь у них в руках, что их усилия увенчались успехом! Ему не терпелось убедиться в этом. Он встал.
— Не будем терять времени и пойдем сейчас по этому маршруту.
Ребята охотно согласились. Им тоже не терпелось увидеть место, где зарыт клад.
— У меня шаг ровно один аршин, — сказал Миша, — так и будем отмеривать. Только вы меня не сбивайте со счета.
— А лопаты? — воскликнул Генка. — Надо лопаты с собой взять, иначе чем же мы будем копать?
Но Миша решил не брать лопат. Если их с лопатами заметит лодочник, то все пропало. Копать они будут ночью. А сейчас они хорошенько запомнят место и дорогу.
— Ну и зря! — проворчал Генка.
Ему очень хотелось немедленно копать.
Глава 57
Кладоискатели
У дверей людской они увидели Бяшку и только сейчас вспомнили, что обещали прислать ему замену.
— Безобразие! — кричал взбешенный Бяшка. — Полтора часа жду! Это подлость по отношению к товарищу. Другой на моем месте давно бы сбежал. А вы пользуетесь моей добросовестностью. Порядочные люди так не поступают! Издевательство!
Миша кое-как успокоил Бяшку, отпустил его в лагерь и велел прислать Игоря. Продолжая возмущаться, Бяшка ушел.
Из людской доносились стоны голодного Кита. Но мальчики не обратили на них никакого внимания.
Миша положил компас на ладонь и стал перед фасадом лицом к северу. Стрелка стояла перпендикулярно к дому.
— Условие, — сказал Миша, — пока не дойдем до поворота, ни слова не говорить. А теперь пошли!
Мальчики зашагали. Миша шел впереди. Он отсчитывал шаги, стараясь идти именно тем шагом, который равнялся у него одному аршину. Это был нормальный ровный шаг, при котором он шел без всякого напряжения и в то же время чувствовал, что если он хоть чуточку увеличит шаг, то это напряжение появится.
Перед собой он держал компас. Впрочем, сама аллея вела мальчиков точно на север.
Вскоре аллея перешла в полевую дорогу. Но и она, как показывал компас, вела строго на север.
За точность отсчитываемых шагов Миша мог не беспокоиться. Генка и Славка шагали за ним и сосредоточенно бормотали цифры. Это монотонное бормотанье мешало Мише, но он молчал, боясь сбиться со счета. В конце концов, когда Миша объявил, что отсчитал полторы тысячи, то у Генки оказалось двенадцать шагов лишних, а у Славки восьми недоставало.
Но дорога сама поворачивала на северо-восток. Мальчики замерили угол — сто тридцать пять градусов, полтора прямых угла. Да, не силен был на выдумки старый граф. Сказалось аристократическое вырождение…
Мальчики пошли дальше. Опять за Мишиной спиной послышалось монотонное бормотанье. Дорога шла точно на северо-восток. Казалось, она специально проложена к тому месту, где зарыт клад. Это была именно та дорога, по которой они с Жердяем шли на Голыгинскую гать.
Прошли еще версту. Дорога свернула на запад и опять под углом в сто тридцать пять градусов.
Генка стер со лба пот:
— Все идет как по маслу. Граф точно все расписал.
— Маршрут довольно примитивный, — заметил Славка, — прямо по дороге.
— И правильно. Не захотел бить свои графские ножки по ямам и рытвинам.
Мальчики прошли еще версту на запад. Дорога круто, под прямым углом, повернула на север.
Наконец они прошли последнюю версту. Дорога кончалась у самой опушки. Дальше стеной стоял лес. Тот самый лес, по которому они шли на Голыгинскую гать.
— Ясно, — сказал Генка, показывая на деревья, — клад зарыт под этими четырьмя березами.
Миша и Славка тоже смотрели на березы. Да, по-видимому, здесь. Во всяком случае, на этой поляне. Она была неровной, в буграх и холмиках. У Миши на минуту закралось подозрение, что здесь уже копали, но нигде не было видно свежих следов земли, все бугорки и холмики поросли травой. Может быть, здесь когда-то корчевали пни. Во всяком случае, в чертеже указано именно это место. Значит, под одним из холмиков. Ничего, всем отрядом они здесь всё перероют. А граф-то, оказывается, не так прост! Все ищут в лесу, а он закопал на самой опушке, на самом видном месте, где никто и не догадается искать.
Мальчики присели на траву. В лесу шумели верхушки деревьев, свистели и верещали птицы. Где-то далеко слышался лай собаки.
Генка хмыкнул и прошептал:
— А эти дурачки на болоте ищут. Эй, кладоискатели!
— А все же странно, что они роют именно в этом лесу, — сказал Славка.
— И ничего странного, — возразил Генка. — Они слышали звон, да не знают, где он. В лесу! А где в лесу?
— А когда мы будем копать? — спросил Славка.
— Я думаю, откладывать не следует, — вставил Генка, — ведь в среду должен приехать этот тип в зеленом костюме. А сегодня уже пятница.
— Откладывать нельзя, — согласился Миша, — но делать надо с умом. Прежде всего надо перерисовать чертеж и положить его на место. Иначе «графиня» заметит и примет меры предосторожности.
— Согласен, — сказал Генка. — Но рыть-то когда?
— Рыть надо со свидетелями и с представителями власти. Мало ли что там может быть, — объявил Миша.
Генка был вне себя. Как! Рассказать председателю сельсовета? Ведь он немедленно передаст Ерофееву, а Ерофеев — лодочнику.
— О таком деле не скажет, — успокоил его Миша. — Кроме того, мы вызовем представителей из уезда или из губернии. Ведь клад — это государственное имущество. Все должно быть сделано законно.
Генка огорчился:
— Всегда так! Мы проводим всю работу, подвергаем свою жизнь опасности, и в итоге приходит чужой дядя и пожинает лавры. Неправильно это!
Глава 58
Рассказ врача
Мальчики вернулись домой хотя и усталые, но очень веселые. Не всем удается раскрывать такие вот секреты, а они уже раскрывают второй раз: тогда — с кортиком, теперь — с бронзовой птицей.
Они дошли до помещичьего дома. Миша велел Генке и Славке идти в лагерь, а сам зашел в людскую узнать, как чувствует себя Кит, и вообще проверить, что там делается.
У Кита сидел доктор. Увидев Мишу, он сказал:
— Хорошо, что ты пришел. Ему, — он кивнул на Кита, — можно встать. Но он должен соблюдать строжайшую диету.
Вот так штука! Выпускать отсюда Кита вовсе не входило в Мишины планы. Это значило бы лишиться людской и, следовательно, возможности еще раз проникнуть в дом. А ведь надо положить обратно чертеж. Миша сразу сообразил ответ:
— Он встанет и тут же обожрется. Мы его хорошо знаем. Если нужно соблюдать диету, то пусть лежит.
— Такой обжора?
— Ужасный.
— Неужели ты не можешь удержаться? — спросил доктор Кита.
— Не могу, — со вздохом признался Кит.
— Все же надо выпустить его на улицу, на чистый воздух, — сказал доктор, — а диету пусть соблюдает в порядке дисциплины.
Миша с отчаянием проговорил:
— Если он встанет, то все пропало.
— Что пропало?
— Вообще… — спохватился Миша. — Опять заболеет, а положить будет некуда. Сюда, в людскую, нас больше не пустят. Придется его держать в палатке. А вы сами говорите, что больному в палатке нельзя.
— Всегда найдем, куда больного положить, — ответил доктор, — а ему хватит лежать.
— Можно встать? — спросил Кит, откидывая одеяло.
— Конечно.
Не говоря ни слова, Кит поднялся и, не глядя на Мишу, вышел из людской. Через минуту его громкий голос уже слышался возле костра, где варился обед.
Миша и доктор тоже пошли к лагерю; врач оставил там свою лошадь.
Пройдя несколько шагов по аллее, врач обернулся. Миша перехватил его взгляд: он смотрел на бронзовую птицу.
— Что означает эта бронзовая птица? — спросил Миша. — Торчит и торчит здесь.
Доктор снял пенсне, протер его, снова надел, забросив за ухо крученую черную нитку.
— Знаменитая птица, — засмеялся доктор. — Из-за нее много людей посходило с ума.
— Неужели? — спросил Миша и затрепетал от радости: доктор что-то знает.
— Давняя и длинная история, — сказал доктор, — и, по правде сказать, малоинтересная.
— Расскажите, пожалуйста, — попросил Миша. — У нас ребята интересуются стариной. Спрашивают, что за птица, а я ничего не могу ответить.
— Длинная, длинная история, — повторил доктор. — В другой раз.
— Я вас очень прошу, расскажите, — умоляющим голосом проговорил Миша, — ну хоть пока мы дойдем до вашей лошади.
— Ладно, — согласился врач, несколько задерживая шаг. — История, в общем, довольно глупая. Смесь барского самодурства с уездным романтизмом. Надо тебе сказать, что графы Карагаевы — старинный, но захудалый род. Древо свое будто бы ведут от татарского мурзы, выехавшего в Россию из Золотой Орды. Но обеднели, оскудели, особенно после того, как Елизавета казнила одного графа с сыном и велела бросить их в болото.
— Значит, про Голыгинскую гать это правда? — изумился Миша.
— Да, — подтвердил доктор, — исторический факт. Казнены и затоптаны в гать… Поместья их были отобраны в казну, вообще род подрублен под основание. Но благодаря удачной женитьбе одного из графов на дочери Демидова род Карагаевых снова поднялся, графы стали владеть поместьями и рудниками на Урале.
— Про это я что-то слыхал, — сказал Миша.
— Так вот, — продолжал доктор, — в роду у них была страсть к драгоценным камням, просто мания. Особенно у последнего графа. Большой был охотник. И камни хорошо знал. Но фантазер и мистификатор. Он широко вел уральские разработки, но находил мелочь. А мелочи и цена небольшая. Стоимость алмаза возрастает с его величиной чуть ли не в геометрической прогрессии. Находил он мелочь, а слухи распускал, будто нашел нечто выдающееся. На поверку все это оказывалось блефом. До того изолгался, что ему не только перестали верить, но даже чуть было не притянули к суду за какую-то подделку. Вообще вся его деятельность грозила разорением. Вот тогда и начался этот процесс. Сын попытался объявить старика сумасшедшим. Даже меня хотели использовать для этого, но не удалось. Я все дело чуть не испортил. Так и боятся меня с тех пор. Впрочем, нашлись люди, которые помогли сыну оттягать наследство раньше, чем отец умер. Старый граф уехал за границу. Но он не остался в долгу и изрядно посмеялся над своим неблагодарным наследником.
Доктор и Миша дошли до дрожек. Доктор сел на них, закурил и продолжал:
— Наследничек его, надо тебе сказать, был хотя и балбес, но порядочный негодяй. Довольно неприглядную роль в деле сыграла и эта особа, — доктор кивнул на дом.
— «Графиня»?
— Какая она «графиня»? Впрочем, в свое время — красавица. — Доктор на минуту замолчал, какая-то тень пробежала по его лицу. — Красавица, — повторил он, — только от красоты уже ничего не осталось… Да, так вот, молодой граф… Его тут крестьяне называли Рупь Двадцать… Он немного хромал от рождения, хотя мужчина видный. И вот как отец его наказал…
Доктор опять помолчал, как бы вспоминая всю эту историю, потом продолжал:
— Самое удивительное то, что старый граф рассказывал не только басни. Перед самым процессом он объявил, что нашел два алмаза размером чуть ли не по пятьдесят каратов каждый. И даже показывал эти алмазы. Никто ему, конечно, не верил. А алмазы-то оказались настоящими. Это подтвердили голландские ювелиры. И вот граф прислал сыну письмо приблизительно следующего содержания:
«Один алмаз я увез с собой, второй спрятал. Если у тебя хватило ума выгнать меня из дому, то посмотрим, хватит ли у тебя ума на то, чтобы найти этот бриллиант. На место, где он спрятан, указывает наш родовой герб». Вот приблизительно, что написал старый граф. Это была жестокая месть. Поиски алмаза стали бичом и несчастьем этой семьи.
Искали его до самой революции, всё тут перерыли, перессорились, посходили с ума, поотравлялись и пострелялись.
— И не нашли его? — волнуясь, спросил Миша. Он едва удержался от того, чтобы не крикнуть: «Я знаю, где этот тайник! Я знаю, где спрятан алмаз!»
Доктор отрицательно качнул головой:
— Тут такое было… Но нет, ничего не нашли…
Стараясь не выказывать своего волнения, Миша спросил:
— Но ведь граф написал, что это связано с родовым гербом. Что же он имел в виду?
Он спросил это, не поднимая глаз: боялся, что выдаст себя.
Доктор перекинул ноги через дрожки, уселся на них верхом, взял в руки вожжи, вынул из кожаного кармашка торчавший там кнут.
— Что он имел в виду? Герб. Вот этого самого орла, — кнутом доктор показал на фасад барского дома, где в лучах заката золотилась бронзовая птица. — Этот орел и должен был дать ответ.
Деланно смеясь, Миша спросил:
— Как орел может указать? Он же безгласная птица.
— Да, конечно, но внутри этой бронзовой птицы есть тайник…
— Что вы сказали? — пролепетал Миша.
Доктор посмотрел на него:
— Что с тобой?
— Нет, я просто так, — пытаясь овладеть собой, неестественно улыбнулся Миша. — Я никак не мог предположить, что внутри птицы может быть тайник.
— Да, тайник, — подтвердил доктор, — и очень простой. Нужно нажать птице на глаза, и голова ее откидывается. Самая обычная пружина…
Миша ошеломленно смотрел на доктора, а тот спокойно, не замечая его состояния, продолжал:
— В этом тайнике лежал план, чертеж. По нему получалось, что алмаз зарыт в лесу, тут недалеко, верстах в четырех… Вот и перерыли весь лес, и до сих пор есть чудаки — роют… Сейчас, правда, немного поуспокоились, но есть еще, роют…
— И все знают про этот план? — пролепетал несчастный Миша.
— Да, конечно. Одно время держали в секрете, но все видели, что они копают в лесу. Потом это перестало быть тайной. Копии чертежа были чуть ли не в каждой избе…
— Но, может быть, может быть… это не настоящий план, — убитым голосом проговорил Миша.
— План один. Его тут все наизусть знали. Версту на север, еще версту на северо-запад, потом версту, кажется, строго на запад, не помню уже, давно было. Этот план тут все наизусть знали, даже частушки про него распевали:
Версту пройдешь — Алмаз найдешь, Другую пройдешь — Бриллиант найдешь, Третью пройдешь — Ничего не найдешь…Что-то в этом роде… — Доктор тронул вожжи. — Вот и вся история… Ну ладно… Значит, вы своего больного попридержите, не давайте ему много есть. Пусть диету соблюдает.
— Диету… да… конечно… — ничего не соображая, повторял Миша, тупо глядя вслед доктору, на его широкую спину в черном сюртуке, вздрагивавшую на ухабах и рытвинах дорог, и на громадную лошадь, которая тяжело шагала и лениво отмахивалась хвостом от мух и слепней…
Глава 59
Неужели все потеряно?
Ничего не понимая и не соображая, вернулся Миша в лагерь.
Там была обычная вечерняя суета. Ребята готовились к ужину, умывались перед сном, мыли ноги, складывали гербарии и альбомы, готовили постели в палатках. Девочки правили тетради своих ликбезовцев. Было то вечернее время, когда все устали за день, но не хотят, чтобы день кончился, когда особенно оживленно, потому что весь отряд в сборе, день догорает и надо успеть воспользоваться его последним светом.
Свои обязанности Миша выполнял механически. Мысль о постыдной неудаче не выходила у него из головы. Так опозориться! Значит, всё они делали зря. И эти томительные ночи в музее, и ночной поход на Голыгинскую гать, и поиски бронзовой птицы в помещичьем доме, и открытие тайника, и похищение чертежа — все это было ни к чему, бесполезная трата времени. А он-то воображал, что оказался умнее всех… Только бы никто не узнал! Генка и Славка, конечно, никому не разболтают — сами тоже опростоволосились. Но как сказать им правду? Ведь его авторитет будет подорван навсегда.
А Генка и Славка, ни о чем не догадываясь, были в самом прекрасном расположении духа. Они ходили в обнимку, таинственно перешептывались, с добродушной снисходительностью поглядывали на остальных ребят: наивные ребятишки, играют себе и не знают, какая громадная, удивительная, потрясающая тайна скоро будет им открыта!
Потом они подошли к Мише. Генка таинственно прошептал, что в одной книге они нашли листок папиросной бумаги, каким в хороших книгах закладываются рисунки, и если этот листок наложить на чертеж, то все очень точно перерисуется. Миша молча кивнул головой в знак того, что он разрешает изъять листок из книги и перенести на него чертеж.
Генка добавил, что в этой книге не один, а три таких листка и хорошо бы сделать три копии. Тогда каждый из них будет иметь по чертежу. На случай потери. И вообще полезно. В таком опасном предприятии могут быть всякие неожиданности. Ко всему надо быть готовыми.
Миша согласился и на это.
Потом Генка сказал, что сейчас уже темно. Чертеж они перерисуют завтра утром, когда все уйдут в деревню. Миша согласился. Славка заметил, что его и Генку надо будет завтра освободить от работы в клубе. Миша не возражал и против этого. Он ни против чего не возражал. Все равно все бесполезно. Но сказать ребятам правду у него не хватало духу. Пусть уж занимаются чем-нибудь, только бы не задавали вопросов.
Проснулся Миша на следующее утро с головной болью, в том расслабленном состоянии, которое бывает после бессонной и беспокойной ночи… Но, как всегда, он после завтрака выстроил отряд и отправился с ним в деревню. Генка и Славка остались дежурными. Специально для того, чтобы на свободе перерисовать чертеж.
Мрачные мысли не оставляли Мишу и в клубе. Ни в чем не принимая участия, он сидел и грустно посматривал на будущих пионеров. Они были уже разбиты на звенья, знали законы и обычаи, выучили текст торжественного обещания, но никак не могли научиться ходить в строю. Каждый знал, где правая и где левая сторона, но при команде «Напра-во!» — обязательно поворачивался налево, а при команде «Нале-во!» — направо. При команде «Кругом!» — все сталкивались, и получалась «куча мала». Ходить в ногу и то не умели. Чего, казалось бы, проще: «Левой, правой, левой, правой». Так нет, обязательно собьются. У одного шаг большой, у другого маленький, один бежит вприпрыжку, другой волочит ноги, как инвалид, третий только тем и занимается, что наступает переднему на пятки.
А как они стоят в строю?! Один выпятил живот, другой выставил носки на пол-аршина. Прикажешь убрать живот — перегнется в три погибели. Кто пришел босой, а кто в валенках, в такую-то жару! Дашь команду «Равнение направо!» — вместо линии получается полукруг: каждый залезает вперед так, чтобы хорошо рассмотреть правофлангового, хотя и объясняешь, что надо видеть только пятого от себя.
А команда «По двое рассчитайсь!»… Еще не было случая, чтобы рассчитались без ошибки. Тот снова повторит «первый», тот повторит «второй», а этот вовсе молчит. «Ну, говори же!» А он молчит и, застенчиво улыбаясь, смотрит на тебя. Особенно девочки. Стесняются они, что ли?
Но сколько ни смотрел Миша на смешные и неуклюжие повороты ребят, они не могли отвлечь его от мысли о чертеже.
Хорошо, пусть чертеж оказался ерундой. Но ведь что-то есть. Ведь не только он, а и другие искали и даже до сих пор ищут. «Графиня», допустим, сумасшедшая, спятила с ума из-за алмазов, но человек в зеленом костюме — это факт, его тайная переписка с «графиней» тоже факт. Убийство Кузьмина тоже факт… Пусть нет никакого клада, но ведь никаких алмазов ребятам и не нужно. Им нужно только реабилитировать Николая, доказать, что он ни в чем не виноват. Разве они откажутся от этого только потому, что попались на ту же удочку с кладом, на которую уже попадались десятки людей?
Размышляя таким образом, Миша продолжал смотреть на лужайку, где занимались ребята. Почему они с таким трудом осваивают строй? Вот, например, Муха. Он всегда нормально ходит, быстро бегает, а в строю почему-то хромает, волочит ногу, припечатывает один шаг. Настоящий Рупь Двадцать, как сказал доктор про молодого графа.
Одну минуту!
Миша даже привстал.
Но ведь человек в зеленом костюме тоже прихрамывает и волочит ногу. Тот самый человек в зеленом костюме, которого они видели в музее… Который тайно переписывается с «графиней»… Неужели это и есть молодой граф Карагаев? Но ведь все графы удрали в Париж… А может быть, не все? Может быть, он все еще надеется найти алмаз, который так здорово запрятал его отец… Вполне возможно! Поэтому он и не появляется здесь — боится, что его узнают. А в среду приедет…
Глава 60
Копии
Тем временем Генка и Славка приступили к снятию копий.
Прежде всего надо было найти гладкую доску, чтобы наложить на нее чертеж.
— Подумаешь! — сказал Генка. — Зачем такая точность? Ведь мы уже даже место знаем. Перерисуем для формальности, и всё.
Но Славка был педант. И он хорошо чертил. Генке пришлось уступить. Гладкой доски они не нашли, зато отыскали картонную папку с надписью «Дело», положили ее на пень и укрепили по углам камнями. На папку положили чертеж, на чертеж — лист папиросной бумаги.
Славка начал перечерчивать. Стоя у него за спиной, Генка следил за движением карандаша, подавал советы и всячески торопил Славку… И зачем такая скрупулезность?! Раз-раз — и готово! Но Славка не обращал на него внимания и чертил очень аккуратно. Когда он начал перечерчивать изображение бронзовой птицы, Генка сказал:
— Зачем ты птицу перечерчиваешь? Она ровно ничего не обозначает.
— Она нанесена, значит, я ее должен перечертить, — ответил Славка, продолжая работать.
А именно с птицей было больше всего возни. Остальное было просто: линии, углы, повороты. А птица на чертеже была изображена хотя и мелко, но очень тщательно. Точь-в-точь такая же, как и на помещичьем доме.
— Знаешь, сколько ты с этой птицей провозишься, — настаивал Генка, — и совершенно зря. Ведь она нарисована условно, просто как герб.
— А может быть, и не условно.
— Говорю тебе, что условно. И незачем с ней возиться. Ведь мы уже и так всё знаем.
Но добросовестный Славка аккуратно перечерчивал птицу.
— Делай как знаешь, — проворчал Генка, — но на чертеже, который ты будешь делать для меня, пожалуйста, не изображай. Не нужен мне этот орел.
И он с большим неудовольствием следил за Славкиной работой. Возиться с орлом целый час! И это только на первом чертеже! Сколько же он со всеми тремя копиями прокопается?
Наконец Славка перерисовал орла и начал заштриховывать его.
— Зачем ты его заштриховываешь? — разозлился Генка.
— Потому что на чертеже заштриховано.
— Так ведь он не весь заштрихован, — закричал Генка, — а ты его всего заштриховываешь!
— Правда, — растерянно проговорил Славка, рассматривая чертеж.
Действительно, у орла было заштриховано только туловище. Голова же была замазана сплошной черной краской, а лапы, наоборот, не закрашены и не заштрихованы.
— Это я из-за папиросной бумаги прошляпил: плохо видно под ней, — огорченно проговорил Славка. — Придется перерисовывать.
Генка попытался удержать его. Зачем перерисовывать?! Ведь все равно орел изображен условно и совершенно не нужен. Какая разница, заштрихован он или нет? А если Славка хочет перерисовывать, то пусть отдаст эту испорченную копию ему, Генке, а остальные может перерисовывать как угодно.
— Пожалуйста, — сказал Славка, откалывая испорченную копию, — можешь взять, остальные я сделаю правильно. Точно так, как на чертеже.
— Ну и делай на здоровье!
Генка небрежно сложил полученную от Славки копию и опустил в карман.
— Поосторожнее, — заметил Славка, — если потеряешь, то могут быть большие неприятности.
— Не беспокойся, пожалуйста, я еще никогда ничего не терял.
Глава 61
Орлы
Славка кончил перечерчивание как раз к тому времени, когда ребята вернулись из деревни.
После обеда Генка и Славка возвратили чертеж Мише и показали ему копии.
Миша молча посмотрел на никому теперь не нужные листки. Бедный Славка, трудился над ними полдня. И как аккуратно все перерисовал!
— А где же третья копия? — спросил Миша только для того, чтобы выиграть время.
— Она у меня, — ответил Генка, — я взял себе испорченную.
— Чем же она испорчена? — спросил Миша, все еще не решаясь сказать ребятам правду.
Генка положил свою копию рядом с другими, показал, чем она испорчена.
— Впрочем, — сказал он, — испорчена она по мнению Славки. Этот орел не имеет абсолютно никакого значения. Просто эмблема графского рода, как и бронзовая птица.
— Да, — подтвердил Славка, — возможно, штриховка не имеет значения, но поскольку она есть, я решил точно перерисовать.
Миша между тем пристально рассматривал чертеж. Действительно, птица здесь ровно ничего не обозначает: ни места клада, ни дороги к нему. Дорога изображена линией и поворотами. Они вчера проверили эту дорогу, и все оказалось правильным. Да и, как рассказывал доктор, уже сотни людей по чертежу пытались найти клад, значит, изучили чертеж вдоль и поперек. Все это так… Но почему птица по-разному закрашена? Как ни мало ее изображение, как ни стерся чертеж, а все же ясно видно, что раскраска разная: голова черная, туловище заштриховано, лапы белые. Что это значит?
— Чего ты так рассматриваешь? — спросил Генка, с любопытством и даже с некоторым беспокойством следя за выражением Мишиного лица.
— Думаю: что значит птица? Для чего она здесь и почему по-разному закрашена?
— Но, Миша, — Генка даже скривился от неудовольствия, — какое это может иметь значение? Этим гербам та же цена, что и орлам на царских пятаках: эмблема! Хоть копейка, хоть две, хоть пятак, а всюду двуглавый орел… Ни о чем не говорит и ничего не значит… И чего тут думать? Ведь мы уже знаем, где зарыт клад… Надо не думать, а пойти и вырыть его. Вот и всё!
— Ты в этом уверен? — спросил Миша.
— В чем?
— В том, что мы знаем, где зарыт клад.
Генка развел руками:
— Но ведь мы там вчера были…
Миша помолчал, потом со вздохом сказал:
— Никакого клада там нет.
Генка и Славка воззрились на него.
— Да, да, — повторил Миша, — нет, не было и не будет!
Генка и Славка продолжали смотреть на Мишу — Генка ошеломленно, Славка вопросительно.
— Чего вы уставились на меня? — спросил Миша. — Нет там никакого клада, вот и все…
— Да… но… как же чертеж, и «графиня», и вообще все? — пролепетал Генка.
— Никакая она не «графиня»! — презрительно ответил Миша.
— Но откуда ты знаешь, что там ничего нет? — спросил Славка.
— А вот откуда…
И Миша передал друзьям рассказ доктора.
Такой жестокий удар! Мальчики казались самим себе жалкими, ничтожными дураками, глупыми фантазерами… Как они теперь посмотрят всем в глаза? Правда, никто ничего не знает, но все видели, сколько многозначительной таинственности они на себя напускали…
И неужели надо расстаться с мечтой раскрыть тайну, раскрыть секрет, который никто до них не мог раскрыть? Это было ужасно!
И как только Миша все рассказал, у него стало легче на душе. Выговорился наконец…
— Да, очень обидно, — сказал Славка. — Впрочем, этого надо было ожидать: если все ищут, и давно ищут, то почему именно мы должны найти?
Миша пожал плечами:
— Так всегда бывает. Все не могут найти, а потом кто-то находит. Так могло быть и с нами. Но не получилось.
Генке никак не хотелось расставаться с мыслью о кладе. Он чуть не плакал.
— Но ведь клад-то есть, ведь алмаз-то действительно спрятан! Значит, надо его искать.
— Где же его искать?
— Где?.. А хотя бы в лесу, — неуверенно ответил Генка.
— Лес уже весь перерыт. Живого места нет. Если алмаз существует, то он спрятан только не в лесу. Возможно, конечно, что «графиня» и этот человек в зеленом костюме знают место… Да, вы знаете, кто этот человек в зеленом?
Миша высказал свои подозрения насчет человека в зеленом костюме.
— Ну конечно, — загорелся Генка, — это графский сын! Ясно как шоколад. Приехал за алмазом. И действует заодно с «графиней».
Славка, внимательно слушавший своих приятелей, сказал:
— Если бы «графиня» знала, где спрятан алмаз, то давным-давно вырыла бы его. Алмаз помещается в желудке, значит, поместится и в кармане. Нет! И «графиня» не знает, и графский сын, если он действительно графский сын, тоже ничего не знает. Они ищут, как лодочник и все другие. Но никто не может найти. И мы вряд ли найдем. Чертеж был нашим единственным шансом. И этот шанс отпал.
«Да, это верно, — думал Миша, — никто не знает, где зарыт алмаз. Никто не сумел отгадать загадку, заданную старым графом. Но загадка-то отгадывается! Все руководствовались чертежом, линиями, а линии ничего не значат, они не более как ложный след. И дело, может быть, не в них, а в орле. Ведь указать тайник должна именно птица. А никто на нее не обращал внимания. Вот и не находили. А ведь в таких планах не должно быть ничего лишнего, ничего случайного. Все должно иметь свой смысл».
— Чего ты разглядываешь чертеж? — спросил Генка. — Ведь теперь ясно, что он липа.
— Липа, — согласился Миша, — но все же странно: почему орел по-разному закрашен? Очень странно.
Мальчики опять воззрились на орла. Но он им ничего не говорил. Орел как орел.
Миша вспомнил слова Бориса Сергеевича об этой птице, сомнение Коровина по тому же поводу.
— Между прочим, не все уверены, что это орел. Например, Коровин сомневается, а он родился и вырос на Волге, где водятся орлы. И Борис Сергеевич утверждает, что это не орел, а гриф. Вернее, он сказал, что у птицы голова грифа.
Генка нехотя согласился:
— Голова — может быть. А во всем остальном — орел. Не беспокойся, уж кто-кто, а я-то знаю.
Генке действительно можно было верить. Если не считать физкультуры, то биология была единственным предметом, по которому он хорошо занимался. Он был даже старостой биокружка и работал в школьном живом уголке.
— Самый обыкновенный орел, — продолжал Генка, — правда, немного больше степного. Значит, беркут. Беркут-халзан.
— Ладно, — сказал Миша, — что бы там ни было, другого выхода у нас нет. Маршрут оказался неправильным. Значит, надо разгадать штриховку. Чертеж есть у каждого. Будем думать.
Генка жалобно проговорил:
— У меня штриховка неправильная. Как же я буду думать?
Глава 62
Халзан
Мальчики начали думать. Впрочем, думал весь отряд. Не про штриховку, а про бронзовую птицу: кого именно она изображает? Этот вопрос поставил Миша. Ведь в отряде есть очень знающие ребята, могут надумать что-либо существенное. Да и трудно все держать в секрете. Пусть уж займутся птицей.
Вскоре весь отряд разделился на две партии.
Одна, возглавляемая Генкой, утверждала, что это орел. Правда, у него не совсем обычная голова, но это не более как вольность художника.
Другая партия, предводительствуемая Бяшкой, считала, что птица из семейства грифов. Правда, у нее несколько коротковатое и коренастое для грифа тело, но это результат неосведомленности того же художника.
— Посмотрите на форму головы, — говорил Бяшка, — разве у орла бывает такая длинная шея и такая большая, плоская, плешивая голова? Это может быть и кондор, и стервятник, просто черный гриф или сип белоголовый. Конечно, будь птица в натуре, хотя бы чучело, можно было бы определить по оперению и по окраске. Но голова определенно указывает на то, что птица из семейства грифов, а не из семейства орлов.
— Ах ты, Бяшка, Бяшка! — возражал Генка. — Где ты видал таких маленьких кондоров? У кондора размах крыльев достигает до трех метров, а у этого и двух нет. Согласен, голова странноватая. Но во всем остальном орел. Так называемый «орел настоящий». К этому роду относятся: беркут, он же халзан, орел-могильник, он же карагуш, чуть поменьше беркута, затем степной орел, он же орел-курганник. Есть еще подорлики, канюки, сарычи, но они маленькие. Так что, бесспорно, это орел настоящий.
Обе партии спорили с утра до вечера. Приводили в доказательство внешний облик птиц, их образ жизни, способы гнездования, воспитания птенцов, питания. Добрались даже до романов, в которых рассказывалось, как птицы уносят в когтях не только детей и ягнят, но даже лошадей и охотников в полном охотничьем снаряжении.
Спорили ожесточенно. Тем более что во главе партий стояли самые ярые спорщики: Генка и Бяшка. Они чуть не передрались. Генка обозвал Бяшку сипом белоголовым, Бяшка Генку — халзаном.
— Эй, сип белоголовый, — кричал Генка, — иди сюда, поспорим!
— Катись подальше, халзан несчастный! — отвечал ему Бяшка.
— Как вам не стыдно! — убеждал их Миша. — Неужели нельзя дискуссировать спокойно? Мы ведем серьезное исследование, а вы переходите на личности. Представьте, что настоящие ученые так же бы ругались. Во что бы превратилась Академия наук!
— Зачем он меня сипом обозвал? — оправдывался Бяшка.
— А кто первый? — возражал Генка. — Ты же меня первый обозвал халзаном. Целый день тычешь: халзан, халзан… Какой я тебе халзан!
…Халзан… Халзан… Знакомое слово… Миша посмотрел сперва на Генку, потом на Бяшку… Халзан… Халзан.
— Ты говоришь — халзан? — переспросил Миша.
— Да, халзан, — ответил Генка.
— Это беркут?
— Ну конечно. Беркут, или халзан.
Халзан! Но ведь так называется речушка… Та самая, на которой убили Кузьмина… Халзан! Отсюда и Халзин луг… Тот самый, куда ездили Кузьмин с Николаем…
Миша так опешил от неожиданности, что Генка с тревогой спросил:
— Ты что? Заболел?
— Халзан, — пробормотал Миша. — Халзан…
— Ну конечно, халзан, — недоуменно повторил Генка, во все глаза глядя на Мишу.
А тот продолжал бормотать:
— Халзан… Халзан… Река…
Генка развел руками:
— Что ты бормочешь? Халзан, ну и хал…
И Генка вдруг сам оторопело посмотрел на Мишу. Потом он прошептал:
— Халзан…
Голос его постепенно повышался:
— Халзан… Халзан…
Он подпрыгнул и ударил себя по коленкам:
— Халзан! Черт возьми! Халзан!
Но Миша уже пришел в себя:
— Спокойно! Без паники! Значит, халзан?
— Ну конечно, халзан, — таинственно зашептал Генка. — Я сразу подумал: орел — халзан и речка — Халзан.
— Сразу ты, положим, ничего не подумал. А сейчас, глядя на меня, догадался. И не хвастайся.
Генка даже обиделся:
— Но ведь первый-то я сказал про халзана. А этот сип белоголовый, — он презрительно посмотрел на Бяшку, — долдонит про своих грифов, только и долдонит…
Итак, найдено первое звено, может быть, самое важное. Секрет бронзовой птицы в ней самой, а не в ложном маршруте, обманувшем стольких людей.
И есть первое указание — река Халзан. В районе реки зарыт клад. Теперь ясно, почему на Халзином лугу убит Кузьмин. Убийство связано с кладом. И это доказывает невиновность Николая Рыбалина — ведь никакого алмаза Николай не искал. Правда, это снимает подозрение и с лодочника — ведь он ищет в лесу и, наверно, ничего не знает про Халзан. Ну что ж… В конце концов, главное — оправдать Николая. А найти истинного виновника — уже второй вопрос. Может быть, он обнаружится, когда они разыщут клад. Но где искать на реке? Она хоть и мелка, но довольно длинна. На новых картах едва обозначена, а на старых тянется далеко, через несколько уездов.
Значит, бронзовая птица должна дать еще какие-то указания, безусловно связанные с названиями орлов, так же как и река Халзан.
Генка, познаниям которого Миша теперь очень доверял, снова перечислил всех известных ему орлов. Некоторые очень подходили. Особенно орел степной, он же курганник. Если это название имеет то же значение, что и халзан, то получается такая цепь: — река Халзан — степь — курган. Честное слово, здорово! Ай да Генка, разбирается в птицах! Не то что Бяшка. Значит, возле реки, в степи, есть курган, в нем спрятан клад. Великолепно, просто здорово!
— Абсолютно правильно, — авторитетным тоном подтвердил Генка, — абсолютно правильно и логично. Халзан — степь — курган. А всякие грифы здесь ни при чем. Мало-мальски грамотный орнитолог[1] никогда не смешает два эти вида. Орел есть орел, гриф есть гриф. Халзан — восточное название беркута, но мы знаем, что Карагаевы вышли из Золотой Орды. Монголы жили в степях и, наверно, возводили курганы. Следовательно, и с точки зрения зоологии, и с точки зрения этнографии все абсолютно правильно. Надо идти на Халзан.
Но всегда сомневающийся Славка возразил:
— Допустим, что все так. Реку мы знаем — Халзан. Но степь? Никакой степи здесь нет. Предположим, что равнина и есть степь. Ладно. Но курган? Какой курган? Их здесь много, но мы их видели только на правом берегу Утчи. И все они давным-давно раскопаны. Даже экспедиции перестали ездить.
— Задача, конечно, нелегкая, — согласился Миша, — но в таком деле и не бывает легких задач. Завтра рано утром отправимся на Халзан.
— Учти, что завтра вторник, а в среду приезжает этот тип, Карагаев.
— Вот и постараемся все отыскать до его приезда.
Глава 63
Халзан — степь — курган
Едва дождавшись утра, мальчики отправились на Халзан. Конечно, они ничего не боялись. Но идти по месту, где недавно убили человека, было страшновато.
День выдался пасмурный. Порывистый ветер гнал по небу мохнатые, разреженные тучи, гнул верхушки деревьев, прижимал к земле траву. Временами он дул так сильно, что трудно было идти… Но мальчики шли по топкому лугу вдоль берега Халзана.
Это была обмелевшая, почти высохшая речушка. Весной она разливалась широко, тем более что протекала по низменности. Но сейчас превратилась в ничтожный ручеек, сильно заросший, совсем незаметный меж кустов и высоких трав. Только в некоторых, очень затемненных местах было видно, как по дну его течет светленькая струйка воды.
Вид такого ерундовского ручейка совсем не вязался ни с его громким названием, ни с таинственной и роковой ролью, которую он играл во всей истории. Но мальчиков это не смущало. Особенно Генку. Он уверенно шагал по лугу и посматривал по сторонам зорким и глубокомысленным взглядом человека, от познаний которого зависит успех предприятия. В сущности, если бы не он, то ничего бы не вышло. А еще говорят, что он неровно учится. Что ж из того, что неровно? Истинно одаренный человек не может ровно учиться: его талант направлен в одну сторону в ущерб другим сторонам. Вот Миша и Славка хорошо занимаются почти по всем предметам, а все же когда надо было разобраться в орлах, то разобрался не кто иной, как он, Генка.
Так размышлял Генка, внутренне пыжась и надуваясь от сознания своей незаурядности. Это сознание было так велико, что он даже не высказывал его вслух, считая, что такому человеку, как он, особенно в данную минуту, приличествует солидное молчание.
Миша, который не был так, как Генка, уверен в успехе экспедиции, все же не терял надежды. Душа его жаждала успеха, но, чтобы не разочаровываться, он готовил себя к худшему. Всегда надо готовить себя к худшему. Они могут ничего сегодня не найти. Но не все еще потеряно. Они будут искать. Важно искать и не терять надежды.
Славка был настроен скептически. Он считал себя реалистически мыслящим человеком. Всякие тайны, загадки, таинственные истории казались ему пришедшими из потустороннего мира. А так как в потусторонний мир он не верил, то относил многое за счет кипучей фантазии своих друзей. Но он не отставал от друзей потому, что он был хорошим товарищем.
Мальчики прошли уже версты три. Местность постепенно повышалась, грунт становился суше, каменистее, ручей обозначился резче. Попадались большие валуны и камни. Но, насколько хватал глаз, не было видно ни одного кургана.
Когда они прошли еще версты две, путь им преградила большая скала. Это был одинокий утес, огромный валун, неожиданно вставший на этой сравнительно ровной местности. У его подножия лежали большие обросшие мохом камни. Но сразу же за утесом ручей пропал, как будто ушел под землю.
Мальчики вскарабкались на утес. В темноватой дымке пасмурного дня перед ними открылась однообразная, тоскливая панорама бескрайней равнины. Поля, поля, поля… Если даже считать эти поля степью, то все равно: на ней не было ни одного кургана…
— И все-таки где-то здесь есть курган, — категорически объявил Генка.
— Нет, нигде нет, — возразил Славка.
— Значит, надо идти вперед.
Славка опустил руку к подножию утеса.
— Смотри, ручей кончился. Может быть, Халзан вытекает из-под скалы, может быть, здесь его исток. Куда же мы пойдем?
Некоторое время мальчики молча стояли на вершине утеса. Ветер то стихал, то снова налетал, подвывая и высвистывая.
Наконец Миша сказал:
— Ты, Славка, не прав. Я видел карту. Исток Халзана гораздо дальше. По-видимому, здесь он сильно обмелел или течет под землей, а за утесом опять выбивается на поверхность…
Генка ухватился за эту мысль:
— Правильно. Может быть, клад зарыт в земле где-нибудь поблизости.
— А как же курган? — спросил Славка.
— Да, правда… Я и забыл про курган.
— Так вот, — продолжал Миша, — если мы пройдем дальше, то наверняка снова наткнемся на Халзан. Но… но беда в том, что здесь, у утеса, по-видимому, кончаются бывшие графские владения. Помните карту в музее? Графская земля лежит между Утчей и Халзаном. Не тянется же она до бесконечности. И ясно, что граф зарыл алмаз на своей земле. А на его земле нет ни одного кургана. Вот в чем беда. — И Миша печально добавил: — Славка прав: дальше идти нет смысла.
Чувствуя себя виноватым перед приятелями в том, что он оказался прав, Славка высказал такое предположение:
— Возможно, граф имел в виду не орла-курганника, а орла-могильника. Тогда надо только найти могилу на Халзане.
Но с вершины утеса не было видно ни могилы, ни кладбища.
Глава 64
Коммуна
Неудача очень огорчила мальчиков. Неужели они ошиблись и с орлом? А уже кончается вторник. Завтра появится человек в зеленом костюме, а они ничего не нашли.
В лагере их ожидала новость: приехал Борис Сергеевич с распоряжением из Москвы о передаче усадьбы коммуне.
Вместе с ним приехали Коровин и еще два детдомовца, будущие коммунары.
Отвоевали все-таки усадьбу! Миша побежал разыскивать Бориса Сергеевича. Но он нашел только Коровина. Борис Сергеевич ушел в сельсовет.
Коровин и оба детдомовца обмеривали рулеткой сараи.
— Ну как, — приветствовал их Миша, — отвоевали все-таки усадьбу?
Коровин засопел, потом ответил:
— А то как же… Забрали, и всё. Наркомпрос распоряжение дал.
— А дом?
— И дом. Только старуха попросила Бориса Сергеевича подождать до четверга.
— Зачем?
— Кто ее знает… Попросила, и всё. Борис Сергеевич согласился. Он ей и работу в коммуне предложил. Пусть, говорит, работает.
— И что она?
— А ничего.
— Останется?
— Куда же ей, старой, деваться…
— Почему же она все-таки попросила отложить до четверга? — продолжал допытываться Миша.
— А кто ее знает, — пожал плечами Коровин. — Ну, давай, ребята, тяни шнур… Нам сараи сегодня закончить надо, завтра будем землю обмеривать.
И детдомовцы взялись за прерванную работу.
Миша отлично понимал, почему старуха затягивает передачу дома. Завтра должен приехать Карагаев, вот она и хочет посоветоваться: а может быть, надо что-нибудь вынести из дома.
Но о своих предположениях Миша не сказал ни Коровину, ни Борису Сергеевичу. Когда Борис Сергеевич пришел из сельсовета, Миша только спросил у него:
— Как же вам удалось побороть Серова?
— Уж этот Серов! — Борис Сергеевич покачал головой. — Шило!
— Какое шило?
— То, которое про вас заметки писало.
— Значит, он?
— Он самый… Обыкновенный взяточник. Кулаки не хотели коммуны. Понимали, что придется отдать землю, которую они незаконно захватили, вот и подкупили Серова. За взятку он выдал охранную грамоту на усадьбу, хотя никакой исторической ценности она не представляет. В общем, Серова уже прогнали из губоно.
— Вот что… — протянул Миша. — Значит, дело рук Ерофеева. А я думал, что «графини»…
Борис Сергеевич пожал плечами:
— «Графиня»… Она тоже была заинтересована. По-видимому, хотела сохранить усадьбу для старых хозяев. Но она-то как раз и свела Ерофеева с Серовым. Дело в том, что жена Серова — ее родная сестра.
Только сейчас Миша сообразил, кого напоминала ему жена Серова. Ну конечно же, «графиню». Точно! Только эта старая, а та помоложе…
Миша подумал о том, как хорошо он сделал, что не поддался уговорам и угрозам Серова. Ведь если бы он его послушался и увел отсюда отряд, то объективно помог бы кулакам и бывшим помещикам. А ведь он сразу разгадал Серова, сразу почувствовал его неискренность и враждебность. Значит, у него, у Миши, есть политическое чутье. Ведь и Ерофеева он тоже разгадал, сразу сообразил, куда гнут кулаки… Но, конечно, все гораздо сложнее, чем ему представлялось. Тут цепь: Серов, Ерофеев, «графиня», лодочник, Карагаев… Возможно, что у каждого из них своя цель, но они объединены общими интересами. И, конечно, все это имеет отношение и к убийству Кузьмина, и к обвинению Николая Рыбалина.
Рассказать Борису Сергеевичу о Карагаеве или нет?
Конечно, для Бориса Сергеевича важно знать, что здесь появился бывший хозяин усадьбы. Но вдруг этот человек в зеленом вовсе не графский сын, вовсе не Карагаев? Мальчики уже столько раз ошибались. Миша боялся просчитаться еще раз, боялся наболтать чего-нибудь лишнего. Лучше завтра убедиться, что это действительно граф, и тогда уж рассказать.
— Имейте в виду, — сказал он, — Ерофеев и другие кулаки все равно будут мешать коммуне.
Борис Сергеевич рассмеялся:
— Мы и не рассчитываем на их симпатии. И не нуждаемся в них. И мы их не боимся. Это они нас боятся. Они отлично понимают, что им придется расстаться с тем, что они захватили разными незаконными махинациями. И командовать здесь, в деревне, мы им не дадим. Они это отлично понимают и поэтому сопротивляются и будут сопротивляться. Если хочешь, сможешь в этом сегодня убедиться.
— А что сегодня? — спросил Миша.
— Сегодня вечером сходка. Приходи со своими ребятами. Получите наглядный урок классовой борьбы.
Глава 65
Сходка
Отряд явился на сходку в полном составе. Всем было интересно. К тому же сходка происходила в клубе, хозяевами которого ребята себя до некоторой степени чувствовали: ведь они его построили.
Обычно на сходку собирались только мужчины, теперь же пришла вся деревня: и мужчины, и женщины, и дети. Было душно, но многие сидели в полушубках и валенках. Облачки сизого махорочного дыма уходили под деревянные стропила. Потолка не было. В сущности, это был большой сарай.
На сцене стоял маленький стол, покрытый красной материей. За ним сидели председатель сельсовета Иван Васильевич и Борис Сергеевич. Председатель встал, потребовал тишины и сказал:
— Гражданы! — Он всегда на сходках почему-то говорил не «граждане», а «гражданы», видимо, для торжественности. — Гражданы! Начнем собрание. Есть постановление центральной власти. Значит, в бывшей барской усадьбе организовать трудовую коммуну для детей из числа бывших беспризорных товарищей. Значит, слово для информации имеет директор Борис Сергеевич. И просьба, гражданы, не курить.
Но все продолжали курить.
Борис Сергеевич вышел к рампе. Все замолчали и воззрились на него.
— Товарищи, — сказал Борис Сергеевич, — коммуна организуется из числа бывших воспитанников детского дома. Все они в прошлом беспризорники, а некоторые даже и малолетние преступники. Говорю вам об этом прямо, чтобы все были в курсе дела…
Он замолчал. В зале нарастал глухой шум. Сначала это был тихий, сдержанный говор многих людей в разных местах клуба. Потом все заговорили разом, зашумели, заволновались. И наконец раздался истошный женский крик:
— Они и нас тут всех пограбят да перережут…
Это крикнула женщина с ребенком на руках, вся точно обернутая большим цветастым платком.
— Да, товарищи, некоторые из них были малолетними преступниками, — продолжал Борис Сергеевич, — но это было когда-то. За несколько лет, проведенных в детском доме, ребята стали совсем другими. Они овладели разными профессиями, знают и любят свое дело, научились уважать коллектив. Короче говоря: я ручаюсь за каждого. И вот увидите: у вас с коммунарами установятся самые лучшие отношения. Вы не будете на них в обиде, и я надеюсь, что и коммунарам не придется обижаться на вас.
Но по мере того как говорил Борис Сергеевич, шум опять нарастал. Миша внимательно наблюдал за собранием и видел, что кулаки хотя и не кричат, но будоражат всех. Они сидели вокруг Ерофеева и лавочника маленькой, но сплоченной и злой кучкой, сознавая, что симпатии большинства собравшихся на их стороне, потому что все не хотят здесь коммуны, боятся ее, боятся коммунаров, про которых им наговорили всякие ужасы.
И Мише было жаль Бориса Сергеевича, одиноко стоявшего на сцене лицом к лицу с враждебным собранием, которое не хотело его слушать и прерывало на каждом слове злобными и насмешливыми выкриками. Он всей душой сочувствовал Борису Сергеевичу, но ничем не мог помочь ему…
А собрание шумело, кипело, бурлило. Особенно волновались женщины.
— Не надо нам вашей коммуны! — кричали они. — Все равно прогоним бандитов! Убирайтесь, откуда пришли!
Председатель Иван Васильевич поднялся и крикнул:
— Спокойствие, гражданы, спокойствие! Выслушаем товарища, а потом будем обсуждать. Бабы, тихо! А то выведу!
Ему ответил задорный женский голос:
— Попробуй выведи!.. Мы тебя самого выведем!..
Раздался взрыв хохота. Но шум не утихал, наоборот — еще больше усилился…
Борис Сергеевич стоял на сцене, даже не пытаясь что-либо сказать, только обводил собрание строгим взглядом из-под очков…
И тогда Миша, Генка, Славка и все остальные ребята сделали то, что они обычно делали на школьных собраниях, когда подымался такой же невообразимый шум: они начали хором скандировать:
— Ти-ши-на!.. Ти-ши-на!.. Ти-ши-на!
Сначала их голоса терялись в общем шуме, но, когда к ним присоединились остальные ребята, не только из лагеря, но и многие деревенские, они перекричали всех.
Это было так ново и неожиданно для собрания, что все замолчали и в недоумении уставились на ребят. Они скандировали: «Ти-ши-на!.. Ти-ши-на!..» — а все с удивлением смотрели на них.
Потом, по знаку Миши, ребята перестали кричать так же внезапно, как и начали…
Борис Сергеевич воспользовался тишиной, наступившей вследствие общего замешательства, и сказал:
— Ведь и у вас есть дети. Вот они сидят рядом с вами. — Он обвел внимательным и укоризненным взглядом сидевших впереди женщин с детьми и продолжал: — Ваши дети сидят возле вас. Вы их любите и заботитесь о них. После собрания они придут домой, где у них есть и пища, и постель, и над головой крыша, и есть ласковая, заботливая материнская рука. Почему же вы так жестоко относитесь к тем, кого война, разруха и голод лишили всего — и крова, и семьи, и отца, и матери? Я спрашиваю: почему вы так жестоки и несправедливы к ним? В чем они провинились перед вами?
И он замолчал, ожидая ответа на свой вопрос.
Но ответом ему было общее молчание. Все избегали взгляда Бориса Сергеевича. А у некоторых женщин даже слезы навернулись на глаза. Но они скрывали эти слезы и делали вид, что сморкаются.
Мальчики торжествовали. Здорово он сказал! Крепко получилось!
Строгим и внушительным голосом Борис Сергеевич продолжал:
— Страна наша бедна. Но советская власть сделала все, чтобы вернуть детей к жизни, воспитать из них честных тружеников. И в этом большом и благородном деле никто не сумеет нам помешать. Ни те, кто надеются на возвращение помещиков и берегут для них усадьбы, ни те, кто незаконно завладели землей и эксплуатируют других крестьян. — И он строго посмотрел в ту сторону, где сидел Ерофеев.
И все, кто был в зале, тоже обернулись туда.
— Короче говоря, — заключил Борис Сергеевич, — организация коммуны — дело решенное. И никому не удастся это решение изменить. Оно окончательное. Я пришел сюда не для того, чтобы испросить вашего согласия, а для того, чтобы нам всем подумать о том, как мы будем вместе жить и вместе работать. Хотите вы обсуждать этот вопрос — пожалуйста. Не хотите — я могу уйти. Но коммуна будет.
Слово попросил Ерофеев. Он вышел к сцене, снял фуражку, обнажив плешивую голову, и сказал:
— Очень правильно сказал товарищ представитель насчет ребятишек. И мы тоже хотим, чтобы все было по-божески, по справедливости. Чтобы, значит, и мы никого не обидели, и нам чтобы ни от кого обиды не было. А вот насчет земли товарищ представитель ничего не сказал. А с землей-то как будет — вот вопрос.
— Ни на чью землю коммуна не претендует, — ответил Борис Сергеевич, — коммуне отойдет та земля, которая принадлежит государству и которой незаконно пользуются гражданин Ерофеев и некоторые другие граждане. Разве вам, гражданин Ерофеев, полагается владеть почти сотней десятин земли?
— Не я, а все общество пользуется, — ответил Ерофеев и широким жестом обвел зал, показывая, что все здесь сидящие пользуются этой землей.
Но та самая женщина в платке, которая кричала про коммунаров, выкрикнула:
— Ты чего на нас показываешь? Мы этой земли и не нюхали! Всю заграбастал!
Не обращая на нее внимания, Ерофеев спокойно продолжал:
— Владеем по закону. На то и бумага из губернии есть.
Борис Сергеевич строго посмотрел на Ерофеева и сказал:
— Мы знаем, гражданин Ерофеев, сколько вам стоила эта бумага.
Ерофеев метнул на него настороженный взгляд, потом развел руками:
— Про это нам ничего не известно.
— Значит, будет известно, — коротко ответил Борис Сергеевич и, обращаясь к залу, спросил: — Граждане, кто еще пользуется этой землей, просьба встать.
Никто не встал. Все молчали. Только один старик вполголса проговорил:
— Кто же ею пользуется… Известно кто…
Ерофеев неожиданно протянул вперед руки, повернул их ладонями вверх и сказал:
— Этими руками земля обработана. Разве я не трудящийся?
Женщина в платке вскочила со своего места и закричала:
— Какой ты трудящийся? Ты этими руками только деньги считаешь! Закабалил всех, а теперь трудящимся прикидываешься!
Опять заговорили все сразу. Но теперь общее негодование обрушилось на Ерофеева, на лавочника и на других кулаков. Выкладывались давние обиды, вспоминались несправедливости и унижения, которые терпели все от местных богатеев. Миша смотрел на мать Жердяя: вот кому бы выступить и рассказать, как Ерофеев подбивал ее предать собственного сына. Но Мария Ивановна молча сидела в углу, поворачивая печальное лицо к тем, кто выступал, но сама ничего не говорила.
Председатель Иван Васильевич ладонью постучал по столу:
— Гражданы! Довольно пререкаться! Вопрос ясный: быть здесь трудовой коммуне из числа бывших беспризорных товарищей. А то, что некоторые свою шкуру защищают, так это их личное дело. Все трудящееся крестьянство, и которые бедняки и которые середняки, горит способствовать общему делу. А потому просим Бориса Сергеевича доложить, как мыслится работа коммуны. В каком, значит, направлении и какая от нас требуется помощь.
Борис Сергеевич рассказал, чем будут заниматься коммунары, что они будут сеять, какие сады разобьют, какие у них будут мастерские и подсобные предприятия, какую выгоду от этого получит окрестное население.
Все молча и внимательно его слушали. Может быть, он и не привлек всех на свою сторону, но большинство чувствовали, что настоящая правда — на его стороне, а не на стороне тех, кто эксплуатировал их.
А ребята торжествовали. Речь Бориса Сергеевича казалась им прекрасной. Он нарисовал такую заманчивую картину развития коммуны, что, слушая его, им хотелось тоже стать коммунарами, остаться здесь и создавать на новом месте новое хозяйство, «нового, — как выразился Борис Сергеевич, — коммунистического типа»…
Глава 66
Орел-ягнятник
Собрание кончилось. Уже наступила ночь. Дождь прекратился. Небо очистилось от туч, на нем сверкали мириады звезд. И только когда ребята задевали в темноте деревья и кусты, на них сыпались капли дождя, застрявшие на листьях и ветках.
Борис Сергеевич и Миша шли позади всех. Впереди, из темноты, доносились крики и ауканье ребят, громкий смех Зины Кругловой, обиженное бормотанье Кита, негодующий голос Бяшки.
— Скажите, Борис Сергеевич, — спросил Миша, — если бы вдруг появился бывший владелец усадьбы, мог бы он помешать коммуне?
Борис Сергеевич засмеялся:
— Как же он помешает? Усадьба конфискована и принадлежит государству.
— А вы не знаете, где они, бывшие графы?
— Старый граф еще до революции уехал за границу, а молодой неизвестно где. Впрочем, какое это имеет значение?
Мише очень хотелось рассказать, какое это имеет значение, но он удержался. Вот если завтра он убедится, что человек в зеленом и есть граф Карагаев, тогда он и скажет.
— А вы не интересовались их гербом? — спросил Миша. — Вернее, я хотел спросить: какая именно птица изображена на гербе?
— На гербе изображен орел. И если судить по голове, то это орел-ягнятник, он же орел-бородач. Нечто среднее между орлом и грифом, так сказать, переходный вид. Правда, специалисты, к которым я обращался, утверждают, что туловище — обыкновенного орла, но голова определенно орла-ягнятника. Вот, — он вытащил записную книжку, — у меня записаны приметы: «Голова большая, плоская спереди, выпуклая сзади. Покрыта щетинистыми и пухообразными перьями. Клюв большой, длинный, согнутый острым крючком. Основание клюва окружено пучком щетинок, который прикрывает нижнюю половину клюва. Поэтому орел называется как ягнятник, так и бородач».
Миша внимательно слушал Бориса Сергеевича. Но это опять ничего не давало. Ягнятник, бородач… Полуорел, полугриф… Нет, ничего не дает… Вот халзан, курганник, могильник — это о чем-то говорит. А бородач ни о чем не говорит.
Неужели они ошиблись и с орлом? Неужели орел изображен просто так и их догадкам та же цена, что и показанному на чертеже маршруту?..
Все же сообщением Бориса Сергеевича Миша решил поделиться с Генкой и Славкой. Когда лагерь затих, он тихонько вызвал их из палатки, отвел в сторону и сказал:
— Так вот, ребята, Борис Сергеевич говорит, что у этой птицы голова орла-бородача, или ягнятника.
— Ну и что? — нетерпеливо возразил Генка. — Я ведь тоже говорил, что голова у птицы особенная, не такая, как у настоящего орла. Возможно, что ягнятника, не возражаю. Но какое это имеет значение? Ведь в целом это орел обыкновенный.
— А чертеж? — настаивал Миша. — Ведь на чертеже голова орла совершенно черная, в отличие от туловища и ног. Значит, голова имеет какое-то особое значение. А голова — ягнятника.
Генка опять нетерпеливо передернул плечами:
— Не знаю, не знаю… При чем здесь ягнятник? У нас в России он почти не водится. Иногда только встречается на Кавказе и у Гималайских гор. Если ты хочешь знать, то ягнятник живет выше всех горных птиц, в области ледников и вечного снега. Откуда здесь, в средней полосе России, может взяться ягнятник? И гнездятся они только на скалах. А какие здесь скалы? Нет ни одной скалы…
— Как же нет? А скала, на которую мы сегодня залезали?
Генка рассмеялся:
— Какая это скала? Ты пойми: они гнездятся на неприступных скалах.
— Это не имеет значения, — решительно объявил Миша, — зато как здорово получается… Орел изображает реку Халзан, его голова — скалу на Халзане, а лапы могильника — могилу на скале. Понимаешь? Халзан — скала — могила.
Славка громко зевнул. Ему очень хотелось спать. И, если говорить правду, он устал от догадок и не верил в них. Один орел, другой, и так до бесконечности… Если бы дело было в орлах, то алмаз давным-давно уже нашли бы. Искали тоже, наверно, не дураки.
— Ведь мы были сегодня на скале и никакой могилы там не видели, — сказал Славка и снова зевнул.
— Да, не видели, — горячо ответил Миша, — но ведь мы ее и не искали. Надо пойти и как следует обшарить всю скалу.
— Когда пойти? — испуганно спросили Генка и Славка.
— Сейчас. Немедленно.
Но мальчики наотрез отказались идти сейчас на скалу. Что они там ночью увидят? Ровным счетом ничего. Бесполезная трата времени. Только не выспятся. А ведь завтра приедет человек в зеленом, и надо быть бодрыми и готовыми ко всему.
— Значит, не пойдете? — грозно спросил Миша.
— Нет! — решительно ответили Генка и Славка.
— А если я прикажу?
— Не имеешь права, — ответил Славка. — Если бы это касалось отряда, то ты имел бы право приказывать. А здесь, в конце концов, частное дело.
Некоторое время они горячо спорили о том, имеет ли право Миша приказывать или не имеет. Каждый остался при своем мнении, но идти на скалу Генка и Славка отказались решительно.
Миша взывал к их разуму, укорял в трусости, обещал верный успех, грозился пойти один, доказывал, что завтра, может быть, уже будет поздно, потому что граф опередит их.
Все было напрасно. Генка и Славка ни за что не хотели идти на Халзан. Славка вообще уже ни во что не верил, Генка не хотел признавать никакого орла-ягнятника, он просто дрожал от бешенства, когда слышал про грифов. И им обоим хотелось спать.
Скрепя сердце Миша уступил. Но он потребовал от друзей обещания, что завтра они обязательно пойдут с ним на скалу. Генка и Славка торжественно обещали пойти.
— Но, — добавил Генка, — учти, что всякие Бяшкины грифы здесь ни при чем.
Глава 67
Граф Карагаев
Среда!
Борис Сергеевич, Коровин и колонисты ушли обмеривать землю. Ребята под предводительством Зины отправились в клуб. Миша, Генка и Славка бдительно следили за усадьбой.
«Графиня» в город не уехала. Значит, ее встреча с человеком в зеленом костюме должна произойти здесь. Он приедет дневным поездом, то есть в два часа. Миша велел Генке точно к этому времени быть на станции.
Приблизительно в половине второго «графиня» вышла из дому.
Миша и Славка осторожно двинулись за ней.
Миновав парк, «графиня» краем небольшого лесочка вышла к берегу реки, гораздо выше и деревни и усадьбы.
Почти одновременно к реке подошел человек в зеленом костюме. Но Генки не было. Значит, человек в зеленом сошел с поезда не на их полустанке, а на следующем.
Он был похож на прогуливающегося дачника. На нем был легкий летний костюм зеленого цвета, желтые ботинки «джимми» и большое светлое кепи. В руках он держал букетик полевых цветов.
Человек в зеленом костюме поздоровался с «графиней». Разговаривая, они берегом реки пошли в противоположную от усадьбы сторону. Единственное, что оставалось Мише и Славке, это тихо передвигаться по берегу так, чтобы не упустить их из виду. Но слышать, о чем они говорят, мальчики не могли.
Той же тропинкой «графиня» и человек в зеленом костюме вернулись обратно и остановились недалеко от мальчиков.
— Когда вы вернетесь? — спросил человек в зеленом костюме.
— Минут через сорок.
«Графиня» пошла к лодочной станции. Человек в зеленом костюме скрылся в прибрежных кустах. Там он разделся и бросился в воду. Было слышно, как он плескался, фыркал и бил ладонями по воде. Мальчики притаились в кустах.
Потом незнакомец вышел на берег. За кустами послышалось шелестенье газеты, потом все стихло.
Мальчики лежали не шевелясь. Время тянулось томительно долго. Солнце уже начинало склоняться к западу. В траве стрекотал кузнечик. Высоко в небе кувыркался жаворонок.
Незнакомец поднялся. Наверно, одевается…
Наконец показалась «графиня». Незнакомец, уже одетый, с блестящими мокрыми, тщательно приглаженными волосами, пошел ей навстречу. Они остановились совсем близко от мальчиков. Незнакомец стоял к ним спиной. Лицо «графини» было хорошо видно.
— Он согласен, — сказала «графиня».
— Сколько людей?
— Он и еще двое в лесу.
— Когда смогут быть на месте?
— Через два часа.
Незнакомец задумался, посмотрел на солнце, затем на часы.
— Пусть будут через три.
— Хорошо, передам.
— С ломами и лопатами.
— Хорошо… я им уже послала два мешка инструментов. Только… Алексей… я хотела предупредить: лодочник вас подозревает.
— В чем?
— Ну… в этом… с Кузьминым.
— Откуда он знает, что я — это я?
— Возможно, он этого не знает. Но он сказал: «Кузьмина убил человек, с которым вы встречаетесь в музее».
— Он следил за вами?
— Да. Он был уверен, что я скрываю от него настоящее место. Он очень умный и очень опасный человек.
— Я сам опасный.
— Алексей! С этим крестьянином… Кузьминым… как получилось?
Мальчики напряженно прислушивались, боясь пропустить хотя бы одно слово. Сейчас он скажет самое главное!
Карагаев передернул плечами:
— Мы столкнулись с ним лицом к лицу. Он меня узнал. Мог выдать. Что оставалось делать? Одним мужиком на свете меньше.
— Но Рыбалина освобождают.
— Против него нет улик. Но их нет и против меня. Конечно, надо все быстрее кончать. Сегодня же.
— Вы уверены, что это настоящее место?
— Бесспорно. И подумать: столько лет он нас обманывал! Скотина!
«Графиня» ханжеским голосом проговорила:
— Не говорите так, Алексей! Он мертв, и он ваш отец. Господи, когда я подумаю…
— Ах, оставьте свои причитания! — с досадой проговорил Карагаев. — Лучшие годы я отдал поискам этого камня. Остался в России. Черт возьми! — Он ударил себя по лбу. — И как это я не догадался открыть склеп на скале? Идиот!
Миша бросил быстрый, но очень укоризненный взгляд на Славку. Оказывается, правильно: скала — склеп… Вот тебе и орел-ягнятник…
Славке ничего не оставалось, как только виновато замигать глазами.
— Все же лучше без лодочника и без его людей, — сказала «графиня».
— Склеп завален. Мне одному не справиться. Я уже пробовал.
— Может быть, позвать других?
— Например?
— Ерофеева, еще кого-нибудь.
— Нет! Предпочитаю бандитов. Легче сговориться, дешевле и наверняка не продадут.
— Но они могут вас убить.
— Я вооружен.
Они помолчали.
Потом Карагаев сказал:
— Теперь идите. Предупредите его: через три часа.
Глава 68
Склеп
Итак, надо действовать! Действовать немедленно и решительно!
Миша ни в чем не укорял приятелей. О чем теперь говорить? Только когда скрылись из виду и Карагаев и «графиня», он повернулся к Славке:
— Ну как — «частное дело»?
— Нет, не частное, — ответил пристыженный Славка.
То же самое признал и Генка. Он поджидал ребят в лагере. Человека в зеленом Генка на станции не видел, но с поезда сошел следователь. Однако куда он делся, Генка не заметил. Следователь сошел с поезда и исчез.
— Да, — сказал Миша, — жалко, что он не зашел в лагерь. Ведь убийца налицо. Шутить нельзя. Беги, Генка, побыстрее в деревню и узнай, нет ли там следователя.
Генка побежал в деревню. Но следователя там не оказалось.
Мальчики были очень взволнованы. Что им делать? Идти на скалу нет смысла. Теперь они уже не опередят графа. Остается только одно: рассказать все Борису Сергеевичу.
Борис Сергеевич внимательно выслушал мальчиков. Их рассказ звучал необычно. Но Борис Сергеевич ничем не показал, что сомневается в нем. Он поднялся и сказал:
— Надо идти!
На Халзин луг отправились всем отрядом. Даже Кит категорически отказался дежурить на кухне.
По дороге Борис Сергеевич пригласил с собой председателя сельсовета и двух крестьян-понятых.
Но весть о том, что сейчас на Халзином лугу должны найти клад, мгновенно облетела всю деревню.
Отряд еще не дошел до утеса, как их догнала большая толпа крестьян. Среди них шагал даже доктор. Значит, новость уже дошла и до соседнего села.
Вскоре утес был окружен плотной толпой. Совершенно неожиданно для себя Миша увидел в толпе лодочника и обоих парней из леса. Но человека в зеленом костюме не было.
Солнце уходило за горизонт. Последние лучи его освещали одинокий утес и взволнованную толпу людей вокруг него.
Одна сторона скалы была отвесной. Другая, отлогая, была усеяна разной величины камнями. Почти у самой вершины лежало три огромных валуна. Для того чтобы взобраться на верхушку утеса, надо было их обойти. Осмотрев валуны, Борис Сергеевич и Миша увидели под ними свежие следы лопаты или кирки: кто-то пытался сдвинуть камни с места.
Борис Сергеевич подозвал председателя сельсовета и нескольких крестьян. Быстро заработали ломы и лопаты. Валуны были подрыты. Борис Сергеевич велел толпе раздвинуться. Один за другим все три валуна скатились с утеса.
Показалась каменная могильная плита. Она заросла мохом и травой, даже трудно было сразу разобрать, что это плита. Но когда наконец вокруг нее расчистили землю, ее очертания выступили совершенно отчетливо.
— Могилку портют, — вздохнул Ерофеев. — Не по-божески.
Кто-то из крестьян засмеялся:
— Могилка-то не на месте. Ей полагается на кладбище быть, а она эвон куда забралась.
Плиту подрыли, затем поддели ее ломами и приподняли. Открылось небольшое углубление. Толпа прихлынула к яме. Всем хотелось увидеть, что там есть.
— Отойдите, граждане, — сказал председатель, — всем покажем.
И в эту минуту к скале подошли «графиня» и Карагаев. Никто из толпы не обратил на них внимания: все были заняты склепом. Только Миша и лодочник неотступно следили за ними. И Ерофеев, видно, сразу узнал молодого графа и не спускал с него глаз.
В углублении под плитой лежала черная металлическая шкатулка. Борис Сергеевич поднял ее. Она была заперта. Ударом камня Борис Сергеевич сбил замок и открыл шкатулку. Там лежала брошь, усыпанная блестящими камнями. В середине ее сверкал большой бриллиант… Борис Сергеевич высоко поднял брошь и показал ее толпе.
И вдруг, расталкивая толпу, к Борису Сергеевичу подошел Карагаев.
За ним следовала «графиня».
— Эта шкатулка принадлежит мне, — сказала «графиня».
— Возможно, — вежливо ответил Борис Сергеевич, не отдавая шкатулки.
— Дайте ее, — сказала «графиня», протягивая руку.
Но Борис Сергеевич не отдал ей шкатулки.
— Я не могу вам ее отдать. Она будет сдана органам власти, а уж затем вы можете предъявить на нее свои права.
И здесь случилось самое неожиданное: Карагаев выхватил шкатулку из рук Бориса Сергеевича.
Это было так дерзко, что все растерянно и неподвижно стояли на своих местах.
Борис Сергеевич побледнел и шагнул к Карагаеву:
— Что это значит? Верните немедленно!
Карагаев вытащил из кармана пистолет… Толпа шарахнулась в сторону. Карагаев, держа в одной руке пистолет, в другой шкатулку, медленно отступал к подножию скалы… И тут его застиг резкий окрик, прозвучавший, как команда:
— Сдать оружие!
Карагаев оглянулся. Сзади стояли следователь и два красноармейца. И возле красноармейцев стоял Николай Рыбалин. Он посмотрел на Мишу и улыбнулся ему своей приветливой улыбкой.
Глава 69
Итоги и недоделки
Каждый день прибывали новые группы трудколонистов. Со станции на подводах доставляли инвентарь. Коммунары ремонтировали дом, строили сараи, навесы, оборудовали мастерские.
А нашему маленькому отряду уже было пора уезжать. Август золотил листья на деревьях, ночи становились длиннее, спать в палатках было уже холодно.
Да и все дела были, в сущности, закончены. Николай Рыбалин оправдан. Тайна бронзовой птицы раскрыта. Усадьба принадлежит трудкоммуне. Обучено грамоте двенадцать человек. Пионерский отряд в деревне создан.
Последние дни ребята деятельно помогали коммунарам. Кит — тот просто не вылезал из кухни. Но все понимали, что пора уезжать.
Коммунары заново планировали сад. Из деликатности они не говорили, что палатки отряда им мешают, но ребята это отлично понимали. Конечно, можно переставить палатки на другое место, но уж если сниматься с обжитого места, то совсем.
А жалко расставаться с усадьбой, с деревней, с коммунарами…
— Вы обязательно к нам на будущий год приезжайте, — улыбаясь, говорил Николай Рыбалин. — Опять будем плотничать. Новый клуб соорудим, теплый, чтобы и зимой им пользоваться.
Ерофеев лицемерно вздыхал:
— Да уж, поработали ребята, спасибо им, помогли обществу. И невинного человека защитили.
Но глазки его смотрели подозрительно и настороженно, и никто не верил ему.
Художник-анархист объявил, что он тоже едет в Москву.
— Больше там простору для талантливого человека, — говорил он, — есть где развернуться. Театры, вывески, фасады. Вам, ребята, если что потребуется в школе оформить, то пожалуйста, с полным удовольствием.
Миша поспешил его заверить, что в их школе уже все давно оформлено.
Ребята уезжали в Москву вечерним поездом. Они уже свернули палатки, скатали одеяла, сложили вещи. Перед отъездом разожгли большой прощальный костер.
На костер пришли коммунары во главе с Борисом Сергеевичем и деревенские ребята.
Миша открыл сбор следующими словами:
— Это наш последний костер. Полагается подвести итог всему, что мы здесь сделали. Но мы будем говорить не о том, что мы сделали, а, наоборот, о том, что мы не успели сделать. Это будет полезно для тех, кто здесь остается. Кто хочет высказаться?
Первым взял слово Славка:
— Мы организовали здесь отряд. Но в него вступило всего тридцать два человека. Мало! Надо, чтобы все ребята в деревне стали пионерами.
— Плохо мы работали по ликвидации неграмотности, — сказала Зина Круглова, — обучили всего двенадцать человек. А надо, чтобы вся деревня стала грамотной.
— В деревне нет больницы, — сказал Бяшка, — приходится ходить в соседнее село. Это несправедливо. Медицина — могучее средство в борьбе с религиозными предрассудками.
— Как-то слаба у нас интернациональная связь, — объявили Игорь и Сева, — всего только два письма послали немецким пионерам. А фашизм подымает голову. Надо обратить на это самое серьезное внимание.
Когда все выступили, Миша сказал:
— Все правильно. И мы надеемся, что коммунары доделают. Лучше, чем мы.
Борис Сергеевич от имени трудкоммуны заверил, что все не доделанное ребятами будет доделано коммунарами.
— Теперь всё, — объявил Миша. — Можем отправляться.
Но Генка вдруг закричал:
— Нет, не всё! Есть еще одно недоделанное дело!
— Какое?
— Помните, Миша читал нам свои стихи. Стихи, в общем, неплохие. Но там не хватало последних двух строчек. Я их сочинил.
— Давай говори, — сказал Миша, — только поскорее.
Ему стало очень стыдно, когда Генка заговорил о стихах. Миша надеялся, что все про них давно забыли.
— Так вот, — Генка отставил назад ногу. — Так вот, последняя строфа Мишиного стихотворения начиналась так:
Борьба лишь начата, и нам передан молот, Цепями все еще опутан шар земной…И на этом обрывалось. Я предлагаю закончить так:
Но мы сильны, и дух наш молод, Вперед, товарищи, за мной! —И он выбросил руку вперед, призывая всех идти за собой.
Но такой конец ребятам не понравился.
— Почему именно за тобой? — сказали одни. — Разве ты заслужил, чтобы все шли именно за тобой?
— Смахивает на плагиат, — говорили другие. — Первая строчка содрана из песни «Мы кузнецы…». Там «дух наш молод», и здесь «дух наш молод», и рифма одна: молот — молод…
— Еще хуже, чем у меня, — сказал Миша. — Впрочем, над этими строчками поработаем в Москве. Конечно, у кого будет желание. А сейчас поторопимся, иначе опоздаем к поезду.
Борис Сергеевич предложил подводу, которая довезла бы вещи до станции.
Но ребята отвергли это предложение. Они не маменькины сынки и умеют ходить в полном походном снаряжении.
Ребята погрузили на себя свое незатейливое имущество. Отряд выстроился и зашагал к станции.
Книга III ВЫСТРЕЛ
В заключительной повести арбатский парень Миша Поляков и его друзья помогают раскрыть таинственное убийство инженера Зимина.
Глава 1
Возле пивной «Гротеск» прохаживался Витька Буров, по прозвищу Альфонс Доде. Пустые бутылки принимали во дворе пивной, и Витьке была видна вся очередь.
Замученный старичок, гномик в очках, опускал бутылки в ящик: темные — пивные, светлые — водочные, желтые — из под лимонада и ситро. Бутылки сдавал Шныра, а в очереди, которую Шныра загораживал спиной, Фургон, Паштет и Белка перекладывали бутылки из ящиков в свои сумки, собираясь продать их еще раз.
— Тридцать пять копеек, — объявил гномик Шныре, — так тебя учили в школе?
Шныра вынул кепку из кармана, нахлобучил на голову, на глаза, отошел, потом незаметно стал за Паштетом и наполнил свою кошелку бутылками из ящиков.
— Получай деньги, отнеси маме, ты хороший мальчик, — заключил гномик торг с Фургоном.
Ребятам все это казалось игрой, рискованной, но увлекательной и дающей заработок. Деньги им были нужны для поездки в Крым.
Сидя на разбитом асфальте, они сдавали выручку Витьке Бурову.
— Восемьдесят две копейки, — сказал Шныра.
— Молодец, хороший мальчик! — к удовольствию всей компании, передразнил Витька гномика. — Слушай маму!
— Пятьдесят восемь копеек, — сказал Фургон.
— Плохой мальчик, ленивый, выйди из класса!
— Девяносто три, — сказала Белка.
— Изюм — белый хлеб! — воскликнул Витька. Выше похвалы он не знал.
Они пошли по Смоленскому рынку, могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая бесстрашного вожака, который бесцеремонно всех расталкивал: «Куда прешь, не видишь — дети!» — фраза, тоже приводившая их в восторг.
Служащие в косоворотках, мануфактуристы в пиджачных парах, в галстуках и без галстуков, с бабочками и без бабочек, зеленщики в брезентовых и рыбники в кожаных фартуках, крестьяне в смазанных сапогах и крестьяне в лаптях, украинки в суконных свитках, китайцы с воздушными шарами и всякими бумажными чудесами, железнодорожники в форменных куртках, барышники, молочницы, холодные сапожники, точильщики, босяки — все это скопище людей двигалось, шумело, спорило, торговалось, пело, играло, плакало, проклинало, собиралось в толпы, растекалось по Новинскому и Смоленскому бульварам и по примыкающим к рынку переулкам.
Толстый, неповоротливый Фургон задержался около продавщицы с лотком на груди. «Моссельпром» было вышито на ее форменной фуражке золотым шнуром.
— Ириски, — доложил Фургон.
— Вывеска на голове, магазин на брюхе! — ответил Альфонс Доде.
Фургон понял, что ирисок не будет.
Суровое сердце Витьки дрогнуло только при виде рослой украинки в монистах, продававшей пряники в ларьке под вывеской: «Наталка с Киева».
Она заметила Витькин завороженный взгляд.
— Все вы дывытесь на меня, а не покупаете.
Витька кинул на прилавок деньги — широкая влюбчивая натура, — раздал всем по прянику, себе не взял, сдачу положил в нагрудный карман:
— Это крымские.
— С Крыма приехали? — осведомилась «Наталка с Киева».
— Вроде бы, — неопределенно ответил Витька.
По базару медленной уркаганской походкой шел Шаринец, хлюпик в кашне, настороженно косил рыжим глазом.
Витька напрягся, готовый к столкновению.
— Белка! — требовательно произнес Шаринец.
Белка не ответила на оклик Шаринца, вопросительно смотрела на Витьку, сильного, смелого, покупающего пряники.
Шаринец прошел, усмехаясь, как человек на рынке слишком значительный, чтобы связываться с такой мелкотой.
Но мелкота знала, что Шаринец боится Витьку, и это усиливало в них сознание своего могущества.
Глава 2
На своем дворе они тоже были хозяева. Старшие ребята их не трогали, боясь Витьку, сверстники хотели попасть в их компанию, но компании никто больше не нужен: они не могут всех взять в Крым. Они сидели в тени восьмиэтажного корпуса. Шныра и Фургон мелом рисовали на асфальте пальмы с высокой кроной, волнистое море, чаек, солнце с длинными лучами — все это должно было изображать Крым. Витька лениво поигрывал финским ножом и курил папиросы «Наша марка» — единственная трата из крымских денег, которую он себе позволял. Папиросу получил и Паштет. Шныре и Фургону дали затянуться. Шныра выказал наслаждение, которого не испытывал, Фургон закашлялся, Белке ничего не было дано — девочки не должны курить.
Идиллия была прервана появлением дворничихи с метлой.
— Весь двор разрисовали, безобразники!
Витька подкинул нож, ловко поймал за рукоятку.
— Ох, Витька, доиграешься, не миновать тебе тюрьмы. Тебя не жалко, мамашу твою жалко.
Витька симпатично улыбнулся, отчего финка в его руках стала выглядеть несколько зловеще.
На четвертом этаже открылось окно. Валентин Валентинович Навроцкий провел ладонью по подоконнику — чисто ли? Он был в светлом шевиотовом костюме. К окну подошел Юра — его больше не дразнили скаутом, но выглядел он высокомернее, чем прежде: долговязый, в бархатной толстовке, с белым бантом.
— Витька Буров, он же Альфонс Доде, гроза Арбата, — объяснил Юра, — и его банда: Шныра, Паштет, Белка и Фургон. Паштет и Белка — бывшие беспризорные, а сейчас безнадзорные. В чем разница — не знаю.
— Какой действительно толстый мальчик Фургон, — согласился Валентин Валентинович, — перекормлен.
— Его настоящее имя Андрей, фамилия Зимин, отец — инженер на фабрике.
— Сын инженера в такой компании?! А почему Альфонс Доде?
— Может быть, он чем то напоминает Тартарена из Тараскона? Навряд ли… Почему, например, Паштет? Он паштета в глаза не видел. Все потенциальные уголовники начинают с кличек.
Во дворе появился Шаринец, уселся на скамейке у подъезда, ухмыляясь поглядывал на Витькину компанию.
— А это настоящий уголовник, профессиональный карманник, — сказал Юра.
— Карманник не самая видная, но вполне достойная воровская специальность, — смеясь, заметил Валентин Валентинович.
— Конкурент Витьки за влияние во дворе.
Подтверждая эти слова, Витька, демонстрируя свою власть, приказал:
— Фургон, скажи стих!
— Какой?
— Про хорошего человека.
Фургон ударил себя в грудь:
Рожа брита, Грудь открыта, Брюки клеш, Даешь — берешь!— Хороший стих, — похвалил Витька. — А еще знаешь?
— Про что?
— Про хорошего человека.
— Про хорошего человека больше не знаю, — признался Фургон.
— Фургон! — окликнул его Шаринец.
— Чего?
— Подойди!
Фургон сделал неуверенное движение в сторону Шаринца, но его остановил грозный Витькин оклик:
— Стой!
Фургон остановился.
— Зачем пошел?
— Так ведь он позвал.
Двумя пальцами Витька зажал Фургону нос.
— Брось, Витька! — неодобрительно заметил Шныра.
Фургон мотал головой, пытаясь вырваться.
— В другой раз оторву и голову, — пообещал Витька и сильно дернул рукой вниз.
Фургон освободился от железной Витькиной хватки, но ощущение было такое, будто у него оторвали нос, и Фургон не сумел сдержать слез.
Витькина власть была доказана действием и огорожена от посягательств Шаринца. Но когда Витька наказывал Фургона, во дворе появился Миша Поляков, по прежнему в кожаной куртке, из которой он порядочно вырос; под ней на рубашке виднелся комсомольский значок КИМ.
— За что ты его?
Витька лениво поднялся, поиграл финкой.
— Твое дело?
Юра дал справку:
— Миша Поляков, комсомольский активист… Как это там у них называется… Секретарь ячейки или председатель учкома — я в этом плохо разбираюсь.
— Сильный, видно, парень, — заметил Валентин Валентинович.
— Витька сильнее.
— Сильнее тот, кто смелее.
— Миша смелый только на собраниях, — сказал Юра.
Витька играл финкой:
— Ну что? Милицию позовешь? Беги зови, а то не успеешь. Арцы — и в воду концы!
«Арцы — и в воду концы» означало у Витьки высшую степень угрозы.
— Убери нож!
— Наверно…
Неожиданным ударом Миша вышиб финку из Витькиной руки и наступил на нее ногой. Витька бросился на Мишу, они сцепились, не давая один другому дотянуться до ножа.
Нож поднял Саша Панкратов, во дворе его называли Сашка Фасон, не потому, что фасонил, а потому, что был красив: черноволосый мальчик с красным пионерским галстуком. Было ясно, что финку он Бурову не отдаст.
Подошли мужчины, растащили дерущихся. Витька пытался вырваться, но его держали крепко. Из окон выглядывали жильцы, во дворе собиралась толпа. Выбежала мать Фургона — Ольга Дмитриевна Зимина, миловидная женщина с нежным лицом.
— Андрюша! Что он с тобой сделал? Нож! Когда это прекратится наконец?
Появление милиционера привлекло еще больше зрителей.
Милиционер забрал у Саши финку.
— Чей нож?
Все молчали, подчиняясь законам двора: подраться — одно, выдать — другое.
— Твой? — спросил милиционер у Витьки.
— Пусть ребята скажут, — ответил Витька.
Белка показала на Мишу:
— Его финка, он хотел Витьку порезать.
— Не ври! — крикнул Саша Панкратов. — Витькин нож. Скажи, Фургон, скажи, Шныра, чей нож?
Шныра и Фургон молчали.
— Какие, однако, мерзавцы! — возмутился Валентин Валентинович и встал с подоконника.
— Плевать! Пусть сами разбираются, — сказал Юра.
— Ну знаешь… Я тебя не понимаю!
Валентин Валентинович свесился из окна:
— Товарищ! Я все видел, сейчас спущусь.
Через минуту он стоял во дворе, спокойный, внушающий доверие, показал на Витьку:
— Нож его, он им играл, довольно неосторожно, кстати. И мучил мальчика. А этот молодой человек, — он протянул тонкий палец в сторону Миши, — вступился… — Он повернулся к Зиминой: — Если не ошибаюсь, за вашего сына.
— Да, — сказала Ольга Дмитриевна. — Витя! Ведь ты уже большой… Разве Андрей тебе товарищ?
— Что скажешь? — спросил милиционер у Витьки.
Витька молчал, злобно посматривая на Мишу.
— Нехорошо, девочка, лгать, некрасиво, — сказал Валентин Валентинович Белке.
Милиционер опустил нож в сумку.
— Разберемся, пошли!
И вместе с Витькой направился к воротам.
— Благодарю вас, — сказала Ольга Дмитриевна Валентину Валентиновичу.
— Мадам… Гражданка… Я просто сказал правду.
Глава 3
Валентин Валентинович вернулся к себе, на четвертый этаж.
— Дорогой мой, — сказал Юре, — ты оказался не на высоте. Ты побаиваешься Альфонса Доде? Кстати, кличка ему не подходит.
— Я его не боюсь, — вспыхнул Юра, — но Миша ненавидит меня, как буржуя; если бы я вмешался, он бы расценил это как подлизывание. Не беспокойтесь за него: он не нуждался ни в вашей защите, ни в моей.
— Правду надо защищать всюду, всегда и везде. — Валентин Валентинович уселся в кресле и закурил тонкую папиросу. — Что касается Альфонса, то он кончит тюрьмой. Околачивается во дворе с финкой, взрослый парень!
— А куда ему идти? В комсомол? Зевать на собраниях?
— Ты тоже не комсомолец.
— И что меня ждет? В институт не примут: не рабочий, не сын рабочего.
— Принимают и не рабочих. Твой отец — врач, поступай в медицинский.
— Ковыряться в чужом сопливом носу?
— Что же тебя привлекает? — в свою очередь спросил Валентин Валентинович.
— Кино.
— Есть способности?
— В кино нужна прежде всего внешность.
Валентин Валентинович оценивающим взглядом посмотрел на Юру:
— Внешность у тебя есть.
— Один кинорежиссер, папин пациент, обещал взять меня на съемки.
— Прекрасно! Будешь советским Рудольфе Валентине или Дугласом Фербенксом.
— Он начнет снимать новую картину через год, — огорченно проговорил Юра. — Что я буду делать после школы? На фабрику?
— Кстати, почему ваша школа так связана с фабрикой?
— Проходим производственную практику — два дня в неделю, получаем «трудовое» воспитание, даже пишем дипломные работы, почти как в вузе. Из нас готовят нечто вроде статистиков. Такая скучища!
— Напрасно пренебрегаешь этим, — сказал Валентин Валентинович, — другие после школы идут на биржу труда или в чернорабочие. А ты сразу получаешь специальность.
— Мне нужна независимость.
— Профессия актера тебе ее даст?
— До известной степени.
— Заблуждаешься. Независимость дается только этими…
Валентин Валентинович пошевелил пальцами, как бы перебирая монеты.
— Но где их взять?
Валентин Валентинович погасил папиросу в пепельнице, прошелся по комнате, чистой, пустоватой, с фотографиями лошадей на стенах.
— Надо начинать с небольшого. Кто я такой? Уполномоченный общества «Друг детей». Раньше я распространял лотерейные билеты, открытки, значки, поднимался по лестницам, стучался в двери, несознательные гражданки захлопывали их перед моим носом. Все же мне удавалось кое кого убедить. Заметь, какую гуманную роль я выполнял: помогал несчастным, голодным крошкам и пробуждал в людях сострадание. Теперь заготовляю мануфактуру для наших предприятий, прибыль от них идет опять же на помощь беспризорным детям. Раз в месяц получаю свои проценты. Рокфеллер имеет больше, но я сыт, одет, обут. — Он вытянул ногу и показал лакированный ботинок «джимми». — Делаю свои деньги и думаю, как бы сделать их больше.
— На лотерейных билетах? На отгрузке мануфактуры?
— Друг мой! Деньги делаются на всем. Нэп! Папиросы «Ира» не все, что осталось от старого мира. Шевели извилиной, как пишут в журнале «Смехач». Жизнь с ходу дает тебе шанс — не упускай его. Приживись на фабрике. Получится с режиссером — уйдешь в Дугласы Фербенксы. Не получится — заработаешь производственный стаж и поступишь в вуз. Кстати, какая у тебя тема?
— Учет на складе, — произнес Юра с отвращением.
— Прекрасная тема! — воскликнул Валентин Валентинович. — На складе ты станешь деловым человеком, изучишь ткани. Актуальнейшая проблема! За десять лет люди пообносились, рынок требует маты…
— Маты? Что это такое? — спросил Юра.
— Мата — мануфактура на языке контрабандистов, этим термином пользуются и коммерсанты, — объяснил Валентин Валентинович. — Какие названия! Амарант, бельфанс, туаль д эте, канбера, виоламакмино… Из за одних названий я бы пошел работать на склад, честное слово!
— Вы говорите о фабрике с таким же энтузиазмом, как Миша Поляков на школьных собраниях о мировой революции, — усмехнулся Юра.
— Ну что ж, из всех, кого я видел сегодня, Миша Поляков понравился мне больше всех.
— Вы его мало знаете, — нахмурился Юра.
Глава 4
Следующий день был «фабричный», — ребята проходили производственную практику. С блокнотом и карандашом Миша стоял на фабричном дворе у железнодорожной ветки. Грузчики носили в вагоны тюки с мануфактурой.
Подошел Валентин Валентинович.
— Что вы делаете, Миша? — После вчерашнего происшествия он держался с ним как с добрым приятелем.
Миша показал на блокнот.
— Записываю, куда отправляется товар.
— Это имеет отношение к вашей дипломной работе?
— Да. «Транспортировка готовой продукции».
— Великолепно! Можете записать мою отправку. — Валентин Валентинович показал на пустой вагон в тупике. — Станция назначения — Батум, получатель — швейная фабрика общества «Друг детей».
— Запишу, когда погрузят, очередь дойдет не скоро.
— Ужасно долго все это продолжается, — подхватил Валентин Валентинович, — и я вам скажу почему: задерживают ломовые извозчики. Анахронизм. За границей господствует автомобиль.
У ворот склада стояли ломовые лошади с мохнатыми ногами. Возчики складывали тюки на полки, покрывали брезентом, увязывали веревками, затягивали ломиками.
В складе было тесно, но рабочие ловко маневрировали тележками, сбрасывая тюки, куда им показывал кладовщик Панфилов. За маленьким столиком Юра выписывал накладные.
Вошел Красавцев, заведующий сбытом, толстяк с опухшим лицом, что то сказал Панфилову и вышел.
— Представитель деткомиссии, гражданин Навроцкий! — крикнул Панфилов, появляясь в воротах склада.
Валентин Валентинович оглянулся.
— Меня кличут… Иду!
Он отправился в склад и тут же вернулся, весело сообщив Мише:
— Сейчас будут грузиться!
Показал грузчикам пустой вагон в тупике:
— А ну, ребята, подвинем, по чекушке на брата!
Сказал что то машинисту и сцепщику и направился к пустому вагону, на ходу бросив Мише:
— Поможем, Миша!
Мише понравилась его веселая лихость, и он помог грузчикам подтолкнуть вагон к составу.
Лязгнули буфера, сцепщик накинул сцеп, Валентин Валентинович оттянул дверь вагона, она мягко покатилась на роликах, грузчики установили трап, начали таскать тюки.
Стоя в вагоне, Валентин Валентинович уверенно распоряжался:
— Быстро, ребята, шаг назад, два вперед, тюк на тюк, товара как раз на вагон. Плохо уложим — придется перекладывать.
Он соскочил с вагона и пошел в склад.
— Накладная готова?
— Готова, — ответил Юра.
— Молодец!
Прижимая книгу линейкой, Юра оторвал и передал ему накладную.
Валентин Валентинович посмотрел на состав (сцепщик закрывал и опломбировывал вагон), кивнул Юре и Панфилову: «До новых встреч!» — и через боковую дверь вышел на улицу.
Машинист дал гудок, состав тронулся и вытянулся из ворот фабрики. Миша записал вагон Валентина Валентиновича.
И как только ворота за ушедшим составом закрылись, в склад вошел инженер Николай Львович Зимин. Был он гладко выбрит, в хорошо отутюженном костюме, держался очень прямо. За глаза его звали «барин»
— слово в то время уже не оскорбительное, а насмешливое. Оно было незаслуженно и заставляло Николая Львовича держаться еще прямее, говорить еще спокойнее.
— Где бракованная партия? — спросил он у кладовщика Панфилова.
— Какая, Николай Львович? — переспросил Панфилов.
— Для деткомиссии… Я велел Красавцеву ее задержать. Передал он вам мое распоряжение?
— Правильно, приказали… Так ведь транспорт уже погрузили, не разгружать же было, Николай Львович.
— Интересно… — недовольно произнес Зимин и удалился.
Миша хорошо помнил: Красавцев приходил на склад до того, как вагон Валентина Валентиновича погрузили. Красавцев что то сказал Панфилову, и после этого вагон Валентина Валентиновича молниеносно погрузили и отправили. Что же приказал Красавцев? Задержать вагон или, наоборот, побыстрее отправить его?
— Юра, ты не слыхал, что Красавцев сказал Панфилову? — спросил Миша.
— Нет.
— Он велел задержать вагон или, наоборот, отправить?
— Не знаю.
— Ты был рядом.
— Я не прислушиваюсь к чужим разговорам.
— Товарищ Панфилов! — сказал Миша. — А ведь Красавцев приходил до того, как был погружен вагон деткомиссии.
Панфилов скосился на него из под железных очков.
— Ну и что?
— А вы сказали товарищу Зимину, что вагон уже был погружен.
— Ну, сказал.
— Вы сказали неправду.
По суровому лицу Панфилова, по его косому взгляду можно было предположить, что он пошлет Мишу ко всем чертям. Однако он этого не сделал: хорошо знал этих молодых товарищей, от них никому нет проходу, им до всего есть дело, и лучше с ними не связываться.
— Товарищу Зимину легко отдавать приказы, только он ведь не у Бутиковых работает, — желчно возразил Панфилов.
— При чем тут Бутиковы? — удивился Миша.
— При том… «Задержи, посмотрю, погляжу»!.. А за простой вагонов полагается штраф, деньги порядочные, кто будет платить? Фабрика? Государство?
— Зимин хотел как хуже?
— Не сказал я этого, только не коммерческий он человек. Хочешь брак выяснить? В цеху выясняй, а не на складе, когда товар упакован, клиент ждет, и вагоны поданы.
В объяснениях Панфилова была логика, но упоминание бывших хозяев фабрики Бутиковых было намеком на то, что Зимин служил здесь еще при фабрикантах, намеком на старорежимность Зимина, попыткой опорочить его, представить социально чуждым. Миша почувствовал фальшь.
— А все же что приказал Красавцев: задержать или отправить вагон?
— Об этом у Красавцева спроси! — с раздражением ответил Панфилов. — Не Зимин, не Красавцев отвечают за отправку, я отвечаю. А мне товар некуда складировать, сам видишь. — Он обвел рукой загроможденное тюками помещение склада. — Паны, понимаешь, дерутся, а у холопов чубы трещат. Нет, извините, спасибо.
Глава 5
Вечером Миша пошел в ресторан «Эрмитаж», к Славке. Бульвары Садового кольца были пустынны, редкие фонари тускло светили на углах центральных улиц.
Славкина мать ушла к другому человеку. Славка остался с отцом, бросил школу, играет по вечерам в оркестре ресторана «Эрмитаж», зарабатывает на жизнь: Константин Алексеевич болеет, не работает, опустился. Миша поражался такой слабости. Если женщина ушла от мужа, порядочного и достойного человека, бросила сына, ее можно только презирать. Конечно, любовь, страсть и так далее, и все же долг выше всего.
В ресторан Миша вошел со двора, мимо кухни, мимо снующих по узкому коридору официантов с подносами. Все бежали, торопились, никому не было дела до Миши, и он благополучно достиг маленькой комнаты, отделенной от эстрады тяжелой занавеской.
Рядом гремел оркестр. Миша чуть раздвинул занавеску и увидел ресторанный зал. За столиками, покрытыми белоснежными скатертями, сидели разодетые женщины, мужчины, очень важные, будто занятые настоящим делом. А все их дело тут — пить, есть, хохотать, как будто им очень весело. Спасаются от забот и тревог жизни нэпманы, спекулянты и растратчики, берут реванш за свое унижение в том, другом мире, где их ограничивают, допекают налогами. Здесь они господа, реализуют свое богатство, швыряют деньгами, перед ними предупредительно склоняются официанты. Безусловно, нэп необходим для восстановления страны, здесь его оборотная сторона, приходится с этим мириться, но люди эти отвратительны. Во имя чего они живут?
Оркестр смолк, музыканты оставались на своих местах. Сидя за роялем, Славка разговаривал с контрабасистом, пожилым человеком в серо голубом костюме с бабочкой.
Потом на эстраду вышли чечеточники в черных фраках, белых манишках, черных цилиндрах и черных лакированных туфлях. Оркестр грянул бравурную мелодию, чечеточники отбивали чечетку, фалды их фраков развевались, они здорово молотили штиблетами и пели куплеты…
Два червонца, три червонца или сразу пять, За червонцы, за червонцы можно все достать…Глупейшие куплеты о червонцах, о том, что именно можно достать за червонцы, идиотский гимн червонцу. Никто не обращает на чечеточников внимания, хотя они стараются вовсю, жаль их, и Славку жаль, и других музыкантов, обязанных развлекать эту шушеру.
Чечеточники удалились. Музыканты поднялись со своих мест, пустились в комнату за эстрадой…
— Мне еще отделение играть, — предупредил Славка.
— Подожду, — ответил Миша.
Он стоял у занавески и поглядывал в зал.
— Ну и физии!
— Эти физии дают пищу для некоторых размышлений, — сказал Слава.
— Каких именно?
— Могли мы с тобой два года назад думать, что появится все это?.. Новые хозяева жизни.
— Точнее, хозяева своих денег.
— Зато каких денег! Сейчас я тебе покажу некоторых представителей современного капитала. Только не слишком на них пялься и не тыкай пальцем.
— Постараюсь, — рассмеялся Миша.
— Справа, за вторым столиком, к нам лицом, видишь: коротенький пузанок с пышной шевелюрой?
— Вижу.
— Этот пузанок стоит сорок тысяч.
— Как в Америке, — усмехнулся Миша. — Мистер Смит стоит сорок миллионов долларов.
— Вот именно. Пузанок зарабатывает сорок тысяч в год, а он всего лишь представитель Харьковского государственного кондитерского треста. Заметь, государственного! Разве у нас так много кондитерских изделий? Их не покупают? Нет, их покупают, расхватывают и без этого прыщика. Но этот прыщик получает десять процентов за реализацию — это как раз сорок тысяч — и делится с начальством.
— Смотри, — сказал Миша, — рядом с ним Красавцев.
— Кто это Красавцев?
— Начальник сбыта фабрики, где мы проходим производственную практику.
— Возможно, но тоже, безусловно, взяточник.
Мишу огорчил желчный тон Славки.
— Разве мы с этим не боремся?
— Допустим, — не стал спорить Славка. — Теперь следующий столик, видишь, черноусый джигит? Стоит тридцать тысяч, представитель Азиарыбы, рекламирует селедку, а чего ее рекламировать? Знаешь такой город Ачинск?
— В Сибири?
— Точно. Не на всякой карте найдешь. Есть там малюсенький магазинчик, торгует лаптями, дегтем, веревками, гвоздями, косами, серпами. Где же эта лавчонка себя рекламирует? Не угадаешь. В парижских газетах. И за рекламу плачено золотом. Вот так!
— Представляю себе ликование парижан, — засмеялся Миша. — Анекдот, наверно?
— Анекдот? Почитай «Крокодил». Смотри дальше: Иван Поддубный, так он не Иван Поддубный, а фирма «Дешевое платье». Рядом два джентльмена в галифе «Изящное платье»… А там дальше, в косоворотках и пиджаках, это так называемые кооперативы, артели, конечно, липовые, но вывески… Вывески самые идейные… «Свой труд» семгу изволит кушать, «Коллективный труд» пьет шампанское. Труд, труд, труд… Удобное слово!..
— Слушай, — перебил его Миша, вглядываясь в глубь зала, — там, в углу, не Юра с Людой Зиминой?
— Они.
— Я знаю человека, с которым они сидят, — Валентин Валентинович Навроцкий.
— Я его тоже знаю, с некоторых пор он живет в нашем доме.
— И они часто здесь бывают?
— Люду я здесь вижу впервые, Юра бывает, Навроцкий наш постоянный гость.
— И сколько он стоит?
— Не знаю, фигура загадочная.
— Это всего лишь агент заготовитель деткомиссии.
— Это ничего не значит, у всех здесь скромные титулы: агент, уполномоченный, владелец магазина или ларька, кассиры — как правило, растратчики — гуляют перед посадкой. Тут много чего насмотришься. Изнанка общества.
— Не изнанка, а отбросы.
— Можно сказать и так, — опять не стал спорить Славка.
— Пошли! — сказал виолончелист, поднимаясь на эстраду.
— Подождешь? — спросил Славка.
— Подожду, — ответил Миша.
Заиграл оркестр.
Юра и Люда поднялись и смешались с толпой танцующих.
Навроцкий вынул из кармана пиджака конверт, положил на стол, прикрыл карточкой меню, щелкнул затвором портсигара, размял папиросу, закурил, бросил спичку в пепельницу, откинулся на спинку кресла, глубоко затянулся и даже не повернул головы, когда к столику подсел Красавцев.
Навроцкий придвинул ему портсигар, приподнял карточку меню. Красавцев достал папиросу, вынул из под меню конверт, опустил в карман.
— Здесь вся сумма?
— Можете не пересчитывать. Когда я получу следующую партию?
На помятом, красном от водки лице Красавцева появилось обычное для взяточника выражение неприступности.
— Через неделю, не раньше, и без скидки на брак и третий сорт.
— Почему?
— Зимин собирается лично проверить брак и сорт, беспокоится, что его слишком много.
— С ним нельзя поладить?
— Из старых спецов, трусит. Хотел задержать вашу партию, но я успел ее отправить.
— Я успел ее отправить, — хладнокровно возразил Навроцкий.
Красавцев покосился на него.
— Если бы я не предупредил Панфилова…
Навроцкий перебил его:
— Если бы я не успел за полчаса погрузиться, вы бы попались на фиктивном браке и пошли под суд.
Красавцев опять покосился на него — пижона следует осадить.
— Зимин требует документы по вашей отправке.
— Пожалуйста, документы в порядке, — ответил Валентин Валентинович.
— Если в них особенно не ковыряться.
— Документы в полном порядке, — повторил Валентин Валентинович. — Можете спокойно их передать. Пусть изучает. Даже у себя дома. Вот именно, пусть возьмет домой и тщательно ознакомится.
Оркестр смолк.
— Значит, договорились? — Навроцкий давал понять, что Красавцев может удалиться.
Вставая, Красавцев ухмыльнулся:
— Вы здесь с дочкой Зимина, если не ошибаюсь?
— Не ошибаетесь. Можете спокойно передать документы Зимину в личное пользование.
Вернулись Юра и Люда. Люда села, оправила платье, осмотрелась.
— Ну как? — спросил Валентин Валентинович.
— Прекрасно!
Люда впервые в ресторане. Когда она шла сюда, волновалась, смущалась, ей казалось, что она прикоснется к опасной, запретной, но заманчивой стороне жизни. Папа и мама будут огорчены, узнав, что она была здесь, но она хотела посмотреть, хотела знать, что это такое, узнала, посмотрела и, может быть, больше не придет сюда. Ничего особенного — пьют, едят, танцуют. Пьют и едят очень вкусно, вкуснее, чем дома, и совсем иначе. Она так честно и скажет: хотела посмотреть — посмотрела; папе и маме всегда важно понять мотивы, она им объяснит мотивы: было интересно посмотреть. Правда, ей приятно, что и на нее смотрят. Дома существовала эта тема — Люда кокетка, ее за это высмеивали, папа часто говорил: «Люда опять смотрится в самовар». В конце концов, у каждого есть и должны быть недостатки. В общем, Люда мысленно договорилась сама с собой, мысленно договорилась с родителями.
— У вас знакомые в оркестре? — спросил Валентин Валентинович.
— Мальчик из нашего дома, Славка Эльдаров. Очень талантливый.
— Не без дарования, — снисходительно согласился Юра.
— Нет, очень талантливый! — возразила Люда. — Но у них дома неприятности, родители разошлись, и он вынужден играть в ресторане.
— Это пойдет ему на пользу, — сказал Валентин Валентинович.
— Да? Почему? — спросила Люда.
— Трудно объяснить… На ум приходят банальные слова: невзгоды закаляют, характер вырабатывается в горниле испытаний и тому подобное. Но в этих стертых выражениях заложены никогда не стареющие истины.
— Итак, да здравствуют сложности! — провозгласил Юра. — А если их нет?
— Их не может не быть, — ответил Валентин Валентинович.
— Почему вы не танцуете? — спросила Люда.
— Не умею.
— Фокстрот — это очень просто.
— Мне поздно учиться.
— Вам? Вы себя считаете стариком?
Валентин Валентинович улыбнулся:
— Скажите лучше, как вам работается на фабрике?
— Стою с хронометром, очень стараюсь, тем более что я дочь инженера, но работницы на меня косятся: я им, по видимому, не нравлюсь.
— Всюду рабочие не любят хронометражистов, — сказал Валентин Валентинович, — а то, что вы дочь инженера… Разве вашего отца на фабрике не уважают? Ведь он крупный специалист.
— Вот именно специалист, — подхватил Юра, — буржуазный спец, учился в Англии, служил на фабрике еще до революции, у хозяев капиталистов, и, значит, сам капиталист. А Люда — дочь буржуазного спеца. У нас обожают наклеивать ярлыки: интеллигент, спец… Я, например, упадочник, у меня, видите ли, упадочные настроения. Почему, отчего — никто не знает, и что значит упадочные, тоже никто толком не знает. Представляю, что бы творилось, если бы узнали, что мы сидим в ресторане, да еще танцуем фокстрот и чарльстон. Нас бы объявили белогвардейцами.
— Вот видишь, — засмеялся Валентин Валентинович, — а ты говоришь, что у тебя нет сложностей.
Глава 6
Когда Юра, Люда и Валентин Валентинович подошли к дому, они увидели Витьку Бурова. Он стоял в калитке, вырезанной в воротах, в своей обычной ленивой позе, загораживая проход и не проявляя намерения сдвинуться с места.
Юра оказался позади Валентина Валентиновича. Впрочем, у него все всегда получалось естественно, а значит, и достойно.
— Молодой человек, — холодно произнес Валентин Валентинович, — будьте добры посторониться.
— Места вам мало? — Витька продолжал загораживать калитку широкими плечами.
— Витя, перестань! — поморщилась Люда. Она не боялась Витьки.
— Или вы посторонитесь, или я помогу вам это сделать, — сказал Валентин Валентинович.
Витька лениво подвинулся.
— Чешите, не вы мне сейчас нужны.
— Так будет, пожалуй, разумнее, — оставил за собой последнее слово Валентин Валентинович.
Во дворе, на скамейке, виднелась еще одна фигура — Шаринец.
— Мне сюда, спокойной ночи! — Юра вошел в свой подъезд, оставив Валентина Валентиновича один на один с Витькой и Шаринцом.
Прощаясь с Навроцким, Люда сказала:
— Витька опять к вам привяжется.
— Переживу как нибудь, — улыбнулся Валентин Валентинович. — Вы довольны сегодняшним вечером?
— Очень.
— Я рад, что Юра нас познакомил, — сказал Валентин Валентинович.
— Да, спасибо ему.
— Ваши уже, наверно, спят.
— У меня свои ключи.
Навроцкий скользнул взглядом по ключам, которые она вынула из сумочки.
— Ну что ж, спокойной ночи, привет вашей очаровательной матушке.
Люда поднялась по лестнице, осторожно повернула ключ в замке, открыла, потом тихо закрыла дверь, сняла туфли, в одних чулках прошла по темному коридору, вошла в свою комнату…
Послышались шаги, и вслед за ней в комнату вошел Николай Львович.
— Ты не спишь, папочка?
— Ты тоже не спишь.
— Сказать тебе, где я была?
— Пожалуйста.
— В ресторане… Да, да представь себе… И мне там понравилось: музыка, танцы… Но если ты не хочешь, то больше не пойду, обещаю.
— Ничего страшного в ресторанах нет… Но мне кажется, туда ходят одни спекулянты. И, может быть, тебе еще несколько рановато… Впрочем, если ты захочешь ходить, никто тебя не удержит…
— Нет, папочка, я тебе сказала: если ты не хочешь этого, я больше ни разу не пойду.
— Но ведь ты пошла, захотела и пошла, и нам ничего не сказала… Конечно, потом призналась, так сказать, постфактум, и на том спасибо, не стала ничего выдумывать и придумывать, это очень хорошо… Но ведь мы не знали, где ты.
— Ты не ложился из за меня? И мама?
— Ты спрашиваешь об этом?
— Я думала, что вы… Я понимала, что огорчу вас… Но если бы я знала, что вы не спите из за меня…
Вошла Ольга Дмитриевна.
— Доченька, господи, как я волновалась, чего я не передумала! Ну, слава богу, ты дома! Я уже одевалась, чтобы пойти тебя искать!
В халате, розовая, румяная, Ольга Дмитриевна выглядела свежо, моложаво, казалась не матерью, а старшей сестрой Люды — такое же нежное лицо, такие же каштановые кудряшки, такие же тонкие стрелочки бровей и зеленоватые глаза.
— Ну, мама, — только вздохнула Люда, — я не понимаю, чего ты боялась?
Ольга Дмитриевна смешалась при этом вопросе, Люда поняла ее смущение и, выручая мать, сказала:
— Я ведь не маленькая, и я никого не боюсь — ни бандитов, ни жуликов.
— А я боюсь, — подхватила Ольга Дмитриевна, — боюсь нашего двора, боюсь Витьку Бурова. Он бандит.
— Мы, кстати, как раз его встретили, он вел себя, как паинька.
— Ну да, потому, что его проучили… Но не в нем дело… Где ты была?
— Мамочка, я уже сказала папе…
— Да, я информирован, — заметил Николай Львович.
— Но обещай мне, — продолжала Люда, — что не будешь сердиться и ругать меня. Обещаешь? Ну, так вот, я была в ресторане, была с Юрой и с его приятелем Валентином Валентиновичем, ты его знаешь — это тот молодой человек, который тогда во дворе вступился за Андрея и за Мишу Полякова, помнишь?
Ольга Дмитриевна бросила быстрый, тревожный взгляд на мужа, ее нежное лицо порозовело. В их семье не было ссор и скандалов, но сейчас ей показалось, что Николай Львович недоволен, разочарован, огорчен. Решив, что она должна все сделать сама, сказала суховато:
— О Юре мне нечего сказать, его мы знаем десять лет, и от этого он не становится лучше, но этот молодой человек… Валентин Валентинович… Конечно, он вел себя тогда, с Андреем, вполне достойно, но этого слишком мало, чтобы судить о нем…
— А что, собственно говоря, надо судить? — спросила Люда.
— Я хочу сказать, что мы его совершенно не знаем.
— Но пойми, мамочка, я ведь не могу знакомиться только с твоими или с папиными друзьями.
— Это верно, — согласилась Ольга Дмитриевна, — но ты только познакомилась с ним и сразу приняла приглашение пойти в ресторан. Ведь с кем попало не ходят в ресторан, правда? Это к чему то обязывает. Пойти в ресторан с почти незнакомым человеком…
— Я пошла не с ним, а с Юрой, — сказала Люда, признавая в душе некоторую правоту матери.
— Речь, по видимому, идет о молодом человеке, получающем мануфактуру на нашей фабрике, — сказал Николай Львович.
— Да…
— Мне он не нравится, — сказал Николай Львович. — Ты знаешь, я редко так определенно говорю о людях, о нем я говорю определенно: не нравится.
Люда посмотрела на отца, свела тонкие брови, опустила голову:
— Странно… Впрочем, если ты не хочешь, чтобы я с ним встречалась…
— Встречаться или нет — дело твое; я просто высказал свое мнение.
Люда продолжала:
— Мне совершенно неважен и безразличен Валентин Валентинович… Но я не понимаю, что происходит, почему этому придается такое значение… Честное слово, нет ничего особенного… Но когда запрещают — это ужасно…
— Я не запрещаю, — запротестовал Николай Львович, — я сказал: мне он не нравится, учти это, приглядись к нему внимательнее…
Она засмеялась:
— Но чтобы приглядеться, надо встречаться… Папочка, мамуля, милые, все это такая ерунда, ей богу! Не беспокойтесь ни о чем… Ну, сходила в ресторан, посмотрела, потанцевала с Юрой, попробовала их еду…
— Ну и как? — спросила Ольга Дмитриевна.
— Вкусно… Очень… Но твои блинчики вкуснее, — добавила она великодушно.
Люда долго не могла заснуть, перебирала в памяти этот вечер, возвращение, сцену во дворе и приход домой. За ресторан она себя не ругала. Ей хотелось там побывать, это правда. Она пошла туда с Юрой, которого знает сто пятьдесят лет. Юру беспокоит, что будут говорить о них в школе, а ей наплевать, она ничего такого антиобщественного не сделала и не делает, даже наоборот, хочет быть как все, но у нее ничего не получается, ее считают за чужую, а почему? Одевается не так, дочь инженера. Ну, и она не набивается, не вешать же ей на груди плакат: «Хочу быть как все!» И Юра тоже не такой уж плохой, как его школьная репутация; никакой он не упадочник; его беда — хочет выделяться, а выделяться ему, между прочим, нечем. И если говорить честно, то Юра — трус. Это главное. Из за этого она испытывает к нему презрение, из за этого он ей никогда не нравился. Напрасно девчонки чего то там намекали — это все смешно. Единственный, кто ей по настоящему нравился, вернее, мог бы понравиться, если бы и она ему нравилась, — это Миша Поляков. Он прямая противоположность Юре, но он на нее ноль внимания, фунт презрения. И этот фунт презрения совершенно незаслуженный. Просто у Миши такой характер, он никого в отдельности не замечает, они для него масса. Но она не масса. Во всяком случае, не для него…
Теперь насчет Валентина Валентиновича. У него довольно красивое лицо, в рассуждениях что то значительное, даже загадочно значительное. Но он носит лаковые ботинки, и это о многом говорит. И то, что у него такие деньги, он их так небрежно тратит в ресторане — тоже не в его пользу; у них в семье и у их знакомых таких денег нет, хотя люди вполне достойные. Но может быть, это он позволяет себе не так часто, и угощал он их от души, это ему было приятно. Немного старомодно, правда, этакое гусарство: мол, прогуливаю последнее… И он смелый по настоящему, не притворяется; Витьку Бурова не испугался ни в этот раз, ни в тот, и это тоже очко в его пользу…
Нет, родители неправы. Конечно, понять их можно. Боятся, что случится то самое. Но напрасно боятся; то самое может случиться, но только с любимым человеком, а она никого не любит, могла бы, может быть, полюбить Мишу Полякова.
Мама — потрясающая трусиха, даже очаровательна, потому что никогда не притворяется. Иногда Люде кажется, что не она ее дочка, а мама ее дочка… Она всего боится, это у нее с тех времен: боялась домкома, боялась, что их уплотнят, отберут комнату, боялась за папу, боялась, что нечем будет накормить семью, а потом, когда появилась мука и все появилось, мама стала перекармливать их, особенно Андрюшку, стала жарить блинчики.
И все же с родителями ей повезло, она понимает и ценит это. Просто она стала видеть больше, чем видит мама, и саму маму видит и папу, как он, например, старается не уронить свой авторитет в семье, напускает на себя хмурый, недоступный вид, прячет свою доброту потрясающую; мама это, наверно, понимает; папа на пьедестале, власть законодательная, а мама власть исполнительная. И сегодня разыгрывала эту роль… Ах, как она их любит… И не будет огорчать, хотя и видит, что вступила с ними сегодня в неразрешимое противоречие… Подумать только, они пытаются решить, с кем ей встречаться, с кем нет, — они, такие неисправимые, доверчивые романтики…
Родители Люды тоже не спали. Это был не первый случай, когда Люда поздно приходила домой, но она всегда предупреждала, они знали, где она. В этот раз она как то незаметно ушла из дома, ничего не сказала, не хотела лгать, но и правды не хотела говорить. Уж одно это их встревожило… И не случайно. Ресторан… Франт в лакированных штиблетах… Впрочем, как познакомились они сами? На даче, в Лианозове, тоже случайно, на любительском спектакле…
— Уверяю тебя, — говорила Ольга Дмитриевна, — она взрослая дочь, мы уже ничего не можем ей запретить. Надо воспользоваться тем, что мы пока еще вправе что то ей разрешать.
— Это логично, — согласился Николай Львович, — надо спасать то, что еще можно спасти.
— Нечего спасать, милый, уверяю тебя, это все такое молодое, детское!.. Я только против ресторанов. Молодой человек должен приходить в дом, бывать в доме. Только так мы можем как то влиять на Люду, на ее отношения, мы можем видеть, с кем она имеет дело. Кроме того, если человек у нас бывает, я чисто по женски постараюсь открыть ей глаза на него, на его недостатки, потом можно будет пошутить, посмеяться…
— Все это верно, — сказал Николай Львович, — но, понимаешь, этот молодой человек не внушает мне доверия. И я, откровенно говоря, в некоторой растерянности: по служебным соображениям мне не хотелось бы, чтобы он бывал у нас дома. Но с другой стороны, запретить Люде общаться с человеком, который мне неудобен по службе, это, в сущности, то же самое, что советовать ей встречаться с человеком, который по службе мне удобен. Исходная позиция в обоих случаях фальшивая, дурная.
Ольга Дмитриевна с удовольствием слушала мужа, это было именно то, что она так ценила и любила в нем. Конечно, он не только не вынуждает Люду встречаться с нужными людьми, но и сам никогда с ними не встречается, и ход рассуждения был удивительно характерен для него.
— Ты сильно преувеличиваешь, мой милый, — сказала она, — ты действительно ничего ей не запрещал, ты всего лишь высказал свое мнение о человеке, которого ты знаешь больше, чем она. И Люда это правильно поняла. Я думаю даже, что в данном случае она разумнее нас. В самом деле, что произошло? Ничего, в сущности. Задержалась на танцульках, а мы когда то не задерживались? Только тогда танцевали в саду, сейчас танцуют в ресторанах, вот и все.
— Да, — согласился Николай Львович, — ты права и, главное, сама не волнуйся.
Николай Львович успокоил жену, но сам не успокоился: что то тревожило его в этой истории.
Глава 7
Ресторан, наконец, закрыли, и Миша со Славкой отправились домой.
Славка рассказывал об оркестре. Среди музыкантов есть люди одаренные, даже талантливые, например, контрабасист, человек с консерваторским образованием, но не смог найти места в настоящем оркестре, их считанное количество, и вот вынужден играть в ресторане, где прилично платят и где кое что перепадает от гостей, заказывающих музыку.
Своим бесстрастным рассказом Славка как бы подчеркивал примитивность своих нынешних интересов, отделял себя от возвышенного мира, в котором живет Миша, жил когда то и он, Славка. Был пионером, комсомолец — и вот пожалуйста: пианист в ресторане «Эрмитаж», играет фокстроты для нэпманов, аферистов и растратчиков, веселит их, ублажает, зато у хозяина бесплатный ужин — правда, не такой, как гостям, а что остается от гостей.
— Не надо делать из этого трагедию, — сказал Миша, — эпизод в биографии артиста. Напрасно тебя это так сильно угнетает.
— Человек не может двадцать четыре часа в сутки визжать от восторга, — возразил Славка.
— Временный, случайный заработок, — продолжил Миша. — Поступишь в консерваторию, получишь стипендию — все переменится. Кстати, завтра в фабричном клубе выступает наша живая газета. Может быть, проведешь? Как, бывало, раньше.
— Не знаю… В котором часу?
— В шесть. Тебе в ресторан к девяти, можешь не оставаться на диспут, проведешь выступление и уедешь.
— О чем диспут?
— Влияние нэпа на молодежь.
— И как с этим бороться? — не без насмешки добавил Славка.
— Да, и как с этим бороться.
— Не знаю… Если не будет сыгровки…
— Не приедешь — проведет Яшка Полонский, — заключил Миша, — а приедешь, я лично буду рад и буду ждать тебя. Постарайся, пожалуйста.
Они подошли к дому.
В воротах стоял Витька Буров.
— Привет!
— Привет! — ответил Славка.
— Здорово! — сказал Миша.
Витька повернулся к Славке.
— Иди домой, Славка, ложись спать.
— Ты меня отправляешь спать? Может быть, еще в постельку уложишь?
— По хорошему говорю: уходи! Нам с ним, — Витька кивнул на Мишу, — поговорить надо.
Миша усмехнулся:
— Славка нам не мешает. Славка, скажи, не будешь мешать? Очень тебя прошу. Не вмешивайся в наш интимный разговор. Что, Витя, ты мне хочешь сказать?
— Еще раз полезешь не в свое дело — схлопочешь! Арцы — и в воду концы!
— И этот грубиян носит имя великого писателя! — Миша насмешливо покачал головой, — кстати, Витька, почему тебя зовут Альфонсом Доде? Ты его читал когда нибудь?
Витька поднял кулак:
— Это видел?
Славка попытался встать между ними.
— Бросьте, ребята, прекратите!
— Отойди! А то и тебе вмажу! — закричал Витька.
— Ты ведь обещал не вмешиваться. — Миша отодвинул Славку. — Дай нам спокойно поговорить. Так вот, Витенька, к твоему сведению: Альфонс Доде был великий французский писатель. А французы, между прочим, отличаются вежливостью.
Витька поднес к его носу кулак:
— Я тебе покажу вежливость!
Миша был комсомольский активист, но он был арбатский, вырос в этом доме, знал законы и повадки улицы. Он схватил Витькину руку и вывернул ее. Витька выдернул руку и бросился на Мишу.
Ответом ему были подножка и вполне квалифицированный удар в подбородок.
Витька упал.
— Опять получишь!
Витька не внял этому предупреждению, поднялся, снова бросился на Мишу, но между ними уже стоял Славка.
— Ребята, прекратите сейчас же!
Вмешательство Славки вряд ли подействовало на Витьку. Но из за угла появился Валентин Валентинович Навроцкий.
— Добрый вечер!
На скамейке по прежнему темнела фигура Шаринца.
— У вас опять серьезный разговор! — улыбнулся Навроцкий.
— Ничего особенного, — сухо ответил Миша. — Пошли, Славка!
— Спокойной ночи! — сказал Навроцкий.
— Пока, — ответил Миша, не оборачиваясь.
Обернулся вежливый Славка:
— До свидания!
Навроцкий проводил их задумчивым взглядом, потом спросил Витьку:
— По прежнему не ладите.
— А тебе какое дело?!
— Как грубо, как грубо, — поморщился Навроцкий. — Так вот, слушай, Витюня: будешь так разговаривать со мной, я из тебя сделаю беф строганов, понял?
Это говорил не лощеный делец, а какой то совсем другой человек…
Его слышал и Шаринец. Валентин Валентинович Навроцкий произнес свою угрозу достаточно громко.
Глава 8
Фабричный клуб был полон, за занавесом слышалась возня — участники готовились к выступлению. Скоро начало, а Славка не пришел — Миша отметил это с огорчением. А Витька Буров пришел, Миша отметил и это… Пришел, конечно, чтобы поскандалить, чтобы испортить вечер.
Занавес раздвинулся. Яша Полонский заиграл на рояле марш живой газеты — причудливую смесь революционных песен, вальсов, старинных романсов и опереточных мелодий.
Под звуки этой своеобразной, но достаточно громкой музыки строй живой газеты — мальчики и девочки (рубашки и кофточки белые, брюки и юбки черные) — промаршировал по сцене, декламируя вступление:
Мы, сотрудники газеты, Не артисты, не поэты, С мира занавес сдерем, Всем покажем и споем. Что в Марокко? Все морока! Что у вас сейчас под боком, Как во Франции дела, Как экскурсия прошла, На Арбате что у нас, Как в Италии сейчас, Что в деревне. И короче: Обо всем ином и прочем![2]Хор смолк, шеренга застыла, из нее выступила девочка, загримированная под Люду Зимину, сплела пальцы, вытянула руки и, поводя плечами, запела:
Я жеманство, тру ля ля, И скажу вам смело: Люблю глазками стрелять, Не люблю лишь дела. Как приятно день деньской Шевелить глазами, И влюбляться с головой, И не спать ночами. Завела я дневничок, В нем пишу стихи я: Мопассан и Поль де Кок Вот моя стихия.Девочка отошла в сторону. Из строя шагнул мальчик, одетый, как Юра: бархатная толстовка с белым бантом.
Только станет лишь темно, Страстно ждет меня кино, Мэри Пикфорд, Гарри Пиль Вскочат вдруг в автомобиль. И, сверкая, как алмаз, Прыгнет к ним Фербенкс Дуглас. Ах, держите вы меня, Сколько жизни и огня! Что мне школа, забыл давно, Дайте мне кино!Мальчик стал рядом с девочкой. Из строя вышел увалень, похожий на Витьку Бурова, и басом, подражая Витьке, запел:
Эй, берегись! Посторонись! Я очень гордый, с поднятой мордой. Я разгильдяйство! Я друг лентяйства! Я чемпионов всех сильнее. Я весь проныра и пролаза. Стекла бью я до отказа. Мне каждый враг, кто не со мной. И всех зову с собой на бой!Появился мальчик, загримированный под Мишиного приятеля Генку — вылинявшая солдатская гимнастерка и латаные штаны, заправленные в стоптанные сапоги. В руках у него была громадная метла.
Я чемпион, я чемпион, Нас легион, нас легион. Эти паразиты здесь и там Не дают работать нам. Всех их с собой требую на бой! С шеи долой Сбросим метлой!Чемпион бьет метлой барышню, пижона и хулигана — они падают под его ударами; строй, маршируя, удаляется за сцену. За ним, охая и стеная, плетутся пижон, барышня и хулиган.
На сцену поднялся Миша.
— Живая газета показала персонажи, на которых мы видим тлетворное влияние нэпа: хулиган, пижон и барышня. Нэп принес с собой и другие отрицательные явления. Как с ними бороться — вот предмет сегодняшнего диспута. Кто хочет выступить?
Встал Генка, одетый так, как его только что изобразили — вылинявшая солдатская гимнастерка и латаные штаны, заправленные в стоптанные сапоги.
— Пошлость и мещанство — вот главный враг. Носят банты, галстуки, ажурные чулки, воняют духами. К чему эти декорации?
— Чем тебе мешает галстук? — спросил Яша Полонский.
— Надо открывать шею солнцу, а не ходить, как собачка, в ошейнике.
— А ажурные чулки?
— Для чего они? — воскликнул Генка. — Чтобы какой нибудь гнилокровный буржуазный выродок любовался «изящной дамской ножкой» на танцульках?
— Ты против танцев?
— Их вред доказан наукой.
— Где ты это вычитал?
— Могу и тебе дать почитать. А некоторые элементы еще продолжают вертеть ногами. Танцы насаждают мелкобуржуазные нравы. Обращаются на «вы», говорят: «извините», «простите», «пардон» — все это гнилая интеллигентщина. Я сам видел, как один комсомолец подавал комсомолке пальто. Зачем? Чтобы подчеркнуть ее неравноправность? Ведь она ему пальто не подала.
— Хочешь, чтобы тебе подавали?
— А если у них любовь?
— Разве любовь в том, чтобы подавать пальто? Я не отрицаю любовь…
— Спасибо, благодетель!
— …Но только на основе общей идеи…
Молодой звонкий голос из зала пропел частушку:
Ох, по дороге колокольцы, Сердце словно прыгает. Ох, не влюбляйтесь в комсомольца, Скукою измызгает.— Генка, про тебя!
На сцену поднялась Зина Круглова в форме юнгштурма — защитного цвета гимнастерка и юбка, широкий ремень, портупея через плечо.
— Мужчина называется мужчиной потому, что он мужественный.
— Вода называется водой потому, что она водянистая, — вставил Яша Полонский.
— Поэтому, — продолжала Зина, — если парень подаст девушке пальто, в этом нет ничего унизительного, простая вежливость.
— Женщина называется женщиной потому, что она женственная, — не унимался Яша.
— Именно! Почему обязательно ходить в сапогах, я предпочитаю туфли…
— Танцевать удобнее?
— Хотя бы! Мы будем танцевать независимо от того, разрешает это Генка или нет.
На сцене появился Юра.
— Я признателен Яше Полонскому за то, что послужил ему прообразом, дал пищу его богатой фантазии, его блестящей музе, горжусь этим. Но еще больше благодарен Генке: он поставил все точки над «i». Чего он хочет? Стандарта! Всех подогнать под один тип: одинаково одевайтесь, одинаково развлекайтесь, одинаково думайте! А я, например, не хочу. Хочу быть самим собой. И буду носить бант. Привет!
— Мы не хотим стандарта, — возразил Миша, — но нельзя думать только о себе — о своей внешности, карьере, благополучии. Не в том дело, что ты носишь бант, а в том, что бант заменил тебе все.
— Он забантовался! — крикнул Яша.
Руку поднял Саша Панкратов.
— Я хочу сказать насчет хулиганов. Некоторые размахивают финками.
— Это ты про меня, что ли? — ухмыльнулся Витька Буров.
— Да, про тебя. Ты выражаешься. Слова нецензурные говоришь.
«Молодец, смелый парнишка», — подумал Миша о Саше Панкратове.
— А ты слышал? Слышал, как я ругался? — спросил Витька.
— Слышал, — решительно ответил Саша.
— Как? Повтори!
— Сам знаешь как. Я тебе потом повторю.
— И я слышал… И я! — закричали ребята в зале.
— А вы не слушайте! — огрызнулся Витька.
Зина Круглова сказала:
— Мало того, что Буров хулиганит сам, он вовлекает в хулиганство малолетних.
— Судить показательным судом! — сурово объявил Генка.
— А право имеешь? — с вызовом спросил Витька.
— Имеем. Школа отвечает за наш дом.
— Ой, испугался, — ухмыльнулся Витька, довольный тем, что оказался в центре внимания. — Когда судить то будете?
— Сообщим, не забудем, — пообещал Миша, — не беспокойся, как нибудь справимся с тобой. Запомни на всякий случай. Итак, предложения?!
— Повести решительную борьбу с мещанством, пошлостью и обывательщиной, — предложил Генка.
— Общо. Давай конкретнее! — возразил Миша.
— Запретить галстуки, банты, ажурные чулки, духи.
— А одеколон? — спросил Яша.
— Тоже.
— Одеколон не роскошь, а гигиена, — выкрикнул кто то из зала.
— Этот лозунг выдумали частники парикмахеры, — отпарировал Генка.
— Кто за предложение Генки? — спросил Миша.
Руку поднял один Генка.
— Какие еще предложения?
— Запретить танцульки! — объявил Генка.
— У меня другое предложение, — сказала Зина Круглова. — Танцы разрешить, кроме фокстрота и чарльстона.
— Это почему?
— В фокстроте прижимаются.
— А ты не прижимайся.
— Это буржуазный танец, — настаивала Зина, — и никто не умеет его по настоящему танцевать, получается одно кривляние и вихляние.
Тот же молодой, звонкий девичий голос из зала выкрикнул:
— А барыню сударыню можно?
— А трепака?
— Лично я предпочитаю лезгинку, — сказал Миша, — кабардинскую и наурскую, но в перерывах между ними иногда задумываюсь: для чего я живу и работаю?
Глава 9
Диспут только возвысил Витьку Бурова в собственном мнении: он стал на нем центральной фигурой. Он и шел в клуб в расчете, что о нем заговорят, а если нет, то он выкинет такое, чтобы заговорили.
В своей обычной расслабленной позе Витька сидел во дворе, на пустом деревянном ящике позади первого корпуса, в узком проходе между стеной дома и забором. Рядом на асфальте сидели Шныра, Фургон и Белка. У угла, на стреме, стоял Паштет. Было утро, не самое раннее, часов десять. Воскресенье.
Паштет махнул рукой — все в порядке.
Витька лениво привстал, потянулся, даже зевнул, поднял Белку, она встала ему на плечи и проскользнула в форточку.
Витька опустился на ящик, принял прежнюю позу, Шныра и Фургон не сделали ни одного движения, Паштет был на посту. Все совершилось молниеносно, никто не заметил — задний тупик двора, по нему не ходят, задняя стена дома — ни дверей, ни подъездов, впереди — глухая кирпичная стена.
Белка очутилась в пустом фойе кинотеатра «Арбатский Арс».
На стенах висели афиши, рекламы, фотографии из кинофильмов.
У стены возвышалась буфетная стойка под круглым стеклом. Белка отодвинула дверцу. Скрип не смутил ее: кинотеатр заперт снаружи. Проверено.
Она сняла с прилавка пять бутылок лимонада, пирожные, конфеты, бутерброды, сложила в мешок, вернулась к окну, поскребла о стекло.
Витька снова так же неторопливо поднялся, протянул руку, взял мешок, помог Белке вылезти из окна. Белка схватила мешок и скрылась с ним в подъезде черного хода.
Ребята обогнули корпус, очутились на переднем дворе, где играли детишки, и подошли к пожарной лестнице.
Узкая металлическая лестница начиналась от второго этажа и, прикрепленная к стене металлическими прутьями, достигла крыши восьмиэтажного корпуса. У крыши прутья были оторваны, верх лестницы раскачивался.
Витька уселся на нижней ступени лестницы.
— Куда забрался, места тебе другого нет? — недовольно заметила дворничиха.
— Сидеть нельзя?
— Нельзя, слазь!
Витька потянул носом воздух:
— Мне кислород нужен, кислороду не хватает. — Он поднялся еще на две ступеньки, снова потянул носом. — Хороший кислород, первый сорт.
— Доиграешься, Витька!
Дворничиха ушла со своей метлой. Витька ухмыльнулся: цель достигнута, все видели, что он на лестнице и, следовательно, к буфету отношения иметь не может. Ему было нужно алиби, слово, которого он не знал, но представление о нем имел.
Шныра, Паштет и Фургон, задрав головы, смотрели, как Витька поднимается по лестнице.
Достигнув четвертого этажа, Витька свесился и заглянул в открытое окно. Перед зеркалом сидела Ольга Дмитриевна в халате и с полотенцем на голове.
Ухмыляясь, Витька смотрел на нее.
Она оглянулась, вскрикнула в испуге.
Витька скорчил страшную рожу.
Ольга Дмитриевна вскочила с пуфика, закрыла окно, задернула занавеску.
Довольный своей проделкой, Витька посмотрел вниз, желая увидеть, какой эффект она произвела, как вдруг заметил проходящего по двору Шаринца.
— Где Белка? — спросил Шаринец Шныру.
— Не знаю.
Витька спустился вниз, спрыгнул с лестницы.
— Тебе чего?
— А тебе чего?
— Ну и мотай отсюда!
— Ты, Витька, один, а я не один.
— Плевал я на твоих, ты моих не трогай.
— Дождешься! — пригрозил Шаринец и пошел со двора.
Витька снова взобрался по лестнице. Рискованно балансируя на пруте, дотянулся до окна, взял стоящую между рамами банку, запустил в нее палец, набрал варенья и отправил в рот.
Мальчики криками и смехом выразили свой восторг.
В следующем окне, этажом выше, Витька увидел целующуюся парочку.
— Сосед, что делаешь?
Парочка оглянулась, девушка выскочила из комнаты.
В окне следующего этажа усатый дяденька сосредоточенно уминал за столом большой шматок сала.
— Дай кусочек!
Усатый перестал жевать и озадаченно уставился на Витьку.
Забавляясь таким образом, Витька достиг вершины лестницы. Край ее не прикасался к крыше — оба прута были сломаны.
Предстояла самая опасная часть операции.
Сильно и размашисто раскачиваясь, Витька приближал верх лестницы к крыше и, когда она достигла ее, схватился рукой за желоб, подтянулся, перекинулся на крышу, продолжая удерживать лестницу сначала ногами, потом руками.
Улегшись на крыше, крикнул вниз:
— Давай!
Ловко и быстро, как обезьяна, взобрался Шныра.
За ним, умирая от страха, начал подъем Фургон.
Добравшись до середины, остановился, посмотрел вниз.
— На меня смотри! — крикнул Витька.
Фургон снова начал неловко подниматься. Витька протянул ему руку и перетянул на крышу. После того как уверенно взобрался Паштет, Витька отпустил лестницу.
Ребятишки с завистью следили за их подъемом. Витькино тщеславие было удовлетворено, и он крикнул вниз:
— Привет!
Через слуховое окно он спустился на чердак, перелез через балки и стропила, откинул задвижку на двери. На площадке черного хода сидела Белка с мешком.
— Час сижу!
Он впустил ее на чердак, задвинул задвижку.
Вся компания сидела на крыше.
Витька вынул из мешка бутылки с лимонадом, пирожные, бутерброды, конфеты, отложил в сторону две закупоренные банки с монпансье:
— Это в Крым.
Он снова через слуховое окно спустился на чердак и спрятал банки в чуланчике, замаскированном досками и фанерой. На полу лежали тюфяк и рваное одеяло, на досках, заменявших стены, висели открытки с видами Крыма.
Витька вернулся на крышу, открыл лимонад, разложил пирожные и конфеты:
— Шамайте! В Крым поедем — в вагоне ресторане будем обедать.
— Что за вагон ресторан?
— Вагон, а в нем столики, ресторан. Поезд идет, колеса постукивают, а ты рубаешь, официант подает, что закажешь, а закажешь, что захочешь, — расписывал Витька предстоящую поездку в Крым. — Пообедаешь — и к себе, по тамбурам, из вагона в вагон, все на ходу. Пришел в свой вагон, заваливайся спать, у каждого своя полка — плацкарт называется. Спать не хочешь — смотри в окно. Главное — деньги сделать.
— А как деньги сделаем? — спросил Фургон.
— Тебе кто позволил такие вопросы задавать?
Испуганный Фургон молчал.
— Кто, спрашиваю, позволил? Или кто подучил? Подослал? Кто? Мишка Поляков? Сашка Фасон? Говори! А то сброшу с крыши. Арцы — и в воду концы!
— Он просто так спросил, — вступился Шныра.
— Заткнись! Если кто насчет Крыма натреплется, голову оторву.
— А чего трепаться? — возразил Шныра. — Думаешь, не знают? Знают.
— Откуда? Кто сказал?
— Да брось ты! Сам сколько раз говорил: Крым… Крым…
— А хорошо в Крыму? — спросила Белка, предупреждая ссору.
Ее наивную дипломатию поддержал Паштет.
— Спрашивает! Все в Крым едут. Было бы плохо, не ездили. Там море кругом.
— Всесоюзная здравница называется, — добавил Шныра.
Витька лег на спину, мечтательно заговорил:
— Самое лучшее место — Крым. Море само собой, тепло круглый год, хочешь — купайся, хочешь — загорай. Фрукты нипочем: груши дюшес, виноград «дамские пальчики», абрикосы — копейка фунт. В Ливадию поедем, там дворец, царь Николай жил. Ялта. Главное, ксиву надежную иметь, а то снимут с поезда как безнадзорных.
— Какую ксиву? — спросил Фургон.
— Вот дурачок, — засмеялся Паштет, — ксива — документ, значит.
— Ксива будет такая, — сказал Витька, — экскурсия, вы ученики, я за старшего. Печать поставим — и порядок.
— А где печать возьмем? — опять спросил наивный Фургон.
Витька приподнялся, пристально посмотрел на Фургона.
Шныра опять защитил приятеля:
— Он просто так спросил… Не видишь разве, дурачок еще, ничего не понимает.
Витька погрозил Фургону пальцем:
— Много знать хочешь, треплешься. Не суйся, за тебя все сделают.
Он замолчал, прислушался: дергали чердачную дверь. Витька сделал знак сидеть тихо, спустился на чердак, прокрался к двери, прислушался.
За дверью разговаривали. Витька узнал голоса Миши и Генки:
— …Кто то запер дверь. Управдом, что ли…
— …Замка нет, изнутри заперта…
— …Пойдем со двора.
Было слышно, как они спускаются по лестнице.
Витька вернулся на крышу, лег на спину:
— Мишка с Генкой… Убрались…
Глава 10
Миша и Генка вернулись во двор и подошли к пожарной лестнице.
Миша надел на шею моток проволоки, прикрепил к поясу связки роликов и стал взбираться по лестнице. За ним, с двумя шестами, последовал Генка.
Их подъем был прерван появлением в окне женщины с растрепанными волосами и банкой в руке.
— Хулиганы! Ворюги! — кричала женщина, поворачиваясь во все стороны и показывая банку жильцам. — Полбанки варенья сожрали!
Миша недоуменно смотрел на нее:
— Не трогали мы вашего варенья.
Мужчина в подтяжках, в другом окне, укоризненно качал головой:
— Стыдно, Миша, а еще комсомолец. И ты, Генка! Вот уж не ожидал.
— Не видели мы никакого варенья! — закричал Генка.
— Хулиганы! Бездельники! — бушевала женщина.
— Какое варенье? — осведомился Миша.
— Еще спрашивает! Клубничное.
— Извините, мы не едим клубничного варенья.
Мальчики поднялись выше.
— Мытарства первых радиолюбителей, — сказал Миша. — Такие, как ты, прокладывают дорогу в будущее.
— Сознание этого только и поддерживает во мне бодрость духа, — ответил Генка, подтягивая шесты.
На восьмом этаже из окна выглянул русоволосый рабфаковец, подмигнул:
— Радиозайцы?
— Мы зарегистрированные.
— Будете крышу ломать? Крыша то надо мной.
— Даже не дотронемся, — успокоил его Генка. Миша проделал то же, что и Витька: раскачал верх лестницы, перебрался на крышу, удержал лестницу. Генка передал ему шесты и тоже перебрался на крышу.
Они не удивились, увидев на крыше Витькину компанию: они сами в свое время лазили сюда погреться на солнышке. Но компания была враждебной. И этот пир… Откуда такие яства? Ворованное, в этом не могло быть сомнений.
Миша не хотел затевать разговор здесь, на крыше. Не место.
Но Генка, как всегда, не смог удержаться:
— Богато живете!
— Живем! А что?! — ответил Витька, спокойно отхлебывая ситро из горлышка бутылки. — Завидно?
— Наверно, — пробормотал Генка, прикрепляя шест к дымовой трубе.
Когда Миша натягивал антенну, лежавший на его пути Витька не пошевелился. Миша перешагнул через него. Витька ухмыльнулся.
Убедившись, что спуск висит хорошо, между окон, Миша и Генка через слуховое окно спустились на чердак, пролезли через балки и подошли к чердачной двери.
— Устроили ночлежный дом, — сказал Генка и оторвал задвижку. — Сам ворует, — продолжал он, спускаясь с Мишей по лестнице, — и маленьких приучает. Вот тебе и диспут! Плевал он на наш диспут. Его надо изолировать.
Очутившись во дворе, они натянули свисающий с крыши провод.
Из окна выглянул Славка.
— Приходи, сейчас слушать будем, — сказал Генка.
— Ладно!
В это время из подъезда вышел Валентин Валентинович Навроцкий, на этот раз не в светлом, а в темно синем бостоновом костюме.
— Здравствуйте, Миша!
— Гутен таг! — ответил Миша.
Навроцкий сделал вид, будто не заметил насмешки.
— Радио устраиваете?
— Пробуем, — ответил Генка.
Миша пристально и изучающе рассматривал Навроцкого.
Навроцкий ответил ему таким же взглядом.
Так некоторое время они молча смотрели друг на друга.
Потом Навроцкий сказал:
— Радиостанция Коминтерна скоро начнет свои передачи. Так, во всяком случае, пишут в газетах.
Миша молчал.
— Кстати, — продолжал Навроцкий, — на крыше вы не встретились со своим недругом?
— С каким недругом?
— С этим, как его, Альфонсом Доде, так, кажется, его зовут.
— Его зовут Виктор Буров, — хмуро ответил Миша.
— Возможно. Как раз перед вами он со своим акционерным обществом взобрался на крышу.
— Чердак — его постоянное местожительство, там и ночует, — сказал Генка.
— Я поражен, — сказал Навроцкий. — Он так легко отделался. Размахивал финкой, а его подержали час в милиции и отпустили.
— Он никого не зарезал, — возразил Миша.
— Но была попытка.
Навроцкий был прав, но Миша не хотел с ним соглашаться.
— Я думаю, была только попытка похвастаться своим ножом.
Навроцкий засмеялся:
— Он хвастун, оказывается, вот почему его называют Альфонсом Доде… Но, знаете, сегодня он хвастается ножом, завтра пустит его в ход. Мы в обществе «Друг детей» часто сталкиваемся с подобными ситуациями — один негодяй портит десяток детей: они тоже заводят ножи.
— Этого мы ему не позволим, — сказал Генка, — как нибудь справимся. Не с такими справлялись.
— Между прочим, — сказал Навроцкий, — у одного моего приятеля есть итальянский детекторный приемник. Свой вы, наверно, сами собрали?
— Сами, — подтвердил Генка.
— Ну вот, а то фабричный, настоящий, их производят в Италии. Если хотите, я попрошу на время, вы послушаете, может быть, скопируете что либо.
— Спасибо, мы попробуем свой, — ответил Миша.
— Желаю успеха, — сказал Навроцкий.
Глава 11
Тот же комод, покрытый белой салфеткой с кружевной оборкой, квадратное зеркало с зеленым лепестком в углу, моток ниток, проткнутый длинной иглой, старинные фотографии в овальных рамках с тиснеными золотом фамилиями фотографов. Мало что изменилось в этой комнате. Только вместо широкой кровати с горой подушек стояли две узкие койки: одна, огороженная занавеской, для тетки, другая для Генки. На маленьком столике в углу — детекторный приемник, пачки тонкого шнура в белой обмотке, шурупы, гайки, винты, отвертка.
Генка присоединил антенну к приемнику, надел на голову наушники и, осторожно тыкая острием иглы в камешек, пытался поймать какую нибудь станцию. Из наушников доносились шипение, хрип, свист. Генка положил наушники в стакан. Сквозь хрип и свист донесся далекий глухой голос: «Из Парижа передают: правительство Пенлеве Бриана Кайо поставило в палате депутатов вопрос о доверии…»
— Ну что? — торжествующе спросил Генка.
— Блеск!
— Красота!
Однако опять хрипение, свист, треск и шум…
— Ничего, — сказал Генка, — будет работать не хуже итальянского.
— А ты его видел, итальянский? — спросил Славка.
— Рассказывал тут один тип, Валентин Валентинович, предлагал даже. Зря ты, Мишка, отказался. Была бы хоть польза от нэпмана.
— Он не нэпман, а агент по снабжению.
— Один черт! Посмотри на костюм, галстук, лакированные ботинки.
— Ты примитивный социолог, — сказал Миша, — для тебя одежда — главный признак классовой принадлежности.
— Больше того! — подхватил Генка. — Признак его психологии. Человек, возводящий в культ лакированные ботинки, пуст, как барабан.
— Культом могут стать и стоптанные сапоги.
— Просто у меня нет других.
— Возможно, Валентин Валентинович не так уж плох, — заметил Славка.
— Тогда с Витькой другой бы побоялся ввязаться, а он вышел и сказал правду.
— Это так, — согласился Миша, — и все же… Гладкий, сладкий, обходительный…
— Коммерсант, он и должен быть обходительным.
— Зимин приказал задержать его вагон, а Красавцев отправил. Потом я их видел вместе в ресторане. В чем суть махинации?
— Дает Красавцеву в лапу, а тот ему побыстрее отпускает товар, — объяснил Славка.
— Спокойно ты об этом говоришь…
— А что?! Стенать, рыдать, посыпать голову пеплом? Только слепой не видит, что делается. Хапают, рвут, тащат, дают взятки, берут взятки. Мелкота все сваливает на четыре «у»: усушка, утруска, угар, утечка; крупняки становятся миллионерами на четырех «без»: бесхозяйственность, безответственность, безграмотность, безразличие. Какое мне дело до Навроцкого, до Красавцева, когда их тысячи.
— Рано ты складываешь оружие.
— Просто я вижу немного больше. Другая, знаешь ли, площадка.
— Эстрада для оркестра.
— Ты хочешь меня оскорбить?
— Просто я хочу сказать, что ресторан не такая уж высокая площадка для обозрения жизни.
— Тебе остается добавить, что я гнилой интеллигент.
— Не надо говорить за меня, — возразил Миша. — Я могу сам за себя сказать…
— Пожалуйста, говори!
— Могу. Не следует собственные невзгоды превращать в барометр, в мерило жизни всего человечества. Тебе сейчас плохо, да, плохо, трудно. Но это не значит, что наступил мировой потоп. Он еще не наступил. Ты видишь нэпманов, аферистов, взяточников, но жизнь — это не только ресторан «Эрмитаж», жизнь значительно больше, чем ресторан «Эрмитаж». И если кучка паразитов, именно кучка, обворовывает государство, крадет и расхищает народное добро, вряд ли можно быть безразличным.
Этот разговор должен был рано или поздно произойти, он просто откладывается. Все же Генка примирительно сказал:
— Я думаю, вы оба неправы. Безусловно, ты, Славка, субъективен. Нэп — это временно, и нельзя так обобщать. С другой стороны, ломать голову над их делишками тоже не следует. Нам в их коммерции не разобраться, да и есть кому разбираться помимо нас. У нас свои задачи и свои обязанности, мы уклоняемся от них, прямо говорю. Юра и Люда шатаются по ресторанам — разве им место в советской школе? А мы молчим, мы в стороне. Витька Буров разлагает учащихся нашей школы, малолетних, заметьте, — мы опять в стороне, опять молчим.
— Им интересно с Витькой, — сказал Славка, — он их заворожил Крымом.
— Ах, так? У него, у Витьки, значит, романтика, а у нас скучная проза. Это ты хочешь сказать?
— Именно это, — подтвердил Славка.
— Ну, знаешь… Защищать Витьку… — развел руками Генка.
— А что такого? В сущности, он не злой парень.
— Он бездельник! — сказал Миша.
— Не забывай, что у него дома, — напомнил Славка.
— Ах да, отец алкоголик, это — оправдание?
— Не оправдание, а объяснение.
— Витька Буров достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за себя самому, а не прятаться за отца алкоголика, и не сидеть на шее у матери, и…
Генка перебил Мишу:
— Тише, тише! Слышите? Говорит Нижний Новгород…
Глава 12
Как только Миша и Генка спустились с крыши, Витька подошел к антенне:
— Что за фигура?
— Антенна для детекторного приемника, — объяснил Фургон.
Витька понятия не имел, что такое детекторный приемник, но показывать свою неосведомленность не хотел, а потому спросил пренебрежительно:
— Ты откуда знаешь?
— Ребята в школе делают. Наушники надевают и слушают радио.
— Ни черта они не услышат!
Так он выразил свое презрение к авторам этой затеи.
Но сама затея обеспокоила: они вторглись в его владения. Крыша — его резиденция; чуланчик — его спальня; чердак — хранилище всего, что собирают они на Крым.
Первым побуждением было сорвать проволоку, сломать дурацкие палки, торчащие над дымовыми трубами и уродующие крышу.
Он этого не сделал. Миша и Генка заявятся снова, поставят палки, натянут проволоку; они не отступятся, Витька их хорошо знает, и если здесь, на крыше, начнутся драки, то он вовсе ее потеряет.
Эти рассуждения свидетельствовали о наличии у Витьки здравого смысла. Однако вид задвижки, сорванной с чердачной двери, привел его в бешенство, он чуть было не вернулся на крышу и не сломал их чертово сооружение. Но уличная, чисто арбатская выдержка победила и на этот раз. Слишком важен для него чердак, чтобы принимать решение, продиктованное желанием отомстить. Чердак — его дом. Родительский дом Витька не любил, не любил отца алкоголика, надоели попреки: когда будешь работать? Когда будешь зарабатывать?.. А что он?! Стоял на бирже труда, очередь на бронь подростков большая, в ФЗУ не послали, в пекарню загнали, к черту на рога, на Разгуляй, являйся к пяти утра. Ночевать ему в пекарне, что ли? Пекарня тесная, душная, грязная — вкалывай! Бросил, вернулся на биржу, а ему: «Не хочешь работать!»
Съездит в Крым, погуляет, а потом устроится на работу, только на такую, чтобы по душе. Завод, фабрика, каждый день одни и те же морды — ни за что! Хотела мать определить к сапожнику — спину гнуть, подметки подбивать. Сапожник — последний человек; в кино и то орут на механика: «Сапожник!», когда части путает или вверх ногами показывает. Вот лифты — это подходяще. Приходил мастер, лазил на чердак, в машинное отделение, Витька увязался за ним. Мастер сказал: летом будут лифты налаживать. Раньше электроэнергии не было, из за этого не пускали, а теперь энергия есть, а мастеров не хватает. Лифты старые, изношенные, поломанные, все растащено, ремонтировать надо, дело тонкое, сложное, а мастеров на всю Москву — раз, два и обчелся.
Витька лазил с ним по чердакам, показывал тросы, блоки, знал, где что лежит, мастер его одобрил, сказал: возьму в помощники, научу, будешь за лифтами смотреть. Налаживать лифты — это да, это устраивало. В доме шесть подъездов — шесть лифтов. Пустит лифт — будут люди подниматься, не пустит — попрут пехом на восьмой этаж. Это придаст ему значительности. Витьке хотелось быть значительным именно здесь, у себя дома. Придут к нему: товарищ Буров, почините, пожалуйста, лифт, не работает, не поднимается, или не спускается, или застрял какой чудик между этажами — потеха! Захочет — починит, не захочет — нет, не починит. И не надо тащиться на завод, толкаться в трамвае. Не только сам себе — всему дому хозяин. Ключи от чердака в кармане, на чердаке — аппаратная будка, никто не имеет права войти, всех с крыши погонит, покажет им палки с проводами, антенны ихние и радио! Сиди себе дома; если что надо, сами за тобой прибегут. После Крыма лифты были второй мечтой Витьки.
Он прохаживался по Арбату, совершал привычный рейс по улице, интересами которой жил, где знал каждый булыжник мостовой, выбоину на тротуаре. Но ничего нового на улице не было, и Витька пошел поесть чего нибудь.
Картина, которую он застал дома, его не удивила, он привык к подобным спектаклям, особенно по воскресеньям.
За столом сидел пьяный отец. Где успел набраться с утра, черт его знает! Витька с неприязнью смотрел на его побуревшее от водки лицо. Плюгавый какой то, грязный, жалкий. Витька его особенно презирал за то, что жалкий. Было стыдно, что у него такой отец. Никто его в доме не уважает. И оттого, что никто не уважает его отца, Витька упорно утверждал себя.
— Дай рубль, говорю, тебе говорю, дай сейчас же, кому говорю?! — бубнил отец.
— Нет у меня рубля, сказала тебе!
Засучив рукава, мать стирала белье в деревянном корыте.
— Кому говорю?! — заплетающимся языком повторил отец, не обращая внимания на приход Витьки, будто тот и не пришел вовсе.
— Хватит, набрался, спать ложись! — сказала мать.
— Мне долг надо отдать… Поняла? Д долг… Д долг чести, поняла?
Отец куражился, показывал, что он городской, а мать деревенская. Он пытался встать, но пошатнулся и опять опустился на табурет.
— Работать надо, а не долги делать. — Мать сильными руками перетирала белье в мыльной пене.
— Я без… безработный… Долг чести…
— Не пил бы, так и не был бы без работы.
— Работа… Я мастер, дура!
— Не мастер ты, алкоголик! Занавески и те пропил. От людей стыдно… Хоть бы куда провалился с моей головы, алкоголик проклятый! Хоть бы тебя, пьяного, трамваем задавило!
— Эт то… Эт то ты на кого?! — Буров опять поднялся, удержался на этот раз в вертикальном положении. — На кого, спрашиваю, на мужа? На мужа, который, значит, тут есть лицо… Такие слова?!
Витька загородил мать:
— Ложись спать, папаня!
Он был одного роста с отцом, но плотнее и сильнее его.
— Ты! Как смеешь?!
Отец поднял кулак, но Витька перехватил его руку.
— Ложись спать, папаня!
Сообразив, что если он вырвет руку, то упадет, Буров отец завопил:
— На отца?! Люди! Народ! Караул! Убивают!
Но люди не откликнулись: в квартире привыкли к скандалам у Буровых. Жили они на первом этаже, крики были слышны во дворе, но и во дворе никто не отозвался: тоже привыкли.
Витька держал руку отца:
— Не смей ее трогать!
Открылась дверь и появился Миша, остановился, молча взирая на происходящее.
— Тебе чего?! — спросил Витька.
— Дело есть.
— Не звали тебя. Чеши!
Буров отец вырвал руку, плюхнулся на табуретку, ударил кулаком по столу:
— Нет! Не уходи, товарищ! Смотри, как сын на отца кидается. Смотри, какие дети пошли. Раньше их ремнем, а теперь нет, права не имеешь.
— Не вовремя вы пришли, — сказала Бурова мать.
— Не уходи! — кричал Буров отец. — Я их, паразитов, иждивенцев, кормлю, пою… И меня же, в моем доме… Куда мне теперь деваться?.. Сын — бездельник, хулиган, отца не уважает, на отца кидается… Убить хочет, смерти моей желает…
— Чего на парня возводишь, — сказала Бурова мать. — Сам ты паразит, бездельник. — Она обернулась к Мише: — Меня ударить хотел, а Витя не дал. Разве сын позволит мать бить?
— Ты зачем с ним разговариваешь? — нахмурился Витька. — Он кто? Лезет тоже! Убирайся, уходи! Сказали тебе!
— Может, и ты со мной выйдешь? — сказал Миша.
— Зачем?
— Поговорим.
— Не о чем. Звали тебя? Иди!
— Будь здоров! Только не шумите так, на весь двор.
— Не твое дело! — отрезал Витька.
Глава 13
Комбинация Навроцкого была проста. На фабрике высококачественный товар оформляется как бракованный или третьесортный. Сбывая его частникам по цене, во много раз превышающей фабричную, Валентин Валентинович заработал столько, что был вполне подготовлен к возвращению России к капитализму, а о том, что Россия к нему возвращается, свидетельствовал нэп: восемьдесят пять процентов розничной торговли уже в частных руках.
Надо получить на фабрике еще пять вагонов мануфактуры. Такой куш решит проблему, позволит уйти в тень и дожидаться, когда новая экономическая политика окончательно вернется к старой, дореволюционной. Объявили, что отступление кончилось, усилили налоговый пресс, нажимают на частника — все это временное, государство делает отчаянные попытки сохранить теряемые позиции. Бесполезно, против законов экономического развития не попрешь, без частной инициативы не обойдешься.
Он финансовый гений, потенциальный промышленный магнат, попавший в условия социальной революции. Уехать на Запад? Судьба русских эмигрантов его не устраивала. Они не предвидели будущего России, они близоруки, а он прозорлив. Он завершает свой период первоначального накопления, возвращает себе то, что государство отобрало у других. Кому принадлежала эта фабрика? Братьям Бутиковым. По какому праву Советская власть отобрала ее? Для создания нового общества? Прекрасно! Теперь он отбирает отобранное для возвращения к старому обществу.
Такова конечная цель. А конкретная задача — получить пять вагонов мануфактуры. Но на пути встал инженер Зимин, велел задержать вагон, хотел проверить товар, теперь требует документы. Но инженер при всей своей барской внешности, по видимому, не так уж неприступен. Вечер в ресторане и Люда — первый шаг. Люда премилая девица, хотя ее «маман» Навроцкому еще больше понравилась. Но «маман» смотрит на него пустыми глазами, еле отвечает на поклон. Люда перспективнее, у нее к нему какой то интерес, остается его развить. Девочка неглупа, держится достойно, даже аристократично; как и он, уязвлена действительностью. Он еще не разобрался, как действуют на нее его рассказы и философия, но то, как он отодвинул плечом Альфонса Доде, подействовало наверняка. Девочке нужен герой. Бьен! Он и есть герой.
Валентин Валентинович требовал от людей уважения, которое он испытывал сам к себе, высоко ценил свою репутацию; она нужна ему не только в будущем, но и в настоящем: охраняет, внушает уверенность и спокойствие. Он никого не боится, но всегда начеку, собран, мобилизован — чужая неприязнь не бывает случайной, надо знать, что за ней скрывается, — удар, даже самый слабый, может иметь губительные последствия.
Миша Поляков смотрит волчонком! Почему? Усек с вагоном? Сомнительно. Шокирует модный костюм. Ведь они ходят в косоворотках и кожаных куртках. Ну, уж такое он на себя не напялит, такая мимикрия ни к чему. И вообще, к черту этого мальчишку, молокосос, не стоит о нем думать…
Однако этот мальчишка испортил ему настроение. Что то непримиримое во взгляде, такого не купишь, на промышленного магната он работать не будет. Навроцкий знал, как разговаривать с фининспектором, даже со следователем. Миша представлял не власть, а идею, мораль, нравственность, а к этому у Валентина Валентиновича ключа не было.
В плохом настроении Навроцкий никогда не признавался, у него нет права на плохое настроение. Свое нынешнее настроение он называл не плохим, а лирическим.
Он так и сказал Юре, когда они встретились у ресторана «Эрмитаж»:
— У меня, мой друг, сегодня лирическое настроение. Мы не пойдем в этот вертеп. Мы честные труженики, и я не желаю сидеть рядом с гориллами и мандрилами. Мы пойдем к артистам. Ты собираешься стать Рудольфе Валентине, я в душе поэт.
Так они очутились у маленького кафе «Эклер» — название несколько странное для места, где собирались артисты и поэты.
Перед слабо освещенным входом Валентин Валентинович задержался.
— «Эклер»! Много сладкого, жирного крема. Ты любишь крем? Или предпочитаешь что нибудь другое? Мороженое, например? Или что нибудь покрепче?! Неудачное название. Но здесь ты убедишься, что содержание не всегда соответствует форме.
По крутой каменной лестнице они спустились в низкое, тесное, прокуренное помещение со сводчатыми потолками. За маленькими столиками чудом умещались кучи людей. На возвышении, заменявшем эстраду, молодой человек небрежно и виртуозно перебирал клавиши пианино.
Пробираясь между тесно стоящими столиками, Юра поздоровался с Эллен и Игорем Буш, сидевшими в шумной молодой компании.
— Кто это? — спросил Валентин Валентинович, когда они наконец втиснулись между стеной и чьими то спинами и уселись за столик, добытый Навроцким с великим трудом.
— Знаменитая цирковая пара — Эллен Буш и ее брат Игорь.
— Откуда ты ее знаешь?
— Знаком, — загадочно ответил Юра, но не удержался и добавил: — В нее втрескался Мишка Поляков.
Валентин Валентинович поднял брови:
— Смазливый мальчишка, но для такой королевы?! — Он нахмурился. — Мне не нравится твой Миша Поляков.
— Мой?! Я его сам терпеть не могу. А вы его хвалили, он вам очень понравился.
Не обращая внимания на упрек, Валентин Валентинович продолжал:
— У него слишком тяжелый взгляд. Даже странно в таком юном возрасте. Я не люблю, когда на меня так смотрят.
На эстраде небритый поэт в рваных сандалиях на босу ногу, завывая, читал стихи о том, как замечательно быть дикарем, ходить по Африке нагишом с одной только бамбуковой палкой… «И бей по голове бамбуковой палкой…» — это при встрече с врагом. «Ее тихонько оглушь и делай с нею все, что хочешь…» — при встрече с женщиной.
— Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович, — мы честные труженики и, как кто то сказал, должны стоять над схваткой.
— Это сказал Ромен Роллан.
— Молодец Ромен Роллан! Хорошо сказал! Однако…
Он задумался, помешал ложечкой в чашке и с горечью заключил:
— Однако некоторые, как будто неглупые интеллигентные люди все еще в плену сословных предрассудков. Революция их ничему не научила. Я не все принимаю в нашей действительности. Больше того, я расхожусь с ней в ряде вопросов. Но, мой друг, согласись, что сословные предрассудки — это мещанство.
— О ком вы говорите?
— Понимаешь, для некоторых слово «агент заготовитель» звучит несолидно, слишком плебейски… Какой то там агентик…
— Кто может так мыслить в наше время!
— В общем, банальная история — я влюбился, — признался Валентин Валентинович.
— Без взаимности?
— Допускаю.
— Этого не может быть. Что вас смущает?
— Ну, хотя бы разница в возрасте. Мне двадцать пять, ей семнадцать.
— Мой папа старше мамы на двенадцать лет.
— Еще одно: ей надо учиться.
— Пусть учится, чему это мешает?
— Слушай, а ты о ком? — спросил Валентин Валентинович.
— О той, в которую вы влюблены.
— Кто она?
Юра с недоумением посмотрел на Валентина Валентиновича:
— Я думал, это Люда…
— Ты угадал. А как ты угадал?
— Это совсем не трудно угадать. В нее многие влюблены.
— А она?
— Ни в кого.
— А ты в нее не влюблен?
— Был, — признался Юра, — но потом надоело: снежная королева с принципами. Хорошая вообще девчонка и хорошенькая, а вот какая то очень одинокая.
— Да? При таких родителях?
— Возможно, в родителях как раз все дело, — ответил Юра. — Они несовременны.
— В каком смысле?
— Папаша знает три языка, мамаша — два.
— Ты прав, мой друг, это чересчур.
— И при всем том, — продолжал Юра, — поразительная детскость, инфантильность. До сих пор устраивают елку, вы подумайте! И веселятся, как дети. Папаша стоит на табурете, украшает, мамаша тайком готовит подарки, утром их находят под елкой, все в диком восторге — их, видите ли, подложил Дед Мороз… Вот в такие игры они до сих пор играют, и не только на рождество, а при любом случае…
Валентин Валентинович медленно потягивал кофе, помешивая его ложечкой, задумчиво посматривал в зал. Взгляд его задержался на Эллен Буш.
— Красавица окружена циркачами, я их узнаю по физиономиям.
— Да, вероятно.
— Один к ней очень внимателен.
— Это ее брат.
— Нет, ведь брат тот, блондин, ты с ним поздоровался.
— Да.
— А я имею в виду шатена, видишь, такой крепкий парень. Впрочем, все они крепкие ребята. Боюсь, что шансы нашего Миши очень малы.
— Шансы… — Юра презрительно скривил губы. — Аскет, как все они… «Любовь возможна только на общей идейной основе». Какая же может быть общая идейная основа с циркачкой? Она даже не комсомолка.
— Но ты сам сказал, что он в нее влюблен.
— Тайком, вопреки собственным убеждениям.
— Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович, — я уже имел случай тебе говорить: папиросы «Ира» не все, что осталось от старого мира. Остались страсти человеческие… — Он поднял палец. — Извечные, непреходящие страсти; важно не быть их рабом… Я должен работать, должен делать свое будущее, но и мне хочется спокойствия, уюта, заботливой женской руки. С тринадцати лет я зарабатываю свой кусок хлеба, я пережил мировую войну, гражданскую, потерял родителей, меня швыряло, как щепку, я устал. Но, — он развел руками, — в этой семье несколько поколений носили форменные инженерные фуражки. А я? Я простой агентик. У меня даже нет родословной. У лошадей есть родословная, а у меня нет. Какая родословная может быть у агентика? Он возникает из ничего, снабжает! Разве порядочные родители отдадут свою дочь человеку, возникшему из ничего?
Юра пожал плечами:
— Родители? Кто с этим считается?
— Я считаюсь! — воскликнул Валентин Валентинович. — Я в этом смысле консерватор. Я хочу не семейных раздоров, а семейного согласия.
— Ольга Дмитриевна к вам благосклонна, мне кажется, благодарна за тот случай во дворе, — сказал Юра, — она добрая и делит людей только на хороших и плохих. Середины нет. Вас она наверняка относит к хорошим.
— Она — возможно. А Николай Львович?
— Да, перед ним как то робеешь, и все равно Ольга Дмитриевна главная. А Люда еще главнее.
— Да, все сложно, очень сложно, — задумчиво проговорил Валентин Валентинович, — и все же… И все же… И все же ты меня обнадежил. Да, да, представь себе: ты меня обнадежил.
— Что ж, — сказал Юра, — мне это очень приятно слышать.
— И я тебе скажу, чем ты меня обнадежил, — продолжал Валентин Валентинович, — но прежде всего извини меня, не обижайся, я решительно не разделяю твоей иронии.
— Иронии?
— Ты пренебрежительно отозвался о елке у Зиминых, а я, например, на этом вырос, мой друг. Елка — это мое детство. У меня сердце защемило, когда ты заговорил об этом.
— Вы меня не так поняли, — попытался оправдаться Юра. — Когда то ж у нас устраивалась елка, но Люда выросла из этого, а ее родители тем более.
— Нет, мой дорогой, — покачал головой Валентин Валентинович, — не надо кривить душой; в данном случае ты поддался нашему прозаическому времени: елки нынче не в моде. Ты не устоял перед этим, а Зимины устояли… И это вызывает еще большую симпатию к ним и уважение, если хочешь.
— И мне они нравятся… Я просто хотел…
— Украшают елку, — перебил его Валентин Валентинович. — Это так прекрасно, так человечно. Играют — это чудесно! Ты ходишь со мной на бега — неужели только ради выигрыша?
— Ну что вы! — Возмущение Юры прозвучало не слишком натурально.
— Меня на бегах привлекает прежде всего зрелище. Люблю лошадей, их бег!.. — продолжал Валентин Валентинович. — Тотализатор для меня не деньги, а именно игра, азарт, риск, рад выигрышу, самому пустяковому… И подарки под елкой: грошовые — а сколько радости! Сюрприз, неожиданность, знак внимания…
Завывающего про Африку поэта сменил другой, в рубахе навыпуск, в лаптях, онучах; читал что то про деревню, тихо, задумчиво. Что именно читал, слышно не было.
Валентин Валентинович пристально посмотрел на Юру:
— Можешь оказать мне услугу?
— Какую?
— Так друзьям не отвечают. Если друг просит оказать услугу, ему отвечают: пожалуйста, любую!
— Пожалуйста, любую, — улыбаясь, повторил Юра.
Валентин Валентинович вынул из внутреннего кармана пиджака плоскую коробку, обтянутую сафьяном. В ее углублениях блестели инструменты для маникюра: ножнички, щипчики, пилочки.
Любуясь набором, Валентин Валентинович сказал:
— Из Парижа, последнее достижение косметической техники. Хочу презентовать Ольге Дмитриевне. Но как это сделать?
— Подарите.
Валентин Валентинович поморщился:
— Это невозможно: она не возьмет. Нужно именно то, о чем мы с тобой говорили, — игра, веселая игра, в этом весь смысл. Нужен сюрприз, что то таинственное, загадочное. Ты бываешь у них, положи это незаметно на трельяж Ольге Дмитриевне.
— Я?! — Юра был поражен. — Это невозможно…
— Почему?
— Я редко бываю у Люды, и всегда кто то есть дома, хотя бы та же Люда. Как я пройду в спальню к Ольге Дмитриевне? Проще попросить Люду.
— Нет, — разочарованно протянул Валентин Валентинович, — Люда откажется так же, как и ее мама… И потом, теряется игра, пропадет эффект… — Он вдруг оживился: — Слушай! Я видел, как мальчишки лазают по пожарной лестнице, она как раз возле окон Зиминых. Днем квартира пуста. Николай Львович на работе, Люда и Андрей в школе. Ольга Дмитриевна уходит в магазин, на базар, в парикмахерскую. В общем, можно выбрать время… Подняться по лестнице, влезть в окно, положить коробку. А?
— Прекрасный план, — согласился Юра, — но кто его осуществит?
— Как кто? Ты!
— Я?! — Юра совсем опешил. — Но днем я тоже в школе или на фабрике.
— Ты трусишь! Боишься подняться по лестнице. Сегодня на моих глазах Миша Поляков поднялся на крышу, да еще с шестами в руках, с проволокой для антенны на шее. Вот в чем их преимущество — они знают, чего хотят, и добиваются своего. Ты боишься Витьку Бурова, а он нет. Он защитил бедного Андрея, а ты не двинулся с места. И ты надеешься выиграть у них жизнь? Нет, мой дорогой, ты ее проиграешь, будешь в итоге плясать под их дудку, потому что сила у них, а не у тебя.
— Я тысячу раз поднимался по этой лестнице, — соврал Юра, — но я не могу уйти из школы.
— Ты ничего не хочешь для меня сделать, — с горечью произнес Валентин Валентинович. — Прекрасно, так и отметим. Очень хорошо, прекрасно. Я сам залезу в окно и положу набор.
— На глазах у всего дома?
— Я влюблен и готов на любые сумасбродства, — капризно проговорил Валентин Валентинович. — Я хочу вписаться в стиль этой семьи. Этот стиль — добрая и хорошая игра.
Эллен и циркачи поднялись и направились к выходу.
Валентин Валентинович проводил ее задумчивым взглядом и сказал:
— Ради нее Миша залез бы на Эйфелеву башню.
— Вы глубоко ошибаетесь в Мише и когда нибудь в этом убедитесь.
— Что ты имеешь в виду? — настороженно спросил Валентин Валентинович.
— Ничего конкретно… Вы сами только что сказали, что он вам не нравится, а теперь превозносите его.
— Во всяком случае, будь он моим другом, он бы мне не отказал, поднялся бы по лестнице и положил набор.
— Может быть, попросить кого нибудь из ребят во дворе? — предложил Юра.
— Довериться Витьке Бурову? Показать ему дорогу в квартиру Зиминых? Ты отдаешь себе отчет в том, что говоришь?
— Но я ищу вариант, — ответил Юра.
Валентин Валентинович ударил себя ладонью по лбу:
— Эврика! Ты говорил, что в школе вы храните свои вещи в ящиках.
— Да, в таких клетках, они стоят в коридоре.
— Значит, в клетке лежит и портфель Люды?
— Да.
— А в портфеле ключи от квартиры?
Залезть в чужую клетку, взять ключи, войти в чужую квартиру — нет, на это он не пойдет ни за что!
— Я не понимаю.
— Боже мой, так просто, — нетерпеливо продолжал Валентин Валентинович. — Возьмешь ключи, передашь мне, я за час все сделаю, положу набор, верну тебе ключи, ты их положишь обратно в портфель, и решена проблема.
Юра облегченно вздохнул: в чужую квартиру ему входить не придется… И все же — воровать ключи… В коридоре всегда кто то есть.
— А что будет потом? Ведь Зимины будут выяснять, как к ним попал набор?
— Ну, это уже пустяки! Для полной ясности я привяжу к коробке два цветка. Зимины все поймут, у них есть чувство юмора, чувство игры. И они не будут выяснять, как и каким образом он попал к ним.
— А если все же будут?
— Тогда мое разоблачение неизбежно, — весело объявил Валентин Валентинович.
— И что тогда?
— Вот тогда я скажу, что взобрался по пожарной лестнице. Это будет выглядеть очень весело и романтично. И расположит ко мне и Люду и Ольгу Дмитриевну. И, возможно, тронет черствое сердце Николая Львовича.
Глава 14
Открыть чужой портфель, взять ключи от чужой квартиры…
Дурацкая затея, идиотская причуда… К чему?! Люда не выйдет за него замуж, даже если он поселится на этой пожарной лестнице. «Влюблен, способен на сумасбродство, игра…» Странно слышать это от такого человека! Кретинизм, сопли, сантименты! А может быть, и не сантименты? И нет особой влюбленности? Нужна не Люда, а Николай Львович, нужна не жена, а мануфактура. Кто он такой, в сущности? Ординарный снабженец, несмотря на лоск, шик, респектабельность; плебей, хотя и произносит это слово с иронией. «Сюрприз» — словечко из Замоскворечья. Принеси! Сморозь какую нибудь банальность — для ваших прелестных пальчиков, Ольга Дмитриевна! Ведь не бриллиантовое колье дарит. Копеечная коробка с ножничками и пилочками. У его, Юриной мамы, десяток таких ножничек, щипчиков и пилочек. И нечего устраивать спектакль.
Так размышлял Юра, сидя за письменной работой в кабинете литературы. Блестящее майское солнце слепило глаза, тишина класса усыпляла, поскрипывали перья, шелестели перелистываемые страницы.
Генка с шумом отодвинул стул, собрал тетради и пересел на другое место.
— Ты что, Петров? — спросил преподаватель.
— Не хочу сидеть рядом с Зиминой.
— Почему?
— Всю школу провоняла своими духами.
— Сиди где хочешь, — недовольно проговорил Виктор Григорьевич.
— И потом, Виктор Григорьевич, я хочу переменить тему.
— Какая у тебя тема?
— Крестьянство в изображении Тургенева.
— Она тебе не нравится? Почему?
— Крестьянство надо изучать не у крепостника Тургенева.
— Тургенев был против крепостного права, — заметила Зина Круглова.
— Все равно! Литература должна объяснять историю с правильных идейных позиций.
— Литература не объясняет историю, а воспитывает человека, — сказала Зина Круглова.
— Сейчас не диспут, — сказал Виктор Григорьевич, — занимайтесь! Тема за тобой, Петров. Можешь изложить в ней свою точку зрения.
Тишина вернула Юру к его горестным мыслям. Приближалась перемена, а ровно в одиннадцать он должен вынести Валентину ключи.
Надо было сразу отказаться. Категорически! Не мямлить, не канючить. На глазах у всей школы открыть чужой портфель, взять ключи — он что, с ума спятил или считает его идиотом?
Не выходить! Сказать потом, что были заперты двери. Или выйти, но объявить, что в коридоре были ребята и он не смог взять ключи. Или еще лучше: портфеля не было в клетке, Люда взяла его в класс. Мысль!.. Впрочем, Валентин наверняка скажет: «Хорошо, сделай это завтра».
Нет, нет, нет! В такую авантюру он не ввяжется. Вышибут из школы. За месяц до окончания, спасибо! Конечно, если он попадется, можно наврать, что он хотел положить Люде в портфель записку, Люда выручит, подтвердит… И все же надо объясняться, оправдываться; они будут сидеть на учкоме с каменными лицами, будут допрашивать, выпытывать, читать нотации… Даже если в школе все сойдет благополучно, то неизвестно, как получится у Валентина. Войдет в дом, а тут явится Ольга Дмитриевна. Не поверит же она, что он влез в окно по пожарной лестнице.
Прозвенел звонок. Юра вышел в коридор, посмотрел на клетки.
Клетками назывались стеллажи, разделенные на открытые ящики, над каждым — бумажка с фамилией владельца. Сюда складывали книги, тетради, чертежи, личные вещи; клетки неприкосновенны, взять что либо, даже заглянуть в чужую клетку считалось преступлением.
Юра подошел к своему ящику, сделал вид, что перебирает там что то, взглядом примерился к клетке Люды: достаточно протянуть руку, чтобы взять ее портфель. Портфель приоткрыт. Люда не защелкнула его, просто втиснула в ящик.
По коридору бегали ребята, толпились у кооператива — столика, на котором разложены тетрадки, карандаши, ручки, чернильницы, линейки, циркули, транспортиры, стиральные резинки.
Один из школьных анахронизмов, которые так презирал Юра, кооператив сохранился с донэповских времен, когда тетради и карандаши добывались с трудом и распределялись учкомом среди учеников. Теперь все можно купить в любом магазине в большом выборе, хоть и на копейку две дороже. Но кооператив остался: не надо, видите ли, покупать у нэпманов и тем поддерживать частный капитал, а главное — традиция, которую надо сохранить во всей ее чистоте и неприкосновенности.
Как надоело! Одно и то же из года в год, из класса в класс. Такие нелепости! Валентин затевает глупую историю, но в ней хотя бы проглядывается личность, индивидуальность; он не боится войти в чужую квартиру, положить набор; он вырос в другое время — в то далекое время устраивали маскарады, шутили, мистифицировали и ничего не боялись. Почему же он, Юра, должен жить по чуждым ему законам? На диспуте он декларировал свою независимость, свое желание быть самим собой. Вот он и будет самим собой. Его приятель влюблен, хочет сделать подарок, делает в не совсем обычной шутливой форме. Что предосудительного?
Прозвенел звонок. Все потянулись в классы и кабинеты. Коридор опустел.
Юра вынул из клетки портфель, открыл, вытащил ключи, один большой, другой маленький для французского замка, положил в карман, поставил портфель в ящик и спустился по лестнице.
На первом этаже, у вешалки, он столкнулся с Сашей Панкратовым.
— Ты куда? — спросил Саша. На рукаве у него была красная повязка — знак дежурного по школе.
В другой ситуации Юра не обратил бы внимания на эту мелюзгу, хотя и с красной повязкой на рукаве. Но страх еще не прошел, и он растерянно пробормотал:
— Я выйду на минутку, отдам отцу ключ от квартиры, свой он потерял. Сейчас вернусь.
Валентин Валентинович уже ожидал его, Юра передал ключи.
— Когда у вас обед?
— С двенадцати до часу.
— Без четверти час я верну ключи.
— Только не опоздайте, а то двери закроют.
— Не беспокойся! Может быть, приду раньше.
— Это было бы очень хорошо.
— Пока!
— Пока!
В дверях стоял Саша Панкратов. Идиот!
— Ты чего здесь торчишь?!
— Запереть дверь.
— Я могу это сделать сам.
Юра вошел в школу.
Саша запер дверь.
Предстояли два часа томительного ожидания. Надо делать физику, но Юра пошел в исторический, там занималась Люда: не выйдет ли она к своей клетке, вдруг потребуется портфель…
Люда конспектировала, из кабинета не выходила.
Звонок возвестил большую перемену. Выкрикивая «Распределение! Распределение!», все высыпали в коридор, понеслись вниз по лестнице, яростно застучали кулаками в закрытые двери столовой: «Распределение — открывай!..»
Яша Полонский прокричал:
Девочки прелестницы, Не ломайте лестницы! Мальчики соколики, Берегите столики!Двери открылись. Расталкивая друг друга, ребята ворвались в столовую, уселись за длинные, покрытые клеенкой столы. Во главе стола — кастрюля с супом, по краям — алюминиевые миски и ложки, в середине — блюдо с ломтями черного хлеба, его тут же расхватали, каждый стремился получить горбушку…
Юра вышел из класса за Людой.
Люда вынула из клетки портфель, сунула в него тетрадки, положила обратно. Слава богу! Теперь возьмет его только после обеда…
Единственным украшением столовой был плакат: «Хорошо прожеванная пища идет впрок». Внизу карандашом было приписано: «Что такое прок?»
Ребята стучали ложками по столу:
— Распределение — распределяй!
Яша Полонский взобрался на скамейку:
Перестаньте шуметь! Бросьте разговаривать! Пищу надо переваривать. Тише — эти, ша — и те! Вы жевать мешаете!Дежурные в халатах разливали суп по мискам. Кит большим кухонным ножом разрезал на противне блинчатый пирог.
— Что это такое? — Юра брезгливо ткнул вилкой пирог.
— Блинчатый пирог.
— Где же мясо?
— Он с кашей.
Юра отодвинул миску.
— Дрянь, завернутая в гадость!
— Ты, наверно, лебеду пополам с соломой не лопал? — спросил Генка.
— Извини, не ел ни соломы, ни сена.
— Недобитый контрик! — бросил ему вслед Генка.
Ребята стучали ложками по столу:
— Добавки! Добавки!
Миша окликнул Шныру и Фургона:
— Панфилов! Зимин!
Они подошли.
— Ведь вы знали, что финка не моя, а Витькина. Почему молчали?
И на этот раз Шныра и Фургон молчали. Что они могли сказать?
— Непонятно, в какие игры вы с ним играете? — сказал Генка. — Он вдвое старше вас. Пируете вместе. На какие деньги? Воруете?
— А ты видел? — осмелел Шныра.
— Трусоеды вы несчастные, — сказал Миша, — еще раз продадите, мы с вами такое сделаем — пух полетит. А теперь катитесь!
Шныра и Фургон поспешили это сделать.
— Зря ты их так отпустил, — сказал Генка.
— В угол поставить?
— Гнать из школы к чертовой матери!
— Всех поисключаем, один Генка останется, — усмехнулся Миша.
Глава 15
Юра вышел на улицу. Валентина не было. Правда, еще только половина первого, но все равно Юра нервничал.
Вышла из школы Люда с девочками, ребята помчались на спортплощадку. Миша и Генка присоединились к тем, кто играл в итальянскую лапту.
Юра посмотрел на часы. Черт возьми! Без четверти час.
Люда прохаживалась по двору с подругой. Юра не спускал с нее глаз: если она попытается вернуться в школу, он во что бы то ни стало задержит ее до прихода Валентина, оставит с Валентином и в это время положит ключи.
Валентин Валентинович появился без десяти час.
Юра пошел ему навстречу.
— Ну как?
— Все в порядке, — весело ответил Валентин Валентинович, возвращая Юре ключи.
— Если можно, задержите на несколько минут Люду.
— Это нужно?
— Нужно.
Валентин Валентинович подошел к Люде, поздоровался, познакомился с подругой…
Юра вошел в школу, поднялся по лестнице, коридор был пуст, вложил ключи в портфель Люды, засунул портфель на место.
Страхи его казались теперь смешными. Идиот, психопат, истерик, паникер! Как весело и уверенно держался Валентин Валентинович! Да, человек!
На последнем уроке Миша объявил, что сегодня заседание учкома. Все члены учкома обязаны явиться; могут остаться и желающие.
Юра не был ни членом учкома, ни желающим остаться. Но после занятий, собирая книги у своей клетки, он услышал, как один паренек сказал другому:
— Я останусь на учкоме.
— А что будет?
— Кто то у кого то чего то спер из клетки.
Юра похолодел. Впрочем, если о нем, то почему его не вызвали?
К клеткам подошли Миша с Генкой.
Миша как то странно посмотрел на Юру, а Генка сказал:
— Между прочим, и тебе не мешает остаться на учкоме.
— Зачем? — с замирающим сердцем спросил Юра: боялся, что сейчас он услышит про портфель.
Но Генка сказал только:
— И тебя касается.
Юра пожал плечами:
— Не понимаю…
— Там поймешь!
В красном уголке было душно, набилось много ребят. Тянуло на улицу.
Миша поторопил Генку:
— Давай, что у тебя, только покороче!
— Диспут о мещанстве ничего не дал, — сказал Генка. — Обывательщина нас захлестывает, отрицательные явления множатся. Известный всем Витька Бурков, воровская кличка Альфонс Доде, продолжает разлагать младшеклассников, а мы никак не реагируем. Есть и другие факты, совсем свежие, — он посмотрел на Юру, — но о них потом…
Ждать, томиться два часа, пока дойдут до него? Нет, пусть уж сразу!
— Почему потом? Говори сейчас! — сказал Юра.
— Успеешь! Так вот, продолжаю. — Генка вынул из сумки тетрадь в коленкоровом переплете. — Сейчас я прочитаю стихи, которые пишут учащиеся шестого класса — кстати, пионеры. — Генка перелистал тетрадь.
— Вот: «Розы тогда расцветали и пели тогда соловьи, когда мы друг друга узнали, то были счастливые дни». Дальше! «Пускай другую ты ласкаешь, такую гордую, как я, но, может, счастье потеряешь и вспомнишь обо мне тогда». Это пишет ученица советской школы и пионерка. — Генка перевернул еще несколько страниц. — «Ты не знаешь, что я тайно страдаю, ты не знаешь, что я тайно люблю, к тебе подойти я не смею, люблю, но сказать не могу»… А вот еще: «Вспомни минувшие годы, вспомни минувшие дни, вспомни денек тот веселый, когда познакомились мы». Мало? Пожалуйста! «Не плачь, когда крылом могучим твой горизонт тоска затмит, не верь ты этим грозным тучам, за ними солнышко блестит». И рисунок.
В тетради было аккуратно нарисовано сердце, пронзенное стрелой.
— Зоя Новикова, это твои стихи? Ты их сочинила?
— Я их не сочинила, а переписала, — ответила Зоя Новикова, хорошенькая девочка с падающей на лоб челкой.
— У кого?
— Не скажу.
— Как так не скажешь?
— Так, не скажу.
— Мы хотим знать, кто в школе распространяет эту пошлость.
— А я все равно не скажу.
— Значит, ты укрываешь пошляков и мещан и сама мещанка.
— Я не мещанка, просто у меня было плохое настроение, и я переписала.
— Плохое настроение? — поразился Генка. — Но ведь ты пионерка! Разве у тебя может быть плохое настроение?
— А когда ты получаешь «неуд», у тебя хорошее настроение? — спросила Зина Круглова.
— Я комсомолец, и у меня всегда хорошее настроение.
— Брось губами шлепать! — сказал Яша Полонский.
— Генка, откуда у тебя эта тетрадь? — спросил Миша.
— Это не имеет значения.
— Зоя, ты давала Генке тетрадь?
— Нет! Ее вытащили из моей клетки. Кто вытащил, не знаю, хотя подозреваю.
Юра на минуту воспрянул — вот, оказывается, о чем речь!
— Кого подозреваешь? — спросил Миша.
— Не скажу, — ответила Зоя Новикова.
— Но ты утверждаешь, что тетрадь вытащили из клетки, настаиваешь на этом?
— Утверждаю и настаиваю.
— Подумай, вспомни: может быть, ты кому нибудь ее давала?
— Никому не давала, ее у меня вытащили из клетки.
Каждый раз, когда произносилось слово «клетка», Юру словно обжигало, точно говорили о нем самом… Может быть, еще заговорят. Наверное, заговорят. Их манера! Сначала накалят атмосферу этим случаем, а потом перейдут к нему. Если за то, что вытащили стишки, объявят выговор, то за ключи… Тут они разыграются.
Дело принимало серьезный оборот.
Генка сказал:
— Тетрадь мне дала Лара Усова.
— Так я и знала! — торжествующе объявила Зоя.
Все посмотрели на Лару, чернявую девочку с узко поставленными глазами.
— Как к тебе попала эта тетрадь?
Опустив глаза, Лара молчала.
— Ты мне сказала, что ее тебе дала Зоя, так? — сказал Генка.
Лара молчала.
— Украла?
— Я случайно, по ошибке, — прошептала Лара, — наши клетки рядом.
— Почему обратно не положила?
Лара молчала.
— Зачем Генке отдала?
Лара метнула на Генку быстрый взгляд, но ничего не ответила.
— Нет, скажи! — потребовал Генка. — Я что, просил тебя? Отвечай!.. Ведь ты сама подошла ко мне и сказала: вот Зоя сочинила стихи, почитай, для стенгазеты… Так ты сказала или нет? Отвечай!
Лара молчала.
Генка вскипел.
— Мало того, что крадешь! Ты еще и обманываешь!
Лара начала всхлипывать.
— Реви, реви громче! — сказал Генка. — Преступники всегда ревут, как белуги, это помогает.
«Черт возьми, — с тоской думал Юра, — скорее бы они кончили с этим».
— Что решим? — спросил Миша.
— Ларе бойкот на семь дней, — предложила Зина.
— А Генке?
— Мне за что? — поразился Генка.
— Читаешь чужие дневники.
— Нет, погоди, — заволновался Генка, — нельзя, знаешь, так, за здорово живешь… «Что Генке?» В чем мое преступление?
— Повторяю: читаешь чужие дневники.
— Но ведь мне его дали, сказали: посмотри для стенгазеты. Я не знал, что его украли. Думал: Зоя всем дает читать свои стихи, дала Ларе, Лара дала мне.
— Прежде чем выносить стихи на обсуждение, ты должен был спросить разрешения у Зои: это ее собственный, личный дневник.
— Что значит личный? — возразил Генка. — А если бы там было написано, что Зоя знает о каком то преступлении, то и тогда я должен молча вернуть ей дневник, и все? Нет, я это понимаю по другому.
— Демагогия! — рассердился Миша. — Стихи плохие, но ничего преступного в них нет. А вот выкрасть из чужой клетки — преступление. Вынести их на учком — способствовать преступлению.
— Но ведь я не знал, что их выкрали! — закричал несчастный Генка. — Я хотел как лучше. Должны мы бороться с мещанством или нет?
— Генка совершил ошибку, поступил неэтично, но все же его не за что наказывать, — сказала Зина Круглова.
Обращаясь к Зое, Яша Полонский продекламировал:
Милая, кроткая, нежная, Вся воплощенье мечты, Нравится мне твоя муза унылая, Только вот Генке не нравишься ты!— Ладно, — сказал Миша, — я не настаиваю на взыскании Генке, но пусть будет осмотрительнее. Что у тебя еще, Генка?
— Еще… Вот случай, не далее как сегодня…
Юра напрягся — это, конечно, о нем.
— Не далее как сегодня, за обедом, Юра не стал есть пирог — больше того, назвал его дрянью, завернутой в гадость. И это в то время, когда страна только выходит из голода и разрухи, когда миллионам людей в Поволжье и других краях недостает куска хлеба. Такое заявление — возмутительное барство, нетерпимое в нашей среде!
Теперь все смотрели на Юру.
— И за этим вы меня вызвали? — спросил Юра, еще не веря, что все оказалось такой ерундой.
— Тебя не вызывали, а посоветовали прийти.
— И больше вам нечего сказать?
— Кому это вам? — спросил Миша. — Ты что, отделяешь себя от нас?
— Знаешь, Миша, могу ответить тебе твоими же словами: не надо демагогии! Генка, больше ты ничего не хочешь мне сказать?
— Этого тебе мало?!
— Тогда всеобщий привет!
Юра махнул рукой и вышел.
— Вот, пожалуйста, — сказал Генка, — демонстративно покинул заседание учкома. Так оставлять нельзя.
Зина Круглова предложила:
— Выговор ему за барство, за игнорирование учкома.
— Голосуем, — сказал Миша.
Все подняли руки.
Ободренный тем, что в этом случае он оказался прав, Генка деловито спросил:
— Что будем делать с Витькой Буровым и его компанией? Может быть, передать в СПОН?[3]
— Давайте пока ничего не решать, я попробую с ними поговорить, — сказал Миша.
— Ты уже пытался говорить с Витькой. Что получилось? — возразил Генка.
— Попробую еще раз.
Глава 16
Разговор с Витькой действительно не получился. Но то, что увидел тогда Миша, внесло в его представление существенную поправку: Витька защищал мать от пьяного отца.
После учкома, вечером, Миша отправился к Белке.
По узкой лестнице с выщербленными цементными ступенями спустился в подвал, открыл дверь с ободранной обшивкой из грязной мешковины и очутился в темном коридоре со скользкими стенами, пропитанном гнилыми запахами сырой штукатурки, нищего жилья, вонючего тряпья, подгоревшего подсолнечного масла.
Комната тоже была сырой, полутемной, с голыми стенами, низким, сводчатым потолком, придававшим ей вид кельи.
Под потолком тускло серел маленький прямоугольник окна, выходящий в яму, прикрытую со двора металлической решеткой.
На постели, застланной тряпьем, сидела тетка или бабушка Белки — нищая старуха, побирушка. За квадратным, грубым, голым столом на табурете — Белка.
Табурет был единственным. Миша стал, прислонившись к косяку двери.
Белка исподлобья посмотрела на него и отвернулась.
Старуха, бормоча, перебирала тряпье на кровати.
— Слушай, Белка! — сказал Миша. — Как твое настоящее имя?
— Белка! — вызывающе ответила девочка.
Миша повернулся к старухе:
— Как ее зовут?
— Кто знает, — пробормотала та, перебирая тряпье, — приблудная девчонка. Подобрала на вокзале, в голод еще, вот и живет. Как крестили, не знаю. Во дворе Белкой кличут.
— Почему в школу не ходишь? — спросил Миша.
— Не хочу и не хожу.
— А если в колонию отправят?
— Убегу.
— Брали ее, — сказала старуха, — убежала, откуда хошь убежит, верткая.
Стол был пуст, никаких следов еды, даже посуды не было: ни стакана, ни кастрюли, ни чайника.
— На что живете?
— А что люди добрые дадут, на то и живем. И Белка вон кормит, не обижает, спасибо!
— А ты где достаешь? — спросил Миша у Белки.
— Где надо, там и достаю.
— Можно попасться.
Болтая ногами, Белка запела:
Что вы советы мне даете, словно маленькой, Ведь для меня давно решен уже вопрос. Оставьте, папенька, ведь мы решили с маменькой, Что моим мужем будет с Балтики матрос. Ах, сколько жизни он вложил в свою походочку, Все говорили, что он славный морячок. Когда он шел, его качало, словно лодочку, И этим самым он закидывал крючок. Была весна, цвела сирень, и пели пташечки…Она оборвала песню:
— Ты зачем пришел?
— В гости.
— Погулять со мной хочешь? Деньги у тебя есть?
— Денег у меня нет.
— А на кино у тебя хватит?
— На кино, пожалуй, хватит.
— Тоже кавалер нашелся!
— Чем не кавалер?
— Легавый — вот ты кто!
— Так уж легавый?
— Легавый! — повторила Белка, не меняя позы — сидела спиной к Мише, подперев рукой подбородок.
— Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму.
— Мне и в тюрьме хорошо — там кормят.
— В колонии тоже кормят, а ты убежала. А из тюрьмы не убежишь: четыре стены, решетка.
— А за что в тюрьму, что я сделала?
— Сама знаешь.
— Знаю, а не скажу.
— А я тебе скажу: буфет в кино обворовала.
Белка ничего не ответила.
— Ты думала, никто не знает. А я знаю.
— Ну и знай!
— Посадят в тюрьму, и тебе будет плохо, и бабка твоя с голоду помрет. Тебе сколько лет?
— Нисколько.
— Четырнадцать лет записано, — сказала старуха.
— Записано… — усмехнулась Белка. — Где это?
— В домоуправлении, а как же.
— Хочешь, на фабрику устрою? — предложил Миша.
— Чего, чего? — насмешливо переспросила Белка.
— На фабрику устрою, на работу. Получишь специальность, зарплату, оденешься. Плохо разве?
— Все лучше, чем с жульем то возиться, — сказала старуха. — Ты послушай, что человек говорит.
Белка молчала.
— Платок бы купила, ботинки, — продолжала старуха. — Зимой босиком не побежишь. Сахару бы поела.
Белка опять затянула тонким голоском:
Была весна, цвела сирень, и пели пташечки. Братишка с Балтики сумел кой что залить. Ему понравилась красивая Наташенька, Такой кусочек не хотел он пропустить…— Я поговорю на фабрике, — сказал Миша.
— Сам работай, если тебе надо! — ответила Белка.
Глава 17
Опять был фабричный день. После смены Миша пошёл к Зимину.
Года два назад Миша был у Люды на дне рождения. Мама Люды держалась с ребятами как товарищ, пела смешные куплеты, пародии, затеяла шарады, потом она и Николай Львович играли с ними в слова: из одного слова составлять другие, новые слова — не меньше чем из четырех букв. Затем Ольга Дмитриевна ушла на кухню, нажарила там гору блинчиков, очень вкусных, ребята всю эту гору умяли моментально. Потом Ольга Дмитриевна и Николай Львович ушли в кино. Ольга Дмитриевна сказала, что они уходят, чтобы не мешать, и звала ребят приходить, сказала, что это ее личная просьба — она обожает играть в слова, а Люда с ней не играет, важничает, потому что всегда ее обыгрывает. Она много смеялась, и ребята смеялись, и Николай Львович. У Николая Львовича было тогда совсем другое лицо, Миша даже не узнал его, когда встретил на фабрике. Два года назад, на дне рождения, это было лицо легкое, доброе, даже молодое и даже красивое, хотя с этим понятием — красота — Миша здорово путался, вообще, считал эту проблему преувеличенной, тем более что единое мнение тут невозможно: даже насчет Аполлона и особенно Венеры еще можно здорово поспорить. В школе, например, все считали Люду Зимину очень хорошенькой, самой хорошенькой. Миша недоумевал. Ее мать, на которую, кстати, Люда была очень похожа, действительно была красивой, прежде всего потому, что была веселой. Люда веселой никогда не была. Наоборот, она была какой то замороженной: наверно, думала, что это ей больше идет.
Таким же несколько надменным и недоступным держался на фабрике и Николай Львович.
Как и Люда в школе, так и Николай Львович на фабрике был одинок, старомодный в своем хорошо выутюженном костюме, чужой в новом мире, буржуазный спец, терпимый потому, что нет своих спецов. На собраниях его часто ругали. Всех ругали — много неполадок на фабрике, — но Зимина ругали сдержанно, не как своего, а как чужого. Он выходил на трибуну и отвечал чересчур спокойно, обстоятельно.
Мише было трудно обращаться к нему — чем то чужой человек. И все таки обратиться нужно. Нужно устроить на фабрику Белку и Шныру, иначе пропадут ребята.
…Зимин поднял голову и посмотрел на вошедшего в кабинет Мишу.
— Николай Львович! — Миша подошел к столу. — Нельзя ли принять на фабрику одну девочку и одного мальчика? Ей четырнадцать лет, а мальчику, наверно, пятнадцать.
— Садитесь!
Миша сел на стул возле стола.
— В школе они не учатся, пусть хоть работают.
— Я не занимаюсь наймом и увольнением, — ответил Зимин, — это решает директор. Обратитесь к нему… Насколько мне известно, бронь подростков заполнена.
— Безнадзорные ребята…
— Да, да, понимаю, — проговорил Николай Львович, собирая бумаги в папки и раскладывая их по ящикам стола, — но бронь есть бронь, выйти за ее пределы мы не можем. И потом — мальчик? На фабрике работают женщины, и бронь подростков — девочки.
— Ну, хотя бы девочку, — настаивал Миша. — Она сирота, убежала из колонии.
— А с фабрики не убежит?
Вопрос был задан рассеянно, из вежливости, для поддержания разговора, чтобы что нибудь сказать. Николай Львович был озабочен своими бумагами, сложил их наконец в стол, запер ящики на замок и поднялся, давая понять, что разговор окончен. Рабочий день тоже, между прочим, окончен.
— Пропадет девчонка, жалко, — сказал Миша. — Рядом Смоленский рынок, Проточный переулок, ворье, жулики…
Николай Львович снял с вешалки плащ, взял в руки кепи.
— Вам следует поговорить с директором, хотя боюсь, он ничего не сумеет сделать до нового набора. Набор, повторяю, будет в сентябре. Я со своей стороны поддержу вашу просьбу. Вы надеетесь, что это ей поможет?
Он открыл дверь кабинета, приглашая Мишу выйти, и вышел вслед за ним.
Итак, он согласился помочь и, следовательно, помог. Но, черт возьми, в какой форме?! И что толку от его обещания?! «Я поддержу вашу просьбу, но директор все равно ничего не сумеет сделать до нового набора». Ироническое: «А с фабрики не убежит?» — и тут же равнодушно вежливое: «Вы надеетесь, что это поможет?» Странная постановка вопроса! Да, Миша надеется, что поможет, не надеялся — не пришел бы, не просил бы! А вы, значит, нет, не надеетесь; тогда зачем обещаете помочь? Вам безразлично. Вот именно, скорее всего, безразлично…
С неожиданной жесткостью, которая иногда находила на него и о которой он потом жалел, Миша сказал:
— Эта девочка в плохой компании. Между прочим, в этой плохой компании и ваш Андрей.
Они стояли в коридоре. Рядом грохотал сновальный цех, виднелись станки, бесконечные нити тянулись с больших катушек на малые, работницы внимательно следили за ними; когда нить обрывалась, работница останавливала станок, быстро связывала нить мелким узлом, почти невидимым.
— Андрей?! — Он кивнул в сторону цеха, показывая, что шум мешает разговаривать.
По узкой металлической лестнице с железными перилами они спустились во двор.
— Андрей? Малыш? В компании? Может быть, он играет в компанию?
— Я сказал вам об этом потому, что считаю это достаточно серьезным.
— И что за компания? Расскажите, Миша.
— У нас во дворе… Андрей, еще два мальчика, девочка Белка, о которой я вас просил, главарь — Витька Буров, тоже живет в нашем доме.
— Жена говорит, что Витька издевался над Андреем, бил его, чуть не зарезал, если бы вы не вмешались тогда.
— Он его, конечно, не собирался зарезать. Он главарь, чинит расправу над подчиненными. Ничему хорошему он Андрея не научит, а Андрей бегает за ним, как собачка.
Они шли к проходной, их обгоняли работницы, окончившие смену.
— Я целый день на работе, Андреем занимается мать, — сказал Николай Львович, — но, я, конечно, приму меры… Так странно — Андрей в воровской компании. Спасибо, что вы предупредили меня, я вам очень признателен… Какой скрытный, дурачок, дома — ни звука… Но раз уж речь зашла о моей семье, то у меня к вам еще вопрос: что произошло у Люды в школе?
— У Люды в школе?.. Как будто ничего, во всяком случае я ничего не знаю.
— Что то произошло. После вашей живой газеты она пришла домой сама не своя. Плакала.
— Странно, — пробормотал Миша, — а там громче всех смеялась.
— Это делает ей честь, — сказал Николай Львович. — Дома она не смеялась, да и сейчас не смеется. Я прекрасно понимаю: и справедливую критику трудно воспринимать спокойно, а несправедливую? Да к тому же публичную, со сцены, и, по видимому, достаточно окарикатуренную… В вашей школе нет предубеждения против детей из интеллигентных семей?
— Нет, мы никого не разделяем по социальному признаку. В той же живой газете прохватили и детей рабочих — Генку Петрова, например, того же Витьку Бурова. Люда зря обиделась. Там про нее спели очень невинные куплеты. Я не помню текста, что то в стиле оперетты.
— Значит, моя дочь не поклонница этого жанра. Благодарю вас. Не хотелось бы, чтобы Люда узнала о нашем разговоре, она будет недовольна моим вмешательством.
— Я ей ничего не скажу, — пообещал Миша. Вспышка гнева прошла, ему почему то стало жалко Зимина.
— Спасибо, благодарю. О той девочке, вашей подопечной, я переговорю с директором.
Зимин поклонился Мише, направился в проходную, но его окликнули:
— Николай Львович!
К проходной спешил Красавцев, протянул Зимину папку:
— Документы по браку, Николай Львович, вы просили.
— Документы? Сейчас? — удивился Зимин. — Ведь я иду домой.
— Только только закончили, — объяснил Красавцев. — Подбирали документы, как вы дали указание. Несу — вижу, вы идете. Обратно нести? У меня в отделе сотрудники уже разошлись.
Николай Львович положил папку в портфель:
— Хорошо, завтра воскресенье, я их посмотрю дома.
Зимину явно не хотелось брать документы. Красавцев не хотел возвращаться с ними в отдел. Зимин взял документы очень недовольный. Миша подумал, что мог бы и не брать. А взял. Типичный мягкотелый интеллигент.
Глава 18
Дома Николая Львовича ждали билеты в Художественный театр на «Дни Турбиных». К билетам прилагался элегантный Валентин Валентинович в полосатом костюме и лаковых штиблетах, эдакий князь Данила, не хватает бутоньерки в петлице.
Верные решению, принятому ими после возвращения Люды из ресторана, Зимины, как передовые родители, разрешили этот визит. Сегодня все отправлялись в театр, а с завтрашнего дня Ольга Дмитриевна начнет осторожно шутить над этим франтом и развенчивать его в глазах Люды. Все это не слишком нравилось Николаю Львовичу, но он согласился с женой, что из всех худших вариантов — это лучший. И дай бог, этот визит последний…
Из под полуприкрытых век он разглядывал Навроцкого: не слишком вяжется с привычным типом работника снабжения — интеллигентен, корректен, держится с достоинством.
— Популярны сейчас «Лес» у Мейерхольда, «Принцесса Турандот» у Вахтангова, «Жирофле Жирофля» у Таирова, — говорил Валентин Валентинович, — но самый значительный — «Дни Турбиных» в Художественном. Я думаю, спектакль вам понравится.
— «Принцессу Турандот» мы видели недавно, — сказала Ольга Дмитриевна. — Театр Вахтангова рядом. Таирова Николай Львович не очень любит, тут мы с ним расходимся во вкусах. Что касается Мейерхольда, то это, в общем, спорно.
— Да, — согласился Валентин Валентинович, — Мейерхольд необычен, но, безусловно, оригинален, это вполне современное зрелище.
— Вот видите, а мы бегали на галерку в Художественный, — сказала Ольга Дмитриевна.
— Тем более вам должны понравиться «Дни Турбиных», — серьезно сказал Валентин Валентинович. — Спектакль поставлен Станиславским и Судаковым, заняты Хмелев, Добронравов, Яншин. Я уже раз смотрел, с удовольствием посмотрю второй. Пьеса о крушении белой армии, первая попытка серьезно рассмотреть трагедию людей, веривших в правоту своего дела. Можно принимать такое толкование, можно не принимать, но интересно бесспорно.
Не простой делец. Судя по манерам — из приличной семьи.
— Вы москвич? — спросил Николай Львович.
— Да, поскольку живу в Москве. Но родился я в Воронежской губернии, мой отец управлял конными заводами графа Орлова.
Прозвучало так, будто отец Валентина Валентиновича был не управляющим чьими то заводами, а их владельцем.
Чем он нравится Люде? Ведь умная, проницательная девочка.
…Впрочем, он, кажется, впадает в обычную родительскую ошибку. Разве можно определить, почему этот субъект нравится дочери? Можно только определить, почему он не нравится ему самому. Чем же? Лакированными штиблетами? Конечно, нет, не штиблетами. Все дело, безусловно, в фабрике, в эпизоде с тем вагоном, который он велел задержать и который не задержали. Возможно, Навроцкий ни при чем, ему погрузили вагон, и он его отправил, и все же… Красавцев нечист на руку, и все это, вероятно, не случайно. Короче: проходимец он или нет?
Ольга Дмитриевна посмотрела на часы:
— Андрею пора быть дома. Где он, Люда?
— Во дворе, наверно.
— Надо его позвать.
Люда подошла к окну:
— Андрюшка! До о мой!
— Тянет его во двор, — сказала Ольга Дмитриевна, — а у нас ужасный двор, один Витька Буров чего стоит.
— Двор… — улыбнулся Валентин Валентинович. — Это естественно в его возрасте. И даже, если хотите, необходимо. Двор лучше подготовит его к жизни реальной и весьма жестокой, чем… Поймите меня правильно, у меня тоже была хорошая мама, даже, может быть, чересчур хорошая, так что говорю это по собственному нелегкому опыту.
— Ваша мама жива? — спросила Ольга Дмитриевна.
— Мои родители погибли в железнодорожной катастрофе…
Наступило короткое неловкое молчание, потом Ольга Дмитриевна сказала:
— Может быть, двор и лучше подготовит его к будущей жизни, но пока не было двора, он был гораздо послушнее.
— Андрей дружит не с Витькой Буровым, а с Леней Панфиловым, тот его защищает, — сказала Люда. — Все это нормально, мамочка. Но дети не цветы жизни…
— Как представитель деткомиссии, я так не думаю, — сказал Валентин Валентинович. — Как представитель деткомиссии, я просто не имею права так думать.
Все засмеялись, кроме Люды. Она была раздосадована. Зачем затеяла все это? Он был терпим там, в ресторане, но здесь, у них в доме, этот чужой человек неестествен, банален. Этот намек на знатное происхождение — какая дешевка! Родители погибли в железнодорожной катастрофе — вранье.
А Николай Львович думал о том, что сказал ему Миша Поляков. Он все же не допускал, что его Андрей, толстый, неуклюжий, добрый и, между прочим, довольно способный мальчик, растет бандитом. Вот и Люда подтверждает, что он дружит не с Витькой, а с Леней Панфиловым, сыном кладовщика.
— Все же в чем дело с Витькой Буровым? — спросил он осторожно, стараясь не обеспокоить Ольгу Дмитриевну — она так нервничала по этому поводу.
Люда молчала.
Ответила Ольга Дмитриевна:
— Дети его боятся. Если бы можно было уехать из этого дома, я бы уехала.
— Наверно, он плохо влияет на детей, — сказал Валентин Валентинович. — Мы в деткомиссии часто сталкиваемся с такими ситуациями: один великовозрастный болван портит хороших подростков. Я со своей стороны могу вам пообещать навести там порядок. Мне, как бывшему дворовому мальчику, это не будет особенно трудно.
Опять фальшь! Граф превращается в дворового мальчика. Что за чушь?!
— Витька безобидный парень, — сказала Люда, — я его знаю тысячу лет. Просто он тщится изображать из себя грозу Арбата, вожака и атамана. И у нас очень хороший двор, мы в нем выросли, и никакого особенного порядка наводить нет нужды.
Валентин Валентинович с удивлением посмотрел на нее; ее вызывающий тон был для него неожидан, что то он упустил, что то ускользнуло от него, где то дал промашку? А может быть, все это относится не к нему, а к матери, к отцу… Нет, она прямо и неприязненно смотрит на него…
Валентин Валентинович даже на мгновение растерялся, не зная, что сказать. Выручило появление Андрея в запачканной мелом рубашке.
— Я тебе велела быть дома! — строго проговорила Ольга Дмитриевна.
— Я дома, — ответил Андрей простодушно.
— Каждый раз тебя приходится звать — так нельзя, Андрюша. Ты очень грязный. Умойся, поужинай — ужин на кухне, — сделай уроки и ложись спать. Дверь на цепочку не бери, чтобы не было, как в прошлый раз…
— Я догадываюсь, что было в прошлый раз, — улыбнулся Валентин Валентинович — он уже овладел собой. — Богатыри именно так и должны спать.
Ольга Дмитриевна подняла с пола портфель мужа, поставила на письменный стол.
— Пора, наверно? Трамвай довезет нас только до Охотного.
— У нас еще достаточно времени, — ответил Навроцкий.
Его неторопливость объяснилась, когда они вышли на улицу.
У тротуара стоял открытый легковой автомобиль. За рулем сидел шофер в кожаной куртке и кожаных крагах.
Валентин Валентинович открыл дверку:
— Прошу!
— Зачем это? — поморщился Николай Львович.
— Не хотелось, чтобы наших дам толкали в трамвае.
Глава 19
Дети еще спали. Николай Львович и Ольга Дмитриевна пили утренний кофе. Ольга Дмитриевна в халате, Николай Львович в домашней куртке.
Вчерашний спектакль ему понравился, давал повод для размышлений. И перед ним в свое время стояли те же вопросы: сотрудничество с новой властью, признание новых хозяев страны. Были годы разрухи, казалось, все пошло прахом. Но восстановлено хозяйство, заводы и фабрики работают, как работали раньше, отчуждение между властью и технической интеллигенцией сглаживается. И надо работать. Для блага России.
Ольга Дмитриевна чувствовала его настроение, улыбалась и молчала…
Бог послал ему хорошую красивую жену, верную спутницу жизни. Она училась пению, ее даже приглашали в оперетту (опять оперетта, везет ему на оперетты), но сама не пожелала для себя такой судьбы. Они дважды ездили за границу, в Париж и Лондон, но и эти поездки она никогда почти не вспоминала, наделенная редкостным даром радоваться тому, что у нее есть, любить то, чем обладает, и не говорить о том, чего нет; даже тогда, когда было трудно, она выкручивалась, как могла, что то продавала, тянула семью и сумела сохранить веселый характер, как будто прожила легкие, беспечные годы, не знала голода и лишений, страха детских болезней и всего, что она знала и пережила.
— Налить еще кофе? — спросила она шепотом, чтобы не разбудить Андрюшу, спавшего на диване.
— Налей. Вкусный кофе сегодня.
Она кивнула кудрявой головой. И эту черту она сохранила — любила, когда ее хвалили. Но ей не терпелось обсудить вчерашний поход…
— Ну, как он тебе?
— Обходительный чересчур, — ответил Николай Львович.
— Но без лакейства…
— И еще: чересчур собран, чересчур начеку… Мне кажется, что Люда не слишком им очарована.
— Да, мне это тоже показалось… Мне кажется, он просто ей неинтересен, так же, как тебе и мне. Но он ей почему то нужен… Хочет иметь при себе постоянного поклонника? Это льстит ее детскому самолюбию? Непонятно. Желание кружить голову? На нее это не похоже. Она и не кокетничает вовсе. С мальчишками из ее класса, если ты помнишь, она кокетничала гораздо смелее. Выйти замуж за него? Нет, она не собирается выходить за него замуж. Перед тем, как он пришел к нам, я спросила ее: зачем он тебе? Она напустила таинственности, сказала: значит, нужен. Но вид был чересчур таинственный, и ничего за этим, я думаю, нет.
— Тогда остается понять, зачем это нужно ему?
— Ну вот, это типично мужская постановка вопроса. Посмотри на Люду, я думаю, что этот Валентин Валентинович не последнее разбитое сердце.
— Что то не похоже на разбитое сердце.
— Похоже, похоже, — сказала Ольга Дмитриевна безапелляционно. — Возможно, поэтому он и был так ненатурален — от смущения… А в общем я думаю, все скоро пройдет.
— И чем быстрее, тем лучше, — добавил Николай Львович, — ей в этом году поступать в вуз. И не надо забывать, какой конкурс — ей придется все лето готовиться; тут, я думаю, не до молодых людей.
— Конечно, как только кончится школа, уедем на дачу, и пусть сидит и занимается до самых экзаменов… Кстати, надо бы нам с тобой съездить на дачу, помочь маме. Дачей пользуемся, а все на маме — и дом и сад.
У тещи была дача на Клязьме по Ярославской дороге; теща жила там круглый год, они выезжали летом.
— Не знаю, сумею ли я выбраться. Поезжай с Людой. Весеннее солнце, загар вам будет к лицу.
— Мне хотелось с тобой, тебе тоже загар идет, — пошутила Ольга Дмитриевна.
Николай Львович пересел к письменному столу, закурил, решил посмотреть документы, отданные ему вчера Красавцевым, поискал глазами портфель. Портфеля на столе не было. Наклонился, посмотрел, нет ли портфеля возле стола, — там его тоже не оказалось.
Ольга Дмитриевна кончила пить кофе, ушла в спальню, присела к трельяжу, начала причесываться.
— Оля, ты не видела моего портфеля?
— Портфеля? Сегодня не видела.
Николай Львович вышел в переднюю, зажег свет, посмотрел под вешалкой — портфеля не было.
Он вернулся в столовую, еще раз посмотрел вокруг письменного стола, осмотрел диван, за диваном. Портфеля не было.
Он прошел в спальню, посмотрел и там.
— Что ты ищешь? — по прежнему шепотом спросила Ольга Дмитриевна.
— Все тот же портфель. Куда я мог его засунуть?
— Может быть, ты оставил его на работе?
— Ты сама вчера, перед театром, переставила его на стол.
— Да, верно, вспоминаю. Тогда он на столе.
— Его нет на столе.
— Почему ты так обеспокоен? Там что нибудь важное?
— Служебные бумаги.
— Но он никуда не мог деваться. Давай искать вместе.
— Я все обыскал.
— Хорошо, ты садись, я сама буду искать. Я найду, что мне за это будет? Оставайся здесь.
Ольга Дмитриевна вышла из спальни, скоро вернулась.
— Нигде нет. Я разбужу Андрея?
— Разбуди, — попросил Николай Львович.
— Господи, значит, это так важно! — воскликнула она и подошла к дивану, тихонько позвала сына: — Андрюша, проснись! Проснись, малыш! Проснись и вспомни, что было. Ты выходил во двор?
Андрей поднялся, протирая глаза кулаками.
— Андрюша, когда мы уехали в театр, ты выходил во двор?
Андрей протирал глаза.
— Ты выходил во двор?
— Какой двор? — недовольным, заспанным голосом переспросил Андрей.
— Ну, проснись, мальчик, вспомни, ты выходил во двор?
— Никуда я не выходил.
— Это правда?
— Правда.
— Да, я знаю, ты всегда говоришь правду, — сказала Ольга Дмитриевна.
— А к тебе кто нибудь приходил? — спросил Николай Львович.
— Нет.
— Товарищ какой нибудь?
— Нет.
Николай Львович показал на стол.
— Вот здесь стоял мой портфель. Где он?
— Кто?
— Портфель.
— А я откуда знаю?
— Андрюша, понимаешь, это очень важно для папы, — сказала Ольга Дмитриевна.
У мальчика сделалось встревоженное лицо, ему передалась тревога родителей.
— Я его даже не видел, портфеля.
— Но не мог же он улететь в форточку! — воскликнула Ольга Дмитриевна.
Николай Львович открыл окно и свесился через подоконник. Пожарная лестница проходила между окнами спальни и столовой, однако перелезть с нее было невозможно — прут, крепящий лестницу, проходил много выше окна.
— В окно никто залезть не мог, — сказал Николай Львович. — Если даже смог, зачем понадобился портфель со служебными бумагами?
— Но сам портфель очень хороший, кожаный, с серебряной монограммой, — возразила Ольга Дмитриевна, — позвони в милицию.
Николай Львович подумал, потом сказал:
— Спи, сынок, портфель найдется. Пойдем, Оля, не будем ему мешать.
Они вернулись в спальню, Николай Львович прикрыл дверь.
— Надо немедленно позвонить в милицию, — настойчиво повторила Ольга Дмитриевна.
— А кого обвинять? Никого, кроме Андрея, не было дома, — возразил Николай Львович. — И в сущности, это уж не так страшно — бумаги не слишком важные: старые акты на брак. А затевать все из за портфеля, из за монограммы не стоит.
Ольга Дмитриевна пристально смотрела на мужа. Она всегда безошибочно угадывала, когда он говорит неправду, говорит единственно, чтобы успокоить ее. Сейчас он говорил именно так.
Николай Львович молча прошелся по спальне, постоял у окна, подумал, потом сказал:
— Пожалуй, я съезжу с тобой на дачу. Поедем в субботу, переночуем, вернемся в воскресенье вечером. Успокоимся, подумаем, как быть. О портфеле пока никому не говори.
— Господи, кому я могу сказать? Что ты, Коля! Но все это очень странно. Может быть, это сделал Витька Буров?
— Все может быть, — согласился Николай Львович и, подумав, добавил:
— Я думаю, что Люде тоже не следует ничего говорить.
Ольга Дмитриевна растерянно пробормотала:
— Люде?.. Я ничего не понимаю… Коля! Почему это надо скрывать от Люды?
— Я не хочу ее волновать.
— Какие глупости! Мы все волнуемся. Она разве не член нашей семьи, ей чужды наши заботы?
— Я этого не говорю… Но она проходит практику на фабрике…
— Она проболтается?
— Конечно, нет. Но она будет себя чувствовать на фабрике несколько неуверенно, что ли, будет опасаться каких то осложнений для меня, а никаких осложнений не будет, все это, в общем, пустяки…
Ольга Дмитриевна продолжала смотреть на мужа. Все звучало очень неубедительно.
— Ты это связываешь с Навроцким?
— Оленька, милая, я ни с кем не связываю, у меня нет никаких оснований связывать это ни с Навроцким, ни с Андреем, ни с Витькой Буровым. Мне надо подумать. И я не хочу лишних разговоров и потому прошу тебя никому ничего не говорить, в том числе и Люде.
— Но ей может сказать Андрей.
— Скажи ему, что портфель нашелся.
Глава 20
Итак, вагон отправили, а документы похитили. Все продумано: Красавцев сделал так, что он взял документы домой. Навроцкий увел их всех в театр, кто то третий похитил документы. Кто он, этот третий? Некто неизвестный, проникший в квартиру, когда Андрей спал? Или Андрей сам отдал портфель сыну кладовщика Панфилова? Он исключает такую возможность, но то, что вынужден об этом думать, уже чудовищно. Если это товарищи Андрея, компания — как называет Миша Поляков, — то в милиции их заставят говорить, преступник обнаружится, но и его сын окажется замешанным. Это невозможно. На сознательное зло, воровство мальчик не способен, но его могли обмануть, использовать. Если Андрей не замешан, то преступника не найдут, преступником будет он, Николай Зимин; он унес документы с фабрики, у него дома они пропали, он отвечает за брак на производстве и хотел скрыть его причины. В обоих случаях он на подозрении, и дальнейшая работа на фабрике немыслима.
Обратиться к Красавцеву? Тому ничего не стоит скрыть пропажу документов. Но тогда он в их руках, тогда то они распояшутся, покажут себя, разворуют фабрику.
Следовательно, или компрометация, или шантаж.
Они не добьются ни того, ни другого. Он не глупее их, проработал на этой фабрике двадцать лет, знает все возможные уловки.
В понедельник, на фабрике, Николай Львович сказал Красавцеву:
— Я просмотрел документы, но там их очень мало. Будьте добры, подберите мне все документы по браку, скажем, за последние два месяца. Кроме того, подберите все документы Навроцкого. Так, кажется, фамилия представителя деткомиссии?
— Да, так, — подтвердил Красавцев, соображая, зачем все это требуется Зимину.
— Вот и прекрасно. Сделайте это побыстрее.
— Нужно время, документов много.
— Понимаю. Три четыре дня вам хватит? Ну, пять дней? Неделя? Значит, получаю их в субботу. Правда, в субботу я уезжаю на дачу, с собой я их, естественно, не потащу. Но в воскресенье вернусь с дачи пораньше и просмотрю.
— Кого вы проверяете, Николай Львович?
Зимин усмехнулся:
— Себя проверяю, Георгий Федорович, себя. Вы допускаете такую возможность?
Глава 21
Операция с Навроцким не внушала Красавцеву опасений. Служебные бумаги в порядке: товар для деткомиссии. А что с товаром дальше, его, Красавцева, не волнует, за это он не отвечает. Что касается комбинации с браком, то браковочные акты оформлены, подписаны мастером и техническим контролером — людьми, подчиненными Николаю Львовичу Зимину. Акты липовые, но они существуют, проверить соответствие их качеству товара невозможно, товар ушел.
Требование Зимина передать ему новые документы насторожило Красавцева. Зачем, если Навроцкий с ним поладил? Значит, не поладил. Зимина не купишь. «Себя проверяю». Это сказано неспроста, он хорошо понимает иносказательные обороты инженера. Зря послушался Навроцкого, зря передал Зимину документы, потянул бы неделю другую, Зимин бы забыл о них. И новые документы не даст, в коммерческом отделе три сотрудника, некогда этим заниматься.
С Навроцким пора кончать: меры не знает, подведет, да еще строит из себя аристократа. Этого Красавцев не терпел. Комбинируй, но не строй из себя принца Уэльского.
Красавцев с Навроцким встретились в казино.
Валентин Валентинович не играл в рулетку, из всех игр признавал только тотализатор: на бегах властвует не случай, а знание. Навроцкий знал лошадей, разбирался, играл наверняка.
Войдя в зал, Валентин Валентинович отыскал глазами Красавцева за игровым столом, но не подошел к нему, сделал вид, что не замечает. По лицу Красавцева было видно, что дела его плохи. Как завзятый игрок, он обычно выигрывал, но в конечном итоге всегда оставался в проигрыше и нуждался в деньгах.
Валентин Валентинович молча изучал расчерченные на клетки игорные столы.
Крупье провозглашал:
— Граждане, делайте ваши ставки!
Игроки клали на клетки фишки. Крупье дергал рычаг, вертелся круг, по нему метался шарик, пока не падал в одно из нумерованных отделений. Все напряженно следили за ним… Потом крупье лопаточкой сгребал фишки.
Все как в настоящей рулетке. Только нет бледных, испитых лиц стариков и старух, годами восседавших за игорными столами, нет князей и графов, оставлявших тут состояния. Средних лет люди, полные сил и здоровья, пытают счастье, играют по мелочи, провинциальные кассиры и уполномоченные, прокутившие в столичных ресторанах казенные деньги, делают здесь отчаянную попытку их вернуть, взяточники, вроде Красавцева, просаживают то, что хапнули у нэпманов и снабженцев. Эти люди проигрывают не деньги, а жизнь. Нет, его игра другая.
Краем глаза он следил за Красавцевым. И этот проигрывает жизнь. Впрочем, чем больше теряет Красавцев, тем больше получает он, Навроцкий.
Наконец Красавцев поднялся.
Валентин Валентинович пошел ему навстречу.
— Здравствуйте, Георгий Федорович!
— Здравствуйте, вы мне нужны.
Они вышли на улицу, свернули за угол и пошли по Тверской.
— Зимин требует документы по всем вашим отправкам, — мрачно сообщил Красавцев.
— А что он сказал о бумагах, которые вы уже ему передали?
— Сказал, что их недостаточно, хочет посмотреть остальные.
— Дайте ему остальные. Дайте, дайте! В тех документах он ничего не нашел и в этих не найдет. Да и что можно найти? Документы в порядке, акты оформлены, вы это сами хорошо знаете.
— Зачем он их требует?
— У него свои соображения, — загадочно ответил Навроцкий, — хочет окончательно убедиться, что со мной можно иметь дело. Неужели не понятно? Дайте ему документы, а мне сделайте пять вагонов и все оформите браком.
Красавцев остановился:
— Вы с ума спятили?
— Разве я похож на сумасшедшего? Да, да, пять вагонов. В понедельник Зимин сам подпишет любой акт, даю вам гарантию, головой отвечаю.
Его веселая уверенность поколебала Красавцева.
Все же он сказал:
— Пять вагонов брака невозможно, слишком заметно, вмешается трест. Пять вагонов! Чрезвычайное происшествие! Даже если Зимин подпишет акт, я на такое не пойду.
— Чем вы рискуете? Вагоны уйдут, останется акт — официальный, оформленный, всеми подписанный.
Некоторое время они шли молча, потом Красавцев сказал:
— Мне нужно тридцать червонцев.
— Не повезло? — сочувственно спросил Валентин Валентинович.
— Мне нужно тридцать червонцев.
— Я могу вам их дать, но прошу — не играйте, сегодня вам не везет.
— Не учите меня… Сегодня играть не буду.
Они зашли в подворотню. Валентин Валентинович вручил Красавцеву тридцать червонцев. Тот сунул их в карман.
Пять вагонов обеспечены, и он временно уходит в сторону. Надо оглядеться, отдохнуть, может быть, поехать на юг с какой нибудь блондинкой… Эллен Буш! Красотка! Вот с кем отправиться в Ялту или в Кисловодск. Заслужил он отдых или нет? Королева! Он оденет ее, как королеву! Люда не подходит. Зачем ему девушка аристократка, когда он сам аристократ? Аристократу нужна артистка — это имеет вид, как говорят в Одессе.
— Так как с вагонами?
— Оформить все браком я не могу.
— Половина браком, половина третьим сортом?
— Подумаем… И я не могу сделать все для деткомиссии. Слишком часто.
— Сделайте часть для Минской швейной фабрики.
— Доверенность настоящая?
— Георгий Федорович, — внушительно проговорил Навроцкий, — мои документы все настоящие. Липы не бывает. И деньги с Гознака, а не с Марьиной рощи. Эта сторона дела пусть вас никогда не беспокоит. И Зимина тоже пусть не беспокоит.
Красавцев молчал.
— Так как? Договорились?
— Если в понедельник Зимин вернет документы и не будет никаких осложнений, я вам сделаю пару вагонов третьим сортом для Минской швейной фабрики.
— Не пару, а пять.
— Почему именно пять?!
— Так рассчитано, Георгий Федорович. Нам надо расстаться на серьезной операции, с приятными воспоминаниями друг о друге. Эта операция даст вам возможность еще много раз посидеть в казино. А мне — купить шале, небольшую дачу под Москвой. Понимаете, я люблю природу, особенно в средней полосе России… Ведь Подмосковье — это тоже средняя полоса России, не правда ли?
Глава 22
Витька не остался безучастным к появлению Миши Полякова в своем доме — пожаловал, на испуг хотел взять. И к Белке приходил — тоже на испуг хотел взять. Буфет обворовали. А ты докажи! Кто видел? Пирожные на крыше ели, так их вон в булочной продают. Нет свидетелей. От кого могут узнать?
Витька об этом не беспокоился. Он вообще редко беспокоился. Но своими ребятами был недоволен.
Белку видели на улице с Шаринцом, а ей запрещено с ним водиться. Шныра и Фургон взяли нагрузку в школе, кооператив какой то, проторговались, просят денег из крымских.
Чем бы стали они без него? Паштет — карманником, Белка — форточницей, давно бы сидели в колонии. Шныру и Фургона завербовали бы в пионеры, маршировали бы, дурачки, в красных галстуках. А он их в Крым берет, людьми сделал.
Сидя во дворе, Витька лениво выслушал их объяснения.
— Нас с Фургоном поставили тетрадки продавать, карандаши и все прочее, — рассказывал Шныра, — а потом из учкома проверили — три рубля недостачи.
— Согласились зачем? Вам больше всех надо?
— Так ведь постановление учкома…
— Дурачки вы! — пренебрежительно сказал Витька. — Мишка нарочно всучил вам кооператив, чтобы запутать. А как проторговались? Взяли чего?
— Ничего не брали! Фургон перепутал. Линейки есть и по четыре копейки, и по десять, и по пятнадцать, от длины зависит, а он все говорил — четыре. Все перепутал.
— Зачем перепутал?
— Я вижу, написано: линейки деревянные — четыре копейки, я и говорю — четыре копейки; все шумят, торопят, я и перепутал, — попытался оправдаться Фургон.
— Выкручивайтесь, как хотите, — сказал Витька. — Не дам денег, они на Крым. Влезли — вылезайте.
Витька повернулся к Белке, неожиданно спросил:
— О чем с Шаринцом говорила?
— Вовсе не говорила.
— У магазина с ним стояла?
— Я у витрины стояла, он подошел, я отошла.
— Врешь!
— Не вру.
— Шныра! Говорила она с Шаринцом?
— Говорила.
— Чего же врешь?
— Не говорила я, — упорствовала Белка. — Он подошел, я отошла.
— Я еще разберусь, — сказал Витька. — Шаринец ширмач к нашим деньгам подбирается. Кто ему про Крым натрепался?
Белка прижала руки к груди:
— Вот, христом богом…
— Еще раз увижу с Шаринцом, никакой Христос не поможет! — пригрозил Витька. — Ладно! В воскресенье поедем на Дорогомиловское кладбище синичек ловить.
— Я не могу, — сказал Фургон, — в субботу мои уезжают на дачу, велели в воскресенье дома сидеть.
— Без тебя обойдемся, — презрительно ответил Витька.
Витька не знал, что в субботу вечером Шныра и Паштет собираются с Мишей Поляковым в цирк. Шныра и Паштет ему об этом не сказали: знали — Витька запретит. А пойти в цирк им очень хотелось.
Глава 23
Невиданный воздушный аттракцион под куполом цирка без сетки! Три Буш три!
Эллен и ее партнеры ловко взобрались по веревочной лестнице. Погас свет. Прожекторы осветили в воздухе стройные фигуры, перелетающие от одной трапеции к другой. Барабан выбивал мелкую дробь.
Они спускались по канатам, раскланивались, уходили, возвращались, вызванные аплодисментами, снова уходили и опять возвращались, задержанные жестом инспектора манежа. Все смотрели на Эллен, освещенную прожекторами красавицу в трико с блестками.
К ее ногам упал букет цветов. Миша оглянулся. Букет кинул Валентин Валентинович. И он сюда явился!
В антракте Миша, Шныра и Паштет прошли за кулисы. Их ожидала Эллен. Она была в сером шерстяном костюме, туфлях на высоком каблуке и в берете.
— Ты уходишь? — спросил Миша.
— Да, я уже выступила.
— Я провожу тебя.
— Зачем, ведь еще одно отделение. — Она кивнула на мальчиков, рассматривающих зверей в клетках. — Кто это?
— Ребята с нашего двора. У них замечательные акробатические способности. Может быть, вы их посмотрите?
— Беспризорные, безнадзорные, неустроенные, — засмеялась Эллен, — ты все еще занимаешься этим?
— Приходится.
— А дальше?
— Собираюсь в Плехановский.
— Кого он готовит?
— Экономистов.
— Будешь все экономить, считать, жадничать, — снова засмеялась Эллен. — Не скучно?
— Ты путаешь: экономист — это не экономика. И скучать я не буду, скучать можно по человеку.
Миша покраснел. Признание, даже такое отдаленное, казалось ему навязыванием себя.
— Это верно, — согласилась Эллен, — я очень соскучилась по тебе, Генке, Славке.
— Мы тебя редко видим, — сказал Миша, обрадованный тем, что она не заметила или сделала вид, что не заметила его признания.
— Я цирковая, гастролирую, — рассеянно проговорила Эллен, оглядываясь, видимо, поджидая кого то. — Как тебе понравился наш номер?
— Понравился. Но я предпочитаю два Буш два.
— Почему? — В ее голосе прозвучало кокетство, несколько снисходительное: для нее Миша был все еще мальчик, он чувствовал это.
— Мне это кое что напоминает, — сказал Миша.
— Я не знала, что ты так привязан к воспоминаниям детства.
— К некоторым очень, — сказал он твердо.
— Приходится обновлять номер, иначе он надоест публике, — сказала Эллен. — Ты бы мог смотреть все время одно и то же?
— Я бы мог.
— Если на арене будут твои знакомые, — засмеялась Эллен. — Но не у всех зрителей знакомые актеры. Теперь у нас новый номер, и он потребовал нового партнера, Сережу. И поскольку он присоединился к нам, а не мы к нему, то он тоже стал Бушем.
— Самозванец! — засмеялся Миша.
Подошли Игорь и Сережа — стройный молодой человек с мужественным лицом.
— Знакомьтесь: Миша, Сережа.
В Сережином рукопожатии Миша почувствовал полное к себе равнодушие.
В сопровождении униформиста появился Валентин Валентинович.
— К вам, — сказал униформист, обращаясь к Эллен.
— Я восхищен вашей замечательной работой, — сказал Валентин Валентинович.
— Спасибо, — ответила Эллен, — и за цветы спасибо.
— Аплодисменты и цветы — единственное, чем зритель может выразить свою благодарность, — продолжал Валентин Валентинович. — Кого я только не видел… Немцев, итальянцев… Но никакого сравнения? Двойное сальто на такой высоте — изумительно!
Игорь, игнорируя Навроцкого, спросил Мишу:
— Что же не привел Генку, Славку?
— Они не могут сегодня, в следующий раз придут.
— Давненько я их не видел.
Прозвучал настойчивый звонок, за ним другой.
— Идите, — сказала Эллен, — а то свои места упустите.
Глава 24
В то время как Миша и Валентин Валентинович были в цирке, Зимины собирались на дачу.
Ольга Дмитриевна устроила большой беспорядок, Николай Львович подозревал, что она всю неделю продолжала поиски портфеля: в доме все было сдвинуто и передвинуто. Сейчас она пыталась справиться с пакетами и пакетиками: у нее их всегда получалось очень много. Люда, отпуская по этому поводу иронические замечания, собирала пакетики в большие пакеты и узлы. Николаю Львовичу ее ирония казалась неуместной, но он молчал. Люде явно не хотелось ехать. Почему? Неужели этот прохвост в лакированных штиблетах играет в ее жизни большую роль, чем она старается показать? Всю неделю она о нем ни слова, в доме он тоже не появлялся. И о портфеле ни слова. Они ей, правда, ничего не сказали. Но неужели она, в самом деле, ничего не знает?
— Как хотите, — сказала Ольга Дмитриевна, — а я еще возьму старое пальто. Я его уже не ношу, а бабушке в нем будет удобно выходить в сад. Как подумаю, что она там одна… Мы себе совершенно не представляем ее жизни.
Николай Львович перебирал бумаги. Папку, полученную сегодня от Красавцева, он оставил на столе, на видном месте, покосился на Андрея.
— Из дома не выходи, почитай и ложись спать в Людиной комнате. Дверь никому не открывай, скажи — нет дома.
— Хорошо, — буркнул Андрей.
По выражению его лица ничего нельзя было понять. И все же другого выхода нет, надо проверить Андрея. Если не Андрей, в чем он уверен, тогда он захватит преступников. План безошибочен: если взяли те документы, должны прийти и за этими.
О своем плане он не сказал жене, не хотел ее волновать. И без того он сказал ей много лишнего, создал в доме атмосферу недоверия, подозревает Андрея, подозревает Люду. Как все это ужасно: он сам разрушает самое дорогое в своей жизни — семью.
Каковы бы ни были отношения Люды с Навроцким, она не способна притворяться и лгать. Нет, нет, нет! Именно поэтому он поступит так, как решил. На карту поставлено не только его служебное положение, но его незапятнанное имя, будущее его детей.
Когда поезд подходил к Лосиноостровской, Николай Львович вдруг сказал жене:
— Совсем забыл! Директор просил срочно приготовить докладную записку. Сейчас вернусь домой. Поезжайте без меня.
— Но, Коля… — только и смогла ответить пораженная Ольга Дмитриевна.
— Пожалуйста, умоляю тебя!
Люда удивленно смотрела на них, не понимая, что происходит.
Поезд тормозил, подходя к платформе.
Николай Львович вынул папиросы, приготовил спички, встал и направился к выходу.
В тамбуре он закурил. Когда поезд остановился, вышел на платформу, смешавшись с толпой пассажиров, поднял воротник плаща, перешел на другую платформу и через минуту две сел в поезд, идущий в Москву. Расписание он изучил точно.
В Москве, на Арбате, он сошел с трамвая на одну остановку раньше своей; медленно пошел по противоположной стороне улицы, по прежнему с поднятым воротником; вошел в ворота своего дома, когда оттуда хлынула толпа из кинотеатра «Арбатский Арс», — Николай Львович рассчитал свой приезд так, чтобы попасть к концу сеанса.
Смешавшись с толпой, он пересек двор, бросил взгляд на окна своей квартиры — они были темны. С заднего двора он быстро вошел в подъезд черного хода, поднялся по лестнице и открыл дверь.
Не зажигая света, через кухню прошел в столовую. В тусклом свете, доходившем из окон соседнего корпуса, увидел папку на столе, на прежнем месте.
Николай Львович приоткрыл дверь в комнату Люды. Андрей спал.
Значит, Андрей ни при чем.
По прежнему не зажигая света, Николай Львович снял пальто, повесил на вешалку, посмотрел на часы: еще только половина десятого. Ну что ж! Подождем!
Глава 25
Из цирка они доехали до Арбатской площади на «Аннушке», как называли москвичи трамвай «А», и по Арбату пошли пешком.
Шныра и Паштет убежали вперед. Миша и Валентин Валентинович медленно шли по улице.
От встречи с Эллен Миша ожидал другого. Чего именно — не знал. Шел с надеждой. Какой — тоже не мог сказать.
Девочка, с которой он еще год назад был снисходителен, теперь была снисходительна к нему — сознание, оскорбительное для молодого человека, считающего себя мужчиной.
Уход в личное Миша всегда третировал как обкрадывание общественного. Теперь этой формуле был нанесен удар: мысль об Эллен не покидала его.
— Цирк — прекрасное зрелище, — говорил между тем Валентин Валентинович, — но многое преувеличивает. Эффект достигается манипуляциями, зритель принимает их за чистую монету. На манеже мужчины кажутся Аполлонами, женщины — Афродитами, а за кулисами… Такое разочарование… Я не говорю об Эллен Буш, она действительно красавица, это делает честь вашему вкусу.
— Почему моему? — нахмурился Миша.
— Мне показалось, что у вас к ней особенное отношение…
Миша остановился, вызывающе спросил:
— Как вы смеете это говорить? Какое, собственно, вам дело?
Они стояли друг против друга.
Ладно, стерпим, возьмем себя в руки, он накажет Мишу, когда увезет Эллен, вот тогда этот идейный мальчик попляшет. Сейчас не время.
— Прошу прощения, Миша, я вел себя как хам, признаю. Но злого умысла не было, поверьте. Я преисполнен к вам самого лучшего, самого доброго отношения. А за амикошонство, повторяю, простите.
Они пошли дальше.
Миша хмуро молчал.
— Вы сердитесь, — сказал Валентин Валентинович, — вы правы. В вашем возрасте это трепетно, серьезно, а мы, старики, — скоты и циники. Мне стыдно за себя, поверьте… Хотите поехать со мной на бега? — неожиданно спросил он.
— Меня это не привлекает.
— Жаль. Лошади — моя страсть. В этом я кое что понимаю. Игрок! Да да, играю в тотализатор. Это предосудительно, я знаю, за азартную игру в тотализатор исключают из партии, но я беспартийный, более того, я обыватель. Представьте себе! Обыватель тоже предосудительно, но у каждого своя судьба. Вы комсомолец, человек идейный, а я рядовой совслужащий, получаю небольшой оклад, крошечные проценты…
— Все люди живут на зарплату.
Валентин Валентинович покосился на Мишу. Мальчик поучает. Что ж, продолжим комедию.
— Понимаете, Миша, люблю хорошо пожить. У меня примитивные потребности. Хорошо жить — тоже примитивная потребность, не правда ли?
Миша пожал плечами. Его вызывают на разговор, а он не хочет разговора — этот человек ему чужд, что он будет ему доказывать?!
Не дождавшись ответа, Навроцкий продолжал:
— Да, люблю хорошо пожить. Вы спросите, как? Отвечаю: лошадки выручают. Я не просто игрок, я счастливый игрок.
Его смех громко прозвучал в тишине ночной улицы.
— Да, Миша, я счастливый игрок, вот кто я такой. Я знаю, я вам не нравлюсь, и вот смотрите: делаю все, чтобы понравиться еще меньше. Дурацкий характер! Вместо того чтобы завоевать ваши симпатии, я наоборот, углубляю ваши антипатии. Кстати, — неожиданно спросил он, — почему я вам не нравлюсь?
Его болтовня раздражала Мишу, он чувствовал скрытое издевательство и сухо ответил:
— Какая разница? Мне, например, безразлично, нравлюсь я вам или нет.
— Вы не считаетесь с мнением других людей?
— Считаться с мнениями других вовсе не означает всем нравиться.
— И все же я вам не нравлюсь, признайтесь! — настаивал Навроцкий.
— Да, не нравитесь.
— За что именно, интересно узнать?
— Вы получили вагон мануфактуры. Помните, я помогал толкать этот вагон?
— Конечно, помню.
— Зимин велел этот вагон задержать, но вагон отправили, а Зимину сказали, что не успели задержать.
— Кто сказал?
— Кладовщик Панфилов.
— А я при чем?
— Вы вместе с Панфиловым и Красавцевым обманули Зимина.
— Ах, Миша, Миша, — улыбнулся Навроцкий, — и по таким вещам вы судите о людях?! Хотите знать правду? Да, все сделали с моего ведома. Больше того — по моему настоянию. Судите сами. С великими трудами добыл я вагон мануфактуры, обил десятки порогов, вырвал сотни резолюций. Наконец товар мне выдан, я его оплатил, получил железнодорожный вагон, тоже, между прочим, не без труда, телеграфировал в Батуми, что отгружаю товар. И вдруг, в последнюю минуту, Зимин приказывает задержать вагон, по видимому, для того, чтобы передать его другому агенту, возможно, более настойчивому, более предприимчивому или более знакомому. А я должен начинать все сначала, опять ждать месяц или два. Какой же я после этого снабженец? Лопух, дурак и бездарь!
Они шли мимо темных, но знакомых витрин. Миша молчал. В рассуждениях Навроцкого была своя логика. Впрочем, логика была и в рассуждениях Панфилова. Чужая логика.
Валентин Валентинович продолжал:
— Представьте: вы директор швейной фабрики, ждете вагон мануфактуры, иначе фабрика не может работать. А ваш уполномоченный, тюфяк, чурбан, проворонил этот вагон, уступил его неизвестно кому, и фабрика должна остановиться. Будете вы держать такого уполномоченного?
— Допустим, вы защищали интересы своего предприятия, — сказал Миша.
— А Красавцев? Панфилов?
Они стояли во дворе, в глубоком темном колодце, образованном корпусами дома. Несколько окон еще светились.
Валентин Валентинович раздел руками:
— О Красавцеве я ничего не знаю.
Не хочет говорить о Красавцеве. А ведь встречался с ним в ресторане. Все врет, все придумывает.
— А Панфилов? Почему Панфилов защищал интересы вашего предприятия, а не выполнил приказ своего инженера? Вы с ним вступили в сделку, дали взятку. Он взяточник, а вы взяткодатель.
Удар был точный. Прямолинейность этих мальчиков может быть опасной.
Обдумывая каждое слово, Валентин Валентинович сказал:
— Взятки я ему не давал. Просто Панфилов не хотел лишней волокиты и был, между прочим, прав: задержка вызвала бы много осложнений — простой вагона, штраф, неустойку и так далее и тому подобное… Но предположим, чисто теоретически, что было по другому: я что то дал Панфилову, пятерку, десятку; допустим, дал. Ну и что? Ведь мануфактуру я получаю не для себя, а для государственного предприятия.
— Это вопрос не денежный, а моральный, — возразил Миша. — За десятку человек продает честь и совесть.
— Да ничего я ему не давал! — закричал Навроцкий. — Вы заблуждаетесь!
— Я ничего не утверждаю, — ответил Миша, — не видел и потому не утверждаю. Вы у меня спросили: почему вы мне не нравитесь, я вам ответил.
Валентин Валентинович задумчиво проговорил:
— Да, с такими принципами, с такой прямолинейностью вам будет трудно жить, Миша…
В ночной тишине глухо, но близко и отчетливо раздался выстрел.
— Вы слышали? — Валентин Валентинович повернулся в ту сторону, откуда послышался выстрел.
— Как будто выстрел, может быть, пугач?.. — сказал Миша.
— Нет, не пугач, — встревожено произнес Валентин Валентинович, — это не пугач!
Миша показал на подъезд Зиминых:
— Вроде бы оттуда.
— Посмотрим! — решительно проговорил Валентин Валентинович и быстрым шагом направился к подъезду.
Глава 26
Они вошли в подъезд и услышали, как кто то бежал по лестнице.
— Они побежали наверх, — сказал Миша и, перескакивая через две ступеньки, кинулся вдогонку.
— Осторожно, Миша, они вооружены! — закричал Валентин Валентинович и побежал за ним.
Они пробежали несколько этажей и остановились, прислушиваясь. Топота уже не было слышно.
— Ушли на чердак, — сказал Миша.
И вдруг до них донесся крик:
— Папа, папа…
Они поднялись еще на этаж и увидели в дверях квартиры Андрея Зимина, босого, в трусах и майке. Размазывая кулачками слезы по лицу, он повторял:
— Папа, папа…
В коридоре на полу лежал Николай Львович.
— Зажгите свет! — крикнул Навроцкий.
Миша повернул выключатель.
Валентин Валентинович наклонился над Зиминым, увидел струйку крови на куртке и на полу.
— Звоните соседям! Срочно врача, милицию!
Соседи уже толпились на площадке, заглядывали в квартиру, полуодетые фигуры, испуганные, заспанные лица…
— Товарищи! — сказал Валентин Валентинович. — Есть ли поблизости врач?
— Во втором подъезде. Илья Борисович, — ответила соседка.
— Сходите за ним, побыстрее, пожалуйста!
— Сейчас, пальто накину.
— Товарищи мужчины, бегите к дворнику! У кого есть телефон, звоните в милицию!
Валентин Валентинович действовал быстро, решительно, все подчинялись ему. Сверху и снизу, разбуженные шумом, подходили жильцы, толпа заполнила площадку.
— Я услышал выстрел, разбудил Соню, говорю: слышишь, стреляют!
— Я дремала, но сквозь сон тоже слышала выстрел. Потом — топот ног по лестнице.
— Они вверх побежали.
— Наоборот, вниз.
— Человека застрелили, в собственной квартире, какой ужас!.. Но побежали наверх.
— Бандиты! Они вниз побежали. Зачем наверх? На крышу? На небо?
Валентин Валентинович сказал:
— Андрей, пойди оденься, простудишься!
Андрей шагнул в коридор, но испуганно отшатнулся, увидев распростертое на полу тело отца.
— Пойдем, деточка…
Соседка увела Андрея к себе.
Появился врач, с нахмуренным лицом прошел в квартиру.
Валентин Валентинович стоял в дверях.
Врач склонился над Николаем Львовичем, потом поднялся:
— Он мертв.
— Боже мой! — всплеснула руками соседка.
Кто то предложил:
— Может быть, положить его на диван?
Врач запретил:
— До милиции не трогайте!
Наступило тягостное ожидание.
Валентин Валентинович курил папиросу за папиросой.
Подходили еще люди, расспрашивали, им рассказывали про выстрел, про топот ног…
Появились милиционеры, трое, они вошли в квартиру, осмотрели тело Зимина, коридор, прошли в комнаты, переговорили с врачом, вышли на площадку.
— Кто что видел или слыхал?
Миша показал на Валентина Валентиновича.
— Мы с товарищем Навроцким стояли во дворе, услышали выстрел… Мы вбежали в подъезд, услышали топот ног наверху, побежали за ними, но не догнали. Возможно, они спрятались на чердаке.
— Ты знаешь чердак?
— Знаю.
— Пошли!
Миша и два милиционера поднялись по лестнице и вошли на чердак.
Милиционеры вынули пистолеты, осветили чердак карманными фонарями.
Они осторожно двигались, перелезая через стропила и балки, тщательно освещали углы. Чердак был пуст.
Так добрались они до Витькиной каморки. Миша потянул самодельную дверь. Милиционер осветил чуланчик. На тюфяке сидел Витька, щурил глаза, ослепленный светом фонарика.
— Ты чего здесь?
— Ничего, сплю.
— Вставай! — приказал милиционер.
Витька поднялся.
— Оружие!
— Какое оружие?
— Подними руки!
Витька поднял руки.
Один милиционер направил на Витьку свет фонарика, другой обыскал.
Оружия при Витьке не оказалось.
— Кто здесь еще есть? — спросил милиционер.
— Никого нет.
— Выйди!
Витька вышел из каморки, увидел Мишу, с удивлением посмотрел на него.
— Ты?
— Кто то вбежал на чердак. Ты не слышал, не видел? — спросил Миша.
— Никого я не видел! — огрызнулся Витька.
Милиционер вытащил из под тюфяка жестяную коробку с бумажными, серебряными и медными деньгами.
— Чьи деньги?
— Мои.
— Куда револьвер закинул?
— Не видал я никакого револьвера, чего пристали?!
— Не шуми, я тебе так пошумлю! — пригрозил милиционер. — Посмотри за ним, — сказал он товарищу, — я тут поищу.
С Мишей он пошел до чердаку. Свет фонарика скользил по балкам и стропилам. У одной балки милиционер задержался, наклонился, разрыл кучу шлака, вытащил портфель, открыл, осветил фонариком.
Портфель был пуст, на внутреннем клапане серебрилась монограмма: «Николаю Львовичу Зимину от коллектива фабрики»…
Они вернулись к каморке, милиционер показал Витьке портфель.
— Где взял портфель?
— Не видел я этого портфеля.
— Пошли!
Жильцы стояли на лестнице, внизу и вверху, свешивались через перила, поминутно хлопала дверь подъезда, подходили еще люди.
Толпа расступилась, пропуская в квартиру милиционеров и Витьку. Миша остался на площадке. Валентин Валентинович стоял в дверях.
Послышался шум машины, подъехавшей к подъезду.
Агенты угрозыска вошли в квартиру.
Они вышли оттуда с Витькой и поднялись на чердак.
Миша устал, хотелось спать, он присел на ступеньку лестницы, прислонился к перилам.
В широких окнах брезжил ранний майский рассвет.
Валентин Валентинович стоял в дверях квартиры. И как ни устал Миша, он не мог не заметить на лице Навроцкого выражения плохо скрываемой тревоги, напряженности, готовности к любым неожиданностям.
Жильцы не уходили, подходили новые, подошли отец и мать Витьки. Отец был трезв, суетлив, поворачивался во все стороны, слушал разговоры, все время приговаривал: «Так ведь разобраться надо по справедливости, а как же, иначе нельзя». Мать смотрела на всех умоляющим, жалким и затравленным взглядом.
В квартире что то происходило, осмотр или обыск. Тело Николая Львовича перенесли в комнату.
Вернулись с чердака агенты угрозыска с Витькой. Мать метнулась к нему, но Витька сурово проговорил:
— Чего кидаешься?
Можно было только подивиться его дерзкому хладнокровию.
— Отойдите, гражданка, — сказал агент.
— Это его мать, — объяснил кто то из толпы.
— Незачем волноваться, — ответил агент, — все выяснят.
Они опять вошли в квартиру.
Миша сидел на лестнице. Валентин Валентинович стоял в дверях.
Настало утро, люди уходили на работу, другие толпились на лестнице, во дворе, у подъезда.
Из квартиры вышли милиционеры, между ними шел Витька. Все хлынули за ними. Спустились во двор и Миша с Валентином Валентиновичем.
— Проходите, граждане, проходите! — говорили милиционеры, раздвигая толпу.
В воротах Витька оглянулся, разыскивая глазами мать, но, видно, не нашел ее.
Его взгляд встретился с Мишиным взглядом.
Глава 27
Тяжелые, намокшие бревна захватывали баграми, обвязывали веревками, втаскивали на берег, грузили на дроги, стоявшие вдоль набережной, тогда еще не гранитной, а земляной, местами выложенной булыжником, между камнями пробивалась чахлая травка.
Яша Полонский всех подбадривал:
Это мы разгружали поленья, Провалившись по пояс в воде, Это мы, это мы, поколенье Рвущихся к новой весне.— Сатира получается у тебя лучше, — заметил Миша.
— В данном случае нужна не сатира, а доходчивая агитка, — ответил Яша, сморкаясь в платок.
— Простудился.
— Ходил я по лужам, теперь я простужен.
На школьном дворе ребята распиливали бревна, кололи чурки на дрова, цепочкой передавали друг другу, укладывали штабелями возле котельной. За лето дрова высохнут, на следующую зиму школа будет обеспечена топливом.
Кончаются занятия, кончается школа…
На последнем бюро обсуждали, кого рекомендовать в председатели учкома на будущий год. Миша предложил Сашу Панкратова. Только-только передали в комсомол? Ну и что? Толковый парень, смелый, принципиальный. С ним согласились — хорошая кандидатура. И другие ребята ничего: Нина Иванова, Максим Костин… Всегда кажется, что тот, кто придет после тебя, будет хуже, но ведь и те ребята, которых сменил он, Миша, тоже считали его маленьким, боялись, что дальше будет не так. Не так, конечно, по-другому, а ничего, работал.
В цепочке ребят, передающих дрова, Миша увидел Андрея Зимина и Леню Панфилова. Жалко Андрея, и Люду, и их маму, не похожую на маму. И ничего не выяснено, подозрение на одного Витьку.
Миша не мог забыть, как оглядывался Витька, разыскивая мать. Он увидел Витьку таким, каким знал в детстве, тот Витька не мог убить. И Витька, который искал глазами мать, тоже не мог и не убил Зимина. Чистая психология, конечно, а все же не мог убить.
Как то Миша зашел к Люде. Она читала, отложила книгу, когда Миша вошел, посмотрела на Мишу глубоким, выжидательным, совсем новым взглядом, потом вдруг улыбнулась:
— Садись!
У Миши сжалось сердце от этой улыбки. Странная девчонка, гордая. Он вспомнил разговор с Николаем Львовичем. Николай Львович сказал тогда: «Это делает ей честь». Она и сейчас держится так же, старается скрыть свое горе, не навязывает его никому. А они пели про нее: «Я жеманство, тру ля ля…»
— Где мама? — спросил Миша.
— Скоро придет.
— Как она?
— Мне кажется, она еще не понимает, что произошло, не верит, не осознает. То вдруг становится такой, будто сама умерла. А иногда она вдруг начинает лихорадочно обвинять Витьку Бурова, быстро, быстро, и все про Витьку, все про него, как будто хочет и себя и меня убедить, что именно он во всем виноват.
— Наверно, она так и думает, — заметил Миша.
— Да, убеждена в этом. Она всегда его побаивалась, хотя не всегда сознавалась, храбрилась, а теперь утверждает, что еще до всего он пытался на ее глазах влезть в окно.
Миша взглядом примерился к пожарной лестнице.
— Это довольно сложно.
— Я то же самое ей сказала, а она отвечает: «Сложно? Для него?»
— А что было в портфеле?
— Служебные бумаги, какие то документы на брак.
— Зачем они Витьке?
— Возможно, он их просто выбросил. Мама утверждает, что ему был нужен портфель. Ведь они собирались в Крым. Андрей замусолил том энциклопедии на «К», Андрей ведь еще совсем дурачок. Он, например, своим почерком, с ошибками через каждые два слова, изготовлял «дАкумент». В «дАкументе» указывалось, что учитель Витя Буров едет со своими больными чахоткой учениками в Крым.
— Для Крыма нужен не портфель, а чемодан. Но допустим. Скажи, если не секрет, почему о пропаже портфеля твой отец не заявил в милицию?
— Роковая ошибка. Если бы заявил, то остался бы жив. Но понимаешь… В тот вечер дома оставался один Андрей, папа опасался, что подозрение падет на него. Кроме того, если Андрей как то причастен к пропаже, то папа надеялся, что со временем он сумеет вернуть документы. Зачем они ребятам?
— Неужели Андрей причастен?
— Нет, ни в коем случае, этого не может быть. Я пытаюсь представить себе ход папиных мыслей.
— Ну хорошо. Витька украл портфель, допустим, даже с помощью Андрея. Но убийство…
— Я не верю, что Витька убил папу, не верю… — сказала Люда. Я думаю, что нас хотели ограбить, проследили, как мы уехали на дачу, забрались в квартиру, но папа неожиданно вернулся с дороги.
— Да? Почему?
— Вспомнил, что ему надо написать докладную записку. Конечно, это очень странно, я до сих пор ломаю над этим голову.
— Действительно, странно, — сказал Миша.
— Вообще много непонятного… Например, о пропаже портфеля я узнала после того, как убили папу.
— Тебе не говорили? Скрывали? Целую неделю?
— Да.
— Почему?
— Мама говорит: не хотели волновать меня… Я в это не слишком верю.
— И Андрей тоже не знал?
— Андрей знал, они спрашивали у него, где портфель.
— Значит, только от тебя скрывали?
Люда пристально посмотрела на Мишу:
— Что ты хочешь этим сказать?
— Просто констатирую это обстоятельство.
Но для самого Миши это обстоятельство было ясным: Зимин не доверял Люде из за Навроцкого.
Может ли Миша сейчас доверять Люде? А если она передаст Навроцкому?.. После того, что случилось, сомнительно. А впрочем… Пусть думает в другой раз, с кем шататься по ресторанам!
— Я хочу, чтобы ты на всякий случай знала: в портфеле действительно были документы на брак. Но этот брак был отпущен твоему знакомому, Валентину Валентиновичу…
Миша подробно, обстоятельно рассказал Люде об эпизоде с вагоном.
— Кстати, — безжалостно заключил Миша, — когда вы с Юрой танцевали в ресторане, Валентин Валентинович разговаривал с Красавцевым, а потом Красавцев передал документы Николаю Львовичу в проходной, когда Николай Львович шел домой. Николай Львович не хотел брать, Красавцев навязал их ему.
Люда ошеломленно смотрела на Мишу.
— Но когда пропал портфель, Валентин Валентинович был с нами в театре…
— Был… А когда убили Николая Львовича, был со мной в цирке… Я его не обвиняю, я просто рассказываю тебе некоторые обстоятельства.
Люда широко раскрытыми глазами смотрела на Мишу. Потом закрыла лицо руками.
— Ну, ты чего…
— Это я убила папу. — Она отняла руки, глаза ее были сухие и красные. — Я привела этого человека в наш дом.
«Что то не так получается у меня с этой семьей, — подумал Миша. — То злюсь на них, то жалею».
— Я ведь не сказал ничего утвердительного, просто пытаюсь связать между собой некоторые факты.
— Это я убила папу, — повторила Люда, — я привела этого человека в дом. Папа говорил, что он ему не нравится, не хотел видеть его в нашем доме. Теперь я понимаю почему: он знал, он предчувствовал… Боже мой… Это я, я, я… Все я… Виновата одна я. Ведь когда он пришел к нам перед театром, я сразу поняла, что он такое: все врет, ни одного слова правды, я все почувствовала, но у меня не хватило духа отказаться, не идти в театр, мне было стыдно перед папой, перед мамой… Боже мой, боже мой, что я наделала…
Она раскачивалась, закрыв глаза. Миша впервые видел такое отчаяние, не знал, что ему делать, как успокоить.
— Нет никаких доказательств, что это сделал Навроцкий, — сказал он.
— Ты напрасно себя казнишь. Наоборот, все доказательства в его пользу, ты сама их приводила. Кроме того, убив твоего отца, они не взяли документов — значит, дело не в документах и, следовательно, не в Навроцком. Просто я так же, как и ты, не верю, что Витька убийца.
Она сидела молча, смотрела в одну точку, потом сказала:
— Я убью этого мерзавца.
— Перестань! — сказал Миша. — Не бросайся из одной крайности в другую. Идет следствие, оно все выяснит. Единственное, что от тебя требуется, — не выдавай Навроцкому своих подозрений. Обещаешь?
— Я с ним больше не вижусь, — ответила Люда.
Глава 28
Славкина квартира, раньше такая радостная, выглядела теперь скучной и запущенной. Пыльные ковры на полу, подгоревший абажур над столом, на диване в беспорядке маленькие подушки. И только рояль в углу такой же чистый и блестящий, как и раньше, и тот же перед ним вращающийся стул.
Дверь в спальню была открыта, там мелькнула фигура Константина Алексеевича в заношенном халате. Небритый, осунувшийся, мешки под глазами, он не вышел и не поздоровался.
Славка отнесся к этому спокойно, привык к странностям отца или не хотел, обращая внимание, подчеркивать их.
— Я не допускаю мысли, что Витька убил Зимина, — сказал Миша. — Обыскан весь чердак, перебрана каждая щепка — оружия нет. Проник в квартиру? Как? В окно? На виду у всего дома? Через дверь? Ни ключей, ни отмычек у Витьки не нашли. Дверь открыл Андрей? Андрей участвовал в убийстве отца? И главное — мотивы преступления? Ограбление? Почему унес только портфель? Документы? Зачем они Витьке?
— Я тоже не верю, что Витька убил Зимина, — сказал Славка.
— А я верю! — объявил Генка. — Кто такой Витька Буров? Начинающий бандит, подчеркиваю — начинающий. Он первый раз забирается ночью в чужую квартиру, волнуется, видит портфель, думает, в нем что то ценное, хватает, убегает. Проходит неделя, никто портфеля не ищет, все тихо. Прекрасно! Витька идет опять, дорожка знакомая, но там неожиданно хозяин… Витька со страху стреляет, ему уже не до барахла, удирает, закидывает куда то пистоль, забирается на чердак в свою конуру и притворяется, что дрыхнет.
— Если бы у Витьки был револьвер, он обязательно показал бы его ребятам, — возразил Славка.
— Может быть, и показал! А они скрывают. Главное — откуда на чердаке взялся портфель?
— Да, — сказал Миша, — портфель — единственная улика против Витьки. Но в портфеле были документы на брак; они нужны не Витьке, а Красавцеву, Панфилову и Навроцкому.
— А может быть, по их поручению Витька и сделал это? — предположил Генка.
— У него были плохие отношения с Навроцким, — возразил Миша.
— Для видимости можно и по мордасам лупить друг друга. Кто, если не Витька? Навроцкий? Когда украли портфель, он был с Зиминым в театре, когда убили Зимина — с тобой в цирке. Если он и взял портфель, если и убил Зимина, то Витькиными руками, а сам устроил себе алиби: сначала Художественный театр, потом цирк.
— Вы оба горячитесь, а зря, — сказал Славка. — Один твердит — Витька, другой — Навроцкий. Ну, а сам Зимин? Почему он скрыл пропажу портфеля с документами? Боялся, видите ли, подвести Андрея? Что грозило малолетнему Андрею? Ровным счетом ничего. Больше того! Несмотря на пропажу первых документов, Николай Львович взял домой вторую пачку документов, отправил на дачу жену и дочь, а сам с дороги неожиданно вернулся домой. Зачем? Вспомнил о докладной записке? Ерунда! Николай Львович не тот человек, чтобы забыть о докладной записке. Он вернулся не случайно, вернулся специально, намеренно, поехал на дачу, чтобы убрать из дому Ольгу Дмитриевну и Люду, а сам вернулся. Зачем? Почему?
— Что ты долдонишь: почему, почему? — заметил Генка. — Сам скажи — почему?
— Можно предположить только одно, — сказал Славка. — Зимин должен был встретиться с кем то у себя дома. Встретились, повздорили, они его убили. Но заметьте, документов не взяли. Значит, не в них дело.
— То есть Навроцкий ни при чем, это ты хочешь сказать? — спросил Миша.
— Да, возможно, дело не в Навроцком, не в Витьке, а в ком то третьем. Зимина могли вовлечь в какую то аферу, запутать. Он, допустим, захотел выйти из игры, и его убили, опасаясь разоблачений.
— Зимин был нечестный человек?
— Честный. Может быть, даже сверхчестный. И в этом, может быть, все дело: он в чем то запутался или его запутали.
— Выходит, никому нельзя верить?
Славка качнул головой:
— Просто я больше вижу, больше слышу. Я уже говорил: изнанка жизни. Вы ее не видите, я вижу. Сам подумай: зачем Навроцкому с Красавцевым убивать Зимина? Из за документов? Красавцев мог с этими документами сделать на фабрике что угодно. Эти документы в его руках. Они отлично понимают, что за убийство вышка! Нет, это не Навроцкий, не Красавцев, это другие люди, которых, может быть, никто, кроме самого Зимина, не знает. И именно потому, что никто, кроме Зимина не знает, они и пошли на такое дело.
— Подведем итоги, — сказал Миша. — Генка считает убийцей Витьку Бурова. Так, Генка?
— Да. Допускаю, что Витька был исполнителем, орудием в чьих то руках, возможно, в руках того же Навроцкого, того же Красавцева. Но портфель украл он, убил Зимина он.
— Ясно! Теперь Славкина точка зрения: Зимин запутался в связях с какими то неизвестными нам дельцами, и его убили. Так, Славка?
— В общих чертах, так.
— И, наконец, мое мнение: Витька ни при чем. За этим делом стоит Навроцкий. Итак, встает вопрос: что будем делать?
Славка удивился:
— Что мы можем делать? И почему мы должны что то делать? Следствие само разберется.
— Как мы можем вмешиваться? — добавил Генка. — И зачем? Витьку выручать?
— Да, — сказал Миша, — надо выручать Витьку.
— Бог тебе в помощь. Я этого не собираюсь делать, — заявил Генка.
— Бог мне не помощник и не товарищ. Вы мои товарищи. От вас я жду помощи.
— Что именно?
— Хотелось бы знать, что говорят об этом на фабрике. Твоя тетка, наверно, в курсе.
— Это можно, — согласился Генка.
— А ты, Славка, поскольку ты так хорошо знаешь изнанку жизни…
— Твои насмешки меня не трогают.
— Тем лучше. Так вот. Навроцкий — частый посетитель «Эрмитажа». Не мог бы ты узнать о нем поподробнее?
— Если что нибудь узнаю, скажу.
— Прекрасно! От самого дела вы устраняетесь?
— Я не намерен тратить на это время, да у меня его и нет, — сказал Славка.
— А у меня нет желания защищать Витьку Бурова, бандита! — объявил Генка.
— Ну что ж, — сказал Миша, — значит, на этот раз я остался один.
Глава 29
Чем он располагает? Ничем, в сущности. История с вагоном? Маловато. И все же среди бесчисленных лиц, мелькавших в ту ночь на лестнице, пораженных, взволнованных, испуганных, лицо Навроцкого было единственным, исполненным затаенной тревоги, внутреннего напряжения, готовности к любой неожиданности. Воспоминание об этом лице укрепляло Мишу в его уверенности больше, чем все другое. Опять психология? Ну и пусть.
С чего начинать? Кого он знает из окружения Навроцкого? Только Юру. Но Юра ничего не скажет, верный паж. Продался за ресторанную похлебку, за бефстроганов и кофе со сливками. Не с него надо начинать.
Начинать надо с Андрея Зимина и Леньки Панфилова. Витьку они будут защищать, выгораживать, и все же могут обнаружиться какие то подробности, что то существенное в пользу Витьки. А все, что в пользу Витьки, то против Навроцкого. И говорить больше не с кем, надо говорить с ними.
Шныра и Фургон дежурили в бригаде распределения, и Миша отправился на кухню.
Нагретым кухонным ножом Кит ловко разрезал круг масла на одинаковые кубики. Виртуоз, ничего не скажешь! Человек, нашедший свое призвание.
Шныра и Фургон чистили картошку.
— Потоньше срезайте кожуру, который раз вам говорю! — выговаривал им Кит.
— Картофельная каторга! — пробормотал Шныра с отвращением.
Миша попросил Кита отпустить Фургона.
— Так ведь ужин скоро накрывать, — ответил Кит недовольно.
— На несколько минут всего. Идем, Андрей!
Они вышли на школьный двор, уселись в тени высокого тополя.
— Андрей, как ты думаешь, Витька виноват в том, что случилось с твоим отцом?
— Откуда я знаю? Я не видел, кто убил папу.
— А кто украл портфель?
— Я спал, когда его украли.
— И не слыхал, как кто то забрался в квартиру и унес портфель?
— Не слыхал.
— А как портфель очутился на чердаке?
Вместо ответа Фургон пожал плечами, губы у него задрожали.
«Мучаю ребенка», — подумал Миша.
— Слушай, Андрей, — сказал Миша, — твоего отца убил негодяй, мерзавец. Неужели ты будешь его защищать?
— Но ведь я ничего не знаю! Меня и следователь вызывал, и мама спрашивала. А что я знаю? Я спал. Я не видел, кто стрелял.
— Но сам ты как думаешь: Витька виноват?
Андрей молчал.
— Что же ты молчишь? Ты его боишься? Кого ты боишься?
— Никого я не боюсь, — ответил Андрей, потупившись.
— Ну, так говори!
— Ничего я не знаю. И про Витьку не знаю: он украл или нет — не знаю.
— А зачем ты с ним водился?
— Я не с ним, а со Шнырой, а уж потом вместе…
— Что вместе?
— Ну, были вместе.
— А револьвер ты видел у Витьки?
— Нет.
— Честное слово?
— Честное слово!
Миша смотрел на Фургона. Не может быть, чтобы врал, не похож на лгуна, неуклюжий, добродушный мальчишка, ничего в нем нет воровского, блатного, ничего хитрого, лукавого.
Все же Миша переспросил:
— Значит, у него не было револьвера?
— Я не знаю: был или не был. Только я не видел, он мне не показывал.
— А ты говорил кому нибудь, что твои уйдут в театр?
— Никому не говорил. Я сам не знал, что они пойдут. Меня позвали со двора, сказали: уходим, оставайся дома, ложись спать. Я и лег.
— Хорошо. А во второй раз? Ты знал, что твои собираются на дачу?
— Знал.
— Говорил кому нибудь?
— Чего?
— Что твои уезжают на дачу, говорил кому нибудь?
— Нет…
Андрей вдруг осекся, растерянно посмотрел на Мишу…
От Миши это не ускользнуло.
— Сказал кому нибудь, вспомни! Это очень важно.
Андрей снова потупился, потом тихо проговорил:
— Витьке сказал.
— Значит, Витька знал, что твои уезжают на дачу?
— Знал, — прошептал Андрей.
— Зачем ты ему сказал?
— Сказал…
— Он спрашивал тебя?
— Нет.
— Зачем же ты сказал?
— Витька нам говорит: поедем в воскресенье на Дорогомиловское кладбище синичек ловить. А я ответил: не могу я, наши в субботу уезжают на дачу и мне велели сидеть дома. Вот так он и узнал про дачу.
— Кто при этом был?
— Ну, кто… Я, Шныра, Паштет, Белка.
Черт возьми, все сложнее, чем он думал!
— Слушай меня внимательно, Андрей! Ничего и никого не бойся. Скажи мне правду, Витька брал портфель?
Андрей, потупившись, молчал.
— Из тебя все приходится вытаскивать клещами.
— Все говорят, что украл.
— И убил он?
— Все говорят, что убил.
— А ты, ты как думаешь?
— Я не верю, — прошептал Андрей.
Итак, Витька знал, что Зимины уезжают на дачу, и, конечно, видел, как они уходили в театр. В обоих случаях ему было точно известно, что никого, кроме Андрея, дома нет.
Серьезная улика. Многое меняет.
Неужели правы эти таинственные «все», а он не прав?
Может быть, неприязнь к Навроцкому мешает ему быть объективным? Он настолько уверовал в его виновность, что не видит фактов, уличающих Витьку, не хочет их видеть, игнорирует. И Фургон недоговаривает. Кого он боится? Шныру? Паштета? Белку? Главный у них, после Витьки, безусловно, Шныра, правая рука атамана. Андрей под его покровительством, под его влиянием. Не его ли боится Андрей?
Миша проводил Фургона на кухню и позвал Шныру. Тот не стал ожидать разрешения Кита, скинул фартук, с отвращением отбросил нож и вышел с Мишей во двор.
В отличие от Фургона, Шныра категорически объявил:
— Никакого портфеля Витька не брал, а уж убивать… Никого не убивал.
— Как это ты можешь утверждать? Ты все его дела знаешь?
— Знаю.
— Выгораживаешь Витьку.
— Не выгораживаю, а правду говорю.
— Ты же был со мной в цирке. Откуда ты знаешь, что в это время делал Витька? Когда мы были в цирке, как раз и убили Зимина.
— Все равно Витька не убивал.
— А буфет в кино вы обворовали?
Шныра молчал.
— Молчишь?! Не хочешь правду говорить? Почему же я должен тебе верить про Витьку, раз ты не хочешь говорить правду про буфет?
Не глядя на Мишу, Шныра сказал:
— Да, в буфете мы взяли.
Миша пристально смотрел на Шныру. Его признание говорит о многом. Понимает, что сейчас не время лгать: решается судьба Витьки. Этому парнишке можно верить. Миша поверил.
— Что взяли?
— Пирожные, конфеты, ситро, монпасье две банки.
— Вот видишь, — сказал Миша. — Раз Витька обокрал буфет…
— Не Витька, а мы все.
— Без Витьки вы бы этого не сделали. Не сделали бы, а?
Шныра пожал плечами, не знал, что ответить.
— Витька вас учил воровать, — продолжал Миша. — Он блатной и вас хотел сделать блатняками.
— Витька не блатняк! Не водился с ними и нам не давал. Он, когда узнал, что Белка водится с Шаринцом, сказал, что не возьмет ее в Крым.
— Разве Белка водится с Шаринцом?
— Раньше водилась.
— А сейчас?
— Разговаривала. Витька спрашивает: говорила с Шаринцом? А она отпирается — нет, не говорила. Врет! Витька ей сказал: будешь с Шаринцом — не поедешь в Крым.
— А о чем Белка разговаривала с Шаринцом?
— Не знаю, стояла у витрины и разговаривала.
— Ну, и что Витька?
— Витька и говорит: не смей водиться с Шаринцом, он ширмач, к нашим деньгам подбирается.
— К каким деньгам?
— А что мы на Крым собирали.
— Те, что в жестяной банке были, в чуланчике?
— Ага.
— Он хотел, чтобы Белка украла эти деньги?
— Не знаю как: чтобы украла или чтобы ему сказала, где их Витька прячет. Только бы не узнал никогда. Витька их перепрятывал. Шаринец сколько раз их искал — не нашел.
— Где искал, на чердаке?
— Ну да! Сколько раз на чердак лазил, да не нашел. Витька места менял.
— Как же он залезал на чердак? Что то не видел я, чтобы он взбирался по пожарке.
— По пожарке он не лазил. Он через черный ход…
— Так ведь дверь Витька на задвижку закрывал.
— Витька закрывал наш черный ход, а Шаринец со своего хода лазил.
— Его подъезд на другом крыле.
— А он по крыше.
— А вы его видели на чердаке?
— Сколько раз.
Шаринец разговаривал с Белкой? Ну и что? Хочет отбить ее от Витькиной компании, давняя история. Что еще? Шаринец связан с уголовным миром? Но зачем ему документы? Впрочем, документы не были нужны и Витьке — улики тут одинаковые. А вот чердак — это существенное: Шаринец тоже мог спрятать портфель на чердаке. Шаринец, если он убил Зимина, мог по крыше перелезть на свой черный ход — живет он на восьмом этаже, — прямо в свою квартиру… Конечно, Шаринец — карманный воришка, не более того, но почему на Витьку можно думать, а на Шаринца нельзя? Уж он скорее поверит, что Шаринец это сделал.
— Слушай, — снова заговорил Миша, — ты помнишь, как Андрей сказал, что его родные уезжают в воскресенье на дачу?
— Говорил. Мы за синичками собирались, он и сказал: не могу, уезжают мои.
— А кто при этом был?
— Все мы были.
— И Белка?
— И Белка.
Миша пристально посмотрел на Шныру. Нужно ему довериться, другого выхода нет.
— Скажи, могла Белка сказать Шаринцу, что Зимины уезжают в воскресенье на дачу?
— Не знаю… Могла… Она все может. Неверная.
— Что значит неверная?
— Ненадежная.
— А мне ты веришь? — спросил Миша.
— А чего, почему ты спрашиваешь?
— Я, как и ты, убежден, что Витька не виноват, не крал портфеля и не убивал Зимина. И постараюсь это доказать. Будешь помогать?
— Буду. Что я должен делать?
— Пока молчать.
— Ладно, — сказал Шныра.
Глава 30
На чердачных дверях висели замки: после всех событий управдом закрыл чердак. Пришлось взобраться на крышу по пожарной лестнице.
На крыше Миша проделал путь, который мог бы проделать Шаринец после убийства Зимина, если допустить, что именно он его убил, а потом убегал по крыше к своему черному ходу. Путь его в этом случае проходил по краю крыши, путь опасный, и переход на свое крыло тоже опасный, но при известной ловкости и сноровке вполне возможный.
Затем через слуховое окно Миша спустился на чердак.
Витькиной каморки больше не существовало. Шаткое сооружение было разрушено, на его месте валялись доски с ржавыми погнутыми гвоздями, ободранные листы фанеры, рваный тюфяк.
Сейчас, когда он выл здесь один, Миша ощутил чердак таким, каким ощущал его в детстве, — таинственным, загадочным, отделенным от остального дома. Глухая тишина нарушалась далекими звуками улицы и двора, воркованием голубей, царапанием их когтей по жести крыши, и как будто летали невидимые птицы, их крылья трепетали в углах и щелях чердака.
Он даже не услышал, а почувствовал кого то за своей спиной и оглянулся: возле слухового окна стоял Шаринец.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга.
— Ты чего здесь? — первым спросил Миша.
— А ты чего?
— Антенну проверяю, — сказал Миша.
Он был в ловушке: чердачные двери заперты, а на крышу Шаринец загораживает дорогу. Справиться с Шаринцом ничего не стоит — хлюпик! Но, может быть, он вооружен. Что у него: револьвер или нож?..
— Антенну? — повторил Шаринец, с трудом выговаривая это слово. — Проволока, что ли? — Он кивнул в сторону крыши.
— Ага, она, — спокойно сказал Миша, подходя к окну и выглянув на крышу. — Провисает, приходится подтягивать.
Теперь он стоял рядом с Шаринцом, готовый предупредить любое его движение. Мысль его работала четко и ясно. Револьвер страшен на расстоянии, а когда стоишь вплотную, он не успеет его выхватить.
Однако никаких враждебных намерений Шаринец не проявлял. Кивнул на разрушенную Витькину каморку, злорадно усмехнулся:
— Теперь не вывернется, бандюга! С финкой на тебя кидался, помнишь?
— Помню, — ответил Миша и, подтянувшись, уселся в проеме окна. Одно движение — и он на крыше. Главное — выбраться на крышу.
— Что же вы его не укоротили? — спросил Шаринец.
— Разве мы милиция? — ответил Миша, перебросил ноги на крышу, встал и подошел к антенне.
Шаринец поднялся за ним.
— Мы не милиция, — повторил Миша, оттягивая шест.
Он чувствовал себя в безопасности, стоит на виду у окон соседнего корпуса. Впрочем, по видимому, у Шаринца нет враждебных намерений.
— Комсомольцы, штаб у вас, а вы просто так, мимо сада огорода… Проморгали!
— Да, — согласился Миша, переходя к другому шесту. — Теперь ребят затаскают к следователю.
— А их за что? Убивал то один Витька, его одного на чердаке нашли. Фургон спал. А Шныра с Паштетом в цирке были. С тобой были. Ведь были?
Хорошо, что Миша стоял спиной к Шаринцу и Шаринец не видел его реакции: Шаринец отводит возможных Витькиных свидетелей, знает, где они были.
— Да, — подтвердил Миша, — они были со мной в цирке, а все же одна компания с Витькой… — Он повернулся, медленно пошел по крыше, трогая антенну руками, и продолжал: — …И Белка из той же компании. А где была в тот вечер — неизвестно.
Шаринец исподлобья смотрел на него, Миша отметил про себя и это: замечание о Белке обеспокоило Шаринца.
— Что ж, по твоему: Белка была заодно с Витькой? — спросил Шаринец.
— Так ведь сам знаешь, из его компании.
— Убивала, выходит, заодно? Девчонка?
— Разве я говорю, что убивала? Я говорю: ребят по следователям затаскают. А насчет Белки я вообще хотел с тобой поговорить.
— Чего говорить то? — насторожился Шаринец.
Мише было важно не то, что говорит Шаринец, он не проговорится, важно, как говорит.
— Ее могут взять на фабрику — не хочет. Что посоветуешь?
— А я при чем? Почему ты ко мне?
— Говорят, ты имеешь на нее влияние.
— Кто говорил? Ну! — грубо спросил Шаринец.
Миша усмехнулся:
— А ты чего на меня кричишь?! Думаешь, я глухой? Может быть, ты сам глухой? Могу так рявкнуть, что у тебя барабанные перепонки лопнут. Знаешь, что такое барабанные перепонки? — Миша протянул руку к уху Шаринца. — Вот тут они у тебя, ты ими слушаешь, а лопнут, ничего не будешь слышать, глухим навсегда останешься. Понял?
Шаринец мрачно молчал.
— Я тебе не мальчик, учти, — продолжал Миша, — не Шныра, не Паштет. Мне говорили, что ты имеешь влияние на Белку. Кто говорил? Витька Буров говорил, вот кто! Витька говорил, что Белка тебя слушает, вот я и прошу: уговори ее пойти работать на фабрику, хорошее дело сделаешь.
Мишкино объяснение, по видимому, удовлетворило Шаринца, и он спокойно сказал:
— Не маленькая, сама все понимает об себе. И не знаюсь я с ней, она с Витькой была. В Крым, дураки, собирались, на солнышке позагорать, вот и загорает, бандюга!
В говорливости Шаринца Миша почувствовал возбужденность человека к чему то причастного, в обвинениях Витьки — фальшь, в злорадстве — торжество мстителя. И его осведомленность, кто где был в ту ночь, и его беспокойство о Белке…
На другой день, в школе, Миша отозвал Шныру в сторону.
— Можешь узнать: говорила Белка Шаринцу, что Зимины уезжают на дачу?
— Если она Шаринца навела, разве она признается? — усомнился Шныра.
— Это верно. А могла она навести Шаринца?
— Не знаю. Только Витька ни при чем, это точно.
— Хочешь Витьку выручить?
— Спрашиваешь!
— Следи за Шаринцом и Белкой.
Шныра исподлобья посмотрел на него:
— Шаринец узнает — убьет.
— А ты так, чтобы не узнал. Белке ничего не говори. И Фургону.
— Я с Паштетом, — подумав, сказал Шныра.
— Не продаст?
— Он верный, любит Витьку.
Глава 31
В карты Валентин Валентинович тоже не играл. Есть карточные игры, в которых требуется умение, но надо ломать голову, а свою голову Валентин Валентинович берег для кое чего более существенного.
Но местонахождение игорного притона, где играл Красавцев, было ему известно.
Два раза коротко он позвонил в дверь.
Настороженный женский голос спросил:
— Кто там?
— От Антониды Аристарховны, — паролем ответил Навроцкий.
Дверь открыла дебелая накрашенная женщина — хозяйка заведения.
За ярко освещенным столом сидели игроки.
В углу, на маленьком столике, стояли вина и закуски. Туда и подсел Валентин Валентинович, дожидаясь конца игры.
Ждать пришлось долго, но он никуда не спешил. От него не ускользнул настороженный взгляд Красавцева; тем спокойнее и невозмутимее выглядел он сам, респектабельный молодой человек в черных лакированных ботинках с гетрами на блестящих пуговицах.
Наконец Красавцев подошел к столику, налил рюмку водки, стоя выпил, вполголоса спросил:
— Зачем вы здесь?
— Повидаться с вами, — весело ответил Валентин Валентинович.
— Присядете?
— Нам незачем видеться, — ответил Красавцев, однако сел.
— Мне трудно жить, не видя вас.
Валентин Валентинович покачивал ногой в лакированном ботинке.
— Ваши шутки неуместны.
— Шутки уместны в любых обстоятельствах, дорогой Георгий Федорович, тем более уместны они в обстоятельствах комических.
— О какой комедии вы говорите?
— Сидите с убийцей Зимина, спокойно пьете водку и закусываете селедочкой с луком.
— А что прикажете делать? Закричать: держите его!
— Идея! Это будет забавно.
Красавцев вытер губы салфеткой.
— Что вы хотите мне сказать?
— Вы должны твердо уяснить: никакого, повторяю, никакого отношения к происшествию я не имею. Будь я хоть мало мальски причастен, меня давным давно не было бы в Москве, вообще не существовало бы никакого Валентина Валентиновича Навроцкого. Неужели вы этого не понимаете? Чушь! Ерунда! Какие основания у вас связывать меня с этим делом?
— Вы настаивали, чтобы я передал документы Зимину.
— Документы лежат на столе, никто их не тронул.
— Вторые документы. А первые?
— Они пропали с портфелем и, вероятно, из за портфеля. Зимин стал бы нашим человеком, поверьте! Но впутался негодяй, мальчишка, бандит, какой то Альфонс Доде, черт бы его побрал, все испортил. Я не знаю деталей; не хочу знать, меня это не касается. Я чист! А поскольку чист я, чисты и вы. Стыдно паниковать, Красавцев!
— Не стыдите меня, пожалуйста! — вспылил Красавцев. — Много на себя берете. Я не утверждаю, что вы имеете отношение к происшествию, как вы изволили выразиться. Но оно имеет отношение к нам. Пока все не закончится, не уляжется, я ничего не могу делать и не буду делать. И вам не советую появляться на фабрике. Исчезните на время.
— Исчезнуть? Мне? Когда я ни сном ни духом! Красавцев, будьте мужчиной, не теряйте головы! Все должно продолжаться, как было.
— Что именно?
— Пять вагонов.
— Вы с ума спятили?
— Извините, это вы деморализованы убийством Зимина, все это видят, между прочим.
— Все равно придется переждать, — уже спокойнее ответил Красавцев.
— Назначен новый инженер, надо к нему присмотреться.
— Наоборот, — возразил Валентин Валентинович, — сразу ограничьте его: твое дело — производство, мое — сбыт.
— Ваше указание, товарищ Навроцкий, будет выполнено, как только вы станете директором фабрики.
Валентин Валентинович встал, холодно сказал:
— Я дал вам несколько дружеских советов, на мой взгляд, полезных. Главное, будьте спокойны, как спокоен я. Никаких, ни малейших оснований для беспокойства нет по одной простой причине: ни я, ни вы не имеем никакого отношения к этому делу. Я жду ответа. И не задерживайте. Иначе нужные мне пять вагонов я получу в другом месте. Честь имею.
Глава 32
Все так же двигались толпы в тесных рядах Смоленского рынка, между ларьками, палатками, открытыми прилавками, коробами с фруктами и овощами, мясными тушами, подвешенными на крюках, растекались по Арбату, по Смоленскому и Новинскому бульварам, по бесчисленным переулкам, спускавшимся к Москве реке, кривым, запутанным, пыльным и грязным.
В переулках тоже торговали дозволенным и запрещенным, гнилым и целым, собственным и краденым, прячась от милиции и фининспектора в глухих проходных дворах, возле ветхих домиков, вросших в землю и подпертых бревнами, в бывших ночлежках, где ютились беспризорники, старьевщики, фальшивые слепцы, в извозчичьих трактирах, чайных и пивных. Одна из них, «Гротеск», соседствовала со складом пустых бутылок.
Благопристойная на вид, с вывеской, где красовалась пивная кружка с громадным клубком белой пены, она, однако, пользовалась дурной славой даже среди постоянных обитателей Смоленского рынка. Здесь собирались воры, жулики, их подруги, скупщики краденого. Порядочные коммерсанты заходили сюда только днем.
Валентин Валентинович вошел в «Гротеск» тоже днем, побыл там некоторое время, вышел и смешался с рыночной толпой, не обратив внимания на двух мальчиков, сидевших на краю тротуара.
Этими мальчиками были Шныра и Паштет. Они видели, как Навроцкий вошел в «Гротеск» и как вышел оттуда.
Сообщение об этом было для Миши неожиданным. Шныра и Паштет следили за Шаринцом — постоянным посетителем «Гротеска». Туда же, оказывается, заходит и Навроцкий.
Пивная на открытом месте, Навроцкий мог зайти выпить кружку пива. И все же это первое, что удалось узнать Шныре и Паштету, причем сразу, с ходу.
Второе, не менее важное сообщение Миша получил на следующий день…
Паштет шел за Белкой.
На Смоленском рынке, у галантерейного ларька, ее ожидал Шаринец. Паштет зашел за ларек и прислушался к их разговору.
— К тебе Мишка приходил? — спросил Шаринец.
— Ну, приходил.
— Почему мне не сказала?
— А ты мне кто: дедушка, бабушка?
— Схлопочешь!
— Сам схлопочешь!
— Ты что Мишке говорила?
— Ничего.
— А он тебе чего?
— На фабрику, говорит, иди.
— А ты что?
— «Что, что»… Ничего!
— Еще с Мишкой увижу — убью!
— Дурак!
— Навешаю!
— Боюсь я тебя очень! — презрительно ответила Белка и пошла прочь.
Паштет смог выйти из за палатки только вслед за Шаринцом.
Против «Гротеска» сидели на тротуаре Шныра и Белка.
Шныра пересчитывал бутылки. Белка, подперев подбородок кулаком, мрачно молчала.
Шаринец подошел к ним.
Подошел и Паштет, уселся рядом со Шнырой.
Шаринец ткнул ногой в корзинку с бутылками.
— Дерьмом занимаетесь, копейки считаете?
— Ты! Осторожнее! — крикнул Шныра. — Разобьешь!
— Как ваш Альфонс? — насмешливо спросил Шаринец, косясь на Белку.
Ребята молчали.
— Говорил: не водитесь. Влип! Попались бы с ним заодно, попарились бы.
Они по прежнему молчали.
— И с бутылками кончайте! Барахлитесь на помойке! Хотите заработать — дам дело. Настоящее. Соображайте!
Шаринец вошел в «Гротеск».
— Пойди, Белка, сдай бутылки! — сказал Шныра.
— Не пойду.
— Почему?
— Не хочу.
— Чего же ты хочешь?
— Ничего не хочу! Умереть хочу! Надоели все!
— Да, скучно без Витьки, — сказал Паштет.
— Шаринец радуется, что Витьку посадили, гад! — добавил Шныра.
— Из за него Витька и сидит, — сказала вдруг Белка.
— Почему из за него? — в один голос спросили Шныра и Паштет.
Белка всхлипнула, вскочила, крикнула:
— А ну вас всех!
И побежала по переулку.
Из «Гротеска» вышли Шаринец и еще какой то человек и скрылись за углом.
Шныра и Паштет пошли за ними.
Глава 33
«Из за него Витька и сидит…» Белка зря не скажет.
Допрос, который учинил ей Шаринец, не случаен. Забеспокоился после разговора на чердаке. Значит, не зря, тогда на чердаке, Шаринец показался ему таким подозрительным. Не случайно и появление Навроцкого в «Гротеске».
Следователь Свиридов, давний знакомый Миши, вызывал его. Миша рассказал тогда о вагоне, о Навроцком и Красавцеве, рассказал все, что знал и что предполагал. Свиридов своего отношения не высказал. «Посмотрим, поглядим».
Но теперь у Миши не только предположения. Шаринец! Новый персонаж, еще неизвестный следствию.
Миша тут же позвонил Свиридову. Того не было на месте. Миша звонил еще, но застал его только на следующий день к вечеру. Свиридов попросил немедленно приехать. Миша поехал, хотя на этот вечер договорился встретиться с Эллен Буш после ее выступления. Обидно! Но ничего не поделаешь.
Миша рассказал Свиридову все подробно, начиная с разговора с Фургоном и кончая тем, что крикнула Белка возле «Гротеска».
— Ты поздно пришел! — сказал Свиридов.
— Поздно?
— Попов Владимир Степанович, он же Шаринец, — убит.
Миша ошеломленно смотрел на Свиридова.
— Когда твои ребята видели его в последний раз?
— Позавчера, часов в пять, наверно. Он вышел с кем то из «Гротеска».
— В тот вечер его и убили. В лесу, недалеко от платформы «Девятнадцатая верста» Брянской железной дороги. Труп найден вчера.
— Навроцкий! Валентин Валентинович! — убежденно сказал Миша.
— В ту ночь Навроцкий мирно спал дома. Кроме того, Шаринец убит из револьвера, вот пуля… — Свиридов вынул из ящика стола маленькую приплюснутую свинцовую пульку — того же калибра, что и пуля, которой убит Зимин. Этого револьвера у Навроцкого не было и нет. Вероятнее всего, Шаринца убил человек, который вышел с ним из пивной «Гротеск».
— Поговорите со Шнырой и Паштетом, ведь они видели этого человека.
— Ты думаешь, они узнают? Они его запомнили?
— Конечно! Они шли за ними до трамвайной остановки. Шаринец и этот человек сели в трамвай, на «четверку», и как раз в сторону Брянского вокзала.
— Вот видишь! Значит, не Навроцкий, а, скорее всего, именно этот человек убил Шаринца. Но звать сюда ребят я не буду. Приблизительное описание ничего не даст, неточное — собьет со следа. Тебе тоже не следует с ними об этом говорить.
— Они все равно узнают, что Шаринец убит.
— Пусть. Только не от тебя.
— Почему?
— Видишь, что делается, — убивают.
— Могут и меня? — усмехнулся Миша.
— Могут и тебя. За этим стоят люди пострашнее Навроцкого.
— А Навроцкий?
— Убивал не он.
— Выходит, убил Витька Буров?
— Я этого не сказал.
— Витька ни при чем, — убежденно сказал Миша, — теперь это абсолютно ясно. Витька в тюрьме, никакого отношения к убийству Шаринца он не имеет. На Шаринце они засыпались… — Он с торжеством повторил: — Они попались на Шаринце: устранили сообщника.
— Еще не видно связи между обоими убийствами, — возразил Свиридов, — кроме предположения, что они убиты из одного нагана.
— Этого мало?
— Мало, пока это предположение; много, когда будет установленным фактом.
— Но ведь Белка сама сказала, что из за Шаринца посадили Витьку, — настаивал Миша.
— Кто это подтверждает?
— Как кто? Шныра и Паштет.
— Не хотят ли они выручить своего предводителя и друга?
— Почему вы им не верите? Спросите Белку.
— Она скажет правду?
— В Белке я не уверен…
— Вот видишь!
— Но ведь Шаринца убили не случайно.
— Безусловно! Вопрос в том, в чьих интересах.
— Навроцкого с Красавцевым! — упорствовал Миша.
— Доказательства?
— Они заинтересованы в документах, похищенных у Зимина.
— Документы найдены.
— Да? Где?
— Подкинуты в почтовый ящик Зиминых. Кто подкинул? Опять Навроцкий?
— Не знаю, — растерянно ответил Миша.
— А не могли это сделать твои мальчики?
— Сомневаюсь.
— Подумай! Буров выкинул документы из портфеля; они где то валялись; мальчишки положили их в почтовый ящик.
— Я верю этим ребятам, — сказал Миша.
— Я тоже хотел бы верить, — вздохнул Свиридов, — только одной веры маловато.
Глава 34
Свиридов осторожничает. Но ведь не случайно сказал: «У Навроцкого такого револьвера не было и нет», и еще «В ту ночь Навроцкий мирно спал в своей постели»… Проверяет Навроцкого, но вида не показывает. Даже не захотел говорить со Шнырой и Паштетом, видевшими вероятного убийцу Шаринца.
Опасается, таится, осторожничает, сбивает со следа.
Обидно немного; можно бы рассчитывать на большее доверие.
Свиридов ни в чем не поколебал его, ни в чем не разубедил.
На минуту закралась мысль, что Шныра мог подбросить документы в ящик Зиминых по поручению своего отца, кладовщика Панфилова. И все же нет! Шныра — хмурый, замкнутый парнишка, но на подлость не способен.
А ведь кто то положил документы в ящик Зиминых. Скорее всего, сам Навроцкий — вот, пожалуйста; по вашему, я заинтересован в документах, ан нет, вот они, не из за документов все произошло, значит, я не при чем.
И кто то видел же его, видел, как он входил в подъезд, младшие классы уже на каникулах, ребята целый день околачиваются во дворе, — так и прошел Навроцкий незамеченным?
В одном подъезде с Зиминым жил Саша Панкратов. Встретив его во дворе, Миша спросил:
— Ты помнишь человека, который вмешался тогда, когда Витька бросился на меня с финкой? Он крикнул сверху, что все видел.
— Конечно, помню.
— Ты не видел: входил он вчера позавчера в ваш подъезд?
— Нет, — ответил Саша.
— А Юра не входил?
— Не знаю. Я их видел возле школы, — сказал Саша.
— Когда?
— Недели две назад.
— Их все видели, — пожал плечами Миша.
— Все не могли видеть, это было во время урока, — сказал Саша.
— Нет, на большой перемене.
— В этот день я был дежурным, — возразил Саша. — Утром, во время лабораторных, Юра вышел на улицу. Я спросил: «Ты куда?» Он ответил: «Передать ключи отцу». А то был не отец, а этот Тип Иванович.
— Ты не помнишь точно, когда это было?
— Можно посмотреть по журналу дежурств.
— И Юра передал ему ключи?
— Юрка протянул руку, может быть, они просто поздоровались.
— А ты бы сказал: «Рукопожатия отменяются», — пошутил Миша. — Слушай! Это было не в тот день, когда на учкоме, помнишь, Генка разбирал стихи Зои?
— Точно! — подтвердил Саша.
Миша вспомнил, как растерялся Юра, когда Генка позвал его на учком, как нервничал на заседании, вспомнил приход Навроцкого, как быстро пошел ему навстречу Юра, как потом оставил их вдвоем с Людой, а сам вошел в школу. И ведь никогда, ни до, ни после этого, Валентин Валентинович в школу не приходил.
И самое главное: Юра соврал! Соврал! И кому? Пионеру Саше Панкратову! Будь у него совесть чиста, он не то чтобы оправдываться, объясняться, он бы с ним разговаривать не стал, дал бы щелбана и спокойно вышел бы на улицу. А он соврал! Не хотел, чтобы видели, как он выходит на улицу, как встречается с Навроцким, и потому, наткнувшись неожиданно на дежурного, растерялся, хоть этим дежурным был всего навсего пионер Саша Панкратов.
Почему хотел скрыть свидание с Навроцким? Ведь на большой перемене он открыто, на глазах у всех с ним встретился. На большой перемене свидание может быть случайным, мало ли кто проходит в это время мимо школы, а во время уроков это свидание заранее условленное, срочное, тайное. Именно поэтому Юра оробел и растерялся перед пионером Сашей Панкратовым, соврал, что идет к отцу.
И ключи какие то приплел… Почему именно ключи?
Безусловно, Юра не участвовал в убийстве Зимина, но отношения с Навроцким существуют, близкие отношения. Тогда, на фабрике, он наверняка слышал, что сказал Красавцев Панфилову, слышал, но покрывал Навроцкого.
Стояли жаркие июньские дни. В школе шли консультации, сдача несданного, все на ходу; учителя, такие вчера строгие, взыскательные, обстоятельные, теперь торопились; младшие классы уже на каникулах, аудитории пустовали, через день два будут выдавать свидетельства об окончании школы.
Кончаются занятия, кончается школа…
На последнем бюро обсуждали, кого рекомендовать в председатели учкома на будущий год. Миша предложил Сашу Панкратова. Только только передали в комсомол? Ну и что? Толковый парень, смелый, принципиальный. С ним согласились, — хорошая кандидатура. И другие ребята ничего: Нина Иванова, Максим Костин… И всегда кажется, что тот, кто придет после тебя, будет хуже, но ведь и те ребята, которых сменил он, Миша, тоже считали его маленьким, боялись, что дальше будет не так. Не так, конечно, по другому, а ничего, работал.
Миша остановил Юру и Люду на лестнице. Не хотелось бы при Люде, но другого выхода нет.
— Юра, помнишь историю с вагоном для Навроцкого, ты мне ответил тогда, что не прислушиваешься к чужим разговорам, помнишь?
— Я действительно не прислушиваюсь к чужим разговорам.
— Потом я довольно громко сказал Панфилову об этом вагоне, ты тоже не слышал?
— Не помню… Может быть, и слышал, но не существенно, не засоряю память.
— Прекрасно! — продолжал Миша. — После случая с вагоном ты, Юра, утром, во время лабораторных, выходил на улицу.
— На улицу? Во время занятий? Может быть… Не помню.
— Ах, так… Этим ты тоже не хочешь засорять мозги… Напомню. В этот день дежурил Саша Панкратов. Ты ему сказал, что должен передать ключи от квартиры своему отцу.
— А… Да… Что то припоминаю.
— И ты передал папе ключи?
— По видимому.
— Ты не передал отцу ключи, в этот день твой отец с девяти до часу вел прием в больнице на Басманной и никуда не отлучался.
— Откуда ты знаешь, что не отлучался?
— А я специально ездил в больницу, проверял это обстоятельство.
Юра насмешливо сказал:
— Я думал, что времена кортика и бронзовой птицы давно прошли. Оказывается, ты все еще играешь в эти игры. Ну что ж! Да, я виделся в тот день с Валентином Валентиновичем. Больше того, я дружу с ним, ты это точно подметил. Дружу и горжусь этой дружбой, представь себе! Бываю с ним на ипподроме, на бегах, даже играю в тотализатор.
— И выигрываешь?
— Случается.
— Поздравляю.
— Спасибо. Но это мое личное дело, ни перед кем я не обязан отчитываться. Что касается Саши Панкратова, то ему померещилось. Ни об отце, ни о ключах я не говорил. У него богатая фантазия, у Саши Панкратова.
— Ну что ж, — сказал Миша, — не лучше ли по другому?
— Что ты имеешь в виду?
— «Часть прав своих в пучину я бросаю и тем корабль свой спасаю…»
— Не дави на психику! За девять лет мне все это достаточно надоело!
— К тому же, оказывается, ты еще и истерик! — заключил Миша. — Извини, Люда, задержал вас. Счастливо!
Глава 35
На улице Юра сказал Люде:
— Школа окончена, а Миша по прежнему воображает себя начальником. Смешно на него смотреть.
Люда молча шла рядом с ним. В руках у нее был черный клеенчатый портфель, тот самый, из которого он вытащил ключи.
Юра покосился на него и продолжал:
— Я разговаривал с Валентином Валентиновичем… Что было с вагоном… Я понимаю, во что Миша ввинчивается… Но какая бестактность — говорить об этом при тебе.
— Действительно, какая невоспитанность!
Что то странное прозвучало в ее голосе. Люда смотрела прямо перед собой. Обычное ее серьезное, нежное лицо с тонкими стрелочками бровей, каштановые кудряшки, зеленоватые глаза.
Они шли мимо кондитерской на углу.
— Зайдем в «Чрево»… — предложила Люда.
— С удовольствием! — ответил Юра, но в душе немало подивился; только что убили отца, а ей хочется пирожного.
Кондитерская была крошечная, как и все подобные частные заведения, налог с которых зависел от их размера. Когда то, в пятом или шестом классе. Кит съел здесь на спор четырнадцать пирожных, а пятнадцатого съесть не смог и, согласно уговору, должен был сам заплатить. Если бы съел пятнадцать, то платил бы Юра — спор был с ним.
Денег у Кита не оказалось, хозяин не выпускал его из кондитерской весь день, пока ребята собирали деньги и выручили Кита. С тех пор кондитерская эта называлась «Чрево Кита» или просто «Чрево»… Люда села за столик. Юра отправился к стойке.
— Тебе каких?
— Одну картошку и один эклер.
— Себе я возьму картошку и наполеон.
Он вернулся с пирожными на тарелке и бутылкой лимонада.
— Вкусная картошка, — похвалила Люда.
— Здесь всегда все свежее.
Люда доела картошку, вытерла губы платочком и будничным голосом, будто они продолжают разговор о пирожных, произнесла:
— Теперь, Юра, расскажи мне все.
— Что именно?
Он действительно не сразу сообразил, о чем она спрашивает.
— Расскажи мне то, чего ты не захотел рассказать Мише.
— Я тебя не понимаю, — растерянно пробормотал он.
— Прекрасно понимаешь. Или я неясно выражаюсь?
Она смотрела на него своими зелеными глазами, и он вдруг ощутил страх перед ее твердым, холодным, выжидающим взглядом… Неужели знает о ключах? Откуда? Валентин разоткровенничался? Не может быть!
— Повторяю тебе: я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.
— Я спрашиваю про историю с вагоном.
Слава богу…
— Люда, и ты о том же… Господи, обыкновенная фабричная история: дают вагон, не дают вагон, грузят, разгружают, отпускают, отменяют, один успел отправить, другой не успел, Валентин Валентинович успел, Мише Полякову это не нравится, что тут поделаешь?.. Ей богу, не ломай над этим голову, это так несущественно. Хочешь еще пирожного?
— Спасибо, у меня есть. Значит, об этом ты не хочешь говорить.
— Нет, почему, если тебе угодно…
— Ты не хочешь говорить, — повторила Люда четким голосом, каким обычно отвечала уроки, — ты не хочешь говорить, и я не настаиваю. Второй вопрос: зачем во время лабораторных к тебе приходил Навроцкий?
Она сказала не Валентин Валентинович, а Навроцкий.
И как смотрит! Никогда не видел ее такой. Черт возьми, знает она о ключах или нет?
— Люда, а почему ты меня допрашиваешь?
— Я тебя не допрашиваю. Допрашивать тебя будут в другом месте. Я с тобой беседую всего лишь. Миша, по твоему, продолжает свои игры. Возможно. Но для меня игры кончены: у меня убили отца.
Черт возьми, как она смотрит! Сумасшедшая, честное слово!
— Не меня ли ты подозреваешь в этом?
— Юра, в последний раз: зачем ты выходил к Навроцкому?
Опять она говорит — Навроцкий!
Юра отодвинул тарелку, лимонад, поставил локти на стол.
— Ты чудачка! Хорошо! Я не хотел, не имел права говорить, я связан честным словом. Но поскольку ты придаешь этому такое значение, я скажу: Валентин Валентинович говорил со мной о наборе.
— О каком наборе?
— Косметическом, который он принес твоей маме.
— Он не преподносил маме никакого набора.
— Как это?!
— Он не преподносил маме никакого набора.
— Да ты что?! Он его подарил, причем довольно оригинальным способом.
— Подарил… Оригинальным способом… Набор… Как ты думаешь, могла моя мама взять от него какой то подарок? С чего ты взял? Он сам это сказал?
Юра ошеломленно смотрел на нее.
— Я у тебя спрашиваю: он тебе сам это сказал?
— Видишь ли… — Юра лихорадочно обдумывал, что ему сказать; он все начинал понимать, начинал догадываться. — Ты меня вынуждаешь говорить такие вещи. Он не сказал, что подарил, он сказал, что хочет подарить, и хотел это сделать через меня…
Люда молча слушала.
— Ну вот, — продолжал Юра, — я, естественно, отказался все же, признайся, несколько щекотливое предложение… Тогда он сказал, что сделает это сам. Вот и все.
— А что за оригинальный способ?
— Ну, он так сказал… «Это будет оригинально» — вот так он сказал…
— Нет, я слышала слово «способ»…
— Возможно, я оговорился… Ты ведь знаешь, он любит такие «изящные» обороты…
— Твои объяснения меня не удовлетворяют, ты не договариваешь.
— Ну, знаешь… Я тебе все сказал, даже больше, чем следовало.
Глава 36
С неумолимой ясностью Юра вдруг осознал не совсем еще понятную, но безусловную связь между ключами и тем, что произошло в семье Зиминых. Как бы далеко ни отстояло одно от другого, какова бы ни была истинная роль Валентина, все равно он, Юра, соучастник чего то страшного, ужасного, может быть, именно он открыл убийцам дверь.
Страх перед возмездием охватил его. И страх перед Валентином Валентиновичем: этот человек не остановится ни перед чем, убьет его так же, как убил Зимина.
Ни о чем не спрашивать, не выяснять, не рассказывать, не ходить к Валентину, отойти в сторону, порвать, отговориться тем, что готовится в институт… Мысль! Уехал на дачу готовиться к экзаменам. Валентин не посмеет явиться на дачу, незнаком с его родителями. Так постепенно все забудется. Нет, не забудется. Витька арестован, идет следствие. Миша Поляков что то подозревает, и Люда тоже подозревает. Доберутся до Валентина, доберутся и до него.
А может быть, он все выдумывает, может быть, ничего нет. Валентин — убийца! Невозможно!.. Невозможно!.. Спешат прохожие, громыхают трамваи, дребезжат пролетки, все как всегда. Он причастен к убийству?! Не может быть! К Валентину немедленно, не откладывая, он все объяснит, расскажет, успокоит…
С замирающим сердцем нажал он кнопку звонка. Там, за дверью, его судьба.
В сетке, туго стягивающей влажные блестящие волосы, Валентин Валентинович был похож на молодого человека с рекламы туалетной воды «Вежеталь». Скользнул взглядом по Юре.
— Чем ты взволнован?
— Почему?.. Шел из школы, зашел…
Окно открыто. При открытом окне Валентин ничего с ним не сделает. Шум двора прибавил Юре смелости.
— Миша Поляков пристает ко мне с вагоном, помните, что тогда отправили.
— Он и ко мне с этим привязывался, — ответил Валентин Валентинович небрежно. — Ну и что?
— Я просто так рассказываю…
— Ах, так? Ну, рассказывай!
— Вот и все!
— Может быть, не все?
Даже не предложил сесть. Развалился в кресле, покачивает ногой, легонько трогает сетку на голове.
— Видите ли, — неуверенно начал Юра, — у нас такой порядок: во время занятий нельзя выходить из школы.
— Такой порядок во всех школах.
— В других школах есть гардеробщицы, они запирают дверь, а у нас самообслуживание, ключ в дверях, ставка на сознательность.
Валентин Валентинович покачивал ногой, трогал повязку на голове.
— Когда я выносил ключи, — продолжал Юра, — меня заметил дежурный по школе и доложил Мише Полякову.
— Почему именно ему?
— Он председатель учкома.
— И ему докладывается каждый такой случай?
— Когда как…
— Дежурный видел тебя, но разве он знает меня?
— Да, он живет в нашем доме и знает вас.
— Как его имя?
— Саша… Саша Панкратов.
— И видел, что ты передал мне ключи?
— Нет, он не видел.
— Что же тебя беспокоит? Мы с тобой не скрываем нашего знакомства. Выходил во время уроков… Тебя за это накажут?
— Просто я хотел вам сказать: Миша Поляков выискивает факты против вас.
— Зачем?
— Мне кажется… Он даже так говорит… Вагон он связывает с документами, которые похитили у Зимина.
Валентин Валентинович поднял красивые, тонко очерченные брови.
— Большой криминалист! А с убийством Зимина он этого не связывает?
— Не знаю.
— А ты?
— Что я?
— Ты связываешь вагон, то есть, будем прямо говорить, меня, с кражей документов и с убийством?
— Что вы, Валентин Валентинович, как вы можете даже спрашивать про это?
— Слава богу!
Валентин Валентинович подошел к зеркалу, осторожно, обеими руками снял сетку с головы, расчесал волосы, чуть чуть подбил, чтобы не выглядели прилизанными, положил повязку на туалетный столик, не оборачиваясь, бросил:
— Чего стоишь? Садись.
Юра сел на диван.
Валентин Валентинович повернул голову в одну сторону, в другую, любуясь прической, потом подошел к окну и закрыл его.
Юра обомлел. Этого он боялся больше всего. Но ни подняться, ни двинуться с места не мог.
Валентин Валентинович снова уселся в кресло, подтянул брюки, закурил папиросу, выпустил длинную струю дыма.
— Ну, рассказывай!
— Что?
— Что тебя привело ко мне?
— Видите ли, — робко проговорил Юра, вцепившись в диван и пытаясь таким образом унять или хотя бы скрыть дрожь пальцев, — Люда мне сказала, что косметический набор вы ее маме не дарили.
— Ну и что?
— Ведь для этого вы взяли ключи.
— Да, для этого я взял ключи. Но когда я тебе говорил, что вошел в квартиру и положил набор? Говорил я тебе это?
— Нет, не говорили.
— Так вот… Я не заходил в квартиру. Не решился. А тебе не сказал, не хотел выглядеть перед тобой трусом. Походил, походил вокруг дома и не зашел. И слава богу. Наше с тобой счастье! Как бы мы выглядели теперь, после всего, что произошло? Моя глупая затея — а я теперь вижу, что она глупая, — кончилась ничем. Все пустяки, и история с ключами пустяки. Зимина убили через две недели после того, как ты дал мне ключи. И ключи были у меня ровно полтора часа — так ведь?
— Да, так.
— Успокоился ты на этот счет?
— А я и не беспокоился.
Может быть, Юру и не удовлетворили объяснения Валентина Валентиновича, что то странное в этой истории… Но его успокоил вид Валентина Валентиновича, его безмятежность, то, как аккуратно делал он прическу, снимал сетку с головы. Человек, над которым тяготеет подозрение в убийстве, не может так тщательно укладывать волосы.
— Прекрасно! — Валентин Валентинович переложил ногу на ногу. — А теперь мне интересно знать, как у тебя с Людой возник разговор о косметическом наборе?
К этому вопросу Юра был готов, ожидал его. И хорошо понимал: ни под каким видом не должен признаваться, что речь шла о ключах; этого Валентин ему не простит, о ключах никакого разговора не было.
— Видите ли, Миша Поляков спрашивал, зачем я выходил к вам во время уроков. Спрашивал при Люде. Я, естественно, отказался отвечать: какое его дело! Вообще, он все время говорил о вас. Потом мы с Людой вышли на улицу и продолжили разговор.
Валентин Валентинович пристально смотрел на Юру.
— Ты ей что нибудь сказал о ключах?
— Что вы! — воскликнул Юра с негодованием, совершенно искренним потому, что говорил правду. — Ни о каких ключах я ей не говорил, о ключах даже речи не было.
— А Мише или еще кому нибудь ты говорил о ключах?
— Никому.
— Ты правду говоришь?
— Абсолютную.
То, что он сказал Саше Панкратову насчет каких то ключей для папы, не имеет ровно никакого значения. Не надо еще больше запутывать.
— Твой Миша ревнует меня к своей циркачке, — сказал Валентин Валентинович, — вот источник его недружелюбия. Допросы его не стоят выеденного яйца. Для нас с тобой это была шутка, к тому же неосуществленная. Но после трагической гибели Николая Львовича, естественно, ни один следователь не может, не имеет права равнодушно отнестись к тому, что ты взял из портфеля ключи от квартиры. И этот факт, если им заинтересуются, может толкнуть следствие на ложный путь. Этого не следует допускать. Если ты проболтался о ключах — нас ждут осложнения, мы должны быть к ним готовы. Поэтому будь со мной откровенен, это очень важно, предупреждаю тебя. Скажи честно: ты говорил кому нибудь о ключах?
Все ясно! Врет! Ни одного слова правды. И Юра твердо ответил:
— Ни-ко-му!
— Хорошо! И никому об этом ни слова. В наше время шутить не любят и шуток не понимают. Наша шутка с ключами может обернуться катастрофой. Для нас обоих. Ты меня понял?
— Прекрасно.
— Кстати, кончил ты уже школу или нет?
— Вроде бы кончил.
— В мое время окончание гимназии было событием. Что то дарили. Например, путешествие в Италию или Египет.
— Я предпочел бы в Индию, страну чудес, — рассмеялся Юра.
Глава 37
«Вас ждут осложнения» — вот главное, что сказал Валентин. Все остальное — ложь; сетка на голове — мишура, притворство.
Возможно, Валентин не убийца, даже вероятно не убийца, но аферист — наверняка. И попадется. Юра не намерен гибнуть вместе с ним. Нет, дорогой Валентин Валентинович, это вас ждут осложнения, а не меня. Я готов разделить с вами компанию в ресторане, пить за ваше здоровье, вместе с вами выигрывать на бегах, но разделять с вами скамью подсудимых я не намерен. У меня, знаете ли, впереди жизнь, об этом вам следовало бы подумать, когда вы втянули меня в сомнительную махинацию с ключами. Сюрприз, шутка — как мило, как очаровательно. Дурачок развесил уши… Ошибаетесь, не такой уж дурачок! Этот дурачок не будет ждать, когда его привлекут как соучастника, он предпочитает быть свидетелем.
Но спокойно, без горячки! Не говорить о ключах. Зачем? Никто не видел, как он их брал. Валентин никогда не признается, что воспользовался ключами, вообще будет все отрицать, документов не крал — был с Зимиными в театре, не убивал — был с Мишей в цирке.
Значит, остается афера на фабрике. Об этом он честно расскажет. Поздновато, конечно. Ничего!
Кому рассказать? Следователю? Страшно туда идти. Один раз придешь — потом затаскают. И следствие идет об убийстве инженера Зимина; если Юра придет туда, то он как бы соединит аферу с убийством, то есть обвинит Валентина в убийстве. Этого делать не следует. Надо об афере рассказать Мише Полякову. Он еще председатель учкома и занимается этим делом, интересуется. И пусть Миша сам думает, что делать с его признанием. Если доберутся до Валентина, а через Валентина до него, то пожалуйста, — он сам все рассказал в школе, в учкоме, товарищу Эм Полякову.
Но товарищ Эм Поляков не поверит в его искренность, будет чего то выуживать, выспрашивать…
Пойти к Генке? Еще хуже! Из этой троицы только Славка единственный интеллигентный, порядочный человек. Он не учится в школе, но все равно состоит в школьной ячейке, ходит на комсомольские собрания. В случае чего, Славка подтвердит, что он никого не покрывал и ничего не скрыл. А если и отказался отвечать Мише, то только потому, что Миша грубо и пристрастно допрашивал его, а ведь он, Юра, не подследственный. Рассказать Славке — значит рассказать Мише Полякову. Мише все это и предназначено.
Придя к Славке, Юра рассказал об отправке того вагона, рассказал точно так, как оно было на самом деле.
— Ничего нового, — ответил Славка, — это подтверждает и сам Навроцкий.
— Да? Кому же он это подтверждает?
— Мише Полякову.
…Странно! Они ведут такие разговоры.
— И чем Навроцкий это объясняет? — спросил Юра.
— Тем, что не хотел упустить свою партию товара.
— Я тоже сначала так подумал, — усмехнулся Юра, — но фокус в том, что это был товар первого сорта, а его оформили как брак.
— Эта афера тоже всем ясна. Вопрос в том, насколько она связана с убийством. Могли они убить, как ты считаешь?
Юра пожал плечами:
— Валентин Валентинович был с Мишей в цирке. Убить Зимина? Смешно! Он дружил и дружит с его семьей. Он не грабитель, не убийца, просто делец.
— А вот некоторые считают, что он причастен.
— Эти «некоторые» — Миша Поляков, — усмехнулся Юра. — А вот Навроцкий считает, что Миша ревнует его к Эллен.
— Он тебе это говорил?
Юра смешался: что то сболтнул лишнее.
— В общем, я так понял…
— Юра, зачем ты пришел ко мне?
— Шел и зашел…
— Я что то не помню, когда ты последний раз заходил. Я вообще не помню, заходил ли ты ко мне когда нибудь. Говори прямо: что нибудь угрожает Мише?
— Что ты?! — растерянно пробормотал Юра, пораженный тем, что Славка заговорил об опасности. Опасность ощущает и он, опасность грозит всем. — Я просто хотел рассказать тебе то, что рассказал, — сказал Юра. — Ты удивляешься, почему именно тебе? Миша разговаривает со мной, как прокурор, а я этого не люблю, потому и рассказал тебе, его другу.
— Ничего нового я от тебя не узнал, — жестко проговорил Славка.
— Других новостей у меня нет, — ответил Юра.
Глава 38
Свидетельства об окончании школы выдавала секретарь, печать ставила завуч, пожимала руку, поздравляла. Буднично и просто. Договорились о выпускном вечере. Юру это не интересовало — обойдется без выпускного вечера с жидким чаем, дешевыми конфетами, громкими разговорами. Вечный барабанный бой! Сегодня он уезжает на дачу. Все, что надо, он сказал Славке, он теперь в порядке; если понадобится — пусть ищут. И Валентин пусть ищет, только вряд ли найдет… Всеобщий привет!
Но как только Юра вернулся из школы, Валентин позвонил и попросил зайти. Видел из окна, как Юра пришел. Следит, не отпускает. Опять этот мрак…
Валентин Валентинович встретил его как именинника.
— Поздравляю!
С чувством пожал руку, жестом пригласил сесть.
— У меня для тебя подарок.
Он протянул руку к конверту на столике, открыл, вынул железнодорожный билет.
— Билет до Одессы, там сядешь на пароход до Батума, вот билет на пароход… Морская прогулка с заходом в Севастополь, Ялту, Новороссийск, Туапсе и Сухум. Этим же пароходом вернешься в Одессу, а оттуда в Москву. Здесь… — он приоткрыл конверт, — деньги на путешествие. Ну как, заменит пока Индию? Ехать сегодня. Поезд отходит с Брянского вокзала в девять часов вечера. Ты успеешь собраться?
Все ясно, ловушка! В Одессе или в Батуме его убьют, у Валентина всюду люди, выбросят из поезда, скинут с парохода. Но не получится, милый Валентин Валентинович, не выйдет ваш номер на этот раз.
— Не могу. Завтра выпускной вечер.
— Какие сантименты, кому это нужно? Променять такую поездку на выпускной вечер?
— Что я скажу дома?
— У вас в школе каждый год экскурсии.
— Мама поедет меня провожать, а на вокзале никого нет.
— Уговоришь не провожать — ты не маленький, скажешь, что никого не провожают.
Как у него все просто получается. Неужели он глуп? Нет, хуже, он примитивен, ординарно примитивен. Все его аферы и махинации примитивны, он запутался в них, он барахтается.
— Мне надо поступать в вуз.
— Прекрасно. Поездка займет двенадцать дней. Загорелый, пропитанный морским воздухом, просоленный морской водой, сильный, красивый, ты успешно сдашь экзамены.
— Мне неудобно принимать от вас такой подарок.
— Ерунда! Я в выигрыше, и мне приятно преподнести тебе небольшой сюрприз.
Юру передернуло. С косметическим набором тоже был «сюрприз», чем он кончился?! Так же Валентин надеется закончить и этот «сюрприз». Не удастся!
— Билеты, как ты понимаешь, я приобрел не сегодня, — продолжал Валентин Валентинович, — о сложностях умалчиваю, чтобы не набивать себе цену. Я понимаю: тебе впервые предстоит такое большое и самостоятельное путешествие. Но, дорогой мой, «не пора ли мужчиною стать»? — Он поднялся. — Жду тебя на вокзале в половине девятого, там я вручу тебе билет и деньги, поскольку ты едешь со своим классом, то ясно, что у тебя их на руках быть не должно. Можно, конечно, и не делать из этого секрета, но не следует забывать, что я скромный агент, откуда у меня деньги на такие подарки?.. Итак, напоминаю: в половине девятого на Брянском вокзале.
Люда и Ольга Дмитриевна знают адрес и телефон следователя, но признаться им о ключах — выше его сил. Остается один путь, все тот же, через Славку с Мишей, через Мишу со следователем. И пусть с него возьмут подписку о невыезде. Одесса, Сухум, Батум — чудесно! А вот не могу, не имею права. Витька Буров чего то на меня наплел, чепуху какую то, сидит в тюрьме, делать ему нечего, вот и выдумывает, следователь этой чепухе не верит, а взял подписку о невыезде. Спасибо за билет, за заботы, за «сюрприз», но обстоятельства сильнее нас.
Если Валентина посадят, он в безопасности. Если Валентин ни при чем, никого не убивал, то и его он тоже не убьет, опять он вне опасности.
Благородно или неблагородно он поступает? Риторический вопрос. Благородно — понятие условное. А красть ключи — благородно? Говорить о сувенире, когда никакого сувенира не преподносил, — благородно? Получать первый сорт под видом брака — благородно? Посылать его в Батум на смерть — благородно? Помолчим лучше о благородстве!
Глава 39
Славка не хотел ввязываться. К таким делам он теперь равнодушен. Романтика кончилась. Не была ли эта романтика всего лишь детством, милым, увлекательным, мечтательным? Кто то украл вагон? Вагоны крадут десятками и сотнями. Кто то взяточник? Все взяточники. Кто то запутался в афере? Ну и что?! Миша хороший парень, но ом отстал, застрял в том самом милом, увлекательном, мечтательном детстве. Он не так прямолинеен, как Генка, но оба они живут в прошлом: время изменилось, они — нет.
Однако приход Юры заставал его задуматься. Юра дрожит от страха, это ясно! Угроза нависла над Мишей — вот что понял Славка. Миша в опасности, ввязался в дело, где убивают, хочет выручить Витьку Бурова, своего злейшего врага, потому что, по его, Мишиному, убеждению, Витька невиновен.
Миша всегда ввязывался и будет ввязываться в такие истории, вечно будет искать справедливости. Он не знает страха — поразительный человек! Ему нужно открытое небо, а не крыша над головой. Суровый, непреклонный Миша Поляков; защищает Витьку, а он, добрый, мягкий, отзывчивый Славка, не защищает, устранился, умыл руки. Это очень хорошо и удобно: переживать собственную скорбь и устраняться от чужих несчастий.
Почему? Что с ним случилось?
Ушла мать? У Генки мать умерла, он много лет живет у тетки, Миша Поляков всю жизнь прожил без отца.
Вынужден зарабатывать? Разве мало ребят работает на производстве? Раньше он жил гораздо лучше своих товарищей, они жили бедно, голодно, но не ныли, не жаловались, не падали духом.
Почему Юра пришел к нему, а не к Мише? Потому что подонку Юре он ближе, чем Миша. Печально, но факт. Они оба видят только одну сторону жизни. Разница в том, что Юра ее принимает, а он, Славка, нет.
Результатом этих размышлений была встреча, на этот раз у Миши. Славка и Генка просто пришли к нему. Никакого объяснения не потребовалось. Они были и остались друзьями, ничто не могло их разъединить. Они снова вместе, снова занимаются одним делом — этого достаточно.
— Юрка зря не появится, — сказал Миша, — только беспокоится он за себя.
— Может быть, его Навроцкий подослал, — сказал Генка.
— Он на грани откровенности, — сказал Славка.
— Но как заставить его говорить?
— Сказать Свиридову, — предложил Генка, — пусть вызовет.
— Я пробовал давать Свиридову советы, — сказал Миша, — он меня быстро наладил… Нужно, чтобы Юра сам пришел к нему.
— Разве его уговоришь?
Раздался звонок, кто то вошел в квартиру, постучал в Мишину комнату.
— Войдите! — крикнул Миша.
Открылась дверь, и на пороге появился Юра, оглядел всех.
— Привет!
— Привет!
— Все в сборе, — сказал Юра, — вот и прекрасно. Я давно ждал случая, когда вы будете вместе. У меня есть кое что вам рассказать.
Глава 40
После показаний Юры, следователь Свиридов, расхаживая по кабинету, говорил Мише:
— В чем была неясность? Шаринец — мелкий карманный воришка, и связан он с карманниками высшего класса — маравихерами. Воры придерживаются своей специальности, совершенствуются, достигают виртуозности. Было сомнительно, что профессиональные маравихеры пытались ограбить квартиру, — у них не бывает даже отмычек. Юра выкрал ключи — все встает на свое место. Ключи были вручены Шаринцу…
— Они были у Навроцкого час полтора, не больше, — заметил Миша.
— Вполне достаточно, чтобы в любой слесарной мастерской изготовили такие же. Итак, Навроцкий вручил ключи Шаринцу. Но в чем была его задача, пока неясно. Выкрасть документы? Они Навроцкому не нужны — товар отправлен и проверить ничего нельзя. Убить Зимина? Совсем нелепо, бессмысленно. Ладно! Разыщи своих мальчишек и тащи их ко мне. И побыстрее!
Через час Миша был у Свиридова со Шнырой и Паштетом.
Свиридов указал Паштету на стул у стены.
— Посиди в сторонке, а ты, Леня Панфилов, сядь возле меня и отвечай.
Свиридов разложил на столе фотографии.
— Ты бы узнал человека, с которым Шаринец вышел из пивной?
— Узнал бы, пожалуй…
— Есть он здесь?
Шныра просмотрел фотографии, указал пальцем на одну:
— Думаю, этот.
— Точно?
Шныра еще раз просмотрел фотографии.
— Думаю, он.
— Еще кого нибудь из этих ты видел?
— Нет.
— Посмотри как следует, подумай, вспомни!
Шныра еще раз посмотрел фотографии.
— Нет.
— Сядь на место Паштета, а ты, Паштет, сядь сюда.
Шныра и Паштет поменялись местами. Свиридов смешал фотографии, разложил их в другом порядке.
— Покажи, с кем Шаринец вышел из «Гротеска».
Паштет показал на того же, на кого показывал и Шныра.
— Кого еще из этих людей ты видел?
Паштет показал еще на пожилого человека, несколько обрюзглого, с тяжелым взглядом.
— Вот этого.
— Когда? Вчера? Позавчера?
— Раньше.
— Где?
— Во дворе, где пустые бутылки принимают.
— Он бутылки сдавал?
— Нет, проходил через двор. Пивная рядом со складом, в заборе проход… Я его раза два видел.
Свиридов подозвал Шныру, показал фотографию.
— А ты его видел?
— Нет, не помню.
— Он видел, а ты не видел?
— Шныра старика заговаривал, — объяснил Паштет, — а я в очереди стоял, по сторонам смотрел, вот и видел.
— Ладно! — Свиридов собрал со стола фотографии, положил в ящик. — Обождите в коридоре, ребята, а ты, Миша, задержись.
Шныра и Паштет вышли.
— Я верю этим ребятам, — сказал Свиридов, — и все же просьба: сегодня они ни с кем не входят в контакт, никому не рассказывают, что были у меня и опознали этих людей.
— Будете брать? — догадался Миша.
— Возможно. Займи ребят чем нибудь, держи их при себе, не спускай с них глаз.
— Я предпочел бы участвовать в другом деле.
— Это исключено. Может не обойтись без стрельбы.
— Тем более хотелось бы.
— Я не успею оформить твое участие. Зато обещаю, что ты будешь присутствовать на их допросе, большего не могу.
Глава 41
Прямо от Свиридова Миша увел Шныру и Паштета в цирк.
Трибуны были пусты, на манеже тренировались артисты.
— Посмотрите, вам будет интересно, — сказала Эллен.
Она усадила в первом ряду Шныру и Паштета, а сама с Мишей села поодаль.
— Ты не узнала насчет ребят? — спросил Миша.
— Я говорила… Но поздно. В цирке начинают с трех четырех лет.
— Не все вырастают в цирковой семье.
— Наша работа сложнее, чем ты себе это представляешь…
— Почему… Я представляю…
— Тебе хочется пристроить их к делу, так ведь? — продолжала Эллен.
— Но в цирке нужны известные способности, даже одаренность или тренировка с раннего детства.
— Все понял! — сказал Миша. — И больше не настаиваю.
Они сидели на пустых трибунах, смотрели на тренирующихся артистов.
— Скоро мы уезжаем на гастроли, — сказала Эллен.
— Куда?
— В Мурманск.
— Лучше бы на юг.
— Нет, там сейчас хорошо, весна… Я люблю весну. Иногда мне хочется уехать туда, где весна начинается еще в феврале, куда нибудь в Туркестан или Закавказье. А потом вместе с весной двигаться на север, переезжать из города в город… Мы, цирковые, вечные скитальцы.
— Ты хочешь сказать, что я тебя могу видеть раз в три года?
— Я не это имела в виду, — уклончиво, как показалось Мише, ответила Эллен. — Но моя жизнь — это ездить, работать и улыбаться.
— Действительно, почему ты все время улыбаешься? В театре актеры тоже раскланиваются, но не улыбаются.
— Нелепо было бы улыбаться Гамлету или королю Лиру, — возразила Эллен, — а мы веселим зрителя. Даже если я чуть не разбилась, я должна улыбаться: все хорошо, прекрасно, весело и удачно. Вот мы и улыбаемся… Слушай, этот дяденька, который тогда бросил мне букет, а потом явился за кулисы с комплиментами… Ты знаком с ним?
— Да, а что?
— Артист погорелого театра! Передай ему, чтобы он больше не посылал мне цветов.
— С удовольствием, — согласился Миша, хотя совсем не представлял себе, как он это скажет Навроцкому.
— Ты останешься на представление? — спросила Эллен и встала. — Сегодня будут Бим Бом, Виталий Лазаренко, останешься?.. Хорошо, посиди, я схожу за контрамарками.
Глава 42
В то время когда Миша со Шнырой и Паштетом досматривали в цирке представление, Смоленский рынок был погружен в темноту.
Темно было и в прилегающих переулках, здесь рано ложились спать, рано вставали — рынок начинался с рассветом. Только тускло светились завешенные окна «Гротеска», и, когда открывалась дверь, доносился оттуда приглушенный шум голосов, стук пивных кружек, женский смех, обрывки песен.
Свиридов велел своим людям подходить по одному, с разных сторон, так, чтобы в десять вечера оказаться у «Гротеска», трое — у главного входа, трое — у заднего, во дворе.
Ровно в десять Свиридов открыл дверь и с двумя сотрудниками вошел в «Гротеск».
Вид людей в кожаных куртках, остановившихся у дверей, не оставлял сомнений в том, кто они такие. Все смолкло. Оборвалась песня в углу, застыл официант с кружками в руках, игроки прикрыли карты кто ладонями, кто локтями, смолкли парни и накрашенные девицы.
Тишину разорвал истеричный женский крик:
— Облава!
Крик оборвался, все молчали.
— Никому не вставать! — приказал Свиридов. — Официант!
— Слушаюсь! — ответил официант, продолжая держать в каждой руке по четыре кружки, наполненных пивом.
— Иди вниз, скажи Василию Ивановичу, Серенькому и всем, кто там есть, чтобы выходили.
— Слушаюсь. Будет исполнено.
Официант поставил кружки на стойку, вытер руки фартуком и ушел за занавеску.
В заднем помещении «Гротеска» в полуподвале за столом сидели четверо, на столе лежали карты и деньги.
— Василий Иванович, — сказал официант, — вам велено выйти.
Василий Иванович, плотный, крепкий человек лет пятидесяти, с красивой сединой на висках, с прямым, несколько тяжелым взглядом, не выпуская карт из рук, спросил:
— Сколько их?
— Трое.
— Скажи, сейчас выйдем. Иди!
Официант попятился и вышел.
Василий Иванович положил карты на стол, протянул руку, открыл заднюю дверь. Полоска света упала на узкую крутую лестницу. Сверху раздался голос:
— Выходи по одному. Кто выйдет с оружием, будет застрелен на месте.
Василий Иванович закрыл дверь.
— Вот сволочи, не дали банк додержать, какая карта шла!
Глава 43
— Дело сложное, — сказал Мише Свиридов. — Главный — это Василий Иванович, аристократ…
— В каком смысле?
— Не граф, не князь, а маравихер, карманник высшего класса, вытаскивает бумажники у солидных людей. Серенький тот, что выходил с Шаринцом из «Гротеска», — помощник Василия Ивановича. Что касается Шаринца, то он и вовсе был мелкий воришка, вытаскивающий из карманов все, что попало, вплоть до носовых платков. Так вот: в прошлом году, — продолжал Свиридов, — Василий Иванович, как злостный рецидивист и социально опасный элемент, получил пять лет. Но сбежал. Сомнительно, что после побега он пойдет на такое нелепое убийство, каким представляется убийство Зимина. Обычно после побега они отсиживаются в закутке. И не мог он сменить свою воровскую профессию на другую, к тому же еще более опасную: он не молод. В общем, против него улик никаких. Единственная наша улика — Шаринец. Мы должны доказать, что убил Шаринца Серенький, они вместе вышли из «Гротеска». Вот расписание дачных поездов по Брянке. Если предположить, что они выехали поездом в шесть пятнадцать, а вернулся Серенький поездом восемь сорок пять, то он должен был отсутствовать в «Гротеске» минимум часа три четыре, где то между пятью и девятью. Твои мальчики утверждают, что он вышел вместе с Шаринцом и сел с ним на трамвай. А вот Василий Иванович и еще человек двадцать посетителей «Гротеска» будут утверждать, что Серенький никуда не выходил. Тем более, что они с Шаринцом вышли через задний ход. Вот так то, друг Миша. И все же надо начинать.
Серенький был ничем не примечательный человек, этой особенностью его наградили и природа и многолетняя привычка быть незаметным — безликий, инертный, сонный. Миша поразился тому, что Шныра и Паштет узнали его на фотографии. Даже трудно определить его возраст. Лет двадцать пять, а может быть, и тридцать пять.
Свиридов записал в протокол его настоящую фамилию, имя, отчество, год и место рождения и тому подобное, потом спросил:
— Что вы можете сказать по поводу убийства гражданина Попова Владимира Степановича, он же Шаринец?
Серенький пожал плечами:
— А чего могу сказать? Ничего не могу сказать. А его разве убили?
— Вы об этом не знаете?
— Не слыхал об этом.
— Вы были с ним знакомы?
— Знал, есть такой Шаринец, видел раза два в «Гротексе».
Он так и сказал: «Гротекс».
— Вы были с ним знакомы?
— Ну как? Как со всеми.
— А где вы были шестого июня вечером?
Серенький подумал, неуверенно сказал:
— «В Гротексе», наверное, да, точно, в «Гротексе».
— Что делали?
— В карты играл.
— С кем?
— С людьми, с теми, кого вы со мной забрали.
— А ночью где были?
— Дома спал.
— Кто может подтвердить?
— Кто… Мать, жена, соседи.
— А инженера Зимина вы знали?
— Зимина… Инженера… Нет, не знал… Кто такой?
— На Арбате жил, дом пятьдесят один.
— Не знаю такого.
— Навроцкого Валентина Валентиновича знаете?
— Кто такой?
— Агент по заготовке мануфактуры.
— Не знаю…
Подписывая протокол, Серенький спросил:
— За что забрали то?
— Подозреваетесь в убийстве Шаринца.
— Вот еще новость! Кому он нужен, этот ваш Шаринец!
— Не наш, а ваш, — сказал Свиридов. — Идите, я вас еще вызову.
Вместо Серенького появился Жоржик, красивый молодой человек с густой черной шевелюрой, похожий на армянина. Он подтвердил все, что говорил до него Серенький. Да, играли в тот вечер в карты, Серенький никуда не уходил, об убийстве Шаринца не слыхал, о Зимине и Навроцком ничего не знает. Также спрашивал, за что его взяли, но, в отличие от Серенького, держался живо и свободно. И совсем не был похож на вора.
Наконец ввели Василия Ивановича. По сравнению с Сереньким и Жоржиком он действительно выглядел аристократом.
— Садитесь!
— Можно и сесть. — Василий Иванович свободно уселся на стул. — Может, сразу скажете, на сколько усаживаете!
— Срок то уж, во всяком случае, придется досиживать.
— Не без этого, — вздохнул Василий Иванович.
Он показал на Мишу:
— Позвольте спросить, кто этот гражданин?
— Практикант.
— Попрошу отметить в протоколе.
— Отметим.
Серенький и Жоржик даже не обратили внимания на Мишу, а Василий Иванович потребовал отметить в протоколе.
— Приступим к делу, — сказал Свиридов. — Речь идет о некоем Попове, он же Шаринец. Знали такого?
— Как же, знаю, видел в «Гротеске».
В отличие от Серенького, он правильно произносил название пивной.
— Разговаривали с ним?
— Был у меня как то, напрашивался на работу, только я ведь ничем теперь не занимаюсь, прошу учесть. После побега ничего за мной нет, хотел начать новую жизнь, — жалко, помешали.
— Когда Шаринец к вам приходил?
— Несколько дней назад.
— Точнее, пожалуйста!
— Три… нет, четыре дня назад.
— Шестого июня?
Василий Иванович поморщил лоб, задумался.
— Может, и шестого. Я ведь там вроде льва в клетке отсиживался и числа все перепутал. Какое сегодня число?
— Двенадцатое.
— Значит в четверг, именно, значит, шестого числа.
— Ну, о чем вы говорили?
— Играли мы в карты, вся, значит, компания, которую вы теперь здесь бесплатно кормите. Шаринец зашел, говорит: «Василий Иванович, возьмите меня с собой». Я ему: мол, сам завязал и тебе советую. С тем он и ушел.
— Один ушел?
— Один.
— Умный вы человек, — сказал Свиридов.
— Благодарю.
— Только меня дураком считаете.
— Что вы, гражданин следователь, — обиделся Василий Иванович, — я вас считаю человеком редкостного ума. И потому, как есть, все чистосердечно рассказываю. Да, убежал из под стражи. Кому свободы не хочется? Только заметьте, убежал без применения силы, никто не содействовал, зевнула охрана, я и ушел. Хотел новую жизнь начать. Год прошел, что за мной замечено?
— Кто Шаринца убил?!
— Шаринца? — поразился Василий Иванович. — Разве его кто убил? Когда? Где?
— Шестого числа вечером, в лесу, недалеко от платформы «Девятнадцатая верста» по Брянке.
Василий Иванович развел руками.
— Это, извините, новость. Кому он был нужен, Шаринец, шлеппер — несерьезный человек?..
— Инженера Зимина вы знали?
— Простите, как вы сказали?
— Зимин Николай Львович, инженер. Арбат, дом пятьдесят один. Его убили и унесли портфель с бумагами.
— Ах, портфель с бумагами унесли и убили. Знаю, как же.
— Откуда знаете?
— Как откуда? В газетах писали.
— Газеты читаете?
— Обязательно. Отдел суда и происшествий — особенно.
— Навроцкого Валентина Валентиновича знаете?
— Как?
— Навроцкий Валентин Валентинович.
— Нет, не знаю такого.
— Подумайте.
— Что то не припомню, — развел руками Василий Иванович. — Ни одного номера не пропускаю: «Известия», «Вечерняя Москва», а про такого не читал.
— Я спрашиваю: не знаете ли вы его лично?
Василий Иванович благодушно улыбнулся:
— Извините, я подумал — тоже какой убитый. Нет, не знаю я такого человека.
— Скрываете! Я вам скажу, почему скрываете. Расчет у вас простой: вас пошлют досиживать срок, ну, может, что прибавят, зато на свободе остается богатый человек, он у вас в руках. В тюрьме вы или на свободе — все равно он у вас в кулаке. Мешок с деньгами на воле — вот ваш расчет.
— Чересчур хитро вы рассуждаете, — усмехнулся Василий Иванович.
— Вы рассчитали еще хитрее, чем я, — возразил Свиридов. — Только должен вас огорчить: просчитались вы, уплыл ваш денежный мешок, замешан в большой афере с мануфактурой.
Василий Иванович пожал плечами:
— Странные вещи вы говорите, гражданин следователь… Мануфактура… Сроду не имел дело с мануфактурой.
— Ну что ж, — спокойно, даже равнодушно сказал Свиридов, — дело, как говорится, хозяйское. Я дал вам все возможности, вы не захотели их использовать. Вы неисправимый рецидивист. — Свиридов неожиданно наклонился вперед и, глядя в упор на Василия Ивановича, сказал: — Про мануфактуру вы не знаете, а про ключи от квартиры Зимина тоже не знаете? О том, что Навроцкий передал эти ключи Шаринцу, тоже не знаете?
Василий Иванович некоторое время мрачно молчал, потом сказал:
— Ладно, скажу, что знаю. Только учтите: в порядке чистосердечного признания. А не признавался я сразу потому, что меня все это никак не касается, других касается, а по нашим законам, то есть правилам, о чужих…
— Ближе к делу, пожалуйста! — оборвал его Свиридов. — Два часа толчем воду в ступе.
— Так вот, — по прежнему спокойно и размеренно продолжал Василий Иванович, — действительно, человек один в их доме дал Шаринцу ключи, велел унести портфель с бумагами, пообещал два червонца. Шаринец сделал, получил два червонца, а потом приходит ко мне, все это рассказывает и говорит: боюсь я этого человека, убьет он меня, чтобы, значит, не показал на него. Что за человек, спрашиваю. Он говорит: Валентином Валентиновичем зовут, на бегах играет. Ну, я сам, извините, на бега езжу, играю по маленькой и не ради игры езжу, а так, до лошадей я большой охотник, и, извините, в моей каморке неделю просидишь, надо и продышаться. Взял я Шаринца на бега, он мне этого человека показал, Валентина Валентиновича. Я посмотрел на него: вижу — да! Этот могет! У нас, знаете сами, глаз наметанный… Говорю Шаринцу: зачем ты, дурак, не в свое дело полез, ты, говорю, дурак, не по квартирам ведь работаешь, хочешь стать человеком — своей профессии держись. А он отвечает: на два червонца позарился. Ну, говорю, сам позарился, сам и раззаривайся. А теперь видите как! Убили! Значит, правильно предчувствовал, понимал свою судьбу.
Свиридов положил перед Василием Ивановичем чистый лист бумаги.
— Все это напишите и, пожалуйста, поподробнее, с числами.
Василий Иванович неловко взял перо.
— Отвык я писать, гражданин следователь. Может, с моих слов запишете…
— Нет, сами пишите! И поразборчивее. И что еще вспомните, тоже напишите.
Свиридов запер ящики стола и вместе с Мишей вышел из кабинета.
— Он правду говорит? — спросил Миша в коридоре.
— Много врет. Опытный, черт. Сразу все учуял. Рассказал только то, о чем мы сами догадываемся. Но, во всяком случае, достаточно, чтобы предъявить обвинение Навроцкому.
Глава 44
Убийство Зимина, вызов Юры к следователю и, наконец, арест Василия Ивановича — этого Навроцкий не ожидал в худших своих расчетах, а он всегда рассчитывал и на худшее.
Похищая документы, он преследовал ограниченную цель: нейтрализовать Зимина. Он рассчитывал, что Николай Львович скроет пропажу документов: взял домой, дома был сын, в привидения теперь никто не верит. Расчет оказался точным — о пропаже документов Зимин не заявил. Значит, он в руках Красавцева, обезврежен, пять вагонов гарантированы.
Зимин затребовал новые документы — шаг, так напугавший Красавцева. Красавцев — остолоп! Зимин собирался вернуть все документы вместе, в расчете, что беспечный Красавцев не будет их разбирать, сунет в шкаф, кому они нужны, эти старые акты? Если даже Красавцев обратит внимание на недостающие документы, то Зимин отмахнется: «Не знаю, возвращаю то, что брал». Красавцев не поднимет шума, промолчит и тем окажет Зимину услугу. Услуги требуют взаимности.
И вот нелепое убийство Зимина! Все спуталось, смешалось, оказалось под ударом. Негодяй, ничтожество, сукин сын! Кто мог такое предполагать? Карманный воришка, шлеппер, у него даже не было отмычек, пришлось доставать ключи, сделать вторую пару, увести Зиминых в театр.
После театра они с Шаринцом встретились в Кривоарбатском переулке.
Шаринец вернул ключи, отдал документы, сказал, что подбросил портфель на чердак, как велел Валентин Валентинович.
— Что еще взял?
— Чтоб мне воли не видать! — поклялся Шаринец.
— Если что взял, лучше сейчас верни.
— Что взять? Ложки вилки? Вы с бумагами сторгуетесь, а я с ложками в тюрьму?
— Если что взял, я тебя на том свете достану!
— Так ведь сказал! — как будто искренне проговорил Шаринец.
Валентин Валентинович протянул ему два червонца.
— Прибавил бы пятерку, — попросил Шаринец, — там и серебро и рыжевье было, ничего не взял.
Как теперь понимал Валентин Валентинович, здесь крылась его генеральная ошибка — он не придал значения словам Шаринца «серебро, рыжевье было». «Рыжевье» на их жаргоне — золото. Значит, Шаринец осмотрел квартиру, видел столовое серебро, одежду, даже золотые вещи, щупал, осязал, но не взял. Не взял, но запомнил, запомнил, как проник в квартиру, взял портфель, и все осталось безнаказанным. Как же ему не взять такую квартиру на прицел? Не для себя — для домушников, с которыми встречается в «Гротеске». Он всего лишь наводчик. Навел, но просчитался: Зимин оказался дома.
Как же Навроцкого не насторожили слова Шаринца? Приписал стремлению сорвать лишнюю пятерку? Пятерки он не жалел, но не любил потакать.
— Никакой пятерки! Все, как договорились. — Но слова о «рыжевье» как то отметились, и он добавил: — Что касается золота, то самое лучшее золото — молчание. Надеюсь, ты понял?
Его угроза не подействовала, случилось самое непредвиденное. Если убийц найдут, они выдадут наводчика — Шаринца. Шаринец выдаст его.
Это и привело Валентина Валентиновича в «Гротеск». Мир игры соприкасается с миром уголовным: на бега ездят не только играющие в тотализатор. Через них Навроцкий вышел на Василия Ивановича.
Официант провел его в заднее помещение пивной, каморку, тускло освещенную голой лампочкой.
За столом сидел Василий Иванович — Навроцкий видел его на бегах, показали.
У двери, прислонясь к косяку, стоял человек, которого, как сразу отметил Навроцкий, природа наградила способностью никак не запоминаться.
Они выжидательно смотрели на Навроцкого.
Аккуратно подтянув брюки, Валентин Валентинович опустился на табуретку возле стола, закинул ногу на ногу.
— У меня с вами разговор с глазу на глаз.
Василий Иванович кивнул тому, кто стоял у двери. Тот вышел, прикрыв за собой дверь.
— Не представляюсь, — начал Валентин Валентинович, — наше знакомство вряд ли продлится долго. Но считаю долгом предупредить: если я не вернусь домой в три часа, — он посмотрел на часы, — то меня будут искать здесь.
Василий Иванович тяжело смотрел на него.
— Кроме того, если я не вернусь домой в три часа дня, то здесь будут искать не только меня, но и людей, убивших инженера Зимина.
Василий Иванович все так же молча и тяжело смотрел на Навроцкого.
— Кто совершил это ужасное преступление, я не знаю, — спокойно продолжал Валентин Валентинович, — меня это не касается, я занимаюсь другим… Но я хочу поставить вас в известность вот о чем… Некий молодой человек, по кличке Шаринец, еще до убийства инженера Зимина уже побывал в этой квартире, взял там портфель с документами. Таким образом, молодой человек Шаринец знал, что второе посещение квартиры опасно. Возможно, молодой человек Шаринец никакого отношения к убийству не имеет, тогда я зря сюда пришел. Но не исключено, что имеет. Значит, он скрыл, что побывал в этой квартире и взял там портфель с бумагами. Значит, он кого то обманул. Человек, способный обмануть один раз, может это сделать и во второй. Это ненадежный человек.
Он замолчал, дожидаясь ответа.
Василий Иванович тяжело смотрел на него, потом сказал:
— Никакого Шаринца я не знаю, ни про какого инженера не слыхал. Что за муть ты здесь разводишь?
Грубый ответ. Но другого Валентин Валентинович не ожидал. Вставая, он сказал:
— Ну что ж, в таком случае извините за беспокойство. Счастливо оставаться!
Он направился к двери, но Василий Иванович остановил его:
— Навроцкий!
Нарушили соглашение, взяли деньги и нарушили. Договорились, что его имя останется неизвестным. Никому нельзя верить. Но ничего. На эту карту у него есть другая, покрупнее.
Он снова опустился на табурет, на лице его светилась та же обаятельная улыбка.
— Мы, оказывается, знакомы.
— Как вагончики, отгружаются? — спросил Василий Иванович.
— Отгружаются, транспорт у нас постепенно налаживается. Но как тесен мир! Теперь вспоминаю, мне ваше лицо знакомо, где то я вас видел — на бегах как будто; там бывает много народа, но вас я запомнил, и знаете почему?
Навроцкий сделал паузу. Лицо Василия Ивановича было непроницаемо.
— Я вам скажу, почему, — продолжал Валентин Валентинович. — Вы удивительно похожи на одного человека. Да, да, бывает же такое сходство, поразительно! Этот человек получил пять лет. Пять лет со строгой изоляцией! И представьте себе, сумел убежать. Строгая изоляция, а он убежал. Смельчак! Я преклоняюсь перед ним. До сих пор не могут найти.
— Найдут.
— Почему? — возразил Навроцкий. — Могут и не найти. Как говорит пословица: не имей сто рублей, имей сто друзей.
— У нас говорят по другому: имей сто рублей, будешь иметь сто друзей.
— Можно и так, — согласился Валентин Валентинович. — Главное, всегда, в любых обстоятельствах, быть правдивым со своими друзьями. А молодой человек Шаринец кого то обманул. Честь имею кланяться. — В дверях он обернулся: — Да, чуть не забыл. Документы убитого инженера Шаринец продал одному человеку за два червонца. Просил прибавить пятерку, но ему отказали. Это деталь, подробность. Честь имею!
Глава 45
Правилка была короткой.
Шаринец явился в заднее помещение пивной.
За столом играли в карты Василий Иванович, Серенький, Жоржик и еще один — Кукольник.
Они играли, не обращая внимания на вошедшего Шаринца. Шаринец не уходил. Василий Иванович его вызвал, и он дожидался, не смея ни сесть, ни напомнить о себе. Василий Иванович видит его — значит, надо ждать.
Он терпеливо ждал у двери, переминаясь с ноги на ногу, ждал, когда закончится банк. Банк держал Жоржик. Банк долго не стучал…
Наконец Серенький сорвал банк у Жоржика.
Шаринец думал, что теперь с ним заговорят, но нет: банк перешел к Василию Ивановичу; он стасовал колоду, сдал карты.
— Звали, Василий Иванович? — робко спросил Шаринец.
Василий Иванович не посмотрел на него, коротко бросил:
— Жди!
Василий Иванович держал банк минут, наверно, пятнадцать. Выиграл. Отдал карты Жоржику, собрал со стола выигрыш, отсчитал, что оставляет на столе, и уже после этого, по прежнему не глядя на Шаринца, спросил:
— Ну, кто тебя навел на квартиру инженера?
Жоржик тасовал колоду, но не сдавал, ждал ответа Шаринца. Серенький и Кукольник тоже ждали.
Шаринец понял: над ним вершится суд, правилка, и расправа будет беспощадной.
И он в ужасе пролепетал:
— Девчонка навела.
— Какая девчонка?
— Белка… Белкой зовут…
— Как навела?
— Сказала, все на дачу уезжают, один Фургон, мальчонка ихний, дома остается.
— А почему инженер не уехал?
— Так ведь он уехал, уехал он…
— Не кричи! — оборвал его Василий Иванович. — Тихо говори!
— Уехал он, — торопливо зашептал Шаринец, — я сам видел, как в поезд садились жена, Людка… Я на вокзал за ними ездил, Ярославский вокзал, сам видел, как в поезд садились… И дождался, когда поезд ушел. Потом я приехал на Арбат, говорю Серенькому — уехали. Мы с ним и пошли, правда, Серый? Ведь правда?! Ведь ездил я на вокзал?! А? Скажи!
Серенький молчал.
Жоржик тасовал колоду.
— А как же он дома очутился, коли уехал? — спросил Василий Иванович.
— Не знаю, крест истинный, не знаю, только уехал он, уехал… — бормотал Шаринец. — Вот не сойти мне с этого места…
Он говорил правду: ездил за Зимиными, сам видел, как садились они в вагон, дождался отправления поезда.
— Врешь ты все, — сказал Василий Иванович. — Уехал бы инженер, так не было бы его дома.
— Правда, правда! — твердил Шаринец. — Уехал он, уехал!
Он умоляюще смотрел на всех, но видел мрачные, неподвижные, суровые лица.
— Уехал он, — снова заговорил Шаринец, — только, говорят, вернулся.
— Кто говорил?
— В доме рассказывали, жильцы. В поезде вспомнил, что забыл документ, и вернулся. И Фургон, парнишка ихний, и Людка, дочка, и жена — все говорят: вспомнил про документ и вернулся.
— Может, и правда вернулся, — задумчиво проговорил Василий Иванович.
— Ну, конечно, вернулся, — забормотал Шаринец. — И Фургон рассказывал: следователь даже спрашивал, зачем вернулся отец? Разве же мог я знать, что вернется?
— Правильно, вернулся он, с Лосиноостровской вернулся, — задумчиво проговорил Василий Иванович.
— Ну вот, — обрадованно залепетал Шаринец, — разве я бы стал… Разве бы я пошел, если бы знал, что он дома. Уехал он, сам видел…
— А портфель кто взял?!
И снова ужас охватил Шаринца, понял: главное только начинается.
— Витька… Витька взял…
— А кто Витьку навел?
— Не знаю… Не знаю… Белка, наверно…
— А документы из портфеля кому Витька продал?
— Не знаю… Не знаю… — бормотал Шаринец, втягивая голову в плечи.
— За два червонца кому Витька бумаги продал? Пятерку прибавить у кого Витька просил?
Шаринец упал на пол, пополз, обхватил ноги Василия Ивановича, забился в истерике:
— Простите, простите, не убивайте…
Василий Иванович оттолкнул его сапогом:
— Выкладывай!
— Человек один попросил, — всхлипывая начал Шаринец.
— Сопли подбери!
Шаринец шмыгнул носом.
— Человек ключи дал…
— Что за человек?
— В нашем доме живет… Валентин Валентинович зовут… Навроцкий — фамилия…
— Куда портфель дел?
— Витьке на чердак подбросил… Он велел, Валентиныч.
— Нам почему не рассказал?
— Думал… Дело верное, думал…
— Нас зачем подвел?
Шаринец опять пополз по полу, обхватил ноги Василия Ивановича.
— Простите… простите… не думал… не знал… не убивайте!
— Встань!
Шаринец еще сильнее обхватил его ноги, боялся оторваться от них, точно, в том, что держится за ноги Василия Ивановича, видел свое спасение.
Кукольник и Жоржик оттащили Шаринца, подняли, но не выпускали из рук — Шаринец валился на пол, то ли нарочно, то ли не мог стоять на ногах от страха.
— Так вот слушай, — сказал Василий Иванович. — Завтра пойдешь в Рахмановский переулок, на биржу труда, встанешь на учет. Будешь работать, куда пошлют, от работы не смей отказываться. И гривенника нигде не посмей взять, понял? Никакого дела чтобы не было за тобой. Не ходи ни на рынок, ни сюда, в «Гротеск», не появляйся. Придет время, сам позову. Если заберут тебя по этому делу, все вали на Витьку, понял?
Шаринец слушал его с открытым ртом, не веря, что ему оставляют жизнь.
— Дошло до тебя или нет?
— Дошло, дошлет все понял… — выдавил из себя Шаринец.
Василий Иванович повернулся к Серенькому, выхватил из рук карты:
— А ты, гусь! Расселся!
Серенький поднялся и так же, как Шаринец, молча стоял перед Василием Ивановичем.
— Этот — сопля! А ты? Зачем с ним пошел? Кто позволил?
Серенький молчал.
— Тоже здесь больше не появляйся, забудь! Позову, когда надо.
Василий Иванович вынул из кармана пиджака пакет, протянул Серенькому:
— Поедете на «Девятнадцатую версту», знаешь к кому. Передай старухе, пусть спрячет… В дачу войдет Серенький, а ты, Шаринец, на стреме, поняли?
— Понял, понял, — лепетал Шаринец, все еще не веря тому, что его помиловали.
Серенький молчал.
Василий Иванович уставился на него тяжелым взглядом.
— А ты чего молчишь или чего недопонял?
— Все понял…
— Поняли, так идите, и сюда чтобы не сметь! Позовем, когда надо! — Василий Иванович кивнул на дверь: — Идите!
Они сошли на платформе «Девятнадцатая верста» и пошли к лесу — медленно, так, чтобы дачники с сумками ушли вперед.
Лес был хорошо знаком Серенькому, он уверенно шел по его тропинкам. Впереди засветилась полянка. Не доходя до нее, Серенький присел на поваленное дерево.
— Посидим, пусть по дачам разойдутся.
Шаринец присел рядом, с наслаждением вдохнул свежий смолистый запах леса. Опасность миновала, его оставили жить, и Серенького оставили жить, ведь и его могли убить. А про то, что велели не приходить, так это ненадолго; поманежат, поманежат и обратно позовут. Вот ведь доверил к старухе поехать, он слыхал, что есть такая старуха у Василия Ивановича, но не был ни разу, не видел, а сейчас вот послали. Может, теперь его в фартицеры возьмут, куда от него денутся, — при нем, на его глазах Серенький застрелил инженера. А куда было Серенькому? Инженер прямо на них шел, не убей его Серенький, он бы весь дом скликал! Инженер здоровый, высокий, ухватился бы — не отцепишься… Пришлось Серенькому его застрелить… Интересно, откуда Василию Ивановичу известно, что он получил два червонца и еще пятерку просил? Он, Шаринец, как будто никому не рассказывал; выходит, Валентиныч рассказал, чуть его под смерть не подвел, спекулянт проклятый… Ладно, придет время — рассчитается с ним!
Серенький прислушался к лесу. Все тихо.
— Пошли! — и показал тропинку.
Шаринец пошел по тропинке, Серенький за ним.
Серенький вынул из бокового кармана револьвер и медленно начал поднимать его.
— Шаринец!
Шаринец обернулся.
Серенький выстрелил.
Серенький сунул револьвер обратно в карман, подошел к распростертому на земле Шаринцу, наклонился, убедился, что он мертв, и быстро пошел к станции.
Он пришел на станцию за одну минуту до поезда на Москву.
Глава 46
Этих подробностей Валентин Валентинович, естественно, не знал.
Он понимал, что Шаринца убьют, шел на это, явившись в «Гротеск», и не жалел: убийц не жалеют. Он вообще не против смертной казни, но применять ее следует только в одном случае — к убийцам. Шаринец — убийца, убил ни в чем не повинного Зимина и получил заслуженное.
Однако он никак не ожидал, что Василия Ивановича тут же арестуют. Как МУР вышел на него? Грязно сработал? Не тот человек? Случайное совпадение, разыскали как беглого — тоже не верится.
Выдаст ли его Василий Иванович? Какой смысл? Все сделано чужими руками, ничего на себя Василий Иванович не возьмет, будет все отрицать.
Опасен Юра, может проболтаться о ключах. Это уже серьезно: взять ключи от квартиры, где совершены сначала кража, потом убийство. Возможно, Юра уже проболтался. Клянется, что нет, — грош цена его клятвам. Законченный маленький негодяй, отца родного продаст. Аморальная молодежь!..
Он кругом обманут. Обманули Шаринец, Юра, люди, выведшие его на Василия Ивановича, сам Василий Иванович, так глупо севший в тюрьму.
Круг смыкается, надо спешить, пора кончать с фабрикой, исчезнуть, улетучиться. Сегодня грузится второй вагон, нужна минимум неделя, чтобы отгрузить еще три. Есть ли у него эта неделя? Должна быть. Слишком далеко зашло, чтобы он отказался от приза. Неделю Василий Иванович уж во всяком случае продержится. А пока Юра один, все это оговор, клевета, ревность к Люде Зиминой, ничего более…
Неделя у него есть, и надо торопить Красавцева.
Приняв такое решение, Валентин Валентинович отправился на фабрику.
Кончалась погрузка его вагона. Все шло нормально. Красавцев и Панфилов были спокойны. Ничто не предвещало осложнений. Но, разговаривая в отделе сбыта с Красавцевым, Валентин Валентинович посмотрел в окно и увидел идущего к фабрике человека.
— Свиридов, следователь, — сказал Красавцев.
У Свиридова много оснований появиться на фабрике, он ведет следствие по делу об убийстве инженера Зимина. И все же Навроцкий принял единственно правильное решение: пока Свиридов переговорит с директором, потом с Красавцевым, пройдет минут сорок, ну, хотя бы полчаса. Один вагон еще можно спасти.
На складе он сунул Панфилову пятерку, расписался в получении товара, взял накладные и вышел на товарный двор.
Пыхтел паровозик, составитель опломбировывал вагоны. Навроцкий и составителю и машинисту сунул по рублю… Паровозик дал гудок… Состав тронулся. Валентин Валентинович вышел за ними из фабричных ворот.
Минуя окраинные склады, пакгаузы, фабрики и заводы, маленький состав медленно уходил вперед, к товарной станции.
Навроцкий смотрел ему вслед. Хорошая операция сорвалась. Жалко! Но ничего… Эти склады, пакгаузы, фабрики и заводы — все будет принадлежать ему, его время придет, важно еще немного продержаться…
Валентин Валентинович оглянулся на фабрику. Хорошая операция предстояла. Жалко, ничего не скажешь, жалко. Но так сложились обстоятельства, он в этом не виноват.
Глава 47
В это время на Ярославском вокзале Миша провожал Эллен.
Гудели паровозы, из под колес с шипеньем вырывались клубы пара, смазчик стучал молотком по буксам вагонов — вечные сигналы дальней дороги, тоскливого расставания.
Игорь и Сергей уходили к багажному вагону, проверяли, как грузится цирковое оборудование.
— Когда вернетесь? — спросил Миша.
— Не знаю. Лето пробудем в Мурманске, на зиму еще ничего не известно.
— Значит, еще год не увидимся?
— Приеду, а ты уже студент.
— И, может быть, предпоследнего курса, — засмеялся Миша.
— Не исключено. — Эллен тоже засмеялась.
Она была очень красива, все смотрели на нее. Но она не смотрела ни на кого.
— Будет время, черкни пару слов мне, Генке, Славке…
— Я такая неохотница писать, не надейся… Ну как, поймали вы своих жуликов?
— В общем, да.
— Неужели этот любитель букетов — бандит?
— В прямом смысле, может быть, не бандит. А вообще то — бандит.
— Что то сложно для меня…
— Люди гибнут за металл…
Не глядя на Мишу, Эллен будничным голосом сказала:
— Знаешь, Миша, я выхожу замуж.
Всегда все важные новости она сообщала таким будничным голосом.
Сохраняя полное самообладание, Миша ответил:
— Да? Поздравляю! За кого, если не секрет?
— За Сережу, за своего партнера.
— Цирковая традиция? — попытался шутить Миша.
Она тоже пыталась шутить:
— Ну конечно… — Она показала на небо, подразумевая купол цирка: — Ведь он там, наверху, держит меня в зубах. Жену будет держать крепко, не уронит.
— Тогда я за тебя спокоен.
Так они шутили, как и положено воспитанным людям. Миша достойно встретил крушение своей первой любви. Во взгляде Эллен он уловил даже некоторую разочарованность, она ожидала потрясения. Потрясения не будет.
Раздался третий звонок.
Игорь и Сергей попрощались с Мишей и вошли в вагон.
Эллен задержалась на площадке и, улыбаясь, помахала Мише. Потом не дожидаясь отправления поезда, ушла, может быть, для того, чтобы не мешать другим входить в вагон.
Но Миша дождался отправления поезда, тот медленно вытягивался из под крыши вокзала и наконец скрылся, вильнув длинным закругленным хвостом.
Миша вспомнил тот, другой поезд на станции Бахмач, увозивший эшелон туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полоску, прорезавшую горбатый туманный горизонт. Перед глазами его снова возникали красноармейцы. Матрос Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар…
Сейчас, как и тогда, к горлу подкатывал тесный комок…
Но непозволительные слезы не показались. Детство кончилось… Эллен — это тоже его детство, маленькая циркачка, так поразившая когда то его воображение.
Он вышел из вокзала на Каланчевскую площадь и по Мясницкой, через центр, поехал к себе, на Арбат.
Идти домой не хотелось, и он прошел на задний двор.
Ребята играли в волейбол.
Возле корпуса на асфальте сидел Витька Буров, стриженный под машинку, бледный и худой.
— Привет! — сказал Миша.
— Привет! — ответил Витька.
Кончилась партия, команды стали меняться местами.
— Примите нас, — сказал Миша.
— Становитесь! — сказал Генка.
Миша и Витька Буров перешли на площадку, и игра возобновилась.
Примечания
1
Орнитолог — специалист по птицам.
(обратно)2
Эти и последующие стихи написаны в двадцатых годах учеником московской школы имени Лепешнского Яшей Полонским. Погиб на фронте в Великую Отечественную войну.
(обратно)3
СПОН — Социально-правовая охрана несовершеннолетних.
(обратно)
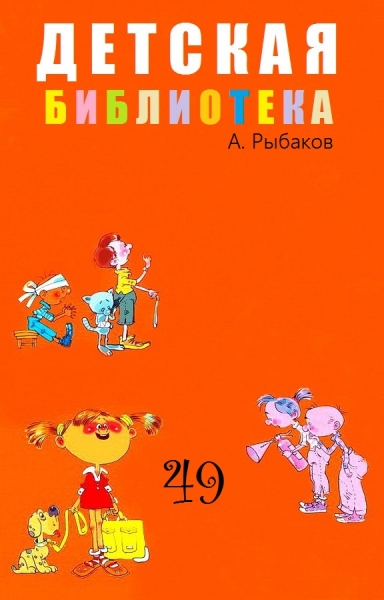


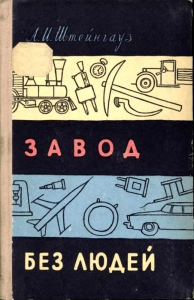



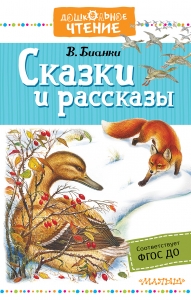


Комментарии к книге «Детская библиотека. Том 49», Анатолий Наумович Рыбаков
Всего 0 комментариев