Светлана Лабузнова Билет до Луны
© Лабузнова С.И., 2014
© Рыбаков А., оформление серии, 2011
© Клименко Н. А., иллюстрации, 2014
© Макет, составление. ОАО «Издательство «Детская литература», 2014
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
О конкурсе
Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.
В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года, что происходит до настоящего времени. Второй Конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня — дети, завтра — народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей: повестей, рассказов, произведений поэтических жанров. В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов.
Отправить свое произведение на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные рукописи два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.
В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-лист конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.
Билет до Луны Повесть
Улыбнитесь! Вас снимает скрытая камера
Воспоминания о прожитом похожи на просмотр записи, снятой скрытой камерой. Иногда видишь то, что раньше оставалось как-то незамеченным.
Я смотрел на бумажный лист, забыв о времени и о давно превратившихся в клейстер пельменях на плите. Может, не стоит писать: «Жизнь до — жизнь после»?
Пути себе расчистив, На жизнь мою с холма Сквозь желтый ужас листьев Уставилась зима. Б. Пастернак. Ложная тревога«Детство в людях»
Своего детства я почти не помню. В моих воспоминаниях оно похоже на одинаковые, как капли воды, дни, из которых как-то сразу не собрать ни одной полной картинки длиной больше пяти минут. Только один день врезался в память настолько, что я до сих пор помню его в мельчайших деталях.
Новый год. Мне скоро исполнится шесть лет. Это последний год в моем первом детском доме. Я давно догадался, что к нам Дед Мороз сам лично не приходит. Занят, наверное. Он передает свой посох и красную шубу с валенками Игорю Николаевичу, который легко узнаваем по своим огромным командирским часам.
Взявшись за руки, мы с давно разученной песней вполне себе бодро бредем вокруг елки. Неожиданно кривой елочный круг рвется, над ним хлопушкой взрывается слово:
— Мама!
Мы перестаем водить хоровод и с любопытством смотрим, как недавно переведенная из детского приемника девочка бежит к Снегурочке. Маленькая девочка в марлевой юбке, немного пожелтевшей от времени. Юбочка, служащая уже бог весть какому поколению снежинок, похожа на бутон увядающего цветка. «Снежинка тающей зимы». Не помню, где я слышал это название, но, наверное, оно лучше всего подходит к этому костюму. На короткой юбчонке кое-где блестят маленькие кусочки бело-желтой мишуры.
Здесь все кажется ненастоящим: и Дед Мороз, и елка с редкими ветвями. Игрушки на ветках висят высоко, так, чтобы наши руки не могли потрогать блестящие шары. Нижние, самые длинные ветки ели густо увешаны бумажными гирляндами, флажками и фонариками. Бумажное мастерство детских рук. Больше всего в зале желтых фонариков. Снегурочка — такая же фальшь, как и сам новогодний праздник, впрочем, сначала это совсем незаметно: она в наших глазах почти настоящая, не то что Дед Николаевич Мороз.
Снегурочка растерянно склонилась над новенькой. И тут Леночка почему-то изо всех сил вцепилась в толстую, светлую, как у нее самой, косу Снегурки. А потом произошло невероятное, не виданное никогда раньше никем из тридцати ребятишек, находившихся в зале. Косы внучки Деда Мороза вместе с шапкой съехали набок, а потом и вовсе свалились с головы. На голове Снегурочки оказались запасные волосы, короткие, цвета яичного желтка. Желтый цвет — цвет расставания. Я понял это в том детдоме. В моей жизни желтого цвета всегда было слишком много.
Весной двор покрывается одуванчиковым ковром, оставляющим желтую пыльцу на наших пальцах и носах. Если смотреть на двор сверху, из окна, то заметно, что ковер похож на лоскутный. Такой, какой любит делать тетя Лиля — главная по детдомовскому имуществу. На желто-зеленом мелькают пятнышками наши куртки. Пропадает ковер — уходит весна. Осенью клены отдают свою желтую дань потускневшей траве. Они разлучают траву с летом. Зима тоже желтеет: короткие дни сменяются желтыми вечерами. Фонари светят желто-огненными глазами, словно древние ящеры, заглядывающие в пещеры.
Наш дом стоит у самого подножия большого холма, на вершину которого вскарабкались высотные дома. Этим холмом со стоящим на нем новым микрорайоном заканчивался наш тихий провинциальный город. Воспитатели часто сетовали, что добираться на работу неудобно, — транспорт, мол, не ходит в такую глушь, а ежедневно спускаться и подниматься на огромный холм очень муторно. Я спросил, что означает слово «муторно», но мне посоветовали пойти поиграть и не лезть во взрослые разговоры.
Если бы нам позволили посмотреть, как приходит вечер, то мы увидели бы, как фонари-ящеры караулят дорогу и как высматривают они идущих по дороге людей. На некоторых фонарных столбах не хватает лампочек, они так и стоят с потухшими глазами в полосках желтого света других фонарей.
Мы рано ложимся спать, поэтому никому из нас не удается загадать заветное желание падающей звезде цвета разлуки. Ночью луна опускает на землю свои желтые дороги, на которые смотрят звезды, но мы, дети-сироты, об этом ничего не знаем.
— Ты не моя мама! Где моя мама?! — Ленка с рыданиями теребит красивый, расшитый блестящими нитями рукав Снегурочки.
Дед Мороз (Игорь Николаевич) спешит раздать шуршащие кулечки с конфетами и чудесным образом исчезает с такой легкостью, что ему мог бы позавидовать настоящий Дед Мороз.
Иногда воспитатели между собой называли Леночку горькой сиротой и ангелом. Она сразу попала в категорию любимых, «хорошеньких», как говорили воспитатели, детей. У ангела были волосы, напоминавшие цветом четверговую кашу с маслом. Чтобы в пшенную кашу повара клали сливочного масла сколько полагается, а не сколько им хотелось бы, наша старшая медсестра Нина Павловна лично снимала пробу. Пять рабочих дней в доме слышалась приятная негромкая речь. Воспитатели общались на полутонах, периодически бросая взгляды на дверь, — Нина Павловна обладала нервирующей способностью ходить бесшумно. Нинель (так звали за спиной сотрудники нашу старшую медсестру) крик на детдомовского ребенка могла превратить в запись в трудовой. Работу здесь ценили за надбавки, положенные за закрытость учреждения. Теперь я понимаю, что, несмотря на относительно скромные официальные полномочия, фактически Нина Павловна была матерью-королевой в закрытом от внешнего мира королевстве несовершеннолетних подданных.
На прогулках мы любили смотреть сквозь металлические прутья забора. Редкие прохожие были большой удачей для зрителей. Здание детдома стояло в стороне от дороги, на подходе к лесу, так что по узенькой тропинке люди шли в основном в лес. Мы всматривались в их лица. Все они шли мимо, иногда одаривая нас улыбками, но чаще как будто не замечая. Иные даже ускоряли шаг, как если бы им было неприятно или отчего-то стыдно.
Еще мы очень любили наблюдать за кошками. Эти-то не стыдились ничего. Для кошек запретов не было. Они свободно проходили сквозь забор. Кошки и собаки, вороны, воробьи — кроме этих животных, мы не знали никого. Зоопарка в нашем городе не было, а если бы и был, вряд ли бы нас туда повезли. Рыжие тигры, задумчивые слоны и грустные зебры прятались в красивых книжках, стоявших на полках в игровой комнате. Зато у меня была своя, персональная, кошка. Я гордился тем, что рыжая с травяными глазами кошка выделила меня среди множества маленьких, почти всегда одинаково одетых человечков. На мое «кис-кис» она бежала охотнее, чем на Борькино зазывание, и брючины моих штанов собирали больше шерсти, чем Борькины. А может, мне просто так казалось.
Рыжая терлась полосатой бочиной о мои ноги, хитро щурила глаза, похожие на крохотные лимончики, от этого лимончики сплющивались и превращались в щелочки. Она мурлыкала кошачий туш.
Настоящие лимоны были на картинках с фруктами, их показывали нам на занятиях. Воспитатель, подняв картинку повыше, всегда спрашивала: «Что это?» Мы верили, что где-то помимо книг существуют клубника, земляника и малина. Иначе зачем это рисовать на картинках? Воспитатели говорили, что в лесу поспела земляника и если поторопиться, то можно немного набрать на варенье. Говорили они это промеж собой. А нам оставалось только воображать, какое оно на вкус, это варенье.
Я знал, что рыжая кошка поет только для меня. Это очень приятно — осознавать, что у тебя есть что-то свое. Хотя бы кошка и ее песня. Воспитатели эту кошку, как и всех других, прогоняли, но она приходила снова. А потом она почему-то перестала приходить, напрасно я вглядывался в узкие полоски забора — пушистой нигде не было видно. В тот же шестой год моего детдомовского детства нашлась Леночкина мама.
Моя мать не находилась. Я вообще никогда не задумывался, почему кто-то из незнакомых взрослых приходит, общается с нами, а потом кого-нибудь забирают. Куда и зачем? Почти как пророчество выползает из памяти фраза, брошенная Антониной Петровной, моей первой воспитательницей, снова звучит ее низкий грудной голос: «А этого черного грачонка никто никогда не заберет. Дитя курортного романа». Это все, что я знал о родителях до семнадцати лет.
Аким
Сережка, по прозвищу Аким, вразвалочку шел с ведром в сторону окон нашего холла. Шел, неспешно отмеряя шагами длинный прямоугольник дорожки, покрытой серым потрескавшимся асфальтом, словно морщинистой сеткой. Сережка не обращал внимания на такие ерундовые мелочи, как трещины на асфальте, через которые куда-то ползут дождевые черви. Путь Акима лежал обратно в дом, куда он намеревался войти так же, как и вышел, — через окно.
— А ну стой! Ты почему в семь утра на улице? — Лариса Ивановна сделала вид, что не знает, куда Серега иногда мотается по ночам.
Аким успел заметить недокуренную сигарету в кулаке за спиной у Жужелки. Она была зажата в руке на уровне поясницы, там, где начиналась серая узкая юбка. Аким отметил про себя, что сегодня сигарета короткая, мужская. Значит, у Лариски что-то случилось. Обычно она носила в кармане пачку длинных женских легких сигарет и выкуривала их тогда, когда в ее личной жизни были тишь да гладь. Крепкие сигареты были признаком какого-то потрясения. А потрясти ее могли только сбои в личной жизни. Все остальное у нее устраивалось легко и понятно. Прозвище Жужелка прилипло к Лариске с первых дней работы. «Не жужжать» — это было и ее жизненное кредо, и одновременно приказ тем, кто с ней в чем-то несогласен. Вообще-то тетка она была неплохая. Крикливости бы ей поменьше, а так ничего — мини-юбка в любое время года да бодрость духа.
— Вышел свежим воздухом подышать. Здрасте вам!
Серега, как и все детдомовцы, отличался наблюдательностью. И сейчас наблюдательность подсказывала ему, что надо побыстрее сваливать в группу. Скользнув по воспитательнице глазами, частенько косящими невесть куда, он заметил, что Жужелка кривовато сделала контурную линию на губах. С ней такое случалось редко. Кривой контур также был сигналом того, что у нее что-то пошло не так, а значит, ее настроение сейчас с жирным знаком минус. В облике Ларисы Ивановны была обычная строгость: даже серо-пепельные волосы всегда лежали так, словно побаивались нарушить раз и навсегда заданную прическу. А может, и взаправду боялись? Возьмет ножницы и отрежет непослушную прядь.
— И тебе утро доброе. А почему с ведром? — поинтересовалась Лариса Ивановна, сканируя Акима своим цепким взором.
Под этим строгим взглядом бывшего сотрудника детской комнаты милиции не раз временно раскаивались мальчишки на полпути к мелким хищениям дачного провианта, откладывая набег до лучших времен.
В непосредственной близости к детскому дому со всех сторон располагались панельные многоэтажки скучного серого цвета. Переехав в городское жилье из пошедших под снос бульдозерами деревенских домов, обитатели окраин не утратили привычки к сельскохозяйственному труду. Банки с дачными соленьями-вареньями ждали зимы в огороженных клетках. Такие ограждения жильцы приваривали к мусоропроводу, которым никто не пользовался. Поначалу наши ребята наведывались на дегустации, легко вскрывая простенькие навесные замочки на импровизированных складах. Жильцам уничтожение их дачных трудов было не по нраву, и они приходили разбираться к директрисе. Дегустаторы клялись, что налетов на запасы больше не будет. Со временем ящички канули в Лету, пропали куда-то. Может, потому, что не только наши ребята ими интересовались.
Серега, однако, под взглядом Ларисы Ивановны не растерялся. Он нарушил устав бытия лишь в одном пункте — отсутствовал некоторое время в детском доме.
— Я цветы поливал. — Акимов кивнул на ближайшую клумбу, отвечая на вопрос об уместности ведра на утренней пробежке.
Ночью прошел дождь, но Аким не задумывался о таких причинно-следственных связях, как клумба — дождь — ведро. За каждой группой закрепили по клумбе. На нашей иногда цветочно-садовое усердие проявляли воспитатели. Девчоночьи же оставались цветущими до глубокой осени. Цветы на них, как и сами девчонки, отличались непохожестью и пестротой. Наша клумба была наполовину затоптана. В дальнем углу некогда квадратного цветника выживали только желто-оранжевые ноготки. И кто придумал сделать клумбу по соседству с футбольным полем?! «Поле» — это понятие условное. Небольшой участок в углу территории с дугой ворот, с остатками сетки, напоминавшими кусочки порванной паутины. Трава там никогда не росла. Даже если какие-то настойчивые травинки и пытались посмотреть, как выглядит солнце, наши ноги в стоптанной обуви вгоняли их обратно к корням.
— Марш в группу! И через дверь иди, поливальщик.
Лариска заново закуривает спрятанную от острых Акимовых глаз сигарету. «Подстричь бы его надо. Челка в глаза уже лезет или он намеренно отпускает ее? А что, волосы скрывают взгляд… И не поймешь, что он там себе думает. А что думает? Скрытный человек. Прямо «вещь в себе». Сейчас ходит машины мыть. К кровати его не привяжешь и в изолятор жить не отправишь. Мы хоть и закрытое учреждение, но дети вон ходят спокойно по району днем. А этот еще и ночью. Хорошо, что один такой. Дойдет наверх — настучат по голове. Им лишь бы мораль читать. Как за границу на экскурсию детей сопровождать, так они сами, а как воспитывать их, так „плохо работаете". Детей им в командировку отбери поспокойней, чтобы проблем не было. Ну съездили ребята — и что? А их вон подстричь некому. Шампунь водой приходится разбавлять, и неясно — то ли просто мутная вода, то ли мыльная. Пэтэушники-парикмахеры придут практиковаться только осенью. Ладно, сама ему челку отрежу. И так косит своими зелеными глазами». Закончив внутренний монолог, Лариса Ивановна бросила докуренную до фильтра сигарету в урну и пошла к входной двери.
Ночная смена сдавала пост: «Все нормально. Акимов опять отсутствовал. Как ни карауль его — уходит, шельмец! И окна наглухо не забьешь — не положено».
Сережка Акимов пошел в нашу третью группу, гремя серым оцинкованным ведром с красной надписью на боку: «3-я гр. КОР». Из этого ведра положено было мыть коридор группы. Уборка в детдоме возводилась в культ. То ли воспитатели искренне полагали, что эта трудотерапия с тряпками и швабрами, похожими на перевернутые буквы «Т» (что, видимо, символично), спасет нас от проблем, то ли так уж боялись проверок на чистоту, но, скорее всего, это был просто способ занять наше время и заодно частично высвободить свое. Нянечки у нас долго не задерживались, и полы мы мыли сами.
— Барышкин, мой чище! Смотри, мусор везде валяется. Если оштрафует санэпидемстанция, плохо будет и нам, и вам. И вечером обувь поставьте проветривать на подоконник. Это ж прямо газовая камера, а не комната!
— А мне по фигу, — меланхолично отзывается Сашка Барышкин, продолжая лениво возить шваброй по полу, оставляя за собой мокрые полосы, гоняя туда-сюда кусочки серой, давно засохшей и потому неразмокающей грязи, занесенной на чьих-то ботинках.
Обычные утренние и вечерние диалоги. Но грозные сэсовцы не приезжали ни во время эпидемии гриппа, ни в случае с торжеством чесотки. В то бабье лето уже никто не пытался выяснить, откуда и кто притащил эту казнь египетскую на наши муки. От несносного запаха серной мази спасались прогулками во дворе и постоянным проветриванием. Пахли все: и персонал, и дети.
Учителя смотрели на нас с подозрением, морща нос от нашего амбре. Но мы глушили аромат мази дезодорантами. Дезодоранты купил завхоз, и еще кое-что принесли воспитатели. В школе интересовались, отчего это так мы благоухаем. Но так как к нам все были уже привыкшие, то со временем перестали задавать вопросы. Приставать с расспросами о пропавших тетрадках, вечно забытых ручках, отсутствующей сменной обуви учителя давно прекратили, поняв, что нет смысла выяснять, где все эти вещи. Мы частенько валили все на плохое финансирование. И в этом проявлялось редкое единодушие воспитанников и воспитателей. Отличники среди наших встречались редко. Учителям было достаточно того, что мы вообще приходим на уроки и перебираемся из класса в класс. В детском доме в младших группах еще пытались делать с нами уроки, заставляли учить таблицу умножения, но в старших этот процесс выполнения домашних заданий был совсем прозрачным.
Как-то прислали к нам в группу психолога. Воспитательница заболела, и, чтобы не ставить человека в третью смену, пришла психолог. После той пробной смены она не ходила работать в группы. Все-таки заниматься с нами один на один в кабинете лучше.
Серега нырнул в постель с головой, намереваясь поспать часок до подъема. Из-под одеяла с вышитым личным номером воспитанника торчали Серегины ноги в продырявившихся носках мышиного цвета. Он так торопился лечь спать, что забыл их снять.
Сергей не был моим другом, и я не знал, как он отреагирует на мою просьбу. Белый пододеяльник спрятал его целиком, оставив на поверхности серый ромбик одеяла. И этот ромбик был как знак: «Не беспокоить!» Но надо было с чего-то начинать разговор. Я сто раз мысленно репетировал важный для меня диалог и сто раз не знал, чем он закончится. Пока все «уши» спят, надо было поговорить, перетереть о важном для меня деле. И я спросил:
— Засекли?
— Ara, — зевнув, ответил Серега, давая понять, что разговор, не успев начаться, уже окончен.
Тогда я просто брякнул напрямую о своих целях:
— Серег, а возьми меня с собой. А?
— Чего? Куда?
— Я тоже хочу машины мыть. Мне деньги очень нужны.
— Деньги? Зачем тебе деньги? Ты ж на всем готовом живешь: о тебе государство заботится. — Тут у Сереги здорово получилось спародировать нашего завхоза Матрешку.
Галину Алексеевну так прозвали не столько за ее фигуру дородной кустодиевской красавицы, сколько за яркий румянец на щеках. Наверное, дома у нее хранились стратегические запасы бордовых румян. Под стать фигуре был и голос этой дамы — густой, как детдомовский кисель по выходным, сваренный по какому-то хитрому рецепту из овса и чего-то еще, совершенно неопознаваемого, придававшего напитку поразительно противный вкус (всегда одинаковый) и непередаваемый цвет (всегда разный).
— Очень надо. Ну пожалуйста!
— Рискованно. А что взамен?
— А что хочешь?
— Ладно. Разберемся.
— Без базара, брат!
— Спи. «Брат»! Тоже мне родственничек выискался!.. — Сережка захрапел, спрятавшись от заглядывающего в комнату солнца под белое поле с серым ромбиком.
Прозвище Аким у Сереги появилось не сразу. Сначала его прозвали АКМ — в честь автомата Калашникова: в первые дни в детдоме он был какой-то суетливо-быстрый, как автоматная очередь, но очень скоро для удобства перекрестили в Акима. Немного погодя Серега освоился и стал спокоен и нетороплив, а прозвище осталось. С ребятами Аким практически не общался. В детдоме он появился меньше года назад. О себе почти ничего не рассказывал. Его роль в нашем детдомовском обществе была ролью одиночки.
А я, кем был я? Я был, наверное, наблюдателем. Эту роль я придумал себе сам. Всех остальных я тоже распределил по ролям. Везунчики, любимчики, подхалимы, крутые, мерзавцы, порядочные… Была пара ребят, которые больше всего подходили под категорию порядочные мерзавцы. Наблюдателем я считал себя сам, ребята же называли меня по-другому.
Придуманные нами прозвища были почти у всех. Они заменяли привычные имена. Нейтральные возникали путем отсечения лишнего от фамилии. Они ровным счетом ничего не означали. Мое погоняло было из другой категории прозвищ. Оно — мой характер и портретное сходство.
Из всех прозвищ ко мне прилипло только одно — Челентано, или Чили, для краткости. Мое имя — Юра. Юра Сухих. Когда-то очередная новая нянечка сказала: «Юра… Как Гагарин. Тот тоже Юра». Быть Гагариным мне понравилось, но первый космонавт такой русский, такой славянский, а моя черная, плохо расчесывающаяся шапка волос, дополняемая темно-карими глазами и носом, который принято называть орлиным, на сходство с Гагариным никак не тянули. Челентано окрестила меня наша воспитательница.
— Ишь ты, вылитый Че-лен-тано! — произнесла она нараспев.
Лет до десяти я не знал, что ношу имя итальянского актера, думал, что отзываюсь на что-то оскорбительно-пренебрежительное или даже ругательное. Если честно, мне было почти все равно, как ко мне обращались. Я жил по принципу горшка, которому и печь не страшна. В этот детский дом меня перевели в шесть лет из другого, того самого, где Ленка обозналась. Сам детский дом располагался в перестроенном здании детского сада. Внутри наше жилище было чем-то похоже на подводную лодку — то ли тем, что было много отсеков-комнат, то ли низкими потолками над той частью коридора, что вела к столовой.
Этот коридор на первом этаже так и прозвали — «подлодка». Низкие потолки там гнетуще давили своей близостью к тому, кто шел под ними, заставляя порой инстинктивно пригибаться в тех местах, где поперек были проложены балки. Стального цвета пластины скрывали коммуникации и служили норами любопытным хвостатым обитателям — крысам. Металл неприятно отсвечивал ржаво-тусклым блеском. Куча закрытых входов-выходов наводила тоску. В одной из четырех групп рядом с «подлодкой» и прошло мое отрочество.
Лодкой здание было только внутри. Снаружи — просто детский сад, но без привычных ярких горок, качелей, грибов-песочниц. Громоздкие некрасивые решетки охраняли окна кабинета директора и изолятора. В первом случае они несли службу стального стража ценностей от посторонних глаз и опытных рук. Во втором — оберегали заболевших и помещенных на карантин от желания пойти поболеть где-нибудь на свободе. Таковых обычно не находилось. Да и за провинности в изолятор редко кого поселяли. Как-то водворили туда Оксану, девицу тринадцати лет, влюбившуюся, как на грех, в какого-то взрослого дяденьку. Дяденьке пригрозили милицией, а Оксану отправили в изолятор, чтобы она остыла там от любви. Утром в изоляторе Оксанки не оказалось. Ей каким-то чудом удалось протиснуть свою весьма пышную фигуру между прутьями. Разыскивать долго не пришлось. Возлюбленный привез Оксану лично, заверив, что «невиноватый он — она сама пришла». Оксанка плакала. Наверное, от предательства.
От внешнего мира нас отделял решетчатый забор, в котором отсутствовали некоторые секции. Кто и зачем их снял, неизвестно. Ворота закрывались «на ночь» каждый вечер с завидной регулярностью, но такое действо было, естественно, просто символичным. Все бегунки (так называли тех, кто регулярно самостоятельно уходил на свободу) по какой-то традиции бежали ночью, и замок на воротах в силу естественных причин никого остановить не мог. Впрочем, даже если бы все секции забора были на месте, он все равно бы не помог. Закрытые ворота совсем не мешали дворовым ребятам приходить и петь под гитару у нас под окнами. Иногда им вместо цветов от восхищенных поклонниц на голову падали пакеты с водой. И тогда песнопения прекращались.
Тишину ночи порой нарушали шаги мальчишек, пробирающихся к девчонкам. У ночного воспитателя был выбор: находиться либо в старшей мальчишеской, либо в старшей девчоночьей группе. Караулил, одним словом. Но влюбленных у нас было принято защищать от надзора воспитателей, и для них всегда находились заповедные для «посторонних», укромные уголки.
Сначала в нашем детском доме хотели собрать элиту сиротского люда — детей одаренных, способных. Я начал рисовать раньше, чем говорить, если верить все той же Нине Павловне, самоотверженно защищавшей оставшихся без родителей детей. Но то ли не успели выявить всех одаренных, то ли просто некуда было распределять, и детский дом «с уклоном в искусство» открыли просто как обычный детский дом. Конечно, способных было много среди нас. Это неправда, что в детских домах живут в основном отсталые и малоразвитые. Тут, пожалуй, стоит написать о Катрин.
Катя. Просто Катя
Катю привезли в детский дом вместе с младшим братом. Таких ребят, как она, называли «социальные сироты»: мать вроде бы и есть, а вроде бы и нет. О своей семье Катя вслух не вспоминала ни разу. «Лишенцев» (так между собой органы опеки именуют детей, чьи родители лишены родительских прав) в детдоме больше, чем отказников, таких, как я. Она не говорила ни слова о доме, о той прежней жизни. Катерина, как закрытая шкатулка, все секреты хранила внутри. Воспиталки Катю любили, она была «спортсменка, комсомолка и просто хороший человек». Больше всего на свете Катька любила брата. Разговаривала она с ним тоном скорее не старшей сестры, а матери, строгой, внимательной и любящей. Выловив брательника из кустов, подпирающих фасад дома, Катька вела его в группу, не обращая внимания на слабые протесты. Витька упирался, но больше для виду. Ему нравилось, что сестра его опекает, нравилось, что именно она делает с ним уроки.
Пока другие томятся в классной и делают домашнюю работу с воспитателями, он смотрит, как ребята из старших групп играют в футбол, и бегает за вылетающим за забор мячом. Единственный мальчишка с такой привилегией в младшей группе. Высокая, стройная, с отточенными движениями, Катрин успевала переделать кучу дел: кружки, секция карате, обязанности старосты группы. Она была признанным авторитетом среди ровесниц и вызывала уважение как равный среди взрослых. У самой Катрин был пунктик — учиться на «отлично». Кареглазую девчонку с каре, всегда что-то читающую, можно было часто увидеть после отбоя в классной комнате, откуда ее отправляли спать ночные воспитатели.
Угораздило как-то Катю нахватать троек. Тяжело ей давался английский. А тут еще школьная англичанка заявила, что не будет дополнительно с ней заниматься. Дескать, изучала немецкий, а тут ни с того ни с сего перевелась в другой класс, с английским уклоном. «Ни с того ни с сего» было подано воспитателями. Может, в их головах мелькнуло видение будущего, ведь через полтора года Катрин уехала в Штаты. На ПМЖ[1]. Воспитатели в Катиной группе подобрались сплошь «немцы». Так бы и плавать ей в тройках, если бы не новый социолог — переводчик по специальности.
Американцы
Американцы нагрянули к нам в середине весны. Наш город в это время радовал жителей многочисленными лужами в дырках асфальта, кучей мусора, выползшего из-под грязно-серой кромки сугробов, невзрачными перезимовавшими домами и букетами подснежников на рынках в руках у старушек. В нашем весеннем городе группа веселых американцев смотрелась совершенно чуждо — как орхидея на помойке. Но нельзя сказать, что их приезд потряс основы нашего бытия. Мы к гостям были почти привыкшие — иностранцами, как таковыми, нас не удивишь. До приезда этих американцев нас навещали немцы.
Немецкие господа, как оказалось, народ любопытный. Ходили, рассматривали всё с немецкой дотошностью. В нашей группе, в углу на лестничном пролете, стояла коряга — большая такая, покрытая лаком. Стояла она не просто так, а прикрывала своими сучковатыми лапками щербатый угол. Об нее вечно все спотыкались, особенно вечерами, когда выключали свет. Вспоминали при этом и чертову бабушку, и мать вашу — видимо, мать ВД (Веры Дмитриевны). Пару раз пробовали ее выкинуть, но она снова появлялась на прежнем месте.
— Какого лешего?.. Кто ее обратно принес?!
Судя по голосу, на корягу напоролась Лена, наша воспитательница. Они вчера вдвоем с ночной нянечкой тайно от ВД приговорили деревяшку к изгнанию в мусорный контейнер. Да только хранительница коряги принесла свою любимицу обратно, узрев выпирающее из мусорного бака лесное чудище. ВД прозвали у нас Водянкой. Вряд ли придумавший прозвище знал, что водянка — это весьма и весьма нехорошая штука. Вера Дмитриевна была роста маленького, суховатая, как та коряга. Но погоняло приклеилось к ней намертво.
Так вот, что немцы… Бюргеры остановились на лестнице, лопоча что-то по-своему. Переводчиком была наша новенькая социолог. Пока немцы лопотали на родном языке промеж собой, она демократично помалкивала. Гостям, по русскому обычаю, не только соль, но и хлеб поднесли. Точнее, пирог яблочный. Гости надарили нам шариковых авторучек. Алаверды, так сказать, за знакомство и обмен бесценным опытом. И всё удивлялись: «Вы, русские, такие бедные, а любите угощать. У нас гостей встречают скромно». Вот и пойми их: то ли рады гостеприимству, то ли осуждают.
— Лен Ванна, а что там немчура все гуторила на своем?
— Язык лучше учите. Любопытные. Знали бы — перевели.
— Ну скажите! О чем они там в углу, перед корягой, трещали? Небось партизан напомнила наша громадина?
Под дружный гогот над Димкиной шуткой Елена Ивановна, махнув рукой, объяснила, что гости отметили, что у нас «все дырки чем-то прикрыты: либо салфетками, либо вот такими деревьями». И правда, ремонта у нас не было давно. Вот дыру в нише и закрыли вязаной салфеткой, придавив ее расписным глиняным горшком с геранью. То ли немцы так герань любят, то ли салфетки, то ли роспись неизвестного кустаря, аляповато раскрасившего горшок, привлекла их взоры, но огрехи ремонта, а вернее, его отсутствие они заметили. Ведь зачем-то подняли горшок с цветком и заглянули под салфетку, прятавшую под собой большую выщербину. Оказывается, русская поговорка «Любопытство не порок, а большое свинство» относится не только к русским.
Американцы не такие дотошные. И более общительные. Прошел слух, что они приехали выбирать детей. Накануне мы сделали генеральную уборку. Воспитатели велели нам одеться попараднее. Американцы притащили с собой камеру, блеснувшую круглым черным глазом объектива. Факт этот сразу же собрал вокруг них плотный кружок любопытных. В их фильм попал и наш лимон — единственное живое дерево в доме. Лимон на своих тонких длинных ветках держал белые цветы. Листьев было мало. Цветы появились на дереве, когда наша Друид, увлеченная новым оздоровительным течением, начала поливать деревце какими-то смесями. Наверное, это совпадение, но сей факт цветения добавил веры сотрудников в волшебные Верины средства, так что клиентов у нее прибавилось.
Пожалуй, следует пояснить, почему Веру Дмитриевну «крестили» трижды. Сначала появилось простенькое ВД (произносилось как аббревиатура), потом в силу «приятностей» характера погоняло переменили на Водянку, сохранив при этом начальные буквы имени и отчества. А Друидом ее прозвали сами воспитатели. За любовь ко всяким народным средствам, комнатным цветам и… корягам.
Со временем выросли и лимоны. Целых четыре. Темно-зеленые плоды были тут чужаками. Ни в какой фильм они не попали, потому что их съели тайком до того, как американцы приехали еще раз. Лимоны были жутко кислыми, но дегустаторы ели не морщась.
Хотел ли я в Штаты? Наверное, хотел. Улететь туда мечтали многие. Жизнь там казалась другой — красивой, счастливой, какой-то киношной и абсолютно семейной. Катя с братом попала в список счастливчиков. От нее ждали согласия. И она сказала «да», но с условием. Где-то в доме для малышей-сирот жила их маленькая сестренка, которую они с братом никогда не видели. Мать наградила их сестрой тогда, когда они уже стали воспитанниками детского дома. Американцы даже немного удивились, но просьбу Кати они с уважением согласились выполнить. Видимо, действительно у них там ценят семейные узы. Сестренку нашли. Все трое улетели в Штаты. Но еще больше удивились заграничные опекуны, когда Катька прошла тестирование в тамошней школе. Она перепрыгнула два класса и оказалась самой младшей в своем новом школьном окружении. Ее знания были полнее знаний американских ровесников.
Катя Пешкова звонила в детдом регулярно. Заранее договаривалась с директрисой, и в установленное время кто-то из ее старых подруг уже дежурил у директорского телефона, дожидаясь звонка. Катя рассказывала о себе, о тамошней жизни. С жадностью слушала новости когда-то почти родного детского дома. Пару раз она присылала фотографии своей новой семьи. От той семьи силами американских гостей на память детдому был куплен мягкий уголок, да и то, не спроси они у воспитателей: «Что подарить?» — ничего бы и не появилось. В тот год в чужие дали уехало человек десять детей. Как им там живется?
Приехали…
Приехали из Америки наши «американцы», летавшие знакомиться со своими будущими семьями. Гостили две недели на берегу океана. Нам океан казался чем-то нереальными, как сама Америка, и таким же далеким, как Луна. Вернулись они ночью. Детдом тут же проснулся. Зашумел, как растревоженный (медведем, не меньше!) улей. Не терпелось услышать, что видели, посмотреть, что привезли. Это был первый выезд наших за бугор. Ночной воспитатель разгонял любопытных, призывал пойти выспаться и приходить с визитами утром. Не обошлось без сбора дани. Старшеклассники жевали американские гамбургеры.
— На кой ляд вы моих девок ограбили?
В дверях стоял ночной воспитатель. Ирина Витальевна отличалась прямотой во всем. А если и начнет песочить, то на слова не поскупится — отбреет быстро, не дав и шанса сказать хоть что-то в свою защиту. Ребята прозвали ее Головой. Высокая ростом, с фигурой, про которую говорят — «косая сажень в плечах». Голова ее и впрямь смотрелась не очень пропорционально. Плотная шапка кудряшек придавала ей сходство с шаром или, скорее, даже с гигантским темным одуванчиком. Вдобавок ко всему этому Ирина Витальевна отличалась весьма своеобразным чувством юмора. Шутить над собой она не стеснялась. Часто шутки ее были нам не совсем понятны, и ей приходилось разъяснять незнакомые выражения.
— Ладно, потом разберусь с вашими забубёнными головушками.
— Почему «забубёнными»? — Колька Котов интересуется всегда и всем.
— Потому что нормальные головы спят ночами, а не рыщут, аки звери, по чужим светлицам!
Была у этой воспитательницы какая-то неясная нам манера изъясняться крылатыми фразами. Звучали они в наших стенах непривычно. Много позже, в лагере, она рассказала, что росла у бабки с дедом в деревне. Дворов-то — раз-два и обчелся. Общаться не с кем. От скуки маленькая Ирина Витальевна (ее как-то сложно было представить девочкой с косичками) читала немногочисленные книги. Среди прочих стоял на этажерке и один из четырех томов словаря Даля. По ее словам, она перечитывала его так часто, что многие выражения вошли в ее голову и до сих пор там обитают. После этого признания Ирина Витальевна постучала пальцами по голове и сказала: «Не зря же вы меня Головой прозвали».
На вопрос о грабеже тоже ответил Колька:
— Мы не грабили. Они сами по-братски, то есть по-сестрински, поделились пищей со страждущими. Должны же мы знать, чем их там потчевали, на чужой сторонушке. — Котя, прозванный так за свои джентльменские манеры, явно был в ударе — хотел блеснуть красноречием, а заодно и увести разговор в другое русло.
— А ничего, что эти гамбургеры ехали больше суток?
— Ирина Витальевна, ну вы же знаете: наши желудки и гвозди переварят.
— Только это и успокаивает. Девки ревут. Ворвались, как грабители, посреди ночи, разве что не связали!..
— Ну им что… Уедут и каждый день будут трескать эту гадость.
— А зачем брали, раз гадость?
— Так мы девок спасали! От возможного отравления. Девчачьи желудки послабее наших.
Утром обсуждали поездку в Америку. Не успели вернуться, а уже хотят обратно. Те, кому не светило заграничное усыновление, слушают молча, без чувства радости за ближнего. Оно и понятно: одни уезжают в семью, к лучшей жизни, а остальные по-прежнему будут пребывать в этой, с одинаковыми буднями и неясным будущим. На берегу океана, где много больших магазинов, наверное, хорошо. И нет там ничего инкубаторского, нет меню, где тушеная капуста — поварской фаворит.
Радостные голоса уезжающих звенят колокольчиками среди молчания остающихся здесь.
— Там так классно! Нас брали в магазин.
— Мы ходили на американский футбол.
— А это мои новые мама и папа. Это Джон, Сесиль, Кэт.
В потоке радостных рассказов делает паузу Ирина Витальевна:
— Так, девицы, вещи новые сюда, пока им ноги не приделали!
Воспитатели рассматривали фотографии, слушали рассказы, попутно срезая бирки с подаренных детям вещей.
— Елена Геннадьевна! У меня кофта пропала. Новая. С этикеткой.
— Не рыдай. Что за кофта?
— Сиреневая, с пайетками. Я ее ни разу не надевала. К нам ночью ребята прибегали из старшей. Все вещи перетрясли.
— Что взяли?
— Только хавчик заграничный. Вы только не говорите им, что мы жаловались, нам и не жалко этих гамбургеров. Они все равно невкусные.
— Я бы вам их есть не разрешила. Больше суток в пути — ими же отравиться можно! — Елена Геннадьевна немного возмущенно попыхтела. — Ладно, разберемся. Кофты ваши мальчишкам точно не нужны.
Пропало еще кое-что из подаренных обновок. Но у девчонок вещей не оказалось. Возмущенные старшеклассницы предложили воспитателям искать лично. Воспитатели посоветовались и решили, что девочки говорят правду: все вещи здесь знакомы, новинки наперечет. А уж настоящее импортное заметят сразу.
Кофточка всплыла случайно. Глазастые девчонки узрели свою собственность на одной из дочек нашего сторожа. Нехорошо вышло.
За углом детдома, там, где в зарослях нестриженых кустов, около городка с гаражными ракушками, собирались курильщики, плакала женщина. Большая слабая женщина с крашенными в тускло-желтый цвет волосами. Ее обнимала маленькая девочка в модном американском платье. Они были очень похожи: большая и маленькая фигурки. Словно вырезанные из хорошего дерева. Обе крепкие, светлые, приземистые. Девочка откидывала рукой волосы, такие же густые, как у мамы, только живого пшеничного цвета. Ей не хотелось уезжать и в то же время хотелось. У нее теперь было две мамы. И обе внешне похожи. Родная мама хорошая, только она не может остановиться и бросить пить. Другая мама похожа на родную, ту, из далекой трезвой жизни.
Русская мама только что вышла от директрисы.
— Если вы сейчас подпишете отказ от ребенка, ее удочерит семья американцев. Вот, выпейте воды. — Директор смотрит на плачущую женщину, выпивающую воду залпом. Про себя отмечает: «Привычка. Алкогольная зависимость. Уже не исправить ничего».
— Я против усыновления детей иностранными гражданами. Но есть распоряжение свыше. Родители вашей девочки производят хорошее впечатление. Я бы сказала — лучшее. Это простые люди, добродушные. У них двое родных детей. Решать вам. Но могут обойтись и без вашего согласия. Вы ведь в общежитии живете?
— Да. — Это единственный расслышанный ответ на все вопросы.
Оля плачет в воспитательской. Она не может сделать выбор. Ей никто ничего не советует. Через два месяца она будет смотреть на океан.
Лешка Барин
Поющие, рисующие, танцующие — их было немало. Встречались и необычные таланты. Лешка Барин (прозвище дано было за прежнюю вольную жизнь, от которой у него остались какие-то действительно барские замашки) умел открывать любые замки. Когда воспитатели, забыв ключ, захлопывали дверь в воспитательскую, то шли они прямиком к Лехе: «Выручай!» Вскрыл как-то Лешка сейф в кабинете Матрешки. На следующий день Галина Алексеевна звучно протрубила тревогу: «Сейф вскрыли!» В сейфе хранились какие-то документы. По счастливой для Барина случайности две неполученные зарплаты воспитателей лежали не там, а на столе, прикрытые газетой. Листочки, украшенные буквами, оказались надежнее серого металлического шкафа. Галина Алексеевна по какой-то причине забыла убрать деньги в сейф, что спасло Барина от серьезных неприятностей (и от путешествия в Самарканд, куда он зачем-то собирался). Так появилось в детском доме еще одно зарешеченное окно.
Отличался Лешка и своей страстью к путешествиям. Правда, в детской комнате милиции эту страсть называли иначе, задавая извечный риторический вопрос воспитателям: «Ну что же они все время бегут от вас?» Лешка гордился тем, что объехал чуть ли не всю Россию. Из города в город он обычно добирался в товарных поездах.
Леха охотно рассказывал о своей семье и нам, и воспитателям. У меня прошлого не было, и я с интересом слушал, что это такое — жизнь до детдома. Когда-то семья Некрасовых была в десятке самых обеспеченных семей города. Лешка неоднократно подчеркивал тот факт, что черную икру в их доме ели столовыми ложками. Никто из остальных детдомовцев черную икру не пробовал ни разу в жизни. И этот факт делал Леху почти инопланетянином. А потом его отца посадили за какое-то экономическое преступление, мать запила горькую, пропив и большую четырехкомнатную квартиру, и «мерс», и загородный дом. Я, уже будучи взрослым, как-то видел этот дом. Несмотря на обветшавшие, облупившиеся стены, запущенный полупарк-полусад вокруг, дом все еще производил сильное впечатление как размерами, так и хоть немного вычурной, но все-таки изысканной архитектурой.
Свою мать Алексей Некрасов никогда не судил — ни я, ни кто другой ни разу не слышали от него недобрых слов в ее адрес. Бывало, вздохнет и скажет сквозь сизый сигаретный туман:
— Да что на нее обижаться. Слабая женщина. Муж в тюрьме — позор для нее, вот и скатилась. Даже если была бы сейчас жива, я и полслова бы поперек ей не сказал. У нас в доме гости часто бывали. На море мы ездили каждый год. Ты небось и не знаешь, что такое СВ?
Откуда мне было знать что-нибудь про спальный вагон? На юг нас возили в плацкартных. На вокзал доставляли в специально заказанном автобусе. Своего транспорта у детдома не было. Помню, как наши помчались занимать в автобусе места. Да и не места важны были. Так, азарт от первой поездки. Некоторые обитатели «дэдэ» стали карабкаться на крышу. Водитель получил свою порцию шока от знакомства с нашими. Он потом еще долго рассказывал воспитателям про то, какие «совсем другие дети» в интернате N. Наша малышня многим напоминала мультик про обезьянок. Энергии младшим воспитанникам было не занимать. Потом попривыкли к поездкам и даже иногда «дам» по требованию воспитателей пропускали вперед.
Лешка мечтательно смотрел в пространство, как в счастливое прошлое с мягким вагоном и теплым морем, снова затягивался сигаретой и на выдохе говорил:
— А мы только в СВ — спальном вагоне. А по воскресеньям мать пекла пироги. С ягодами. Эх, мать!.. Ну что за жизнь! — И продолжал немного погодя: — А еще, Чили, у нас люстра была. Мне чего-то все время эта люстра вспоминается. Здоровая такая. Хрустальная. На алмаз похожа. Лампочек в ней полно было. А по стене и потолку шли отблески. Я в детстве думал, что отцу эту люстру какой-нибудь волшебник подарил. Любил я смотреть на люстру днем, когда на нее попадал солнечный свет. Сидишь себе и цветных зайчиков пересчитываешь. Ничего не осталось. Описали всё приставы. Вот ведь вроде люди, а злые как собаки… Интересно, кому сейчас светит наша люстра? Отец еще библиотеку собирал. Прикинь, у нас под книги была целая комната выделена. Мне в отцовский кабинет вход был заказан. Туда приходили отцовские друзья. Дружки поганые, как дядька потом говорил, после ареста. Модно было тогда книжками шкафы забивать. Отец-то думал, что сын вырастет, почитает и дальше собирать книги будет. А сын вот тут сидит. В сентябре махну ближе к югу. Народ там попроще. Тепло. И жратвы хватает.
Лешка ждал отца. Мы, никогда не жившие в семье, завидовали таким: им было чего ждать и о чем вспоминать. Я слушал Лешку, представлял, как стучат колеса товарного поезда, как зябко Барин кутается от ночной прохлады, как следит за продавцами на рынке своими бегающими, густого серого цвета с крапинками глазами, чтобы разжиться съестным, как кладет под коротко стриженные волосы горстку вещей, укладываясь спать в железном панцире товарняка. Невзрачный товарный поезд совсем не то, что пассажирский. Нет в нем и намека на теплое временное пристанище.
Что снилось Алешке (у нас так его почему-то никто не называл) под шум и скрежет железнодорожных механизмов? Может, семейная поездка на море? И вагон-ресторан, куда он пришел с родителями? Переживал я за него и ждал его возвращения. Обычно он возвращался сам с началом холодов — зимовать. Как всегда, худющий, загорелый и довольный, наш «Дядя Степа» — самый высокий воспитанник в детдоме. Выглядел Лешка совсем по-взрослому. Больше похож на студента старших курсов, чем на нашего брата воспитанника. Может, поэтому его не задерживали в бегах. В рейс никогда не унывающий Лешка уходил только после детдомовской поездки на море.
Началось обычное утро. Подъем, зарядка для моциону, завтрак. Стояло лето. Самое его начало — с отсутствием настоящего тепла, почти не отличимого от жары, с легкими дождями, оставляющими маленькие сероватые лужицы на асфальте. Впереди очень много свободного времени, на которое никто не смеет покуситься, — это наши каникулы, и никто не будет решать, что нам делать. Жалкая пародия на подлинную свободу, но мы тогда этого еще не понимали.
Лето любили все детдомовцы. И не только за то, что не надо было ходить в школу. Летом нас вывозили в лагеря. А тем, у кого были родственники, можно было надеяться еще и на домашние каникулы. После местных лагерей нас везли на юг, к морю. «Море» всегда было одинаковым — в маленьком южном городке. Этого моря, одаривавшего купальщиков лавиной мутного песка с битой серо-белой ракушкой, все ждали. Небольшой городок с его длинной прибрежной косой был изучен нами вдоль и поперек. Осенние дожди смывали следы наших ног, чтобы через год мы снова вернулись.
За неделю до лагерей воспитатели составляли списки того, что надо было взять с собой на юг. В это время выдавалось что-то из новых вещей. И наши «тряпичницы» гадали, будет ли в этот раз что-то модное. Сборы, нехватка вещей, длинный южный поезд и море, которое мы ждали год.
Люба, Люба, Любочка…
Мне море тоже нравилось, как и лето, как и Люба Шахова. Хотя все-таки Любу в этот ряд ставить нельзя. Люба — это больше, чем теплое лето, и даже больше, чем долгожданное море. Я влюбился в синеву ее глаз. Ну, это я сейчас так образно выразился, пытаясь понять тогдашнего себя. Люба была необыкновенной девчонкой. В ее присутствии ребята избегали матерного языка. Ее никто никогда не называл по фамилии, как многих из нас. В ней была какая-то загадка, как в море. Вроде и видишь его, а понять, чем и как оно живет, не можешь, потому что видишь только то, что на поверхности, то, что дозволено увидеть. А глуби́ны сокрыты. Так и с Любой. В нее, наверное, были влюблены почти все старшие мальчишки.
— Чили, ты зачем мне рисуешь такие светлые волосы? — возмущается Валька.
Ее отрастающие, темные у корней, крашеные волосы собраны в куцый лошадиный хвост. И я по привычке начал преображение нарисованной Вальки.
— Не кипятись. Это набросок.
— Я от природы брюнетка! — уточнила она на всякий случай, продолжая позировать и одновременно писать письмо матери на зону. — Чили, послушай письмо. Я прямо не знаю, что еще написать.
— А пиши все, как есть.
— Пишу как есть. Вот, послушай!
— «Привет, мамочка! Я получила твое письмо. И жду новое. С нетерпением. Ты пиши мне побольше. Я люблю длинные письма. Мы читаем их всей группой. Так что тебе привет от наших девчонок. У меня все хорошо. Ты спрашиваешь, не обижают ли меня здесь. Нет, не обижают. Кормят нормально. Жареную картошку не дают вообще. А я по ней скучаю. Сейчас, летом, у нас практиканты на кухне проходят практику. Во готовят! Классные ребята. Я познакомилась с Шуркой. Она хочет когда-нибудь открыть свое кафе. Когда я отсюда выйду, то тоже пойду в кулинарный, а потом — к Шурке. В ее кафе. Мамочка, мы тебя к себе возьмем. У нас к завтраку появилось масло на бутербродах, это потому, что шеф-повар в отпуске. А вчера Лильке в тарелке попался дохлый таракан. Лилька возмущалась и заявила, что есть из этой тарелки не будет. Хотя таракан и лежал сбоку. Мне кажется, это мальчишки специально его подложили. Они как раз дежурные по столовке были. Витька Чухран ржать начал и сказал: „Брось, Лилька. Это же мясо! Клади его на хлебушек — бутерброд будет". Ага, а меняться своей тарелкой с Лилькой не захотел. Но ведь все знают: Пиля ему очень нравится. Ольга Борисовна тарелку забрала и принесла другую. Мы скоро поедем на море. Купальник дадут мне старый, мой прошлогодний. Он не такой синий, как раньше. Воспитатели говорят, что морская соль вымывает цвет. Я за год не сильно изменилась. Налез. А вот Гальке купальник мал. Ревела! Ну как в таком ехать, если все прелести вылезают на улицу?! Обещали ей новый купить. Воспитатель ей сказал: «Что ты ревешь как белуга? Найдем мы тебе купальник. Голой на море не выпустим». Ты не знаешь, кто такая белуга и отчего она ревет? Мам, ты там как? Ты смотри не болей! Я считаю дни, когда ты меня отсюда заберешь. И телик у нас есть — мы и фильмы смотрим, и новости. А телевизор у нас самый лучший в детдоме. Дали его как награду за самую чистую группу. Но, мамулька, тебя МНЕ НЕ ХВАТАЕТ. Жду, родная. Твоя Валюшка. Тут Чили нарисовал меня — высылаю портрет. Если нас сфотографируют на море, вышлю тебе фотку. Люблю. Целую.
Дочь»
Я знал, что Валька все письма от матери бережно хранила в тумбочке. Они были перевязаны лентой (она вычитала в старинных романах, что именно так следует хранить письма дорогого человека, и решила последовать примеру героинь). В конверты были вложены нарисованные открытки — труды художников зоны. Валька знала наизусть каждое письмо. Валентине в ответ тоже хотелось что-то отослать маме, и она часто просила меня нарисовать ее портрет. И я нарисовал несколько. Чтобы они получались разными, Валька меняла прически. Еще я пририсовывал фон: то осенние березы, то весеннюю сирень, то заснеженные елки, росшие у школы. Вальку у нас прозвали Метлой, наверное, за ее очень пушистую шевелюру или очень быструю речь. А однажды Валька вручила мне какой-то журнал с репродукциями картин, явно презентованный воспитателями, и попросила нарисовать ее в платье, как на картине. Пришлось маленькую худенькую Вальку наряжать в пышное бальное платье.
Часто мысленно я совершал изменение имиджа того или иного воспитателя или воспитанника: менял человеку внешность, окружение, прикид. Умение переносить потом результаты этих фантазий на бумагу в виде портретов, шаржей или карикатур активно использовалось при подготовке стенгазет.
Наши воспитатели делились между собой личным, забыв, что и у стен есть уши. Я рисовал стенгазету к открытию летнего лагеря, когда через открытую дверь до моих ушей долетел обрывок диалога. Я узнал голос Друида.
— Вчера она опять предъявила ультиматум. Написала список. Ты только посмотри: за «отлично» в четверти по алгебре — брюки (и приписка: «как у Лизки»), за «отлично» по русскому языку — джинсовый пиджак. Я так больше не могу! Желаемые ею брюки стоят не меньше половины моей зарплаты. За пиджаком придется залезать в отпускные.
— Да не покупай ты ей все это. Это обычный подростковый шантаж, — советовали воспитатели.
— Ну как не покупать! Она ж перестанет нормально учиться, попадет под дурное влияние какой-нибудь плохой компании.
— Не перестанет. Приводи ее к нам на экскурсии почаще — пусть посмотрит, в чем здесь дети ходят, — предложила психолог.
— Да не волнует ее это. Ей плевать, как живут другие.
— И дальше будет наплевать, если будешь потакать ее эгоизму. Посмотри на наших ребят — много шантажистов ты здесь видела? Да, каждый, может, и живет в своей скорлупе, но шантажистов тут нет. Избаловала ты ее.
Я ушел в спальню, чтобы не слушать дальнейших оправданий Риткиной блажи. Мысленно я отправил Маргариту жить с Любкиной матерью в домике на окраине. Вот это был бы воспитательный процесс! Через неделю бы ее не узнали!
Наша психолог оказалась права: эгоизм Ритки рос пропорционально квадрату ее возраста. Сначала список вещей, положенных за отличные отметки, потом — отдельная квартира за успешное обучение в университете. Чтобы купить скромную однушку для дочки, отец Риты уехал на заработки в столицу. Модная мебель, машина, пышная свадьба с воспоминаниями в виде фотографий от известного фотографа в роскошном фотоальбоме — все это было в прейскуранте королевы Марго.
Мне срочно были нужны деньги на подарок. У Любаши приближался день рождения. Личными праздниками нас не баловали: на личное государство не выделяло средств. Но словесно поздравляли воспитатели. Иногда они даже что-то дарили от себя, если ты оказывался в списке любимчиков. А еще в этот день многие ждали родственников. Не ждали только такие, как я, те, у кого их совсем не было. Любу часто навещала бабушка, ветхая, как старый ковер в холле, местами побитый молью. Она опиралась на самодельный рассохшийся от времени посох, плакала и каждый раз напутствовала: «Ты, внученька, слушайся воспитателей». Бабуля жила в низеньком домике на окраине города с пьющей напропалую дочерью, потерявшей страх и совесть, как характеризовала ее сама Люба. Осенью Любу приходили проведать бывшие соседки. Они привозили с собой мешок яблок, сетуя на то, что Файка (Любкина мама) забросила и сад, и огород, и дом. Сад, посаженный дедом, не сдавался. Наплевав на заброшенность и буйство травы, он продолжал плодоносить. А еще соседки в складчину покупали Любке гостинцы и, каждый раз вздыхая, приговаривали: «Эх, такую девку Бог дал дуре, а она пьет, зараза, и не помнит дня вчерашнего и завтрашним не интересуется!»
Люба и впрямь была небесным даром. Ее не мог сделать простушкой ни старенький, застиранный халат — память о доме, — ни тапки, которые почему-то назывались «обувь школьная». Прямой гордый взгляд из-под черных ресниц. Таких черных, что наша психолог как-то возмутилась: «Люба, ну как можно краситься с утра до вечера!» В своих робких мечтах мне хотелось дотронуться до густых длинных волос, всегда упакованных в замысловатую прическу из кос. Не девчонка — королева! Эти женские прически не прибавляли Любашке взрослости. Скорее, они делали ее похожей на скромных юных барышень девятнадцатого века. Мама Любы раньше была парикмахером, от нее дочка многому научилась. Шустрые Любкины руки сооружали прически на головах детдомовских девчонок. Как же мне хотелось взять ее руки с тонкими длинными пальцами в свои. А какие у нее были глаза! Чистые, как небо. Не глаза, а очи!
Ну где же раздобыть денег? Попрошайничество у прохожих претило моему внутреннему «я». Никогда не клянчил, не взывал к жалости. Карманные деньги редко у кого из нас водились в карманах. У меня за все детдомовские годы их не было ни разу. Сейчас, вспоминая то время, я думаю, что отсутствие карманных денег — огромная брешь в системе воспитания сирот. Но и в руки я бы их тоже просто так не давал — дедовщина выросла бы еще больше.
Впрочем, у некоторых ребят деньги иногда все-таки появлялись. И пути их появления были весьма разнообразны. Любе иногда кое-что доставалось от скромной пенсии бабушки, те крохи, которые той удавалось спрятать от родной дочери. В прошлом году Любка мечтала купить бабушке новые зимние сапоги: старые так износились, что местами зияли дырами, демонстрируя вместо войлока страшные колготы серо-бурого цвета. Она копила деньги из тех, что давала бабка и присылала тетка, живущая где-то в маленьком приволжском городке. Чтобы деньги не украли, Люба отдавала их на хранение воспитательнице. Любкино счастье пришло с мешком гуманитарки. Кто-то принес вещи в светло-сером мешке из-под сахара. Из мешка выудили воспитатели сапоги для Ангелины Степановны, почти новые, нужного сорокового размера.
Ангелина Степановна обзавелась сапогами, а Любовь накупила на нерастраченные деньги конфет, печенья и закатила банкет, по местным меркам средний между роскошным и очень роскошным.
Любкин тринадцатый день рождения грозил остаться неотмеченным: бабку положили в больницу, тетка молчала почти год, не подавая признаков существования никакими денежными переводами и письмами.
Я хотел устроить праздник для нее — купить сладостей и как-то незаметно после отбоя оставить их на Любкиной тумбочке. Я представлял, как Люба, проснувшись утром, обнаружит все необходимое для пиршества с девчонками. Мне хотелось остаться инкогнито: о моих чувствах не знал никто. Я воображал, как она будет гадать: кто же это? И где-то в укромных уголках своей наивной мечты рисовал картину того, как она догадается и все поймет. Кто же знал, что все пойдет совсем не так.
На трассе
В нашем городе автомоек было мало. И водители были не против, если мальчишки за символическую плату мыли машину. Биографией и семейным положением мойщика никто не интересовался. Этим фактом пользовался Серега. У взрослых своих проблем навалом, и им нет дела до того, что низкорослый белобрысый мальчишка стоит на рассвете с ведром и тряпками на обочине. Впрочем, на случай нечаянного любопытства у Акима всегда наготове была история: отец-дальнобойщик, замерзший при неизвестных обстоятельствах, оставил после себя семье в наследство кучу долгов. «И вот эту жилетку! — входя в артистический раж, добавлял иногда Аким и теребил на груди жилет. — Мать-инвалид и сестра-малолетка дома сидят, я один кормилец остался». Одним словом, как у Некрасова:
Как будто все это картонное было, Как будто бы в детский театр я попал! Но мальчик был мальчик живой, настоящий, И дровни, и хворост, и пегонький конь…[2]— Чили, имей в виду, — предупреждал Аким. — Нам уже по четырнадцать, и мы не детдомовские. На все машины не кидайся. Стой тут. Я тебе знак дам — подойдешь. Увидишь авто с синими номерами — ныряй в кусты.
Я принимал его историю на веру, как и взрослые, если среди них появлялись любопытные. А было ли так на самом деле? Я не знал. Аким молчал о своей семье.
О самом Акиме в детдоме ходили легенды. Намекали на какую-то связь со взрослым криминальным миром, а кто-то говорил о том, что он неизлечимо болен. Девчонки трепались, что ему нужна какая-то операция на сердце, якобы они слышали из разговора медички с воспитателями, что ждут квоту на лечение. Я спросил у Акима, почему он согласился меня взять с собой. Сережка сказал, что напарник не помеха, а я со своим умением держать язык за зубами и не звонить по углам — напарник хороший. К тому же четыре глаза и четыре руки лучше двух. Работается быстрее.
Обычное утро сменилось обычным днем: уборка группы, футбол, скучные летние мероприятия. Детдомовские будни, пресные, как мое нелюбимое блюдо — рис с вкраплениями красноватой рыбы. Невкусно. Рис, пахнущий рыбой. Сто раз задавали вопрос: зачем в рис подмешивают рыбу, нельзя ли класть ее отдельно? Повара говорили, что это блюдо значится в спущенном сверху меню. А мне кажется, что просто так было легче унести рыбу домой. Себе — источник фосфора, нам — рыбный запах. Как говорится: получите ваш хвост от селедки. Я дорисовал простым карандашом портрет Вальки, который она собиралась отослать маме. Сидеть ее маме оставалось около трех лет. Валька ждала выборов и втихаря молилась об амнистии для мамы. После выборов всегда объявляют амнистию.
День сменился обычным вечером. Пришли сторож, ночная нянечка, мывшая ночами туалеты и коридоры нашей подлодки, и дежурный воспитатель. Сторож — высокая дородная женщина — почти сразу ушла спать в свою сторожку, представлявшую собой маленькую отдельную комнату с телефоном. Днем она работала уборщицей на заводе, ночью подрабатывала у нас. Трое ее детей росли сами по себе. Был у нее муж, «безнадега», как говорили наши воспитатели. А попросту — спивающийся человек. Комната сторожа была так мала, что сама сторожиха занимала добрые две трети пространства.
Нянечка, домыв все туалеты и коридоры, отправилась отдыхать на провисший от времени диван в холле младшей девчоночьей группы. Спать на этом диване с ямой по центру было не очень-то удобно: пружины своими стальными щупальцами тыкали то в спину, то в бок. Эта тихая женщина никогда не жаловалась на свою судьбу. Разговаривала почти неслышно, никогда не ругалась на нас, в отличие от ночных нянечек с других смен, не громыхала шваброй и ведрами с красными письменами. Ее единственная дочь училась в школе для слабослышащих. «Мы тут все счастливчики собрались», — как-то пошутила нянечка. Туалеты и коридор она мыла также бесшумно. Ее прозвали ласково Мышкой-Норушкой.
В уборных, на полу кабинок, лежали книги. Здесь слово «помни» следовало произносить с ударением на последнем слоге. Труды классиков из списанного библиотечного фонда уходили помятыми на обычные человеческие нужды. Четыре рулона туалетной бумаги на группу — месячный запас. На днях в младшей группе провели собрание — прочес на предмет выяснения, кто посмел использовать халат уборщицы вместо туалетной бумаги. Серый халат висел в уборной как театральная декорация. Его никто не надевал. Висел он себе спокойненько на случай приезда комиссии, напоминая воспитанникам о месте присутствия обязательной нашивкой «туалет».
Дежурный воспитатель сделал обход — один на девяносто шесть душ спящих детей. Гулко отдавались шаги в полуосвещенных коридорах. Частенько в коридор на обход выходил не только дежурный по детдому воспитатель. Выходили и крысы. Серые хвостатые тушки умели передвигаться по лестнице, как люди. Бывало, что их прыжки принимали за человеческие шаги, и в темноту летел вопрос: «Кто идет?!» На окрик крыса не отвечала, а молча садилась и осуждающе взирала на человека. Кто кому уступит дорогу? Впрочем, грызунов истребляли, преимущественно летом, когда мы уезжали в лагеря.
Где-то в четыре утра был последний обход. С четырех до шести спускался из окна Серега на свою утреннюю работу. Работал он только летом, не чаще двух раз в неделю. Я терпеливо ждал. Аким слов на ветер никогда не бросал. Если пообещал, возьмет обязательно. Конечно, в случае облома с мойкой машин можно было подработать на разгрузке арбузов, но там чаще расплачивались самими южными ягодами, да и август был далеко. А какой смысл праздновать день рождения два месяца спустя.
О том, что я ходил мыть по ночам машины, как ни странно, никто из воспитателей не догадался: стукачам делали темную, отправляли в пятый угол[3]. А уж жаловаться на самого Акима побаивались. Все три раза по совету Сереги я имитировал спящего себя, подложив под одеяло свои немногочисленные вещи. Зашедший в группу воспитатель бросал взгляд на кровати. Убедившись, что все они заняты, уходил. Деньги я спрятал под строительными плитами. Не знаю, кто меня выследил, но деньги пропали. А с ними пропала возможность устроить такой желанный сюрприз…
У Акима неожиданно объявился опекун. И моя первая в жизни работа закончилась. А Люба влюбилась в новенького. Я так и не осмелился прочитать ей свои стихи.
ЧП
Иногда глупые шутки могут стоить жизни. В младшую мальчишечью группу прислали новую воспитательницу, Наталью Юрьевну. Она была очень молодая. Если бы не пиджак, в котором она пришла, то воспитательница могла бы сойти за воспитанницу. Вчерашняя студентка осваивалась на своей первой работе. Смотрела на детей с любопытством и удивлением. А на нее смотрели с ответным любопытством. Чувствовалось, что в маленьком багаже институтского опыта правил общения с нами не было. Да и есть ли они вообще, такие правила, в природе?
— Если отработаете месяц, значит, останетесь надолго. У нас так: люди или сразу уходят, не выдерживают, или остаются на годы, — знакомит ее с группой напарница, Ирина Григорьевна. — Да, они вам будут сейчас рассказывать слезные истории. Про хлебушек, про вынужденное воровство. Делите все на два. Книгу Анатолия Приставкина «Ночевала тучка золотая» читали?
— Нет.
— Рекомендую. Полезно. И еще: старайтесь не заводить любимчиков, ну или хотя бы не выделять их. Как вам там, в институте, говорили: «У хорошего педагога любимчиков нет».
Персонал у нас менялся часто. Кому-то надоедали трудности, кому-то — невысокая зарплата. Новенькую забыли, видимо, предупредить, что с нами надо держать ухо востро. Верить на слово можно, но тщательно взвесив эти слова. Обычно недельку-другую новенького сотрудника дети усиленно проверяли на вшивость. В этой проверке основной целью было найти ноты равнодушия. Если таковые выявлялись, то вернуть расположение было невозможно. А без кредита доверия в нашем детдоме делать было нечего. Мы могли простить чрезмерную строгость, но равнодушие не прощалось никогда.
В то утро на завтраке недосчитались двоих. Федьку и Костю — близнецов, специально носивших одинаковую одежду, чтобы их друг от друга не отличали. Вопреки мнению о том, что близнецов водой не разлить, эти братья всегда бродили где-то порознь. Мало кто различал эти две черноволосые головы, однако Ирине Григорьевне это удавалось. По темной родинке у Федькиного уха да и просто по характеру. Близнецы вместо завтрака спали без задних ног. Крепким богатырским сном.
Ирина Григорьевна трясла мальчишек, брызгала на них холодной водой. Но ребята спали, и в этом не было ни грамма притворства. Вызвали новенькую воспитательницу, директора и медсестру, жившую в этом же квартале.
Оказалось, новенькая воспитательница, поверив рассказу мальчишек о том, что им на ночь дают таблетки, выдала братьям сильнодействующее успокоительное, даже не прочитав названия лекарственного средства и инструкции. Братьев-акробатов удалось разбудить. Через полчаса директор подписала заявление новой сотрудницы о добровольном уходе.
Воспитатели между собой еще долго перетирали эту тему. До нас долетали обрывки разговоров про то, что никто не имел права оставлять новенькую одну на группе, что снотворное не должно было храниться на полке в тумбочке, закрывающейся маленьким крючочком. И вообще, кто выписал ребенку такое успокоительное средство? Наша медичка забрала пузырек со словами: «Да я сама боюсь давать это лекарство. И доза-то всего полтаблетки. А тут по целой. И здоровым детям».
Кресты
После открытия нового детдома с торжественной линейкой и зачитыванием нам наших прав мы разбрелись по комнатам-группам, все еще пахнувшим свежестью ремонта. Группы были одинаковые. Ничего примечательного. Темно-коричневые шкафы. Тумбочки из комплекта к ним и кровати. Все одинаковое. Отличались только покрывала. У каждой группы они были своего цвета. В ожидании праздничного обеда болтали о том о сем, в общем, ни о чем. Кто-то поведал историю перепланировки здания. Якобы здесь погиб рабочий, на которого упала плита. Все сразу оживились. Девчонки ойкали по-старушечьи. Дескать, это дурной знак. Воспитатели просили не сочинять небылицы. Кто-то в шутку начал рисовать могильные кресты. На стенах, на шкафах, дверях — везде были кресты, выведенные черным карандашом.
А через две недели в детский дом пригласили священника, отца Сергия, — освятить здание. Девчонкам стал мерещиться везде мужичок, почему-то всегда одетый в серую фуфайку. Стоило им ночью в туалете взглянуть в зеркало, как там появлялось лицо с косматой бородой. На визг сбегался народ.
— Домовой! Я его видела!
— А может, леший!
— Ну откуда тут леший?! Это же не лес.
— Не лес? А вон, может, ему коряга — целая чаща.
— Нет, это же дух строителя!
— Да? А почему тогда он в фуфайке?
— Да Хозяин это!
— Кто?
— Хозяин этого дома.
Вот так появилась история про Хозяина. Больше всех ее любил рассказывать Ванька, основной приметой которого были лопоухие уши, моментально улавливавшие любой слух, впоследствии им не только пересказываемый, но и дополняемый самыми экзотическими подробностями. Эта лопоухость дала ему прозвище Лопух. У Ваньки Лопуха в этом районе была бабкина дача. Ванька от бабки знал, что место это значилось несчастливым: то молния сюда ударит, то еще что случится.
История про Хозяина гласила, что якобы до постройки детского сада на этом самом месте (ну или рядом) был дом. Стоял он среди сотни других сельских домишек. Это было еще до того, как началась активная застройка многоэтажками. У самого дома была дурная слава. Кто бы ни поселился в нем — исход один. Семьи разваливались. Люди разъезжались, разбегались, не успев обустроиться. Мебель снова упаковывалась, так и не успев припрятать под собой слой пыли. Соседи винили во всех несчастьях сам дом. Дескать, выживал он своих обитателей. Последним жильцом сильно обветшавшего домишки был одинокий старик. Соседи старика не любили за угрюмость. И за странное сходство с его жилищем. За это сходство и прозвали старика Хозяином. Серая фуфайка, которую он всегда носил, сливалась с серыми некрашеными бревнами. Дом покосился на один бок, как и Хозяин, опирающийся на палку.
После его смерти дом простоял недолго: начали сносить все частные домишки. Сначала здесь построили детский сад, потом его закрыли. Через пару лет здание начали перестраивать под «дэ-дэ» — детский дом. Несчастный случай с рабочим (а был ли он на самом деле, никто толком не знал) объяснялся в соответствии с историей этого места: дом не хочет, чтобы после него стояло что-то еще. Потому и бродит дух старика Хозяина по окрестностям, то ли негодуя, то ли рассматривая тех, кто посмел здесь поселиться.
Ванька уверял, что вся история с домом и Хозяином — чистейшая правда: он до сих пор тут бродит, сам, мол, видел. И божился, копируя, видимо, свою бабку: «Вот те крест!» Только крест тот был больше похож на косые взмахи рукой. Каким бы чудны́м ни было это местное поверье о несчастливом доме и его жильцах, правда была в том, что нынешние обитатели дома счастливой меткой отмечены не были.
Про Хозяина шепотом рассказывали страшилки: кому-то он погрозил пальцем в зеркале, кто-то видел, как начинал двигаться кафель на стенах, кому-то он подставил подножку в темноте. Мы, пацаны, добавляли перцу в эти истории: подливали тайком воды в девчачью обувь, связывали серо-черные шнурочки на кроссовках.
Воспитатели выдали тряпки и велели стереть все нарисованные кресты: ждали батюшку. Священник освятил все комнаты и коридоры, звал в храм, принес кучу подарков от прихожан: домашнее варенье, соленья из помидоров и огурцов, булки-батоны и даже конфеты и яблоки.
Отец Сергий оказался энтузиастом. Ну, так прозвали его наши воспитатели. Приходил проводить беседы, нашел крестных для ребят. Еще водил нас в лес печь картошку, учил разжигать костер одной спичкой даже после дождя. Здорово играл на гитаре и показывал, как брать аккорды. В общем-то хороший такой батюшка попался — простой и человечный. В лесу под печеную картошку мы слушали истории из жизни подвижников и отшельников. Вопросы наши были далеки от веры, нас интересовало, что святые ели в лесу, чем стирали вещи. Нам казалось, что, если бы отец Сергий вырыл в лесу землянку, он тоже стал бы святым. Батюшка объяснял, что подвиг отшельничества совсем не в том, чтобы сидеть, о чем-то думать и ничего не делать, как представляли себе мы. Святые в рассказах отца Сергия были такими живыми, словно он знал их лично.
Как-то мы все-таки вывели батюшку на разговор о его мирской, прошлой, жизни. В прежней жизни он был Владимиром, предпринимателем. О мирском отец Сергий говорил отстраненно, словно не о себе рассказывал, словно не о своем бизнесе, выросшем до крупного магазина от маленького лотка с носками, вспоминал. А потом дефолт. Жена ушла к другому. Семинария, монашество и рукоположение.
— А вам не хотелось как-нибудь наказать жену за предательство? — спрашивали мы.
— Нет. Это был ее выбор: ей нужен был не я, а определенный статус. Бог ей судья, а я буду за нее молиться.
Нам этот выбор был непонятен. Как можно было уйти от такого славного человека? И главное, как можно молиться о душе вот такой заблудшей жены? А он молился обо всех: и о ней, и о нас. В нашем понимании его жена была женщиной очень глупой.
Отец Сергий пригласил нас в то первое детдомовское лето в палаточный лагерь. Мы расположились по соседству с монастырем. Ели кашу, приготовленную в котлах на костре, а по ночам, несмотря на строжайшие запреты и почти незаметные укоры совести, совершали набеги на огороды и сады селян. Отец Сергий огорчался и наставлял нас на пусть истинный. Мы соглашались. Яблоки были зелеными, неспелыми, с горьковатым травяным вкусом.
То лето ставило рекорды по температуре. Спасались мы речкой и прохладой лесов. Воспитатели ворчали и сам лагерь называли «ссылкой». В «ссылку» отправили только молодых, из круга старших поехала одна Ольга Борисовна. Палатки отказывались хранить прохладу. Длинные юбки женской половины вопреки правилам соседствующей монашествующей братии укорачивались с каждым днем. Время пролетело быстро.
«Черная тетрадка»
Было у нас, старших, такое развлечение, о котором никто из персонала и младших не догадывался. Раз в месяц мы выбирали способ наказания для провинившихся. Украл у своих, «спалился» — получи заслуженное. Наказывали не только ребят, взрослых тоже.
Началось все с журнала. Водянка, воспитательница из самой младшей группы, завела общую тетрадь. Синюю толстую тетрадь в клетку многие мечтали выкрасть и сжечь ее белые страницы, исписанные детским почерком, на костре, как казнили Жанну д'Арк. Водянка называла ее «тетрадью» с секретами. А мы — «черной тетрадкой». Секреты туда вписывались поверенными. Водянка поощряла стукачей. Я, Ворон и Кашель решили уничтожить тетрадь. Помог нам в этом случай.
В не предвещающую ничего плохого погоду вкрался дождь. Да что там дождь — это был сильнейший ливень. Вера Дмитриевна спешила домой с вечерней смены, желая успеть до дождя, и второпях забыла тетрадь, которую никогда не оставляла в детском доме. Она, конечно, вернулась бы, если бы не ливень. Он завесил непроницаемым полотном все вокруг.
Мы заметили «черную тетрадку» на столе в воспитательской. Пара ловких рук, пара хорошо подвешенных языков, отвлекающих ночного дежурного, — и тетрадь у нас!
Открыли первую страницу. Снедало любопытство. Неровные строчки, написанные кривым детским почерком, сообщали обо всем, что происходило в течение каждого дня. День за днем, строчка за строчкой приближали дневник к казни. Сначала мы просто хотели сжечь тетрадку с кляузами, но потом поняли, что этого будет мало. Утром весь детдом пришел в младшую группу на экскурсию. Стены в тамошнем туалете были оклеены разорванными бумажными страницами. Крашенные голубым двери были увешаны листками из казненной тетради. Это было очень похоже на доску объявлений. Над «доской» красовалась нарисованная помадой (мы еще давно стащили тюбик из кармана пальто Водянки) надпись: «Доносчикам первый кнут!»
День влюбленных
Воспитанникам полагался досуг: всякие часы общения, мероприятия в музыкальном зале и прочее. Среди этого прочего запланировали однажды игру по мотивам популярного тогда телешоу «Любовь с первого взгляда». Люба Шахова конечно же оказалась среди участниц. А я был просто зрителем. Успокаивало то, что сама Люба смотрела на это как на игру, и только. Сердце ее было свободно.
— Вопрос девочкам-участницам. Кто из игроков любит красный цвет? — ведущая зачитывает вопросы.
— Кто-кто! Борман, конечно, — из зала отвечают быстрее, чем сидящие в креслах шесть участников игры.
— Двиньте кто-нибудь Чистотела. Ишь ты, умный! Не тебе вопрос! — Ирку подсказка разозлила, она и сама знала ответ, но пока успела ответить только на один вопрос.
— Тихо в зале! Будут и вам задания. Игра со зрителями потом.
— Потом суп с котом. А призы будут?
— Будут. Чухрай, ну помолчи ты, в самом деле! Внимание, вот три рисунка. На них абрисы рук участниц, которые они сами разрисовали. Угадайте, где чья рука.
— А нам? — Зал тоже хочет рассматривать рисунки.
На листках обведены три левые руки. Девчонки пририсовали кольца и перстни, браслеты. На ногтях — разноцветный маникюр. Валину руку я узнал бы сразу. У нее тонкие, длинные, музыкальные пальцы. И никакие пририсованные кольца меня не обманут.
Борман ошибся. И остальные тоже ошибаются. Зал снова оживился. Я смотрю на Любу.
Стены растворились. Я перестал слышать шутки и следующие вопросы. Февраль сменился весной, как в сказке «Двенадцать месяцев». Люба стоит напротив входной двери. Грустная. Молчаливая. Из-под серой вязаной шапки выбилась непослушная челка. Глаза… Они такие, что у меня захватывает дух. В глазах — небеса. Какая-то строчка из стихотворения стучит и стучит в мозгу. Или не строчка. Это стучит сердце. Я думаю: «Как ей тяжело, наверное. Откуда она? Из другого детдома или из домашних? Конечно, из домашних. На ней печать той, другой жизни. Нездешней. Потому и затаились в ее глазах тоска и страх».
В финал вышли две пары. Романтический ужин прошел в столовой над скудными неромантичными блюдами. Мечты о жареной картошке и курице оказались убиты традиционным бледным сладковатым чаем и пирожками, которые выдавали всем перед сном.
Мероприятий у нас проводилось много. Особенно тщательно готовились к Новому году. Праздник-встреча с шефами, приходившими не с пустыми руками. Были и смешные, пропагандистские. Например, День без сигарет. В этот день девчонки демонстративно «похоронили» свои сигареты в маленькой ямке во дворе. Мы запомнили это место и откопали сигареты раньше их. Девчонки благоразумно «хоронили» сигаретное прошлое в пачках.
Возвращенцы
Нет ничего хуже для детдомовца, чем вернуться обратно из приемной семьи.
Вчера попечители вернули Иру. Попечители — дальние родственники. С их слов выходило, что Ира совершенно не подлежит обучению и это их очень печалит. Такая необучаемая девочка — позорное пятно на всю их семью. Не знаю, задумывались ли они, что играть ребенком и его чувствами — гораздо больший позор, чем наличие в дневнике плохих отметок. Учится плохо, рассеянна — единственная причина возврата. У Иры вместо учебников вечно в руках ножницы, лоскутки и иголка. А еще она чем-то поцарапала их семейное пианино, антикварное. Музыкальному инструменту был посвящен проникновенный спич. Пианино густого черного цвета от поставщика ее величества, какого-то Шредера кажется. Может, приемные родители взвесили все «за» и «против», выбрав свое пианино?
По Иркиному виду и не скажешь, что расстроена. Молчит. Вырезает что-то из белых листков ученической тетради и молчит.
На единственной уличной лавке сидит с воспитателями Иркина бабушка, вытирает слезы застиранным платком, напоминающим своим цветом легкий слой пыли, и причитает:
— Ну разве так делают? Ребенок ведь не вещь. Забрала бы я внучку, да не отдают: возраст, мол, неподходящий. А тут родственники нашлись. Бездетные. Я обрадовалась. Думала, наконец-то повезло внученьке, а я смогу умереть со спокойной душой. А они вон как! Вернули!
Академик наук из Ирины не получился, а в старших классах она засела за швейную машинку, перешивая громадные женские джинсовые юбки из гуманитарной помощи на жилетки да юбки на свою девичью фигуру.
Когда я был в младшей группе, у нас тоже был возврат. Вернули мальчишку, попечители которого плохо понимали, что такое энурез. Не привыкшие вставать по ночам, чтобы отправить ребенка в туалет, они просто сдали его обратно. Им — игра, Игорьку — горе.
Впервые я задумался о том, как хорошо, что меня никто никогда не выбирал. Я не был приобретением, в котором могли бы найти изъяны и которое могли вернуть как бракованный товар.
Бой с «мамонтами»
Лагерь спит. Звезды бисером рассыпались по небу. Отдыхает в углу желтая гитара. Противно гудят комары. От них стоит такой гул, что кажется, будто собрались они со всей округи попить детдомовской кровушки.
Скрипит дощатый пол под ногами воспитателя, пришедшего будить Игоря, чтобы тот не напрудил в кровать во сне. Игорек на каком-то автопилоте, как лунатик, возвращается обратно в постель. Падает ничком. Тянет на голову одеяло, пряча тело от комариных покусительств. Да разве от них спастись? Они лезут в щелки, ищут еду.
Пахнет сосновой смолой от могучих высоченных сосен. От моря тянет зыбкой прохладой. Лагерь стоит у залива. Сейчас тут только детдомовские. Дополнительная смена. Август встретил нас холодом, словно перепутал свое время с сентябрем. Ночью мы закутываемся в два одеяла. Где-то ухнул филин или показалось? И что же мне не спится? Я выхожу на веранду. Луна светит прямо на наш корпус, словно спрашивает: «Отчего не спишь, добрый молодец?» Зябко. Ежусь от холода. Встаю, чтобы вернуться в спальню за одеялом. Хочется посидеть на крыльце, запомнить луну, отгоняющую назойливые сизые облака, чтобы потом нарисовать ее. Облака похожи на голубей и цветом, и настырностью. Летят к луне, пытаются закрыть ее своими темными крыльями. Я протягиваю руку к двери и слышу шум. Звон разбитого стекла. Крики. В нашей комнате кто-то врубает свет.
— Какого?.. Дайте поспать!
— Вырубите свет — комарья еще больше будет!
— Ребята, подъем! У нас стекло разбили.
— Что случилось?!
На моей кровати блестят осколки стекла.
Все вскакивают и бегут во двор. Через забор перелезли местные — «мамонты». Они убегают, натыкаясь лбами на чешуйчатые стволы мощных сосен. Мы тоже натыкаемся. Мои ноги теряют растоптанные сандалии, чертыхаясь, плюнув на поиск обуви, я бегу уже босиком. Мы бросаем в «мамонтовские» шкуры палки, сосновые шишки, какие-то камни — все то, что нащупала рука в темноте. Один из чужих приотстал — на него рванул Чижик, конопатый такой, курносый, из футбольных нападающих. Быстроте его ног можно только завидовать. Увидев, что бьют соплеменника, «мамонты» прыгают обратно с забора на территорию лагеря. К нам спешат воспитатели, на ходу застегивая одежду. Молодой начальник лагеря на бегу размахивает фонарем. Физрук мчится впереди всех.
— А ну стоять! — кричит он непонятно кому: или им, или нам.
«Мамонты» удирают, беря забор в прыжке, как прыгуны с шестами, но только без шестов. Физрук успевает поймать самого мелкого. Тот начинает всхлипывать:
— Отпустите!
— Ну фиг с тобой! Иди, — машет рукой физрук и предлагает: — Может, насыпать стекла за забором?
Он у нас новенький, пока еще на этапе проверки.
— Очумел?! Да наши же ребятишки первыми и напорются на битое стекло. И незаконно это. Милицию надо бы, — рассуждает сам с собой начальник лагеря. — Зря ты отпустил мальчишку.
— Не зря. Он самый младший из них. Чего уж ему отдуваться за всех.
— На фиг нам ментура. Мы и сами фигура, — вставляет в беседу свой голос кто-то из наших.
— Кончай базар. Вопрос: почему они к нам явились? Может, кто расскажет, что понадобилось этим бакланам?
Мы молчим. Знаем, но молчим.
Утром все проспали зарядку, даже сам физрук. В столовую мы подтягивались частями разрозненной полусонной толпы. Дисциплинированно строить нас в положенную колонну никто не собирался. Педагоги плелись такие же полусонные, как и воспитанники. В столовой мы ловили на себе любопытные взгляды остальных обитателей лагеря. После завтрака физрук Толик с начальником лагеря забили дыру на месте разбитого стекла картоном. Большинство ребят завалилось еще подремать, кто-то все вспоминал ночное происшествие. А физрук прошел нашу проверку. Зря мы его своими приколами доставали. Да и не злопамятный он мужик. Пожалуй, стоит ему рассказать, почему «мамонты» пришли. «Мамонты» — это закономерно. Пришедшие местные крутые были из Мамонтовки, небольшого поселка, что в четырех километрах от нашего лагеря. Да и здоровые они все. Ну настоящие мамонты.
Физрук Толик слушает молча.
— Ну герои! — иронично подводит он итог. — С местными я сам поговорю. Я их знаю — не отстанут. Я тут все лето у тетки провожу. Еще раз наведаетесь в клуб к ним — уши надеру. А тем, кто снял зеркала с их мотоциклов, принести мне в воспитательскую — верну хозяевам.
— Сергеевич, ты на наши шутки забей. Не со зла мы.
— Бывает.
Шутки были глупые. И даже скабрезные. Как-то мы подкинули в кровать физрука предмет женской интимной гигиены, участник популярных рекламных роликов. Взяли мы его у девчонок, пообещав классный розыгрыш над новеньким специалистом. На прокладку мы налили кетчупа и сунули Толику под одеяло. Физрук отреагировал лаконично:
— Зачем казенную постель испортили?! Стирать бы вас заставить.
Толик в наших глазах после той стычки с местными вырос. Он и инцидент уладил, и начал учить нас простеньким приемам самообороны. Еще он никогда не скрывал, что курит, нотаций на эту тему не читал, но и сигаретами делиться отказался наотрез.
Упавший камень разбил стекло, оставив в окне неровную дыру с острыми углами. Наверное, этот булыжник засветил бы мне прямо в лоб, не выйди я во двор. Время собирать камни и время разбрасывать их. Может, это луна позвала меня? Может, ей было известно, что камень упадет на мою кровать?
Кроме стычки с «мамонтами» всплывает в памяти встреча с «другими», нашими соседями по лагерю. «Другие» — это детдомовцы из специнтерната, спрятанного где-то в глуши области. Не надо было обладать особой проницательностью, чтобы понять: им еще хуже, чем нам. «Другие» поражали не только дисциплинированностью и незаметностью на нашем фоне, но и своим внешним видом. Казалось, что эти мальчишки и девчонки перепутали время, каким-то образом попали к нам в будущее из не очень далекого прошлого. Мальчишки были облачены в длинные клетчатые фланелевые рубашки и брюки от школьной формы эпохи Советского Союза. Они чем-то напоминали ковбоев, для полноты образа не хватало шляп с подогнутыми краями. Девчонки были наряжены в платья, давно списанные модой в чуланы. Прямо музей с ожившими экспонатами из семидесятых годов двадцатого века.
Младшие засыпали воспитателей вопросами: «Это что, инкубатор приехал?» или «Зачем их так страшно одели?» и главное — «Почему они такие затюканные?».
Через день воспитатели всех нас собрали и предупредили, чтобы больше не было ни одного подкола и глупых шуток над нашими соседями.
— Не лезьте к ребятам.
— Они что, дураки?
— Не дураки. Просто у них память хуже. В отличие от вас они много работают.
— Полы, что ли, моют не два раза в день, а каждый час?
Наши на некоторое время впали в задумчивость от рассказов воспитателей о «других». Эти «другие» у себя в интернате работали в подсобном хозяйстве, где были коровы, куры, кролики, свиньи.
Чудак Антошка
Уйдя подальше от хозяйственных построек, мы пристроились на бревне и устроили перекур. Четверо мальчишек в кустах под соснами. Курить в сосновом лесу воспрещалось. Сухая хвоя и шишки могли легко загореться, о чем напоминали расставленные таблички: «Курение на территории лагеря строго запрещено!» Интересно, когда расставляли эти предупреждения, думали о том, что смолить тут будут очень многие?
Курильщиков хватало и среди воспитателей, и среди воспитанников. Но больше курить было негде. И запрет нарушали все: и взрослые, и дети. Махнув рукой на борьбу с вредной привычкой, нам велели обязательно проверять, потухла ли сигарета. Я курил редко, больше за компанию. Денег на сигареты у меня никогда не было. Но если угощали — не отказывался.
Оглянувшись, я заметил маленького ковбоя. Он стоял прямо за нашими спинами.
— Эй, малой! Чего стоишь тут? А ну беги к своим, пока по шее не получил! — Кашель кивнул и сделал шаг вперед.
Малой остался стоять.
— Ты шальной или больной? Это приказ, если ты еще не догадался!
— Брось, Максим. Пусть стоит.
— Не могу курить, когда соглядатаи за спиной стоят. Брысь, тебе сказали!
Ковбой растянул рот в щербатой улыбке. У него недоставало трех зубов.
— Нет, ты смотри, он еще и скалится! Точно чумной.
Я останавливаю за руку Кашля.
— Эй, как тебя зовут? Иди сюда. — Я махнул малому рукой.
— Антошка.
Вовка прыснул со смеху:
— И правда, Антошка. Это имя или погоняло?
Малой улыбался. Наверное, он не знал, что такое погоняло.
— Ну, чудной он, как и все они. Чего ты к нему пристал? Есть хочешь? — спросил я.
В лагере кормили неплохо, лучше, чем в детдоме. Но Антошка кивнул. Я достал из кармана яблоко.
— Возьми.
— Спасибо.
— Как тебе живется? Рассказывай.
— Антошка хороший. Антошка любит кроликов. Антошка умеет мыть посуду. Антошка вырастет и станет летчиком!
— Кем-кем станет Антошка? — удивленно вопросил Макс.
— Летчиком. Антошка небо любит. — Ковбой говорил о себе в третьем лице, словно отчитывался кому-то.
— У тебя братья-сестры есть?
— Нет. Но Антошка не один!
— Что ты заладил как попугай: «Антошка, Антошка»?
У клетчатого ковбоя на глазах выступили крупные слезы.
— Антошка не хотел обидеть. Антошка расстроен.
— Не расстраивайся. Расскажи нам про кроликов. Ты же их любишь? — Я протянул руку к Антошке. Тот резко отпрянул.
— Чего это он? — удивился Вовка.
— Не бей Антошку! Антошка больше не будет! — закричал маленький ковбой, прикрывая руками редкие светлые волосы.
— Не бойся. Тебя никто не будет бить.
— Никто? Совсем?
— Совсем, — заверили мы мелкого.
— Кролики пушистые. Они хрум-хрум капустой. Они дают Антошке морковку.
— Кролики тебе дают морковку? — Кашель перестал курить.
Мы уставились на пацана.
— Да. Когда никто не видит.
После рассказа Антошки стала понятна просьба воспиталок не шпынять тех, из другого интерната.
Где сейчас Антошка, заливисто смеявшийся от песенки про картошку? Вовка в тот день порылся в своей коллекции, частично путешествующей с ним, и подарил ему лупу. Лупа привела конопатого ковбойчика в восторг. Мы сходили к его воспитателям и попросили проследить, чтобы никто не отнимал у Антона подарок. Клетчатый ковбойчик бегал с лупой по всему лагерю. То тут, то там слышен был его голос: «Антошка нашел жука. Жук большой. Антошка нашел листик. Листик большой».
Антона сдала в специнтернат мама, вышедшая повторно замуж. Почему-то Антоша сильно раздражал ее нового мужа. Через много лет я узнал, что Антошку спустя год после того лета забрала под опеку тетка, сестра умершего Антонова отца. Антону как инвалиду детства дали квартиру. Вот тут-то и объявились «любящие» родители.
Историю Антошкиной жизни рассказала мне женщина, жившая в поселке, где стоял тот специнтернат. Суд встал на сторону тетки и ее племянника. Антошке повезло: его согласился взять на работу в свою ветлечебницу теткин одноклассник.
Пряничный домик
Я не мечтал, что меня кто-то усыновит. Я просто хотел побывать хотя бы на каникулах у родственников. Только родственников у меня не было. На осенних и зимних каникулах группы пустели наполовину. Я оставался в вечной половине тех, на чьи имена не нужны были разрешения. Любу и ее подруг изредка брали в гости воспитатели. Погостить на даче или на квартире у персонала было чем-то исключительным. Но такая честь выпадала немногим. Чаще всего брали на дачу. И только девчонок, причем тех, кто гарантированно не сбежит. Порой такой ход был способом перетянуть на свою сторону авторитет в вечной междоусобной борьбе персонала, заработав очки в игре на лидерство.
Я завалился читать книжку. «Хроники Нарнии» уносили меня в другое время, в другую страну, далекую от равнодушия и однообразия наших будней, туда, где жил Лев, честный, мудрый правитель волшебной страны. Можно было пойти погонять во дворе в футбол, да не с кем. Вратаря забрала тетка, нападающие разъехались по родственникам. Когда в дверном проеме появилась Ольга Борисовна, я подумал, что ей нужна помощь: шкафчики передвинуть, за малышней присмотреть.
— Юра, а ты хочешь съездить к нам на дачу? — спросила она. — Сын приезжает. Пообщались бы с ним. У нас там хорошо: цветы, яблоки, сливы поздние поспели. Лес и пруд рядом.
Я так растерялся, что не знал, что ей ответить. Ольга Борисовна никогда никого не возила на свою дачу.
Дача Ольги Борисовны чем-то напоминала ее саму — маленькая, торжественная. С разноцветными витражами вместо стекол на втором этаже.
— А куда лестница ведет?
— Там мансарда. Поднимайся, не стесняйся. Скоро Коленька приедет. Все тебе покажет.
Я поднялся на второй этаж. Из окна были видны многочисленные дачные домики. К окну тянула лапы береза. Березы росли и около детского дома. Но то ли соседство с нами, то ли тоска по лесу угнетали их так, что были они там какие-то тощие, глупо грозящие редкими ветками ветру. Над домами бежали облака. Они словно играли в чехарду и чем-то напоминали детдомовскую малышню: спешат, бегут, а куда — непонятно. Внизу желтеющим ковром раскинулся маленький огород. Оранжевые тыквы с высоты были похожи на осенние кленовые листья в траве. Солнце осторожно щупало лучами витражи мансардных оконцев. Из разноцветных бликов на дощатом полу сложился пестрый волшебный ковер Аладдина. Тишина проникала во все. Это была необычная тишина, совсем не похожая на тишину в детском доме после отбоя. Эту дачную тишину можно было слушать: она была живая, иногда ее нарушал стрекот неугомонной сороки или отдаленный гул пролетающего самолета. Эта тишина была такой тонкой штукой, что гудение толстого шмеля и карканье вороны было настоящей какофонией.
— Если хочешь, прогуляйся по поселку. Народ у нас тут добродушный, приветливый. А я блинов напеку, — предложила Ольга Борисовна.
Я шел по поселку с каким-то ощущением непривычного домашнего покоя и гордости от того, что именно меня пригласили в этот уютный сказочный домик. Дачу построил отец Ольги Борисовны для своих дочерей. Но старшая дочь попала в автомобильную катастрофу, и маленький племянник стал для младшей сыном. Возвращаясь к дачному домику, я заметил издали белый «жигуленок» у ворот — приехал сын Ольги Борисовны.
— Привет, художник. Наслышан о тебе. Мольберт привез? У нас тут рай для живописца.
— Здравствуйте. У меня нет мольберта.
— Нет? Значит, будет.
Сын Ольги Борисовны, уже успевший снять форму подводника, раскладывал по вазочкам варенье.
Мы ели блины. Пухлые, румяные, с хрустящей тончайшей корочкой. Детдомовские блины были какие-то бледные, похожие на лунный лик, большие, толстые, резиновые на вкус. Эти же радовали глаз и язык. На столе стояло несколько розеток с густым вареньем.
— Попробуй еще вот это. Из нашей жимолости. Я ребятишкам привожу, так они банки готовы вылизать. Говорят, что оно самое вкусное.
Вечером я с Николаем Петровичем пошел на пруд. Прошел дождь, обещавший хороший клев. Непромокаемый плащ Николая Петровича был мне великоват, но в нем было уютно, совсем не то, что в казенной детдомовской одежде. Никогда прежде мне не доводилось ловить рыбу.
— Подсекай! Вот так. Потихоньку. Веди осторожно. Ну, с почином тебя. Ерш хоть и колючая рыбешка, но для ухи самое то. Уху пробовал когда-нибудь?
— Рыбный суп? Пробовал. В детдоме дают.
— «Рыбный суп», — передразнил Николай Петрович. — Нет, уха не совсем суп. Мы с тобой потом сварим ее вместе в котле на огне. Уха в кастрюле — это не то. Настоящая уха пахнет дымком.
— Николай Петрович, а это правда, что вы на подлодке на Северном море ходите?
— Правда. И не только на Северном. Мать рассказала?
— Нет. Воспитатели.
— А у вас там, видно, народ любопытный.
— А как там, на подводной лодке?
— Как? Да как на любой службе. В отпуск приезжаю вот сюда, и возвращаться не хочется. Но надо. Простор здесь. Красота!
Те три дня я помню чуть ли не по часам. Именно тогда я почувствовал, что значит быть дома.
Засыпая, мне казалось, что я давно уже сплю и вижу сон. Откроешь глаза — и нет пряничного домика. Нет витражей и пузатой тыквы, и нет берез в куполообразных желтых сарафанах, надетых вверх тормашками.
Снизу доносились обрывки разговора:
— Коля, в архиве должны быть документы с адресом. Он ведь из другой области прибыл. Может, пособишь в поиске? Не хочется, чтобы такой мальчишка пропал.
Что за архив и какой мальчишка — непонятно, я засыпаю, и мне начинает сниться, что мы опять ловим рыбу. Она гнет удилище, натягивает леску, поплавок резко уходит под воду, подавая сигнал равномерными, быстро убегающими кругами.
— Юр, просыпайся! Про рыбалку помнишь? — Дядя Коля будит меня, уже одетый.
Я пью на кухне рядом с ним кофе. Настоящий кофе, нисколько не похожий на тот кофейный напиток, что дают в детдоме.
— Бери гренки. Сам делал. Навались на бутерброды с сыром. Мать спит. Рано еще, так что выходим тихо.
Я иду в резиновых дядь-Колиных сапогах, они мне немного велики. Густая трава обдает сапоги росой. Солнце выходит не торопясь, раскрашивая небо постепенно, словно раскатывает дорожки, розовую и лимонно-желтую, на бледном бесконечном полотне лазури. У солнца нет команды «Подъем!». Хочет — выходит, не хочет — укрывается облаком. Утренняя тишина совсем не похожа на дневную. Здесь все просыпается тогда, когда пожелает. И даже человек. Захотел человек порыбачить — вот и проснулся, не захотел — спит дальше. Здесь человек хозяин. Он сам решает, что делать: сколько поваляться в кровати, что положить на бутерброд, какую одежду надеть и, главное, чем заняться.
Я часто вспоминаю Ольгу Борисовну и ее сына. Наверное, именно они помогли мне понять, что мир за забором не просто другой — он настоящий, цветной. В нем много желтой краски. И это не только цвет разлуки. Это еще и цвет надежды.
Встреча
В шестнадцать с небольшим меня вызвали к директору на беседу — явно на тему: «Как жить дальше будешь?» В кабинете на удобном дерматиновом диване сидели две незнакомые мне женщины. Та, что постарше, смотрела прямо на меня. Та, что помоложе, отводила взгляд. Директор мимоходом бросила на меня оценивающий взгляд, словно пытаясь предугадать мою реакцию, и без всякого пафоса, как-то невероятно буднично выдала:
— Знакомься. Это твоя мама. И бабушка.
Директорская погрузилась с тишину. Через открытую форточку с улицы слышны голоса. Я цепляюсь за эти звуки, вслушиваюсь. Это не помогает, мысли упорно возвращаются к словам Таисии Ивановны. От того, что она произнесла это совершенно без эмоций, ощущение нереальности только усиливается.
Известие меня ошеломило. Если бы мне в тот момент сказали, что Дед Мороз все-таки существует, я бы удивился меньше. Оказывается, моих родных разыскали, подняв архив. Я сидел словно пришибленный. Смотрел в пол. На полу шевелились мыски моих серых с белыми полосками кроссовок. Они двигались как-то сами по себе. Я сделал попытку на этом сосредоточиться. Но из созерцания облупленной обуви меня вывел голос директрисы:
— Юрий — хороший парень. Наша гордость. Три премии. Наш художник. Аттестат у него тоже хороший. Характеристика отличная.
«Наш». Я повторяю это слово про себя несколько раз. Пытаюсь отгородиться им, как щитом, от двух других слов — «мама», «бабушка». Отвечаю мысленно директору: «Вот так всегда. Когда о тебе говорят, что ты чей-то, ты не свой. Ты — их, детдомовский. А эти люди? Они тоже могут сказать: „Наш"?»
Директриса молчит. Все молчат. Мне интересно, смотрят ли они на меня, но я продолжаю разглядывать мыски кроссовок. По-моему, они стали вести какую-то свою игру: то двигаются влево-вправо, то пристукивают. Чувствую, как уши предательски краснеют, они всегда проделывают этот фокус, когда я волнуюсь.
— Юра, ты домой поедешь? К родителям?
Кроссовки вдруг остановились. Прилипли к полу. Я пытаюсь пошевелить ногой, но ничего не получается. Приклеились. Надо что-то отвечать.
Выдавливаю:
— Угу.
— Вот и славно. Сходи к ребятам. Попрощайся и собери вещи. Ольга Борисовна тебя ждет. Специально пришла, хотя у нее и выходной.
Ольга Борисовна ждет меня внизу, напротив двери. Той двери, которую я открывал и закрывал миллион раз за эти годы. Дверь детдома. Обычная такая дверь, обитая деревянными дощечками. Потом, годы спустя, ее заменят на металлическую, но это ничего не изменит. Она все равно останется дверью в казенный дом.
Моя Ириска (жена), узнав, как я нашел семью, сказала: «А я бы не простила! И не пошла к ним». Не прощать мне даже в голову не приходило. Все эти годы я думал, что я один, как луна на небе. Когда-то Лешка, глядя на желтую, как спелая дыня, луну, сказал: «Эх, купить бы билет до Луны. И смотаться отсюда навсегда».
Я складывал вещи в подаренный Николаем Петровичем большой походный рюкзак. Кстати, я до сих пор беру этот рюкзак с собой на рыбалку. Акварель и кисти отправляются в накладной карман, свитер, старые джинсы, две рубашки, куртка, фотографии и рисунки ложатся в рюкзак. Мольберт я несу в руках как самое ценное. Дядя Коля сдержал обещание и привез мне в подарок мольберт, настоящий, как у художников.
— Юр, ты, если что, забегай. Всегда рады тебе будем. Ни пуха тебе ни пера! — Воспитатели вышли проводить и взглянуть на мою мать.
Я жму руки ребятам. А язык словно к нёбу прилип. В мыслях завис ответ: «К черту!» Неужели я уезжаю отсюда навсегда?..
Мы ехали в машине молча. Вдоль дороги пробегали поля, посадки, поселки. Мне казалось,
что за окном ничего не меняется: одинаковые тополя стоят вдоль трассы. Совсем как мы, детдомовцы. Младших всегда водили в столовую строем. Парами. Эти деревья тоже стоят парами. Я не знал, о чем спросить мать. И надо ли?
В открытую дверь квартиры просунула голову девчонка с двумя тонкими косичками.
— Привет. Я — Лиза, твоя сестра. Мне девять лет. У нас есть еще Ольга, но она приедет только летом с семьей. Она далеко живет, — с ходу выдала она всю информацию.
— Привет. Я — Юра. Хотя ты, наверное, в курсе, что появился братец.
Неловкое молчание постепенно сменилось обычным разговором, который возникает, когда люди накрывают стол к празднику. Они меня ни о чем не спрашивали, а я — их. Мама, отчим, бабушка, сестра. Казалось, что я просто был в лагере на каникулах и вот вернулся домой. А они ждут. В этот день воссоединения с семьей мы разложили большой стол в меньшей из комнат небольшой двухкомнатной квартиры.
— Здесь будет твоя комната.
Я рассматриваю гобелен на стене. Китаец верхом на тигре. Кажется, он собирается убить зверя. Тигр огромен, силен.
— А что это за картина? — спрашиваю я у обретенных родственников.
— «Монах Усунь убивает тигра». Картина Дмитрия Филатова. Тебе нравится?
— Не знаю. У монаха какое-то сосредоточенное лицо. Смотрит так, словно тигр-людоед сожрал его семью.
— Может, так оно и было. Мне этот гобелен на юбилей подарили. На работе, — сказал отчим. — Юра, а ты, мне говорили, рисуешь?
— Да. Немного.
Та картина куда-то запропастилась при переезде в новый дом. Рассказал я о ней как-то своей жене. А она в ответ поведала корейскую сказку про монаха-тигра.
Сказка-притча
Заблудился в горах путник. Узкая тропинка вывела его к красивому высокому дому, спрятанному за двенадцатью воротами. Плачущая красавица рассказала, как стала женой горного монаха. Когда-то ее отец, богатый и знатный человек, отказал в сватовстве бедняку монаху. Разгневанный монах убил и отца, и семерых братьев.
«И тебя убьет, коли не уйдешь. Уходи, прошу тебя, незнакомец!» — упрашивала девушка.
Но путник остался и убил того монаха. Решили они похоронить его, смотрят — а вместо человека перед ними на камнях распростерт огромный рыжий тигр.
Красавица попросила спасителя остаться с нею, по завету ей нужно было охранять отцовскую могилу еще три года. Но путник ушел, а она осталась одна. Когда закрылись двенадцатые ворота, девушка свела счеты с жизнью.
Путник, чье имя было Осанн, стал бесстрашным и мудрым полководцем, не знавшим поражений. Но однажды он проиграл сражение: на поднятый меч опустился желтый платок, а Осанн не смог сдвинуться с места и рухнул без сознания. Открыв глаза, он увидел ту самую оставленную им девушку. Стал он просить прощения за свою бессердечность, но девушка пропала.
Снова повторил тот путь в горах Осанн. Нашел он в доме красавицу, спящую вечным сном. Выглядела она так, словно вчера прилегла. Похоронил он ее рядом с отцом.
Вновь бой. И вновь неудача. Но появился знакомый желтый платок и лег на меч врага. Битва была выиграна. Каждый год после этого Осанн ездил благодарить девушку.
Какие сомнения съели мою семью на долгих шестнадцать лет? Почему никто из них не пришел ко мне ни разу? Впрочем, я убил в себе тигра давно. Мне неинтересно, что произошло в роддоме.
О чем говорили мы тогда на нашей первой семейной встрече? За столом вели беседу о летних планах, о моем поступлении в колледж. Бабушка сказала, что через недельку возьмет меня в деревню. Мне тогда показалось, что моему появлению обрадовалась только младшая сестра. Разговоров о том, как я жил, никто не начинал. Пока взрослые накрывали на стол, сестра повела меня смотреть семейные фотографии. Ей не терпелось познакомить меня сразу со всей многочисленной родней. Толстый альбом в парадном кожаном чехле. Свои несколько фотографий, сделанных в детдоме, я хранил в целлофановом пакете. Их было мало, и ни одна из них по-настоящему мне не нравилась. Подумалось тогда, что толстый альбом со множеством фотографий — это еще одно подтверждение того, что в жизни есть счастье. Счастье — это в том числе и фотографироваться с близкими. Когда видишь себя на фотографиях в солидном альбоме, то кажется, что ты уже прожил длинную жизнь. О чем могли рассказать мои фотографии? Они больше молчали, чем говорили. Лизе в год нашей встречи исполнилось девять лет. Почетное место в альбоме было выделено фотографии, на которой красивый сверток с розовой лентой торжественно выносят к отцу и бабушке. Счастливые лица. А я? Как было со мной? Улыбался кто-нибудь мне, маленькому свертку в казенных застиранных пеленках? Наверное, нет. Но это уже не важно. Мой первый лепет услышал какой-нибудь пластмассовый болванчик или резиновая зверушка, слышавшие, наверное, десятки таких первых «агу».
— Смотри, это я маленькая. А здесь я иду в школу. А это моя, то есть наша, сестра. Вот она у бабушки. Оля вообще выросла у нее. У бабушки Нади здорово. В деревне есть лошади. Вот смотри — это Цыган. Соседский конь. Мы носили ему яблоки. Он только с виду грозный, а так добрый и хитрый. Оля умеет ездить на лошадях, а я нет. А ты умеешь?
— Не умею.
Я думаю о том, что у меня нет фотографий, где меня провожают в первый класс с огромным букетом.
Мы пришли в школу стайкой взъерошенных воробьев, прыгающих на одном месте и готовых упорхнуть в случае опасности. У нас не было опознавательных атрибутов первоклашек: ни улыбающихся родителей, бабушек-дедушек, ни ярких букетов. В одинаковых инкубаторских портфелях было все такое же одинаковое. Как у всех. Так положено. В школе я учился неплохо. Единственная пятерка по рисованию среди стандартных четверок. Тройки по математике и химии. Учителя требовали от нас знаний для видимости, чтобы мы не сильно портили общую успеваемость.
Мой друг Вовка обожал историю и химию. Двоечник по русскому, он тем не менее здорово писал сочинения. С жуткими орфографическими ошибками и уморительным содержанием, сочинения Вовы были гвоздем урока литературы. У Вовки была интересная особенность в написании сочинений. Он ухитрялся подогнать тему под ту, которая его интересует. Совсем как в анекдоте про студента: вот если бы у рыбы была шерсть, то у нее водились бы блохи.
Ольга Борисовна сохранила и потом вернула творцу одно его сочинение про синиц. Он подарил его в копилку литературных школьных интересностей моей супруги — учителя русского языка и литературы. Друг мой всегда обожал собак, собаки отвечали взаимностью. Мне кажется, что Вовка понимает их собачий язык, а они понимают Вовку. Он часто вспоминал Трезорку, пропавшего после смерти матери Вовы.
Сочинение про синицу, написанное пятиклассником Вовкой
Синица хорошая добрая птица. Она лутше варабья. Не прыгает как он туда-сюда. А сидит себе на ветке и смотрит по сторонам. А еще на будку смотрит. В будке жывет Трезор. Самый умный в мире пес. Он пятнистый как осенняя дорога с первым снегом. То тут, то там пятна: чорные или белые. Синице надаедает сидеть на ветке и она садится прямо на конуру Трезора. А псу все равно. Станет он беспокоится из-за какой-то птицы, пусть и симпатичной, но непонятно о чем тренькающей: «Синь-синь!» Вот у Трезора много собачьих слов. «Ва-а-у-у» — чем-то расстроен. «Ргав-ргав-ф-ф!» — «хозяин, идет чужак!» «Гау-гав!» — «ура!» Да много чего он говорит. А синица? «Тинь» да «синь!» То ли дело сабака — она друк чилавека. Синица что? Так дапалнение к деревьям. Вот Трезор знает все деревья в округе. Все пометит. А как же! Ведь в мире полно других псов. Они должны знать, что тут проходил Трезор. Говорят, лутше синица в руке, чем журавль в небе. Не согласен. Лутше пес с мячём в зубах, чем синицы и журавли в небе. Они что? Птицы. Улетят. А пес? Он всегда рядом. Я люблю Трезора, только он потерялся. Если увидите пятнистого пса с белыми лапами, сообщите, пажалуста, мне или моей тете.
Из воспоминаний меня выдернул звонкий голос сестры:
— Юрка, здорово, что ты нашелся! У меня теперь есть старший брат. А еще мы теперь многодетная семья: нас же трое. Я тебя завтра познакомлю со своими друзьями. Они тебе понравятся.
А у меня был только один друг. Зато настоящий. Такой друг, как Вовка, стоит сотни иных полудрузей-полуприятелей.
Я слушал свою общительную сестру и кивал в знак согласия. Вспомнилась Люба, пряничный домик. Неужели все это было? А может, все это мне приснилось? Как быстро начинает стираться из памяти совсем еще недавнее прошлое. Меня это пугает.
Я ни разу не спросил мать, почему она оставила меня тогда в роддоме. Также я не стал спрашивать, почему после стольких лет они решили меня забрать. Я не знаю, где живет мой биологический отец и знает ли он вообще, что я существую. Тот, кого я называл отцом, умер два года назад. Он был очень хорошим отцом. Уж для кого я точно стал сюрпризом, так это для него. Женившись, он не догадывался, что у его избранницы кроме дочери есть еще и сын. Кроме двух сестер у меня куча двоюродных и троюродных родственников. На свою первую зарплату я купил подарки родным. Впервые в жизни я сам покупал подарки. Может, кто-то скажет: «Сентиментально!» Только вам не понять, что билет до Луны из детдома достается не всем.
Каждое лето я приезжаю домой. В поселке давно перестали судачить о моем неожиданном появлении. И старушки больше не качают головами, когда я прохожу мимо них. Я стал почти своим и для них тоже. Мне очень тяжело давалось это слово — «мама». А потом как-то незаметно оно вошло в мою жизнь.
Я в тот первый день съел слишком много копченой колбасы. Я ел ее первый раз в жизни. Поэтому первое время у меня слово «мама» и слово «колбаса» каким-то очень неприятным образом подсознательно ассоциировались. Прошло довольно много времени, прежде чем мне удалось отделаться от этой странной двусмысленной ассоциации. Я увидел многое из того, что было скрыто на другой стороне Луны. Оказывается, картошку можно жарить, курица бывает целой, а не кусочками, даже когда достаешь ее из духовки, огурцы можно рвать с грядки и сразу есть (лучше немытыми — так вкуснее). К чему я так долго привыкал, так это к тому, что можно есть в одиночку.
Бабушка, я и Юрис
Почти все лето я провел в деревне. Оказалось, что я, как и мои сестры, люблю лошадей. Эти умные животные все понимают. Даже кивают головой в знак согласия. Приезжала моя старшая сестра с мужем и сыном. Чудно́, что с мужем сестры и мелким (племянником) у нас одинаковые имена. Проще всего общаться было с младшей сестрой и племянником. Каждый день мы с ними ходили на пруд. Пруд был огромен. Его величие не портили ни группы купающихся, ни караваны уток и гусей. Рядом с прудом был песчаный карьер. Мы с пятилетним Юриком (родные называли его Юрис, чтобы не путать с отцом) строили песочные замки, рыли траншеи и выкапывали пещеры. Как-то я увлекся и стал копать тоннель в глубь песочной скалы.
Тяжело открываются глаза. Свет. Незнакомое лицо склоняется надо мной.
— Что видишь?
— Вас вижу. Где я?
Над головой беленый потолок. Больничный белый цвет. Кому-то он дарит жизнь и надежду, а кому-то — покой.
— В больнице. Ты в рубашке родился. Повезло тебе, парень. Выйдешь — ставьте с мамой магарыч хлеборобам. Заходите, — обращается врач к кому-то невидимому. — Разговорами его не мучить, — добавляет он и выходит из палаты.
В палату заходит мать. В щель неплотно прикрытой двери заглядывает младшая сестра. У матери грустное, заплаканное лицо. В руках носовой платок. Лизка в нетерпении крутится у двери и полушепотом спрашивает:
— А мне можно?
— Погоди! — машет мать.
— Пусть зайдет, — прошу я.
Я всматриваюсь в лица матери и сестры. Видно, как сильно они боялись меня потерять. Ведь меня так долго не было. Я проваливаюсь в сон. В том сне я лежу на каких-то досках. Болит спина, не встать и не повернуться.
Сегодня празднуем мое второе возвращение. Можно сказать, воскрешение. Лизка рассказала, что меня засыпало песком. Я почти полностью влез в тоннель; он рухнул. Только ботинки наружу торчали. Юрик испугался, стал кричать и махать руками. На мое счастье, мимо пруда ехали комбайны на поле. Комбайнеры быстро откопали меня лопатами, вернули к жизни искусственным дыханием.
— Юр, мама и бабушка велели не говорить тебе, но я скажу. Тсс, не выдавай только! Тебя вырыли совсем синим. И врач сказал, что если бы не быстрота рук наших ребят-комбайнеров — тебе бы пришел каюк. Бабушка ругала маму.
Я хотел вернуться домой в тот же день, как очнулся. Мне казалось, что меня снова оставят, как раньше. Но врач не отпустил. Родные приходили каждый день. В моей тумбочке уже не вмещались продукты. Я охотно делился ими с соседом по палате. Со старым дедушкой, которого никто не навещал. Я чувствовал в нем родственную душу. Когда-то я попал в больницу из детдома с фурункулёзом. К ребятам в палате всегда кто-нибудь приходил, а ко мне некому было заглянуть. И чужие мамы молча клали на мою тумбочку что-нибудь съестное.
Визит
Моя жена Ириска захотела посмотреть на «бункер» — это она так в шутку называет детский дом. Мы купили конфет ребятне, торт и цветы для Ольги Борисовны.
— Юрка! Рада видеть тебя. Взрослый совсем! — Ольга Борисовна встречает нас в коридоре.
— А вы вот не изменились совсем. — Я с легкостью отрываю ее от пола.
— Да ладно тебе, знаю, что постарела. Ну что ж, давай рассказывай. Минуточку… Сережа, возьми на столе чайник и налей в него воды, пожалуйста, — обратилась воспитательница к одному из проходивших мимо ребят. — Заходите в воспитательскую. Чаю попьем и поговорим.
В воспитательской ничегошеньки не поменялось. Даже мебель та же и так же расставлена, как пятнадцать лет назад. Вот только три компьютера здесь стоят новичками да самодельные детские открытки на столе новые, как и настенный календарь.
Беседуем. Вспоминаем ребят. Ольга Борисовна стала почти совсем как одуванчик, но седина ее не портит. Карие глаза, как и раньше, смотрят внимательно, в них усталость и боль. От нее я узнаю о судьбе наших: кто в люди вышел, кто вниз скатился, а кого уж и нет… Ольга Борисовна помнит всех.
Тихоня Антон оказался на зоне. Нелепая и глупая ошибка. Пустой разговор на пустыре. Диалог под хмельком. Два детдомовца. Антон ответил на грубость толчком, а парень не удержался на ногах, упал и ударился затылком о край бордюра. Приехавшая «Скорая» зафиксировала смерть. Непреднамеренное убийство. Было много шума в городе. Громкие заголовки в прессе: «Детдомовец погиб от руки детдомовца». На опытного адвоката денег не хватило. Прошение об уменьшении срока отклонили.
Лопух пропал без вести. После выхода из «дэдэ» он долго праздновал свободу в родительской квартире. Какие-то новые друзья. Я заметил, что многие из наших, выходя из детдома, теряли связь друг с другом намеренно, стремясь обзавестись новыми друзьями, как новой жизнью.
Я спрашиваю шепотом о Любе. Я боюсь услышать, что она скатилась на дно и с ней что-то случилось.
— Люба вышла замуж. Двое деток у нее. Про тебя тоже спрашивала. Они с Валей свою парикмахерскую на дому открыли. Мать ее заболела тяжело. Люба ее к себе забрала. Та вроде не пьет больше.
Ольга Борисовна выглядывает в окно, смотрит на воспитанников. Под окнами по-прежнему цветут клумбы.
— А как Григорий Афанасьевич?
Афоня был у нас мастером по ремонту обуви.
— Беда с Афоней приключилась. Дети не поделили его квартиру. Теперь уже с миром покоится наш Григорий Афанасьевич. Ты помнишь, Юр, как он дырки латал на обуви, все ворчал, что поздно ботинки к нему принесли? Хороший был человек.
Я ухожу играть с ребятами в футбол. Футбольное поле за эти годы не сильно изменилось. На воротах появилась сетка. По-прежнему крепкие корни вязов, клена и ясеня ловят за ноги футболистов. По соседству стоят лавочки, на них о чем-то оживленно болтают девчонки. Увидишь таких в толпе других и не признаешь в них детдомовских девчат. Это радует.
Ириска попросила разрешения пообщаться с детьми и сделать несколько фотографий. Среди многочисленных увлечений моей жены фотография занимает почетное место. Ире уже давно хотелось написать статью о детдомовцах, об Ольге Борисовне.
Рассказ жены
Юрка бегает с ребятами на маленьком футбольном поле. Мы видим через стекло, как он подходит к ним, о чем-то заводит разговор, жмет ребятам руки. Мальчишки рассматривают новый мяч, который он им принес. Настоящий футбольный мяч, хорошо накачанный. Мне приходит в голову мысль: «А кто им-то накачивает здесь мячи?» Мы с Ольгой Борисовной идем по коридору-«подлодке». Здесь все как в Юркиных воспоминаниях. Только теперь появились красивые обои, плазма, компьютеры, новая мягкая мебель. Про себя отмечаю, что в холле много мягких игрушек. Мягкие пушистые друзья детства выглядят здесь ненужными. Здесь вообще быстро взрослеют. На лестнице нарисована масляной краской серо-голубая ковровая дорожка, жалкое подобие настоящей. Почему такие учреждения называются детскими домами? Ведь они ни капли не похожи на настоящие человеческие дома? Мне интересно, изменились ли дети. Я задаю этот вопрос Ольге Борисовне.
— Особых изменений нет, — начинает обстоятельный ответ она. — Внимания им больше от общественности и государства стало, что правда, то правда. Но, скажем прямо, его все равно недостаточно: слишком много нерешенных проблем. А ребятишки такие же. Вот поездок стало больше: то в Москву на елку, то в санатории.
— А трудных детей меньше или больше?
— Трудных много, но и раньше было немало. Ведь еще вчера ребенок жил в привычном ему мире, а сегодня оказывается в этом, новом и зачастую совсем не дружелюбном, рядом с кучей чужих детей и взрослых. Привыкать тяжело. Тут нет своего уголка, даже крохотного, малюсенького, но своего. Раньше группы были, теперь семьи. Считается, что так правильнее, когда братья-сестры рядом, в одном помещении. Психологи приезжали, сказали, что так лучше укрепляются семейные узы.
— А вы что думаете по этому поводу? — интересуюсь я.
— Не вижу особой разницы. Дети всегда общались между собой, запретов на это никогда не было. Крепкие узы там, где мать с отцом заботливые, а у нас родители даже гостями бывают редко, сами понимаете почему.
— А детей стало меньше?
— Столько же.
— А почему вы пошли работать в детский дом? — я засыпаю Ольгу Борисовну вопросами.
— Выбора с работой большого не было. Пришла сюда из детского садика, там сокращения начались. Да и живу я в доме, из окон которого виден детдом. Мимо год ходила, присматривалась, а потом взяла и зашла. Судьба, видимо. Днем здесь, а вечером смотрю на них из окна. С высоты кажется, что наш детский дом заблудился среди многоэтажек. Да так оно и есть: детские дома — это неправильно. Думаю, хоть в выходные от них, от шалопаев этих, отдохну, но и тогда они в моих мыслях. Да что мы все о работе. Ты лучше о Юре расскажи.
— Хорошо, — говорю я. — Только сначала расскажите, каким вы его помните.
— Я его отлично помню, хоть и рос он не в моей группе. Уже тогда был высокий мальчишка. Вечно сосредоточенный и очень вежливый. Никогда не огрызался и часто рисовал в свободное время. В школы музыкальные да художественные у нас не водят. Музыкой занимается приходящий педагог, а рисование только школьное. Так что все самоучкой осваивал. Девчонки к нему прибегали, всё просили портрет нарисовать. Никому не отказывал. Нас, воспитателей, тоже рисовал.
— Юрка и сейчас рисует — пишет картины. Сначала все у него было в каких-то черных-белых тонах: белый парус в ночном море или поляна в сумраке.
— А работает где?
— В кузнице и в своем огненном шоу. Ольга Борисовна, а это вы сообщили свекрови о Юрке?
— Нет, не совсем я. Мы нашли ее координаты, а потом отправили телеграмму в поселок, где она жила. Юрка ведь очень хороший паренек. Боялись, что пропадет он со своей неспособностью приспосабливаться. Рисковали. А вдруг не сложилось бы с матерью? Но все сложилось хорошо.
— Да. Юрка о детдоме вспоминает только с Вовкой, да и то редко.
— А как поживает Вова? Тоже хороший парень. Он ведь вместе с Юрой уехал в столицу.
— У него все нормально, но семьей пока так и не обзавелся.
Я рассказываю о Вовке, о его многочисленных увлечениях. Ольга Борисовна улыбается. Паутинка морщинок становится менее заметной.
— Вовка шустрый был паренек. Глазастый, любопытный. Он один раз вечером тайком принес щенка и спрятал его в подсобке. Я как раз на ночное дежурство заступила. Обхожу группы. Детей принимаю. У нас прием под роспись. Вхожу в свою группу, а сзади меня скулит кто-то. Вовка, как узнал, что щенка обнаружили, сразу в слезы. Дескать, не выгоняйте его, он в группе только ночевать будет, а днем на улице жить. Щенка того мы пристроили в хорошие руки. Здоровый такой пес вымахал. А разыгрывать Вова нас всех как любил! Но шутки у него всегда безобидные были.
— Да он и сейчас такой.
Мы смеемся вместе, пересказывая друг другу старые и новые Вовкины розыгрыши.
— Приехала к нам как-то комиссия, — вспоминает Ольга Борисовна. — Вообще-то большинство детей должны были в парк увести, а здесь оставить самых тихих, дисциплинированных. Ходит та комиссия в лице двух важных тетенек и солидного дядечки по группам, мебель рассматривает, детские поделки, ребят, которых мы за книжки посадили. Смотрю, а Вовы не видно. Про себя думаю: «Не отчебучил бы чего». И тут за спиной у Солидного возглас: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» Все резко поворачиваются, а сзади стоит Вовка с кастрюлей для ветоши на голове, завернутый в простыню до подбородка. Дальше как в кино — немая сцена с мхатовской паузой. Одна из женщин спрашивает, что это, мол, за актер погорелого театра? Я как дар речи потеряла. Выручил Генка: «Как что? Это великий Шекспир! Вовка мужа Дездемоны в спектакле играет». Я дух перевела, а Вовка к Солидному подходит и говорит: «Вы нам книг побольше привозите». И молчит. Я стою и думаю: уж не собирается ли он выложить комиссии про нехватку туалетной бумаги? А он словно мысли мои прочитал и говорит: «Мы книги очень любим читать, даже больше, чем телевизор смотреть. Но интересных книг и фильмов у нас мало. А уж туалетной бумаги вечно не хватает. Едим мы ее, что ли…» — а сам мне подмигивает. Я мысленно уже выговор себе от начальства прочитала. А Вовка не унимается: «А Ольге Борисовне премию надо — она у нас терпеливая и добрая!» Никакого Шекспира мы конечно же не ставили. Видно, ребята спектакль по телевизору видели и запомнили этот знаменитый диалог мавра с женой. Но кассеты с фильмами нам прислали, и еще туалетной бумаги на несколько коробок больше в год выделять стали.
После того как мы отсмеялись, Ольга Борисовна рассказала еще одну историю.
— А как они меня с днем рождения поздравляли! Я в июле родилась. Мы как раз на море в лагере были. Встаю, а на двери воспитательской плакат поздравительный. Выхожу за дверь, а там стоят наши орлы с букетами цветов с местных клумб. Улыбаются, а потом как крикнут хором: «С днем рождения!» И на пляж зовут. Я этот подарок до конца жизни не забуду. Из песка и камней прямо на берегу сердце выложили.
Она помолчала и продолжила:
— Тем же летом история с потерянными полотенцами была. Я перед отъездом напомнила ребятам, чтобы полотенца собрали. А Вова возьми и спроси: «А что будет, если полотенец не хватит?» Я ляпнула не подумав: «Не выпустят нас отсюда». Мы в то утро половину пляжа вскопали. Одолжили у младшей группы лопатки и совочки. Вовка закопал в песок четыре полотенца и забыл, где именно, а может, не захотел вспоминать. Мы нашли только одно. Очень ребятам не хотелось с юга уезжать. Порезала я тогда на четыре части свое полотенце. Оно большое было, мне сын из Индии его привез, кусочек-четвертинка от него до сих пор остался…
Вспомнив этот оставшийся, четвертый, кусочек, Ольга Борисовна замолкает. Он — память о погибшем сыне.
Я перевожу разговор опять на Вовку. Рассказываю в деталях, как он спас дочь не то африканского вождя, не то одного из премьер-министров тамошних. Передаю привет от него и обещаю в следующий раз взять его с нами. Но следующего раза уже не было.
Это была наша последняя встреча с Ольгой Борисовной. Через год ее не стало. Вовка и Юрка корят себя за промедление, что не приехали еще раз вместе, не вспомнили прошлое, не улыбнулись и не погрустили вместе. Навещая ее могилу, мы приносим махровые астры — ее любимые цветы.
Мой друг Вовка
Я почти ничего не рассказал о своем друге. С Вовкой после детдома мы устроились в мастерскую. Поворочав железками, ушли в армию, а там попали служить в разные части. Не умеющий плавать Вовка угодил в Морфлот. А я — к погранцам. Обещали письма друг другу писать, но так и не написали ни разу. А после службы встретились, как договаривались. Потом мы уехали за лучшей жизнью в Москву. Москва встретила нас сурово. Но мы, детдомовской жизнью битые, армейской службой закаленные, не сломались.
Никто и никогда не учил меня правильному, разумному обращению с деньгами. Да и как можно учить правильно расходовать то, чего у тебя никогда не было. Нет денег. Нет расходов. Нет личного дня рождения. Когда у меня появились свои деньги, я пару лет тратил их до копейки за несколько дней. Подругам дарил огромных лохматых медведей, конфеты и розы ведрами.
Однажды нас с Вовкой сбил КамАЗ. Отделались моими двумя сломанными ребрами да поврежденной Вовкиной ногой. Мы, конечно, были сами виноваты. Вышли на полосу движения с обочины на повороте. Темно было, водитель нас и не заметил в нашей-то черной одежде. Выскочил он из машины, лицом своим побелевшим, как фонарем, светил. Мы потом в милиции подтвердили, что не виновен он.
Приезжая в гости к нам, друг Вовка всегда привозит что-нибудь экзотическое в подарок. В последний раз он привез ловца снов.
— Дядя Вова, а это что? — спрашивает у крестного моя дочка, забравшись с чудны́м обручем к нему на колени.
Вовка морщится: она задевает его больное колено — память о встрече с КамАЗом.
— Это ловец снов. Вот ты спать любишь?
— Не-а!
— И правильно. Вдруг проспишь все интересное. А вот если повесить эту штуку в твоей комнате, то сны будут у тебя сказочные.
— Правда? И принцы с принцессами приснятся?
— Обязательно. А вот в эту дыру посередине будут уходить все плохие, страшные сны. И ни один кошмар не сможет прийти к тебе.
— Вовка, ты где взял такую штуку? — интересуется моя жена.
— Ты не поверишь, но я ее получил в дар от хозяина лавки со всякими амулетами.
— Это как?
— Да на море его дочь тонула. Ну я и вытащил девчонку. Подарил мне папенька вот такую штуку. Вы мне потом расскажите, какие вам сны будут сниться.
— Ну, давайте за героя, за хранителей снов, что ли, — предлагаю я.
Любушка засыпает, перебирая перышки и ракушки на ловце снов. А мы слушаем легенду индейцев.
Ловец снов
Я слушаю легенду, и мне кажется, что она чем-то похожа на мою жизнь. Все хорошее задерживает паутина памяти, а плохое исчезает в маленькой дыре. Я научился отделять важное от неважного. Для меня важное — моя семья, и не важно то, почему тридцать пять лет назад я был оставлен в роддоме и отправлен транзитом через дом малютки в детдом. Мы с Ирой слушаем нашего мудрого археолога и думаем о снах наяву. Детдом, сиротство — может, все это приснилось? Из омута тревожных мыслей выводит Вовкин голос:
— Легенд о появлении, происхождении ловца много. Мне нравится та, что создана индейским племенем тето́н-сиу.
— Что за племя такое? — подает голос Ира.
— А было такое. Давно было. Мир тогда был молод и свеж. А белый человек еще не придумал паруса. Один индейский шаман подался в горы — на беседу к богам под облаками. И было там этому старцу видение. Явился к нему сам Большой Паук — Учитель Мудрости, Хранитель Знания, Создатель Мира и Распорядитель Времени. Великий Учитель Мудрости Иктоми говорил с нашим старцем на сокровенном языке. А потом взял ивовый обруч из рук старика. И вокруг перьев, бусин и конского волоса сплел паутину в том обруче. Старый шаман слушал о развитии жизненных циклов, о том, что приходим мы в мир беспомощными детьми, а после взрослеем, потом стареем и подходим к последнему циклу, когда за нами опять ухаживают, как в детстве. Учитель Мудрости все говорил и плел паутину. Он напомнил индейцу о силах добра и силах зла. Если слушать добрые силы и верить им, то все будет хорошо, а если пойти за злыми — попадешь в ловушку и сам пострадаешь, и на племя беду навлечешь. А потом закончил Иктиоми рассказ и отдал сплетенную в обруче паутину со словами: «Вот паутина. Она — идеальный круг с дырой в центре. Помни о ней, чтобы привести свой народ к цели, минуя опасности и беды. Черпай из этого источника. Слушай видения и сны. Если доверишься великому Духу, паутина станет ловить добрые мысли, а злые будут проходить сквозь дыру». Старый шаман спустился в долину и поведал о беседе своему народу. Говорят, что с тех пор у индейцев появились ловцы снов над ложем, чтобы отсеивать сны и видения.
Мы молча пьем чай. Ирка потихоньку барабанит пальцами по подстаканнику. Мне эти подстаканники всегда казались чем-то необычным, каким-то символом той жизни, которой никогда не было в детдоме. Может, из-за этого я, став взрослым, и начал собирать коллекцию этих подстаканников. А потом завел привычку проводить чаепитие не из чайного сервиза, а из стаканов. Жена сначала не одобряла такого увлечения, ворчала: «Все люди как люди — гостям чай в чашках чайных подают, а мы как в поезде!» Теперь сама ищет новые подстаканники по магазинам, а старые, коллекционные, — по блошиным рынкам.
— Мне иногда кажется, что ты и Юрка родились сразу взрослыми.
— Ну что ты, Ириш. И у нас детство было. Было ведь, Юр?
— Было, Вов. Было.
— Черно-белое? — встревает жена.
— Обычное.
— Жениться тебе надо, Вовчик. Когда осчастливишь нас свадьбой? — переводит разговор в другое русло Ириска.
Вовка отмахивается и отвечает, что все еще ищет свою половинку. А она, наверное, живет в другой части земного шара и ничегошеньки не знает о Вовкином существовании. Вовка шутит, что если бы у моей Ириски была сестра Карамелька — женился бы, не раздумывая ни мгновения.
Ирина уходит проверять тетради своих учеников. А мы пускаемся в воспоминания по второму кругу.
В тени гаражей
Я не стал писать о популярных тогда опасных играх с попытками получить острые ощущения. Мы вспоминали с Вовкой детдомовские годы. Табу на прошлое касалось только тех дней.
С чего начался тот день? Мы сидели на бревне. Скамейки у нас не приживались. Их либо дворовая шпана ломала, либо наша. Кучка малышей скатывала ковер. Его с утра вынесли на помывку. Старшая воспитательница каждое лето мыла все паласы. Утром ребята вытащили директорский ковер. Директорский не потому, что он из кабинета директора, а потому, что этот свой ковер директор сбыла нам взамен покупки нового. Старый, модный в семидесятых предмет советского быта получил инвентарный номер и стал детдомовской собственностью. На нем часто вповалку лежали обитатели «дэдэ», глядя на телевизионный экран.
Вечером тяжелый мокрый ковер пытались затащить обратно в здание. Длинный коверный шланг облепила малышня вместе с воспитательницей. Издалека эта группа была похожа на большую сороконожку, которую тащат муравьи.
— Помочь?
— Да уж помогите, ребята, пожалуйста. Тяжелый.
Мы заносим ковер в администрацию на первом этаже.
— Бросаем его тут. Пусть лежит до утра. Завтра все равно сушить. Вечно нашей Вере неймется: то ковры моет, то шкафы требует двигать, дескать, уютнее будет.
Среди персонала было негласное разделение на молодых и на опытных. Взгляды тех и других не всегда совпадали. Лавировать между двумя взрослыми мирами приходилось нам, детям.
В холле смотрели телевизор. Девчонки подпевали рекламе: «Ма-а-а-ма-а-а — главное слово в каждой судьбе-е-е. Ма-а-ма жи-и-изнь подари-и-ла мне-е и те-бе…» Ценили ли мы подаренную жизнь? Свою и чужую? Мы не думали об этом.
День, не торопясь, по-летнему, полз к закату. Вечер нес сложный запах бархатцев, дорожной пыли и жженых автомобильных покрышек. Из открытого окна кухни выполз аромат подгоревшей пиццы. Ни на что живое не похожий запах клея обещал временное забытьё. Опасные забавы. Они были. И были частыми в тени гаражей. Никому не нужные эксперименты с дыханием.
— Юрка, Юрка, очнись! — Меня кто-то тряс за плечи.
— Ну как? — Все ждали подробностей.
Я закрыл глаза. Полубредовое видение. Оно приходило ко мне тогда, когда моя температура делала резкий скачок к сорока градусам. Я распутывал огромный клубок ниток в каком-то сизом тумане. Нитки путались, это меня злило и лишало сил. Они обматывали меня, словно паутина громадного паука. Я помню, что нитки были яркие, какого-то бордового цвета. Опять накатило, словно я заболел. Ненавижу такое состояние беспомощности! Попытки распутать узлы из толстых ниток заканчивались одинаково — полной потерей сознания.
— Что делать? — все спрашивали друг друга, и каждый отводил глаза. — Оставить за гаражами и ждать? Или все-таки… Кто пойдет?
Послали Кольку, новенького, за нашей воспитал кой.
— Доигрались, паразиты! Неси нашатырь! Он в шкафу с краю, в нашей воспитательской.
Лариса Ивановна отдает приказ Кольке, а меня пока хлопает по щекам, пытаясь привести в чувство.
— Слава богу, очухался! Вам что, дуракам, жить надоело?! Себя не жалко, нас хоть, идиоты, пожалейте! — Тревожность уходит с лица Ларисы Ивановны.
Взгляд ее серых глаз не режет сталью. В нем беспокойство. Я понимаю, что и она такой же человек, как и все. Вся эта строгость наносная, а сними ее, как шелуху с лука, и будет тебе просто человек.
— Да чо вас-то жалеть? — заступается за меня и всех нас Колька Копытин.
Колька (Копыто) недавно переведен из приемника, куда попал за бродяжничество. Малый шебутной. Сказал, что, после того как его в приемнике постирали в ванне вместе с одеждой, у нас еще вольготно живется. Сначала Копыто пытался прессовать младших, но ему не повезло в этом начинании, потому что один из младших оказался братом старшего.
— Поогрызайся мне еще! Узнаю о подобном — все в специнтернат поедете!
— Да ладно. Я-то здесь ни при чем. Я мимо шел, — обиженно бормочет Колька.
— Мимо он шел! Он чуть на тот свет не отправился. А вы все «мимо шли»! Сейчас всем зрителям уши как следует надеру, чтоб смотрели поменьше.
Я с теми играми завязал сразу, с первой попытки. Вовка дважды искал «седьмое небо». Мы никогда не говорили с ним о том, что тогда произошло. А тут, двадцать лет спустя, друга потянуло пооткровенничать.
— Юрка, помнишь, как я в больницу попал?
— Помню.
Скандал тогда удалось замять. Всех предупредили, чтобы держали рот на замке.
— Я вот думаю: чего нам не хватало?
— Кайфа от жизни, наверное, — размышляет Вовка. — Я никому тогда не рассказал, что под кайфом увидел.
— А что увидел? В глаза костлявой заглянул или параллельный мир высмотрел?
— Да какой там! — махнул рукой Вовка. — Видел траву зеленую. Я потом часто вспоминал видение. И понял, что никакое не видение это. Так… эпизод из детства. У нас перед домом трава росла. Зеленая. Высокая. Когда меня в приют увозили, это последнее, что я запомнил. Как в песне: «И снится нам трава, трава у дома, зеленая, зеленая трава…» Это как предсмертный сон, какое-то воспоминание лучшего из того, что было. Знаешь, эта трава как Рубикон: вот он — дом, а вот он — детдом. Была семья — и нет ее. Была жизнь. А могло и не стать ее. И все из-за дурацкого выпендрежа, любопытства ненужного.
Именно после того дня с пробой понюхать клей Ольга Борисовна и пригласила меня в гости. Я потом часто размышлял, а что было бы, если бы меня вообще не стало? Тогда я не задумывался об этом. Мне казалось, что моя жизнь невесома и неразрушима, она — данность, которой не страшны галлюцинации с их параллельными мирами и светом в конце тоннеля. Параллельный мир… Может, он и есть где-то. Только то, что кажется им, вовсе не он сам. Это просто иллюзии, за которыми будет пустота. Кто знал бы обо мне, если бы я не очнулся от того сомнительного кайфа? Никто. Если бы это было так, то я не написал бы все это, не познакомился бы с Ириной, не было бы Любашки и мы с Вовкой не пили бы сейчас коньяк. Ничего не было бы. Секунды эйфории в состоянии зомби за вечность. Лучше быть ловцом своего счастья в реальности, чем ловить несуществующее.
Вовка любил возвращаться к своим родным пенатам. Он частенько убегал из детдома навещать тетку, если ему казалось, что она про него забыла. Где-то в глубине души он верил, что наступит такой день, когда тетя Ира придет и заберет его навсегда. Он делился этой мечтой со мной, рассказывая, как они с двоюродными братьями сделают плот и отправятся по реке на островок, где стоит избушка рыбаков. Но годы шли, а тетка так и не забрала Вовку, наверное, боялась, что племянник станет обузой. А может, думалось ей, что баламут Вовка плохо повлияет на ее детей. Один двоюродный брат Вовки спился и умер. Второй женился и уехал далеко, редко вспоминая мать. А Вовка не обижается на тетку, часто навещает и помогает ей.
Вовкина мать умерла шестнадцать лет назад, летом. Она была астматиком. Никто не знает, почему она не воспользовалась баллончиком. Не успела или не захотела? В воспоминаниях Вовы мама была сродни фее: красивая, добрая, умная. Она воспитывала сына одна. Об отце Вовка не сказал ни одного слова. Мать так и не рассказала ему, где живет его отец. Вова помнил цвета и фасоны всех маминых платьев. У тетки хранился семейный альбом маленькой Вовиной семьи. На всех детских додетдомовских фотографиях Вовка улыбается во весь рот. На наших общих фотографиях Владимир Михайлюк выглядел сосредоточенным, словно пытался вспомнить что-то очень важное и не мог.
— Нам надо прожить полжизни, чтобы понять, что кайф — это сама жизнь. Юр, а давай в детдоме ребятне скалодром сделаем?
Я вижу, как Вовка загорается новой идеей и лихорадочно ищет листок бумаги, чтобы набросать там подробный план тренажера.
— Давай.
Мысли кипят в этом генераторе идей. Как и что делать, понятно. Непонятно, где денег взять.
Вовкино
Вовку привезли к нам десятилетним мальчонкой. Щупленький, не по возрасту длинный пацаненок с густой растрепанной шевелюрой. Взгляд черных глаз никогда не задерживался ни на чем дольше двух секунд. Вовка носил очки, за что и получил прозвище Базилио, Базиль. Было у Вовки странное увлечение. Он всегда что-то коллекционировал. Всякие бесполезные, с моей точки зрения, вещицы. Это были найденные осколки битой глиняной (желательно, но не обязательно — фаянс тоже подойдет) посуды, необычные по форме камни, сучья и перья. С этой его манией тащить в группу все что ни попадя воспитатели сначала активно боролись. А потом разрешили хранить все «сокровища» в коробке в подсобке, запретив складывать что-либо из находок в тумбочку.
Поначалу Вовка складывал в ящики тумбочки еду: хлеб из столовой, булки, прямоугольники хлеба, принесенные из школы. За этот свинарник Вовке один раз досталось. Новая воспитательница потребовала все съесть или выбросить эти запасы из тумбочки. Вот тогда-то и выяснилось, зачем Вовка сушил сухари. Оказалось, он собирался в великий поход. С этим НЗ[4]Вовка хотел бежать. Маршрут он точно не знал. Была только цель — Китай. Этот Китай казался ему и чем-то загадочным, и чем-то очень важным, где сбудутся мечты.
В Китай он собирался с Владиком, домашним мальчишкой из его класса. Владик рос в семье с отчимом и младшей сводной сестрой, вечно плачущей. Отчим был слишком требовательным. Иногда требовательность отражалась на Владе синяками. Владислав неловко задрал школьную рубашку и показал Вовке многочисленные свежие отметины воспитания.
— За что он тебя так?
— За то, что поздно пришел домой. С сестрой не погулял, картошку на ужин не почистил. Полы не помыл.
Вовка подумал, что вина за эти отметины взрослой жестокости лежит и на нем. Ведь это он уговорил вчера Влада побродить немного по городу.
Окошки
Мы любили смотреть в вечерние светящиеся окна многоэтажек и гадать, кто там живет. Мне нравились окошки лимонно-желтого цвета, а Владу — с оттенками синего.
— Смотри, видишь, голубые тени двигаются на стене — значит, телик смотрят, — мечтательно говорил Влад (дома пасынку смотреть телевизор не разрешалось).
Иногда окошки были малинового или зеленоватого цвета, это зависело от цвета люстры. У нас в детском доме цветных люстр не было. Были длинные плафоны на лампах дневного цвета. Лет до одиннадцати я никогда не был в настоящей квартире. А был ли в ней когда-нибудь Колька? Такой же отказник, как и я? Наверное, нет. Первую квартиру, где живут свободные люди, а не детдомовцы, я увидел случайно. Краешком глаза.
Наша директор Таисия Ивановна уехала как-то в командировку. Повара готовили ее домашним еду в специальных, ее собственных, кастрюльках.
Я шел в столовую за питьевой водой с облезлым эмалированным чайником с обязательными красными буквами на боку.
— Юра! — позвала меня наша повариха Валентина Леонидовна. — Отнесешь Таисии Ивановне сумку?
— Отнесу.
Директриса жила минутах в десяти от детского дома. Сумка грела мой бок, как грелка. В кастрюлях было что-то горячее. Вкусно пахло котлетами. Дверь открыла старшая дочка директора — Кира. На меня пахну́ло приятным сладким запахом. Наверное, это были хорошие французские духи. Прихожая была отделана деревом по моде тех лет. Кира вышла в каком-то желтом пестром костюме с вышитыми птицами на кофте, таких птиц я видел на картинках в книге со сказками.
— А, обед! Спасибо! Я-то уж думала, что мы на яичнице весь день. Отец, кроме омлетов и яичниц, ничего не умеет готовить.
Отец Киры — муж Таисии Ивановны — был административной шишкой. После своего повышения он устроил жену директором детского дома: тогда как раз открыли новое воспитательное учреждение для сирот. Воспитатели в своих разговорах жаловались, что учиться за Таю всем надоело. Таисия Ивановна получала высшее педагогическое. Ее родной коллектив помогал, как мог: писал рефераты, курсовики, дипломную.
Не помню, в каком классе нам задали писать сочинение на тему: «Что такое счастье». Мне кажется, ответить на этот вопрос серьезно может лишь склонный к философии человек, проживший жизнь, и уж совсем не школьник. Я не помню всего, о чем писал я, о чем писали другие. Когда я был маленький, по вечерам мне казалось, что счастье живет в окошках людских скворечников, обступивших детский дом со всех сторон.
Я ошибался… Не во всех семьях живет счастье. Я не знаю, какие представления о счастье были у нового отца моего школьного друга. Отчим не просто стремился выбить дурь из головы пасынка, он при этом обещал сделать из него, как сам говорил, счастливого человека. Достичь этого он собирался почему-то муштрой и побоями. Я думаю, этот новый отец просто не верил, что Влад может стать счастливым без его казарменных замашек. А спокойствие и отзывчивость, принимаемые отчимом за слабоволие, придавали такому счастью изрядную искаженность. Как отражение в комнате кривых зеркал. Поразмыслив об этом и уяснив, что домашним ребятам тоже бывает несладко, мы с Вовкой мысленно стерли знак равенства между словами «семья» и «счастье». Спустя годы мы поняли, что в этом уравнении есть еще слагаемые «любовь» и «понимание».
Еще немного Вовкиного, из взрослого…
Я решил помочь Юрке с воспоминаниями. Память со временем стирает лишнее. То, что не хочется вспоминать. Мне не хочется вспоминать тот день, когда я остался один. Наверное, меня могла бы взять к себе моя тетя. Все-таки единственная близкая родственница. Но этого не произошло. Из всех детдомовцев я общаюсь только с Юркой. У нас не бывает встреч выпускников «дэдэ». Да и с Юркой мы редко вспоминаем те годы. А недавно я встретил Кольку Копытина, соседа по детдомовской комнате. Случайно встретил. Прошел бы мимо бездомного, если бы не услышал знакомое: «Базиль!» Сто лет не слышал свое погоняло. Как выстрел прогремело. На мгновение почудилось, что я мальчишка и за спиной воспитатель, который подозревает, что я опять удеру к родным пенатам.
Эх, годы!.. Я тогда еще любил на кладбище сбегать. К матери. Я вообще люблю кладбища. Тихо там. А могилки, оградки, памятники — столько историй. Ходишь, читаешь, думаешь… Вот тут ухоженная оградка, лавочка, цветочки. А там холмик под землю уходит, и бросают уже на него мусор. Через пару лет выкопают на месте холмика новую могилку.
Я оборачиваюсь, вглядываюсь в заросшее рыжей щетинистой бородой лицо. Улыбка с нехваткой передних зубов. А волосы… Волосы утратили огненный блеск. Колька Копыто — сколько лет, сколько зим! Узнал ведь меня. Хотя Юрка тоже говорит, что я не сильно изменился — все тот же Базиль, только ростом повыше. Разговорились мы, ударились в воспоминания. Сидя на ободранной лавке за вокзалом в сквере из десятка чахлых берез, рядом с урной, утонувшей в кучах мусора, Колька поведал мне свою историю.
Копыто взяла под опеку семья фермеров из соседней области. Никто тогда Кольке не позавидовал. Не к богатым американцам едет. С Колькой еще отправили двух девчонок. По правде говоря, Кольку просто сбагрили. Не то чтобы он совсем буйный был, но проблем всем прибавлял все-таки изрядно. А тут удачно подвернулись фермеры. Семья приличная, трое своих детей. Наши оценивали попечителей-усыновителей по достатку, машине, дому. Так вот Колькины особо не катили в прейскуранте зависти. А еще наши воспиталки возмущались, что приемная мать попросила собрать детям зимние вещи: мол, на первое время. Не то чтобы очень нужны были детскому дому эти казенные вещи, но сказали тогда: «Платят за опеку им хорошо, могли бы купить детям обновки». Они попросили куртку зимнюю, спортивный костюм, что-то еще. Ну откуда у Кольки Копыта спортивный костюм? Вот тогда бы задуматься о судьбе Кольки, но кому это было нужно? Ну да ладно. Сначала усыновителям звонили, интересовались житьем-бытьем, а потом перестали. Видимо, решили, что все нормально: прижились там дети. А вот теперь Копыто бомжует.
Может, прав Юрка, сказавший, что хорошо, что его не усыновили? Хотя Юрке дико повезло, на мой взгляд. Всегда был ничейным, а тут семья на голову свалилась. И не какая-нибудь там пропащая, пьющая мать, а нормальная. Даже не верится, что такая женщина могла устыдиться ребенка и отдать его. Но Юрка мать не судит, он вообще взял и забыл свои годы детдомовские. И правильно. Я бы на его месте тоже так сделал.
Колька больше всего мне тогда рассказывал, как он в приемной семье работал. Чистил коровник, ухаживал за свиньями. Нет, фермерские дети тоже ухаживали. Трудились все, но что-то там пошло не так. А что — Колька не сказал. А у нас его тунеядцем считали. Я спросил у Кольки: а чего он хотел от приемной семьи? Колька замолчал, а потом сказал, что просто мечтал уехать из «дэдэ». Теперь понимает, что лучше бы он остался. Кто знает, как оно лучше было бы. Я дал Копытину визитку с номером телефона, он со странной усмешкой обещал позвонить мне, я уже спешил на поезд. Только потом дошел до меня смысл его усмешки: у него телефона не было.
Я пошел на перрон, думая, сколько таких Копытиных бродит по земле. Колька, естественно, так и не позвонил. Я все хотел съездить в тот город, где мы встретились, узнать, как он — жив ли еще. Да все некогда было. Через год совесть все-таки загрызла окончательно. Приехал, пробовал через справочную узнать. Тишина. Тогда я решил спросить у вокзальных, может, запомнил кто-нибудь худого рыжего бездомного. Один старик вспомнил. Старик, конечно, и не старик — так, лет пятидесяти человек, не больше. Просто бездомные стареют быстрее. Колька замерз на улице в тот же год, когда мы с ним разговаривали. Я купил беленькой, и мы помянули Копыто. Ушел человек, и ни одна душа не вспомнит о нем. А я даже не спросил, что стало с Юлькой и Галькой, их увезли вместе с Коляном. Где они?
Юрка упоминал счастливчиков. Да, такие были. У них неожиданно находились родственники или просто нормальные усыновители. Любимчики судьбы. А если так подумать — мы с Юркой тоже ведь везунчики.
Две головы — озорная детдомовская и отчаявшаяся домашняя — разработали план побега. В плане было только начало пути, все остальное планировалось сверять по карте. Что мог взять Вовка с собой в дорогу? Да почти ничего. Стащил у Афони свечку, зачем-то немного гвоздей, сухарей попробовал насушить. Еще позаимствовали у географички карту и взяли в библиотеке русско-китайский разговорник. Страсть к новым местам и коллекционированию не пропала даром. Встав на ноги, Вовка подался в археологи в тридцать лет.
На третий день пребывания в детдоме наш местный Базилио подрался не на жизнь, а на смерть с Эдиком. Убегая, он прокричал: «Ненавижу вас всех! Проклятые! Не вернусь сюда!» Вовка бежал на трамвайную остановку, хлюпая разбитым носом. Красная юшка испачкала белую футболку. Ноги были босы. Осенний холод только придавал силы. Влез на заднюю площадку отправляющегося трамвая. Вздохнул с облегчением: оторвался от погони. Хотя погони-то и не было. Бежать… Куда? Домой? Дом сдан квартирантам, тетка присматривает за ним. К ней? Не выгонит, но ведь отведет потом обратно.
Редкие пассажиры искоса поглядывали на босоного мальчишку, одетого в белую футболку с алыми пятнами, похожими на упавшие в снег ягоды рябины. Спортивные штаны пузырились на коленках. Вовка перестал всхлипывать. Какая-то сердобольная старушка протянула ему носовой платок и два яблока. Однако никто не подошел и не спросил, куда он едет один в столь поздний час. К тетке, жившей на противоположном конце города, Вовка явился почти с рассветом, озябший, с синюшными конечностями, с комочками серых репьев в волосах и букетом из пластмассовых кладбищенских цветов. Букет с блеклыми ненастоящими цветами Вовка взял с могилки матери. С конечной остановки трамвая Базиль пошел на кладбище. Он долго плакал, рассказывая матери про новое житье-бытье. Иногда плач переходил в крик: «Зачем ты меня оставила? Забирала бы с собой! Как мне жить там?» Потом Вовка залез на стол, поставленный у чьей-то могилки. Ночи в сентябре холодные. Вовке было нестерпимо холодно, обидно и одиноко. Вот если бы нашелся Трезор.
После маминой смерти пес два дня выл. Соседей это жутко раздражало: «Ишь ты! Покойника нового кличет!» Новый покойник не замедлил появиться через пару-тройку дней. Полуслепой старик сосед спьяну попал под колеса автомобиля. Вот тогда-то Трезор и пропал. Откуда же знать было Вовке, что Трезор был убит за свои «предсказания». За тот вой, что стоял по ночам. Может, пес так оплакивал хозяйку, или жаловался луне, что Вовка остался одинешенек, или просто чуял свою скорую смерть.
Вовка полежал еще немного и побрел к тетке. Тетка жила на соседней с ними улице. Улицы на окраине были все изогнутые, а теткина, прозванная Кишкой, была похожа на аппендикс — короткая, воткнутая в другую, названную официально Длинной. В этом районе, прозванном Лысой горой, он знал каждый закоулок, каждого дворового пса, каждую яблоньку у соседей. Вовка мог с завязанными глазами провести по узкой петляющей тропинке к старому Барскому пруду. Любовь Вовки к частному сектору сохранилась и по сей день. Не может он долго сидеть в квартире. По его словам, в квартире он чувствует себя пчелой на сотах и в нем просыпается желание лететь вон из улья.
Вова остановился перед своим домом. Его построил еще Вовкин дед. Крепенький домик из дубовых шпал с резными наличниками. Дед был почетным железнодорожником. Окна в родном доме темнели квадратами. В темноте не видно было резных наличников. На улице на веревках сушилось, покачиваясь на ветру, чужое белье. Детские вещи. На Вовку накатило отчаяние, злость. Он в детдоме! Мать на кладбище! А здесь кто-то сушит свое белье! Вовка срывал все, что попадалось под руку: какие-то пеленки, ползунки, штаны и кофты. Чужие люди вселились в дом, в их с мамой дом! На этой веревке когда-то висели мамины платья и ее форма проводника. Острая недетская обида душила Вовку. Сорвав чужие вещи, он почувствовал облегчение, словно эта одежда на веревке несла ответственность за случившееся.
Посидев во дворе, Вовка направился к тетке. В теткином доме малиновым светом светилась пара окошек. Старенький угловой торшер в колпаке с бахромой, как маяк, сигналил Вовке: его уже ждут. Он стоял на деревянных, полусгнивших от дождей ступеньках крыльца и думал: зайти или нет. Тетка всплеснула руками: «Батюшки! Да ты синий совсем! Что ты там натворил? Мне звонили…» — и осеклась, увидев кровь на футболке.
Вовка простыл и слег на две недели, оставшись лечиться у родных. Утром тетя позвонила в детский дом, пообещав привезти племянника, как только он выздоровеет.
Зачем он принес в дом цветы, Базилио точно не знал. Они как-то оказались сами собой в его руках. А на вопрос тети: «Где ты их взял?» — ответил: «Мама дала». Тетка, как и все жители пригорода, была немного суеверной. Принести что-либо в дом с кладбища считалось плохой приметой. Но расставаться с цветами Вовка не позволил. Когда пытались разжать руку, Вовка кричал: «Не смейте, мне их мама дала!» Через три дня Базиль пошел на уступки, и букет привязали к дереву над речкой, что была за огородами.
Мы с Вовой подружились на почве любви к футболу. Из него вышел классный вратарь. Жаль, что тренеры из какой-нибудь футбольной школы не заглянули к нам и Вовкин уровень так и остался любительским. Впрочем, это было ожидаемо: кто станет искать среди детдомовцев будущего второго Яшина? В государственной системе воспитания сирот нет места талантам.
Звери, цветы и прочее…
Однажды… Как много радостных событий начинается с этого слова. Например, однажды я родился. Или однажды я выиграл в лотерею. В жизни много можно найти событий, случившихся только однажды или единожды. Итак, однажды к нам приехала комиссия. Комиссия вошла в ту самую дверь, обитую дощечками, нашу детдомовскую дверь. Комиссию ждали. Новые клеенчатые скатерки в столовке, гостевой обед № 1, то есть самый вкусный, тот, который, по словам директора, подается каждый день. А на деле — единожды, по случаю. Комиссия вошла к нам в лице четырех человек. У одного из них была борода, и он был главным, у второй на плечах была красиво повязана фисташковая шаль, третий блестел очками и имел немного нелепый вид, четвертый ничем особо не отличался, ну разве тем, что был кругловат, улыбчив и внешне походил на известного советского актера Евгения Леонова. Борода в этой четверке был психологом. Они привезли тесты, еще тесты и немного книг.
Зверь Кашля
Кашля попросили нарисовать какого-нибудь несуществующего зверя. К Кашлю обратились чрезвычайно вежливо:
— Садитесь, молодой человек. Простите, как вас величать?
— Кашлем.
— Не понял вас?
— Кашель. Кашелёв Максим Викторович, если вам так будет угодно. — У Макса была не превзойденная никем способность — попадать в тональность тому, с кем он говорил. Из-за этого часто казалось, что разговариваешь сам с собой.
Максим тряхнул своей белой гривой, доходившей до лопаток. С его хвостом сначала боролись, а потом махнули рукой. Пробовали Макса по-местному окрестить Гривой, но как-то не прижилось. Так и остался Кашлем. Кроме длинных, почти белых волос у блондина Макса была еще одна заметная особенность — небольшой горб.
Заведующая, наш психолог и воспитатель робко предложили заменить задание. Всем было известно, что Кашель мог нарисовать только три вещи: могильный крест, человека-схему и Колобка.
— Нет-нет! Пусть юноша нарисует то, что я попросил, — утверждающе указал рукой на лист Борода.
Макс погрузился в творчество, а персонал — в тревожное раздумье: тест обещал раскрыть глубины подсознания. А что водилось в этих глубинах у Кашля, одному Богу известно. Максим вспомнил, как в детстве в какой-то книге со сказками видел птицу с человеческим лицом. Через пару минут протянул бумажный лист Бороде. В центре листа красовалась диковинная птица — кашелевский Сирин. У птицы была круглая, как у совы, голова. Такие же круглые глаза. Нос, чем-то похожий на клюв какаду, но главным было не это. Человекоподобная птица, как и полагается в мифологическом представлении, демонстрировала большую грудь, которую Кашель благоразумно прикрыл чем-то напоминающим лопухи.
— А кто это?
— Как — кто? Несуществующее животное. Это птица Сирин, — в тон Бороде ответил Кашель.
— А как ее зовут? — тоном внимательного врача задал вопрос пациенту Борода.
Максим взял долгую паузу, было видно, что подбором имени он не озадачивался.
— Хренотут.
— А почему у нее такое имя? — Профессору (человек с такой бородой просто не мог не быть профессором), похоже, не терпелось узнать, чему обязана пернатая с якобы человечьим лицом такому имени.
— А нипочему. Хренотут, и всё тут.
— Интересно было бы узнать, где может жить такая птица? — Бородач втягивал Макса в диалог.
— В книге. Птица жила в книге моего отца.
Юмор Кашля никто не оценил. И никому не пришло в голову, что нарисованное им несуществующее животное возникло из прошлого, где была детская книжка со сказками. Были сказки. Была мама. Нет сказок. Нет мамы. Потому и Хренотут.
Мне эта детская история вспомнилась в связи с рассказом Вовки о его устройстве на работу. Вовка сменил много рабочих мест. Как-то он пришел устраиваться менеджером в магазин. Молоденькая сотрудница отдела кадров протянула ему листок и попросила нарисовать несуществующее животное. Вовкин зверь не понравился девушке, и Вовке в работе отказали. После этого случая он купил книгу с тестами и их расшифровками. Внимательно прочитал и даже написал в своем блоге пост «Обмани психолога». А инструкцию по рисованию необычных и диковинных зверей назвал в память о Кашле «Хренотут».
Актриса
Я ничего не написал о встрече с актрисой с именем моей первой любви. Я тогда устроился на работу в бригаду. Мы ставили кованые заборы у загородных домов. Дом Актрисы стоял под сенью сосен в дачном поселке. Давно заметил, что люди любят сосны и березы. Перед домом стриженые газоны и овальный стол под тентом. Никакой выпендрежностью дом не страдал. Обладал он какой-то простотой, как и сама его владелица. Хозяйка дома любила выйти и поговорить с нами. После работы я решил сделать набросок ее портрета, когда она сидела на террасе в кресле. Все это чем-то напомнило мне витражный домик и его хозяйку. Я стал набрасывать по памяти тот домик, только вместо Ольги Борисовны рисовал ее.
— Что рисуешь?
Она подошла неожиданно.
— Вас.
— А ну, покажи!
Несколько минут Актриса внимательно рассматривала рисунок.
— Да ты талант! Учился где?
— Нигде. Детдомовский я.
— Вот как. — Интереса в голосе было больше, чем удивления.
Она задала несколько вопросов о технике рисования. О цвете. Тогда я предпочитал два цвета — черный и белый. Потом она спросила, кто учил меня рисовать. Завязался разговор, и я понял, что мне хочется рассказать ей о Любе, о детской мечте, о том, о чем я вообще никому никогда не рассказывал. Неожиданно для себя я выложил все про свою тайную страсть. Имя ей — мотоциклы. Они дают ощущение свободы. Дорога, ветер, одиночество…
Мне было лет десять, когда я встретил свою мечту. Точнее, услышал. Тишину провинциальных дворов нарушили звуки. Звуки свободы. Через арку выезжал блестящий мотоцикл. На нем сидел, как мне тогда показалось, дед. Руки в кожаных перчатках. Мы высыпали за забор. Дед уехал вдаль. Вот так я понял, что люблю мотоциклы. Много позже я узнал, что дед не дед, а просто сильно бородатый, как и положено, байкер, что мотоцикл — «харлей». Еще я понял, что эта моя любовь так и останется одной из главных моих страстей.
Она слушала, куталась в плед, кивала. Улыбалась какой-то особенной, доброй улыбкой, соглашалась со мной движением глаз, иногда перебирала пальцами, словно подбирала музыку в такт к неведомым словам, а потом попросила принести чай всем рабочим и большой поднос со сладостями.
— Налетай, ребята! Конфетки-бараночки держу для домочадцев, сама я их не люблю.
Повернувшись ко мне, она произнесла:
— Я тебе письмо дам к кое-кому. Это будет твоей рекомендацией. И нравится мне идея с витражными окошками на мансарде. Ковер Аладдина, говоришь… Это неплохо. Будет своя сказка в доме…
Витражи она поставить не успела. Моей Актрисы не стало. Я обязан ей многим. Та рекомендация подарила моей мечте оболочку. В памяти остались ее слова:
— Умейте прощать, ребята. И то, что было, и то, чего не было. Жизнь так коротка, что не заметишь, как она пробежала четвертью, половиной и осталась маленьким кусочком, как луна на исходе. Обиды и пустая трата времени сотрут и этот последний кусочек. Не пускайте плохие мысли в себя. Просто живите и радуйтесь.
Я не успел закончить портрет. Точнее, я его дописал потом, когда ее не стало. Любашка как-то спросила: «Эта тетя — наша родственница?» «Почти. Мы в этом мире все родственники», — ответил я.
С портрета смотрит на меня красивая женщина. Ее глаза, искристые, с задоринкой, напоминают мне о светлом из моего прошлого. Любушка из моей юности очень похожа на эту актрису, яркую, как радуга.
Я размышляю о родстве. Вот взять меня хотя бы. Взял и выпал из гнезда. Меня отправили в другое гнездо, где таких, как я, много. Мы самостоятельно учились летать. Кто-то сразу сломал крылья, а кто-то так и остался на всю жизнь подранком, пытающимся то бежать, то лететь. Мне повезло, потому что на меня обратила внимание большая мудрая птица, она нашла мою мать, почему-то забывшую про одного из своих птенцов. После того случая с поиском другого мира она показала мне, что есть другой лес с другими гнездами. Я вырос и перелетел в этот лес, вычеркнув многое из памяти. В том лесу и нашлась моя родная мать.
А Вовка? Он всегда был и будет моим родственником, хотя мы с ним из разных гнезд. Наверное, он был из гнезда беспокойной синицы. Ему хорошо было в том гнезде, но однажды мать-синицу забрал коршун. И Вовка попал в наше большущее казенное гнездо, чем-то напоминающее поселение ласточек-береговушек. Аисты нас не забирали. И мы ждали время для полета и поисков своего гнезда.
Порой родственников нам заменяют чужие люди. Хорошо, если на взлете подранки встретят птиц из своей стаи, тех, которые не заклюют и не сбросят тебя вниз. Хорошо, если вдруг ты будешь падать, а внизу солома, которую подстелили взрослые умные птицы.
Я живу обычной жизнью. Хочется написать «жизнью домашней». Я долго жил в мире, где было деление на ничьих и домашних детей. Обживать гнездо мне сложно. Я вырос там, где не было домашнего уюта, так что уютом теперь занимается жена. Давно уже полюбил пить вкусный кофе по утрам. Полюбил готовить, подолгу кататься на лыжах в лесу, а летом ставить двухместную палатку на берегу реки. Комаров кормлю я там один, жена так и осталась равнодушна к рыбалке. Мой единственный друг Вовка тоже редко ходит со мной на карася. Вовку сложно выловить из моря многочисленных дел. Он человек-тайфун. Сегодня он здесь, а завтра — там: то спасает дочь вождя, то восторгается находками древних поселений.
Что сказать напоследок? Может, то, что фильмы с Челентано я обожаю? На экране моя Актриса всегда жива, мне нравится перечитывать ее биографию. Пробовал есть черную икру столовой ложкой — не впечатлило. В нашей семье подрастает маленький лунный житель — четырехлетняя Любашка. У нее такая же страсть преображать, как у меня.
— Папа, смотри! Я раскрасила у этой лошадки свободные полосочки. Она больше не грустит.
Любашкина зебра выглядит пестро, наперекор природе. Родные черные полоски разбавлены синим, зеленым, красным цветом. Безумная пестрая зебра бежит по жизни, стуча фиолетовыми копытами.
Психологи советуют проводить разделение по вертикали: тут хорошо — там плохо. Но мне такое черно-белое разделение событий кажется чересчур скудным. Детдомовская зебра — она совсем другая.
Вместо эпилога
В этом месте полагается краткое описание событий Юркиной взрослой счастливой жизни. Что-то вроде этого: влюбился, женился, воспитывает дочь, ходит на любимую работу, живет творчеством.
Работу Юрка выбирал долго. Кем он только не был, пока не остановился на кузнечном деле. Создает эскизы и сам по ним кует ворота, заборы, фонари, лавочки. Но это в будни. А еще реставрирует мотоциклы. Когда я вижу, как он возрождает к жизни старые «харлеи» и «Явы», он кажется мне похожим на исследователя, воскрешающего динозавра. Юркины динозавры оживают, рычат и жрут бензин. Хеппи-энд по-русски. Просто ему повезло. Просто встретились неравнодушные люди.
Юрка поставил точку в своих воспоминаниях о детдомовских годах. Если уж и вспоминает эти годы, то только с Вовкой и никогда нигде никому не рассказывает, как прошли эти шестнадцать лет без семьи. Он вообще скуп на воспоминания. А предысторию он не знает и не хочет знать. Вообще-то предыстория должна быть в самом начале. Но Юрка помнит себя лет с шести. Эту часть он разрешил написать мне.
Юрка родился в мае. Птицы сидели в гнездах, трава спешила расти после затяжной зимы и короткой весны, деревья все же успели прикрыться ярко-зелеными листочками, маленькими, молоденькими.
Первый Юркин крик никого не обрадовал. Никто не улыбнулся маленькому человечку. Он лежал в своем коконе на столе и не знал, что его судьбу давно уже решили.
— В мае родиться — всю жизнь маяться. Это про тебя, мальчик.
Трехдневный младенец ничего не понял из слов медсестры. В рот ему сунули резиновую соску. Он снова ничего не понял. Вчера был другой вкус.
— Ешь давай! Ишь, мыслитель. Смотрит, словно все понимает.
Медсестра подложила под бутылку треугольник пеленки и подошла к окну.
Окна выходили на парадное крыльцо. Во дворе роддома толпились люди. Взволнованные папаши, деловито снующие бабушки, молча наблюдающие суету дедушки, щебечущие подружки. Воздушные шарики, букеты. А потом в семейных альбомах появятся фотографии с красивыми сверточками на руках у гордых отцов. Настроение испортилось, как только взгляд вернулся к мальчишке. В день, когда подписывались отказы, портилось настроение у всего персонала. У Гали в эти дни резко обострялась аллергия на хлорку. Казалось, хлоркой пропахло все, даже этот ребенок.
— Имя тебе нужно. Человек без имени что шкаф. Будешь Юркой. Юрий — красивое имя. Как раз для весны. Может, хоть оно принесет тебе счастье.
Медсестра верила, что имя человеку дается не просто так, оно определяет его судьбу. Ей почему-то вспомнился первый русский космонавт с обаятельной улыбкой.
А ребенку нужно имя. Мать никак не назвала мальчонку. Родила тайно, вдали от дома. Долго плакала в кабинете заведующей, пока та уговаривала ее передумать. Заведующая была мудрой теткой, людей видела насквозь. И что-то в облике Юркиной матери подсказывало ей, что у этого мальчика есть надежда на семью, поэтому она тянула время и надеялась, что мать изменит свое решение. Вглядываясь в лицо матери, заведующая пыталась угадать, кто эта молодая женщина, есть ли у нее семья и где она работает. Роды вторые. Выглядит ухоженно, прическа выдает руки парикмахера. Руки… Руки матери нерабочие. Тяжелым и грязным трудом не разбиты. Совсем не красавица, но и не дурнушка. Твердит одно и то же: «Тяжелое материальное положение. Я в разводе, обеспечить не могу». Об отце ребенка не говорит ни слова. Мать ушла, подписав отказ.
Вот так началась жизнь будущего художника. С белых больничных стен, с листочка со словами отказа. Это белое долго не будет отпускать Юрку. Поэтому и появятся картины в черно-белой гамме. Как зебра. Он мог бы сразу стать сыном, но стал воспитанником. Мог бы остаться воспитанником навсегда, но тут Юркина зебра сделала ход конем и исправила ошибку шестнадцатилетней давности.
Об авторе и художнике этой книги
Светлана Ивановна Лабузнова родилась в 1976 г. в Курской области. Окончила филологический факультет Курскою государственного педагогического университета. Вся трудовая деятельность Светланы Лабузновой связана с детьми: она работала педагогом в детском доме, педагогом-организатором в детской библиотеке, воспитателем в детском саду.
В 2014 г. за повесть «Билет до Луны» писательница была удостоена звания лауреата Международного конкурса имени Сергея Михалкаова на лучшее произведение для подростков.
Повесть Светланы Лабузновой ценна и особенно интересна тем, что в ней подняты актуальные социальные, педагогические и другие проблемы, связанные с жизнью детдомовцев и их усыновлением.
Николай Аркадьевич Клименко родился в 1973 году в городе Горьком. Живописец, автор станковых картин, иллюстратор книг. Окончил Нижегородское художественное училище, затем — Московский государственный гуманитарный университет имени М. А. Шолохова.
Экспонент многих художественных выставок; его работы находятся в частных собраниях в России, странах Европы, Японии, США и Австралии.
Иллюстрации, выполненные им в набросочной манере, помогают читателю полнее ощутить тональность произведения.
Примечания
1
ПМЖ — постоянное место жительства.
(обратно)2
Отрывок из поэмы Н. А. Некрасова «Крестьянские дети».
(обратно)3
Отправлять в пятый угол — здесь: бить (из боксерского сленга).
(обратно)4
H3 — неприкосновенный запас.
(обратно)


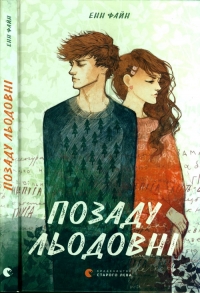
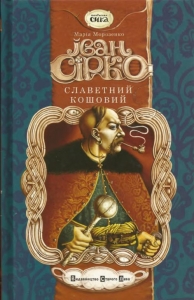




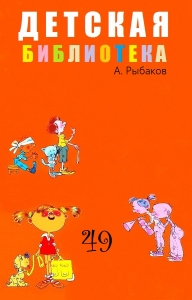



Комментарии к книге «Билет до Луны», Светлана Ивановна Лабузнова
Всего 0 комментариев