Татьяна Кудрявцева Сотворение мира
© Кудрявцева Т. А., 2017
© Рыбаков А., оформление серии, 2011
© Крашенинникова С. А., иллюстрации, 2017
© Макет. АО «Издательство «Детская литература», 2017
О конкурсе
Первый Конкурс Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков был объявлен в ноябре 2007 года по инициативе Российского Фонда Культуры и Совета по детской книге России. Тогда Конкурс задумывался как разовый проект, как подарок, приуроченный к 95-летию Сергея Михалкова и 40-летию возглавляемой им Российской национальной секции в Международном совете по детской книге. В качестве девиза была выбрана фраза классика: «Просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». Сам Михалков стал почетным председателем жюри Конкурса, а возглавила работу жюри известная детская писательница Ирина Токмакова.
В августе 2009 года С. В. Михалков ушел из жизни. В память о нем было решено проводить конкурсы регулярно, каждые два года, что происходит до настоящего времени. Второй Конкурс был объявлен в октябре 2009 года. Тогда же был выбран и постоянный девиз. Им стало выражение Сергея Михалкова: «Сегодня – дети, завтра – народ». В 2011 году прошел третий Конкурс, на котором рассматривалось более 600 рукописей: повестей, рассказов, стихотворных произведений. В 2013 году в четвертом Конкурсе участвовало более 300 авторов. В 2016 году были объявлены победители пятого Конкурса.
Отправить свою рукопись на Конкурс может любой совершеннолетний автор, пишущий для подростков на русском языке. Судят присланные произведения два состава жюри: взрослое и детское, состоящее из 12 подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Лауреатами становятся 13 авторов лучших работ. Три лауреата Конкурса получают денежную премию.
Эти рукописи можно смело назвать показателем современного литературного процесса в его «подростковом секторе». Их отличает актуальность и острота тем (отношения в семье, поиск своего места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и равнодушие взрослых и детей и многие другие), жизнеутверждающие развязки, поддержание традиционных культурных и семейных ценностей. Центральной проблемой многих произведений является нравственный облик современного подростка.
В 2014 году издательство «Детская литература» начало выпуск серии книг «Лауреаты Международного конкурса имени Сергея Михалкова». В ней публикуются произведения, вошедшие в шорт-листы конкурсов. Эти книги помогут читателям-подросткам открыть для себя новых современных талантливых авторов.
Книги серии нашли живой читательский отклик. Ими интересуются как подростки, так и родители, библиотекари. В 2015 году издательство «Детская литература» стало победителем ежегодного конкурса ассоциации книгоиздателей «Лучшие книги года 2014» в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» именно за эту серию.
Сотворение мира Повесть
От автора
«Сотворение мира» и «Что там, за поворотом?» – две повести про семиклассников. Эти поколения разделяет почти 30 лет. А значит, дети из первой повести во второй вполне уже могут быть родителями учеников нового седьмого «Б».
Жизнь героев первой повести пришлась на начало девяностых годов двадцатого века, когда школа была совсем другой. И хотя ребята не имели права выбирать себе место учебы, учителя не только предоставляли набор интеллектуальных услуг, но и учили жизни. Да они и сами учились этому вместе с учениками. Девочки вели дневники не в электронном виде, а в толстых общих тетрадках, куда заносили торопливые и подчас бестолковые записи простенькой шариковой ручкой, миксуя рисунки с собственными стихами.
Первая любовь напоминала скорее четверостишие Блока, нежели эсэмэску в мобильном телефоне. Хотя… эсэмэсок тогда просто не могло быть, поскольку эра мобильников еще не наступила…
Школа, в которой всё произошло, стояла на окраине Петербурга-Ленинграда. Этот микрорайон до сих пор называют Пороховые, поскольку именно тут Петр Великий когда-то основал первый Пороховой завод. Из местных достопримечательностей на Пороховых есть еще густой лес (пусть официально он и считается лесопарком), где сосны, ели, осинки и сейчас шумят своими кронами…
Конец лета. Дневник
1 августа
Мой возраст – мечтательно-печальный…
Я поняла, что никогда не буду счастлива!
Счастливы только глупые люди. А те, кто любят, несчастны и слепы.
Уходит истина в песок, И пуст судьбовый туесок. И нет оазиса в помине, Ты озираешься в пустыне…Во мне еще живет надежда, что я останусь в старой школе!
30 августа
Мой дневник за лето совсем обтрепался. Это оттого, наверное, что я засовывала его под диван, когда уходила гулять или в магазин.
Ничего не имею против родителей, но скорее умру, чем дам им прочитать свои сокровенные мысли.
Мне купили новое платье и кожаный рюкзачок, но ничто земное меня уже не радует. Зачем мне всё это в новой школе? (На пепелище!..)
Меня перевели туда против моей воли! Танька Иванова, например, осталась в старой, а она живет на целых две минуты дальше меня (я проверяла!), и дылда Люська-«модель» тоже в старой… Там – все! Там – Дима Накончин!..
Мы с ним сидели за одной партой пять лет с первого класса, и вообще… Ненавижу толстую Таньку Иванову! Я видела ее вчера. Она злорадствовала, что меня переводят. Ясно почему. Будет теперь угощать Димку конфетами, их у нее на каждый час – куча про запас… Знает, что Димка – сладкоежка. Так он постепенно привыкнет брать конфеты из ее рук. А потом… Нет. Не хочу даже думать о том «потом»…
31 августа
Обида – песчинка, Жесткая, кристалликом, Ревность – керосинка С чадящим валиком. Копоть застит свет, Горизонта нет…Осень. Дневник
1 сентября
Судьба моя – копейка. Вчера я позорно рыдала. Родители утешали меня хором, папа даже пошел к директору. Я всё слышала: я каталась под окнами на велосипеде «Ласточка», а там – первый этаж. Папа привел аргумент, что в старую школу мне ходить намного ближе, не надо переходить через дорогу. А ведь я часто задумываюсь, когда стихи сочиняю и становлюсь человеком вне правил уличного движения.
Вот глупости! Все считают меня ребенком. Выходит, будто я их обманула. Но не рассказывать же было про Диму Накончина! Хотя и так ничего не вышло.
Директриса с грустью изрекла, что я – «случай спорный, живу на границе микрорайонов, и неэтично получится, если всех отличников оставить себе». Интересная логика! А если б я была второгодницей? Неужели бы оставили? Ха-ха!
Плохой сегодня день. Черный понедельник «на моей бирже». Из нашего класса перешло всего человек десять (остальные из параллельных) да еще Серафима Владимировна, литераторша. Теперь она у нас классный руководитель. Серафима добрая, но некоторых вещей просто не понимает. Опозорила меня перед всем классом. Целый урок причитала:
– Бедная Сашенька!.. Как расстраивается! Теперь ей так далеко ходить в школу.
Как будто я какая-нибудь первоклассница! И все потешались. Потому что мое унылое лицо выдавало меня с потрохами.
Но дальше было еще хуже. На черчении «черченичка» (она даже не сообщила, как ее зовут, сказала, что, мол, временная – заменяет, пока болеет настоящая. Странно, как будто у «временных» нет имен!), велела назвать каждому чертежные принадлежности, которых для урока не хватает. А я в учебнике вычитала, что к карандашам полагаются наконечники, и когда очередь дошла до меня, вымолвила, что все есть, только вот наконечников не хватает.
«Черченичка» вообще не знала, что такое наконечники. Начала листать учебник, а мне заявила, что нечего выпендриваться. В классе все просто повалились от хохота.
Гущенко мне потом сказала, что я ненормальная, ведь у Димки было прозвище Наконечник (от фамилии), и что все всё поняли. Я и забыла про это прозвище. Я-то звала Диму по имени. Не по кличке. Вот и попала, как кур в ощип.
Ну и пусть. Одно мне горе в этой школе! Только и радости, что выросла за лето на семь сантиметров. Гущенко в прошлом году все сокрушалась, что ей неудобно со мной ходить, раз я такого низенького роста.
Теперь мы, наверное, не раздружимся и я не буду на физкультуре стоять в конце шеренги, рядом с мальчишками. А то целый прошлый год мучилась. Веселая была картинка – бок о бок я и великан Генка Метлищев! Прямо как герои Свифта.
Пойду за маслом, надо скорей: мама собирается жарить капусту. Теперь в моей жизни остались только общественная работа, учеба, помощь по дому и ходить в библиотеку!
5 сентября
Ну а еще, конечно, я живу воспоминаниями…
Не могу про тебя ни слова сказать, Не могу про тебя стихи написать. Стою и смотрю – и восторг во мне, Как с горки на лыжах в солнечный день…Досочинить не успела. Заявилась Гущенко. Пошли с ней гулять в лес. Она взяла с собой котенка Мурзика. Волокла его на капроновой ленте. Мурзик упирался, пищал, бросался на землю, как барс, рвался к вольной жизни. Я предложила его отпустить, но Гущенко не согласилась. Сказала, что надо, в конце концов, силу воли воспитывать. И у себя, и у котенка, и вообще: мал, глуп. А если потеряется? Ну что же, котенок ее, не мой. Пусть воспитывает как хочет.
Гущенко сплетничала обо всех новеньких мальчишках, тараторила без умолку, а какое мне до них дело! В моей душе жили воспоминания о Диме Накончине.
В третьем классе мы выпустили газету «Смехопанорама». Все девчонки сочиняли стихи, все критиковали Накончина. Во-первых, я думаю, от любви, а во-вторых, оттого, что Раиса Кондратьевна постоянно ругала его за клоунские поступки. Света Семафорова написала точь-в-точь такими же словами, как выражалась учительница:
Наконечник веселится. Скоро может прослезиться.И дальше совсем глупо:
Рано пташечка запела: Как бы кошечка не съела.А у меня было так:
Дима, ты как Ванька-Встанька, Не унять тебя никак! Как Болтайка-Улыбайка Или как Иван-дурак!(Тоже, конечно, слабовато, но для третьего класса всё-таки неплохо.)
Накончин прочитал всю газету и сделал вывод:
– У Румянцевой стихи настоящие, только у нее. А вы дуры, а никакие не смехопанорамщики. Особенно ты, Семафорова!
Семафорова завопила и бросила в него мелом, а он в нее – шваброй.
Потом Накончина как хулигана посадили со мной для перевоспитания. До этого его сажали со всеми девчонками в классе, но девчонки начинали с ним болтать. А тут учителя не могли нарадоваться:
– Совсем не разговаривает, смотрит в книгу!
Мне даже было обидно. Тогда я еще не догадывалась, что он смотрит в книгу, а видит фигу. Ведь он всё время потихоньку поглядывал на меня. Прикрывался рукой, как на солнце смотрят, и не сводил глаз. Чистая правда!
А в конце года в школе ставили «Кошкин дом». Мы с Семафоровой играли котят, а он – кота Василия. Из Семафоровой вышел неотразимый котенок! Она красовалась перед всеми своим пышным хвостом – большущим, из бабушкиной лисы-чернобурки. А у меня такого шикарного хвоста не было, как ни прискорбно.
Мой троюродный брат Витька притащил откуда-то белый кроличий хвостик, но тот хвостик никуда не годился. Однако, за неимением лучшего, мы его пришили, но получилось, что ненадолго. Хвост отпал от меня прямо на сцене.
А позже на словах: «Ах, вы хотите сливок, вот я вас – за загривок!» – кот Василий Семафорову лупил метлой, а за мной только гонялся. Я тогда все думала: почему? Глупая была.
Отчего так происходит? Начнешь всё про жизнь понимать, да уж поздно.
Так мы и гуляли с Гущенко: я молчала, а она даже не догадывалась, что у меня в голове. И хорошо.
10 сентября
Ну, пришла пора описать наш класс. Без этого, наверное, не обойтись. Помимо старичков переведенных есть и новенькие. Например, две примадонны: Ганна Волова и Надя Пожарская. Они очень красивые, с немыслимыми копнами волос! Такие волосы не только заплетать, их стричь можно, всё равно густые будут! Не то что мои три волосинки.
Надя брюнетка, а Ганна блондинка. Эти девочки как две карточные дамы – «пик» и «червей». Все переменки они ходят под ручку и шепчутся. Или вызывающе смеются. Естественно, мальчишки из девятого класса на них уже поглядывают и посылают записки.
Есть еще одна девчонка, Инка Пескарик. Говорят, она откуда-то из-за границы приехала. Инка очень взрослая. Когда разговаривает с тобой, смотрит как-то сбоку, слегка улыбается, в полулыбки, с иронией, и пожимает плечами. В школу она ходит в элегантных сарафанчиках. Может даже, от какого-нибудь Диора. Только безо всяких там воланчиков, крылышек и гипюра.
За первую парту Серафима посадила Валеру Васипова. У Васипова широкие рассеянные шаги, словно шагает в пропасть. Он малоразговорчивый и сильно близорукий. И очень плохо одет – ходит в кургузом таком пиджачке. Серафима сообщила, что Валера замечательно декламирует стихи (посмотрим!), она еще что-то хотела добавить, но раздумала и как-то испуганно закрыла рот.
И еще один новенький – Андрюша Туполев. Сразу можно понять, что он пойдет в науку. Все задачи решает с лёту. Лицо у Туполева большое, сердитое и насмешливое. А когда пишет на доске, мел у него крошится – такой острый почерк.
Ну а меня Серафима вздумала посадить с Олегом Слоновым. Разумеется, двоечник. Похож на второгодника, хотя на второй год пока не оставался. Учителя говорят, что он потенциальный второгодник. Слонов огромный, как слон, особенно по сравнению со мной. Наши остряки уже пустили про нас шуточку: «Слон и Моська».
Как только Слонов приходит в школу и садится за парту, то сразу произносит: «Здравствуй, Моська!»
Как вам это понравится! При этом Слонов не дерется, хотя мог бы, и не списывает, пока я сама не разрешу. Это подкупает.
Слонов смешной. В карманах у него чего только нет: резинки, вкладыши, железки всякие. Как будто у первоклассника. По-моему, там даже наконечники найдутся, о которых в учебнике «Черчение» написано.
Каждый урок Слонов это добро раскладывает на парте, а когда его вызывают, ни за что не поднимется, пока всё не соберет. Учителя нервничают. Они думают: он нарочно их злит. А мне кажется, не нарочно.
Руку он никогда не поднимает. А вчера на русском Серафима повторяла суффиксы «сч» и «щ» и велела придумать слова с этими суффиксами. И тут вдруг Слонов поднял руку! Серафима взволнованно спрашивает:
– Ну-ну, Слонов, какое у тебя слово?
И он сказал:
– Пример «сч» – «прысчик».
Все заржали, как самые настоящие недрессированные лошади. Серафима покраснела.
А мне стало жалко Слонова. Мне его вообще жалко. Говорят, что у него нет мамы.
Бедный.
Сентябрь. Жизнь без дневника
В пятницу, 11 сентября, Серафима с торжественным лицом сообщила:
– Завтра уроков не будет. Поможем совхозу убрать капусту. Покажем, на что мы способны. И дождь нам не помеха.
Все мгновенно оживились: а действительно, не помеха! Тем более в совхозе они еще ни разу не были. Не учиться, а гулять по полям – вот так счастье привалило! Девицы начали шелестеть, какие наряды наденут. А Метлищев тут же проорал:
– Ответим дождю – нет! Капусте – да!
Серафима укоризненно покачала головой, но урезонить Метлищева не успела: звонок грянул шаляпинским басом. В новой школе было все новое, и звонок громыхал так, что не перекричишь.
Но Серафима добавила все же:
– Резиновые сапоги – обязательно. И куртки теплые…
Саше Румянцевой стало жалко Серафиму: «Возится с нами, как с малышами. А вокруг – дылды да пересмешники. На работу ведь идем, а никого не колышет».
По чести сказать, Румянцева тоже мало что понимала в сельских трудах, но она была за справедливость. Чувство ответственности висело на ней с младенчества гирей – такая уж уродилась, ничего тут не попишешь!
Утром все, кто не проспал, собрались у школы. Пришло тринадцать человек, ровно пол-класса. Гущенко, Волова с Пожарской, ну Румянцева, понятно, она же сознательная; Алевтина еще, тоже новенькая, а серьезная… Фамилия только у нее необычная. – Косоурова. Шесть девочек, семь мальчиков.
– Ждать не будем, – изрекла Серафима, – остальные получат прогул. – И ни к селу ни к городу добавила: – Васипова я освободила.
Саша услышала и удивилась: «Чего сообщать, когда никто не спрашивает про Васипова? Никому и дела нет. Подумаешь, фигура!..»
Перед дорогой все друг друга рассматривали, кто как оделся. Это же редкое событие, чтобы одеться кто как хочет, а не как в школе положено.
Пожарская и Волова были на высоте. Узенькие пижонистые брючки, сапожки разноцветные, кепарики – одним словом, картинки! В сравнении с ними Румянцева выглядела скучной мышкой: старая зеленая куртка с капюшоном, сапоги до колен и перчатки в кармане, не кожаные, конечно, а те, которые для труда. Вообще непонятно, мальчик это или девочка: форм-то никаких! Вот уж кто за модой не гонится…
Гущенко отошла от Румянцевой, к Воловой с Пожарской прибилась. Выпустила из-под платка свою светлую челку и теперь все время сдувала ее с глаз наверх. Все равно что фыркала. Челка отчаянно ей мешала. Зато модно.
Пороховые – почти пригород, до Янинского совхоза можно пешком дойти. Так всем и казалось. Сначала семиклассники резво с места взяли, но быстро приуныли.
День выдался серенький. Дождь всю дорогу сеялся мелкими каплями, как через сито. Глинистая дорога размыта. Румянцевой-то что: капюшон надвинула – и вперед. Знай себе перескакивает с одного глиняного островка на другой. В таком «наряде» не страшно испачкаться. Девчонки пыхтели сзади.
– А вес-то, вес у Саши – птичье перышко! – умилилась вдруг Серафима.
Подумать только! Но Слонов возьми и поддержи ее:
– Точняк! Моська маленькая, да удаленькая.
Девчонок досада взяла. Тоже ценитель выискался, понимал бы хоть что-нибудь в женской красоте!..
Дома вокруг стояли деревянные, одноэтажные, с низкими голубенькими окошками, с поржавевшими от первых заморозков георгинами. Да еще и собаки всюду тявкали.
«Неэффектный пейзаж», – сказала бы Инка Пескарик. Если бы пришла. Но ее не было. И правда, зачем ей совхоз?
Многие начали жалеть, что явились.
А уж когда семиклассникам показали поле… Поле было нескончаемое, огромное, словно стадион. Всё в капустных кочанах. Они валялись в черной взбаламученной земле, круглые, как футбольные мячи. Их надо было складывать в старые шершавые ящики.
Румянцева схватила один кочан и тут же уронила. Вес оказался приличный! Все дружно захихикали. Но Слонов тут как тут. Подхватил Капустину – и в ящик. Метлищев даже сострить не успел.
– Молодец, Олег! – похвалила Слонова Серафима. – Давайте встанем в пары. Дело быстрее пойдет!
И класс двинулся к конторе, маячащей вдалеке, за стеной моросящего дождя, величественно и чинно.
– А мне пары нет! – заорал Метлищев. – Я же тринадцатый!
– Будешь ящики считать! – распорядилась Серафима.
Мальчишки подтаскивали ящики в общую кучу. Наверху, как начальник, пристроился Метлищев.
Гущенко стало завидно, что не она руководит процессом, ведь привыкла в гуще быть, точнее, над гущей (фамилия-то обязывает!). И она очень органично пристроилась к Метлищеву:
– Ты считай, а я записывать буду.
А что? Кто записывает, тот всегда главнее!
Опять паритет нарушился: девчонок пять на грядках осталось, мальчишек шестеро. Постепенно почти все мальчишки к Воловой с Пожарской перекинулись.
Туполев достал перочинный ножик из кармана, срезал испачканные землей нижние листья, а потом подумал-подумал и верхние срезал, освободил сочную белую душистую кочерыжку, царским жестом протянул ее Ганне.
И пошло-поехало. «Столовая № 1» открылась.
Саша Румянцева, понятно, осталась без кочерыжки. Потому что они со Слоновым продолжали кочаны в ящики собирать. Алевтина, правда сначала тоже им помогала. Но потом отошла и стала работать одна.
Кочаны постепенно становились всё тяжелее и тяжелее. Руки у Румянцевой одеревенели. Но она закусила губу и пошла дальше. Из упрямства. Слонов с Алевтиной – за ней.
Но пахло на поле отчего-то мимозой. Горча, аромат стоял столбом. А скоро, скоро нагрянут морозы… —шептала Саша.
– Это сурепка сорная так пахнет, – произнесла вдруг Алевтина. – Хотя с виду не скажешь, что сорняк: желтенькие такие цветочки, симпатичные. Но и мимоза на самом деле не мимоза, а акация серебристая.
Алевтина не только казалась серьезной, она много чего знала. Румянцева взглянула на нее с уважением.
А Слонов ни с того ни с сего проскакал по борозде конем, сорвал сурепку, дурашливым голосом запел:
– «Две-е-е морко-о-овинки несу за зеленый хвостик»! – и эффектно кинул ароматную сурепку в Сашин ящик: – Моська, лови!
И умчался.
– Это из «Облака в штанах» или из поэмы «Хорошо!» Маяковского, – тихонечко произнесла Алевтина. – Нет, наверное, все-таки из «Хорошо!». Помнишь? «…Любимой моей глаза. Круглые да карие, горячие до гари». А дальше как раз эти строчки – про две морковинки. Двоечник, а Маяковского читал…
Румянцева же про другое подумала – про свои глаза: они как раз карие. И покраснела.
Остальное общество, к счастью, капусту хрумкало и ничего вышесказанного не услышало.
«Подумаешь, капуста! – пронеслось у Саши в голове. – Зато сурепка – цветок! И мимозой пахнет».
Румянцева и Слонов собрали целых шесть ящиков, Ганна с Туполевым – два, Пожарская с Зайкиным – тоже два. Алевтина в полном одиночестве собрала пять ящиков.
А Метлищев с Гущенко ничего не собрали. Зато всё сосчитали: вышло на всех тринадцать ящиков. Семиклассников тринадцать, и ящиков столько же.
Совхоз, не вдаваясь в подробности, седьмому «Б» благодарность объявил. И Серафима всем пятерки поставила – за труд. В журнал, естественно.
Осень. Возвращение к дневнику
14 сентября
Вот это номер! «Черченичка» оказалась математичкой. Сегодня первым уроком должна была быть алгебра (впервые в этом году), вдруг «черченичка» входит и произносит:
– Я – ваш новый пе-да-гог. Теперь могу представиться по всей форме: Элла Максимовна. На черчении я к вам только приглядывалась.
Что еще за игры? Мы же не дети. А Эллочка начала расхаживать по классу и громко объявлять, что она любит и чего не любит.
Любит она веселых, красивых, быстрых и сообразительных. Метлищев, оказывается, «красотуля – отворотясь, не налюбуешься». У Румянцевой (у меня то есть) «унылый нос». Безобразие, конечно, слышать такие реплики – от «пе-да-го-га»! Писать мы теперь будем в толстых общих тетрадях, а учиться творчески.
Творчество выразилось в том, что мы самостоятельно стали решать задачи, которые Элла Максимовна сочинила от большого вдохновения.
У меня и у Алевтины (она сидит за мной) был один вариант. В ответе получалась какая-то чушь. Отрицательные дроби в кубе яблок! Мы никак не могли понять, в чем дело, промучились до конца и сдали полупустые листочки. Страшно расстроились (ведь по математике мы в первых рядах). У меня, правда, было одно соображение, но я не стала высказывать его вслух.
На перемене мы с Алевтиной решили пойти в учительскую, выяснить, в чем там собака зарыта.
Эллочка страшно развеселилась.
– Вы просто дурочки, – процедила она с презрением. – Следовало написать: «Задача не имеет решения». Я специально вас проверяла. А остальные-то как, интересно?
– Не знаем, – буркнули мы.
Не будем же сообщать ей, что остальные (их было всего трое, а среди них оказалась и Гущенко), столкнувшись с абракадаброй, потихоньку поменяли варианты. А Туполев взял и подарил Ганне свой листок. (Ганна сориентировалась в первый же день – села с Туполевым за одну парту.)
– Остальные нашли решение! – съехидничала Эллочка. – И молодцы! Сейчас все так поступают. Хочешь жить – умей вертеться! А вам, отличницы, за несообразительность ставлю по троечке.
Голову даю на отсечение, что она просто напутала в условиях. Точнее, выдумала задачу «от фонаря», «на шармачка», кое-как, короче. Ничего сама не прорешала и не проверила. Выходит, и нам надо было схитрить?! В общем, стояли мы как оплеванные. Гадость!
15 сентября
Ну, люди добрые, конец света! Нас учат танцам! Это уже перебор. Наш седьмой «Б» будет первооткрывателем в школе! Отныне по четвергам вводится новый предмет – ритмика. Ведет его Иван Демьянович Рулёв.
Он похож на майского жука и на оловянного солдатика одновременно. У него густые черные брови, голова маленькая, черная и круглая. Метлищев, шут класса, немедленно сочинил такие стишки:
Ох, головушка моя ты самобытная! Очень круглая головушка моя!Ходит Иван Демьянович очень странно – будто бы ему отдают команды: «Вперед, шагом марш!» Или: «На-ле-во!» Есть в нем что-то металлическое.
На первом занятии он провозгласил (он не говорил, а именно провозглашал!):
– Первое. Танцевать должен уметь каждый. Второе. Научиться могут все. В цирке даже медведей учат. Поэтому сразу показываю: вальс-квадрат. Это основа основ. Всё элементарно. Раз, два, три – поворачиваемся. Носки делают четкий угол, – Иван Демьянович оглянулся на нас, поднял густые брови, – четыре! – и опять встал к нам спиной.
Все таращили на него глаза. Метлищев давился смехом и страшно гримасничал. В этот момент Иван Демьянович опять обернулся, посмотрел на Метлищева, побагровел и громко, отрывисто скомандовал:
– Оставить помещение!
Метлищев вначале не понял, а потом хихикнул и, пожимая плечами, поплелся к двери.
– Вот так! – удовлетворенно произнес Иван Демьянович и приказал нам делать шаги вальса-квадрата.
Я с ужасом ждала этого момента, потому что с самого детства мама твердила мне, что у меня абсолютно нет музыкального слуха и ритма и что, к несчастью, я, наверное, никогда не научусь танцевать. Она искренне сокрушалась: они-то с папой познакомились на танцах (хотя это странно, всё-таки интеллигентные люди).
Конечно, у меня получалось хуже всех. Я была как белая ворона. Особенно рядом с Воловой и Пожарской. Они-то порхали точно бабочки.
Иван Демьянович уставился на меня немигающим взором (чем дольше он смотрел, тем деревяннее я двигалась) и крупными решительными шагами направился ко мне.
– Как фамилия? – вопросил он.
И тут свершилось великое предательство. Гущенко фыркнула и саркастически пропищала на весь зал:
– Наша отличница! Румянцева.
Ничего себе – подруга!
– Выйди, Румянцева, на середину, – распорядился учитель танцев. – Буду учить тебя индивидуально.
И кругом заржали.
Я вышла вся красная, как спелая вишня. На глаза навернулись слезы, коленки стукнулись одна о другую.
Меня спас звонок.
Всю перемену я проревела в учительском туалете. Он единственный в школе запирается. Туда всё время кто-то хотел войти, но я не открывала дверь. У меня не жизнь, а какая-то греческая трагедия. Но Гущенко-то! Гущенко просто свинья!
Хорошо, что на истории не вызвали. Тамара Кирилловна только взглянула на меня, и тут – надо же! – Слонов поднял руку.
Учительница тяжко вздохнула (должно быть, побоялась его спрашивать) и заговорила опять про Средние века – о му́ках инквизиции. Очень даже к месту.
Дома я сдерживалась, как стоик, хотя меня затопил вязкий стыд. Я тонула в нем, как в болоте. Оказывается, именно такое чувствуешь, когда тебя предают. А еще я очень страдала, что у меня нет слуха.
Папа с мамой всё-таки сообразили, что я не в своей тарелке, и начали деликатно ко мне приставать. Вот уж чего не терплю – так это разговора «с подходами». Сжав зубы, я выдавила только, что у нас новый предмет и новый учитель, Иван Демьянович Рулёв.
Папа удивился чуть ли не до потери сознания.
– Полковник Рулёв? – переспросил он.
И объяснил, что так звали преподавателя в их военно-морском училище имени Дзержинского. Тот Рулёв вел сопромат. Сейчас он должен быть на пенсии.
Мама шумно запротестовала: папе, мол, везде мерещатся его военно-морские знакомые. Я сидела полено поленом – в тот день я могла поверить во что угодно.
Когда мама вышла на кухню, папа тихонько мне сказал:
– Все же попробуй передай Рулёву привет.
Наутро во рту у меня было шершаво и пресно, как всегда после слёз, а в душе – пустота и равнодушие. Потеря друзей – гибель души.
Гущенко с ее приколами теперь стала мне до фени. Ритмика тоже. Но я подстерегла-таки в коридоре Ивана Демьяновича, когда никого вокруг не было, и выдохнула таинственно, как разведчик из старого шпионского фильма, свой пароль:
– Вам привет от капитана Румянцева.
Иван Демьянович побагровел и ответствовал:
– Не знаю такого. А вам, Румянцева, надо не приветы передавать, а заняться серьезно ритмикой.
И пошел своей оловянной походкой. Уши мои пылали. Скорее всего, он постеснялся признаться. А чего тут стесняться? Подумаешь, сменил профессию на старости лет…
25 сентября
Прочла сейчас то, что написала раньше, и так меня потянуло в старую школу! Дима, Дима, как пусто мне без тебя жить!
Душа без крыл — Листком В траве. Жизнь без перил… Лечу ничком, А мир стоит на голове…Мама словно чувствует мои мысли сквозь стенку и начинает петь в кухне:
И не надо зря портить нервы! Вроде зебры жизнь, вроде зебры…Мама хорошо поет, не то что я. Она даже внешне похожа на Пугачёву. Она намекает, что, когда всё плохо, значит, полоса такая, а не судьба-злодейка. У меня (не в пример многим) на редкость сознательные родители.
Только… А вдруг полоса эта будет длиться целый год? Или два года? Или до смерти?
Мне даже стихи писать не хочется. Кто теперь признает, что они настоящие?! Серафима говорит, что я плохо придумываю риторические вопросы. Вот вам, пожалуйста, риторический вопрос…
Китайская мудрость гласит: «Человек рожден для радости. Если радость кончается, ищи, в чем ты ошибся».
Я сижу сейчас на диване и ищу, в чем я ошиблась?
Во-первых, я ошиблась в Гущенко. Она мне не подруга, а киллер. Это уже ясно.
Ой, я знаю, в чем я не ошиблась! В Слонове! Он и правда добрый. Еще, конечно, в Диме. В Диме – навсегда.
Еще в историчке и в физичке. Историчка, Тамара Кирилловна, во время объяснения новой темы может встать в запале на своем стуле на одно колено. А когда идет дождь (я много раз это замечала), смотрит в окно с лицом Офелии, мечтательно улыбаясь. Понятно, что она живет эмоциями.
А физичка немножко окает. И смущается. Хорошо, когда человек смущается. Значит, в нем жива совесть. Вот Эллочка никогда не дрогнет. Даже если обидит человека ни за что. Ну вот опять я про Эллочку. Напишу лучше о физичке. Ее зовут очень забавно – Майя Филимоновна.
Тут я должна рассказать о Туполеве. В нем я тоже ошиблась. Я думала, он настоящий мужчина, а он – циник. (Впрочем, как и большинство мальчишек, Метлищев например.) Он все время задает Майе Филимоновне предательские вопросы. Например, что такое синхрофазотрон? Или видела ли она НЛО? А учительница сбивается с мысли: все-таки она очень молодая и неопытная. А Метлищев (я случайно слышала) сказал о ней:
– Ножки как у кошки. Оторвать и выбросить.
Вот обормот!
А завтра к нам придет зубной врач.
26 сентября
Вот как всё было. В класс вошла Серафима и объявила:
– Внимание! К нам приехал стоматолог. Вы взрослые, никто не боится. Кто кому уступает? Мальчики или девочки?
Таким образом, она заставила мальчишек пойти первыми. Почти у всего класса зубы были крепкие. За исключением Алевтины: ей пришлось поставить тринадцать пломб.
Следующей вызвали меня. Но со мной зубной врач что-то не спешила. Она долго бренчала инструментами, грела их, кипятила, а потом ласково промурлыкала:
– Теперь отдохни, солнышко! Потом продолжим.
В душу мою закралось подозрение. Тем более девчонки косились и перешептывались. Было видно, что они меня жалеют. С ужасным предчувствием я села в кресло и вдруг услышала за дверью:
– Ты чего, Слон, приперся? Тебе же сказали: не надо зубы лечить!
Выходит, Слонов за меня волнуется! Как это приятно, когда переживаешь трудности не одна! Меня охватил восторг, как ранней весной, когда начинают таять льдины. Показалось даже, что зуб мне вырвали под общим наркозом.
Звонко капают сосульки, В такт не в такт. То играет на свистульке Мальчик Март…4 октября
Сегодня был убийственный разговор с девицами. После уроков мы не пошли домой, а закрылись в классе на швабру.
Я не могла не остаться, потому что получила официальное приглашение. На нем было нарисовано сердце, пронзенное стрелой, а под стрелой: «Совершенно лично. Тетатет». Тоже мне, француженки-грамотейки! Дичь какая-то! Придумала всё это наверняка Инка Пескарик. Во всяком случае, корчила из себя хозяйку салона.
Собрались они якобы для того, чтобы составить психологический тест. На самом деле весь разговор свелся к выбалтыванию тайн и к рождению сплетен. Вопросы для теста предлагали самые примитивные. Почти все на тему: кто тебе нравится, а кто не нравится и почему.
Сначала я думала, меня позвали для того, чтобы что-то из меня вытянуть. А потом поняла, что план был позаковыристее. Гущенко, как бы между прочим, бросила кость:
– А у Наконечника сотрясение мозга. Семафорова сказала. Я вчера ее в бане видела.
И впилась в меня взглядом, как вампир. Надеялась увидеть мою реакцию. Но меня на эту удочку не поймать. Я сидела с невозмутимым видом.
Гущенко как-то давно, еще когда мы дружили, заметила, что во мне явный избыток железа. Может, и правда. Я ведь внешне очень сдержанная. Наверное, это от антоновки. С младенчества жую. Говорят, ее и Пушкин любил. Он, конечно, сдержанностью не отличался, но характер-то имел железный!
Словом, я изображала из себя кариатиду. Инка переглянулась с Гущенко и спросила, лицемерно прищуривая глазки, светским тоном (ни дать ни взять мадам Шерер из «Войны и мира»):
– Неужели, Саша, тебе безразлична судьба твоего товарища? Вы же когда-то учились в одном классе…
Тогда я выдала:
– А при чем здесь Накончин? Как связаны он и тест? А для теста я предлагаю такие вопросы: «Чем вы занимаетесь в свободное время?» А еще лучше: «Каков уровень вашего „ай кью"?» Впрочем, извините, тороплюсь: меня ждут в кафе.
Кафе, конечно, блеф. Так, для сохранения достоинства. Надо же было делать ход конем!
Следом за мной увязалась Ганна. Вошли в раздевалку, и вдруг я вспомнила, что забыла на парте зонтик. Когда возвращалась, услышала, как Гущенко ляпнула:
– Умница нашла себе новую отраду.
Вот злыдня! Интересно какую? Они начали хихикать.
Я плюнула на зонтик и вернулась в раздевалку. Настроение совсем помрачнело. И тут еще эта Ганна стала канючить, чтоб я ей помогла по математике! А то, мол, жизнь ее висит на волоске. Я опешила. Ан, оказывается, вот что.
– Если я схвачу тройку по математике, – объяснила эта дурища, – папа откажет мне в прикиде. И я останусь без новых «шуз». А через два месяца Новый год. В школе будет «па-а-ати».
Вот вам, бабушка, и Юрьев день! Ну положим, Новый год не через два месяца, а через три, но ведь Ганна плохо считает.
В душе у меня родилась снисходительность к Воловой, как к ребенку. Я почувствовала себя умудренной женщиной, от которой зависит чужая судьба.
Конечно, я согласилась. Надо же быть великодушной.
Тот же день, вечер, продолжаю запись
Бедный Димка! Откуда он, интересно, свалился? Душа моя рвется на части. Мне и жалко его, и в то же время приятно. У меня ведь тоже было сотрясение мозга: на меня грохнула крышка погреба. Наши судьбы так похожи!
Два кольца, Два конца — И одно сердце. Чудо-ножницы из мук Извлекают скерцо…10 октября, утром, еще до школы
Совсем забыла написать о том, что я опять выпускаю газету. Вот что значит инерция мышления! Привыкли, что я всегда это делаю. Еще избрали Туполева. Ребятам кажется – он остроумный. Ну уж не знаю. Для чего-то предложили Васипова. Он вообще странный человек…
А как Эллочка над ним издевается! И над Слоновым. Но Слонов на нее плюет. А на Васипове лица нет.
Вчера, например, она заявила:
– Васипов, пусть теперь твои тетради проверяют твои друзья. Я из-за такого пакостного почерка слепнуть не желаю. Я себя люблю.
И тут кто-то пискнул:
– А у него нет друзей.
Васипов побледнел. А Эллочка его добила:
– Потому и нет, что ты, Васипов, – нелепый человек. У всех, кто нормальный, приятелей в избытке. А тебе я ставлю «кол».
Но почему, скажите, люди должны быть одинаковыми? Некоторые, может, и нормальные, а всё равно одинокие. Не у всех же, как у Гущенко, знакомые в каждой бане. Гущенко – активист от рождения. Ее назначили культурным менеджером. Что ж, правильно. Она любит вращаться на тусовках (тех же банях).
Васипова ввели в редколлегию за его необычные сочинения. Серафима посоветовала.
Любопытно, кто теперь в старой школе выпускает газету?
Октябрь. Жизнь без дневника
Стояли самые красивые дни осени. Серафима сказала, что это «пушкинская пора, очей очарованье». И правда, было на что посмотреть – листья заполонили весь школьный двор.
Солнечные лучи старались удлинить день теплом, но по ночам с ними уже спорили первые заморозки. Вот листья и не выдерживали, срывались с деревьев.
Однажды на физике кленовый лист влетел прямо в форточку.
Румянцева со Слоновым сидели в ряду у самого окна – листочек к ним на парту и спланировал. Саша положила его посередине – для украшения.
Слонов покосился, но ничего не сказал. Листок так и остался лежать до следующего дня. Назавтра он скукожился, как шагреневая кожа, а Слонов в школу не пришел. И послезавтра не пришел..
А время неслось вперед, к зиме. И листья с деревьев все почти опали.
Уже в конце октября на уроке литературы (точнее, урок заканчивался, звонок звал на большую перемену) Серафима вставила как бы между прочим:
– Хорошо бы Слонова проведать. Отстанет ведь по программе!
– А что с ним? – участливо осведомилась Гущенко.
– Вы разве не знаете? – удивилась Серафима. – Он же в больнице, в инфекционной. Съел что-то не то. Плохо, что не знаете. – Вздохнула и повторила: – Навестить бы не мешало. – И, захлопнув журнал, выплыла из класса.
– Ага! Он съел что-то не то, а нам опять отдуваться! – пробурчал Туполев.
– Слоны – они такие, много кушают! – захохотал Метлищев.
– Ой, да просто ему готовить некому: матери-то нет! – деловито-досадливо произнесла Инка Пескарик.
У Саши при этих словах что-то болезненно дзинькнуло в душе. «У Инки, наверное, вместо сердца кусок льда, как у мальчика Кая в „Снежной королеве"», – растерянно подумала она. Но вслух ничего не сказала.
Девчонки всю перемену шушукались, а мальчишки делали вид, что их это не касается. Подумаешь! Серафиме хорошо советовать. Проведать! Чего интересного в больницах, да и добираться туда надо полдня через весь город.
В конце концов Гущенко подошла к Саше и громко спросила:
– Румянцева, а ты не собираешься к Слонову? Кто же, как не ты? Ведь он твой сосед по парте!
Все уставились на Румянцеву. Саша сжала зубы, чтобы не покраснеть, и начала собирать деньги Слонову на передачу. Молча, как китайский болванчик.
Хорошо, что после перемены история была. Саша всё прослушала. Тамара Кирилловна (вот что значит понимающий человек!) просекла, конечно, что Румянцева сейчас где угодно, только не в Средних веках, но не спросила ни разу.
Саша, наверное, и под страхом смертной казни не призналась бы, что предстоящее мероприятие смущает ее, как тургеневскую барышню. До сих пор ей не доводилось навещать мальчиков в больнице. Но не рассказывать же об этом всему классу!
Она утешала себя тем, что в инфекционное отделение гостей не пускают. Подумаешь, авоську сунет в справочное и убежит.
Не тут-то было. За ней из любопытства увязалась компания – Волова и Пожарская, сарафанное радио класса. После истории сразу и поехали.
Долго спорили, что купить – чтобы и дешево, и сердито. Остановились на компоте. Получилось три здоровенные банки: компот консервированный из сливы, персиков и черешни.
Кряхтя, они потащили неудобные банки сначала в одном переполненном трамвае, потом в другом… Авоськи с банками цеплялись за пассажиров, пассажиры цеплялись к девчонкам. Волова с Пожарской начали ворчать. А когда в конце концов они ввалились в справочное, там сообщили, что Слонова сегодня выписали.
Поездка потеряла смысл.
– У дурака всё дураковское. Выписывается, и то не вовремя! – раздраженно сказала Надька.
– Была нужда теперь эту тяжесть назад переть! – полностью утратила интерес к делу Ганна.
– А куда же мы денем шесть литров компота? – растерянно спросила Румянцева.
– Ой, никуда! Поставим на скамейку в больничном сквере, а сами уйдем. Кому надо – возьмет, – деловито предложила Волова.
– Точно! – фыркнула Пожарская.
И поставила.
И Волова поставила.
А Саша растерянно мотала авоськой из стороны в сторону, начиная краснеть. Она не могла бросить здесь этот несчастный компот, как если бы он был живым.
Саша стеснялась самой себя и злилась на Слонова, который всегда был голодным, на девчонок: они смотрели на нее во все глаза.
– Может, тебе компотику захотелось? – ехидно спросила Пожарская. – Так у нас открывашки нет!
Волова хихикнула.
Бросив авоську и подхватив банку под мышку, Саша молча зашагала к остановке.
– Эй, может, ты тоже заболела? – икая от смеха, подпрыгивали рядом девчонки.
Они были рады: не зря съездили. Будет что завтра рассказать!
…Утром, в ожидании спектакля, все не сводили глаз с парты Румянцева – Слонов.
Саша водрузила перед Слоновым банку с черешневым компотом и, ничего не объясняя, буркнула:
– Это тебе.
А Слонов, будто так и надо, осторожненько поставил банку под парту и сказал на весь класс:
– Спасибочки, Моська. Черешня – это хорошо! Народ, не завидуйте.
И все головы как по команде отвернулись. Так что спектакля не вышло.
«Что, съели?» – подумала Румянцева. И успокоилась.
На самом деле съел один Слонов. Дома компот.
Осень. Возвращение к дневнику
1 ноября, раннее утро
Самый чистый, Самый лучистый, Самый радостный первый снег…5 ноября, вечером
Думаю, во всем виновата Эллочка. Наверняка это она накапала Серафиме на Слонова. Он ведь почти каждый день получает «колы» по математике. У Эллочки это самая ходовая отметка.
Хотя Слонов, конечно, дико несобранный. На задания домашние вообще плюет. Зато если уж вникает на уроке, знания в него просто врубаются. Как возрастные кольца в дерево. Всё дело в том, что Эллочку он не слушает.
– Я ее не воспринимаю, – признался он мне.
Ха! Представляю, как это выводит ее из себя.
Так вот, Серафима подозвала меня и говорит:
– Нужно подхлестнуть Слонова. Разве возможно в такой короткий срок нахватать столько единиц! Ты, как редактор газеты, должна принять меры.
А что я, спрашивается, должна делать? Как-то это нечестно: быть за Эллочку и против Слонова. Размышляла целый день, а потом подошла к Слонову и предложила:
– Серафима велела про тебя заметку написать. Давай, чтоб не обидно было, напишем ее вместе!
Сначала он был поражен, сказал даже, что я сбрендила. А потом согласился.
Уроки закончились, а девицы наши, как назло, не расходились, вертелись в классе. Мы терпели, терпели, а потом Слонов их выгнал.
Причина была уважительная: мы дежурные, надо же убирать помещение. Девицы покраснели, стали перешептываться. И всё оглядывались на ходу и переглядывались. Вот пустышки!
А нам так хорошо было. Мы про все поговорили. Оказывается, Слонов хочет быть летчиком. Он открыл мне свою тайну, сказал, что уже готовится физически – занимается боксом. А потом я начала вслух сочинять заметку, а он класс подметать. Он сам это предложил:
– Ты сочиняй, сочиняй, я всё уберу.
Из всей уборки я только доску и вытерла.
В самом конце заявилась завуч. Сначала она похвалила:
– Молодцы, класс хорошо убрали! На пятерку. Это ты, Румянцева, наверняка убирала? – И тут же, взглянув на доску: – Нет, пятерку ставить нельзя. Что же, Слонов, доску-то плохо вытер?!
Когда у меня прорезался дар речи, ее уже и след простыл. Вот как люди могут ошибаться!
Баба-яга говорить не умела, Баба-яга угощать не умела, Баба-яга очень редко пела. Но! Баба-яга обожала дело!10 ноября
Ни с того ни с сего Алевтина предложила мне дружбу. Я с радостью согласилась. Алевтине я симпатизирую. Она загадочная личность. Молчаливая. Приехала из другого города. У нее толстые косы, умные скрытные глаза за металлическими очками. И фигура как у Маши Распутиной. Сразу видно: в душе у нее уже отбушевала буря любви.
Алевтина хотела сесть со мной за одну парту, но я не согласилась. Боюсь, Слонов обидится.
После уроков нас повели в Анатомический музей. Сначала мы глазели на зародышей разных животных в банках, а потом сели смотреть жуткие фильмы про оперированных собак.
Собакам в опытах все время отрезали то одну лапу, то другую. При этом каждый раз научно обосновывали.
Я не выдержала и слиняла. Надька Пожарская бросила мне вслед камень:
– «Не вынесла душа поэта…»
Алевтина удалилась вместе со мной за компанию. Мы с ней как-то сразу породнились. Алевтина молчит-молчит, а всё про всех знает.
У Васипова мать пьет, оттого он такой нервный. А Ганна на самом деле никакая не Ганна, а обычная Галя. В классном журнале написано: «Волова Галина». Это она для имиджа выдумала. Ну и ну! Мне бы такое в голову не пришло. Но откуда украинский акцент? Почему «Ганна»? Не могу представить себе Волову, читающую Гоголя. И вообще читающую!
Алевтина переживает, что она большого роста. А я страдаю от малого. Всё-таки мир противоречив! Каждый человек – загадка.
– Я как верста коломенская… – вздохнула Алевтина.
Всё потому, что она занималась плаванием. Правда, недолго. Мама увидела, что дочка растет как на дрожжах, и забрала ее оттуда.
Сказать по чести, у Алевтины прекрасная фигура. Не то что у меня – вообще никакой.
А Иван-то Демьянович уволился. Никто не знает почему. А я догадываюсь. Профессия должна быть в жизни одна. Как и любовь. Но не у всех на это хватает духу.
Вы никого не лю́бите, В душе у вас зима. Бесслезная, бесснежная, Как нищего сума…Конец осени. Жизнь без дневника
Саша напрасно радовалась, что выросла за лето. Все выросли! А значит, она так и осталась на физкультуре в девчачьей шеренге последней по росту. Зато в мальчишечьей шеренге главенствовал теперь уже не Метлищев, а Слонов.
Слонов был могучий, как дуб, и крепкий, как силач Бамбула. По математике у него намечался в четверти «кол», а по поведению в журнале стояло «два» с плюсом. Правда, карандашом пока.
Во вторник физрук Титаник пообещал вместо урока баскетбол. (Мускулатуру физрук накопил мощную, как у титана, а ростом не вышел. Отсюда и прозвище – Титаник). Титаник попросил убрать из зала скамейки, чтобы образовалось баскетбольное поле.
Слонов нечаянно поднял скамейку вместе с Румянцевой и Васиповым. Васипов сидел на скамейке, потому что был освобожденный, а Румянцева просто так приткнулась, на минуточку. Васипов ойкнул, но соскочил, а Румянцева – нет.
Она даже испугаться не успела, как оказалась в воздухе. Побелела и вцепилась в скамейку обеими руками. Все заверещали. Физрук затопал ногами. Вкатил Слонову замечание. А главное, высказался:
– Ну, детина! А если бы эта крошка убилась?!
Все заржали.
– Крошка-матрешка! – съязвил Метлищев.
Румянцева покраснела до ушей. Физкультура была для нее пыткой. Девицы красовались на этом уроке в гимнастических купальниках, а Румянцева впопыхах напяливала на себя в раздевалке огромную футболку и треники. Ей нечего было обтягивать.
Физрук вконец рассердился – баскетбол отменил и велел всем прыгать через «козла». Не через живого, понятно, а через снаряд. Девчонки, кокетничая, ахали, добегали «нежным шепотом» до снаряда и застывали как вкопанные. От избытка женственности. Прыгнула только Нинка Рыбина. Она была спортсменка от природы, с детского сада.
Когда очередь дошла до Румянцевой, все захихикали в предвкушении спектакля. Саша никогда не могла скакнуть ни через «козла», ни через «коня». Страх пробивал ее током.
Но сегодня от переживаний страх куда-то подевался – перегорел, наверное, будто старая лампочка от высокого напряжения. Румянцева с бесстрастным лицом домчалась до «козла» и как сиганет! Метра на два вперед, пушинкой. Чуть в дверь не вылетела.
А дверь в этот момент возьми и откройся! Потому что ни с того ни с сего на чужой урок вошла Серафима.
Все рты пооткрывали. Серафима тоже изумилась. Физрук, стоявший справа от снаряда для страховки, отскочил в сторону от неожиданности словно ошпаренный.
– Ну ты даешь, Румянцева! «Пять» с плюсом, Румянцева! Только тормозить надо, Румянцева!
Саша вновь зарделась, будто маков цвет. И услышала вдруг: Серафима, всплеснув руками, пробормотала громким шепотом:
– Стройная, как березка!
Девчонки сразу зафыркали от возмущения. Главный спа-специалист в женской красоте – Инка Пескарик изрекла с растяжечкой:
– Стройность без форм – ху-до-ба.
Надька Пожарская тоже не удержалась:
– Фу-ты, ну-ты, ручки гнуты!
Саша скрылась в раздевалке, благо, звонок затрезвонил. Чувства бурлили в ней, словно лава в вулкане. Ну надо было Серафиме опять влезть! Всегда она… ни к селу ни к городу… Да и Титаник тоже со своей «крошкой»…
Саша чувствовала себя тряпичным уродом. Как назло, и Алевтины сегодня не было: Алевтину свалила ангина.
Следующим уроком была литература. Серафима начала объяснять про говорящие фамилии у Гоголя. Даже кусочек прочитала из «Мертвых душ». Вообще-то «Мертвые души» в девятом классе проходят. Серафима всегда вперед забегает. Раньше Саше это нравилось. Только не сегодня.
Естественно, Серафима попросила привести примеры говорящих фамилий.
– Слонов! – захохотал Метлищев. – Он как слон. Сила есть – ума не надо.
Румянцевой стало Слонова жалко.
Но тут вдруг Васипов руку поднял. В защиту слонов.
– Слоны людям друзья. Быть слоном хорошо. Про это Борис Житков писал в своих рассказах.
Серафима даже не успела его похвалить, как вскочила Румянцева:
– Я согласна с Васиповым. И еще есть сравнительный ряд: слон – значит, богатырь. Например, богатырь Ермак, покоритель Сибири, и легендарный ледокол в Северном Ледовитом океане – разбиватель льдов.
– А чего примеры-то не из Гоголя? – удивилась литераторша.
Но седьмой «Б» взвыл от восторга:
– Правда жизни ценнее, Серафима Владимировна!
– Круто же!
– Ха-ха! Во, примерчик!
– Васипов, ты что – защитник слонов?
– Васипов – индиец, а Моська в Слона влюбилась!
– Слон, слышишь, ты только вместе с партой Моську не поднимай!
Румянцева вспыхнула и села.
– Еще пример! – насмешливо произнесла Пожарская. – Говорящая фамилия – Румянцева. Потому что румяная.
Серафима решительно ее оборвала:
– Румянец девушку красит. А яд – бледнит. Защитником доброты быть не стыдно. А у Житкова прекрасные рассказы. Молодец, Валера! Кто-нибудь еще Житкова читал?
Последние слова Серафимы утонули в трелях звонка. Какой уж тут Житков! В буфете пирожки с повидлом как раз после третьего урока! Сдобой пахну́ло на всю школу. Все из класса вывалились, а Румянцева осталась.
У Румянцевой был стресс. От нехватки воздуха она решила открыть форточку. Пихнула ее со всей обиды – шарах! Стекло выпало на улицу – и бэмц, бэмц…
В окно ворвался ветер, вместе с дождем и первым снегом. Румянцевой на щеку села снежинка и превратилась в слезинку. Но этого никто не видел: все же умчались в столовую – лопать пирожки.
После перемены в седьмой «Б» опять вплыла Серафима (литература по вторникам была сдвоенная) и обомлела:
– Что такое? Почему сквозняк? Где стекло? Кто разбил? Зачем? Холодно же…
Румянцева Саша была хроническая отличница, она стекол отродясь не разбивала. А тут – ужас просто! Ну что за день…
Саша начала вставать, медленно-медленно…
Тут Слонов выдвинулся вперед, всё равно что гора, и произнес:
– Да ладно, чего там, я сам призна́юсь. Серафима Владимировна, это я разбил… Ну, это… я как в Северном Ледовитом океане… ледокол-разбиватель…
До сих пор он не умел быстро соображать. А тут вдруг сразу сложил два и два.
Серафима очень рассердилась. Она собралась сказать Слонову, что теперь у него будет за поведение «два» без плюса, и чтобы завтра же привел в школу отца со стеклом, и что…
Румянцева, сделав над собой усилие, вскочила-таки и начала, заикаясь:
– О-он… н-не он…
Слонов изо всех сил замигал ей правым глазом.
Класс замер: ну точно влюбилась! Никто и не сомневался, что это Слон стекло кокнул. Серафима тоже. Но Серафима не умела долго сердиться на детей. К тому же она была доверчивая и часто принимала правду факта за правду жизни. Поэтому забеспокоилась, что у Слонова тик. «Надо же, как глаз дергается! На нервной почве, наверное».
– Ладно, Слонов, – передумала она. – С кем не бывает. Останется с тобой твой плюс. А стекло пусть нам трудовик Иван Петрович вставит! Успокойтесь и сядьте оба.
Румянцева рухнула на парту айсбергом. Наверное, именно с таким настроением он вдруг срывается и тонет в океане.
Но Слонов пробасил вдруг:
– Да ладно, Моська, чего там! Не переживай, дело житейское.
Все снова начали хихикать. Но Румянцевой впервые в жизни было отчего-то не обидно…
Новый год. Дневник
15 января
Как давно я не открывала свой дневник. Столько событий произошло, так что у меня просто не хватало сил ночью их записывать. А дни уходили на то, чтобы во всём разобраться. Вот я и думала. Ничего не писала и почти ни с кем не разговаривала. Даже с Алевтиной. Когда долго молчишь, забываешь, какой у тебя голос. Я не знаю сейчас, какая Я. То ли стеснительная, как раньше, то ли во мне чрезмерно (по словам Алевтины) развилось критическое направление мозгов. Иногда всех жалко, а иногда всех презираю. Вот, например, Туполев. Подошел и говорит:
– Дай списать физику!
Я ему ответила:
– Настоящие мужчины никогда не списывают физику. Но впрочем, мне не жалко.
А он меня возненавидел.
Ганна, та совсем ничего не понимает в физике, а он с ней ходит в кафе. Я видела их однажды на улице: она порхала легкой походкой, как стрекоза, и глазела по сторонам. А он смотрел лишь на нее и краснел. Почти как у Окуджавы (у моих родителей много его пластинок и катушек магнитофонных). И в одной песне есть такие слова: «Что касается меня, то я опять гляжу на вас, а вы глядите на него, а он глядит в пространство..»
Сейчас я постараюсь рассказать самой себе про всё, что случилось.
Жизнь меня бьет неслабо. Я никогда не забуду этот Новый год! Всю осень занималась с Ганной. Тянула ее, как репку. Мне хотелось, чтобы она поняла: наука гораздо заманчивее прикида. Ганна кивала, кивала и вдруг произвела следующий вывод:
– Ты не расстраивайся. Я поговорю с Туполевым, чтобы он с тобой, когда будет «па-а-ти», тоже потанцевал.
Что за чудовищная логика! И потом, я же не умею танцевать. Даже основу основ – вальс-квадрат.
Ганна получила по математике вожделенную четверку и обещанные «шузы». Ко мне она больше не подошла ни на вечере, ни после! Я понимаю: в счастье человек эгоистичен, но не до такой же степени!
На контрольной по алгебре (за полугодие!) Эллочка, проходя мимо моей парты, прошипела вдруг:
– Помоги Васипову!
Я обалдела просто. А Алевтина потом объяснила мне, что наши отметки для Эллочки имеют большое значение – они всё равно что аттестация мастерства. А какое уж тут мастерство, если Васипов за полгода ни в зуб ногой. Она ведь ему ничего не объясняла, только насмехалась.
Я лихорадочно настрочила Валере Васипову решение – хорошо, что у нас с ним один вариант! Но опыта-то в шпаргалках у меня не имелось никакого. Эта была моя первая и, думаю, последняя шпаргалка в жизни.
Васипов, лучась глазами, благодарно замотал головой. На самом деле он не понял в моем листочке ровным счетом ничего. Запись оказалась для него чересчур мудреной.
Эллочка презрительно сказала потом так, чтобы все слышали:
– Дурдом, а не класс – «Пряжка, дом один»! Психбольница, кто не знает. У одной горе от ума – шпору в простоте не напишет. А другой… вообще случай клинический. Пень пнем!
Я, конечно, распсиховалась. Мне хотелось спросить у Васипова: «Что ж ты тогда кивал, а?» Но я не спросила.
Хорошо, что не спросила. А то совсем стыдно было бы сейчас. Но про Васипова расскажу отдельно.
Вернусь пока к школьному вечеру. Мне купили обновку – розовое платье. Теперь-то я вижу, что оно поросячьего цвета. А тогда мне понравилось.
На вечере мы с Алевтиной постояли, постояли у стенки и ретировались. Она мне посоветовала нагрянуть в старую школу. Я долго раздумывала, но всё же решилась.
После новой старая школа мне показалась маленькой и темной. Но это ничего. Главное, увидела девчонок, кинулась к ним как сумасшедшая. А Танька Иванова возьми и плюнь мне в лицо:
– Что же это ты, Саня, надела такое детское платье? Ты и так выглядишь моложе своих лет! А в нем так вообще детский сад! Наша крошка.
А Семафорова добавила:
– Особенно по сравнению со своим новым соседом по парте. Теперь он твой бойфренд?
И все залились поросячьим визгом. В этот момент я увидела Накончина. У него было ЧУЖОЕ лицо. Он не подошел ко мне, не поздоровался. ОН ТОЖЕ СМЕЯЛСЯ.
Вот тут я и почувствовала, как земля уходит у меня из-под ног и как (просто на глазах!) платье, которое так понравилось маме, становится коротким. Наверное, в этот миг я росла.
И ни одна душа не поинтересовалась у меня, как дела, как я закончила полугодие, как я вообще живу! Правда, на вечере были не все. Но на что мне все!
Однажды я прочитала где-то:
«Печаль ее была так велика, что в сердце не нашлось места для слёз». В моем сердце в тот день не осталось места слезам. Есть такая песня, казачья, Жанна Бичевская пела: «Тронулся поезд – и рухнулся мост…» Вот сейчас рухнулся мой мост.
А на следующий день я узнала, что Васипов убежал из дома. Волова позвонила. По цепочке. И с места в карьер начала тарабанить, что теперь он пропал без вести. Добавила еще, что когда Серафима ей про это сообщала, она чуть не разрыдалась.
Я так и не поняла: кто чуть не разрыдался – Серафима или Волова. Волова – приличный путаник, у нее с логикой совсем никак, поэтому я кинулась звонить Серафиме.
Оказывается, у Васипова была невыносимая жизнь. Иногда мать пропивала совсем всё. Тогда он ходил собирал по канавам бутылки и сдавал их. Это со зрением-то минус шесть!
А в школе! От возмущения я вся дрожала. Я рассказала Серафиме, как его доводила Эллочка.
А Серафима грустно спросила:
– А ты подошла хоть раз к Валере? Поговорила с ним?
НЕ ПОДОШЛА И НЕ ПОГОВОРИЛА. И я поняла, какой никчемной и сырой жизнью я жила. Как червяк. Я думала только о себе. Я тоже эгоистка. Почище Ганны. Только она на почве счастья. А я на почве краха.
На следующий день мы все собрались в школе. Весь класс явился, хотя были каникулы. Мы пытались разработать план поисков. Гущенко всё время суетилась. Алевтина сидела молча и думала. Туполев тоже соображал чего-то, а потом брякнул:
– Может, надо обойти морги?
Слонов дал ему по шее. Волова заревела, Пожарская закричала. А Слонов двинулся к двери, бросив на ходу:
– Просто станем обходить вокзалы. Может, он спит под скамейкой?
Я рванулась за Слоновым, за мной Алевтина и Гущенко. Остальные тоже поплелись следом. Мы обошли все вокзалы, но под скамейками не было никого, кроме бомжей.
В первый день занятий после каникул Васипова привели какие-то тетки (по виду – из детской комнаты милиции). Но, к несчастью, на алгебру. Васипов стоял понурый, сгорбленный, с жалким рюкзачком. А Эллочка начала:
– Говорят, Васипов, ты от моих «колов» убежать решил? Так от них не убежишь. Работать над собой надо. «Кто не работает, тот не ест». Что бы ты ел, интересно, в деревне?
Он, оказывается, в деревню хотел убежать. В заброшенную.
Мы все замерли. А Васипов с трудом выдавил из себя:
– Рыбалкой бы кормился.
Эллочка фыркнула:
– Лучше бы ко мне заглянул перед дальней дорогой! Я бы тебе яблоко дала. Или апельсинку. А лучше – гречу.
Тут я сорвалась:
– Правильно говорить: «апельсин». И вы не смеете, не смеете Васипова унижать!
И Гущенко за мной:
– Не смеете!
И Туполев, и Слонов…
Это был настоящий бунт.
А потом мы узнали, что в школе гремел педсовет и Майя Филимоновна бросила Эллочке в лицо: «Вы не педагог! Вы – гастролерша!»
Казалось, после такого всё должно было измениться. Эллочка и правда поутихла, но никуда не делась.
– Педагога уволить в середине года можно только в архикриминальном случае, – разъяснила мама. – Замену-то не найти. Сама же она не уйдет.
Такая, как Эллочка, сама точно не уйдет!
Вот и не ушла.
А позже Васипова устроили в интернат.
Газету я выпускала теперь в одиночестве. Но что поделаешь, видно, это мой удел. В старую школу меня больше не тянуло. Она отпала от меня, как изношенная шкурка ящерицы.
И стихи больше не сочинялись. Засохли на корню.
Зима выдалась длинной и дождливой. Алевтина выращивала у себя на кухне помидоры. Мне нравится запах их зеленых стеблей. Они пахли горько, как мимоза. Это аромат чего-то несбывшегося.
Зима. Жизнь без дневника
Майя Филимоновна объясняла, что материки движутся вследствие теории литосферных плит, другими словами – мобилизма. Если исходить из этой теории, Европа может уплыть в Африку. Не за один день, конечно, но всё равно ничего хорошего.
Гигантские плиты-горы подныривают одна под другую и поглощаются мантией Земли. Саша даже поежилась: «Брр-р, просто американский триллер какой-то!» Она попыталась представить себе эту мантию – на 70 километров внутрь земной коры, рядом с раскаленным ядром..
Мальчишки хором загудели, оживились – они любят триллеры. А Саше отчего-то Васипов представился: что он там делает в интернате? Другая теперь у него жизнь, отдельная от них.
Хотя, если разобраться, он всегда был на расстоянии от общества. Поглотила его судьба, как мантия Земли – малую песчинку.
Румянцева вздохнула. Тяжко, на весь класс. Коровы так вздыхают на лугу, в душный полдень. Священные животные, между прочим. Пусть и не на нашем лугу, а в Индии. Но всё равно.
С Румянцевой всегда так. К теориям нормальные люди подходят с точки зрения ума, холодно вникают и анализируют. А Саша всё через чувства… Буквально всё!
– С точки зрения чувства сейчас даже замуж никто не выходит, дурашка, иначе не будет всё о́кей! – поведала Саше на днях Инка Пескарик.
Инка до Саши стала снисходить, поэтому иногда жизни учит. У Инки-то как раз всё о́кей. И с мозгами, и с внешностью, и с денежными средствами. Только красота ее чересчур четкая, словно на приборе выверенная, ничего лишнего. Пластика как у змеи. Да и говорит она всегда в растяжку, шепотом, точно шуршит словами.
Но Васипов, должно быть, недаром Саше привиделся в ее мрачных фантазиях.
После физики появилась Серафима, их классная, и, сияя, внесла предложение:
– Кто хочет увидеть Валеру Васипова? Школа дает автобус, и мы едем в его интернат с концертом. Путь не ближний: интернат почти за городом. Но желающих от уроков освободим. Желающие, поднимите руку!
Ну что за вопрос? Факт, все едут! Кто это в наше время от выходных отказывается? Генка Метлищев вызвался даже на баяне сыграть. Вот номер! Кто бы мог подумать, что он на дуде игрец!
Волова ни с того ни с сего подкинула Саше идею:
– Помнишь, кино такое было, детское, «Королевство кривых зеркал»? Давай так: я буду Оля, а ты – Яло, мое отражение. А Туполев сыграет зеркало. И мы с тобой будем в нем отражаться. Эффектно, правда? Пьеска для интернатских малышей!
«Дичь какая-то! При чем тут зеркала с отражениями? – ошарашенно подумала Саша. – Мы с Воловой совершенно разные люди. Непохожие! А вообще… Пусть отражаются как хотят. Главное, Васипова навестим! Это всё равно что гору раздвинуть, толщу одиночества в земной коре».
– Слова тогда учи! – мрачно велела она Воловой.
– Да что слова?! – искренне удивилась Волова. – Скажу чего-нибудь. На сцене самое важное – внешний вид.
Саша махнула на нее рукой. Пошла в библиотеку, взяла книжку. В. Губарев – автор. «В» – это Виталий. Виталий почти что Валерий. Может, Васипов тоже писателем станет? А что, вырастет, преодолеет свои несчастья и переплавит их в литературу. Он ведь способный, сочинения вон какие писал, Серафима их вслух читала…
Утром седьмой «Б» потянулся к автобусу муравьиным ручейком. Кто с баяном, кто с книжкой, кто с апельсином-гостинчиком. А Волова ото всех отдельно продефилировала, точно муравьиная королева, – медленно и важно.
Саша посмотрела на нее и ахнула: кос-то нет! Вместо белой гривы сосульки свешиваются.
– Градуированное каре, – раздуваясь от удовольствия и важности, объясняла Ганна направо и налево, – самый модный силуэт стрижки.
– Какая стрижка? Ты обалдела, что ли, Волова? – возмутилась Саша. – Я же твое отражение!
– А раз отражение – значит, надо соответствовать, кошечка! – усмехнулась Инка Пескарик. – У кого есть ножницы? Искусство требует жертв!
Это было иезуитство какое-то, как в Средние века. Саша закусила губу.
И вдруг Слонов выдал:
– А давайте я ее подстригу! Я маму всегда стриг.
Все замерли. Серафима почему-то покраснела. Инка сощурила глаза до щелок. Не глаза у нее сделались, а металлические прорези в почтовом ящике.
Пожарская с Воловой надулись, как две огромные лягушки. Их душу стала разъедать зависть. Зависть – настоящая ржавчина. Не успеешь ахнуть – «в утиль» попадешь. А Гущенко, та не растерялась.
– Слонов, – говорит, – подстриги и меня. Я конферансье, как-никак.
– А я пока не профессионал, – нашелся Слонов. – Мне двоих не успеть. Работаю-то я медленно.
Гущенко осталась не солоно хлебавши.
Спектакль, который они дали потом в интернате, и в сравнение не шел с тем действом, что происходило в автобусе по дороге. Все, вытянув шеи, таращились на переднее сиденье, где колдовал Слонов. Саша никогда не предполагала, что из ее жалких хвостиков может выйти такой царственный одуванчик.
– Олег! Ты настоящий талант! – с восторгом воскликнула Серафима. – Как ты это сделал? Ножницы же тупые. А ровненько до чего! – И всплеснула руками. – Сашенька, ты стала настоящей красавицей!
Теперь Румянцевой раззавидовались уже не только Пожарская с Воловой, но и все представители женского населения автобуса. Кроме, пожалуй, Серафимы (но та почти старушка) и Алевтины (но та подружка). Алевтина взирала на разыгравшуюся канитель с умудренным видом и загадочно улыбалась.
А дальше было грустно. Дальше был интернат. Он был похож на больницу и в то же время на вокзал. Холодно, бесприютно, но шумно.
Во всех палатах сразу же раскрылись настежь двери, молва разнеслась мгновенно, как новость по железнодорожной станции:
– К Васипову приехали!
За Сашей увязались двое малышей. Они преданно заглядывали ей в глаза и каждую минуту спрашивали:
– А ты меня к себе не возьмешь? А что ты мне дашь? Дашь что-нибудь?
Саша протянула им бутерброды с сыром и свежим огурчиком – они накинулись на них, точно галчата. Метлищев отдал свои жвачки – не пожалел, а Пожарская – коробку зефира.
Только Гущенко не расставалась с апельсином до самой васиповской спальни.
Спальня была огромная и пустая. Койка и тумбочка, койка и тумбочка… Ничего лишнего. Окна без занавесок. И воздух какой-то тяжелый.
Васипов сидел на кровати и смотрел в окно. За окном шел снег.
– Эй, Васипов! – закричала Гущенко. – Вставай! Мы к тебе приехали в гости. Апельсин привезли.
– И вообще гостинцы. Зефир там, – пролепетала Волова. – У нас с Пожарской две коробки.
– Валера, ты что, нас не узнаешь? Это мы, – участливо и тихо сказала Серафима.
Васипов повернул голову, и тогда все увидели, что он плачет. Слезы его текли бесшумно, как падающий снег за окном.
Апельсин выпал из рук Гущенко и, подпрыгнув оранжевым шариком, закатился под кровать.
Все замерли, будто экспонаты в Музее восковых фигур.
– А пойдемте, это… порепетируем? – прорезалась вдруг Волова. – Васипов, у вас есть зал? Ты придешь на концерт?
И, не дожидаясь ответа, все потихонечку заструились в коридор. Почему-то на цыпочках. Все, кроме Саши, которая не смогла сойти с места. Так и осталась рядышком с Серафимой. Учительница погладила Васипова по голове, как малыша.
– Успокойся, Валера. Расскажи, как ты живешь, что читаешь, появились ли у тебя тут друзья?
– Меня здесь никто не слышит, – тихо произнес Васипов. – У всех голоса громкие, на семь человек рассчитаны, в палате тут по семь человек. А я так не умею – не привык. Но хуже всего, что одному побыть негде – всё время на людях.
– Вот горе-то!.. – пробормотала Серафима.
А Саша деревянным голосом выдавила из себя:
– Смотри, Васипов, снег идет. Снег какой белый…
И правда, снег падал на грязную окраину, неправдоподобно сияющий, преображая ее на глазах, точно волшебный «королевский» грим – какую-нибудь замарашку. Со снегом всё стало выглядеть светлее: и улица, и комната, и лица. Так они и сидели, а снег всё шел, и где были в это время остальные, Саша не помнит.
Весна. Дневник
15 мая
Незаметно проклюнулась весна. Солнце теперь долго отражается в теплых лужах, пока они не закроются на ночь тонким ледком. Как окошечком!
Кажется, что в воздухе пахнет лесным костром. Хочется поскорее снять пальто!
Все люди катаются на велосипедах до ночи. Вчера я шла из булочной и видела Слонова. А он никого не замечал. Отец катал его на мотоцикле.
Слонов держал отца за шею и, когда они заворачивали направо, поднял правую руку, как настоящий мотоциклист. Они мчались так, что от них шел ветер. И лицо у Слонова совсем не было похоже на лицо второгодника, а было счастливое-пресчастливое.
Девчонки хвастаются черемухой. Они важно приносят в школу веточки, якобы мальчишки не из нашего класса (из старшего конечно же!) таскают им из леса букеты. Но свидетелей у девчонок нет. Только Ганне-Галине (это все видели!) Туполев подарил букет. Конечно, он ездил в лес. У него прекрасный велосипед, взрослый «Турист».
И за что Воловой такое счастье? На математике я взглянула на нее и тихонечко вздохнула.
16 мая
А сегодня-то! Вот это да! Слонов притащил откуда-то охапку черемухи. Мне притащил! И он не стеснялся ни капли. Не то что я, когда поехала навещать его в больницу…
Слонов воткнул веточки в парту и громко провозгласил:
– Моська, у нас сад!
Серафима ничего не сказала. Девчонки не сводили с нашей парты глаз и громко шептались. А Эллочка (гадина она!) – сразу кривые улыбочки, хмыканья.
– Что за заросли? – спрашивает.
Вызывает Слонова к доске уравнение решать и ехидничает:
– Давай, давай, Слонов! Хотя все равно не решишь. Правда, может, по лесу прогулялся и мозги проветрил!
Олег начал молча собирать все свои винтики-шпунтики с парты, а я стала помогать ему засовывать их ему в карман. Руки у меня заметно тряслись, и Эллочка ядовито вставила:
– Вот-вот, разве только Румянцева тебе и поможет.
Я чуть не заревела от обиды.
Но Слонов уравнение решил. Думаю, на нервной почве. Все-таки он очень неожиданный человек. Но его в классе все уважают. Мне это почему-то очень приятно.
Когда я возвращалась домой из школы, моя черемуха пахла на всю улицу.
20 мая
До чего весной на Пороховых красиво! Даже не верится, что это город. Всё цветет: яблони, вишни, груши. А у нас во дворе рябинка. Папа из леса пересадил. И прижилась! Цветки у нее снежно-мохнатые, как бабочки.
А над кинотеатром «Звездочка» вьются пчелы. Потому что рядом липы. Кинотеатр у нас маленький, а название над ним огромное. Похоже на детский рисунок. Будто ребенок домик нарисовал и надпись написал. «Звездочку» все называют ласково – «Звездулькой».
Желания заниматься нет никакого. (Но я себя переломила – готовилась к годовой контрольной по алгебре на скамейке под рябиной.) Оказывается, не у меня одной нет такого желания!
Назавтра все решили с алгебры сбежать, но не просто так, а культурно. Гущенко, как сорока, принесла на хвостике новость: в нашей «Звездульке» испанская картина «Королева „Шантеклера"»! Главную роль играет знаменитая Сара Монтьель – и поет, и танцует, и красоты неземной. Ну, Гущенко вообще-то часто преувеличивает…
Лично я против прогулов. Какой в них смысл? Мне интересно учиться. Но в то же время на Эллочку лишний раз смотреть…
Короче, только мы навострились на выход, как навстречу математичка, собственной персоной. Наш пострел везде поспел! Обозрела толпу и сразу смекнула, в чем дело. Моментально быка за рога:
– Что, слинять решили? Может, поделитесь – куда?
Волова купилась на ее неожиданно дружеский тон и брякнула про «Королеву „Шантеклера"». А Эллочка – вот аферистка-то! – тут же спрашивает на полном серьезе:
– А меня с собой возьмете?
Все просто обомлели. Такого в нашей школьной жизни еще не было.
– Вы думаете, мне огромное удовольствие с вами на алгебре сидеть? – говорит нам «пе-да-гог». – Я тоже желаю на Сару Монтьель. Правда, перед контрольной это последнее занятие, но ведь перед смертью не надышишься. Вы все равно ничего не знаете. Только учтите: толпой двигаться глупо: попадетесь. Рассредоточиться нужно, а я к вам в хвост пристроюсь. Надеюсь, это останется нашей тайной.
Все впали в телячий восторг. Девчонки просто крыльями захлопали, как куры. Особенно Волова. Хотя и Пожарская цвела. Даже Инка Пескарик благосклонно улыбалась. Эллочка-то, мол, своя в доску. Ну кто бы еще так мог из учителей? Да никто! Метлищев Эллочке лучший билет отдал.
А мне вдруг жутко противно сделалось. На мой взгляд, подобный выверт называется дешевым популизмом. Но я посмотрела на ребят и поняла, что, кроме меня, никто так не думает. (Ни Слонова, ни Алевтины в тот день не было.)
Короче, в кино мне идти расхотелось. Я двинула домой и засела за алгебру. Из принципа. Обошлась без Сары Монтьель. Хотя «Шантеклер», конечно, красивое название.
…А недавно я в русско-испанском словаре вычитала, что «гений», «стойкость» и «характер» произошли от одного и того же слова.
Почти лето. Жизнь без дневника
Саша и представить себе не могла, что случится завтра. По-видимому, «вирус прогулки» с легкой руки Эллочки укоренился и начал приобретать характер эпидемии. После большой перемены по классу зашелестели списки.
Конечно, лучше было бы тайно проголосовать. Как членам правительства. Но для этого пульт нужен, ну и всякое такое. Или хотя бы ящик с прорезью. А у седьмого «Б» ничего такого не имелось. Времени тоже не было, так что решение родилось спонтанно.
На большой перемене Инке Пескарик вдруг стало скучно. Все суетились, списывали друг у друга реферат по истории, а она изрекала:
– До чего же надоела эта историчка со своей культурой! «Возрождение – весна в жизни человечества…» Далась ей эта весна! Весной приличные женщины макияж освежают, «химию мокрую» делают на голове, педикюр-маникюр. Эллочка вон за собой следит – в джерси форсит. Да хотя бы не притворяется, что школьные будни – ее призвание. А у исторички ничего такого и в проекте нет. Или взять Филимоновну, Майя которая. У той тем более – ни «фейса», ни «кейса». Филимоновна совсем сырая! Откуда только выискалась? Над ней издеваются, а она лишь краснеет. Пережиток прошлого, а не женщина. Нормальной шляпки не имеет, ходит в доисторическом малиновом берете, как пушкинская Татьяна. Да и откуда им взять шляпки? Беднота! У моего отца коврик в машине, на который ноги ставят, с их зарплату будет! Ску-у-у-учно… Не устроить ли каникулы для «училок»? Ну почему бы нет? Пусть отдохнут!
Инка, томно закатывая глаза, врастяжку продолжила, уже намного громче:
– Что за фантазия такая – реферат по истории? Все эти Рафаэли, фрески, да Винчи – каменный век! Да еще и первым уроком. В несусветную рань голову напрягать! Ой, а у меня такая весенняя уста-а-алость… Вы как хотите, а я завтра посплю, пожалуй, часиков до двенадцати, как белый человек. Кроме шуток, неужели завтра кто-нибудь потащится «возрождаться»?
Стрела с ядом кураре была выпущена. Каждый предпочел назвать себя белым человеком. Тем более не у одной Инки усталость – у всех усталость и авитаминоз.
Седьмой «Б» дружно голосовал против истории. И физики. Ну и литературы, конечно.
«Кто со всеми вместе?» – было размашисто начертано на листке. А дальше шли подписи. Подписались уже почти все. Даже Сашина подруга Алевтина. Даже культурный менеджер Гущенко. Саша растерялась.
Ей интересно было бы послушать про Леонардо. Но да Винчи-то завтра, а решение надо принять сейчас. Сашу насквозь простреливали уничижительные ухмылки: «Ишь праведница! Такие всегда откалываются».
А больше всего она почему-то боялась, что ее станет презирать Слонов. Он ведь в учебе не рекордсмен. Зато в жизни не слабак. Нет, наверное, такого, чего бы он испугался.
Саша шумно вздохнула и, расписавшись зверским росчерком «Румянцева», передала список дальше.
На перемене все обступили ее парту:
– Смотри-ка, и Румянцева с нами. Ну, крутизна!
Саша почувствовала себя победительницей. Но то была пиррова победа. Она длилась не больше минутки. Точнее, пока в класс не ворвался Слонов.
– Неужели ты тоже подписалась?
У Слонова лицо всегда казалось немножко удивленным – глаза слишком широко расставлены. А тут Саше почудилось, что глаза у него от недоумения вообще разъезжаются.
Но путей к отступлению уже не было. Как можно безразличнее она выдавила из себя:
– А что? Я как все!
– Дура ты! – В голосе Слонова звучало столько удивления и злости, что Саше показалось: сейчас он ее отлупит. – Как все!
На душе у Румянцевой сделалось тускло. Словно свет выключили.
Теперь все окружили уже Слонова:
– Ну ты, Слон, и штрейкбрехер! Трус несчастный… Вот уж на кого бы не подумали!
– Разве вы не знаете, что у Тамары Кирилловны больное сердце?
– A y меня больная ножка и больной носик! – передразнил его Генка Метлищев. – Мало ли что у кого болит! Может, мне скучно на ее уроках?
– Мелкота вы все, недоумки, – тихо произнес Слонов.
Сказал, как ударил. И вышел из класса.
Секунду стояла неловкая тишина, а потом все стали шумно осуждать Слона. И чего, правда, умничает? Если б еще отличник был, а так… И одет во все ношеное, бэушное. Подумаешь, лорд нашелся! Класс разделился на два лагеря: все и один.
В тот день Румянцева хватала тройку за тройкой. Впервые в жизни. Впервые в жизни вечером ей было не до уроков, а ночью – не до сна.
«Я со всеми – значит, я точно права, – думала Саша. – Разве бывает в жизни так, что не правы все и прав один?.. Но почему же тогда остальные тридцать четыре суетятся и опускают глаза, когда на них в упор смотрит тридцать пятый?»
И сразу, спасительной ниточкой, вкралась мысль: «Ну или, например, если правы двое…» Мысль-ниточка не отступала: «Только для этого надо прийти завтра утром вместе со Слоновым! Но как же моя подпись в списке? Скажут – струсила. Хотя… все мы пошли на поводу у Инки. Не быть белым человеком – это же позор!..»
Саша представила вдруг, как Тамара Кирилловна входит в класс своей рассеянной походкой, с улыбкой на челе, под мышкой у нее, может, «Мадонна Литта» или «Джоконда». Тамара Кирилловна порывается встать на стул, на одно колено, в порыве вдохновения, поднимает глаза от картин на класс, а в классе один Слонов в торричеллиевой пустоте.
Майя Филимоновна рассказывала им зимой про Торричелли. Про его опыт. Трубка, а внутри ничего, вакуум. И Саше привиделось, что внутри этого вакуума она сама, Саша Румянцева, отличница и слабачка, которая про гений и характер понимает лишь в теории. В вакууме она, Саша, а кругом ни ветерка, ни вздоха… ни черемухового сада.
Саша подскочила на кровати точно ужаленная.
«А вдруг у Тамары Кирилловны инфаркт случится? Или у Слонова? Болезни ведь из генов вылезают. У него же мама от инфаркта умерла. Он мне рассказывал, когда мы с ним класс убирали. Мне одной рассказал. Как же я забыла?»
Саша зачем-то метнулась к окну. Сквозь белую ночь уже просвечивал новый день.
С трудом дотерпев до семи утра, Румянцева помчалась к Слонову. Она ведь давно знала, где он живет. Даже окно помнила: тюлевая занавеска повешена косо, как придется, а на подоконнике пустая пачка из-под пельменей притулилась…
Слонов распахнул дверь мгновенно. Словно был готов к боевым действиям.
– Ну, ты молоток, Моська! – И засмеялся.
Когда он смеялся, у него глаза сближались и хохолок на затылке подпрыгивал. Как у ручного медвежонка.
Сначала отправились к Алевтине.
Алевтина встретила их без очков. Без них у нее, оказывается, выражение лица совсем беспомощное. Но соображала она всё равно хорошо. Подумала минуту и, как компас, выдала точное направление.
Конечно, и компас, бывает, сходит с ума от всеобщего ажиотажа, как, например, вчера со списками. Но сейчас Алевтина действовала безошибочно.
Через десять минут они уже звонили в квартиру к Гущенко.
– Гущенко, слабо́ стать диссиденткой? Или ты серое большинство? – деловито спросила ее Алевтина.
Про диссидентов Гущенко слышала. Писатель Солженицын был диссидентом. За правду потому что выступал. Его даже посадили и выслали. А он в ответ повесть написал про один день в тюрьме заключенного Ивана Денисовича. И еще разные рассказы политические. Гущенко их не читала, но собиралась, как передовой человек.
Солженицына пока в типографиях не очень любят издавать. Зато произведения его люди от руки переписывают, друг другу передают и потом обсуждают. Вот какая слава! Самиздат называется!
Получается, эта троица в диссиденты метит, а она, Гущенко, так себе?! Серая масса? Ну уж нет!
– Да я, если хотите знать, и кейс к урокам собрала раньше вас, – выдала Гущенко. – И реферат первой сдула. Я к истории готова. Что мне эти малодушные списки? Детский лепет. Я за правду!
В глазах ее читалось торжество. Не выйдет на козе ее объехать!
– Мы примерно так и полагали, – сдержанно подытожила Алевтина. – Ну что, двинули в школу?
В этот момент Румянцева чуть было все не испортила. То ли икнула, то ли хихикнула. Но Слонов вежливо постучал ее по спине:
– Набери воздуха в легкие и досчитай до одиннадцати: способ борьбы с икотой. Старинный. Слыхала о таком?
И они поскакали к Воловой. Потом к Туполеву. Ко всем, конечно, не успели. Но из тех, с кем поговорили, с ними пошло четырнадцать человек. Четверо не открыли дверей. Одной из этой четверки была Инка.
Она стояла по ту сторону металлической двери, в дорогом розовом пеньюаре, и смотрела в глазок.
«Совки! – презрительно прошептала она. – Да чтоб я вас впустила? Не дождетесь!»
Но отчего-то у Инки защипало в носу, когда услышала, как рассвобожденно, радостно гомонят они там, по ту сторону жизни. Дверь у Пескариков была толстая, стальная, точно в сейфе. Но звуки все-таки прорывались.
Лестничное веселье врубилось в тишину дорогой квартиры, как грибной дождь в холодное озеро. Множество ног затопало вниз.
«Думаете, выгадали, дурачье?! Дураки всегда в большинстве!»
Инке явно отказывала логика. Но она продолжала себя успокаивать. И всё равно вздрогнула, когда за одноклассниками звонко лязгнул кодовый замок в подъезде…
Но самое неожиданное поджидало седьмой «Б» впереди.
В заснеженном тополиным пухом дворике у школы стояло еще человек двенадцать во главе с Генкой Метлищевым. Они криво улыбались, глядели в сторону и выжидали, как будут разворачиваться события.
Увидев, что бо́льшая часть класса всё-таки явилась, начали осторожненько лепиться сзади. А Генка, трусливо озираясь, быстро достал из кармана клочки каких-то бумажек и выбросил в лужу. Это были вчерашние, теперь уже ничего не сто́ящие списки…
А урок истории прошел ух до чего интересно! Тамара Кирилловна конечно же принесла с собой огромную репродукцию «Джоконды», скатанную в аккуратную трубочку, и повесила ее на доске. Она здо́рово рассказывала про Леонардо да Винчи и вообще про тайны гениев. Про мистическую Мону Лизу, про то, что люди до сих пор вглядываются в ее улыбку и всё наглядеться не могут, а некоторые от этого творения даже под гипнозом…
А потом Тамара Кирилловна подняла глаза с картины на ребят и строгим голосом спросила:
– Вас вроде бы маловато сегодня?
«Ха! Ничего себе маловато! – снисходительно-нежно подумала Румянцева. – Да, Тамара Кирилловна явно живет «с точки зрения чувства». Знала бы она… Может, мы сегодня ее от инфаркта спасли!»
На перемене седьмой «Б», против обыкновения, не торопился из класса. Вообще они вели себя словно какие-нибудь третьеклассники. Толпились и болтали, прямо как в розовом детстве. А Гущенко вдруг, неожиданно для самой себя, выдала:
– А давайте съездим к Васипову! Чего он там один?
Гущенко произнесла это неуверенно. Боялась, должно быть, что над ней станут смеяться. Но ничего подобного! Ее слова вызвали бешеный шквал одобрения. Инка Пескарик наверняка сочла бы такую реакцию неадекватной.
А неадекватнее всех повела себя Румянцева: то ли подпрыгнула на радостях, то ли описа́ла кружок вальса-квадрата. Это оттого, что про поездку к бывшему однокласснику она уже думала, только ни с кем не обсуждала. Саша давно уже хотела всем предложить Васипова навестить, еще в начале весны, да не решалась.
В тринадцать лет человек часто стесняется быть хорошим, а в глубине души все равно к этому стремится. Ангелы его призывают к образу и подобию Добра. Серафима им это пыталась объяснить в начале года, про всепрощение, про Новый Завет, еще про что-то… Жаль, слушали невнимательно. Они тогда еще сочинение писали, и у Васипова такая фраза была: «Искренность Бога создала человека». Серафима его работу вслух прочла. А сейчас Балерины слова отчего-то явились всем на ум. Телепатия, наверное…
После уроков Саша с Алевтиной медленно шли домой. Настроение было приподнятое, как в праздник. Они говорили про самые важные вещи на свете: про любовь и про самих себя.
Алевтина наконец открыла Саше свою тайну.
Раньше она жила в другом городе и любила там одного мальчика, но он этого не знал. Он тоже ее любил, но она это знала. Он круглый год таскал ей помидоры (это был южный городок, и помидоры созревали на его огороде). И вот она уехала и написала ему письмо. А он не отвечает.
– Ничего, будем ждать письма вместе! – бодро проговорила Саша. – А хочешь, я тебе свои стихи подарю, про любовь, их еще никто не читал. Но мы ему пошлем. Правда, я уже полгода стихи не пишу, но у меня осенние есть.
Алевтина внезапно промолвила:
– Между прочим, я должна тебе сообщить, хоть ты и думаешь только о Накончине… Слонов почти всем девчонкам нравится. А ему нравишься только ты. Это ужасно заметно. Но ты, наверное, не замечала, да? Ты ведь не от мира сего.
Саше показалось, что весь мир моментально замер: и ветер в кронах деревьев, и прохожие вокруг, и воробьи, и трамваи. Оказывается, это она сама остановилась да вдобавок перестала дышать. Саша засопела и шумно выдохнула.
– Что с тобой? – удивленно спросила Алевтина.
Румянцева, невпопад улыбаясь, ляпнула:
– Ой, какой ужас! Я утюг не выключила, чайник у меня на плите, и вода в ванной течет. Возможно, уже пожарных вызвали и водопроводчиков. Побегу скорей домой!
– Ну беги, – с недоумением пожала плечами Алевтина.
И Саша припустила широким спортивным шагом.
Песочные часы перевернулись. Мир медленно возвращался в исходное положение – с головы на ноги. А может, наоборот. Вселенная точно сотворялась заново. Она рождалась из солнечных лучей, которые падали в лужи сквозь грибной дождик.
Саша вбежала в квартиру, схватила ручку и потрепанный дневник. Слова полились свободно, будто сами по себе:
Явился на свет гусенок…А дальше пошла строка за строкой. Это было стихотворение. Оказывается, она не разучилась сочинять!
Явился на свет гусенок Без перьев и без пеленок, Открыт и не защищен. И снится гусенку сон, Что стал он взрослым гусём И жизнь ему нипочем, Ведь крылья над ним как палатка. Проснулся гусенок. Сладко Зевнул и пошел гулять, Чтобы учиться летать…Весна заканчивалась. Но ей на смену торопилось лето. А летом всегда начинается что-то хорошее. Как новое ЛЕТО-исчисление ЖИЗНИ. Жизни, которую так трудно разложить по страничкам дневника…
Что там, за поворотом? Сказка-несказка
Посвящается моим друзьям – Наташе и Мите Юнгмейстерам
От автора
Действие второй повести происходит в самом центре Петербурга в XXI веке. Вроде бы всё другое: и время, и школьный быт, и ребята. Но вдруг в ленивом голосе Залёткина прорезываются металлические нотки Инки Пескарик. Кто знает, а может, после школы Инка, удачно выйдя замуж за бизнесмена, стала Залёткиной и сын ее учится теперь вместе с дочкой Румянцевой! Или с дочкой Алевтины, которую, вполне возможно, в детстве называли Тиной или Диной? Очень даже может быть. Впрочем, и водитель Геннадий чем-то подозрительно напоминает Метлищева, так до конца и не повзрослевшего, хотя и научившегося играть в шахматы. Если вы, призвав в союзники фантазию, вглядитесь в лица остальных, наверняка еще кого-нибудь сумеете узнать. В Стулове, например. Кстати, отец его был летчиком…
В жизни часто бывает так, как не бывает и в кино. Почему же не предположить, что герои наши опять встретились в нужном месте в нужное время!. Тем более что родители, как правило, взлетают лишь на ту высоту, которую суждено осилить их детям…
Кстати!. Все персонажи сего произведения, тем более сотрудники Французского консульства, – плод фантазии писателя и к реальной жизни отношения не имеют. Хотя по сути сказка эта не сказка вовсе, а настоящая быль…
Брусникина Варвара, стрелок из арбалета
Варьке приснился сон, что мама вышла замуж за миллионера. Он моментально подарил маме корону из бриллиантов, а Варьке машину «рено». На Новый год у них сразу наметился Париж. Варька подкатила на «рено» к школе – сказать, что контрольную по геометрии она себе отменяет: недосуг, мол. Ее досуг теперь пройдет в Париже, она там будет спаржу есть. Седьмой «Б» конечно же отпал. Директриса уважительно поздоровалась с ней за руку. И вдруг маминым голосом сказала:
– Если ты сию секунду не продерешь глаза, твои макароны превратятся в холодных лягушек.
Варька разлепила веки. За окном колыхалась серая муть: то ли дождь, то ли снег, то ли утро, то ли вечер, то ли зима, то ли осень – не разберешь. И почему действительность так отличается от снов?
Мама ходила по квартире с чашкой кофе. Без короны. И без спаржи. На столе остывали макароны с сыром. Вид у мамы был сердитый. Она показала Варьке на часы:
– Опять опоздаешь! Первым уроком контрольная! Если треугольники подобны, они – что? Помнишь?
Странно устроены взрослые. Зачем маме-то в эти треугольники углубляться? Сидела бы и занималась своей любимой керамикой. Нашла о чем спрашивать. Главное, что до каникул всего ДВЕ НЕДЕЛИ!
– Ой, мама, спишу у Туси. А как ты думаешь, снег хотя бы на Новый год выпадет?
– Для тех, кто списывает, выпадет только «кол» в журнале!
Варька вздохнула. Всё было как всегда, и Париж на горизонте не маячил.
Мама уверена: списывать – достоинство ронять. А у них в классе считают, что достоинство ронять – это пешком ходить или модных кроссовок не иметь. По этой причине Варька уже пять уроков физкультуры прогуляла. Мама узнает – скандал будет. А кто виноват? Варька маме миллион раз говорила, что у нее тапки допотопные – такие сто лет как уже не носят. А мама не понимает. Сидит целыми днями в своем УДОДе.
Удод – это раньше птичка такая была, а теперь так кружки называются. Учреждение дополнительного образования значит. Мама называет его «Домиком». Она там в студии преподает, учит детей кембрийскую глину глазурью покрывать.
Кембрийская глина, конечно, красивая, голубая, и объясняет мама здо́рово, да только в долларах за это никто не платит. Но есть приятный бонус. Варька в «Домике» стреляет. Из арбалета. Бесплатно. Это имеет значение для семьи из двух человек.
Варька бы не возражала, чтобы их стало трое, в смысле… ну понятно. Но маме и в ум не идет «про замуж»! У нее в голове Варькино здоровье, учеба, голубая глина и трубы, которые в ванной надо менять. Ну еще, конечно, мечта о Париже! Мама им всю жизнь бредит, даже французский самостоятельно выучила. Да что толку? Денег все равно нет. А у ЭТОГО просить они не будут. Когда ОН появляется, на Варькин день рождения, мама велит с НИМ здороваться. А Варька не здоровается! Разве это отец, если о собственном ребенке раз в году вспоминает! Недавно притащил две напольные вазы-громилы (не поднять!) с Варьку ростом. Ну и куда их?! Ни уму ни сердцу. К тому же посередине не склеенные. Не успел, что ли, за 365 дней? А если верхняя часть на человека свалится?! Хорошенький подарочек! «Вы, – говорит, – их не трогайте, тогда они век простоят».
Так они уже и простояли. В магазине, всё лето. Только никто не купил. Вот в качестве презента и приволок. Очень ценная вещь, ничего не скажешь! Лучше бы сапоги подарил на зиму! Тоже мне, непонятый гений!
Когда мама с ЭТИМ в академии учились, все думали, ОН второй авангардист Филонов. А никакого Филонова из него не вышло. Нет, Варька никогда художником не станет. Лучше уж из арбалета стрелять. Там по крайней мере результат сразу виден.
Короче, миллионер бы их семье очень даже пригодился. Жаль, что в УДОДах миллионеров не водится!
Варька бежала по Невскому, спрятав руки в карманы, а лицо – в воротник старенькой дубленки. С неба сыпалась студеная мокрая крупа. Бр-р! То ли дело раньше, во времена какого-нибудь Андерсена! Прилетала под Новый год Снежная королева, в своей ледяной серебряной карете, ударял мороз, и…
Варька еле удержалась на ногах. Даже искры из глаз посыпались! Какой-то ненормальный мальчишка в нее врезался! На всем скаку, прямо лоб в лоб! Тоже, наверное, под ноги не смотрел. Извиняется теперь, «пардон», говорит. Какой «пардон», когда шишка величиной с апельсин?!
Варька даже заплакала. Ну что за невезуха? Слезы были злые и горькие. Упади такая кому-нибудь на руку – небось ужалит, как змея. Варька показала мальчишке кулак. Он покраснел и убежал. Действительно, ненормальный.
Ой, да он потерял что-то! Какая-то хорошенькая блестящая вещица, наподобие спичечного коробка, осталась лежать на грязном асфальте.
– Эй ты! Стой! – закричала Варька.
Но мальчишки уже и след простыл.
«Ладно, потом разберемся», – подумала Варька и сунула находку в карман джинсов. И забыла. До звонка-то одна минута оставалась. Только-только хватило, чтоб дубленку – на вешалку, шарф – в рукав, и по лестнице пулей!
Вообще-то Варька не опоздала – в класс влетела, когда звонок еще дозванивал.
Седьмой «Б» класс, любители мюзиклов
Но математичка Алла Борисовна, по прозвищу «Пугачёва», посмотрела на нее с неудовольствием. Она уже раздавала варианты контрольной. Сведя брови в одну суровую линию, она осведомилась ледяным тоном:
– В чем дело, Брусникина?!
– Извините, Алла Борисовна! Я уже пишу!
Варька кинулась к своей парте и увидела, что Туси нет. Неужели заболела? Катастрофа! У них с Тусей было разделение труда: Варька «отвечала» за гуманитарные науки, Туся – за точные. Обычно всё выходило «хоккей». А тут… Варька начала лихорадочно вспоминать. Как там мама утром говорила: если треугольники подобны, то… то… И вдруг в голове у Варьки возник проблеск. «Подобны – значит, стороны пропорциональны». А если стороны пропорциональны, значит, их можно найти! Найти-то как раз и требовалось!
«Пугачёва» меж тем бродила по классу, разбрасывая свои реплики-афоризмы:
– Полное, полное отсутствие присутствия, Печёнкин! Мухорямов, эта работа на тройку. Вспомни, в каком ты классе!
– За что, Алла Борисовна? Почему вы занижаете?
– Учитель не может занизить оценку – может только завысить. Но – «три», только «три»!
Против обыкновения, Варька не вертелась и ни во что происходящее вокруг не вникала. Она вдохновенно строчила, прямо как сумасшедшая. «Пугачёва» заподозрила неладное и встала рядом. Начала высматривать, откуда Варька сдувает. А она и не думала сдувать: на нее снизошло озарение! «Пугачёва» считает, если Варька не Пифагор, значит, дебилка. А Варька просто медлительная, потому что Козерог. Но и у Козерогов бывают «эврики». Вот как у нее сейчас!
– Я решила, Алла Борисовна!
– Неужели? – критически осведомилась «Пугачёва», недоверчиво оглядывая Варькин стол. Но, кроме листка с контрольной и черновика, там больше ничего не было.
– Учти, переписывать не разрешу, оценка пойдет в триместр. – Поджав губы, математичка прошествовала к учительскому столу.
Странно, но Варька даже не огрызнулась. Душу объяла безмятежность. Обида, злость и разного рода «психопатства» будто разбивались о броню спокойствия. Точно Варькина душа надела латы. Вот чудеса!
За Варькиной спиной сидел ее враг Залёткин.
– Эй, Ягода, – издевательски сказал он, – поделись крутизной! Ты что, шпору наизусть выучила? Может, ты и мой вариант решишь? Ха-ха!
Варька обернулась к нему, медленно и небрежно.
– Легко, – сказала она с королевской улыбкой и протянула руку за листком. – Давай вариант!
Залёткин оторопел. Но свою выгоду просек мгновенно.
– Это мы ща!
– В чем дело, Залёткин? – тут же поспешила к нему «Пугачёва». – Чем вы тут занимаетесь?
А дальше никто ничего не понял.
Залёткин вдруг зарумянился, как маков цвет (сроду с ним такого не бывало! Все думали, что он вообще краснеть не умеет. Он и сам так думал, а тут вспыхнул), и в смущении произнес:
– Я списать хотел, Алла Борисовна, у Брусникиной, раз Думова заболела. Я ведь обычно у Думовой списываю. Думова, конечно, голова! У нее ошибок практически не бывает. А я нарочно делаю полторы ошибки, и вы тогда четверку ставите… Двойка-то мне не прет: мне маман за четверку обещала Египет на каникулах…
По мере того как Залёткин говорил, интонации его становились всё растеряннее. И дураку было ясно, что он никак не ожидал от самого себя подобной искренности. С какой стати так подставляться?! Залёткин плохо считал только на математике, а в жизни просчитывал шаги наперед. Что за финт?! Его лицо становилось всё пунцовее и пунцовее. Лицо же «Пугачёвой», напротив, начало бледнеть. И каменеть.
«Прямо каррарский мрамор какой-то!» – подумала Варька. Статуи из такого мрамора в старинных дворцах стоят в вечной задумчивости, например в Строгановском замке или в Михайловском. Варьку мама часто по дворцам таскает, для образования личности. Но сейчас Варькина личность пребывала в каком-то странном состоянии. Залёткин, которого она презирала с первого класса, с тех самых пор, как он наподдал ногой ее жалкий рюкзак, перешитый из маминой куртки, и, хихикая, засунув руки в карманы кожаного пиджачка, процедил: «Отстой…» – Залёткин вдруг представился ей таким невиноватым, хоть плачь!
Кожаный пиджачок ему купили, а по дворцам не водили, цены он примечать научился, а красоту нет! А ведь когда что-то прекрасное видишь, ну или слушаешь, в тебя столько радости проникает! Водопад целый! Это все равно как ливень для пересохшей грядки. А без воды на потрескавшейся твердой земле ничего хорошего не вырастет: ни цветка, ни дерева, ни хлебного колоска, только бесчувственные сорные травинки…
Эти мысли были для Варьки новыми, непривычными. Крошечное зернышко жалости к Залёткину разрасталось в огромный ком, который уже мешал дыханию.
В классе темной тучей повисла грозовая тишина. Классики называют такую сцену «немой».
Но уже в следующую минуту математичка направилась к Залёткину широкими, гневными шагами. Только она ничего не успела изречь, потому как Варя Брусникина, недотепа из недотеп, решительно схватила ее за руку.
Это уже было настоящее хулиганство! К тому же Брусникина еще и речь выдала. При этом так отчаянно жестикулировала, что ее красное пончо (Варька в тот день в любимое пончо вырядилась) взлетало и падало вверх-вниз, точно плащ тореадора.
– Залёткин правду сказал, Алла Борисовна! А правда слаще лжи. За правду детей не бьют.
Как будто «Пугачёва» собиралась Залёткина бить или розгами сечь! Хоть стой, хоть падай! Тем более было бы из-за кого пропадать! Весь класс знал, что Залёткин Брусникиной не товарищ. Как гусь свинье.
На глазах седьмого «Б» творилось что-то невообразимое. Они сидели прямо как в театре, в котором были и зрители, и исполнители в одном лице.
– Конец света! – всплеснув руками, возвестила эмоциональная Галька Таратайкина, по прозвищу Мать невесты.
Галька была выше всех ростом, и сто лет назад, в начальной школе, они ставили спектакль по Гоголю. Галька играла мать невесты, с тех пор «имечко» к ней и прилепилось. Сейчас Галька говорила с интонациями Светы Светиковой, восходящей звезды из «Нотр-Дам де Пари». Светикова там Эсмеральда, в которую влюблено всё мужское население страны. А «Нотр-Дам» – самый модный мюзикл, он на слуху, семиклассники постоянно оттуда партии мурлыкают.
Стасик Печёнкин тоже отставать не пожелал, присвистнул на мотив партии Квазимодо.
– А-а-ах!.. – горестно протянула Алина Деревянко, в тональности сопрано, точно собралась исполнить самую красивую партию «Ave Maria».
Но в ту самую минуту, когда Варька коснулась ладони математички, лицо Аллы Борисовны моментально прояснилось, а взгляд потеплел. Как будто ледник шел, шел и ни с того ни с сего растаял. Все с изумлением увидели, что Алла Борисовна гораздо моложе, чем всегда хотела казаться. Причем не просто моложе, а симпатичнее. Человек непременно становится краше, когда поет. А суровая учительница математики Алла Борисовна как раз запела. И не что-нибудь, а опять же фрагмент из обожаемого всеми «Нотр-Дама»:
– «Свет озарил мою больную душу…»
Все заслушались и, как по команде, захлопали. Даже опростоволосившийся Залёткин. А Алина Деревянко (у них в семье сплошные музыканты, в первом классе она учебники не в обложки, а в афиши оборачивала) с уважением изрекла:
– Да у вас контральто, Алла Борисовна!
Ничего подобного никогда, ни при каких обстоятельствах в их элитарной школе с углубленным изучением иностранных языков не было!
Звонок и тот зазвонил не своим голосом. Он пророкотал трубным басом, как колокол судьбы.
На лбу у Варьки рассосалась шишка величиной с апельсин. А маленькая блестящая коробочка в кармане джинсов, о которой Варька совсем забыла, завибрировала, испустила ровное серебристое сияние и заурчала довольно, как пригревшийся котенок.
Жюль Бенуа, потомок древнего рода
Последний раз Жюль плакал пять лет назад, когда умерла мама. Вообще-то до этого он не плакал вовсе, даже во младенчестве. В роду это было не принято и считалось признаком дурного тона. Когда мамы не стало, ему сделалось наплевать на «тон». А еще он разлюбил зеркала.
Дело в том, что до этого Жюль относился к зеркалам, как к друзьям. Это была такая игра, почти фокус. Жюль вместе с мамой смотрелся в зеркало. И там изображение «двоилось». Мама называла это «гармония симметрии». В зеркале отражались близнецы разного возраста, у них даже веснушки были на одних и тех же местах – пять на правой щеке, три на левой и четыре на носу. В сумме выходило тринадцать. В их древнем роду это число считалось счастливым.
У прародителя, монсеньора Шарля Бенуа, было тринадцать детей. В замке на Луаре он построил для них тринадцать спален и воздвиг тринадцать фонтанов. Фонтаны били во дворе, который по форме напоминал семейный герб – крест в овале. На гербе была еще виноградная гроздь с узорным листиком, она обвивала овал. А двор обвивали самые настоящие, живые виноградные лозы, ведь в поместье имелся потрясающий виноградник.
Тринадцатый ребенок, Жоффре, был самым везучим. Говорят, он участвовал во всех значительных войнах, и ни в одной его даже не ранило. Кроме всего прочего, Жоффре породнился с самой королевой, был пожалован ею в герцоги и вместе с титулом получил шпагу с тринадцатью бриллиантами. Во время Великой французской революции бриллианты исчезли, а шпага осталась. Ее потом повесили на стену как предмет гордости.
У Жоффре была еще одна особенность: он обожал дуэли, однако никого не убил. Возможно, дуэли нравились ему как экстремальный спорт, а может, Жоффре просто был чересчур влюбчив, во всяком случае, у него было восемь жен и пять возлюбленных. Число тринадцать выпадало им по жизни как родимое пятно! Впрочем, влюбчивость тоже. Каждый из мужчин этого рода был не промах! Бенуа всегда шли напролом. Их не пугали даже мезальянсы. «Мезальянс» – антикварное слово, звучит почти как «пасьянс», но карты здесь ни при чем, хотя судьба и замешана. Короче, неравный брак. Вуаля!
Трудно сказать, с кого из предков начались мезальянсы, похоже, в этом преуспели многие. Знатные аристократы, без страха и упрека, выбирали себе в жены садовниц из предместий, гувернанток и актерок из оперы. Была даже одна шляпница. Барбара. Копна ее волос отличалась столь огненным цветом, что в памяти отчего-то возникал образ Свободы на баррикадах с картины Эжена Делакруа. Жюль видел ее портрет – не Свободы, а Барбары – в том самом замке на Луаре, где фонтаны, фамильный герб, шпага Жоффре и тринадцать спален.
Портрет висел на лестнице, точнее, в переходе – коридор там плавно перетекал из правого крыла в левое. Персонажи семейной истории тоже перетекали из девятнадцатого века в двадцатый. Хотя… Кто перетекал, а кто и перепрыгивал. Барбара, та явно перепрыгивала. Характера ей было не занимать. Шороху она навела в семействе жениха на два столетия вперед! Разыгрался грандиозный скандал. Как пожар в Венсенском лесу. Разумеется, каштаны из этого огня пришлось таскать не Барбаре, а тому, кого она выбрала в нареченные, прадеду Жюля.
Отец категорически запретил сыну жениться на шляпнице. А сын категорически женился. За неповиновение отец его конечно же проклял, хотел даже лишить наследства. Но через год, когда у сына родился сын, старик передумал. Во-первых, мальчишка этот, Кристоф, несмотря на то что удался рыжим, собрал все фамильные черты Бенуа: бровки домиком, бледный вид и драчливый характер. Малыш моментально дернул деда за усы и довольно ухмыльнулся. Во-вторых, родился он тринадцатого числа да еще накануне национального праздника, Дня взятия Бастилии. Понятно, что дед растаял, всё простил и подарил внуку за́мок, подкрутив при этом свои молодцеватые усы и подмигнув потомку. Мужчины рода Бенуа зла держать не умели.
Жюль долго вглядывался в портрет Барбары. Ничего особенного. Рыжина, конечно, необыкновенная, но во всем остальном явно не маркиза. Шпага Жоффре куда интереснее, она в соседнем зале, где оружие. А что касается красоты, так мама Жюля гораздо красивее Барбары… была… И глаза у мамы добрее, а у Барбары глаза ну абсолютно кошачьи. Жюль еще подумал тогда, что в темноте такие глаза должны фосфоресцировать. В Средние века Барбару запросто могли сжечь на костре! Как ведьму.
Между прочим, ее девичья фамилия напоминала прозвище: Larousse – «рыжая»! В прозвище она в конце концов и превратилась. На Луаре Бенуа прозвали Ле ру.
Вот с Барбары-то все Бенуа и покраснели… Они сделались как клены на Елисейских Полях.
Елисейские Поля (Шанз-Элизе) давно уже никакие не поля, а улица, у Жюля любимая. Она в центре Парижа, все равно как Невский проспект в Петербурге. Но на ней растут не только клены, но и тополя по обе стороны, и даже газоны с травой. А если встать спиной к Триумфальной арке, то справа будет Сена. По ней ходит смешной кораблик из прошлой жизни, называется «Бато Паризьен». Счастливые люди заказывают на нем ужин. Палуба колышется, столики тоже, в пиалках тает розовое мороженое, а берега проплывают мимо, как облака в небе.
Раньше Жюль с папой и мамой часто ужинал на этом кораблике, только он тогда не понимал, что это счастье. Он болтал ногами и бросал рыбам белый хлеб, а мама смеялась и говорила, что от мучной диеты рыбы вырастут в акул. Мама вообще часто смеялась. Она была моложе отца на тринадцать лет. Ее звали Жюстин. А отца – Жоффре, как знаменитого предка. Правда, шпагу при себе он не носил, но решительности у него было не меньше.
Отец увидел Жюстин в кафе на Елисейских Полях. Она показывала там фокусы. Ей только-только стукнуло девятнадцать лет, она мечтала работать в шапито и объехать с ним мир. Она обожала цирк, потому что ей нравилось радовать людей.
Но в тот день фокус у нее не удался, так как она засмотрелась на огненноволосого Жоффре. Веревка разрезалась безвозвратно, а должна была понарошку. Зрители засмеялись, и Жюстин с ними вместе. От смеха все ее веснушки заплясали, а на левой щеке появилась ямочка. Мама и папа оба были рыжими. Только разных оттенков. У папы оттенок отливал медью, а у мамы золотом.
Жоффре моментально решил жениться на Жюстин. Ему и в голову не пришло хорошенько подумать, вспомнить историю всех семейных мезальянсов. Долгие размышления были не в традициях дуэлянтов Бенуа, хотя Жоффре служил не в кавалерии, а в дипломатическом корпусе и с логикой у него всё было в порядке.
«Но где логика, а где любовь? На разных берегах Сены!» – говаривал двести лет назад Жоффре, который не убоялся гнева отца, таская каштаны из огня для простой шляпницы. Несмотря на то что слово «мезальянс» тогда еще не сдали в антиквариат, оно было вполне в ходу и даже таило в себе опасность лишения наследства.
Те времена прошли, но наследство осталось. Так что отцу, как и его тезке Жоффре, тоже предстоял скандал в благородном семействе. У его родителя, Кристофа, была абсолютно прямая спина и такие же несгибаемые взгляды на то, что прилично, а что – моветон. Кристоф был чуть ли не единственным Бенуа, женившимся на дворянке.
Но скандал Жоффре не страшил. Раз уж это судьба! Насчет судьбы он не сомневался. Его ведь могло занести в какое угодно кафе, (на Елисейских Полях полно кафе с уютными террасками, а Жоффре нравилось пить кофе на террасках), но он выбрал именно это, с фокусами!
«От судьбы не убежишь!» – часто повторяла бабка Барбара, глаза которой светились в темноте, пронзая мрак веков.
А никто и не думал убегать. «Вуаля!» – воскликнул отец и пригласил Жюстин прокатиться на кораблике.
Жюль считает, что отцу тогда помог бог счастливого случая и благоприятного момента Кайрос. Древние греки наделили его не только легкими крыльями, но еще и крылатыми сандалиями. Кайрос мог прилететь ниоткуда и в мгновение ока все изменить. Жюль прочел о Кайросе в старинной книге, их много было в замке. Прочел и поверил в то, что Кайрос и вправду существует. Жюль верил в него до того самого черного дня, 12 июля. Тринадцатое должно было начаться всего лишь через два часа, но именно этих часов маме и не хватило…
Самое ужасное, что мама всё про себя понимала, она даже говорила врачам, что операция не поможет, она ведь очень хорошо разбиралась в медицине, а врачи ее не послушали, потому что очень хотели спасти. Маму все знали и очень любили. Да и папа настаивал. Он даже заплакал. Заслонился ото всех рукой, и плечи его дрогнули. Это было очень странно и страшно. Папа такой огромный, мама ему до плеча не доставала, а тут… Папа заплакал, а она нет. Как будто не он был из гордого рода, а она. Мама подошла к папе, покачала головой, взяла его за руку и улыбнулась, как маленькому…
На всем свете никто больше не умел так улыбаться, как мама. У нее улыбались не только губы, ямочка на щеке, но даже веснушки. И глаза. Глаза у мамы были абсолютно голубые. Такого цвета небо над Монмартром в апреле.
Жюль раньше любил рисовать. Папа накупил ему десятки коробок с фломастерами и даже настоящий мольберт подарил. Жюль стоял за мольбертом как заправский художник, у него здо́рово выходили пейзажи и портреты, особенно мамины. Все хвалили Жюля, говорили, что портреты очень похожи. Похожи-то похожи, а глаза всё равно не те. Жюль был недоволен собой: ему никак не удавалось «схватить» этот цвет. В жизни мамины глаза были куда ярче, чем на самом лучшем портрете. Мама шутила, что у художника большие перспективы: ему есть над чем работать!
Но Жюль никогда не отличался терпением и усидчивостью. Недаром он носил фамилию Бенуа! Он хотел всё сразу и немедленно: и успехов, и перспективы, и прославить род! Свои неудачные рисунки он топтал ногами и пытался порвать в клочья. Он даже почти рычал. Как лев. Всем мужчинам рода Бенуа были свойственны порывы. Они не умели управлять своими эмоциями.
Тогда-то мама и изобрела этот прибор. С той поры, как она показывала фокусы в кафе на Шанз-Элизе, много воды утекло в Сене. За это время мама успела увлечься психологией, философией, русской литературой, неврологией и китайской рефлексотерапией. Она даже закончила медицинский факультет в Сорбонне. И что самое главное, все мамины знания и умения как будто росли на одном дереве, где каждая следующая веточка оказывалась продолжением предыдущей. Причем всё цвело и давало плоды.
Жюль был уверен, что его «нравный» дед Кристоф примирился со своей незнатной невесткой лишь оттого, что она прославилась.
Мама изобретала медицинские приборы. Они были такие же волшебные, как и ее фокусы. Приборы назывались гармонизаторы, потому что возвращали людям хорошее настроение и веру в себя. Самый первый свой прибор мама подарила Жюлю. Небольшая коробочка серебристого цвета, а коснешься ее ладошкой – и твои недостатки превращаются в достоинства. Мама говорила, что эту мысль она вычитала в русской литературе у писателя, который был граф. Жюлю врезалось в память, как при этих словах она насмешливо покосилась на сурового деда Кристофа.
На приборе был выгравирован их фамильный герб – крест в овале с веткой винограда. Жюль тогда решил, что это в шутку. А сейчас ему кажется, что нет. Герб есть достоинство рода – это аксиома. Впрочем, Жюль не всегда разбирался в том, что у мамы всерьез, а что не очень. Ведь ему было всего восемь лет, когда она умерла после операции в прославленной онкологической клинике Парижа, не дожив двух часов до 13 июля. Жюля сразу отправили в родовое поместье на Луару.
Замок возвышался над долиной как ни в чем не бывало. Как будто ничего не произошло. В нем стояла вековая торжественная тишина. И сосны с искривленными стволами на склонах гор Форе тоже были такие же, как всегда, – невозмутимые, ко всему привычные.
Жюль с каменным лицом поднялся на второй этаж и в лестничном пролете, напротив портрета Барбары, неожиданно увидел портрет мамы. Жюль и не подозревал о его существовании. Портрет был нарисован не красками, а разноцветными фломастерами его собственной рукой. Наверное, это был единственный уцелевший экземпляр: все остальные Жюль порвал. Только мама могла незаметно утащить у него из-под носа этот драгоценный кусочек картона, ведь она была настоящей фокусницей. И теперь смотрела на него со стены старинного замка и улыбалась, как будто хотела подбодрить.
Вот тут-то Жюль и заревел, зажав в ладошке свой заветный приборчик. Самое странное, что от слёз ему стало не стыдно, а легко. А дед говорил, что реветь – позор. Жюль даже пожалел своего деда, который за всю жизнь так и не научился плакать. «Слезы не дают душе каменеть», – пришло ему вдруг в голову. Наверное, приборчик подсказал. Мамин гармонизатор обладал такой способностью – эмоции переводить в мысли. И вообще, проявлять в человеке все его истинные чувства и таланты…
Гармонизатор был заряжен маминой энергией. Жюль был в этом уверен. Он всегда таскал его при себе – никогда с ним не расставался. Ни днем, ни ночью, ни зимой, ни летом, ни в Париже, ни на Луаре, ни в коллеже. В коллеж Жюля отдали в одиннадцать лет, как и полагалось. Коллеж, естественно, был выдающийся, носил имя Викто́ра Гюго, классика французской литературы.
Отца Жюль видел редко: тот был дипломатом и ездил по свету, пока сын учился в Нуази-ле-Гране. Коллеж построил очень известный испанский архитектор – Мануэль Нуньес. Жюль даже почти увлекся архитектурой, и тут – вуаля! Отца направили на дипломатическую службу в Россию. А точнее, в Петербург. Отец приехал попрощаться, а сын возьми и спроси:
– Говорят, в Петербурге много барокко, это правда?
Отец увидел вдруг, что глаза у Жюля стали точь-в-точь как у матери. Только мальчик про это не знал. Он ведь давно не смотрелся в зеркало. Все зеркала теперь казались ему враждебными, словно нарочно хотели напомнить ему, что отныне он одинок.
Неожиданно для самого себя Жоффре четко произнес:
– Ты полетишь со мной, так что сам всё увидишь.
Мужчины рода Бенуа часто принимали скоропалительные решения, потому что прислушивались к сердцу.
Так Жюль стал учеником гимназии при Русском музее, на площади Искусств в Петербурге. Зданий в стиле барокко в этом городе было так же много, как художников на Монмартре. Толпы толп, выражаясь почти научно. А сам Петербург оказался похож на Париж. По Неве даже речные кораблики ходили. Совсем как по Сене…
У Жюля здесь появилось хобби. Утром, до уроков, он часто бродил по улицам и всматривался в дома – вел подсчет барокко.
В то утро Жюль остановился у Строгановского дворца на Невском. Шел то ли дождь, то ли снег. Дворец был окутан дымкой и от этого делался еще загадочнее.
«Двадцать шестой! – сказал себе Жюль, имея в виду принадлежность этого дома к обожаемому им стилю барокко. – Двадцать шесть – это два раза по тринадцать».
И тут же налетел на какую-то сумасшедшую девчонку. Столкнулся с ней лоб в лоб.
– Пардон! – пробормотал Жюль.
Поднял голову и обомлел. Время точно остановилось. Жюлю привиделось, что он снова заглянул в зеркало. И из зеркала на него посмотрела мама. На самом деле это была Варька Брусникина, которая опаздывала на алгебру.
– Пардон! Пардон! Пардон! – в полной растерянности начал выкрикивать Жюль. – Вуаля…
Варька уставилась на него как на психа. Даже кулак выставила, то ли грозя, то ли защищаясь.
И убежала. Так показалось Жюлю.
Варьке же, наоборот, показалось, что Жюль убежал первым.
На самом деле они разбежались в разные стороны, подобно разнозаряженным атомам. Один атом был потрясен счастьем, другой сотрясался от ярости. Точно плюс и минус. А плюс и минус, как учит физика, при столкновении рождают ток.
Так начался день 13 декабря, та самая дата, когда потомку древней фамилии Бенуа должно было исполниться тринадцать лет. Судьба подсовывала это число их роду, как фамильные веснушки. Кто-кто, но уж судьба-то имеет обыкновение не дремать!
Когда Жюль домчался до школы, он обнаружил, что потерял гармонизатор. Жюль остановился на скаку, как волшебный конь под заколдованным рыцарем из старинной французской сказки. В следующее мгновение он почувствовал, как что-то соленое царапается у него в горле, а потом попадает в глаза.
Жюль стоял под дождем посреди пустынной площади Искусств и плакал. Это случилось с ним второй раз в жизни.
Натали Думова, вышивальщица крестом
Туся ненавидела болеть. Потому что слишком часто болела. Ее подруга, Варька Брусникина, утверждала, что Тусе надо посмотреть на это с другого бока. Как бы немножечко порадоваться тому, что имеешь. Тогда у тебя это может отняться, говорила Варька, и положение переменится. А что, Варька бы вот не возражала пару деньков поваляться дома, особенно когда контрольная по алгебре. Поэтому ей такого счастья и не выпадало, исходя из закона единства и борьбы противоположностей. А может, просто по воле Провидения. Сказать по чести, Варька больше верила в Провидение, а Туся – в законы природы и логику. Поэтому она и не могла заставить себя полюбить свои болячки – вот еще глупости!
К Тусе постоянно что-то привязывалось. То астма, то гастрит, то грипп, то гепатит. Самое удивительное заключалось в том, что родители у Туси были врачи. Они лечили ее по правилам и кормили только полезным. Поэтому Тусе всегда хотелось вредного. Она, конечно, себе этого не позволяла, но все равно простужалась, отравлялась, а то и просто падала на ровном месте.
Родители расстраивались, разводили руками и вызывали по телефону бабушку (им и в голову не приходило самим пропустить работу). Родители у Туси были несовременные: они просиживали дни напролет в поликлинике, а по вечерам занимались научной работой. Им не нравился фильм «Ночной дозор», а нравился Пушкин. Они даже дали дочке имя Натали, в честь Гончаровой. Тем более что Тусин отец был Николай – следовательно, дочка получалась Наталия Николаевна. Но Натали ее называли только родители. Все остальные – Тусей, подруга Варька еще и Думочкой (от фамилии Думова), а бабушка – Наточкой или Наткой.
Бабушка могла позволить себе все, что угодно. Во-первых, она не имела к медицине никакого отношения, а во-вторых, вообще была человеком независимым и даже немножко авантюрным. Бабушка была актриса-травести на пенсии. Когда-то она работала в ТЮЗе, потом ушла на радио, а позже вообще на вольные хлеба (из-за того что постоянно вступала в конфликт с окружающей действительностью). На старости лет она занялась переводами с немецкого – причем весьма успешно. То есть денежно. Поэтому она ела что хотела и постоянно искушала правильную Тусю запрещенной едой, которую величала «ядами». К примеру, в диком количестве выпекала оладушки со сгущенкой.
– Ужас! – сокрушались родители, если им удавалось про это узнать. – Во-первых, печеное, во-вторых, жирное, в-третьих, сладкое. Кошмар!
– Зато вкусно! – парировала бабушка.
Бабушка напоминала Тусе кошку из сказки писателя Киплинга, которая ходит сама по себе. Эту сказку Туся слышала по радио в бабушкином исполнении. Когда бабушка с радио ушла, Туся перестала его слушать. Туся увлеклась компьютерами. Дома у них компьютера не было, поэтому она записалась в компьютерный кружок и там переписывалась по «аське». Это было очень интересно! К тому же каждое послание сопровождалось еще и смайликом, смешной желтой круглой рожицей. Смайлик был все равно что пароль. У каждого свой. У Туси, к примеру, нахмуренный. А у Марта – ухмыляющийся. Март был друг ее по Интернету. Туся даже не знала, мальчик это или девочка. Да какая разница! Весь смысл заключался в юморе и в советах, которые они друг другу давали. Именно Март надоумил(а) Тусю вышивать крестом. Открещиваться от болезней и от непрухи. Это было как бы заклинание.
«Картинки можно придумывать самой – какие хочешь. И отвлекаешься, и руку развиваешь. Вообще занятие клёвое и полезное. Попробуй!» – писал (а) Март.
Туся попробовала и неожиданно увлеклась. Теперь она постоянно вышивала крестом и дарила всем свои картинки-коврики. Особенно много их уже было у Варьки и бабушки (болела-то Туся часто!). Например, натюрморт с грушей. Или пейзаж, вид из окна с замерзшим зимним деревом, которое кукожится от ветра. А вместо подписи художника – смайлик. Очень даже современно.
В тот день родители вызвали бабушку, потому что Туся заболела «вульгарным ОРЗ». Это они так выразились, уходя на работу.
Агнесса Федоровна примчалась немедленно. Она всё делала стремительно – врывалась в квартиру, как цунами, несмотря на почтенный возраст. Туся сидела и вышивала. Бабушка вбежала и крикнула:
– Давай заканчивай с тоскливым рукоделием! Я «яду» тебе привезла! – И принялась раскладывать пакетики с корейскими салатами.
Туся обожала корейские салаты! Любые! А бабушка скупила всё, что продавали корейцы на Мальцевском рынке. Бабушка жила от этого рынка в двух шагах.
У Туси даже температура начала падать. А тут еще и Варька пришла, новостей принесла. Хотя правильней сказать, Варька в этот день сама была как новость. Сколько Туся помнила свою подружку, она никогда не была спокойная. Она всегда была как будто из детской считалки: «Море волнуется – раз, море волнуется – два, море волнуется – три…» А тут вдруг Брусникина вплывает, споко-ойная-я, как озеро, и выдает:
– Знаешь, что я думаю? Давай Залёткина в Михайловский замок сводим?
Туся так и отпала на месте. Даже вышивание свое выронила.
– Залё-о-откина?
– Это какой такой Залёткин? – живо заинтересовалась Тусина бабушка, хрустя корейской морковкой. – Который на «мерсах» помешанный, на шмотках, да? А чего он в замке делать будет?
– Просвещаться! – на полном серьезе объяснила Варька, задумчиво улыбаясь. – Он, бедный, там никогда не был.
– Да какой он бедный?! – вскричала обычно тихая Туся, вышивальщица крестом. – Он-то как раз богатый. Варька, кто из нас больной?
– Переутомилась она! – со знанием дела заявила Тусина бабушка. – Опять, наверное, семь уроков было? Надо срочно реформу образования устроить. А то прям не школьники, а рабы с римских галер!
– Почему рабы? – удивилась Варька. – Рабы не поют. А мы сегодня на контрольной попели немножко. У «Пугачёвой», оказывается, контральто. Она хотела Залёткина выгнать, а я не дала. Он правду сказал! Признался, что у тебя, Туся, списывает!
Туся хлопала глазами, как доисторическая кукла-пупс с пушистыми ресницами. Столько новостей сразу в нее не вмещалось.
– А что пели-то? – осведомилась Тусина бабушка, почему-то ничуть не удивившись. – Децла небось? – И тут же возмутилась: – Зачем это ты, Натка, даешь ему списывать? Что за беспринципность? Давать списывать можно только друзьям!
Тусина бабушка, в отличие от Туси, реагировала мгновенно. Причем на всё сразу.
– Списывать никому не полезно, Агнесса Федоровна, – не согласилась с ней Варька. И рассудительно закончила: – Я вот больше никогда не буду списывать.
– Ну и зря! – воскликнула несознательная Тусина бабушка. – Если ты не собираешься в Пифагоры, зачем тебе корпеть над алгеброй?
– Никто не знает, что там, за поворотом! – ни с того ни с сего возвестила вдруг Варька Брусникина торжественным тоном. Глаза ее при этом вспыхнули незнакомым зеленым огнем. – Жизнь изменчива. А любые знания могут пригодиться.
Туся с бабушкой слушали ее завороженно, распахнув глаза, как при гипнозе.
– Между прочим, я сегодня на алгебре все варианты решила, – гордо сообщила Варька. – Даже тот, что со «звездочкой».
– Повышенной трудности?! – Туся всплеснула руками. – Да ты что?!
– Да ты что?! – эхом повторила за внучкой Агнесса Федоровна.
– Покажи черновик! – потребовала Туся.
– А вот у меня вообще никогда черновиков не было, – ни к селу ни к городу заявила Тусина бабушка. – Всю дорогу!
– Подожди, бабуля! – топнула ногой Туся, наверное, первый раз в жизни. – Варька, не томи! Давай сюда решение! – И опять топнула.
Кому другому из взрослых точно бы не понравилось, что на него ногой топают. Только не Тусиной бабушке, которая в молодости была актрисой-травести и обожала характерные роли.
«Моя кровь! – с гордостью подумала Агнесса Федоровна. – Не век же ей вышивать!» Бывшая звезда радио никогда не вышивала.
А Варька ни о чем не успела подумать. Она сунула руку в карман джинсов за листком с решением, но вместо листка вдруг вытащила маленькую серебристую коробочку.
Коробочка светилась и урчала, как котенок.
– Ничего себе! Это что? Где это ты взяла? – изумилась Туся, мгновенно забыв про искомый черновик.
– Ой! – спохватилась Варька. – Я забыла совсем, это же чужая вещь.
«Псих какой-то выронил», – хотела она сказать. Но вместо этого неожиданно изрекла:
– Как же мне ее вернуть тому, кто потерял? Мы с этим мальчиком сегодня на Невском столкнулись. Лбами. У меня даже шишка была, а к концу уроков рассосалась.
– За полдня никакая шишка не рассосется, – авторитетно заявила Агнесса Федоровна. – Это небывальщина, «фантазии Фарятьева». Покажи-ка вещицу! Туся, где мои очки?
Но, как ни странно, очки не понадобились.
Тусина бабушка взяла коробочку в руки и ахнула:
– Вижу без очков! Как в прошлой жизни! Батюшки, да здесь древний герб! И слова… Явно девиз рода. А надпись-то французская! Я, правда, с немецкого перевожу, но догадываюсь, что здесь что-то про кураж.
Про кураж Агнесса Федоровна догадывалась всегда, вне зависимости, с какого языка переводила.
– Где? – Туся выхватила коробочку из бабушкиных рук.
И моментально порозовела. Бледные Тусины щеки залил абсолютно здоровый румянец. Туся поправлялась прямо на глазах! Но не в смысле лишнего веса, а в смысле отсутствия гастрита, гепатита, ОРЗ и прочих хворей.
Туся излечилась!
На их маленькой кухоньке внезапно сделалось так тихо, что стало слышно, как за окном валит снег. Крупными тяжелыми хлопьями, точно в классической опере «Евгений Онегин», в сцене дуэли.
Между прочим, в нынешнюю зиму снега еще не бывало! Вот сейчас первый раз выпал.
Дина Августовна, покорительница кембрийской глины
– А кто-то ведь из наших знакомых с французского переводит… – в рассеянности пробормотала Тусина бабушка. – Кто бы это мог быть?
Тусина бабушка сроду ничего не забывала. Но можно забыть все, что угодно, когда единственная внучка розовеет и здоровеет в мгновение ока.
– Так Барина мама и переводит, Дина Августовна же, – резонно заметила умная Туся Думова, которая стала еще умнее от нормальной температуры тела.
– Точно! – вышла из ступора Варька. – Маме надо позвонить!
– А ну-ка! – мгновенно нашлась Агнесса Федоровна, подпихивая Варьке свой мобильный телефон.
Телефон у нее был последний писк. На нем высвечивалось лицо того, кому звонишь. На Тусиной кухне моментально возникло лицо Варькиной мамы, с поднятыми бровями, выражающими крайнюю степень озабоченности.
– Говори быстрей: я в печке! – взволнованно проговорила она.
Это означало, что в данный момент мама держит трубку щекой, потому как обе руки у нее заняты керамическими фигурками, которые она извлекает из термошкафа, где те закаляются при страшно высокой температуре, чтобы покрыться глазурью.
Это были шедевры для новогодней выставки. Все ребята, которые занимались у них в «Домике», тащили туда свое творчество. Ясно, чьих работ будет больше! Керамистов! Варька могла ответить на этот вопрос, что называется, не задумавшись. Маму всегда назначали ответственной за самое трудное. У Варьки на этот счет даже была теория. Про то, что судьба не умеет взвешивать. Кому-то чувство долга отмеривает гирями, а кому-то – пушинками. Поэтому одни люди становятся бурлаками, а другие мотыльками. Ее мама была стопроцентной бурлачкой: она всю жизнь тянула воз и считала это нормальным. Ей и в голову бы не пришло кому-то жаловаться.
Варька постаралась уложиться в одну минуту.
– Мамачтотакоеакуервайлантриентимпосибль? – выдохнула она в мобильник.
– Ужас! – воскликнула Варькина мама. – Что за чудовищный прононс?! О господи! Я чуть Ангела не выронила.
Ангел должен был стать самым главным шедевром грядущей выставки. Его вылепил Илья Стулов, мамин любимый ученик. Стулов был гений и хулиган. Но про первое все узнали гораздо позже, чем про второе. У учителей не хватало на Стулова терпения, его исключали изо всех кружков подряд, и тогда Варькина мама взяла его к себе в керамику. Не потому, что ей велели, а сама. Стулов очень удивился. А еще он удивился, что она на него не кричит. От удивления в душе его что-то щелкнуло – и он расцвел. Все равно как цветок гиппиаструма, который распускается с диким треском раз в десять лет!
У Дины Августовны с терпением был полный порядок, совсем как у древних греков. Недаром ей поддавалась их знаменитая кембрийская глина. Хотя… сказать по правде, Варькиной маме и в голову не приходило, что можно кричать на Стулова, десяти лет от роду, у которого из родителей была одна бабушка и который вместо «Августовна» говорил «Агнецевна». От слова «агнец» – «божий барашек».
«Если б Ангел разбился, мне бы было харакири!» – с ужасом подумала Варька. А вслух возопила:
– Ангелы не бьются: у них крылья! Переведи скорей: я говорю по чужому мобильнику! Деньги тикают!
– «А кер вайан рьян д’ампосс’ибль», – мелодично, как Патрисия Каас, произнесла мама, держа Ангела за крыло. – «Страстное сердце не знает преград!»
– Вот-вот! – воскликнула Агнесса Федоровна. – Что я вам говорила! Я про кураж сразу понимаю.
Внезапно и до Варькиной мамы дошел смысл того, что она перевела.
– Варвара! Где ты это взяла? – строгим голосом начала она допытываться. – Приведи весь контекст.
– Контекст такой вот: овал с крестом, виноградная гроздь – вроде эмблемки, еще слова: «Ла проприете де Бенуэ», – добросовестно перечисляла Варька. – А больше ничего, никакого другого контекста на коробочку не влезет: она малюсенькая, и я думаю, серебряная. Ее мальчик в лужу уронил. А я у Туси.
Мамин голос странно завибрировал:
– Никуда не уходи! Я сейчас приеду!
Это было что-то невероятное. Варькина мама никогда не оставляла свою кембрийскую глину посреди рабочего дня. Тем более накануне выставки, за которую была ответственная. Да еще с Ангелом на руках. Она так разволновалась, что сунула Ангела в карман и пулей вылетела из УДОДа. Прямо как настоящая птица.
Жоффре Бенуа, дипломат и романтик, по прозвищу Ле ру
Без видимых причин, под утро 13 декабря, ему приснился Ангел. У Ангела были длинные серебряные волосы, заколотые молодежной заколкой «краб». «Краб» то и дело норовил соскользнуть, и волосы выныривали из-за шеи легкими волнами то справа, то слева. Как вода в Сене, когда ее бороздит веселый кораблик «Бато Паризьен», на котором Жоффре не ездил ровно пять лет. Ничего подобного ему никогда раньше не снилось. Может, все дело в том, что Петербург очень напоминал ему Париж, а сегодня был особенный день? Жюстин однажды сказала ему: «Когда нашему сыну исполнится тринадцать лет, это будет событием для рода Бенуа, правда? Может, даже фамильная сабля шандарахнется со стены!» У нее была такая манера: говорить серьезные вещи шутливым тоном, да еще эти словечки… В их семье такое было не принято. Отец, когда увидел ее в первый раз, немедленно сделал брови домиком. Жоффре страшно испугался, что Жюстин обидится и исчезнет. Он схватил ее за руку, встал напротив отца, напустил в голос металла и процитировал девиз рода: «Страстное сердце не знает преград!» И тоже поставил брови домиком. Покосился на Жюстин и увидел, как она давится смехом. Она была ни на кого не похожа. Совсем особенная. Даже его неприступно-каменный отец со временем сдался и полюбил ее…
Однажды, жизнь назад, когда Жоффре было столько лет, сколько Жюлю должно было исполниться сегодня, он наткнулся на стихи Поля Фора. Стихи напоминали старинную музыку, мелодию клавесина. У них в замке был клавесин. На нем когда-то играла роковая шляпница Барбара, заставившая покраснеть весь их род. Его далекий предок, тот самый, что привел Барбару в дом, был черноволосым, как вороново крыло, а сын его и Барбары, Кристоф, уже имел прозвище Ле ру. Отныне на Луаре их так и звали – Рыжие! Вуаля!
У Жоффре было еще одно прозвище – Романтик. Как раз из-за тех самых стихов. Он помнил их наизусть и часто повторял вслух. Друзья подтрунивали над ним, ведь в то время все увлекались роком, который не ужасный, а «тяжелый». А тут – нате вам! Символист выискался, смех, да и только!
А Жоффре упрямо твердил:
Курзи вит: Иль ва филе, Курзи вит! Иль а филе…Речь шла о счастье. Стихотворение так и называлось: «Ле бонер», что переводится с французского как «Счастье».
Беги за ним быстрее: Оно убегает… Беги же за ним быстрее! А оно уже убежало.«В сущности, так и получилось», – думал Жоффре Бенуа, без улыбки глядя в окно машины на прекрасные старинные дома Невского проспекта, напоминающие ему декорации к классическому балету. Дома эти казались ему печальными, а город просто удручал. Причем именно тем, чем восхищал его сына – своим сходством с Парижем. Но додумать эту мысль до конца Жоффре не успел: затрезвонил телефон. Точнее, даже два телефона. Сначала дипломат снял трубку срочной консульской связи. И услышал:
– Господин вице-консул, ваш сын не пришел сегодня в гимназию. Дома его тоже нет…
Побледнев, как снег, который внезапно просыпался сегодня на улицу, Жоффре схватил надрывающийся мобильник.
В мобильнике кто-то плакал.
Машина прочно застряла в пробке, несмотря на свой важный мидовский номер. Жоффре выскочил и побежал бегом, забыв и про возраст, и про положение, и про несгибаемые принципы древнего рода.
В трубке плакал его единственный сын. Жоффре сразу это понял, хотя никогда раньше не слышал его плача, а Жюль не произнес ни одного слова. Ни по-французски, ни по-русски.
Снег валил так, будто дело происходило не на Невском проспекте, а где-нибудь в Сибири. Огненная шевелюра Жоффре мгновенно побелела, ведь он был без шляпы. Никакие вице-консулы и даже консулы в шляпах в машинах не ездят, а Жоффре выскочил, естественно, из автомобиля. Шофер за Жоффре сразу не поспел. Шофер был русский, Геннадий. Он не уступал Жоффре в скорости, потому как в детстве Геннадий занимался футболом, так что бегать умел быстро.
Как все дипломаты, Жоффре был законопослушен. Он не нарушал правил уличного движения даже в минуты потрясений. Поэтому и задержался у светофора, который полыхал красным светом. Именно там его нагнал шофер и раскрыл над ним зонтик.
Жоффре перехватывал мобильник то одной рукой, то другой, постоянно прижимая его то к левому уху, то к правому. Но теперь не было слышно ничего, даже плача. В ушах стучало лишь его собственное сердце. Когда человека охватывает панический ужас, в голову могут прийти самые неожиданные мысли. У Жоффре сейчас их было две. Первая: русские ошибаются, когда говорят, что от страха сердце уходит в пятки. Не в пятки, а в уши. (В свободное от дипломатии время Жоффре Бенуа увлекался русским фольклором. Это было его хобби.) А вторая… точнее, нет, обе мысли были первыми! Какие уж тут места, когда сердце стучит в ушах?! Так вот, главная мысль Жоффре была про число тринадцать. Неужели оно, число, изменило их роду и из счастливого превратилось в трагическое? Где его сын? Он жив?! Жив он?! Жоффре не замечал даже, что разговаривает вслух. Причем по-русски.
– Если плачет, значит, жив, – деликатно кашлянув, резюмировал Геннадий.
Геннадий умел играть не только в футбол, но и в шахматы, ему никогда не изменяла логика. Медленно, но верно он просек ситуацию и теперь мог дать любой совет. И дал:
– Нажмите на сброс, месье, мобильник наверняка завис.
Жоффре нажал на сброс, и мобильник тотчас же зазвонил.
– Вуаля! – сказал Жоффре на нервной почве вместо «алло» и услышал:
– Господин вице-консул! Вас разыскивает какая-то женщина. Она утверждает, что это срочно. Говорит, что русская, но выражается по-французски, как настоящая парижанка.
– По поводу?! – рявкнул в трубку Жоффре.
– По поводу… минуточку! По поводу находки, то есть утери вами прибора. Это маленькая блестящая вещь, величиной со спичечный коробок.
Жоффре похолодел, несмотря на то что Геннадий держал над ним зонтик и снег ему на голову уже не падал. Жоффре мгновенно всё понял. Блестящая вещь – это гармонизатор Жюстин, с которым Жюль никогда не расставался. Живой не расставался… Сначала Жюстин, теперь Жюль… А вдруг… вдруг его похитили?!
– У страха глаза велики, – пробормотал Геннадий.
Но Жоффре его не услышал. Иначе непременно запомнил бы эту поговорку. Она была, что называется, не в бровь, а в глаз…
– Я сейчас буду, – хрипло и устало проговорил Жоффре в трубку. – Где машина? Да уберите вы этот зонтик! Теперь он мне для карася…
Жоффре хотел сказать: «Как рыбке зонтик», но от расстройства слегка перепутал русские слова.
Последнее указание, естественно, предназначалось Геннадию. Но Геннадий уже сидел в салоне их «мерседеса», сориентировавшись минуту назад по лицу Жоффре. У Жоффре было очень подви́жное лицо, с богатой мимикой. Как-никак, к их роду принадлежали не только военные, дипломаты, врачи, но и шляпница Барбара, садовницы из предместий, а так же актерки из оперы!
Жоффре уже минуты две сам держал зонт, но с горя не сразу это понял. Обнаружив свою промашку, он уставился на зонтик с большим недоумением, швырнул его в урну и сел в машину.
– Пардон, – хмуро бросил он Геннадию. – Будем следовать в консульство очень быстро!
– Будем в лучшем виде, – успокоил его шофер. И рванул с места, как стритрейсер.
Геннадий, несмотря на здравомыслие, тоже порядком переживал. И куда только подевался этот мальчишка? Тем более в свой день рождения! В «бардачке» у Геннадия лежал для Жюля подарок – карта Петербурга. Самая точная, для автомобилистов.
В машине было тепло, снег на волосах Жоффре растаял. Но прядь на лбу так и осталась белой…
Иустина, дочь Августа, знаток французского языка
Когда Дина Августовна примчалась в Тусину квартиру, там уже был накрыт стол. Агнесса Федоровна любила общество: она расцветала, когда приходили гости, даже если просто так, без повода и не званы. А тут такой день! Единственная внучка сделалась абсолютно здоровой без помощи семейных врачей, от одного только ее, Агнессы Федоровны, присутствия. День был полон событий, страстей, к тому же снег пошел!
Агнесса Федоровна ненавидела «лысые» будни, которые двигались своим скучным чередом, «без ничего» интересного. Она обожала играть в снежки, а еще она обожала, когда вокруг нее все крутилось и струилось. Скромность Агнессе Федоровне свойственна не была. Даже в юности. Когда учителя упрекали ее за то, что она не умрет от скромности, юная Агния думала про себя: «Смерть от скромности не лучшая смерть». Иначе зачем тогда было поступать в театральный?
В тот день Тусина бабушка развернулась во всю мощь своих кулинарных способностей. Чувство меры было ей несвойственно! Она испекла торт со сгущенкой, очень вкусный и очень вредный. А еще нажарила чебуреков с мясом и оладьев с яблоками. Словом, вагон «ядов», как сказали бы Тусины родители, если бы сидели сейчас за столом. Но они, естественно, были на работе, и слабо́ им было с этой работы сбежать.
Дверь у Думовых болталась нараспашку, у входа валялись Варькины сапожки, а из комнаты доносился смех.
Дина Августовна рассердилась.
– Варвара! – крикнула она с порога. – Ты опять не закрыла дверь!
Дина Августовна забыла даже, что это не их дом, а Тусин и что сначала следует поздороваться. Когда мама на Варьку сердилась, она всегда называла ее Варварой, теряя чувство реальности. Незапертые двери были Варькиным бичом и вечным страхом ее мамы: все матери переживают за своих детей, особенно если растят их в одиночку.
Дина Августовна встряхнула волосами и выронила молодежную заколку-«крабик».
– Ну подумаешь, две-е-е-рь! Это же мелочи жизни-и! – красивым голосом пропела Агнесса Федоровна, вплывая в прихожую и во все глаза рассматривая Варькину маму. – У нас тут такие дела!.. Давайте кофейку выпьем! – И тут же восхитилась: – У вас не волосы, а прямо водопад! Чистое серебро!
Тусина бабушка давно хотела познакомиться с Варькиной мамой, да случая не было. Туся ей уже все уши прожужжала, какая Дина Августовна красавица да как знает французский и, ко всему прочему, художница.
Сказать по чести, единственные люди, которые не замечали красоты Варькиной мамы, были они сами – мама и Варька. Варька – потому что привыкла, а мама – потому что забыла. Варькиной маме некогда было смотреться в зеркало: хлопот полон рот, и трубы в ванной надо менять, к тому же ждет любимая работа в «Домике».
– Извините, я спешу, – досадливо поморщилась Дина Августовна в ответ на любопытное разглядывание Агнессы Федоровны. И покраснела.
Ей стало неловко. Быть неучтивым нехорошо. Тем более с теми, кто тебя старше. Хотя Варькина мама не умела обижать и младенцев, которые еще не разговаривают. Вообще она никого не обижала. Только воспитывала.
– Я бы с удовольствием кофе выпила, спасибо, но у меня там дети одни. Ангелов ваяют. Варька-то где, а?
В ту же секунду Варька выскочила из комнаты. Жуя. За ней – Туся. Руки и лица подружек были измазаны в торте, поэтому Варька держала гармонизатор через бумажную салфеточку. Через салфеточку он не урчал и не сиял.
– Вот она, эта штуковина! Мальчишка какой-то выронил! Пошли торт есть!
– Скиньте вашу шубку! Можно пройти и в сапогах, – проворковала Тусина бабушка светским тоном. – Чашечка кофе – минутное де… – Она не успела закончить фразу.
Лицо Варькиной мамы осветилось каким-то удивительным светом. Словно луна на картинах Куинджи Архипа Ивановича. Дина Августовна обхватила гармонизатор обеими ладонями, и он вновь принялся урчать и вибрировать, как крошечный довольный котенок. На душе у Дины Августовны сделалось тепло и легко. Как будто она вовсе не устала. Как будто она ни капли не спешила. Как будто в ванной не надо было менять ржавые трубы. У нее даже все морщинки на лице разгладились.
Агнесса Федоровна, Варька и Туся стояли открыв рты. От восхищения.
Дина Августовна бережно коснулась виноградной грозди, выгравированной на серебряной коробочке, прочла девиз рода и задумалась – всего на секунду.
– Где у вас телефон? – спросила она решительным голосом.
– А куда будем звонить? – с любопытством спросила Тусина бабушка.
– Во французское консульство конечно же, куда же еще, – без тени сомнения ответила Дина Августовна. – Это не просто коробочка, а частная собственность, фамильная! Вот тут даже выгравировано: «Принадлежит роду Бенуа».
– Раз собственность, значит, дорогая! – с восторгом воскликнула Агнесса Федоровна.
– Похоже на то! – торопливо кивнула Варькина мама. – Род очень древний, герб примерно века тринадцатого. Но дело не в этом. Мне кажется, это какой-то очень важный прибор… А вдруг он медицинский и мальчик без него, например, не сможет дышать?
– Упаси господь! – изменившись в лице, прошептала Агнесса Федоровна, душу которой мгновенно затопили жуткие воспоминания. Чего-чего, а медицинских ужасов из жизни Туси скопилось в ее памяти предостаточно!
Она мгновенно протянула Варькиной маме свой чудо-мобильник:
– Набирайте номер!
Дина Августовна знала наизусть множество телефонных номеров (такая у нее была способность), а уж телефон французского консульства она могла бы повторить, даже разбуди ее посреди ночи. Дина Августовна давно мечтала о Франции. Можно сказать, с самого детства. Выражаясь языком седьмого «Б» класса, в котором училась ее дочь, Брусникина Варвара, Дина Августовна была фанаткой языка и страны, где творили Ренуар, Верлен, Гуно и Эдит Пиаф.
По-французски Дина Августовна говорила достаточно свободно, но сейчас, под воздействием гармонизатора, превратилась почти что в парижанку: французские слова полились из ее уст настоящей музыкой.
Скорее всего, в консульстве ее приняли за свою, а услышав фамилию Бенуа, готовы были соединить чуть ли не с послом. На экране мобильника замелькали разные важные лица, как в телевизоре, когда показывают международные новости. Варька, Туся и Агнесса Федоровна были зрители. Обступив Дину Августовну со всех сторон, они жадно впитывали происходящее, доходя до смысла шестым чувством. Языка-то никто из них не знал! Но тем интереснее!
В конце концов кто-то из значительных персон попросил Дину Августовну туда приехать. Это зрители сразу поняли!
– Здо́рово! – выдохнула Варька. – Прямо сейчас двинешь? Можно, я с тобой?
– Прическу надо соорудить, – авторитетно заявила Агнесса Федоровна.
– Я думаю, главное, паспорт, – веско добавила сообразительная Туся Думова.
И она конечно же была права…
Без паспорта в консульство еще никто не проходил. Ведь там не просто дом, а уже настоящая заграница…
На пороге консульства Варькина мама показала полицейскому свой паспорт. И он прочел вслух:
– «Брусникина Иустина Августовна»… Ну и имечко у вас, гражданка!
Алексей и Август, отец и сын, прадед и дед
Варька сразу полезла на рожон. Хотя она и сама забыла, что маму так зовут. Это прадедушка имя ей дал. И сгинул бесследно. Тогда такое время было: люди пропадали, как в страшном сне. Прадедушка был духовного звания, к тому же юрист. Варькина мама никогда его не знала. А услышала только в сознательном возрасте, когда сменились эпохи, – что вот, мол, отец твоего отца, Августа Алексеевича, теперь реабилитирован, ему возвращено честное имя, поскольку Алексей Августович, достойный человек, никогда не был «врагом народа», а был его славой. Что всё это трагическая ошибка, а ты, детка, на самом деле не Дина, а Иустина, что означает «высшая справедливость».
Справедливость-то справедливостью, только из-за этой трагической ошибки Варькина мама осталась сиротой в семнадцать лет: ее родители рано ушли из жизни, один за другим. Бабушка пережила дедушку всего на один месяц. Катаклизмы истории, как известно, дни не продлевают, а наоборот. Варька никогда не видела своих дедушку с бабушкой, точно так же, как ее мама – Варькиного прадедушку. Иустиной Дина стала в шестнадцать лет, когда, получая паспорт, попросила вписать туда свое настоящее имя. В память о прадедушке Алексее Августовиче. Хотя все вокруг продолжали называть ее Алевтиной, Диной, а иногда даже Тиной, потому что привыкли. Грустная история… Тем более Варька промолчать не могла.
– Имя как имя! – произнесла она с вызовом. – Европейское, между прочим. От него слово «правосудие» происходит. – И добавила язвительно, задрав кверху подбородок: – Латынь надо было учить, молодой человек!
Про «молодого человека» и манеру подбородок задирать она у Тусиной бабушки научилась. Агнесса Федоровна всегда умела пригвоздить словом, если ее обижали.
Полицейский, понятно, разозлился.
– Без сопливых разберемся! – огрызнулся он. – Но, вспомнив про свой международный пост, важно закончил: – Вы, гражданочка, проходите, а ребенок… мимо.
– Как это – мимо?! – возмутилась Варька. – Да если бы не я…
– Извините, – строго сказала Варькина мама, оборвав Варьку на полуслове и грозно сверкнув глазом, – но ребенок вписан в мой паспорт и пойдет со мной.
Глаза у Дины Августовны были цвета морской волны, сине-зеленые, но, когда она гневалась, становились просто зелеными, как крупный крыжовник, который умеет колоться. Она решительно взмахнула пепельными волосами – заколка-«краб» выскользнула и шлепнулась на мокрый от растаявшего снега асфальт. Варька хотела поднять «краб», но не успела.
Тяжелая консульская дверь распахнулась, оттуда стремительно вылетел какой-то высоченный человек, схватил заколку, галантно протянул ее маме и что-то такое сказал, парижское. «Силь ву пле», что ли. Варька не успела перевести: они в школе английский и немецкий изучают, по французскому только факультатив, первое полугодие. На лице у человека было написано ошеломление. А полицейский сразу взял под козырек.
«Консул, не иначе!» – мысленно возликовала Варька. И посмотрела на полицейского в упор: что, мол, съел?
– Ваш паспорт, мадам, – произнес «консул» по-русски, с красивым акцентом. Он вообще был очень красивый, несмотря на то что рыжий.
«Прямо как я», – подумала Варька. Не про красоту, конечно, – про рыжину. Только у нее никогда не было такой снежно-белой пряди на лбу. Галька Таратайкина, по прозвищу Мать невесты, однажды явилась в школу с подобной разноцветной прической после мелирования, но у той эффект вышел куда слабее.
Мама от французского пристального взгляда слегка растерялась и вместо правого кармана залезла в левый и вытащила Ангела, которого вылепил Илья Стулов, гений и хулиган.
Варька вдруг заметила, что Ангел похож на маму: у него были такие же серебристые волосы, а взгляд устремлен ввысь. «Консул», судя по всему, тоже это заметил, потому что натурально застыл. Окаменел. На секунду. В следующее мгновение он уже распахнул перед ними дверь, нетерпеливо отмахнувшись от полицейского, попытавшегося ухватить Варьку за локоть.
Варька гордо прошествовала мимо стража порядка, незаметно показав ему язык.
Илья Стулов, Амур судьбы
Когда Дина Августовна куда-то ни с того ни с сего умчалась, Илье Стулову сразу стало скучно. Всё ж таки скульптор он был пока не взрослый, хотя и гениальный. И что греха таить, на весь их третий «Э» один. «Э» – потому что класс у них считался экспериментальным. Илья попал туда случайно, и назад уже было никак: все остальные – «А», «Б», «В» – были абсолютно заполнены, а конфликтовать и добиваться его бабушка не умела.
Бабушка Стулова была тихая старушка и радовалась, что внучка́ вообще приняли. По правилам им полагалась другая школа, через три дороги и два перехода, а эта, ближняя, относилась к другому микрорайону, потому как жили они на другой стороне Невского проспекта. Получалось, что Невский проспект все равно что река Днепр у Гоголя, до середины которой долетит редкая птица. Бабушка Стулова обожала Гоголя, она его Илье с младенчества читала вместо русских народных сказок. Может, оттого ее внук и сформировался такой фантастический, что ни один учитель не умел с ним сладить. Остальные дети в «Э»-классе были нормальные, послушные, хотя и экспериментальные. А Илья Стулов абсолютно непредсказуемый. Все гении, наверное, такие.
Бабушка очень волновалась, когда он бродил один по улицам с большим движением. Она была спокойна, только если он находился в кружке керамики. Дина Августовна к нему подход нашла, талант раскрыла. Бабушка в Дине Августовне души не чаяла: она ведь не сомневалась, что ее мальчик особенный, только никто ей не верил. А Дина Августовна поверила! Эта учительница для бабушки Стулова была главней всех остальных учителей, даже директора. Когда бабушка с ней говорила, пусть и по телефону, всегда кланялась. Из большого уважения. Короче, Илья Стулов к Дине Августовне прилепился, как иголка к магниту.
Бабушка и не подозревала, что сейчас, когда все остальные керамисты продолжали ваять, внучок, выскользнув за дверь, гуляет по набережной реки Мойки, под снегом и дождем. Он даже свою вязаную шапку забыл надеть. Да не беда! У него топорщилась такая шевелюра, что никакой холод не страшен. Голова Ильи была вся в кудрявых колечках, и теперь они радостно курчавились на воле как хотели. Стулов держал в руке кусок глины и смотрел, как падает снег. Снег падал отвесно, словно гордая птица орел со скалы.
Илья даже начал лепить орла прямо на улице. И вдруг, за переходом, увидел большого мальчишку, который плакал. Мальчишка ничего не замечал – ни снега, ни прохожих. У него было такое лицо, будто он потерялся. Стулову стало его жалко. Юный скульптор перебежал на красный свет и толкнул незнакомца в бок:
– Эй, ты! Чего происходит, а?
Но у Стулова в руках не только глина была, еще и стек, которым гениальные скульпторы лишнее отсекают, чтобы из комка глины вышел шедевр. Стулов своим стеком Жюля (а это был именно Жюль) слегка уколол. Нечаянно, конечно. Но больно. Как Амур – стрелой.
Жюль вздрогнул и вернулся в реальность. Но она-то как раз была нереальная. Как сказка-несказка. На землю летели снежинки, стаей, словно бабочки-капустницы, а перед ним стоял Амур. Купидон. Кудрявый, щекастый, с длинными ресницами. Амур сжимал в своей пухлой руке что-то похожее на стрелу и улыбался. Точь-в-точь как на рисунках у Жана Кузена Младшего, только одетый. Жюль этого Купидона буквально позавчера видел в Эрмитаже, на выставке: туда пригласили отца, а тот взял с собой Жюля.
Кузен Младший – потрясающий рисовальщик! Жюль его обожал! Все работы знал наперечет: и в Лувре, и в Национальной французской библиотеке..
Жюль наморщил лоб и пробормотал:
– Один из крупнейших мастеров Ренессанса, не избежал влияния школы Фонтенбло…
Жюль был настоящий знаток искусств, недаром он изучал живопись, скульптуру и архитектуру в парижском коллеже и в школе при Русском музее.
Потомок древнейшего рода Бенуа, несомненно, находился в шоке. Именно поэтому дальше он сделал то, чего в обычной ситуации никогда бы себе не позволил. Он ущипнул за щеку сначала себя, а потом Стулова, чтобы убедиться, что всё это не сон. Щека Амура была вполне реальной, упругой, на аппетит он никогда не жаловался, особенно предпочитал пончики: они у бабушки получались очень вкусные. Отсюда и упругость щек.
Стулов не успел даже отпрянуть. Стоял и моргал своими длинными ресницами. А потом возмутился:
– Ничего себе прикол!
Сказать по правде, от нахальства этого странного мальчишки Илья оторопел. Обалдел просто. Не знал, что ему делать – драться или смеяться.
А мальчишка вдруг произнес красивым колокольчиковым голосом (по-французски, разумеется, потому что когда человек нервничает, он всегда говорит на своем родном языке):
– Э тю Амур? Э тю дюн конт? Э тю дюн сьель? (Что означало: «Ты – Амур? Ты из сказки? Ты с неба?»)
Стулов ничего не понял, кроме слова «амур» и того, что перед ним – француз. А к Франции, благодаря Дине Августовне, гений и хулиган Илья Стулов относился с почтением. Хотя какое-то легкое презрение к незнакомцу и тренькнуло в его душе из-за слова «амур». Юное дарование это слово перевел совсем не как «купидон».
«Тю-у – подумал Стулов. – Тоже мне, амуры в голове! Да никакая девчонка не стоит того, чтоб из-за нее посреди улицы рыдать!» Но вслух, понятное дело, ничего такого высказывать не стал. Из дипломатических соображений. Жалко, что его сейчас Дина Августовна не видит!
– Ты, знаешь, э-э-э… Смотри на вещи проще! Древний царь Соломон говорил, что всё проходит, пройдет и это, – философски изрек третьеклассник Стулов.
Стулов даже покраснел от удовольствия, что он такой эрудированный, недаром в «Э» классе учится. И опять подумал: жалко, мол, что Дина Августовна его сейчас не видит.
– Нет, это не пройдет, – печально произнес Жюль. – Я одну вещь потерял, от мамы осталась, бесценную…
– А где твоя мама? – спросил Стулов. – Она… – и поперхнулся воздухом.
Внезапно до Стулова дошло. Про маму.
Свою маму он не помнил – не было и не было. Когда не помнишь, легче. И потом, с ним всегда рядом бабушка. Она ему пончики печет, на керамику водит. Вот если б с бабушкой что случилось… Стулову стало страшно. Раньше такая мысль никогда ему в голову не приходила, а сейчас пришла. И от этого в горле у Ильи сделалось холодно и как-то больно. Но Стулов тут же взял себя в руки. Нет, его так просто не возьмешь! Недаром ему бабушка с младенчества Гоголя читала. А от могучей литературы и дух крепче!
Стулов слегка опустил голову, как будто собрался бодаться, словно был не третьеклассником, а кузнецом Вакулой. Между прочим, амуры тоже так поступают, когда поворачивают судьбу человека.
– Снежинка мне в рот влетела и растаяла, потому я и поперхнулся. Смотри, какой снег валит! – объяснил Стулов Жюлю. – А твою вещь мы найдем, всё обыщем, а найдем. Вот, на память тебе! Бери! Дарю.
И протянул Жюлю орла. Каким образом Стулов его изваять успел, никому не ведомо. В последнее время с ним постоянно это происходило. Стулов умудрялся лепить даже во время разговора, сам того не замечая.
Жюль вежливо поклонился:
– Мерси боку! Большое спасибо! – И добавил ни к тому ни к сему: – У меня сегодня день рождения. Этот подарок – первый!
Стулов заулыбался до ушей. Он любил дарить. Он, когда дарил, цвел от радости.
В этот момент в городе вспыхнули фонари. Прямо как в кино! Жюль встал под фонарь, чтобы лучше рассмотреть орла. Орел вышел замечательный! Чем-то он напоминал старинное японское нэцкэ, а еще он был похож на деда Кристофа! У деда такой же непреклонный взгляд, будто он все время смотрит на солнце и не может позволить себе моргнуть. Мама так говорила. Когда мама была жива, все дни рождения Жюля превращались почти что в национальные праздники. А отец…
– Вуаля! Мне срочно надо во французское консульство, – окончательно пришел в себя Жюль. – Отец с ума сойдет, то есть, наверное, сошел. Когда светло, я ориентируюсь по зданиям барокко, а когда темнеет, немножко заблуждаюсь. Я заблуждался сегодня.
– Это точно! – заметил Стулов. – К тому же снег идет. А мы с тобой стоим, как два памятника. Я знаю, где консульство, здесь же, на Мойке, только на другой стороне Невского, недалеко от Дворцовой площади. Я там часто гуляю. Бежим, покажу! А твою вещь мы завтра поищем, снег растает и поищем.
И Жюль пошел за Стуловым. Навстречу судьбе. Стулов несся первым. Вылитый Амур! А Жюль быстро не мог. Жюль боялся потерять орла. Он нес его осторожно, будто бы тот был живой и мог улететь.
Геннадий, главный свидетель счастья
Стулов всегда знал, что он счастливчик. И знал почему. Потому что он не просто гений, а еще глазастый. Некоторые гении ходят как будто на ощупь, ничего вокруг себя не замечают. А от его взгляда ничего не укроется, даже если он бегом бежит. Может, их совсем бы с Жюлем снегом завалило и они промокли бы насквозь! Так нет! Стулов зонтик нашел! Зонтик совсем новенький, в урне валялся, прямо на переходе через Невский. И ведь сколько человек там толклось, а такую замечательную вещь никто не углядел. А Стулов сразу просёк. Раскрыл зонтик и понес его над своим новым другом. Жюль чего-то опять разволновался, по-французски говорить начал, а потом перевел. Посмотрел на Стулова торжественно и сказал:
– Это зонт Бенуа! Ты следопыт! Да! Завтра, когда снег истает, оттает…
Тут он немного в русской грамматике запутался, но это не суть: Стулов уже всё сообразил и закивал. У Жюля надежда появилась, что завтра они его важную вещь отыщут! Да кто бы сомневался! Стулов чего хочешь найдет! Эх, жалко все-таки, что его сейчас Дина Августовна не видит…
Мужская дружба очень загадочная вещь. Она может начаться с чего угодно. С драки, например. Или даже с горя. Причем в один момент и на всю жизнь. Без лишних слов.
Мальчишки почти уже до консульства дошли, с орлом и с зонтом, когда Жюль вспомнил, что они еще не знакомы. Ну и протянули друг другу руки: Жюль, мол, Илья.
Тут-то их, голубчиков, Геннадий и обнаружил. По правде сказать, так бы и вмазал – одному и другому. Под зонтиком, видите ли, гуляют, а родители из-за них седеют. На что Геннадий спокойный по жизни, а тоже запсиховал. Геннадий был реалист. Он Жоффре сразу сказал: «Найдется ваш наследник, никуда не денется». Но когда начало темнеть, а от мальчишки ни слуху ни духу, Геннадий крякнул с досады и, никому ничего не докладывая, сел в машину и отправился на поиски – медленно поехал по набережной. И ведь не зря выбрал это направление!
– Бонжур, месье! – ехидно сказал Геннадий.
Сграбастал мальчишек в охапку да и доставил своему шефу и другу Жоффре Бенуа. Мелкого тоже привез. Не оставлять же одного на улице! Шутка сказать, ночь на дворе!
– Чересчур самостоятельные стали! – обронил Геннадий в сердцах, выразительно постучав себя по лбу.
Потом выдохнул, подумал с минутку и подарил-таки имениннику что хотел – атлас автомобильный. Чтоб больше не терялся, а гулял с умом, по карте. Геннадий был отходчив: все русские такие.
Но вот что его удивило: зонтик оказался тот самый, что Жоффре днем в урну бросил, просто чудеса в решете! Геннадий и не подозревал, что чудеса лишь начинаются (он вообще в них не очень-то верил).
Одним словом, привел он мальчишек в кабинет к шефу. А там «полна горница людей», прямо как в загадке про арбуз. Геннадий любил загадки отгадывать, всякие ребусы, кроссворды. Дальше и случился кроссворд, натуральный.
Сначала сын месье Жоффре заметил девчонку. И просиял так, будто год ее не видел. Девчонка была похожа на него, словно близнец, только волосы у нее порыжее. Они смотрели друг на друга, как будто глядели в зеркало. Девчонка протянула Жюлю какую-то блестящую коробочку. Коробочка заурчала и заискрилась каким-то неземным светом. Геннадий так и замер.
Но это еще не всё. В кабинете находилась женщина, очень даже симпатичная. Мелкий мальчишка сразу к ней кинулся – сын, видать. Надо же, как всё совпало! Просто вечер встреч. Она его обняла, хотя Геннадий смекнул: отшлепать хотела, и скорей стала по телефону звонить, домой наверное.
А самое главное – это лицо Жоффре. Такого лица Геннадий никогда у него не видел. Жоффре смеялся. Молодея на глазах! Жоффре смотрел на своего сына, на женщину с серебряными волосами, на девчонку, которая была такая же рыжая, как он сам, на пухлого маленького мальчишку, который скакал от восторга, и смеялся. А потом продекламировал что-то по-французски, что-то про «филе», но в рифму.
И женщина поняла, что он сказал, и тоже вроде засветилась, и посмотрела на него долгим взглядом, как бы узнавая. Будто когда-то потеряла его надолго, а теперь нашла.
Странное дело, под урчание таинственной коробочки Геннадий французский начал понимать. Он этого языка, факт, не изучал, но смысл стиха постиг, решил кроссворд этот. Ключевое слово тут было – «счастье».
Против счастья Геннадий ничего не имел. Даже если ты счастью всего лишь свидетель, чувствуешь себя отлично, как в праздник. Геннадий даже улыбнулся. Глазами. Жоффре подошел к нему и шепнул тихонько:
– Запомни, друг, этот день, тринадцатого декабря!
А громко месье произнес:
– Сегодня день рождения моего единственного сына, Жюля. Ему исполнилось тринадцать лет. Пора выпить чаю и задуть тринадцать свечей на именинном торте.
Вздохнул, собрался с духом и добавил решительно:
– Мадам Иустина, я приглашаю вас с дочерью и с этим прекрасным ваятелем Ангелов посетить Францию и провести Рождество в нашем родовом замке на Луаре. Вы не против?
Девчонка тут как завопит:
– Ур-ра! Мой сон сбылся!!
Вот так. Хотите – верьте, хотите – нет.
Старинный герб в овале. Про всех сразу
Седьмой «Б» слегка загордился, конечно, оказавшись в центре внимания. Школа – такой организм, что сенсация по ней разносится мгновенно. Все равно как ветрянка – воздушно-капельным способом.
Элитная гимназия с углубленным изучением иностранных языков ходила ходуном и бурлила. Шутка сказать, у Брусникиной из седьмого «Б» новогодний досуг пройдет в Париже. И не по обмену, а по знакомству! Она будет там спаржу есть, а потом на Луару отправится, в старинном замке поселится, среди герцогов! А всё почему: Брусникина прямо на улице старинную вещь нашла, французскую, немыслимой ценности. Ей теперь Франция в награду! Вот это успешность!
Но по правде, седьмой «Б» по поводу Варькиной успешности сильно недоумевал. Если б подобное с Залёткиным случилось, ну или там с Мухорямовым, никто бы ухом не повел: у них обоих родители крутые. Или взять Гальку Таратайкину – так она артистичная, с хорошим произношением и видная – у Гальки фигура уже в пятом классе была. Допустим, даже Алина Деревянко, засобирайся она на берега Луары – это вполне объяснить можно: в ее семье сплошные музыканты, а у тех гастроли. Ну, на худой конец, Думову бы по обмену послали, тоже было бы понятно, она, по крайней мере, семи пядей во лбу.
Но Брусникина! У Брусникиной даже кроссовок путных нет. Отсталая личность! Сочинения сама сочиняет, а не из Интернета скачивает. И вообще, странная. Особенно в последнее время. Ни с того ни с сего по геометрии блистать начала, Залёткина защищать… Это врага-то своего с первого класса! Да и Залёткин тоже какой-то не такой сделался – задумчивый, что ли. Вот уж правда, с кем поведешься, от того и наберешься.
Но все это, оказывается, были лишь цветочки. Ягодка ждала впереди. Брусникина на итоговую контрольную явилась! По собственному желанию! Свободно могла бы пропустить: ей бы разрешили, виза-то уже открыта, тем более что Новый год у ворот. Подумаешь, какая-то геометрия! А Варька пришла и стала решать. Этот факт поразил одноклассников куда сильнее, чем ее вояж во Францию. Седьмой «Б» просто был в отпаде! В полном. Они все впали в задумчивость, не меньшую, чем Залёткин. Притихли и в контрольную углубились. И на почве шока всё решили. Целый класс получил пятерки! Случай беспрецедентный – даже для элитарной гимназии. А Варька…
А Варька сама себе удивлялась. Две недели назад скажи ей кто-нибудь, что так будет, она бы не поверила. Может, действительно, всё дело в волшебном гармонизаторе, который изобрела мама Жюля? И это благодаря ему у Варьки стремительно начало левое полушарие мозга развиваться, которое за математику отвечает? А еще душа меняться и характер!
Варькина личность явно приступила к гармонизации. Ей, личности, захотелось тоже чего-то стоить. Чтобы Судьба ею довольна была. Ведь рядом с Варькой все такие неординарные! Туся – готовый системный аналитик, у нее голова умнее компьютера. Стулов, тот вовсе гений, хотя и десяти лет от роду. Мама у Варьки вообще выдающаяся – по-французски говорит, как Патрисия Каас! Только Патрисия ведь натуральная француженка, а мама сама язык постигла. Мама всё может: и лепит, и рисует, и в детях таланты открывает! Стулов тому пример. У Жюля отец тоже какое-то потрясение! Школу закончил сто лет в обед, а стихи наизусть декламирует и в русских пословицах ориентируется, как рыба в воде. Стулову, представляете, что сказал? «Мал, – говорит, – золотник, да недешев!» Ничего себе, да? Ну а Жюль…
Варька когда про Жюля думает, ей почему-то даже воздуха не хватает. От восхищения, наверное. Жюль на берега Невы приехал, всего ничего времени прошло, а в петровском барокко уже лучше многих разбирается. А какой он Варькин портрет нарисовал – очень похоже получилось. Мама просто ахнула!
Выходит, все вокруг – личности, а она, Варька, что же?! Из арбалета только стреляет? Кстати, месье Жоффре рассказывал, что у них в замке арбалетов полно, упражняйся хоть каждый день! Вот Варька и решила: такое счастье заслужить нужно. Никаких контрольных она больше бояться не будет, она их победит. И победила! Громогласное ура!
…К замку подъехали ранним утром. От Луары на поместье пал туман, точно серая шаль с кружевами. В кружева проглядывал таинственный мир. Сначала появилась башня, загадочно так, будто из сказок Перро. Потом мельница старинная. И фонтан посреди двора. А в решетке герб рода – крест в овале, виноградной гроздью обвитый. Варька, когда его разглядела, ей отчего-то сразу две мысли в голову пришли. Ой, нет! Все-таки три. Первая – про маму Жюля. Что она, наверное, их сейчас откуда-то сверху видит. Вот бы они ей понравились!
Вторая – про ее собственную маму, которую зовут так же, как маму Жюля. «Жюстина» и «Иустина» ведь одно и то же! Варька подумала: хорошо, что мама тогда имя не сменила, когда ей шестнадцать лет было. Никто, конечно, не знает, что там, за поворотом, но нельзя забывать и то, что до поворота было. Например, прадедушку своего, который ей имя дал. В этом тоже высшая справедливость есть, даже если тебя и не Иустина зовут. И вообще, без горя не бывает счастья. Но про счастье она думать вслух не будет, чтобы не спугнуть его.
А третья Варькина мысль была такая: жалко, что Стулова с ними нет, он бы лепил тут в полное удовольствие. Такую красоту только и ваять, чтобы запечатлеть навечно. Но Стулов…
Но Стулов от поездки отказался! Из-за бабушки… В тот день, 13 декабря, на дне рождения Жюля, ему стыдно стало. Дина Августовна, когда его увидела, сразу бабушке кинулась звонить. А он сам про бабушку и не подумал. Хотя на дворе почти ночь была. Бабушка, наверное, давно уже у окна стояла, на улицу смотрела и сердце у нее на всю комнату стучало от переживаний. Ведь у бабушки, кроме Ильи, на свете нет больше никого. У Стулова и Дина Августовна, и вот теперь Жюль, и еще целая команда людей-друзей, а у бабушки он – один!
Стулов вспомнил, как бабушка ему про старосветских помещиков читала, Гоголя сочинение. Смешные эти помещики! Всё обедали да ужинали! Илья слушал и веселился, а бабушка читала, читала и вдруг заплакала. Он тогда спросил: «Ты это чего, бабуня?» А она сказала: «Смотри, внучок, как они друг за друга держатся! Это дорогого стоит. Потому что ничего нет на свете дороже верности». Он и не ожидал даже, что слова эти у него в памяти застрянут. А они застряли.
Стулов смотрел, как Жюль счастливо сжимает в ладони мамин приборчик, и ему отчего-то жалко свою бабушку стало. Илья в этот момент дал себе слово, что будет теперь верным, как старосветский помещик.
Подумаешь, Франция! Съездит еще – у него вагон времени! Франция без него обойдется, а бабушка – нет.
Дина Августовна, понятно, попыталась его уговорить, она ведь ему добра желает, хочет, чтоб он повидал страну ее мечты.
– Может, все-таки передумаешь, Илюша? Я с твоей бабушкой договорюсь. Она согласится.
Но Стулов головой замотал:
– Не-а, моей бабушке годов много. Чего ее зря волновать. Она не любит, когда меня долго дома нет.
Потом подумал-подумал и на всякий случай спросил:
– Вы ведь, это… не навсегда туда едете?
– Не сомневайся даже, – улыбнулась Дина Августовна. – Кто же тогда будет вас керамике учить?
Стулов сразу просиял, как медный таз.
Месье Жоффре задумчиво произнес:
– Такой поступок стоит уважения, – и пожал Стулову руку.
Хорошо, что Дина Августовна это видела! А Жюль улыбался…
А Жюль улыбался, потому что был на седьмом небе. Ему казалось, кто-то невидимый показывает сейчас волшебный фокус, извлекая из сказочной шляпы всё новые и новые чудеса. Чудеса складывались в единую картинку, как драгоценная мозаика в витражах знаменитого собора Нотр-Дам де Пари.
Жюлю опять захотелось рисовать! Он не рисовал пять лет. Оказывается, все это время он молчал.
Это только так считается, что люди думают словами, на самом-то деле каждому человеку дан свой язык: нот и стихов, танцевальных па и строгих линий, формул и красок. Кто его отыщет, тот будет счастлив, потому что расколдуется от немоты. Как принц в старинной французской сказке. Жюль свои краски растерял, а теперь снова нашел.
Варькина мама сказала, что будет с ним заниматься, она ведь Академию художеств закончила. Странно как, Жюль видел ее в первый раз, а сразу ей поверил. У всех взрослых людей в глазах есть какая-то жесткость, у мамы вот только не было. И у нее нет. Фантастика просто, что ее зовут как маму. Хотя она на маму и не похожа. У мамы глаза были голубые, а у нее сине-зеленые. И волосы тоже разные. У мамы золотые, а у нее серебряные, как у Ангела, которого Стулов вылепил. Стулов теперь его друг. У Жюля раньше не было друзей, а теперь есть – Илия. Жюль ему белой глины с Луары привезет. В подарок.
Жюль больше не боялся зеркал. Потому что познакомился с Варькой. Она на его маму похожа сильнее, чем на свою. Как такое может быть, Жюль не понимает. Тем более что волосы у Варьки как у Барбары, и глаза такие же зеленые, как у знаменитой шляпницы, с которой покраснел их род и чей портрет висит в фамильном замке. Даже имя Варвара на французский переводится как Барбара. А все равно Варька на его маму похожа! Недаром именно она нашла мамин гармонизатор.
Когда Варька, улыбаясь до ушей, протянула Жюлю сияющую серебряную коробочку, Жюлю показалось, что в воздухе мелькнула какая-то искра, будто оборванная электрическая цепь сомкнулась и по ней побежал веселый ток. Жюль снова поверил в удачу. В тринадцатое число…
13 января они стояли во дворе замка: Жоффре, Жюль, Варька и Дина Августовна. Жоффре рассказывал что-то про прародителя Шарля. В туманной низине перламутрово угадывалась река, а на склонах гор старые кривые сосны слегка покачивали верхушками, будто здоровались.
– А почему у сосен изогнуты стволы? – задумчиво спросила Варькина мама. – От ветра, что ли?
Жоффре засмеялся:
– Потому что французы любят на завтрак горячие батоны! У Франции было много испытаний и много войн. В трудные времена, когда топить было нечем, люди потихоньку отламывали от сосен ветки, разводили в печах огонь и пекли свои круассаны и багеты. Дикость, согласен, но это было так давно. Сосны с тех пор успели вымахать чуть ли не до самого неба. Они не сдались, разве что искривились немного. Но продолжали тянуть свои стволы к облакам…
Варька задрала голову, все тоже задрали, разглядывая темно-зеленые верхушки, и в этот момент вспыхнуло солнце. И еще что-то блеснуло, неуловимое, нежно отразившись в серебряном «зеркальце» гармонизатора. Точно взмах легкого крыла. На землю опрокинулась удивительная тишина.
– Ангел пролетел, – тихо сказала Дина Августовна.
А значит, наступил час судьбы…
Об авторе этой книги
Татьяна Александровна Кудрявцева говорит о себе: «Сочиняю сколько себя помню! И это – чистая правда! Читать я начала очень рано, можно сказать, это мое естественное занятие. Так же, как и сочинять. В школьные годы я была записана в восемь библиотек, занималась в Клубе юных поэтов при газете «Ленинские искры» (была такая детская газета в Ленинграде) и в литературном клубе «Дерзания» Дворца пионеров. Разумеется, я выпускала школьную газету. Помимо литературы я обожала математику, химию, иностранные языки, историю, школьный театр, да много чего! Ясно, что после школы учиться хотела сразу в нескольких местах. Но в конце концов поступила на факультет журналистики Ленинградского университета и закончила его экстерном. Уж очень мне хотелось скорей начать работать! Работать же я пришла в «Ленинские искры» 1 июня, то есть в День защиты детей. И это было зна́ком. Потому что с тех пор я пишу для детей. Я думаю, что мои книжки для любого возраста. Я на это надеюсь.
Мне с детства везло на учителей. Им нравилось учить, поэтому мне нравилось учиться. Это очень важно – делать свое дело с удовольствием. Важно для счастья в жизни.
Однажды меня отправили к великому сказочнику, Радию Петровичу Погодину, попросить, чтобы он сочинил для детской газеты сказку в новогодний номер. А Радий Петрович возьми и скажи мне: „Так сочини ее сама! И принеси мне завтра утром!" С того дня началось мое ученичество у этого необыкновенного писателя. Оно продолжается до сих пор, несмотря на то что Радия Петровича уже нет с нами. Ведь сказочники не уходят: мы читаем их мудрые строчки и разговариваем с ними, каждый раз понимая про жизнь что-то еще…»
У Татьяны Кудрявцевой вышли в свет книги: «Сто имен Тани Филимоновой», «Возьми свой крест и иди», «Я родился в России», «Книга для тех, кто не любит читать», «Фотография, которой не было», «Азбука Санкт-Петербурга», «Бабочка над заливом», «Маленьких у войны не бывает». Многие из них стали постановками на радио.
О художнике этой книги
Светлана Андреевна Крашенинникова родилась и выросла в подмосковном Красногорске. Она окончила факультет графических искусств Московского университета печати им. И. Фёдорова.
В качестве дипломной работы молодой художник-иллюстратор выбрала «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Страна чудес в этом проекте обрела Гусеницу, которая превратилась в поезд, а Белый Кролик стал вечно опаздывающим детским велосипедом.
О себе Светлана Крашенинникова пишет: «С раннего детства рисование и чтение были моими любимыми занятиями. Я с упоением рассматривала иллюстрации в детских книжках и рисовала картинки, которые возникали в моей голове при их прочтении. Когда я поняла, что мое видение может отличаться от уже существующих изображений, мне захотелось сделать своей профессией оформление книг – делиться с людьми частичкой своего взгляда на мир. Ведь книга – это целая вселенная, которую каждый видит no-своему и иллюстрации в ней дарят читателю новые образы, которые, может быть, никогда и не приходили ему в голову».
После окончания университета Светлана Крашенинникова рисовала для журналов «Детская роман-газета», «Клёпа», «Schrumdirum» и даже работала дизайнером в компании, выпускающей лотерейные билеты.




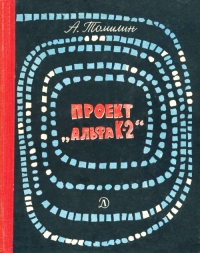

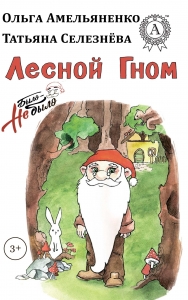




Комментарии к книге «Сотворение мира», Татьяна Александровна Кудрявцева
Всего 0 комментариев