Ларс Соби Кристенсен Герман
LARS SAABYE CHRISTENSEN
HERMAN
Любое использование текста и иллюстраций разрешено только с письменного согласия издательства.
© Cappelen damm as 2010
© J.W. Cappelens Forlag as 1988
© Ольга Дробот, перевод, 2016
© Анна Михайлова, иллюстрации, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательский дом “Самокат”», 2017
* * *
Осень
1
Герман запрокинул голову. Над ним разлапилось дерево. Листья на нем пожелтели, покраснели и держались на честном слове. Сквозь тонкие черные ветки просвечивало небо, облака неслись, наезжая друг на друга. Закружилась голова, как будто это Герман носился кругами. Оно приятное, головы кружение, если недолго, конечно. Вот только бы о Монолит[1] не грохнуться. Герман зажмурился – и сразу стал падать, но успел открыть глаза и выдохнул с облегчением. Уф, он по-прежнему во Фрогнер-парке, даже на сантиметр не сдвинулся.
И тут ветер сорвал первый лист: слабак, он болтался на самом конце ветки. Ветер подхватил его и давай крутить, погнал к фонтану, точно сдувшегося снегиря. Герман кинулся в погоню, не спуская глаз с верткой красной точки. Ветер то поднимал листок высоко, то придавливал поближе к земле. Герман носился зигзагами по щебенке и надеялся, что завязал утром шнурки двойным узлом.
Но вот лист – а может, ветер – сдался и устало скользнул к земле прямо перед Германом. Он резко затормозил, открыл рот во всю ширь и схватил лист зубами – ловко, как проворный муравьед. И в ту же секунду заметил краем глаза, что кто-то шпионит за ним из-за статуи: край розового ранца предательски торчал наружу. Герман замер, боясь шелохнуться. А во рту у него лист, и на вкус лист не очень, хотя Герману доводилось глотать вещи и похуже – например, корку на застывшем шоколадном пудинге, пенку на молоке, скользких угрей папиного улова.
Ранец вдруг исчез, но Герман знал: за статуей великанши с дюжиной детей, дерущих ее за волосы, кто-то притаился. Он долго стоял в нерешительности – и неожиданно проглотил лист. Ничего себе, подумал Герман, только что лист качался на ветке – хопс, и в животе круги нарезает. Наверно, можно тогда не есть на обед вареные овощи.
Из-за статуи вышла Руби из его класса. Она стояла тут все время. Мысль эта Германа что-то не обрадовала. У Руби копна густых рыжих волос, в них пять вороньих гнезд, утверждают злые языки. Она прячет руки за спину, как будто там бог весть какая тайна, и смотрит на Германа со странным прищуром.
– Листья ешь?
– Бывает.
– Я только тебя знаю, кто листья ест.
– Тогда ты мало людей знаешь, – ответил Герман и подхватил со скамейки свой ранец.
Руби подошла ближе и заглянула Герману в лицо.
– Ты шла за мной? – спросил он.
Руби громко рассмеялась, и еще несколько листьев упало с дерева.
– Я кормила свою уточку морковкой и колбасой. А ты теперь заболеешь. У тебя вид уже больной.
– Я здоров как лосось, поскриплю еще авось, – возразил Герман.
Так всегда говорит его дедушка; правда, сам он лежит в кровати с балдахином у себя на четвертом этаже и ходить не может. Наверно, поэтому он и говорит так: поскриплю еще авось.
– Рыбы листьев не едят, – сказала Руби.
– Они едят червей. Это еще хуже.
Они вместе перешли мост. Под маленьким Злюкой[2] прикорнул перебравший пьяница с таким же злым лицом. Из бассейнов уже спустили воду, они пустые и зеленые, но десятиметровая вышка привычно упирается в небо.
Накрапывал дождь. В пруду бестолково плавали утки. Лебедь расправил было крылья, но лениво сложил их опять.
Руби перегнулась через ограду и ткнула пальцем:
– Вон моя уточка!
– Твоя?
– Которую я кормлю.
– Как ты ее отличаешь?
Руби обернулась к Герману и покачала головой; рыжая копна накренилась влево, потом вправо, но птицы не вылетели.
– Не скажу.
Затем добавила:
– А может, скажу в другой раз.
Они молча дошли до ворот парка, вышли на Киркевейен, и тут Руби шагнула к нему, встала близко-близко, заглянула в лицо и долго смотрела. Герман занервничал.
– У меня такой больной вид?
– У тебя зеленые глаза, а нос оранжевый!
С этими словами она убежала вверх по Майорстюен, но, добежав до первого перекрестка, обернулась и помахала. Правда, этого Герман уже не увидел – он пошел в другую сторону, к Скиллебек.
Чувствовал он себя скверно. Вдруг он теперь правда разболеется, руки станут ветками, и зимой его пустят на дрова? Злосчастный лист встал в животе враспор и скребется изнутри. Руки совсем одеревенели, Герман прижал их к бокам.
У парикмахерской на аллее Бюгдёй он остановился и стал разглядывать себя в хитром зеркале: оно так устроено, что если пригнуться и повернуть кумпол, то можно увидеть даже собственный затылок. И вот тут Герман всерьез напугался. Он не узнавал себя в зеркале. Нос как сосновая шишка, уши похожи на два дупла, а волосы прилипли ко лбу словно мох.
Не дожидаясь, пока его заметит Пузырь, Герман отскочил от зеркала и юркнул в ближайшую подворотню. Он принял суровое решение и теперь отважно засунул в рот два пальца (папа иной раз так делает в воскресенье). Залез себе в горло глубоко-глубоко и уже почти коснулся листика, но тот сам вылетел наружу вместе с завтраком и парой карамелек, найденных по дороге в школу. Лист был все еще красный, но вонял хуже обуви в раздевалке спортзала. Ветер унес его на дорогу, лист покатился и исчез в решетке водостока.
Герман распрямился: ему стало лучше. Карамелек только жалко. Еще раз пустить их в дело, что ли?
Перекатывая во рту карамельки, он не спеша тронулся в путь, вниз по Габельсгатен.
– Дерево плюс дерево плюс дерево – уже лес, – сказал Герман вслух.
А если один помножить на один? Тогда это будет очень одинокий лес.
Дождь припустил всерьез, но Герман не стал спасаться бегством. На свою улицу он свернул ровно когда Бутыля распахнул окно на первом этаже и выставил напоказ свое бурое худое лицо. Говорят, он был сторожем в королевском дворце на Драмменсвейен, но вылетел оттуда, потому что втюрился в гостившую там бельгийскую принцессу. А может, король дознался, что Бутыля – швед.
Бутыля или орет, или ходит как тень. Сегодня он тихий по причине понедельника после воскресенья.
– Германсен, поди сюда, – прошептал он едва слышно. – Сходи сдай мои бутыли, а?
– Сегодня времени нет, – прошептал Герман в ответ. – Завтра.
– Завтра тоже будет день, к несчастью, – пробормотал Бутыля и осторожно закрыл окно.
2
Герман стоял в ванной, полураздетый, и мылся, обезьянничая с папы. А папа никогда не садится за стол, пока основательно не ополоснет не только руки, но и всего себя от пояса и выше, особенно подмышки. Даже если папа собрался всего лишь заесть маленьким бутербродом концерт по заявкам радиослушателей, он должен перед этим вымыться и надеть чистую майку. Привычка немного утомительная, но вот так в ванной меряться с папой бицепсами вполне себе ничего. У Германа они пока не очень, но накачаются, конечно, если он перестанет листья глотать.
Зеркало висит высоко, Герман видит только свою макушку, зато папа такой длинный, что пригибается, когда делает пробор своей драгоценной железной расческой. Папа ею очень гордится. Он крановщик, папа Германа.
– Сегодня бедокурил? – спросил папа, внимательно осматривая расческу, прежде чем сунуть ее в задний карман брюк.
Герман глубоко задумался.
– Чтоб я помнил, то нет, – ответил он наконец.
– Так я и думал. Иначе я бы увидел сверху, верно?
Папа хлопнул его по спине, они засмеялись, а вместо ответа Герман задрал голову и посмотрел на папу снизу вверх. Голова закружилась почти как под деревом в парке, только с папы листья не облетают.
– А сегодня ты ангелов видел? – спросил Герман.
– Сегодня опять ни одного, – вздохнул папа, провел под мышками дезодорантом и отдал его Герману. Ужасно жгучий оказался – видно, в отместку за приятный запах.
На кухне звякнула упавшая у мамы тарелка – значит, обед готов. Понедельник – день доедок, эту еду Герман не любит. Откуда, интересно, остатки берутся, если ничего похожего ни в субботу, ни в воскресенье на обед не давали? Тут не захочешь, а заподозришь неладное: не папины ли противные угри контрабандой проскальзывают в понедельничные запеканки? Как назло, Герман не очень голоден. И сейчас папа начнет, конечно, подначивать его: не заболел ли он, хочет ли вырасти большим, – в общем, на гарнир к запеканке из остатков обычно подаются сложности.
Герман ковырялся в тарелке, за окном лил дождь. Чумазый голубь мок на подоконнике, курлыча себе под нос, потом взлетел и сел на ветку на другой стороне улицы. Хорошо птицам, думал Герман, на них не напяливают ни дождевиков, ни зюйдвесток. Интересно, если дождь будет идти, как в Африке, сорок дней, велят носить маску с трубкой?
– Герман, ты не заболел? Или ты не хочешь вырасти большим?
Папа говорил с полным ртом, он уже три раза брал добавку: наверняка запеканка все-таки на угрях.
– Тут все уже поели, – ответил Герман.
– Поел? Где это? – немедленно спросила мама.
– Во Фрогнер-парке.
– Зачем ты кусочничаешь до обеда? – это снова папа. – Хочешь расти вширь, а не вверх?
– Больше не буду, – ответил Герман и снова стал смотреть в окно.
Голубь улетел, но дождь остался, строчит с неба строго перпендикулярно земле. Бог, должно быть, отлично плавает, подумал Герман, уж не говоря об Иисусе – тот в молодые годы вообще по воде ходил.
Герман очень гордится, что его папа – крановщик. Одно время он и сам подумывал о такой работе, но у него голова кружится, стоит ему просто задрать ее и посмотреть на дерево, так что вряд ли он сумеет со стометровой высоты разглядеть на земле толстый кабель, подцепить его крюком и продеть в угольное ушко в Лиллестрёме.
Мама забрала остатки с тарелки Германа на свою – она у них самая прожора, а все равно худышка и коротышка. И работает в магазинчике Якобсена на углу. Герман любит зайти туда по дороге из школы, ему очень нравится запах кофе от большой кофемолки. Странно, что такое горькое питье может так хорошо пахнуть.
– У нас сегодня покупатель хотел ограбить кассу, – рассказывала между тем мама. – Он швырялся помидорами и угрожал нам связкой бананов!
– Не Бутыля, надеюсь? – спросил Герман.
– Конечно, нет. Бутыля до такого не доходит.
– И сколько денег забрал?
– Он поскользнулся на банановой шкурке, а потом сбежал.
Мама отложила нож и вилку, чтобы посмеяться. Когда мама смеется, поезда западной линии сдувает с рельс, паром на Несодден[3] уходит под воду, а куранты на ратуше замирают.
Папа дышал глубоко и медленно, пережидая шум.
– Мамуся, опять ты все сочинила? – вздохнул он.
– Вовсе не все. Якобсен-младший правда позвонил в полицию и заявил о нападении. Он принял помидоры за кровь! – ответила мама.
– Он трус и мямля, этот ваш Якобсен, хлыщ и прыщ! Мчится в полицию, стоит ему ручки недосчитаться.
– Он старается как умеет.
– Умеет он только ручки пересчитывать да щеки надувать.
Герман перевел взгляд с папы на маму и задумался.
– А может, это был Густав Вигеланд, – сказал он.
Папа положил вилку и нож и вздохнул тяжело еще несколько раз. Мама, меняя тарелки, наклонилась внезапно к самому лицу Германа, совсем как недавно Руби, и он немножко испугался: а вдруг он незаметно для себя превращается в дерево, вдруг листик вышел из него не целиком?
– Тебе надо завтра постричься, – сказала мама.
Герман выдохнул с облегчением.
– Ладно.
– И ты помнишь, что должен зайти к дедушке?
Герман мотнул головой, челка качнулась из стороны в сторону, на стол упало несколько волосинок.
– Тут все всё помнят, – сказал он.
Мама смела волосы со стола и снова посмотрела на Германа.
– Пора тебе носить сеточку для волос, – рассмеялась она.
Герман тоже засмеялся в ответ, но не так громко, как мама, так громко ему слабо́, а папа тем временем отнес всю посуду со стола в раковину, не уронив при этом ничего, даже зубочистки.
Когда у Германа не доделаны уроки, его освобождают от мытья посуды, поэтому обычно после обеда он говорит, что ему еще кучу всего учить.
У себя в комнате он достал рабочую тетрадь и написал: «Фрогнер-парк – парк скульптора Густава Вигеланда. 58 фигур на мосту. 4 композиции с ящерами из гранита. Розарий. Лабиринт. Плато с Монолитом. 8 чугунных ворот. Западная площадка. Колесо жизни». Над заключительной фразой он мучился долго. Сомневаясь, все же написал: «Тут все согласные, что это был прекрасный день».
Потом он долго сидел и смотрел в окно. На улице уже стемнело. Странно, что темноту можно увидеть, подумал Герман. Правда, на подоконнике светился глобус, его никогда не выключают. Герман раскрутил его, закрыл глаза и ткнул в него указательным пальцем. Адапазары![4] Он стер последнее предложение и написал вместо него: «Когда я вырасту, я стану крановщиком или уеду в Адапазары».
Перед сном они втроем послушали по радио концерт по заявкам. Их никто не поздравил, они не именинники. А псалмы навеяли на Германа тоску. Хоть бы никому не взбрело в голову заказать в мою честь «Воинство в белых одеждах», подумал он. Эдди Кэлверт еще наяривал на трубе для призывника из Бардуфосса, но папа встал и ушел в ванную, и Герман с мамой догадались, что он опять голоден.
– Пора поднимать паруса, – сказала мама, отрываясь от пасьянса. – Капитана ждут на мостике.
– Вижу землю! – отозвался Герман и, чеканя шаг, пошел в ванную.
Там голый по пояс брился папа. У него борода отрастает трижды в день, а по воскресеньям вообще пять раз. Герман забрался ему на спину и сел на плечи, чтобы посмотреться в зеркало вдвоем, но голова закружилась, и он тихо соскользнул вниз. Папа рассмеялся, а потом сунул голову под кран. Герман взял тюбик зубной пасты и долго его заворачивал; наконец выдавилась белая капелька. Удивительный какой-то тюбик, бесконечный.
– Спокойной ночи, в общем, – сказал Герман.
– Спокойной, – пророкотал папа.
Когда Герман улегся, пришла мама, погасила свет, только глобус оставила. Присела на краешек кровати, погладила Германа по голове, взъерошила челку, как он любит. Мама всегда так делает, когда челка отрастет слишком длинная и пора в парикмахерскую. Попрошу подровнять волосы подлиннее, подумал Герман, тогда скоро снова в парикмахерскую, и мама опять будет гладить мне волосы, ерошить челку и громко смеяться.
Мама тихо прикрыла за собой дверь, а Герман вдруг почему-то вспомнил Руби, огромный стог рыжих волос у нее на голове; птицы там могут гнездиться – снегири например, колибри уж точно. Еще он припомнил листик; зачем, спрашивается, он его глотал, глупость какая, в другой раз надо думать, что в рот тащить.
За окном шумел ветер, сегодня он крался по улицам, обтираясь об углы, и бубнил что-то под аккомпанемент дырявой гармошки и усталых труб. Герман никогда не видел ветер; интересно, какой он с лица…
Из гостиной долетел разговор мамы с папой – у них, по счастью, лица есть. Потом Герман долго думал о времени: вот ведь бедняга, то его тянут, то убивают. А потом ему снилось не вспомнить что. Даже обидно.
3
До школы восемьсот сорок два шага, сосчитал как-то Герман. Это если он идет один, с открытыми глазами и без зюйдвестки. Когда до Драмменсвейен они идут с папой вдвоем, выходит восемьсот шестнадцать шагов, потому что у папы длиннющие ноги, и Герману приходится шагать очень широко, чтобы не отстать. Мама обычно долго машет им в окно, магазинчик Якобсена открывается только в девять.
Они успели довольно прилично отойти от дома, когда мама закричала им вслед и кинула Герману пакет с завтраком, который он вечно забывает. Бросок у мамы мощный, однажды она окликнула их уже у аллеи Бюгдёй, а это сто тридцать восемь шагов, и Герману осталось только открыть ранец: вуаля – два бутера с козьим сыром и два с колбасой легли точно между пеналом и учебником природоведения.
Герман с папой остановились на углу напротив лавки Якобсена. Папе – дальше вниз в Вику, их стройплощадка сейчас там. А Герману – дальше прямо.
Папа наклонился к нему, дыша стертым запахом слабого кофе и сигарет.
– Когда-нибудь возьму тебя в кабину крана, – сказал он.
Герман отвел глаза.
– Оттуда, наверно, и Америку видно?
– Америку! Бери выше! Оттуда видно так далеко, что у меня глаза на спину перелезают!
– Ничего себе, – изумился Герман.
– Я шучу, – сказал папа тихо. – Из кабины видно до Несоддена. Привирать нехорошо, да?
– В общем, да.
Папа вдруг выпрямился, залез в задний карман и достал железную расческу.
– Отныне она твоя, – торжественно заявил он. – Береги ее.
Герман почтительно забрал у папы расческу; на ощупь она оказалась приятная, увесистая и блестела.
– А чем ты будешь причесываться? – спросил Герман.
– Да мне довольно голову высунуть из кабины – ветер меня пригладит, – сказал папа и пошел могучим шагом по Мункедамсвейен в сторону своей стройки. И внезапно исчез за облаком вспорхнувших голубей.
Перед Красным Крестом стояла скорая с надраенными зеркалами бортов. Герман наклонился и стал рассматривать свою физиономию. Опять с ней что-то странное, нос чуть не во все лицо, хорошо хоть на шишку сегодня не смахивает. Герман провел по волосам железной расческой; она скребла кожу, прямо больно царапала, но так, наверно, и задумано: красивый пробор требует жертв. Тут он увидел, что в скорой лежит человек – старик с немигающими стеклянными глазами; рот у него как отверстый провал, без единого зуба, а кожа синяя и прилипла к нему, как костюм к конькобежцу. Герман отшатнулся и помчался вверх по улице. Зачем-то ему вспомнился дедушка в широченной кровати с балдахином.
Со счета шагов он тем временем сбился, теперь можно заодно пройтись с закрытыми глазами. Его личный рекорд – двадцать шесть шагов, но он был установлен прошлым летом в поле. Герман зажмурился и начал отсчет. Восемь. Все идет отлично. Пятнадцать. Очень хорошо. Но на двадцать втором – стоп-машина: он уперся во что-то мягкое, оно истошно завопило. Герман открыл глаза и оказался нос к носу с лисой. Где-то гораздо выше качалась голова с голубыми волосами и орала:
– Смотри куда идешь, паршивец!
Герман повернулся в другую сторону и стал ощупывать руками воздух перед собой.
– Я не паршивец. Я слепой и сбился с курса.
Вытянув вперед руки, он поплелся по аллее Бюгдёй. Три машины затормозили с визгом, один автобус чуть не въехал в кондитерскую Мёльхаусена. Герман припустил бегом, но, свернув на Лангбрекке, услышал вдали школьный звонок.
Во дворе уже не было ни души, словно двери, как огромные пылесосы, всосали в себя всё и вся, даже оберток от бутербродов не оставили. Герман крался вдоль забора пригнувшись и прикидывал, что бы такое наплести на этот раз. Кругом была глухая ватная тишина. Может, все умерли и у меня свободный день? – подумал он. Но в коридоре из-за всех дверей слышались псалмы; ужасно печально они звучали, даже печальнее, чем радиозаявки с приветами в последний путь столетним старцам.
Герман повесил на крючок свою куртку из кожзама, выждал, пока пение стихнет, постучался и открыл дверь, прежде чем ему ответили. Боров стоял у стола и смотрел на него в упор: лоб перемазан мелом, указку он выставил как рапиру. Руби у своего окна уже приготовилась смеяться. Боров сделал шаг в сторону Германа. Он огромный, крупнее всех учителей, и хотя роста гигантского, но в ширину еще больше. Говорят, однажды он вывесил семиклассника за ухо в окно на верхнем этаже и держал так сорок минут. Но это, кажется, было еще до войны.
– Что ты сегодня придумаешь в свое оправдание, Герман Фюлькт?
Сказать, что он внезапно ослеп и заблудился в старом Осло, нельзя – это он уже говорил.
– Я спасал старушку, на нее напала лиса, – ответил Герман.
Боров подошел ближе. В руках он сжимал указку – того гляди переломится: кулак у Борова как кочан цветной капусты. Интересно, как проштрафился тот семиклассник, которого он за ухо подвешивал, подумал вдруг Герман. И у него свело живот.
– Лиса, вот оно что. И в каком месте она напала на старушку?
– Прямо посреди аллеи Бюгдёй.
– Ну надо же. Не сочти за труд, расскажи нам, как ты победил этого страшного зверя.
По классу от парты к парте неспешно катится смех. Руби сейчас, похоже, лопнет. Все-таки смех – это болезнь, в очередной раз подумал Герман, недаром мама говорит, что он заразительный.
– Когда я подбежал, лиса была уже мертва. Она висела у старушки на шее, она была отравлена. Можно мне выйти? Мне надо в туалет.
Теперь смехом заразились все, на каждом лице зияла большая открытая дыра, откуда извергались разные звуки. Совсем больные граждане молотили кулаками по партам.
Одного Борова эпидемия не коснулась. Он возвратился к столу, лоб сжался в гармошку – восемь горизонтальных морщин, и мел с них сыпался вниз по щекам.
– Сядь на место, – сказал он усталым тоном. – Сможешь дотерпеть до перемены?
– Смогу, наверно, перемена уже скоро.
Боров нахмурил лоб еще на три морщины, и Герман прошмыгнул на свое место в ряду у окна. Отсюда видна церковь. Герман никак не может решить для себя вопрос: что выше – шпиль на церкви или папин кран? Он бы скорее поставил на кран, иначе как бы шпиль построили? Двумя партами впереди него сидит Руби; когда на ее волосы падает свет с улицы, они вспыхивают огнем, точь-в-точь как пылает на солнце медный шпиль колокольни. Но сегодня так пасмурно, что даже птицы ждут в очереди полетать. А волосы Руби красивы и в такую погоду. Герману нравится, что она сидит перед ним. Потому что сзади у него более проблемные личности – Гленн, Бьёрнар и Карстен. Они уже побили семиклассника, засорили сортир и выкурили половину маленькой пачки «Cooley». Опасно иметь таких за спиной, если у тебя нет глаза на затылке.
Вдруг Руби обернулась и показала ему язык. Он похож на красный листик. Герман громко засмеялся, но Боров еще не выпустил его из-под прицела; он тут же поднял указку, выпятил нижнюю губу, сдул мел с носа и приказал:
– К доске!
Медленно идя между рядами, Герман прикидывал, о чем спросит Боров сегодня. Какой высоты Монолит, сколько желудков у коровы и для чего они ей нужны, каков путь древесины от бревна до мебели? Герман чувствовал, что с каждым шагом делается ниже ростом, он уже сам себе до коленок не доставал. До учительского стола он добрался таким крохой, что полностью отразился в правом ботинке Борова. И сразу вспомнил, что сегодня ему стричься.
Герман взял мел – тяжеленный, как бревно; ну и как поднять его до доски? Здесь внизу, в ногах у Борова, то еще амбре. Интересно, что его заставят рисовать: контуры Африки или сразу дом в Эйдсволле – колыбель конституции, с его двумя флигелями и флагом на крыше?[5] Или его подвесят за левое ухо, и придется болтаться за окном? Хорошо хоть класс у них на первом этаже.
– Напиши «i» с точкой, – сказал Боров.
Повезло, подумал Герман – и сразу подрос на метр, дотянулся до доски, написал пижонское «i», лихо припечатав точку.
– Что это такое?
– Это «i» с точкой, – ответил довольный Герман.
– Издеваешься?
Сбитый с толку Герман растерянно переводил взгляд с доски на учителя, который уже навис над ним, как перекормленный знак вопроса.
– Я попросил тебя написать «i» с точкой, помнишь?
– Тут все всё помнят.
– Тут никто часом не хамит?
– Я Герман Фюлькт.
Боров решил, видимо, не связываться, устало забрал у него мел, тяжело навалился на доску и нарисовал над «i» еще точку.
– Если я прошу написать «i» с точкой, то точек должно быть две! Заруби себе на носу.
– Так точно.
Герман поплелся на место, но по дороге Руби сунула ему сложенную записочку. Сев за парту, он осторожно развернул ее и прочитал криво убежавшую строчку: «Тебе нравятся рыжие волосы? С приветом, Руби».
Едва он принялся за ответное письмо, зазвенел звонок. Теперь уж поздно, у Руби дальше домоводство, а у Германа труд в мастерской в подвале. Так что ответ он пошлет ей завтра с бумажным голубем. А может, и с живым – вдруг удастся поймать одного на площади Улафа Бюлля.
В мастерской мерзко воняло клеем, у Германа от этого запаха голова сделалась тяжелая и смурная. Клей в большом ведре у батареи выглядел как перегнившее желе. Герман клеил гербарий и предвкушал весну: тогда на Бюгдёй[6] он наберет ветрениц, а на Несоддене отыщутся, если повезет, колокольчики и незабудки. Фанера еще не пришел – он всегда является на урок с опозданием; сидит себе, конечно, в раздевалке и любезничает с уборщицей.
Вдруг рядом с Германом выросли Гленн, Бьёрнар и Карстен.
– А чего ты не на домоводстве с девчонками? – спросил Гленн.
Герман честно хотел поднять на него глаза, но для этого прямо кран нужен, так они отяжелели.
– Связал бы прихватку, хоть задницу подтер, – подхватил Карстен.
– Чего она тебе написала?
– Кто?
Врать так внаглую Герман не большой мастак. С непривычки ему даже показалось, что челюсть отвалилась и болтается как кошелка.
– Руби, придурок.
– Она мне ничего не писала.
Челюсть наливалась тяжестью все сильней и отвисала все ниже, скоро нужен будет костыль ее держать.
– Не финти, вон бумажка, – сказал Гленн и придвинулся ближе.
У него челка ниже глаз, пластинка на зубах, и он утверждает, что может жевать стекло.
– Какая бумажка? А, эта… Мама написала, что в магазине купить.
Нижняя губа уже размером с ванну, голову трудно удержать.
– Ща проверим! – гаркнул Карстен, и вмиг эти трое вывернули Герману карманы. Бьёрнар заинтересовался расческой, Карстен цапнул пять крон, а Гленн развернул записку.
– Тебе нравятся рыжие волосы? С приветом, Руби! – завопил он, от хохота чуть не выплевывая пластинку, и заржал в голос.
Смех вторил отовсюду, все заразились им, и болезнь тянулась и тянулась, а Фанеры все не было. Ветрянка с корью и то получше, подумал Герман, но внезапно смех смолк. Гленн схватил его за руку:
– Так ты любишь рыженьких?
Герман упорно разглядывал носки башмаков и прерывисто дышал. Бьёрнар приставил ему ко лбу железную расческу, как дуло пистолета.
– Тебе нравятся рыжие волосы?
– Рыжие-кочерыжие, – ответил Герман.
Челюсть брякнула об пол, по разбухшей губе в рот полезли какие-то мелкие мерзкие твари и не выплевывались никак.
– Скажи: Руби уродина!
– Руби уродина.
– Скажи: рыжая хавронья, на башке гнездо воронье!
Герман водил пальцем по недоделанному гербарию. В голове что-то дергалось.
– Рыжая хавронья, на башке гнездо воронье.
Гленн расцепил пальцы, но тут же за спиной у Германа вырос Карстен.
– Щас ты сдохнешь!
– Щас я сдохну.
– Говори свое последнее желание.
– Отдайте расческу.
Бьёрнар хмыкнул и вложил расческу в гербарий. Карстен встал караулить у двери, Гленн засунул Герману под свитер кусок картона, а Бьёрнар всадил в него нож, чтобы он торчал из груди.
– Идет! – прошептал Карстен.
– Быстро на пол! Тебя убили!
Герман лег на пол в проходе и закрыл глаза.
В мастерскую вошел Фанера. Он худой как ревень, и у него огромные прозрачные уши лопухами. Когда дует ветер, ему приходится прижимать их к голове резинками от банок с вареньем, чтобы не парусили. Сейчас он озирался в недоумении, потому что весь класс молчал, а это не к добру.
Наконец Фанера заметил Германа. Схватился за косяк, но тут же кинулся к поверженному, опрокинул по пути два ведра клея, замахал руками, закричал. Упал на колени рядом с Германом. Дернулся было вытащить нож, но не осмелился дотронуться до него.
Герман лежал не шевелился. От Фанеры тянуло одеколоном, а может, клеем.
– Что стряслось? – надрывался Фанера.
Все молчали. Фанера снова склонился над Германом. Ему захотелось чихнуть, но это как-то неправдоподобно – чихать, когда тебе вонзили нож в сердце.
– Герман, ты меня слышишь? Это я, Фредрик Юэль Юхансен, ты меня слышишь?
Герман его отлично слышал, но не знал, стоит ли отвечать. Лучше все же подождать, пока он успокоится.
– Бегите за медсестрой! Бегом!
Никто не пошевелился и никто слова не произнес.
Фанера взял Германа за запястье и прижал свое огромное ухо к его губам. Было щекотно.
– Герман, а Герман… лежи тихо… помощь сейчас будет… ты будешь жить… не волнуйся… все обойдется… ты как?
Герман открыл глаза и увидел прямо перед собой ухо Фанеры, похожее на внутренность огромной мидии.
– Спасибо, тут порядок.
Лицо Фанеры собралось в кучку, он растерянно оглядывался, но все отводили глаза и насвистывали неприличный марш полковника Боуги[7]. Герман медленно поднялся и побрел на свое место, выдернул нож, картонка упала на пол.
Высвистывать мелодию у народа уже не было сил. Смех гремел со всех сторон, сотрясал стены. И вдруг разом смолк: вклинился другой звук – пугающий, страшный. Фанера стоял на коленях и плакал, даже не пытаясь это скрыть. Прижал руки к бокам старого пыльного пальто и плакал.
По дороге из школы Герман едва не забыл про парикмахера. Больше всего ему хотелось уплыть на датском лайнере в Австралию. Или хотя бы уехать на трамвае в далекий от центра Дисен.
На Скуввейен он встретил Муравьиху. Бывает, говорят, шило в попе, тараканы в голове, язык без костей и руки-крюки, но полные ноги муравьев наверняка хуже. Тетка едва переставляет ноги, она опирается на костыли и выбрасывает вперед тело, при каждом шаге оно содрогается. Герман уже много раз прикидывал, откуда взялись у нее в ногах эти мурашки. Проглотила она их, что ли, по несчастью? Вид у Муравьихи страшно грустный, и Герман всегда переходит на другую сторону, завидев ее.
По всей аллее Бюгдёй со стуком осыпаются каштаны. Набив на зиму полный рюкзак снарядов, Герман шагнул в парикмахерскую.
Вообще-то здесь хорошо. У Пузыря, как всегда, влажные волосы и тоненькие черные усики. Он нажимает на педаль, и кресло поднимается, этот трюк Герман любит. Пока он едет наверх, чувствует себя немножко крановщиком. Еще ему нравятся расчески в голубом растворе и рекламные плакаты бальзама «Брил» и шампуня «Чеселайн» – там влюбленные парочки с красивыми лицами и пышными волнами волос.
– Как тебя сегодня стричь? – спросил Пузырь, накачав кресло до нужной высоты и утирая от усилия пот.
– Как брата.
– А какая у брата стрижка?
– А вот и нет у меня брата!
Они захохотали на два голоса. Пузырь щелкнул ножницами, поднял растопыренными пальцами волосы Германа и начал стричь, мурлыча себе под нос известный шлягер из концерта по заявкам, но не псалом, к счастью.
Герман с интересом рассматривал картинку в зеркале: в нем отражалось второе зеркало у него за спиной и шеренга дам в космических шлемах перед ним. Он видел себя в сотне кресел в череде уменьшавшихся мужских залов, сходивших на нет в точке размером с муху. В парикмахерской много интересного – сам он, например, обернут накидкой, которая быстро покрывается светлыми волосами, на шее у него топорщится воротничок из гофрированной бумаги, а ногами он упирается в подставку.
Пузырь вдруг прекратил стричь. Герман запрокинул голову и увидел перед собой его ноздри: в каждую влезет каштанов по восемь, не меньше. Пузырь вернул его голову на место, несколько раз щелкнул ножницами, но снова замер, уставившись Герману в затылок. Вот кто, интересно, стрижет самого Пузыря, или дергает зубы дантистам, или вырезает аппендицит хирургам?
Странно, что Пузырь замер так надолго, начал раздражаться Герман. Может, достригся до мозгов и теперь читает мои мысли? Такого уговора не было.
Наконец Пузырь распрямился, достал мокрую расческу и сделал Герману прямой пробор.
– Будем считать, что так сойдет?
– Вполне сойдет, – ответил Герман.
– Можешь передать маме, что я хочу поговорить с ней?
– Она же только сделала пермент.
– Не пермент, а перманент. Но я все равно хочу с ней потолковать.
– Хорошо, Пузырь.
И на десерт самое приятное: Пузырь обмахнул ему голову и шею мягчайшей щеткой, сделанной в перуанских Андах из хвостов тамошних лам.
Потом Герман получил две кроны сдачи с пятерки, сунул их в карман и вышел на улицу.
Ветер холодил стриженую голову. И вдруг прямо ему на черепушку упал каштан и чуть ли не прилип. Пришлось долго трясти головой, чтоб его скинуть, мягкие мытые волосы рассыпались по лицу. Но Герман спокойненько достал из кармана железную расческу, встал перед тройным зеркалом в окне и занялся пробором. Немедленно позади зеркала возникла физиономия Пузыря. Он пристально посмотрел на Германа, и глаза у него сделались такого же грустного цвета, как у Муравьихи.
Герман решил его подбодрить и весело поднял вверх расческу, чтобы Пузырь рассмотрел ее вблизи – он же страшно любопытный. Пузырь деланно улыбнулся, но вышло криво. Герман сунул расческу в карман и бегом припустил по аллее Бюгдёй.
У Якобсена за прилавком стояла мама. Здесь она совсем не такая, как дома; на ней белый фартук, а на волосах сеточка, похожая на паутинку.
На кассе был сам Якобсен-младший. Все говорят, что он похож на какого-то известного американского киноактера. Черные волосы зачесаны назад, на подбородке ямочка, как бывает у смешливых, хотя Якобсен не улыбается никогда, разве что огромным чекам. Из нагрудного кармана у него торчит несколько авторучек.
Герман первым делом подошел к кофемолке, зажмурился и втянул запах, раздув ноздри что есть сил. Если бы он помнил свои сны, они наверняка пахли бы ровно так.
Пришла мама и встала рядом, у нее за ухом карандаш.
– Смотри, какая у тебя теперь аккуратная голова.
– Спасибо, не надо.
Якобсен-младший пробил кому-то чек, громко прокашлялся и обвел глазами магазин. Не иначе продал килограмм мясного фарша или даже антрекот. Когда вся покупка – соль да хлебцы, он не кашляет вообще. А уж если бутылки хотят сдать, он встает и уходит в свою каморку, там у него радио и заграничные журналы.
– Сегодня на вас не нападали?
– Нет, сегодня только собака пописала на капусту, теперь продаем за полцены.
– А у нас что будет на обед?
– Зыбная рапеканка и рактошка.
– С шоколадным соусом?
– Конечно! Ты про дедушку не забыл?
– Никто не забыт.
Мама поставила на прилавок бумажный пакет. Герман точно знает, что в нем лежит: шесть зеленых яблок, восемь морковок, пять рыбных котлет, бутылка молока и две плитки простого шоколада. Дедушка здоров как лосось, поскрипит еще авось.
– Пузырю надо с тобой поговорить.
– Поговорить со мной? О чем?
– Он хочет состричь твой перманент.
– Опять шуточки.
– Ничего подобного. Пузырь правда хочет с тобой поговорить.
Мама отдала ему пакет и подтолкнула к двери. А в нее как раз ввалился Бутыля, и Якобсен-младший вскочил из-за кассы и исчез в каморке. У Бутыли в каждой руке по полной авоське бутылок, стеклотару пришел сдавать, и она гремит как янычарский оркестр за три недели до Дня Конституции.
– У тебя тоже муравьи в ногах? – спросил Герман.
От этих слов у Бутыли вдруг подогнулись ноги, он рухнул на пол и растянулся, засыпанный бутылками.
Сегодня все ведут себя очень странно, подумал Герман и выскочил на улицу. В спину ему летели крики Бутыли:
– Нет муравьев! Нет! Уберите муравьев! Уберите! Оставьте меня в покое!
И спокойный голос мамы:
– Конечно, нет, Францен. Сейчас мы сосчитаем бутылки и посмотрим, что у нас сегодня выходит.
К счастью, идти до дедушки недалеко: надо перейти трамвайные пути, миновать сосисочную и спуститься почти к самому метро. Но он живет на четвертом этаже, а это слишком много ступенек для обезножевшего человека. Герман давно решил, что, как только разбогатеет, купит дедушке лифт.
Дверь у него никогда не запирается, Герман просто толкнул ее и вошел. Сначала попадаешь в узкий коридорчик, здесь по стенам развешаны фотографии. На одной из них мама и папа Германа на борту задравшего нос корабля. Они тут еще совсем молодые, и Герман всегда сомневается, нравится ли ему этот снимок. На другой фотографии он сам. Сидит в каком-то уродливом плавательном круге и отчаянно орет, а голова лысая, как голубой шарик. Что-то Герман не помнит, когда это он так выглядел; может, это и не он.
В комнате на большой кровати под красным балдахином лежит дедушка. Он так лежит со дня бабушкиной смерти, а она умерла до рождения Германа. Ноги у дедушки тонкие, как карандашики, они свое уже отходили, как говорит мама. Но лежит он, во всяком случае, удобно. Запах в комнате, правда, не ахти.
Герман открыл окно, поставил еду на ночной столик, потому что по совместительству тот работает еще и просто столом.
Первым делом дедушка отпил молока прямо из горлышка. Пока Герман ходил в ванную вылить горшок, дедушка съел четыре котлеты, и вид у него стал довольный. В углу по заведенному порядку тикали старые ходики.
– У нас есть время поболтать? – прошелестел дедушка своим странным тихим голосом и положил Герману руку на плечо.
– У меня на кухне что-то пригорает.
Так всегда отвечает мама, когда в дверь звонят торговцы или мормонские проповедники.
Дедушка заржал и долго смеялся – тем же тихим голосом.
Эти кровати с балдахином – отличная вещь, наверно, в них и сны запоминаются.
– Что ты делал сегодня?
– Сегодня я много врал.
– Это не совсем хорошо. Но завтра будешь говорить правду.
– Не знаю, хватит ли у меня сил.
– Не оправдывайся.
– Прости.
– А зачем ты врал?
– Гленн, Бьёрнар и Карстен заставили. Они воткнули мне нож в сердце, и я валялся на полу как зарезанный.
– Это меняет дело. Я помню, однажды тоже соврал. Дело было в Турции в войну. Они содрали мне восемь ногтей, тогда я заговорил. Но это не считается.
Дедушка совсем лысый, у него три волоска за левым ухом, три за правым – и всё. Больше деду похвастаться нечем. Да и эти скоро выпадут. Голова шишкастая и неровная, как щебенка, и цвета похожего. Но мысли не просвечивают, и Герман рад, что их не видно. Он часто думает: а как бы выглядел без волос он сам? Как дедушка? Поди узнай… Дедушка, наверно, самый старый человек в мире. Вот странно, что и старики, и младенцы почти без волос.
– А я рассказывал тебе, как однажды сверзился с лестницы с двумя ведрами краски?
– Ага.
– В одном была синяя, в другом – желтая. Хоть убей, не помню, что я красил.
– Ты красил рамы на втором этаже дома на Несоддене.
– По счастью, я упал на траву, но на меня вылилась вся краска, и, естественно, я стал зеленым. Свалился я на Троицу, а нашли меня только в конце августа. Хочешь доесть последнюю котлету?
– Нет, лучше мне не кусочничать перед обедом.
– Тогда я доем. Я здоров как лосось, поскриплю еще авось. На что ты там смотришь, Герман?
– На твою голову. Почему на ней волосы не растут?
– Потому что мне помирать пора. Старость как осень. Листья опадают.
– А потом ты превратишься в зиму?
– Да. В долгую-долгую зиму.
Входя в дом, Герман с порога услышал, как мама уронила две тарелки – это вдвое больше нормы. А папа стоял в двери ванной, перекинув полотенце через плечо, и смотрел на него, точно в первый раз увидел.
– Приветик, – сказал папа наконец, но голос звучал непривычно глухо и гулко, как будто папа говорил из большого горшка.
Тут до Германа дошло, что папе с его башенного крана все видно. И как он про Руби врал, папа тоже видел.
– Я не нарочно, – промямлил Герман.
– Что не нарочно?
– Ты следил за мной?
Папа долго обдумывал ответ и даже закрылся полотенцем. Потом скинул его и сказал:
– Сегодня я тебя весь день не видел. Облака слишком толстые были. Зато я помог самолету приземлиться в Форнебю. – Он кинул полотенце Герману. – Это я привираю. На самом деле я видел только птицу. И покормил ее хлебом.
Появилась мама: глаза усталые, лицо в саже.
– Ты можешь не мыться. Еда на столе.
– Зато тебе помыться надо, – засмеялся Герман и кинул полотенце маме.
Рыбная запеканка пригорела, а картошка разварилась почти в пюре. Герман пожалел, что не покусочничал у дедушки. Мама, похоже, сегодня не голодная, она не закрывая рта рассказывает про Бутылю, как он уверял их, будто в пивных бутылках полно муравьев. И про то, что к Якобсену-младшему пришла дама в широкополой шляпе и длинной юбке.
– Мам, ты не заболела? – спросил Герман.
Она резко обернулась к нему и сказала удивленно:
– Заболела? Почему ты спрашиваешь?
– Ты не ешь ничего.
– Она опять худеет, – объяснил папа.
Мама, словно опомнившись, откусила кусочек горелой запеканки и спросила с полным ртом:
– Тебе кажется, я слишком толстая?
– Нет, я тебя одним пальцем подниму, – откликнулся папа, но поднимать никого не стал.
– Может, ты подцепишь краном дедушку и спустишь на улицу? – предложил Герман.
– Идея неплохая, но надо хорошенько все продумать.
– Мы вытащим его через окно. Только это надо делать, пока зима не наступила.
– Как там дедушка, кстати?
– Поскрипит еще авось.
Папа встал из-за стола и начал убирать посуду, но уронил на пол вилку, а когда наклонился поднять ее, упустил еще и стакан.
– Ты с Пузырем говорила? – спросил Герман маму, чтобы не смотреть, как папа ползает по полу, собирая осколки, и загривок у него красный, аж жуть.
– Да, говорила. А сдача где?
– Я уж надеялся, ты забыла! – рассмеялся Герман.
– Забыла не забыла, но можешь оставить сдачу себе.
Герман уставился на маму в недоумении.
– Нам это по карману?
– Да, не волнуйся.
Папа резко выпрямился, чуть не врезавшись головой в потолок.
– Я поговорил с бригадиром. То есть мне не обязательно спрашивать у него, но, короче, ты можешь как-нибудь на днях подняться со мной в кабину. Что скажешь?
Что на это скажешь, подумал Герман, но расстраивать папу не хотелось.
– Здорово. Я наконец рассмотрю свою спину.
Папа выбросил осколки в мусор и поспешно вернулся за стол.
– Ну и на рыбалку съездим, за угрем.
Герман отвел глаза. А папа перегнулся через стол и, размахивая руками, стал показывать размер будущего улова.
– На набережной у «Фреда Ульсена»[8]. Там самые жирные пасутся, где слив канализации.
– Прекрати! – крикнула мама и с грохотом встала.
Папа водил глазами с несчастным видом, и Герман понял, что надо его выручать.
– Но душить их я не хочу.
Папа улыбнулся ему с большим облегчением.
– Мы их не душим, Герман. Гвоздь номер три – и всё. Аккуратно в башку тюк – вот так – и всех делов.
Мама выскочила из кухни.
Да уж, вечер становился все страннее и страннее. Папа сегодня сел ужинать не помывшись. Мама взялась довязывать шапку, начатую два года назад. Лучше не отсвечивать, подумал Герман, а пожелать всем спокойной ночи и лечь.
Все каштаны он взял с собой в кровать. Вытаскивать их из скорлупы – одно из самых больших удовольствий. Удивительно, что такое гладкое, такое приятное может прятаться в зеленой скорлупе с шипами, прямо чудо. Он сложил каштаны на подушку рядом с собой, но один все-таки засунул за щеку. Тут же зашла мама и села на краешек кровати.
– Герман, ты ешь каштаны?
– Это я как будто курю.
Мама нежно провела пальцем по пробору, Герман расхохотался, каштан выстрелил изо рта и попал в Америку на глобусе.
– Очень у тебя красивая стрижка.
– Неплохая.
– А уроки ты сделал?
– Нет два раза.
– Ничего страшного. Ты завтра в школу не пойдешь. Нам с тобой надо сходить к врачу.
Сон слетел с Германа в одну секунду.
– Мама, ты заболела?
Она приставила палец Герману ко лбу и мягко уложила его снова на подушку.
– Доктор просто посмотрит на нас. Ничего страшного.
Когда она так говорит, Герман нервничает сильнее.
– Это не аппендицит? – спросил он.
– У тебя болит живот?
– Может быть. Но я не нарочно съел этот листок.
– Герман, ты съел лист с дерева?
– Да, покусочничал. Он мне сам свалился в рот. Во Фрогнер-парке.
– Но ты его выплюнул?
– Потом. Мам, а ты когда-нибудь ела листья?
– Я однажды наелась смолы. Но это давно было, еще до твоего рождения.
– Тогда прорвемся, – сказал Герман.
Мама потрепала его по волосам, но потом зачем-то взялась рассматривать свои пальцы и ладонь. Совсем она сегодня странная, подумал Герман, закрыл глаза и притворился спящим.
Когда мама погасила свет и ушла, закрыв за собой дверь, Герман подошел к окну и приподнял раскрученную донизу штору. В руке он сжимал каштан, глобус мерцал рядом темным желтым цветом, а на черном небе белела круглая луна.
Может, луна – единственный глаз ветра? Тогда сам ветер – одноглазый пират с черной повязкой.
Герман снова забрался под одеяло, залез поглубже; он злился, что придется тащиться с мамой к врачу. В кабинете врача всегда пахнет опасностью. Правда, за это он в школу завтра не пойдет. Быть может, мама приболела. Она к слову и не к слову говорит, что у нее нет времени. Герману слышно, как она шепотом рассказывает что-то папе в гостиной, – значит, какая-то у нее тайна. А потом папа пошел и достал бутылку с верхней полки кладовки, хотя сегодня только вторник. Как бы ему не пришлось совать два пальца в рот и в среду.
Уже засыпая, Герман решил обязательно запомнить в эту ночь свои сны. Но наутро ему помнятся только луна, дедушкина лысина и каштаны. Разве ж это сон?
4
Когда мама разбудила его, он все еще держал в кулаке каштан. Луна давно скатилась с небосклона, а папа ушел на стройку. Времени одиннадцатый час. Так долго Герман не спал по средам с того лета, когда он научился плавать и заразился ветрянкой.
На маме синее платье в белый горошек, она принесла Герману завтрак в постель: жареный хлеб с апельсиновым мармеладом без корочек и чай из пакетика с лучших плантаций Индии. Вид у мамы не очень больной, по крайней мере, она не сетует, что времени у нее совсем нет. Зато велит Герману выпить большой стакан воды, медленно.
– Доктор возьмет мочу на проверку, – говорит она. – Постарайся потерпеть до приема.
– Зачем она ему?
– Все, кто приходят к доктору, сдают анализ.
Герман выпил половину и протянул стакан маме:
– Ты тоже не забудь попить.
Она выпила все в четыре глотка и стала внимательно следить, как Герман умывается. Потом ему пришлось надеть серые брюки, хотя они кусаются, и рубашку, которую он носит только на Рождество и День Конституции семнадцатого мая. С прошлого раза рубашка сделалась теснее. Это приятно.
Мама встала у Германа за спиной и начала наводить марафет у него на голове своей личной щеткой, похожей на поникшего ежика. Он протянул было ей железную расческу, но мама странно изменилась в лице и подтолкнула его в коридор, где ждала наготове куртка из кожзама.
– Угадай, что сегодня на обед, – выпалила мама.
– Зясная мапеканка с кобеном?
– Нет!
– Котные рыблеты с моршёной туковкой?
– Нет!
– Сдаюсь.
– Курица!
Почти всю дорогу до врача Герман думал об этой курице. Если в среду на обед курица, то удивляться в такую среду уже ничему не стоит.
Мама в перчатках из гладкой кожи и шляпке держала Германа за руку. На аллее Бюгдёй с непрерывным грохотом падали каштаны – зеленые бомбы. У деревьев жалкий вид, скоро они совсем оголятся и уже сейчас, похоже, мерзнут, но держат ровно ряды и шеренги.
Герман на секунду отвлекся от курицы и подумал о дедушке. А он не мерзнет? Не зябко ему лежать в кровати под балдахином?
Кабинет доктора оказался совсем рядом с кинотеатром «Фрогнер».
Ух ты, на этой неделе «Зорро»!
– Может быть, папа сводит тебя на пятичасовой в субботу.
– Может быть?
– Точно сводит.
Герман от всех этих внезапных подарков судьбы так растерялся и удивился, что перешел на галоп. Он мчался по улице как лошадка и отфыркивался, Зорро готов был сорваться с плаката и скакать рядом. Но когда они зашли в подъезд и начали подниматься по кривым ступенькам, Герману стало не до курицы и Зорро, и мама тоже была не выше плинтуса, как говорит папа, вернувшись с футбольного матча со шведами. Воняло чудовищно, в нос бил запах протухших аппендиксов, заспиртованных ампутированных ног, гнойников и вакцины от оспы. Герман резко затормозил и уткнулся лицом в мамино пальто.
– Герман, что такое?
– Не знаю.
– Доктор не будет ничего делать, он просто посмотрит на нас с тобой. А знаешь, что у нас сегодня на сладкое?
Герман отлепился от мамы, посмотрел ей в лицо. У него снова закружилась голова, потому что мама снова стала гораздо выше плинтуса. Все-таки жалко, что ему не быть крановщиком.
– Гоголь-моголь?
– Нет.
– Оладушки?
– Нет.
– Сдаюсь.
– Мороженое!
Так, надо тщательно все спланировать. Не переесть курицы, чтобы осталось место на много мороженого.
Он взял маму за руку и крепко сжал ее.
– Не бойся, все будет хорошо.
Мама открыла дверь в приемную, и Герман навек потерял аппетит, даже не уговаривайте, хоть озолотите. На колченогих стульях там сидели очень больные люди и так терли руки и пальцы, что пахло жженым. И тишина была как в могилке (так дед говорит, рассказывая о бабушке). Мама углядела им местечко в углу. Герман втиснулся рядом с печальным человеком почти без головы. С другой стороны однорукая женщина с усиками красила губы и постоянно промахивалась. А в центре комнаты стоял кондуктор трамвая, лишившийся пальца на Майорстюен. Стены сплошь были завешаны плакатами, на них дородные медсестры держали наизготовку огромные шприцы или бутылки рыбьего жира размером с Монолит. Герман закрыл лицо руками, но сквозь пальцы все равно было видно.
Внезапно открылась дверь, из нее, хромая, вышел полицейский. Наверняка сюда он явился печатая шаг. Герман положил голову маме на колени и задремал с надеждой, что здешний сон он не запомнит.
Вдруг тишина сделалась даже тише могильной, было слышно, как идет время в дамских часиках в Токио. Герман приоткрыл один глаз и увидел, что доктор стоит в дверях кабинета и выбирает, кого позвать. Все потупились, с громким стуком упало на траву стеклянное яблоко на Несоддене. А потом тишину разорвал грохот. Доктор достал из кармана небольшую простыню и принялся чистить нос до блеска, заглушая учиненный шум громким воплем:
– Следующий – Фюлькт!
Мама втащила Германа в кабинет, дверь захлопнулась, назад дороги нет. В ближайшем углу стояла медсестра, она кашляла, не могла остановиться, но одновременно силилась улыбаться. Это давалось ей с трудом. В другом углу был шкаф с заточенными кинжалами и бинтами. В третьем углу – кушетка, закутанная в бумагу. А в оставшемся углу стоял Герман. Стоял он не очень твердо.
Единственное приятное в этой комнате – зеленое растение на подоконнике – свисало во все стороны из своего горшка, как раскидистая пальма без ствола. Но воняло оно исключительно мерзко. Наверняка это из-за него кашляла медсестра и сморкался доктор. Теперь он навис над Германом, который целиком отражался в его выдающейся носопырке, и лицо его опять приняло странное выражение; вылитая рыба в раздумьях, как утечь из аквариума. Германа пробрал неприятный холодок: вдруг он все-таки здоров не совсем как лосось?
Выше белого халата прорезался голос:
– Как у нас дела?
– Видимо, не ахти, – прошелестел Герман и поднял глаза на маму: она пряла пальцами, как будто тоже вырывалась из аквариума.
– А лет нам сколько?
Разговаривал доктор как-то странно, будто держал Германа за собачку-пуделя.
– Я что-то сбился со счета, но у меня на следующий год опять будет день рождения.
Доктор загоготал и снова зарылся носом в платок.
– Я тоже никак не могу выучить свой номер телефона, – просипел он.
– Ничего страшного. У нас телефона все равно нет.
Мама покраснела, а доктор заржал громче и подошел ближе. От него пахло солеными пастилками.
– Ты не мог бы сесть? Мне надо тебя посмотреть.
– Смотрите так.
– Хорошо, хорошо.
– И без уколов.
– Слово даю.
Герман притянул маму к себе и прошептал:
– Он хочет начать с меня. Возможно, это заразно.
Мама посмотрела на него растерянно, хотела что-то сказать, но только вздохнула, отчего у него встали дыбом все волосы. Ее очередь следующая, вот она и боится, подумал Герман и совсем уже собрался напомнить ей о курице и мороженом, как она принялась стягивать с него рубашку и майку.
Доктор приставил холодную штуковину ему к спине и велел глубоко дышать. Герман справился на отлично.
Мама стояла рядом и улыбалась, но улыбки у нее сегодня были кривые, точно сваренные из резинок от банок для варенья.
Доктор распрямился и вытащил из ушей дужки с резиновыми наконечниками.
– Я скоро умру? – спросил Герман.
– Не говори так! – вскрикнула мама.
– Ты здоров как лосось, поскрипишь еще авось, – усмехнулся доктор и потер свой нос.
– Дедушка тоже так говорит, но скоро зима.
Мама села на стул, доктор за своим носовым платком тоже растерялся.
– Зима? Ты на лыжах будешь бегать?
У Германа нет сил отвечать. Он замерз. Неудивительно, что они тут все сопливые и простуженные.
Доктор взял лупу, упер пальцы в голову Германа и склонился над его затылком. Рассматривал его очень долго. Поразительно, какие все стали любопытные. Было очень тихо. Так тихо, что слышно, как крошится мел в руках Борова на третьем уроке.
Наконец доктор закончил осмотр и высморкал ураган.
– У меня вши? – спросил Герман.
– Нет, конечно, – встрепенулась мама. – Как ты мог такое подумать?
– У Бьёрнара в прошлом году были. Шестьсот тридцать две штучки.
Медсестра, которая тем временем тоже стала чихать, вручила ему стакан с узким донышком, но широким горлышком.
– Давай соберем анализ мочи. Ты припас немного?
– Тут давно припасено.
Герман повернулся к ним спиной, расстегнулся, прицелился и пустил струю. Она оказалась нескончаемой. Уровень рос, рос и дошел почти до края стаканчика. У Германа затряслись плечи.
– Ты все? – спросила мама у него за спиной.
– Пока нет, – пропищал Герман.
Оно лилось и лилось, теперь уже через край, медсестра подбежала к нему с новым стаканчиком, они поменялись, но брандспойт еще полон. Мама нервно топталась рядом. Герман смотрел в стену, никогда еще он не писал так много. Второй стакан тоже заполнился быстро, доктор принес две кофейные чашки, но и они закончились в две секунды. Все бегали и перекрикивались. Доктор притащил горшок с цветком, Герман основательно полил его. Наконец поток иссяк, последние капли скатились на листья. Доктор промокнул пот со лба и лег на кушетку перевести дух.
– Дело сделано, – сказал Герман, застегиваясь и улыбаясь маме довольной улыбкой. – Теперь твоя очередь.
Но доктор, оказавшийся уже на ногах, надвигался на него со шприцем в руке.
У Германа разбежались мурашки по ногам, он попятился, но уперся в медсестру; она положила ему на плечи тяжелые руки.
– Врун, – Герман наставил палец прямо на доктора.
– Это не укол, просто анализ крови, – начал мутить доктор.
– Больно похоже, – сказал Герман.
– Может, ты сядешь?
– Нет уж, я тут постою.
– Хорошо. Напряги руку, чтобы я нашел вену.
Легко сказать, а сделать трудно. Они ищут по всей руке, доктор щупает, давит и нажимает тут и там, но вдруг резко всаживает иглу и начинает отсасывать кровь.
– Я отрубаюсь, – прошептал Герман.
– Увидишь, все будет хорошо.
Голос у мамы бодрый, но вид – не слишком.
– Отрубился, – сообщил Герман и осел на пол. А очнувшись, обнаружил себя лежащим на кушетке и с мокрой тряпкой на лбу, рядом стояла бутылка кока-колы.
Сначала Герман решил, что это сон и он пока пришел не в себя, а неизвестно куда. Но потом он узнал и медсестру, и доктора, только мама держалась за стенку и выглядела не как раньше, лицо у нее было похоже на теннисный мячик. Голоса он тоже слышал – значит, все-таки пришел в себя, хотя лучше бы он сперва пришел домой. Кстати, кола оказалась вкусная.
– Вы давно заметили, что волосы выпадают?
– Нет, не замечала, – ответила мама.
– Вы не находили волос в сливе или на расческе?
– Находила, но не столько, чтобы думать об этом, – ответила мама.
– Я не могу ничего сказать, пока мы не получим анализы. Но вам надо готовиться к худшему. Что все волосы выпадут.
Все повернулись к Герману. Мама подошла к нему.
– Ты проснулся?
– Почти. Надо еще колы глотнуть.
Их проводили из кабинета обратно в приемную. А там все разболелись пуще прежнего, хныкали, ныли и закатывали глаза.
– Доктор делает не очень больно, – доложил очереди Герман, – только чуточку.
На улице тем временем пошел дождь. Осенняя хилая морось, что облепляет лицо как паутина. Мама крепко держала Германа за руку, так сжимала, что даже больно немножко, и по ее лицу было видно, что она по-прежнему где-то далеко, этот теннисный мячик запузырили выше крыш. Герман попытался представить себе маму совсем без волос. Нет, это невозможно.
– Ты молодец, – мама прокашлялась.
– Ты тоже.
Тут он услышал странный звук и поднял глаза. Непонятно, мама правда плачет или это просто дождь.
– Ну не расстраивайся так, – сказал Герман. – Можно ведь парик тебе купить, если уж слишком много выпадет.
Теперь она точно плакала. Шла не разбирая дороги и на аллее Бюгдёй чуть не врезалась в каштан.
– Можно даже рыжий парик тебе купить, – громко рассуждал Герман. – Мне рыжие больше всех нравятся.
Он взял маму за руку и уверенно перевел через улицу.
На обед у них и курица, и мороженое. Но обстановка в доме непонятная. Теперь и у папы лицо стало странное, и он несколько раз переходил на английский, а это не сулит ничего хорошего. Германа не загоняли спать до половины десятого, папа показал билеты на «Зорро» в первый ряд и спросил, не надо ли еще купить Герману маску и шпагу. Короче, родители сделались на себя не похожи, и Герман только рад был отправиться спать.
Мама с папой вдвоем пришли поцеловать его на ночь. Папа фокусничал с каштанами и так усердствовал, что два бесследно пропали. Пришлось Герману утешать еще и папу.
С потолка свисали пять канатов. Яйцо стоял уперев руки в боки и широко расставив ноги, во рту свисток. Герман надеялся незаметно пробраться в задний ряд, он опустил голову и втянул ее в плечи. Но волосы все равно торчали, и в глубине души Герман знал, что план не удастся; наоборот, чем сильнее он старается быть незаметным, тем больше внимания к себе привлекает. Вот и теперь Яйцо уже вперил в него взгляд, согнул палец и выплюнул свисток.
– Герман, ты в прятки решил поиграть?
– Да вроде нет.
– Поди-ка сюда.
– Я здесь хорошо стою, спасибо.
Яйцо жирно улыбнулся, это не к добру.
– Герман, сюда – это сюда.
– Будет сделано.
Все восемь шагов до Яйца в кедах что-то кусается. Наконец Герман остановился перед ним. Яйцо когда-то был гимнастом. Теперь мышцы висят обвислыми складками. Говорят, со спортом он расстался после неудачного прыжка через коня. Разговаривает он всегда фальцетом.
– Сейчас ты полезешь вверх по канату, пока не стукнешься своей маленькой головой о потолок.
– Не получится, – прошептал Герман.
Яйцо наклонился и ощерился во весь рот.
– Герман, что ты сказал? Я не услышал.
– Не получится.
– Не получится, говоришь? А почему ж не получится-то, Герман?
Герман показал руку, заклеенную там, где доктор качал кровь.
– Пока не слушается, – сказал он.
Яйцо поднял его руку повыше, долго рассматривал, вдруг улыбнулся плотоядно во все лицо, как удав, только что проглотивший теленка, и содрал пластырь. Герман вскрикнул про себя и сжал зубы до скрипа.
– Ты слабак, да, Герман?
Герман не ответил. Послышались первые смешки.
– Слабак?
Герман уставился на Яйцо, смотрел ему в глаз, в зрачке отражался весь физкультурный зал, все те, кто стояли сзади Германа и напирали, чтобы видеть, и он сам с большой головой и тонкими ножками, вылитая муха, только самого Яйца не видно.
– Может, ты хочешь заниматься физкультурой с девочками?
Теперь смеялись уже все. Яйцо размахивал пластырем, на нем виднелось красное пятнышко крови. Герман повернулся и пошел к среднему канату. Смех умер. Но эта тишина еще хуже, она полна битого стекла и все равно невидима. Герман ухватился за канат двумя руками, зажмурился и подтянулся. Сжал колени, перетащил руки. Воздух стал жидким, рука болела, сердце крутилось как динамо-машина, перед глазами белел больной свет. Герман с натугой открыл глаза, и зал тут же опрокинулся, пальцы разжались, он свалился вниз (или вверх?), руки выдернулись из плеч. Он приземлился на спину, над ним навис Яйцо.
– Не боишься идти в душ со всеми, а, Герман? Девочка ты наша…
В раздевалке стояла очередь к зеркалу, первый в ней Гленн, конечно. Он зачесал волосы назад, но одну прядь пытался уложить на лоб, вид у него был недовольный. Внезапно Гленн развернулся, все расступились, и он шагнул к Герману, который сидел на скамейке и возился с последними пуговицами рубашки.
– Дай твою расческу, – сказал Гленн.
Герман натянул свитер, а когда высунул голову из горловины, все уже стояли вокруг него.
– Дай расческу причесаться.
– Расческу?
– Железную. Живо!
– Нет, – сказал Герман.
Гленн огляделся по сторонам и хмыкнул.
– Да я не взаймы прошу. Мне насовсем надо.
Герман надел дождевик и потянулся снять с вешалки зюйдвестку, но Гленн цапнул ее первым.
– Зачем тебе расческа? Все равно ты лысый.
Герман поднял глаза. Гленн запузырил зюйдвестку в душ.
– Я постригся позавчера… – пробормотал Герман.
– Значит, неправильно постригли. У тебя же плешь!
Все придвинулись. Гленн схватил Германа за голову и пригнул ее.
– У Германа плешь! Дырка на башке! Лысый-пысый! Гунявый!
Вокруг орали, перекрывая друг дружку. Герман вывернулся и стряхнул руки Гленна. Тот ухмылялся.
– Попроси волос у Руби, рыжих-пыжих!
Прозвенел звонок, все гурьбой рванули вверх по лестнице, Герман остался сидеть. Смех постепенно затих вдали, но эхо от него застряло у Германа в ушах. Он осторожно положил руку на голову и ощупал ее, поскоблил пальцем, уперся во что-то гладкое, шишкастое – и отдернул руку, сунул ее под дождевик. Вокруг сгустилась тишина, и в тишине Герман вдруг начал понимать, что к чему. И понял. Он подобрал зюйдвестку, крадучись подошел к зеркалу, нагнул голову, скосил глаза, но ничего не увидел. Поднял руку, но духу не хватило, и он, наоборот, натянул зюйдвестку по самые уши и туго-туго завязал под подбородком. Снова посмотрелся в зеркало: глаза черные.
А за спиной стоит Яйцо, обнаружил Герман и медленно повернулся.
– Давай-ка быстро, – сказал Яйцо. – Уже звонок был.
Герман закинул за плечо пакет с формой и не спеша пошел к двери.
– Ты меня слышал? Звонок уже был!
Герман остановился. Ему вдруг остро, как никогда раньше, ударил в нос и в голову запах пота, тухлый, кислый, и он вспомнил все другие гадкие запахи и разом почувствовал их тоже – вонючего клея в мастерской, прелых листьев, папиного дезодоранта, пригоревшей рыбной запеканки, дедушкиного горшка, крови в кабинете врача и прыскалки для волос в парикмахерской.
Он взглянул на Яйцо.
– Почему вас зовут Яйцом?
Яйцо растерял лицо и долго не мог вернуть его на место.
– Яйцом?
– Именно. Яйцом.
– Вы называете меня Яйцом?
– Да, Яйцом.
Герман поднялся по лестнице. На ступеньке попой кверху стояла уборщица, так и подмывало пнуть ее. Но, обогнав его мысли, уборщица подхватила ведро и ушла.
Школьный двор был пуст. Во всех окнах виднелись головы. Сыпал дождь. До зюйдвестки он шел тихо, потом стукался о нее и медленно скатывался дальше перед носом у Германа. Он высматривал в каплях свое отражение, но не видел ничего, кроме пустых прозрачных слез, они наворачивались на глаза и падали уже из них. Узел под горлом промок и натянулся сильнее. Наверху открылось окно. Это Боров, но Герману не до него.
Миновав питьевой фонтанчик, Герман вышел на улицу. По трамвайным путям струились листья. Кругом ни души. Герман – последний человек на Земле.
У Бондебаккен жирный черный кот перешел дорогу прямо перед ним и пролез сквозь изгородь. Кто-то упустил зонт, тоже черный, он кувыркался вниз по тротуару с переломанными спицами.
Внезапно Герман услышал странные шаги и перестал быть один. Из-под горки показалась Муравьиха, она в своей манере ползла в его сторону. Герман резко затормозил, шмыгнул за угол ближайшего дома и замер. Сердце сбилось с ритма, узел так вдавился в горло, что перехватывало дыхание. Муравьиха все ближе и ближе, он слышит ее шаги, и вот она – стоит на углу, отдыхает, повиснув на костылях, чтобы перевести дух, потом медленно поворачивает лицо к Герману, словно все время знала, что он тут стоит. Поверх шляпы Муравьиха натянула полиэтиленовый пакет, из ботинок торчат куски газеты. Она открыла рот, и Герман с удивлением понял, что Муравьиха умеет говорить.
– Почему ты меня боишься?
Герман сорвался с места, вихрем пронесся мимо нее, домчался до Гюльденлёвесгатен, усаженной деревьями, и рванул вверх по ней к Фрогнер-парку. Впереди показался конь без всадника, земля дрожала под копытами, крупное животное блестело в каплях дождя, а потом пропало среди деревьев. Герман подумал, что в такой день пропадает все, смывается дождем и утекает, и скоро его очередь исчезнуть, как исчезли зонтик, черный кот и конь.
И вот он снова под деревом, листья все облетели. Ветки скребут небо, будто костлявые черные пальцы, похоже на огородное пугало или на привидение в шкафу глубокой ночью, когда радио выключено во всех домах и погасили последнюю лампу. Герман огляделся: людей никого, одни статуи – огромные, серые, кургузые, они таращились на него оплывшими глазами. Он помчался назад, к мосту, прислонился к перилам. Плавали утки и лебеди без головы и шеи.
Герман вытащил железную расческу и что есть силы кинул ее.
– Врунишка-врунишка, голова как шишка!
Расческа описала дугу, разодрала дождь и тюкнула утку точно в темечко. Утка крякнула, побарахтала лапами и ушла под воду вместе с расческой. Но вскоре вынырнула и вразвалочку вышла на берег. Герман оглянулся на Злюку – тот стоял рядом и все видел, но Злюка не будет ябедничать, он друг, единственный друг. Тут Герман услышал шум с другой стороны и остановился как вкопанный. Это Руби, она уже заметила его, убегать поздно.
Руби подошла, стряхнула капли с волос и сказала серьезно:
– Ты уезжаешь?
Она показала на пакет.
– Возможно.
– А куда?
– В Адапазары.
– А с собой что взял?
Герман замялся.
– Спортивные тапочки, футболку и шорты.
Руби засмеялась и подошла на шаг ближе.
– Ты прогулял урок.
Герман молчал.
– Боров очень сердился.
– Ты шла за мной?
– С чего это мне ходить за тобой?
Этого Герман не знал.
– Идем, – позвала Руби.
Они спустились к воде. Руби сняла ранец и вытащила бутерброды. Потом оглядела пруд и поцокала. И сразу появилась утка, она вышла из воды, вперевалку притопала к Руби и принялась за хлеб с колбасой. Провозилась с едой довольно долго, потом возвратилась в воду и стала дрейфовать вдоль берега, загребая боком.
Руби повернулась к Герману.
– Это моя утка. У нее крыло сломано.
Неизвестно отчего Герман вдруг повеселел. Сел на размякшую землю, вытянул из-под подбородка узел и сунул его в рот. На вкус неплох. Утка лежала на воде тихо, кособоко – похоже, она дала течь.
Руби доедала бутерброды.
– Тебе не нравятся рыжие? – спросила она внезапно.
Герман закашлялся и выплюнул узел.
– Рыжие волосы?
Глаза у Руби стали совсем узкие.
– А у тебя правда плешь на голове?
Герман смотрел на нее, рыжие волосы вспыхивали, несмотря на дождь, они пылали как огромный нимб.
– Нет два раза!
– Дай посмотреть!
Она потянулась сорвать с него зюйдвестку. Герман вцепился в нее двумя руками, стал отбрыкиваться, Руби упала и откатилась в сторону. Встала в грязи на коленках и давай всхлипывать вперемешку с хохотом.
– Плешивый! Плешивый!
А потом молча поднялась, взобралась на взгорок и пропала за статуями.
Герман остался сидеть. Дождь все лил. Утка плавала, сужая круги. Он сидел, пока не закоченела спина и из земли не выползла темнота. Тогда он встал и мимо ресторана, где уже убрали стулья, вышел на площадь Фрогнер. И почти сразу зажглись фонари. Ветер гнал мокрый желтый свет по тротуару. Домой Герману идти не хотелось. Оставалось одно – идти к дедушке.
Дверь здесь никогда не запирается. Герман осторожно отворил ее и скользнул в темный коридор. Уже отсюда был слышен дедушкин сон, что-то пузырилось и лопалось меж тонких синих губ. Герман прошел дальше, в комнату, и сел рядом с кроватью. Вот дедушка, лежит – и ничего не поделаешь. Лицо у него цвета разбавленного водой молока, и с каждым годом оно все водянистее, еще немного – и дедушка станет невидимкой.
Но тут дедушка медленно повернул к Герману лицо, открыл глаза, попытался улыбнуться.
– Это ты, Герман? Я проспал целый день?
– Это я. Сегодня четверг.
– Дождь сильно льет?
– Снега пока нет, дедушка.
Они помолчали. На ночном столике сохла половина рыбной котлеты. Герман сунул ее в рот. По краям зачерствела и жесткая.
– Шапку снимать не будешь? – спросил дедушка.
– Оставлю, наверно.
– И правильно. Неровен час вихрь налетит.
– А сквозь балдахин дождь капает?
– Случается. Но обыкновенно в наших краях погода сносная.
Он нащупал плитку шоколада и протянул Герману. Они долго рассасывали свои кусочки, и цвет дедушкиного лица стал ярче.
– Дочь твоя врет.
Дедушка сглотнул, адамово яблоко заходило как акулий плавник.
– Что ты сказал?
– Дочь твоя врет. По-черному.
– Герман, ты это о своей маме?
– Она мне не мать. Меня прибило к берегу Осло-фьорда на круге, а она меня подобрала.
– Ты почему так сердишься?
– Не могу сказать.
– Ладно. Расскажешь в другой раз… В другой раз.
Дедушка снова заснул, но ненадолго, вскоре с подушки долетел вопрос:
– Я тебе рассказывал, как мой приятель выиграл большой приз в железнодорожной лотерее перед самой войной?
– Да.
– Этот парень, Мартин его звали, он был очень правильный. Никаких глупостей себе не позволял. Зарплату отдавал жене крона в крону. Но по случаю выигрыша он не мог не проставиться. Отмечали мы долго, понятное дело, как оно и бывает. В конце концов он двинул домой, и так ему не терпелось порадовать жену, что он решил срезать путь и пройти наискось через стадион, от южного входа до северного. Он жил неподалеку от «Бишлета», на площади Хьелланда. Но до дома он так и не дошел. Ему попал диск в голову, и он умер на месте.
– А жена его получила утешительную премию.
– Поездку на двоих на экспрессе в Берген. Да, забыл сказать, Герман. Заходили твои родители. Они тебя везде ищут и волнуются.
Дедушка закрыл глаза, спрятал рот и вытянул руки поверх одеяла.
Герман разглядывал лысую голову, похожую на мяч, который потихоньку сдувается. Он не смог удержаться – наклонился и дотронулся до дедушкиной головы: она была волглая, и в ней что-то тихо пульсировало, тонкая кожа подрагивала. Дедушка открыл один глаз и улыбнулся уголком рта. Герман убрал руку.
– Не бойся, – прошептал дедушка. – Все путем.
Свернув на свою улицу, Герман увидел у подъезда полицейскую машину и кучу людей: они тянули длинные шеи и перекрикивались. Он притормозил, чтобы тихонько сдать задом обратно за угол, но тут с грохотом распахнулось окно. Бутыля сегодня был в голосе, он заорал, размахивая пивной бутылкой перед красным носом:
– Вон он! Мало́й нашелся! Жив малой!
Мама вырвалась из толпы, которая хором охнула и разом всплеснула руками, подбежала к Герману, повалилась ему в ноги и обхватила их.
– Герман! Где ты был?
– Ну так…
– Как мы напугались!
Подошел папа, а за ним все соседи и вся улица; двое полицейских пробрались сквозь толпу, и оба положили руку Герману на зюйдвестку. Старший, с усами длиннее, чем у Нансена, наклонился и пробасил, обозначая рот:
– Так это ты Герман? Мы тебя всюду ищем!
– Я в прятки не игрок.
Второй полицейский уставился на маму, а папа наклонился к самому лицу Германа, это осложняло положение.
– Я не видел тебя весь день, – сказал папа раскаленным голосом. – Где ты пропадал?
Герман промолчал. Полицейский снова приподнял ус.
– Ты ни с кем не был? К примеру, шоколадку тебе никто не предлагал?
– Предлагал, – ответил Герман.
Оба полицейских опустились на корточки и сняли фуражки.
– Герман, так тебя угостили шоколадом? А кто тебя угостил?
Мама обхватила папу, от всех лиц уличный свет отрезал половину.
– Не скажу.
– Ты знаешь того, кто дал тебе шоколад?
– Я знаю его очень хорошо.
– Ты был у него дома?
– Да.
– Ты бывал у него раньше?
– Случалось.
– Ты получил не только шоколад?
– Да.
Гробовая тишина. Полицейский придвинулся еще ближе.
– А что еще ты получил, Герман?
– Рыбную котлету.
– Он был у дедушки! – закричала мама, по-прежнему без лица. – Но мы же заходили туда! Герман, где ты был?
– Не скажу.
Бутыля чуть не вывалился в окно, волосы у него были залиты пеной.
– Малой гулял малую. Вона след на бороде, сами зырьте.
Якобсен-младший выступил вперед и сжал кулаки.
– Заткнись, алкаш. Изволь говорить на нашей улице на нашем норвежском языке!
Бутыля помотал головой, стряхивая пену.
– С царем я говоримши по-норвежски!
На то, чтобы затолкать его назад в комнату, хватило двух минут. Полицейская машина уехала.
Германа держали папина рука и мамина рука. Дождь перестал.
– Пойдем домой, – услышал он голос одной из рук.
На подоконнике светился глобус. Герман лежал в кровати, рядом – поднос с чашкой какао. Мама сгребла пенку в ложку и отдала папе, он долго причмокивал.
– Ты шапку снимать не будешь?
Герман не притрагивался к какао и не отвечал.
– Странный у тебя вид – пижама и зюйдвестка.
– Меня никто не видит.
Папа вдруг спрятал руки за спину и спросил с очень хитрым видом:
– В какой руке?
– Ни в какой, – сказал Герман после паузы.
Это оказалась шпага с золотой рукояткой, плащ, шляпа с полями и черная маска. Герман отвернулся к стене.
– Зорро, – промямлил папа.
– Да ну его на фиг.
Герман перевернулся на спину и натянул зюйдвестку на глаза. Мама выпятила нижнюю губу и подула на перманент.
– Герман, ты ругаешься такими словами?
– Иногда приходится.
Папа положил костюм на стул, руки у него дрожали. Мама допила какао, и воцарилась тишина – свеча, горящая с двух концов. Наконец папа прокашлялся и задул свечку, пока вся комната не полыхнула. Но заговорила мама.
– Герман, ты меня в шапке своей слышишь?
Герман зажмурил глаза и натянул одеяло на голову.
– Мне кажется, ты не так все понял. Мы не хотели тебя обмануть. Понимаешь?
Герман чуть сдвинул одеяло и стал смотреть в щелочку. Он видел плащ, шпагу, шляпу и маску. И слышал, как бьется сердце: довольно гадкий звук, похож на ходики у дедушки. А между секундами время стоит на месте? Или идет безостановочно?
Мама все говорила. Свой голос она, похоже, сдала в химчистку, а вернули ей чужой.
– Мы ничего не знаем точно. Доктор еще должен сделать анализы.
Она на секунду отвернулась, шея у нее вся была в мурашках, потом придвинулась поближе к кровати.
– Болезнь неопасная, но, может быть, у тебя выпадет часть волос.
Она старательно рассмеялась. Смех тоже был не мамин.
– Помнишь, что ты мне говорил? Можно купить парик. Любой цвет, на выбор. Ты какой хочешь – рыжий, зеленый, черный?
Герман смотрел в потолок, и мама сдалась. Вздохнула и уронила руки на колени. В комнате снова стало тихо. Скоро в мире вся тишина переведется. Сгорит в клубах белого бесшумного пламени.
– Герман, ты не мог бы что-нибудь сказать?
Мама привстала на стуле, даже почти встала.
– Ты злишься на нас?
Папа вдруг резко наклонился вперед, в руке у него что-то было.
– Представляешь – я нашел те каштаны. А знаешь где? В своем кошельке. Ума не приложу, как они туда попали.
Он положил их на кровать. Ладно, пусть полежат.
– А для чего тебе каштаны? – спросил папа.
– Засовывать их в снежки зимой.
– Хитро. А в кого же ты будешь стрелять такими снежками?
– В вас.
6
И вот уже свет ламп вдоль стен прикручивают (или подкручивают) медленно, но верно. Герман успел сосчитать только до тридцати, и стало темно, видно лишь руку, когда подносишь ее к лицу, а в руке зажат шоколадный батончик.
Внезапно ряды за ним забеспокоились, кто-то крикнул:
– Сними шляпу! Ничего не видно!
Папа наклонился к самому его уху:
– Герман, тебе лучше снять шляпу. Иначе будет скандал.
Герман аккуратно стянул ее с головы и положил на колени. Но теперь прицепились к папе. Тоненький слезливый голосок загундел:
– Я ничего не вижу, этот дядька слишком высокий!
Мама шикнула на скандалиста так тихо, чтобы все непременно услышали, папа опустился ниже в кресле, но уперся коленями в кресло впереди, – короче, жизнь била ключом.
Наконец с ясного неба ударила молния и прочертила большую букву Z; по всему залу разом вскрыли шоколадки, и по рядам, как длинный змей, протянулось шелестящее «ззззззз». Появился Зорро верхом на коне, все затопали в такт галопу, а Зорро пронесся мимо них, подняв в знак приветствия шпагу, и исчез за занавесом, а тем временем над печальным пейзажем поднялась луна, и невидимый оркестр наяривал не за страх, а за совесть.
Сначала Бернардо показывал фокусы. Засунул яйцо ослу в одно ухо, а из другого вытащил денежку. А яйцо нашлось в штанах у отиравшегося рядом типа совершенно бандитского вида, но уже кокнутое. Папа засмеялся и пихнул Германа. Затем Бернардо поехал домой к Зорро (которого вообще-то зовут дон Диего, и он поэт) и поведал ему о прекрасной даме, ее заточили в крепость Монастариос.
Зорро не в силах жить с таким кошмаром. Когда на деревню падает ночная мгла и часы единственной церкви бьют двенадцать раз, Бернардо помогает ему переодеться. Зорро надевает плащ, водружает на голову шляпу, засовывает за пояс шпагу, надвигает маску на глаза и натягивает на руки огромные перчатки, похожие на краги регулировщика на площади Соллипласс. Все, Зорро готов. Он прыгает в окно и приземляется на спину своего коня Торнадо – тот, по счастью, пасся как раз под этим окном. И вот уже Зорро несется в ночь, невидимый оркестр играет, черные облака ходят взад-вперед по небу, но белая луна висит тихо, как пришпиленная.
Крепость стоит на вершине горы. Зорро паркует Торнадо у дерева и последний отрезок крадется на своих двоих. Финишные сто метров ему приходится карабкаться отвесно вверх. Он добирается до узкого лаза и с трудом втискивается в него.
И вот Зорро в крепости. Он стоит в коридоре, полном теней и оружия. Неподалеку слышны громкие голоса, смех, там многолюдно. Но откуда-то снизу глухо доносится женский плач, и Зорро сразу понимает, что прекрасная дама попала в беду, как и докладывал верный Бернардо. Зорро отыскивает узкую крутую лестницу и лезет вниз. В каменной нише горит факел, Зорро, недолго думая, хватает его. Здесь плач слышен отчетливо, Зорро приближается к темнице, в которой томится пленница.
Вдруг он резко останавливается. Шаги. Тяжелые шаги. Из-за угла выходит горбатый великан, у него один глаз, но два острых ножа в руках. Стражник. Они замирают лицом к лицу, но длится это недолго, Зорро сует факел великану под нос, тот вскрикивает и валится на каменный пол, с размаху бьется головой о камни и уже не встает до конца фильма. Зорро уже почти отстегнул связку ключей у него на поясе, но тут со всех сторон набегают враги и перекрывают все пути. Он выхватывает шпагу, и начинается бой. Враги несут большие потери, Зорро разит их пачками, но все время подбегают новые, Зорро один против полчища, и в конце концов они одолевают его. Вот он прижат к стене, а перед ним беснуются тридцать разъяренных головорезов.
Тут появляется сам Монастарио – и оказывается тем самым бандитом, которому Бернардо сунул в штаны раздавленное яйцо, у него все еще пятно в интересном месте.
Зорро безжалостно кидают в тюремную камеру, тяжелая дверь захлопывается, шесть замков запираются, шаги и голоса затихают где-то выше, в крепости. Он слышит стенания дамы в соседней камере, а потом – новый звук: заводится машина, ржавые шестеренки сцепляются. И вот Зорро видит собственными глазами, как стена приходит в движение, надвигается на него, камера становится все у́же и у́же, каменная стена медленно приближается, удержать ее не получается, стена все ближе и ближе, он уже пластается по противоположной стене, тоже не стоящей на месте…
Внезапно экран полностью темнеет. Тишину в зале можно потрогать руками, как черного коварного кота. Занавес скрипит, и в нижнем углу экрана появляется скромная маленькая надпись: «Продолжение в следующем месяце». В ответ немедленно звучит хоровой свист, в экран летят конфетные фантики, каштаны, сор из карманов, но свет в лампах вдоль стен уже раскручивают (или прикручивают), и он разгорается все ярче.
Герман рывком натянул зюйдвестку. Они с папой вышли на улицу; небо высокое, черное и сплошь в звездах, как веснушчатый негритос.
У входа уже змеилась новая очередь, Германа так и подмывало рассказать им, чем все кончится. Но он отвлекся на два знакомых силуэта на той стороне улицы. Это доктор и медсестра, они стоят под фонарем, крепко сжимая друг дружку в объятиях, и небось полагают, что никто их не видит. Неудивительно, что они болеют простудой одновременно, подумал Герман.
Подошел трамвай в Дисен, постоял и снова тронулся в путь, оставив под фонарем уже одного доктора. Он повесил нос и дальше него не видит, так что и Германа не заметил.
– Думаю, Зорро вывернется, – сказал папа, – хотя стоять так целый месяц – приятного мало.
Они свернули на свою Габельсгатен. Соленый ветер тер жесткой щеткой лицо.
– Ты скоро опробуешь амуницию, да?
Герман не ответил, но папа все говорил у него над головой; видно, крановщики привычны беседовать сами с собой.
– В этом году наверняка полно яблок. Надо будет нам обоим взять по сетке. По большой сетке. Может, даже два раза придется пойти на пристань. А там наймем такси от Ратушной площади. Хорошо бы мерседес попался. Герман, ты не против, если я закурю?
Папа остановился и стал хлопать себя по карманам. Но сколько он ни чиркал спичкой, ее все время гасили порывы ветра. Герману пришлось подойти и прикрыть ладонями сигарету, он встал на цыпочки, а папа присел, и огонь осветил их лица. К глазам подступили слезы, почему – Герман не понял, но принялся сосать узел от шапки. Папа выпустил облачко дыма.
– Как думаешь, мама приготовила что-то вкусненькое к нашему возвращению?
– Пригоревшее желе, – ответил Герман.
Папа замолчал и ничего больше не говорил.
7
Герман сидел под яблоней. Земля была мокрая, а небо сухое от солнца, оно висело над фьордом как белый щит. Уж лучше бы промозглый косой дождь. Воздух был до того прозрачен, что можно сосчитать все камни на Колсосе. Но это скучное занятие. Уж лучше следить, как самолет взлетает с Форнебю курсом на Америку, уменьшается до крохотного колибри и скрывается из глаз. Вот бы и мне оказаться в том самолете, думал Герман. Он ушел в свои мысли, там было спокойно и тихо.
Внезапно ему в темечко ударило яблоко – не особенно больно, поскольку на голове зюйдвестка. Яблоко не стеклянное, вон оно тихо скатилось в траву и не разбилось. И не райское, и не молодильное. Герман поднял глаза. Папа, балансируя на одной из верхних веток, обтрясал яблоню.
– Залезешь ко мне? – крикнул он.
Герман не шелохнулся. Зорро не шел у него из головы. Вот что бы он сделал на месте Зорро? Непонятно, выхода не просматривается, но Зорро наверняка придумает. Может, Бернардо спасет его своими фокусами?
Герман подобрал яблоко, оно гладкое и зеленое, луна наверняка тоже гладкая. Он приоткрыл рот, чтобы укусить, и замер. А как узнать, нет ли внутри червяка? Вот так откусишь – и увидишь не целого червяка, а уже только половинку. Герман закрыл рот и пошел к маме, она махала ему от колодца. А вблизи показала граблями в сторону травы:
– Смотри-ка.
Герман поглядел: под коричневыми листьями лежал еж. Головы не было видно, но все иголки повыпали. Точно портниха-великанша обронила свою подушечку для иголок. Герман осторожно потрогал его пальцем. Никакой реакции.
– Умер и похоронился, – сказал Герман.
– Ничего подобного, – ответила мама, – ежик просто спит. Он заполз сюда на зиму.
Разговор прервался шумом, какой-то длинный человек пролетел по воздуху, навзничь упал на землю и остался лежать. Мама с Германом кинулись на выручку, но не успели добежать, как папа уже встал на ноги и стал стряхивать с себя яблоки, ветки и сучки.
– Расшибся? – сразу приступила мама.
– Нет, мамуся. Тут не очень высоко. Ну что, айда выносить рюкзаки?
И вот Герман стоит посреди большой дачной комнаты. Пахнет старыми журналами, водорослями и яблоками. В четыре окна падает свет, штабелями ложится наискось на пол. Герману чудится что-то знакомое, где-то он такое видел. Точно, в школе, в библии с картинками. Куда Иисус ни придет, солнце всегда светит точно так.
Разбуженные букашки взлетают, врезаются в окна и падают на подоконник. За окном снова шум, к первому окну приставляется лестница, и папа начинает прикручивать на место ставню. Таким это воскресенье, в сущности обычное, запомнилось Герману, навсегда осталось в памяти; и глубоко в душе, в каких-то ее подвалах, куда он и сам не заглядывал, выросло ощущение, что это перелом, конец чего-то или начало.
Герман стоял посреди комнаты в зюйдвестке, папа заколачивал окна, одно за одним, и темнота вокруг сгущалась, как в чаще леса. Наконец осталось последнее окно – на террасу, и вот появились мама с папой в обнимку, две тени, два силуэта, очерченные издалека острым осенним солнцем. Они глядели в темноту; непонятно, видели они Германа или нет.
– Вот и всё, – сказал папа.
Просто так, без всякой мысли, сказал: вот и всё.
И Герман понял, что этих слов он тоже никогда не забудет. Вот и всё.
Зима
8
Проснулся Герман от снега, разом и окончательно. Он лежал и слушал, как сыплет снег, точно слабое дыхание. Бесшумно, и кругом все тихо. Еще не совсем утро, трамваи не начали ходить, родители спят. Герман попытался вспомнить, что ему снилось, но в такую рань не вспоминалось.
Он на цыпочках подошел к окну. Так и есть. Ему не примерещилось. Снег идет. Улица белым-бела, и ни единого следа ни человека, ни машины. Герман провожал глазами снежинки, но закружилась голова; это как стоять на карусели, нахлобучив на голову пакет муки. Он побрел обратно в кровать и вдруг обнаружил на подушке нечто. Присмотрелся – так и есть: волосы, целый клок. Руки взлетели к голове, Герман сел на кровать и стал смотреть на пальцы, на волосы – они повсюду, вся комната в волосах. Он перестал дышать. Кинулся в ванную. Не хватало роста, в зеркале был виден только полюс, а ему надо рассмотреть всю голову. Он притащил из кухни два стула, взгромоздил один на другой, как шаткую башню, потом залез на бортик ванны, оперся о шкафчик-аптечку и осторожно встал на верхний стул. Теперь он видел это отчетливо: его собственные волосы сбежали с его собственной головы. Прямо у пробора голое пятно, оно блестит, как начищенная монета. Герман наклонился поближе к зеркалу – хотел убедиться, что это точно он. Да, сомнений нет: когда он моргал, физиономия в зеркале делала то же самое.
И тут стулья разъехались и упали. Герман разом услышал все звуки: как он испуганно закричал, как вскочили родители, как разбилось зеркало и как падает снег.
…Кто-то тряс его и тряс. Герман открыл глаза. Он сидел на крышке унитаза. Перед ним на коленях стояла мама, в красной пижаме в золотую крапушку она была похожа на великанскую божью коровку. Герман стал считать крапинки, чтобы узнать, сколько он проживет.
– Ты ушибся?!
– Приземление прошло удачно.
Прибежал папа, у него пижама желтая в красную сыпь, очень похожую на корь, стал сметать осколки на совок.
– Это к несчастью на сорок дней и ночей, – заметил Герман.
– Скажи наконец, чем ты тут занимался? – горячилась мама.
– Кто-то снял с меня ночью скальп.
Теперь и мама заметила проплешину прямо над ухом, огромную, как крышка люка. Подняла руку, чтобы потрогать ее, но не решилась, стиснула пальцы; лицо ее все время меняло выражение. Папе тоже нужно было посмотреть, он подошел поближе.
У Германа рябило в глазах, ему стало совсем нехорошо.
– Если так вот зачесать, то почти не видно, – тихо сказала мама.
– Пустите меня!
– Но, Герман…
– Пустите, сказал!
Он растолкал их и убежал в свою комнату. Клок волос на подушке был похож на растерзанную дохлую мышь. Герман попробовал приладить волосы на место, но ничего не вышло. Они сыпались на пол, а за окном валил снег, он стал гуще. Герман собрал все волосы и положил в нижний ящик стола, где хранились каштаны.
Тем временем проснулся остальной мир. Бутыля открыл первую на сегодня бутылочку пива, Боров положил в сумку мел и пять бутербродов, Фанера заклеивал любовное послание уборщице, Яйцо успел отжаться три с половиной раза, Муравьиха уже потащилась куда-то по улице, ей на любой путь нужно вдвое больше времени, Якобсен-младший вложил в карман халата авторучки, Пузырь выдернул два волоска из левой ноздри, Руби аккуратно сняла сеточку с волос, а дедушка доел шоколадку и снова заснул. Герман тоже лег. Он больше не встанет. Это он твердо решил. Он ежик без иголок.
Через полчаса пришла мама.
– Герман, ты не хочешь идти в школу?
Он молчал.
– Можешь не ходить, но тогда я должна позвонить. А завтра нам снова к врачу.
– У нас нет телефона.
– Я могу позвонить из магазина.
Герман задумался. Он думал изо всех сил.
– Слабаков нет, – сказал он наконец.
Папа еще не ушел на работу, он пил кофе. Порезанный папин палец был упакован в пластырь, поэтому он держал чашку левой рукой и проливал кофе всякий раз, как поднимал ее.
Мама сварила яйца. Обычно это воскресное баловство, но Герман сразу увидел, в чем подвох. Рядом с тарелкой стояла большая бутылка рыбьего жира. Он зажмурился и сделал глоток, чтоб разом с этим покончить. На вкус как потные кеды вместе с плесневелой колбасой. Он передал бутылку папе, тот вопросительно глянул на маму, но приговор не смягчили и ему. Папа долго корчил страшные рожи, а потом выпил три чашки кофе, чтобы перебить гадкий вкус, и развел еще большее свинство.
Герман приступил к усекновению головы яйцу, но все не мог решиться стукнуть ножом по скорлупе. Это же как с яблоком. Ты никак не узнаешь, есть в яйце цыпленок или нет. А когда разобьешь яйцо, будет уже поздно. С яйца мысли Германа перескочили на учителя физкультуры, и желание есть пропало. Он отодвинул яйцо подальше. Но тут папа с хитрым видом взял его, зажал в руке и начал выделывать двумя руками кренделя вперед-назад, даже встал. Наконец показал руки: пусто. Конечно, они наградили его аплодисментами.
– Зовите меня Бернардо, – гордо объявил папа.
Он сел на свое место; раздался хруст, цвет папиного лица стремительно сменился на красный. Ни на кого не глядя, папа вскочил и шагнул к двери.
– С пластырем какие фокусы, – пробормотал он и поплелся в ванную, ссутулясь.
На стуле остался желтенький омлет.
Герман захохотал. Непонятно, откуда в нем взялся смех, но он был, он раздувался, как воздушный шарик, и рвался наружу. Герман уже не просто хохотал, а повизгивал, и мама тоже включилась, еще немного – и они свалятся от хохота под стол. Но тут появился папа в одних трусах. Он не смеялся. Вид у него был несчастный. Давясь смехом и хрюкая, мама пошла за ним в комнату – найти ему чистые брюки. А у Германа смех вдруг застрял в горле, встал поперек, как рыбья кость. Или это сердце выпрыгнуло из груди? Вот это уж совсем ни к чему. Зато цыпленка в яйце точно не было.
Вернулась мама, пряча руки за спиной.
– Герман, сегодня в зюйдвестке идти нельзя.
– Спорим?
– Послушай, там снег. Я достала твои теплые ботинки. И смотри, что связала.
Мама кинула ему шапку. Синюю, с огромным трехцветным помпоном. Помпонов такого размера Герман еще не видел. Он был больше щетки для пола и даже больше шевелюры Руби.
– Померишь?
Герман огляделся по сторонам, развязал узел, молниеносным движением скинул зюйдвестку и натянул шапку.
– Нормально?
– Вроде да, – ответил Герман. Его немного качало под пудовым помпоном.
На кухню заглянул папа, он снова натянул на лицо улыбочку.
– Пойдем вместе? О, вот это шапка! Сколько лет ты ее вязала, мамуся?
Мама ткнула его в живот, но ему это как слону дробина.
– Поосторожнее сегодня, – сказала она тихо.
Они побрели по снегу под снегом. Ботинки оставляли следы с прожилками.
Бутыля еще не поднял штору на окне. Он терпеть не может снег. За зиму он выходит из дому один раз, когда к Якобсену завозят рождественское пиво.
На папу сегодня напал приступ разговорчивости, хоть он шагал посредине тротуара.
– Мама всегда боится за меня зимой. Что я поскользнусь и упаду. А опасности никакой нет. Там же лестницы со всех сторон. Четыре лестницы, сваренные вместе. И я лезу как будто внутри стакана из лестниц. Ловко придумано. Скоро сам попробуешь. Прибегай как-нибудь после уроков, когда погода хорошая. Я разговаривал с бригадиром. Я не обязан спрашивать, но к слову пришлось. Давай договоримся на следующую неделю?
Идея отстоялась в голове Германа, и у него свело живот. Дурным голосом орала сигнализация, но папу это не останавливало.
– Я вообще-то пилотом должен был стать. Слышишь, Герман? Пилотом! Знаешь, что у меня с пилотами общего?
Герман выбрал ответ «Нет».
– Глубокое зрение.
– Глубокое зрение?
– Именно. Глубокое зрение. Оно не у всех есть, между прочим. Когда я из кабины своего крана смотрю вниз, я должен увидеть, что одна опора на три сантиметра выше остальных. А не увижу – все, кирдык с музыкой.
Они остановились на углу, дальше им в разные стороны. Герман рассматривал свои ботинки. Наверняка надо подняться выше, чтобы проверить глубину своего зрения.
Папа озирался по сторонам.
– Плохая видимость, – сказал он. – День вхолостую, похоже.
Они молчали, пинали комья снега, но не расходились. Якобсен-младший запарковал свой «Триумф» у магазина, какое-то время полировал его, потом приподнял шляпу в знак приветствия, отпер дверь и скрылся внутри.
– Пижон, – процедил папа сквозь зубы, – корчит из себя бог весть что, еще и волосы напомадил.
Он замолк и осторожно покосился на Германа сверху вниз. В магазине зажегся свет, в задней комнате завели пластинку с американской музыкой. Папа бросил взгляд на часы и долго прокашливался.
– Как думаешь, в этом году побьют мировой рекорд на десяти тысячах?
Герман молчал.
– Если хочешь знать мое мнение, Купперн[9] мог бы.
Герман вовсе не рвался узнать его мнение. Папа наподдал ногой по снегу.
– Ты вообще как, Герман?
– Не очень.
Они разошлись, но через несколько шагов, как всегда, обернулись. Сквозь густой снег едва было видно, и все равно они на всякий случай помахали друг дружке: пока-пока.
Герман выждал на пятачке перед школой, пока прозвенел звонок. Он уже успел пожалеть, что пришел, и подумывал развернуться и уйти домой. Но тут его окликнул голос из окна, и голос этот принадлежал завучу. С ним шутки плохи, он был ефрейтором и выиграл несколько среднего размера сражений.
– Эй ты! Да, в шапке. Марш в класс сию секунду!
За спиной завуча зазвонил телефон, он взял трубку, но не отходил от окна. Герман сорвался с места и с топотом понесся к входной двери.
Как обычно, он оказался последним. Как-то по радио он слышал – не то в утренней воскресной программе, не то в концерте по заявкам, – что последние станут первыми. До сих пор такого не случалось.
Повесив куртку на крючок, Герман тихо, без стука отворил дверь в класс. Боров уже успел повесить карту Норвегии, он стоял лицом к доске, и Герман тихо прокрался у него за спиной в свой ряд у окна. Но ботинки его при каждом шаге чмокали, будто слон жевал желе. Боров развернулся на сто восемьдесят градусов, на это у него ушло пару минут, и широко распахнул глаза.
– Стой! – скомандовал он.
Но Герман уже сел и даже залюбовался видом за окном. Белый все-таки очень странный цвет; по сути, он и не цвет вовсе. Тем не менее Герман мог рассмотреть тонкие маленькие хлопья, они висели в воздухе; наверно, Бог загорал на облаках под синим небом и обгорел слегка, вот у него кожа на плечах и облезает.
Боров вышел на середину класса и отер мел с пальцев.
– Смотрите-ка, Герман явился. Что же сегодня задержало тебя в пути? Надеюсь, на этот раз не лиса?
Смех полыхнул начиная с Гленна и прошелся по классу, как нож по мягкому маслу. Громче всех хохотала Руби.
Взмахом руки Боров остановил смех.
– Наверно, тебе на аллее Бюгдёй встретился задиристый белый медведь?
Герман не видел причин отвечать.
Боров схватил указку и начал раздуваться.
– Ты замерз?
– Нет. Спасибо за заботу.
– Замерз, я спросил?
– Нет, не беспокойтесь.
– Тогда будь добр – сними шапку.
Герман смотрел за окно. Похоже, скоро ему там минут сорок болтаться подвешенным за ухо.
– Не слышу, что ты сказал?
– Я ничего не говорил.
Боров в каком-то метре от него, он раздулся вдвое против обычного, и глаза выкатились. Германа давно занимал вопрос: видит ли Боров свои ботинки, когда стоит выпрямившись во весь рост? Одно ясно – глубоким зрением он похвалиться не может.
– Герман Фюлькт, сними шапку!
– Нет два раза.
Боров не верил своим ушам, он в смятении озирался по сторонам, кровь отлила от резко побледневшего лица. В классе стояла такая тишина, что было слышно, как дышит ежик на далеком Несоддене. Даже Руби обернулась, ее румянец горел вполнакала.
– Ты сказал «нет»? – негромко сказал Боров и наклонился вперед.
– Сказал.
– Упорствуешь?
Герман уже не помнил, с чего все началось и как дошло до того, что теперь на него надвигается широкомордая физия Борова с трясущимися губами, желтыми зубами и каплями пота на лбу. Кто виноват? Он только знал, что ему очень страшно и что все-таки не надо было идти сегодня в школу.
– Упорствуешь? – переспросил Боров.
Подойти еще ближе он, кажется, не мог.
– Если меня вывесить за окно за ухо, оно порвется, – прошептал Герман.
Боров крепко зажмурил один глаз и выронил указку. Потом он вцепился в помпон и потянул его изо всех сил. Герман двумя руками тянул шапку вниз и отчаянно тряс головой.
Посреди битвы распахнулась дверь, и вошел завуч. Боров отдернул руку с полной пригоршней ниток трех разных цветов. Все, кроме Германа, выстроились рядом с партами. Боров проложил себе дорогу к доске и встал рядом с завучем, но руки прятал за спиной.
Завуч пробежал глазами по классу, на минуту задержал взгляд на Германе и снова воззрился перед собой.
– Сегодняшняя тема – снежки. Сейчас, как вы знаете, снег липкий, и я хочу сказать следующее: один брошенный снежок означает нулевой урок в течение двух дней. Два снежка означают то же самое плюс оставление после уроков в один из дней. Три снежка – сообщение родителям и, возможно, исключение из школы на четыре дня в зависимости от места попадания снежка. Все поняли?
Все молчали – значит, поняли. Боров отер пот со лба и перехватил у завуча инициативу.
– Господин завуч, хочу обратить ваше внимание, что один ученик этого класса ведет себя в нарушение всех правил. Он попросту отказывается…
Завуч вернул себе инициативу: он взял Борова под руку, вывел в коридор и захлопнул дверь.
Боров вскоре вернулся, но какой-то сам не свой, как будто сдулся. Дошел до стула и тяжело рухнул на него. Заискивающе покосился на Германа, словно ища дружбы с ним. Герман перепугался окончательно; хорошо бы провалиться под землю или хотя бы залезть в чернильницу и закрыть за собой крышку.
А Боров тем временем, не в силах даже поднять указку, ткнул самым длинным из своих огромных пальцев в карту и тихо заговорил:
– Норвегия – родина многих выдающихся людей. Она о-о-очень протяженная страна. От Осло до Хаммерфеста расстояние такое же, как от Осло до вечного города – я имею в виду Рим. Здесь на берегу Осло-фьорда расположен, например, городок, где родился Герман. Я имею в виду Вильденвея, поэта из Ставерна. И красотка Сельма[10], сложу тебе я песню…
Тут прозвенел звонок, и дальше Борову не удалось продвинуться. Класс ринулся к дверям, Герман завозился и последним направился к двери с ранцем под мышкой. Боров все сидел на стуле, по-прежнему созерцая карту Норвегии.
– Герман, постой, – окликнул он.
Но Герману совершенно не улыбалось остаться тут с Боровом, который, похоже, тронулся рассудком. Он ускорил шаг, в коридоре сорвал с вешалки куртку и понесся вниз по лестнице под отдаляющиеся возгласы Борова.
Весь школьный двор разом повернул к нему головы. Герман резко остановился, тяжелая дверь клацнула за спиной и захлопнулась. Сердце колотилось все сильнее и сильнее, как будто дверь хлопала теперь под курткой. Держись, Герман, успел подумать он.
Снег прекратился. В кругу девчонок стояла Руби. Накинула капюшон на голову и смотрела, глазопялка любопытная.
Гленн сидел на бортике питьевого фонтанчика, по бокам от него стояли Бьёрнар и Карстен. Герман невольно попятился, но тут же сообразил, что в школе Боров, туда тоже не пойдешь. Он закрыл глаза и шагнул во двор. Досчитал до восьми. До пятнадцати. Запнулся: куда идти?
Первый снежок ударил в голову, когда Герман произносил про себя «двадцать». Шапка сползла, Герман натянул ее снова и открыл глаза. Они уже взяли его в кольцо. Впереди всех стоял Гленн.
– Сними шапку, слабак, – процедил он.
Герман не снял, наоборот, снова закрыл глаза, только теперь это не помогло – он уже все видел. Кольцо сжималось. Гленн размахнулся и задвинул ему в помпон. Карстен и Бьёрнар наседали сзади. Герман выворачивался, двумя руками вцепившись в шапку. Гленн потянул за помпон – и внезапно Герман оказался на земле. Теперь он видел лишь ноги, они маршировали в такт и приближались. Зорро, только и успел подумать Герман. Тому в кино тоже досталось.
– Отпусти шапку! – заорал Гленн.
Герман, конечно, не отпустил. Пусть убивают, пока он жив – не отпустит. Он даже отбрыкивался, но без толку, его взяли в тиски. Еще немножко – и дышать будет нечем. Откуда-то издалека (хотя вот же они все, сгрудились вокруг) слышался общий хор:
– Лысый! Плешивый! Гунявый-вонявый! Лысая башка, дай пирожка! Лысый, поди пописай!
Гленн изловчился, и шапка уехала до ушей, Герман потянул ее назад, и тут что-то случилось. Ноги бросились врассыпную, две руки подняли Гленна за два лопуха. Это фирменный приемчик Борова. Он унес Гленна, который истошно вопил и бился как припадочный, в сторону кабинета завуча. Резко прозвенел звонок на урок.
И внезапно Герман остался один на школьном дворе, он лежал на спине и смотрел в облака. Потом они разъехались в стороны, и Герман увидел, что небо синее, хоть и линялое, как старый надувной матрас, который вот-вот спустит.
Он медленно поднялся на ноги и стал отряхиваться, как делает дворняжка, вылезши из воды. Мир снова погрузился в тишину. Герман поправил шапку и спустился в физкультурный зал.
В раздевалке Яйцо начищал флейту. Герман остановился в дверях. Яйцо с удивлением поднял на него глаза и поначалу не мог сообразить, кто перед ним стоит.
– У тебя сейчас физкультуры нет, – сказал он. – Кругом марш.
И снова занялся своим инструментом.
– Мне нужно забрать мой кед, – сообщил Герман.
Кед обнаружился на полке над раковиной, Герман сунул его в ранец и повернул к выходу.
Яйцо преградил ему путь своей губчатой рукой. Вблизи он мягкий и оплывший, у него сиськи почти, видно, раньше были мышцами накачанными.
– Вы почему называете меня Яйцом?
– Не знаю.
– Меня все так называют?
– Да, Яйцо, все.
Герман поднырнул под его руку и убежал, пока они оба лишнего не наговорили. Потом поплелся в мастерскую. Оттуда доносились какие-то смутно знакомые звуки, Герман слышал их раньше, иногда по субботам родители тоже так шумят. Он распахнул дверь. Фанера сидел на столе, обеими руками прижимая к себе уборщицу. Он резко отпустил ее, и уборщица хлопнулась на пол, удивленно охнув.
Фанера вытаращился на Германа, а он замер у стены и смотрел исподлобья.
– Я… я хотел просто показать ей… клей, – промямлил Фанера, оправляя халат.
Уборщица схватила совок и швабру и устремилась мимо Германа на выход.
– Спасибо, малый, вовремя пришел, пока я не вляпалась вконец, – кинула она на прощанье и припустила вверх по лестнице. А у Фанеры уши стали красные и горели как два факела по бокам головы.
– Тебе чего? – проблеял он.
– Забрать кое-что, – ответил Герман. Подошел к своему месту и вытащил из-под стопки гербарий. Сунул его в ранец, а ранец закинул за спину.
– Домой уносить пока нельзя!
– Можно, – сказал Герман.
– Ты его не доделал.
– И не буду доделывать.
Фанера наморщил лоб.
– Это почему?
– Умру раньше.
Фанера разинул рот и замолк, но ненадолго. Глаза вдруг потемнели, как Черное море. Он решительно сглотнул.
– Больше ты меня не проведешь!
– Проводами не занимаюсь, – сообщил Герман.
– Что с тобой стряслось на этот раз? Всадили нож в спину, да? И сними шапку, когда со мной разговариваешь!
Фанера шагнул в его сторону, но Герман оказался проворнее. Отскочив, он опрокинул Фанере под ноги ведро клея. Фанера сменил стойку на «вольно» и топтался на месте, высоко поднимая колени и отдирая подошвы от пола, как будто вляпался в огромный ком жвачки.
– Нахал! – орал он. – Хулиган! Подожди же!
Ждать как раз в планы Германа не входило, он приосанился и неспешно покинул мастерскую, не повернув головы.
Наверху в коридоре разговаривали. Герман притормозил и стал прислушиваться, потом заглянул за угол. Боров и завуч допрашивали уборщицу. Та несколько раз назвала его имя, решительно показывая в другую сторону. Они сорвались с места и помчались по ложному следу, а уборщица обернулась к Герману и помахала ему тряпкой. Герману даже стыдно стало, что он хотел дать ей пинка под зад.
Задерживаться в школе он не стал, а пошел домой хитрыми кручеными зигзагами, чтобы за ним никто не увязался. Он сворачивал в ворота, проходил чужими дворами, и гадкое подозрение свербило все сильнее. Что такое сказал завуч Борову наедине, отчего тот присмирел и заткнулся? Почему он не вывесил Германа за окно за ухо?
На Оскарсгатен Герман пошел спиной вперед: если кто-то идет по его следам, пусть думает, что он повернул. Рядом на снегу тянулись другие следы. Он даже остановился, чтобы рассмотреть их. Это были следы двух ног с шагом почти в метр, и притом вывернутые носок к носку. Сбоку от каждой ноги – следы палки. Понять, в какую сторону шел человек, почти невозможно. Герман долго-долго разбирался, а потом пошел по этим следам вниз на Фрогнервейен, там они сворачивали влево и тянулись вдоль трамвайных путей до улочки Лангбрекке, потом повернули на нее и остановились перед витриной. Вывеска гласила: «Салон красоты и педикюра на Фрогнере[11]». Герман прижался носом к стеклу, а руку приставил козырьком, чтобы лучше видеть. В салоне сидела Муравьиха. Ноги она поставила на скамеечку, другая женщина стояла на коленях и терла ее ступни, а еще одна тянула ей пальцы. Герман даже дышать перестал. Может, они ищут муравьев как раз? Герману их не было видно, но на полу стоял таз – наверняка чтобы топить в нем муравьев. Неожиданно Муравьиха повернула лицо и посмотрела на Германа. Он пригнулся, но не успел: она заметила его. Вид у нее был не то чтобы сердитый, но ужасно грустный, это даже хуже. Герман сорвался с места и припустил прочь, придерживая шапку, и сбавил скорость только на Драмменсвейен. Чинно прошел мимо лавки Якобсена, даже не взглянув на окна. Его по-прежнему грызла мысль: кто же звонил завучу утром?
Из магазина выскочила мама и побежала за ним, но Герман знай себе шел. Она догнала его на следующем перекрестке, сердитая и запыхавшаяся.
– Герман, что случилось?
– Да вроде ничего.
Герман отвернулся, но мама зашла с другой стороны. Она была не слишком-то похожа на себя обычную. И до Германа наконец кое-что дошло. Зря они все думают, что обдурить Германа Фюлькта так легко.
– Сегодня на машину Якобсена-младшего наехал трамвай. Весь бок ободрал. Представляешь?! Столько снега навалило, что под ним рельс не видно.
Герман слушал в полтора уха.
– Дело кончилось дракой. Он огрел кондуктора морковкой по голове!
Мама залилась смехом, но Герман не поддержал ее.
– А что это ты сделал с помпоном?
– Ничего.
– От него почти ничего не осталось!
– Ты его плохо пришила. Он взял и оторвался, – сказал Герман и пошел дальше.
А мама осталась стоять.
Обернуться Герман и не подумал.
Снова начался снегопад, и к тому моменту, когда Герман не спеша, вразвалочку завернул за угол, мама уже основательно продрогла.
9
Герман лежал на спине, уставившись в потолок. В узком зазоре между шапкой и одеялом чернели тонкие полоски глаз.
– Надо поесть хоть немного, – тихо сказала мама.
Папа держал наготове бутерброды аж с коричневым сыром и клубничным вареньем. Ну и зря. Герман сжал под одеялом кулаки. Папа ушел в ванную, ополоснулся, переодел рубашку, вернулся и сам съел бутерброды. Мама поглаживала одеяло. На улице уже стемнело.
– Я просто хотела тебе помочь, – прошептала она.
– Ты растрепала завучу, теперь вся школа знает, – сказал Герман.
– Я не хотела, – лицо у мамы цвета белой скатерти, а рот – как темная клякса. – Они тебе что-то сделали?
Герман не сводил взгляда с потолка, тот проседал на глазах. В конце концов Герман вытянул руку – поймать его, пока не упал на голову.
– Нет, – ответил он.
Папу терзала какая-то дума, тяжелая, судя по тому, что он сидел на краешке стула и съеживался все сильнее, скоро голова и плечи вообще исчезнут между колен. Мама толкнула его локтем, и он заговорил – должно быть, учил текст весь вечер.
– Знаешь, Герман, сейчас, видимо, той железной расческой пользоваться не стоит…
Он безнадежно буксовал, и мама поспешила на выручку:
– Зубцы слишком жесткие и острые, тебе это вряд ли полезно, доктор завтра наверняка скажет то же самое.
Герман смотрел на них одним глазом.
– Мы тебе ее, конечно, вернем, как только ты… как только ты поправишься.
Герман распахнул оба глаза.
– Давно выкинул ее.
Они склонились над ним с какими-то странными лицами.
– Что ты сказал?
– Врунишка-врунишка, голова как шишка!
Родители еще немного посидели молча, потом подобрали отвисшие челюсти, аккуратно встали и бочком вышли. Мама оставила щелочку, в нее падала полоса света и прорезала комнату, вдоль нее клубились расплывчатые тени.
– Закройте дверь!
Дверь тихо захлопнули, полоса со вздохом растаяла. Теперь светился только глобус на подоконнике.
Герман лежал с открытыми глазами и думал, что не уснет больше никогда. До конца дней он будет бодрствовать, пока не выпадут все волосы до последней волосинки и голова не станет гладкая, как глобус, или каштан, или луна. А тогда его отправят в кругосветное турне с цирком уродов и выставят напоказ в клетке, между самым большим лилипутом и зеброй без полосок, и кто на него глянет – помрет от смеха.
Потолок вернулся на свое место, но теперь куда-то провалился сам Герман. Темнота сгустилась, и он будто опустился в бассейн, полный ушастых медуз. Веки отяжелели, как черепицы, чтобы поднять их, нужны четыре костыля на каждое. Вскоре исчезли все звуки: звон и лязг трамвая на Драмменсвейен, музыка по радио, голоса в квартире, ветер на всем белом свете.
Тут Герман решил, что надо встать, и мгновенно оказался на подоконнике. Открыл окно и спустился вниз по водосточной трубе. Улицы были немы, как старые сны, и следы его не отпечатывались на снегу.
Сделав всего три шага, он оказался на папиной стройке. Над ним навис кран, похожий на тощего динозавра, который встал на задние лапы и объедает с неба звезды. Герман полез наверх, он карабкался по внутренним лестницам, и подъем шел легко и быстро, даже голова не кружилась. Он был невесом, как листок или птица. Германа так и подмывало отпустить руки, взмыть вверх и улететь в темноту, ему было хорошо, и он напевал куплет из концерта по заявкам, но странное дело – голоса своего не слышал.
Герман забрался в кабину и огляделся. Далеко внизу лежал город в россыпи мельтешащих огней. Он старательно вытянул шею, но ни ангелов, ни Америки не увидел. Взялся за рычаг. Тут уж не до песен, и Герман только беззвучно шевелил губами, высунув от усердия язык. Громадная стрела развернулась, Герман стал опускать крюк. Начать он решил с родителей, подвел крюк к их улице, Сволдергатен, вынул через окно их кровать и не без труда перетащил ее на верхушку самой большой на Несоддене яблони, по дороге чуть не уронив в воду у Дюнского маяка. Вот проснутся завтра утром на дереве и могут сколько угодно вставать не с той ноги. Потом Герман подцепил доктора, а тот был не один: уткнувшись ему в подмышку, похрапывала медсестра. Герман бережно подвел крюк им под локотки, осторожно поднял и опустил уже в Кикюте. Полежат на снегу – глядишь, простудятся еще сильнее. Теперь очередь Борова, он живет на пятом этаже в Хомансбю, его Герман вывесил за ухо за окно. Боров сучил своими толстыми ножищами, плакал, хрюкал и умолял, но слов было не разобрать. Герман оставил его пока повисеть, пусть полечится своим лекарством. Теперь Гленн, Бьёрнар и Карстен. Их Герман сначала поболтал в воздухе, поднимая-опуская, а потом скинул всех троих в один унитаз в школьном туалете. С Яйцом и Фанерой он разобрался быстро: они проведут ночь в ведре с клеем, а дальше будут жить сиамскими близнецами. Что делать с Пузырем, Герман не знал, но на всякий случай перенес парикмахера на вершину Холменколлена и сгрузил его на трамплин, на гору разгона. А вот для Руби план был готов давно. Он уцепил ее за волосы и опустил на Монолит. От встряски из рыжей копны вылетело пять огромных ворон, и шевелюра облепила голову, как пробитый мяч.
Дедушку, Муравьиху и Бутылю он решил оставить в покое до следующего раза. А уж тогда он перенесет и их тоже. Дедушке он даст самому выбрать, куда ставить его кровать с балдахином, Бутылю отправит в пивоварню на Пилестредет, а Муравьихе не придется больше шкандыбать пешком до салона красоты.
Жизнь била ключом во всех закоулках города от Кикюта до Несоддена. Герман огляделся: все идет отлично. Тем временем у него за спиной проклюнулось утро, бледный узкий штрих света внизу, где небо кончается – или, наоборот, начинается.
Дверь широко распахнулась. Свет разодрал глаза, Герман отвернулся к стенке. Но ее не оказалось на месте, только пыль и тени. Кто-то хлопнул руками, и какой-то голос стал торопливо приближаться.
– Ой, Герман, ты ночью упал?
Он приподнялся и с удивлением увидел, что лежит на полу.
Мама наклонилась к нему, следом прибежал полуодетый папа с пеной на щеках.
– Так спать удобнее, – заявил Герман, поправил шапку и снова улегся.
Родители не стали приставать, все равно ему к врачу только в двенадцать. Шаги удалились на кухню, по радио заиграл орган и началось что-то душеспасительное.
Герман осторожно снял шапку, вывернул и осмотрел. Нашел три волоска и сложил их в ящик к остальным. Ощупал голову: новых проплешин не появилось. Решил заодно проинспектировать комнату – и тут только обнаружил, что глобус ночью упал с подоконника и разбился. Теперь он валялся под батареей тысячами частиц света, а маленькая лампочка внутри почернела и перегорела. Герман вспомнил свой сон, и ему чуть дурно не стало. Зато я впервые запомнил, что мне снилось, подумал он.
10
Мама сидела как изваяние, руки на коленях, и дышала тяжело и редко. Папа тоже был здесь, при костюме – черном, коротковатые брюки и кургузый пиджак, последний раз он надевал его на Рождество. Между ними на шатком стуле с острым краем зажали Германа. У него за спиной встала медсестра и громко чихала.
Доктор склонился над столом, пошмыгал носом, как будто борясь со слезами, потом поднял глаза, облизал губы толстым красным языком – и заговорил, ни на кого не глядя.
– К сожалению, анализы подтвердили наше подозрение. У Германа очаговое облысение, эта болезнь не угрожает жизни, но протекает таким образом, что волосы будут выпадать гнездами и в худшем случае выпадут полностью.
Доктор рывком встал из-за стола и подошел к Герману.
– Сними, пожалуйста, шапку.
– Нет.
– Я же не могу так ничего рассмотреть.
– Уже достаточно насмотрелись.
Включилась мама.
– Герман, сними шапку. Тут никого, кроме нас, нет.
Герман вцепился в шапку двумя руками.
Папа ослабил узел галстука, на лбу выступила испарина.
– Доктор не сможет тебе помочь, если ты не снимешь шапку, – прошептала мама.
– Помочь мне никто не сможет.
Медсестра подошла вплотную, коротко чихнула и наклонилась к нему.
– А хочешь шоколадку с марципаном?
Герман на секунду ослабил хватку; медсестра тут же сдернула шапку, отошла в сторону и от души чихнула.
– Гнилой приемчик, – процедил Герман сквозь зубы.
– Носить шапку все время вредно, – сообщил доктор и почесал нос. – Она препятствует естественному испарению влаги с кожи головы. Волосам необходим воздух! Плотно облегающие голову шляпы, шапки и платки плохо влияют на рост волос. Лучше всего ходить с непокрытой головой, Герман.
Медсестра отдала маме шапку и снова чихнула, не сдержавшись.
– Спорим, вы с доктором заразили друг друга? – сказал Герман. – Я даже знаю как.
Папа забарабанил по подлокотнику всеми пальцами, мама поспешно сглотнула короткий смешок, доктор покраснел от кадыка и выше. Он вооружился лупой и склонился над головой Германа. Время тянулось медленно, пальцы у него даже мягче, чем у Яйца, в волосах будто расползается дюжина виноградных улиток. Внезапно доктор взял и выдернул один волос. Герман вскрикнул и съездил ему по ноге. Доктор, хромая, вернулся за стол и прикрыл нос огромным платком.
– К сожалению, симптомы налицо. У Германа уже есть гнездо выпадения, вы наверняка видели.
Он показал выдернутый волос.
– Это так называемый булавовидный волос, они растут по краям очагов облысения.
– Булавовидный? – переспросила мама.
– Да, – ответил доктор. – И, в общем-то, наличие булавовидных волос говорит о том, что болезнь развивается, она в активной фазе. Герман, тебе понятно, что я говорю?
– Я хочу получить свой булавовидный волос назад.
Доктор посмотрел на него с недоумением, но протянул ему через стол волосок, Герман схватил его и быстро сунул в карман.
– А почему это случилось? В чем причина? – спросила мама.
– К сожалению, нам это неизвестно. Некоторые считают болезнь наследственной, другие говорят, что механизм запускают стрессы. – Доктор снова посмотрел на Германа. – Ты из-за чего-то нервничаешь? Что-то тебя сильно мучает?
Герман не отвечал.
– Может, что-то стряслось в школе? А может, приснилось тебе что?
Герман уставился в пол, на глаза давили две полноводные реки. В тишине было слышно, как в Атлантическом океане угорь скользнул в другую сторону.
Мама протянула к нему руку – почти прозрачную.
– Герман, если тебя что-то тревожит, скажи.
Он поднял голову, но посмотрел мимо доктора в окно.
– Я не хочу залезать на башенный кран.
Мама взглянула на папу, у папы дрожали губы.
– Но… ты не обязан никуда лезть… Не хочешь – не надо. Я все понимаю… Просто я думал…
Дальше говорить он не мог и уронил голову чуть не на колени. Герман боялся даже скосить глаза в его сторону. Доктор достал пачку бумаги. Мама ерзала на самом краешке стула.
– И ничего нельзя сделать?
– Нет. Это вопрос времени, только оно вылечит. И не верьте рекламе в журналах, это чистое жульничество. Маски и бальзамы принесут скорее вред, чем пользу.
– Но как быстро он?.. – мама прикусила язык и бросила взгляд на Германа.
– Может облысеть? Повторяю, мы мало что знаем об этой болезни. Бывает, что волосы потом вырастают снова. Но я не могу и не хочу ничего обещать. Единственное, что я могу предложить – это парик, когда придет время.
– Где цветок? – вдруг спросил Герман.
Доктор проворно обернулся к окну, и под распухшим носом нарисовалась кривая улыбка.
– Завял, – ответил он.
На выходе из кабинета Герману вернули шапку, он натянул ее поглубже и пристально посмотрел на медсестру.
– Хорошо ли вам спалось сегодня?
Потрясенная медсестра чихнула аж четыре раза подряд.
– Вы должны мне шоколадку, – напомнил Герман, выходя.
На улице Герман чуть было не прошел под лестницей-стремянкой, но мама вовремя схватила его. Они все трое задрали головы посмотреть, что происходит. Оказалось, старик, похожий на трубочиста, меняет название фильма на фасаде кинотеатра. От «Зорро» осталось только «о». Сковырнув и его тоже, старик достал ящик с буквами помельче, потому что в новом названии их должно уместиться гораздо больше. «Собор Парижской Богоматери» – вот что получилось под конец. Буквы от «Зорро» валялись на земле вперемешку: розор, оррзо, зорор. Старик слез с лестницы и сложил их в ящик.
– А где же новый «Зорро»? – полюбопытствовал папа.
– Как видите, на афише значится «Собор Парижской Богоматери». С Чарльзом Лоутоном. До восемнадцати лет вход воспрещен.
– Но ведь обещали продолжение «Зорро»?
– Сожалею. Копия фильма пропала при ограблении почты в Нью-Мехико.
Старик взял ящик и направился к входу в кинотеатр, но папа остановил его.
– А… чем все кончилось-то?
– Они сбежали с миллионом долларов. Убиты трое полицейских и ранены четверо посетителей.
– Я про «Зорро».
– Хм. Точно не знаю. Но даму он наверняка заполучил. Обыкновенно бывает так.
Дверь за стариком захлопнулась, папа повернулся к Герману и в замешательстве пожал плечами. Они еще постояли так, силясь что-то сказать друг другу и не находя слов, как если бы все звуки во рту тоже перемешались и стали непонятными словами на чужом языке.
Наконец папе удалось составить связную фразу на норвежском.
– Мой трамвай! – крикнул он. Рванул к остановке, ухватился за поручень и запрыгнул на подножку. Махнул им три раза и скрылся из виду.
Герман с мамой двинулись вверх по улице. Она снова поймала его перед лестницей.
– Это к несчастью – пройти под лестницей, – пробормотала она быстро.
– Несчастье уже случилось, – ответил Герман и с такой силой поддел снег ногой, что проскреб ботинком по асфальту.
– Не надо так говорить, – попросила мама и крепко сжала его руку. – Угадай, что у нас сегодня на обед?
Герман вырвал руку и сунул ее в карман.
– Пфф… Конечно, котлеты в соусе с противными комками.
Сил спорить у мамы, похоже, не осталось. Они шли молча на расстоянии, и каждый торил в снегу свой след.
– Парик я не хочу, – тихо произнес Герман.
Мама опять подошла ближе.
– Пока неизвестно, понадобится ли он. Доктор сказал, что точно ничего не известно.
– Парики носят только девчонки. Я не девочка.
И тут на лестнице на углу он заметил Руби. На голове у нее были желтые теплые наушники, и рыжая копна от этого стояла торчком, как огромная гроздь. Она наблюдала за ним, держа руку на весу. Видно, прикидывала, помахать ему или нет.
Герман отвернулся, расправил плечи и решительно направился к Габельсгатен. Мама догоняла его чуть не вприпрыжку.
– Это не Руби была? – спросила она.
– Какая Руби?
– Из твоего класса.
– Тут не знают никаких Руби.
– Рыжая такая.
Демонстративно не отвечая, Герман прибавил шаг. Мама отстала по крайней мере на прямой трек и нагнала его только у лавки Якобсена. Оперлась о Германа, ловя ртом воздух.
– К дедушке можешь сегодня не ходить, – просипела она наконец.
– Ходить могу.
Мама улыбнулась долгой улыбкой и пошла в магазин за пакетом с едой.
Якобсен-младший распахнул перед ней дверь и поклонился так глубоко, точно хотел укусить шнурки на ботинках.
– Добро пожаловать, госпожа Фюлькт!
Тут он заметил Германа, резко выпрямился и спрятал руки за спину.
– О-о, герр Манн[12] собственной персоной! Прокатить тебя на моем «Триумфе»?
– Тут все на своих двоих ходят.
Якобсен вынул из кармана авторучку и протянул Герману.
– Держи! Она теперь твоя.
– Нет два раза, – ответил Герман и подхватил бумажный пакет.
Он нес его по улицам бережно, как будто аквариум с золотой рыбкой. И дорогой немного жалел, что не отправил ночью этого Якобсена-младшего куда подальше. Надо было высадить его на пляже у Фердерского маяка и оставить ему лишь кассовый аппарат, вот бы и плыл на нем домой.
Дедушка еще больше похудел и побледнел. Чтобы улыбнуться, он приподнимал уголки рта двумя руками, но все равно улыбался.
Герман положил пакет на ночной столик. Дедушка подтянулся повыше и принялся разбирать пакет, приговаривая:
– Посмотрим, что у нас тут сегодня.
Пока Герман притащил себе стул, дедушка успел вывалить на кровать пакеты молока, свиные котлетки, три яйца вкрутую, половинку серого, две булочки с изюмом, морковку и банку скумбрии в томате. Под конец он сделал большие глаза и вытащил из пакета огромный золотой слиток.
– Ты посмотри, Герман! Шоколад с марципаном. Вот так сюрприз, скажу я тебе!
Он не мешкая разорвал обертку, переломил плитку надвое и отдал половинку Герману.
– Хотя сейчас не время еды, это мы съедим прямо сейчас.
К дедушкиному лицу чуть прилила кровь, но он глотнул молока, и цвет снова разбавился. Потом дедушка откинулся на подушку и посмотрел на Германа.
– Как там сегодня на улице?
– Снег пошел.
– Я так и почувствовал, что зима пришла.
Они помолчали. Потом дедушка оторвал голову от подушки и улыбнулся.
– Тихий ангел пролетел, – прошептал он.
Герман оглянулся, но ангела не увидел, только колбаски пыли медленно перекатывались по полу. Разве ангелы прячутся в пыли? Он слышал про кого-то, что у него мозги запылились. Это значит, что он умер, или как?
Дедушка тихо посмеивался с подушки.
– Не беспокойся за них, за ангелов. В основном они народ приличный.
– А ангелы – они кто?
– Ангелы? Ангелы – это тишина.
Герман долго обдумывал новость, а ангелы тем временем неслышно перекатывались по полу. Потом он придвинул стул поближе к дедушкиной кровати.
– Дедушка?
– Слушаю тебя, Герман.
– Ты когда остался без волос?
– Я начал терять их в Турции, во время мировой войны, я воевал, ты же знаешь. Нас взяли в плен, мы сидели в камере под землей. Там у меня и появились залысины.
Дедушка потер лоб и чуточку приоткрыл глаза.
– Я еще что, вот другу моему Вальдемару куда хуже пришлось. Он был капитаном в нашем батальоне, и турки допрашивали его сорок дней и сорок ночей. Но он запечатал рот семью печатями. Под конец они повели его расстреливать. Ему завязали глаза, приставили к виску дуло револьвера и выстрелили. Но выстрелили мимо, просто пугали его. Не на того напали, Вальдемара так просто не испугаешь. Но когда он вернулся в камеру, у него за пятнадцать секунд выпали все волосы. Мы ими подушку набили.
Герман беспокойно заерзал на стуле.
– Все волосы за пятнадцать секунд?
– Представляешь? Мы засекли время.
– А у тебя как было?
– У меня все тянулось очень долго. К тому же я не смотрелся в зеркало с сорок девятого года.
Герман отхлебнул большой глоток молока из бутылки.
– И ты ничего не мог сделать?
– С Вальдемаром? Честно говоря, ничего. Но ты не дослушал историю. Он был археолог.
– Архи… кто?
– Археолог. Они копаются в памяти. После войны Вальдемар отправился в Египет и откопал там одного парня по имени Тутанхамон. Тот уже три тысячи лет как помер. Но лежал себе в пирамиде в лучшем виде, разве что не живой. Он, ты понимаешь, красовался в золотом гробу, и угадай, что у него было на голове?
Этого Герман не знал. Он тихонько дернул дедушку за руку, чтобы тот не заснул ненароком.
– Что у него было на голове?
– Роскошный парик! В те времена носить парик разрешалось только фараонам. Потому что ношение парика считалось привилегией.
Дедушка согнул палец и поманил Германа поближе.
– Только, чур, никому не рассказывай: Вальдемар взял парик и ходил в нем до самой смерти.
Дедушка съел половинку котлетки и задремал, Герману пришлось подергать его снова.
– А ты что делал?
Дедушка недоуменно повел глазами по сторонам.
– Я? Я пиво пил.
На подушке снова затишье. Опять теребить дедушку Герман не решился, он сидел и ждал. Около кровати катались колбаски пыли, ходики в углу тикали в такт неслышной мелодии.
Дедушка приподнялся на локтях и в упор посмотрел на Германа.
– Красивая у тебя шапка.
– Ты пил пиво?
– Понимаешь, я прочитал в каком-то иностранном журнале, что пиво помогает росту волос. Но бабушка мне пить особо не давала. Ты помнишь бабушку, Герман?
– Она умерла до моего рождения.
– Жалко. Потому что она вообще-то была очень хорошая. Но по части пива строгая. Знаешь, что она мне говорила? Я не хочу стать женой евнуха! – дедушка рассмеялся и снова откинулся на подушку.
Ангел прополз вверх по ножке кровати и растаял в воздухе.
– Завести тебе часы? – спросил Герман, ответа не получил и все-таки пошел в угол, открыл узкую дверцу и потянул за цепочку с грузиком. Она противно заскрипела, дедушка очнулся и приподнялся в кровати.
– Спасибо, Герман, а то оно слишком медленно идет.
– По-моему, слишком быстро, – отозвался Герман.
– Ну да, на поверку это одно и то же оказывается.
Домой Герман пошел не сразу. Сначала он остановился под окнами Бутыли, но за опущенными шторами не угадывалось никаких признаков жизни. Поколебавшись, Герман зашел в подъезд и отыскал нужную дверь. На табличке значилось совсем другое имя: Йоран Францен. Не сразу, но все же Герман решился и нажал на звонок. Дверь никто не открыл. Он позвонил снова, и тогда издалека донесся тихий дрожащий голос:
– Кто там?
Герман нагнулся и сказал в замочную скважину:
– Это Герман. Малой.
– Захаживай, Малой.
Дверь оказалась не заперта, прямо как у дедушки, и Герман вошел в квартиру. Во всех комнатах было темно и пахло трехдневной едой, а сам Бутыля сидел, откинувшись на спинку кресла, в дальнем углу комнаты. Повсюду валялись пустые бутылки, на полу что-то телепалось, но что, Герман не мог разглядеть. Бутыля неожиданно включил лампу, но тут же закрыл глаза рукой и теперь смотрел на Германа сквозь пальцы.
– Рождественское пиво привезли?
– Пока нет.
Герман наконец разобрал, что там ползает по полу. Черепаха.
– Не бойся. Это Время. Стоять! – завопил Бутыля, но черепаха продолжала свой путь и уползла под комод.
Бутыля вздохнул и осушил еще одну бутылку. Угол за его спиной был плотно затянут паутиной. Она натянулась как страховочная сетка в цирке, но Бутылю не уберегла, его сальто-мортале кончилось падением задолго до появления страховки.
Герман подошел ближе и внимательно рассмотрел голову Бутыли. Волосы теснились на ней, густые, как щетка, и крепкие, как шпагат.
– Ты пьешь много пива, – сказал Герман.
Бутыля серьезно кивнул:
– Иду на мировую рекорду. Если с пивом перебоев не случившись.
Он открыл новую бутылку и выдул ее залпом. Герману показалось, что волосы Бутыли немедленно прибавили в длине. Черепаха на миг высунула голову и тотчас спрятала ее. Бутыля смачно рыгнул.
– Со мной снежная слепота, – сказал он. – Не могу зимой на улицу посещать.
– Давай я тебе за пивом сбегаю, – быстро предложил Герман.
Бутыля широко улыбнулся беззубым ртом.
– Ай да Малой, ай да молодца! Уделаем мировую рекорду! Не забудь салату. Время кормить.
Герман получил денег две бумажки и припустил в магазин Якобсена-младшего.
Магазин уже закрывался, мама ушла домой, а Якобсен-младший снял кассу и пересчитывал деньги пальцами в зеленых напальчниках.
Герман положил деньги на прилавок.
– Салат и пиво, я спешу, – сказал он.
Якобсен-младший посмотрел на него подозрительно и для начала расставил по порядку авторучки в кармане. Потом сказал:
– Для кого?
– Для Бутыли, и очень срочно. Он идет на мировой рекорд.
Якобсен-младший театрально закатил глаза, а в этом деле с ним никто не сравнится, кажется, еще чуть-чуть – и глаза у него выскользнут из-под век и устремятся в небеса. Потом он, не глядя, засунул бутылки в пакет и положил сверху пучок вялого салата. Герман обнял пакет двумя руками, но этот Якобсен-младший и не подумал открыть ему дверь, он снова погрузился в пересчет денег.
– Скажи ему, что сдачу я придержал. В счет старых и новых долгов.
Герман исхитрился и открыл дверь ногой.
– Бутыля для тебя неподходящая компания. Держись от него подальше, Герман.
– Сам держись подальше от мамы! – крикнул Герман и грохнул за собой дверью.
В подъезде он для начала вынул две бутылки и спрятал под лестницей, а потом уже потащил пакет Бутыле.
Тот ждал его с открывашкой наготове и с ходу выдул три бутылки. Потом пасанул салат к комоду.
– Время, харч!
Пока суд да дело, Герман рассматривал фотографии на стене. Их две. На одной, большой, – король Хокон. У него волос тоже не так чтобы в избытке, но он наверняка пива не пьет. На второй – женщина в огромной шляпе и с розой в зубах, но кроме шляпы на ней ничего нет.
– Это бельгийская принцесса? – спросил Герман.
Бутыля отставил пустую бутылку, уголки рта печально опустились, нарисовав под носом надломленную дугу.
– Очень можно быть, – промямлил он в небритую щетину. – Таки натурально бельгийская принцесса.
С этими словами Бутыля погасил лампу и откинулся в кресле головой под паутину. Герман на цыпочках подкрался к нему, взял открывашку и попятился к двери. Сунул на лестнице свои бутылки в карманы, вгляделся в горизонт: путь свободен. Перебежал улицу, заскочил в ближайший садик, перелез через решетку и сел под деревом на спуске к железнодорожным рельсам.
Герман открыл первую бутылку и сделал глоток; пузырьки шибанули в нос, в голову, в глаза и струей ударили наружу. На вкус хуже, чем шампиньоновый суп с рыбьим жиром, но так небось и задумано. Он сделал еще малюсенький глоточек; на этот раз дело пошло лучше, горькую жижу удалось проглотить. Глаза жгло, живот протяжно скрипел и шипел. Ладно, не так уж это и страшно; Герман снова отпил, подержал пиво во рту и проглотил. Быстро встал и еще быстрее плюхнулся обратно.
Мимо пронесся поезд, но Герман едва различал усталые лица за окнами вагонов. На сумерки с неба давила темнота, Фрогнерская церковь слилась с аллеей Бюгдёй, фьорд покрылся белыми бодливыми барашками, бодались они неустанно. Банан на крыше офиса бананового короля Маттиесена был похож на луну без кожуры. Где-то у Дюнского маяка завыл грузовой теплоход.
С этой бутылкой Герман разделался довольно быстро. Последний глоток застрял было во рту, но Герман все-таки втянул его в себя. Выждал немного, следя, как загораются в городе огни и ветер треплет банан Маттиесена, потом стряхнул шапку и стал ощупывать голову. Вроде все по-старому. Так он дошел до лысого пятна и отдернул руку, точно обжегшись. Нужна вторая бутылка, немедленно. Сказано – сделано. Вторую бутылку Герман вылил на голову и тщательно втер пиво в волосы, потом натянул шапку и стал ждать. Он ждал, пока мимо не прошел последний поезд; в нем уже не было лиц, а только пустые окна и черные трепещущие занавески. Тогда Герман встал и полез через ограду. В голове творилось что-то странное. В конце концов он рухнул на снег по другую сторону ограды.
Раз уж я лежу на снегу, подумал Герман, надо нарисовать ангела, и стал махать руками. Покончив с этим делом, он встал на четвереньки, долго тыркался в разные стороны, но все же нашел улицу. Держась за столб, поднялся на ноги (не зря его учили в школе гимнастике), но тем временем кто-то перевернул двор вверх тормашками. Как краб-шатун, доковылял Герман до другого берега улицы, дотыкался до нужного подъезда, вошел и вцепился в перила. В голове и в животе бушевал смерч, а ступеньки, как назло, были отвесные и страшно высокие. Надо отдохнуть, решил Герман и сел.
Где-то наверху открылась дверь и заговорили смутно знакомые голоса, но Герман и ухом не повел. У него своих забот предостаточно. Вдруг прямо перед ним замаячило мамино лицо – вернее, две мамы с четырьмя глазами. И они кричали ему со всех сторон:
– Герман, тебе плохо? Ты заболел?
Ответить он ничего не мог, потому что язык стал пудовый и едва помещался во рту. Отчего-то вокруг скакали уже четыре головы плюс столько же носов.
– Герман, ты пиво пил?
Какое-то время было тихо, но ангелы не летали.
– Да ты надрался?!
Герман вспомнил, как папа фокусничает по воскресеньям, вытянул палец и с помощью второй руки стал поднимать его. Но засунуть в рот не успел. Теперь уже не узнать, что случилось раньше – закричала мама или взбунтовался желудок. Во всяком случае, Германа вывернуло, и неслабо: судя по звуку, все его безобразие шлепнулось аж на первом этаже. Слезы, боль… руки подхватили его… дальше все стерлось.
Потом он обнаружил себя в ванне, мама сдирала шапку с головы.
– Тут лед уже! – кричала она.
Папа, конечно, тоже потянулся потрогать. У Германа не было сил сопротивляться, и он не вмешивался. Наконец справились, шапка оказалась у мамы в руках, но тут она зачем-то ее вывернула, понюхала – и снова здоро́во:
– Герман, ты что, на голову пиво лил?
– Бальзам, – ответил Герман. – Ополаскиватель.
Послышался смех, но недолгий. Потом душ выключили, и он очутился в своей кровати с распаренной головой, хотя в животе остался холод. Мама уселась на стул рядом с кроватью, позади нее встал папа.
Герману показалось, что на подоконнике стоит целехонький глобус и светит ярче прежнего. Он ткнул в него пальцем.
– Глобус.
– Папа купил новый. Где ты взял пиво?
– Стащил.
– У Якобсена?
– У Бутыли.
– Это Бутыля тебя надоумил? Лить пиво на голову?
– Тутахтамон.
– Тутахтамон? Что ты такое говоришь?
– Помогло?
– Послушай, Герман. Это все не может помочь. Лучший лекарь – время, доктор ведь нам сказал.
Герман сел в кровати, и у него опять сделалось четыре родителя. Два точно лишние.
– Кто такой Эвен? – спросил он.
– Эвен? Ты встретил какого-то Эвена?
– Эвен, дедушкин приятель.
– Ах, дедушкин приятель…
У мамы отлегло от сердца, и она на радостях даже пересела на край кровати.
– Дедушка рассказывал тебе о каком-то Эвене?
– Эвен Нухх.
Мама сдалась и уступила место папе.
Опять он как в воду опущенный. И руки огромные и заскорузлые.
– Герман, как ты сейчас?
– Никак.
– Еще бы. Это не дело.
Папа отвел глаза, причудливая тень от глобуса зачернила половину его лица. Мама нетерпеливо забарабанила пальцами.
– Купил вот новый глобус, – сказал папа.
– Спасибо и пока.
– Не за что. Надо ж нам знать, где мы находимся.
Папа надолго замолчал.
– Я знаешь чего хотел сказать, Герман. Я подумал про мой кран. Тебе вовсе не обязательно туда лазить. Ничего особенного. Видно так себе. Ты правда из-за крана переживал?
– Не помню.
– Тогда так и порешим. И больше не будем о кране.
– Ладно.
Но у папы в запасе идея получше.
– Зато мы можем сходить на рыбалку, на угря.
Герман подтянул одеяло поближе к лицу.
– Когда скажешь.
– Уговор.
Папа робко улыбнулся в мерцании глобуса и наклонился к Герману. Но тот уже спал.
11
Что-то пощекотало ему лицо. Сначала было даже приятно, Герман тихо захихикал сквозь сон. Но быстро стало совсем неприятно: в носу чешется, лоб зудит изнутри, в глотке вообще словно туча комаров. Сперва Герман отмахивался, не открывая глаз, а потом оглушительно чихнул, отчего занавеска взлетела вверх, глобус пришел в движение, а сам он проснулся. И в ту же секунду комнату залил свет из окна.
Герман сел в кровати и сразу увидел, как на пол тихо падают его волосы. Он зажмурился, потом осторожно ощупал голову – сначала одним пальцем, потом обеими руками – и нашел новую проплешину над вторым ухом и еще одну, чуть выше лба. Где моя шапка? – была его первая мысль. Где шапка?
За дверью раздались шаги, Герман сполз под одеяло. Мама приоткрыла дверь и заглянула в комнату.
– Герман? Ты тут?
– Здесь.
– Не посмотришь на меня?
– Шапка? – сказал он в ответ.
– Мне пришлось ее выстирать. Видишь ли, она была вся в пиве.
– Давай.
Шапка легла в протянутую руку Германа. Он натянул ее на голову и провел ладонями по одеялу, расправляя его.
– Ты ведь не простыл, нет, Герман?
– Нет.
– Все равно можешь в школу сегодня не ходить, если не хочешь. Времени уже девять, папа давно на работе.
– Повезло ему.
– Ты помнишь, что доктор говорил о шапке?
– Нет два раза.
Мама оглядела комнату и молча подобрала с пола клоки волос.
– Оставь! – крикнул Герман.
Мама подчинилась и так и застыла спиной к нему, потом все же обернулась.
– У тебя ночью еще волосы выпали?
Он снова натянул на голову одеяло.
– Никогда больше не буду пиво пить.
– Да, не стоит. Но к волосам оно отношения не имеет.
Мама присела на краешек кровати и просунула руку к нему под одеяло. Герман оттолкнул ее.
– Мы ничего не можем с этим поделать. Только призвать на помощь время.
– Время – это черепаха, – сказал Герман.
– Черепаха?
– Грызет салат и не помогает.
Мама надолго задумалась, потом медленно встала.
– Мне уже пора. Ты справишься сам, Герман?
– Иди себе.
– Там завтрак на кухне.
– Иди себе.
– Я могу остаться, если тебе хочется.
– Сам справлюсь.
– Конечно. Тогда договорились. Пока.
Она замялась в нерешительности.
– Пока?
– Пока.
И мама пошла своей дорогой, а та повела ее вниз по ступенькам и за угол в лавку Якобсена.
Герман выждал, пока мама водворится за прилавком и начнет взвешивать рыбные фрикадельки, и тогда только сунул ноги в тапочки и пошел обходить квартиру, раз никого в ней нет. Странно, но он не помнил, чтобы раньше оставался дома вот так один. Все казалось другим: комнаты стали просторнее, свет – резче, и пахло необычно – табаком и пылью. И еще полная тишина – ни радио, ни голосов, ни звона разбившейся тарелки. Может, он все-таки не один? Может, ангелы как раз сейчас и слетелись? Герман остановился посреди гостиной и огляделся. Хоть дедушка и говорит, что ангелы – народ приличный, все-таки не очень-то приятно, когда они играют с тобой в прятки в полной тишине. А если ангелы – шпионы и наушничают Богу? Герман громко заговорил, чтобы отделаться от них.
– Кто не спрятался, замри! Кто не спрятался, замри!
Прислушался – и точно: внизу в подъезде раздался громкий шум. Он встал у окна и стал ждать.
Вскоре из подъезда вышли двое мусорщиков с огромными лопатами за спиной.
– До свиданьица, – буркнул Герман.
И на цыпочках прокрался дальше, в родительскую спальню. На пороге остановился, огляделся, убедился, что никто его не видит, и вошел. Постель не застелена, одеяло съехало на пол, папина пижама в красную сыпь валяется поверх маминой в крапушку. Герман протянул руку – поправить их, но в последнюю секунду передумал.
В углу спальни стоит столик с трехстворчатым зеркалом, в нем видно себя со всех сторон, почти как у Пузыря в витрине, только поменьше. Герман смутился, но все-таки подошел еще на шаг ближе к зеркалу и замер. Хотелось дать деру, но он не смог. Зажмурился, сел перед зеркалом и опустил голову. Потом стянул шапку. Поднял глаза и сразу увидел себя анфас и в профиль слева и справа и закричал, а увидев свой крик, закричал еще громче. Волосы висели на голове клоками, проплешины вздулись, как белые вонючие мухоморы. Герман орал, пока не опрокинулся стул и сам он не грохнулся спиной об пол, но даже не почувствовал ушиба. Встал на четвереньки и пополз по квартире. В уши долбил чей-то плач; что это голосит он сам, Герман не сообразил. Нашел дверь своей комнаты, переполз внутрь, опустил шторы, выключил глобус и залез с головой под одеяло.
Он лежал в кромешной тьме, плач прекратился, со всех сторон он слышал только свой голос, как будто с ним разговаривало трехголовое зеркало.
– Ты урод, Герман! Урод! Ага, урод!
И темнота все кромешнее, все чернее от каждого нового «урод», «урод», «урод». Она сочится из глаз внутрь, расползается по телу, больно дерет и ранит, в ней осколки стекла, разбитых зеркал и глобусов, они достают до всего.
– Я урод! Я урод! Я урод!
Кончилось тем, что тьма поглотила Германа целиком, с кожей и волосами… ну остатками их.
И тогда прорезался лучик света, и еще один голос вмешался в разговор:
– Герман, ты прячешься под одеялом?
А следом еще один голос вдалеке:
– Он не съел завтрак!
Герман поплотнее подвернул под себя одеяло и крепко зажмурился.
– От нас можно не прятаться.
Кровать крякнула – мама присела на край. Герман сжал зубы: во рту тоже была лишь темнота и чернота, языку требовался фонарик, чтобы выговорить хоть слово.
– Герман, покажись, пожалуйста.
Мама потянула одеяло. Герман дернул на себя, темнота придала ему сил, и он выдрал одеяло у мамы из рук.
Папин голос где-то неподалеку:
– Я нашел его шапку в нашей спальне.
Папины шаги подошли к кровати и резко остановились.
Мамин голос:
– Дай мне.
Она подсунула шапку под одеяло.
– Герман, ты посмотрел на себя в зеркало?
Темнота разрывала рот.
– Уходите.
Мама ерзала на краешке, как будто на углях сидела.
– Угадай, что я купила вкусного на «Детский час»?
– Мне насрать.
– Герман?!
– Ну его в жопу.
– Герман Фюлькт?!
– Уйдите.
Не сразу, но все же он услышал тихие шаги вон из комнаты. Дверь закрылась бесшумно, как конверт. Герман нашарил в темноте шапку, сунул в нее голову и вылез из одеяльного укрытия. Включил глобус, и Америка осветила комнату. Прислушавшись, он различил бормотание радио, густой голос рассказывал о погоде. Герман скрутил наверх штору на окне; скоро улицу накроет такая же тьма, сыплет снег, вот-вот включатся фонари. Нет бы по всему городу перегорели лампочки, случилось затмение, звезды попадали в море, а луне бы надели черную повязку на глаз.
Снимая пижаму, Герман обнаружил, что штаны мокрые насквозь. Он зашвырнул их под кровать, вытерся одеялом, оделся. Вышел в коридор и стал надевать сапоги и куртку.
Теперь на переговоры выслали папу.
– Ты куда, Герман?
– Никуда.
– А это где?
– Да нигде.
Папа явно не знал, что на это ответить. Он такой высокий, что мог бы потереться макушкой о потолок.
– Ну а… как же «Детский час»?
– Да плевать ему на нас.
Герман стрелой слетел по лестнице и свернул из подъезда налево, чтобы его не было видно в окно.
Остановился он только на аллее Бюгдёй. Деревья вдоль нее растопырили руки и стояли как взвод огородных пугал. Окна Пузыря слабо светились, не иначе он сидит там один, выпроводив всех клиентов, и стрижет себя.
Герман перебежал к спортивному магазину на другой стороне и заглянул в окно. Ни велосипедов уже, ни футбольных мячей, одни коньки и мерцание лезвий. Герман натянул шапку поглубже на уши и представил себе голубой лед, одна рука заложена за спину, а второй он работает, и трибуны взрываются криками, когда он на выходе из последнего поворота вмазывает спурт, отрывается и финиширует по внешней дорожке в десяти метрах впереди преследователя на внутренней!
Со стороны Фрогнервейен до Германа докатился новый звук. Несколько голосов громко и фальшиво орали песню. Он успел юркнуть в подворотню и оттуда уже наблюдал, как Гленн, Бьёрнар и Карстен с воплями несутся по трамвайным рельсам. «В психушке есть дыра в заборе, в психушке есть дыра в заборе, в психушке есть дыра в заборе, теперь гуляем мы на воле!»
Герман дождался, пока они скрылись из глаз и от песни осталось лишь эхо между домами. В домах к тому времени задернули все шторы, и на них заплясали под музыку невидимого оркестра тени. Коротким путем он дошел до кинотеатра «Фрогнер». Перед входом стояла очередь, ждали семичасового сеанса. Герман принялся рассматривать афиши и едва не заорал опять. Зажмурился, но лучше не стало, наоборот, стало еще хуже, теперь голова была переполнена пугающими картинами. Я такой же урод, как этот звонарь из собора Парижской Богоматери, думал Герман. Он предпочел бы не видеть, но его тянуло смотреть и смотреть. У звонаря этого было подобие глаза, косая щель вместо рта, нос задран вверх, а голова до того огромная, что едва умещалась рядом с горбом. И волосы: жидкие, тонкие, висят клоками на шишкастой голове. Правда, на одной из картинок есть еще прекрасная девушка, она такая красавица, что почти невидима; так вот, горбатый звонарь обнимает красавицу, а она, кажется, ничего против не имеет.
Герман долго рассматривал эту картинку, а потом встал в очередь. Но на входе тяжелая рука опустилась перед ним и преградила путь. Герман поднял глаза и увидел того старика, что вешал афишу, только теперь на нем была форма с пуговицами и лампасами.
– А ты куда собрался?
– В кино, – ответил Герман.
– Сегодня взрослое кино.
– Неважно.
– Ты, что ли, с кем-нибудь?
– Нет, насколько я знаю.
Билетер начал терять терпение.
– И сколько, я должен поверить, тебе лет?
– Я мужчина в летах, – ответил Герман – и был выдворен из очереди.
Он остался один у входа в кинотеатр. Дверь закрыли, и в зале зазвучали фанфары. Герман решил напоследок еще раз рассмотреть звонаря на афише, но тут краем глаза заметил шаткую фигуру, что тащилась к кино от трамвайной остановки. Он узнал ее с одного взгляда: Муравьиха. Она торопилась изо всех сил, но все ее силы – это немного. К тому же муравьи сегодня, похоже, злые и кусачие: она резко дергалась из стороны в сторону всем телом, а голова опасно болталась.
– Еще не началось! – крикнул Герман. – Реклама идет!
Непонятно, услышала она или нет. Как бы то ни было, она решила побежать, запуталась в своих невозможных ногах, грохнулась, снова повисла на костылях и давай отчаянно выписывать кренделя – и успела! В последнюю секунду, но успела.
У дверей она на миг задержала взгляд на Германе, странный взгляд, как будто у них общая тайна, а потом ее впустили внутрь, и за стеной в синей темноте зала зазвонил колокол собора.
Дома Герман обнаружил на своей кровати чистую пижаму в красную крапинку. Пододеяльник и простыню ему перестелили. Пахло свежей стиркой и ветром. Герман заглянул под кровать – мокрые штаны исчезли.
Он достал гербарий, вытащил из ящика клей и наклеил все волосы, которые сумел припрятать. Самому маленькому волоску досталась отдельная страница. Внизу он написал карандашом большими буквами: «Булавовидные волосы. Найдены на голове Германа Фюлькта».
12
Герман вошел на кухню. Ранец сложен, шапка натянута на уши – он готов.
– Я пойду в школу.
Родители переглянулись, потом мама сказала:
– Сегодня воскресенье.
Не ожидавший такого подвоха Герман тут только заметил на столе яйца, тосты и заварочный чайник.
– Школа, значит, закрыта, – он стянул с плеч ранец.
Зато у папы настроение отменное, он уже настрогал кучу бутербродов.
– Сегодня идем на рыбалку за угрем. А, Герман, что скажешь?
– У-у, – ответил Герман.
– Возьмем угря на Рождество, здорового, жирного. Отличный закусон будет, да?
Мама посмотрела на Германа, Герман посмотрел в окно. Он должен был сразу увидеть, что сегодня воскресенье, другие дни не бывают такого цвета. Воскресенье серое-серое, как псалмы в концерте по заявкам.
– А может, он не хочет идти на рыбалку?
Папа посмотрел на маму с удивлением.
– Не хочет? Герман, ты ведь, конечно, хочешь, правда?
Герман старательно посмотрел папе прямо в глаза.
– Ну да.
– Мне кажется, он больше хочет сходить со мной к дедушке.
– Ты слышала, что он сказал? Потом, мне нужна помощь, угрей же надо до дома дотащить. Герман, сколько тебе ломтей?
– Половину одного.
Всю дорогу до набережной папа продолжал смеяться, от хохота рюкзак у него на спине подпрыгивал и издавал приятные звуки: в нем лежал огромный гвоздь и две полые жестянки, обмотанные леской и с крючками внутри.
– Половину одного! Мелкого ты калибра, Герман!
Герман молчал, потому что идти вровень с папой – непростая работа. На один папин шаг ему приходится делать четыре. Улицы печальны и все ведут не туда, утро воскресенья – самое одинокое и тоскливое время, это день, когда Бог проспал все на свете и забыл включить земную сутолоку. На улице кроме папы с Германом только какие-то темные медленные тени, они бредут в свои церкви, чтобы завести Богу будильники, тогда он проснется, разгонит облака, зажжет солнце и настроит новых планов, желательно бы лучше прежних.
– Сейчас познакомишься с двумя моими приятелями. Бяша и Вяша наверняка там. Бяша, между прочим, в пятьдесят девятом поймал исполинский экземпляр, размером с анаконду, представляешь? Он снял с него кожу и на другой год сделал из нее палатку. Честное слово! – Папа остановился и с беспокойством взглянул на Германа. – Сейчас я присочинил немного.
Однако на набережной у «Фреда Ульсена» никого не оказалось. Темные волны медленно накатывали на опоры мостков. С краю была пришвартована старая грузовая шхуна, ее качало, и ветер извлекал скрипучее клацанье из ржавого троса.
Папа огляделся.
– Значит, они попозже придут, Бяша с Вяшей. Это нам повезло, займем лучшие места!
Из клоаки начали спускать канализацию. Папа достал две коробочки и показал, как с ними обращаться. Он трижды взмахнул леской над головой, как ковбой лассо, и забросил; крючок описал красивую дугу, чмокнул по воде и ушел в глубину прямиком к угрям.
Когда подошла очередь кидать Герману, крючок зацепился за ящики на другой стороне дороги.
– Хорошая длина замаха. Давай-ка еще разок, теперь в воду.
Герман снова раскрутил леску, папа сосчитал до трех и крикнул:
– Бросай!
Герман раскрыл ладонь, и крючок упал в воду.
– Подтрави! Отлично лег!
Они вдвоем уселись на краю мостков и стали смотреть на воду. Ничего не происходило. Герман был этому даже рад. Ну а вдруг какой-нибудь угорь только что проплыл мимо Дюнского маяка? Может, он несколько лет плыл, чтобы забраться в такую даль, и теперь приближается где-то в темной толще воды к крючку Германа, выбрав из всех крючков в семи морях именно его? Нет, только не это.
– Запомни, Герман, когда тебе надо снять с угря кожу, ты делаешь надрез по шее, крепко хватаешь его за голову и стягиваешь кожу, вроде как сосиску чистишь. И всё – кидаешь в кастрюлю. А лишних мы потом запечем с картошкой и сыром.
Папа отмотал еще лески и отставил коробочку.
– Что-то я голоден как зверь. Не хочешь по бутербродику?
– Я не голодный.
– А половинку?
Папа опять, конечно, посмеялся, потом развернул пакет, долго вытирал руки о штаны и, наконец, принялся жевать.
– Ты сегодня два пальца в глотку совал? – спросил Герман.
– Я?
Кусок хлеба с колбасой встал у папы поперек горла, и Герману пришлось долго колотить папу по спине, прежде чем бутерброд сдвинулся.
– Ой, еще б немного… – просипел папа, сплевывая в воду. – Спасибо.
Герман присел к банке, достал крючок и стал наматывать леску на большой палец. Папа раскурил сигарету и закрыл лицо облаком голубого дыма. Так они сидели, ветер поменялся и дул теперь в спину, потом разом во всех церквях зазвонили будильники колокольным звоном.
– Сегодня я пальцы в глотку не совал, – сказал папа, – нужды не было.
Они еще посидели молча, потом папа спросил:
– Клюет?
– Нет.
– И у меня нет.
Он вытянул леску и снова забросил ее.
– Странно, что Бяша с Вяшей все еще не объявились.
Говорил папа тихо. Герман несмело взглянул ему в лицо.
– Пап, а у тебя друзей много?
Папа отвернулся к фьорду; он был черный, гладкий, и в нем колыхалось неспокойное небо.
– Ты и мама. Бяша с Вяшей – просто знакомые. Может, они и не придут. Уже зима почти. Сезон кончился.
– Да, зима, – ответил Герман.
Вдруг его дернуло за палец. Леска натянулась, и Герман едва не плюхнулся в воду. По спине растекся холодок. Он думал об угре, который преодолел семь морей, чтобы угодить в запеканку с картошкой и сыром, о склизком угре в сточных водах клоаки, и ему было дурно от этих мыслей. Папа ничего не замечал, палец Германа держался на честном слове, еще секунда – и оторвется, но в это секунду Герман почти бессознательно успел сделать одно движение и даже успел подумать, не будут ли его мучить потом угрызения совести. Он изо всех сил прижал палец к краю жестянки, и леска порвалась с дребезжащим звуком, как лопается гитарная струна. Папа уже вскочил на ноги, Герман поднялся тоже.
– Я его почти подсек. А он леску перекусил…
Он показал жестянку.
– Перекусить такую леску?! – Папа почти кричал. – Это был кит какой-то! Я такого сроду не видал! Он ее откусил?
– Начало клевать, потянуло, и леска лопнула.
– Ничего себе!
– Да уж, ничего себе. Какой-то был огроменный.
– Ты его видел?
– Не успел.
– Герман, я должен съесть бутебродик!
Домой они шли без пропавшего крючка и с пустым рюкзаком. Сезон закончился.
Проходя мимо папиной стройки, оба сбавили ход. Кран свешивался из облаков и едва доставал до земли. Папа открыл было рот, но передумал. Герману тоже надо было кое-что сказать, но слова не шли наружу. Они с папой молча, думая каждый о своем, брели домой по улицам, которые пахли воскресными обедами и черным кофе.
У подъезда папа сказал:
– Слушай, Герман, это был настоящий гигант, тот Бяшин пятьдесят девятого года против него червяк.
13
Герман не хотел идти. Герман не хотел идти с мамой. Герман не хотел идти с мамой к Пузырю. Он вцепился в стул и отказался выходить из комнаты.
Мама стояла в дверях уже в пальто.
– Чего ты боишься? Ты ходил к Пузырю много раз.
– Я не буду носить парик.
– Мы только снимем мерки.
– Ага. Еще раз вы меня не обдурите.
Мама сделала два шага в комнату. Пуговицу она тем временем почти открутила.
– Герман, я никогда не пыталась нарочно тебя обмануть. Ты это знаешь. Пузырь просто посмотрит твою голову, чтобы сделать парик на случай, если он тебе понадобится.
Она вскинула глаза, и до нее вдруг дошло.
– Ты не хочешь снимать шапку поэтому? – тихо спросила она.
Герман кивнул и повесил голову.
– Послушай, Пузырь перевидал все на свете головы и волосы. Он видел волосы, которые растут внутрь головы, и женщин с бородой и усами.
– Незачет.
– Можем после него сходить в «Студента».
Герман наморщил лоб.
– И заказать банановый сплит. С вареньем из смородины и шоколадным соусом.
Герман молча слушал.
– И малиновый коктейль молочный.
Герман задумался.
– Ну если так… – сказал он наконец.
Всю дорогу вверх по Габельсгатен он полз, как будто смазал подметки клеем. Но как ни затягивал путь, а все-таки оказался в конце концов у парикмахерской. Странно, если вдуматься.
Пузырь уже поджидал в дверях. На нем был свежий и хрустящий белый халат, в нагрудном кармане блестели две расчески и ножницы, черные усики отсвечивали под носом. Он поклонился даже глубже, чем Якобсен-младший, потом медленно распрямился и поднял красное лицо.
– Сюда, пожалуйста!
Через зал, где спал сморившийся старичок, а пожилые дамы, всегда одни и те же, вязали кухонные прихватки, сидя под колпаками фенов, Пузырь провел их дальше, распахнул дверь, и они зашли в комнату. Здесь парикмахерское кресло стояло у стены, которая на самом деле не стена, а огромное зеркало.
– Прошу!
Пузырь закрыл за ними дверь, размял пальцы и несколько раз обошел вокруг Германа.
– Не хотим ли мы присесть?
– Вы первый.
Пузырь взглянул на маму, потом засмеялся. Положил руку Герману на плечо и выключил смех.
– Я имел в виду тебя.
– Не хочу смотреть в зеркало.
– Ты не хочешь смотреть в зеркало?
Пузырь опять обернулся к маме. Она сделала какие-то знаки руками, и парикмахер снова расплылся в широченной улыбке – усы едва не отлетели.
– Вот и отлично, сейчас мы просто повернем наш стульчик.
Откинув стопор, он развернул стул. Герман вскарабкался на сиденье, и Пузырь принялся давить на педаль, как будто ехал в гору на велосипеде. Потом ему пришлось приспустить Германа пониже, чтоб они оказались на одной высоте.
– Ну а теперь снимем шапочку.
– Вы вроде без шапки, – заметил Герман.
Пузырь покраснел, но это не особо бросалось в глаза, он с самого начала был довольно розовый. Усы беспокойно елозили под носом.
– Я говорил о твоей.
На всякий случай зажмурившись, Герман сорвал с себя шапку. Со всех сторон одышливо сопел Пузырь, его пальцы подобрались совсем близко.
– Как тебя сегодня стричь?
– У меня нет брата!
Герман открыл глаза, Пузырь свои опустил.
– Я сегодня глупости говорю, да?
– Да.
Долгая тишина. Мама сняла пальто и примостилась на стуле у входа. Ей явно было неуютно; она попыталась улыбнуться, но улыбка искривила рот.
– Пойду попью водички, – сказала она тихо.
Пузырь достал сантиметр, наклонился над Германом и давай крутить его голову во все стороны.
– Превосходно…
– Вообще ничего хорошего.
– Волосы кое-где выпали, да. Но голова потрясающей формы! Само совершенство. Как будто мастер делал. Я опять глупости говорю?
– Да.
Пузырь начал снимать мерки. От уха до уха, от лба до затылка, от виска до виска, от пробора до уха, объем прямой и косой… Каждую цифру он записывал в свою тетрадку, все время потел и мурлыкал себе под нос «Танго для двоих». Под конец он отрезал прядку и положил ее в прозрачный пакет.
Он был очень доволен, Пузырь.
– Все будет в лучшем виде. Никто ничего не заметит.
Герман натянул шапку, мама встала.
– Добавьте по сантиметру, – попросила она, – на вырост.
– Конечно. Но вообще-то он эластичный, прекрасно тянется.
Пузырь перевел взгляд на Германа.
– Тебе ж ведь не нужен буйволиный или бараний волос, верно? А у нас лучший европейский волос. Ты себя не узнаешь. В смысле – ты станешь краше прежнего. И тебе не надо будет ходить ко мне стричься. Что скажешь?
– Вас кто стрижет?
Пузырь спрятал ножницы в нагрудный карман.
– Матушка моя. Ей восемьдесят один, – тихо сказал он. – А с усами я сам управляюсь.
Он стал суетливо искать что-то в ящике.
– Сделать такой парик из натуральных волос – это не пять минут. Рассчитать все – целое искусство, уж простите. Парк Вигеланда тоже в один день не построишь. Но у вас и не горит пока. Волос тут пока хватит. Речь о декабре, я думаю.
Пузырь наконец нашел, что искал. Открыл коробку, отогнул тончайшую бумагу и гордо достал двумя руками скальп.
– Но пока ты будешь дожидаться своего европейского шедевра, вот тебе это!
Он торжественно вручил парик Герману, тот похожим движением передал его маме. У мамы сделался вид, будто ей сунули живого угря, и она не знает, как его прикончить. Но парик хоть не трепыхается, как рыба. Лежит себе тихо.
– Прямо из Кореи, – вещал Пузырь. – Как они говорят, синтетический. Очень практично и гораздо лучше, чем ничего.
Он быстро взглянул на Германа и провел большим пальцем по усам, отчего они из черных стали почти пшеничными. Пузырь вытер палец о фартук, и тот покрылся черными пятнышками.
Герман направился к выходу.
– А примерить? – воскликнул Пузырь.
Но Герман уже шагнул в дверь. Мама подхватила пальто, сунула в сумку скальп и кинулась следом.
– Только он жару плохо переносит! – крикнул вдогонку Пузырь и уселся в кресло, чтобы подкрасить усы.
Германа мама нашла под каштаном без каштанов; сквозь голые ветки он рассматривал облака, они сбивались в кучу, чтобы поддать еще снега.
– Ты не хочешь в «Студент»? – спросила мама.
– Оставим до лучших времен, – ответил Герман и стряхнул с шапки снег.
Мама покрепче сжала сумку и сказала так тихо, что к уху впору приставлять лестницу:
– Ты сердишься?
Герман трижды пнул дерево.
– Не знаю. Кажется, начинаю.
Вечером он примерил парик. Заперся в комнате, снял шапку и осторожно надел его на голову. Жмет в затылке и на лбу и чешется возле ушей. Но, возможно, так и задумано. Герман запустил в волосы руку, и его дернуло током. Осторожно прошелся взад-вперед, внимательно прислушался к себе. Очень странное чувство. Как будто бы от двери до окна ходит не он, Герман, а его брат, двоюродный, но у Германа братьев нет. Голова стала тяжелая и неудобная.
Почему-то Герман испугался, не изменится ли у него и голос заодно.
– Корея, – произнес он громко.
Вроде все по-старому.
Корея! Он отыскал ее на глобусе. Хм, неудивительно, что корейцы занимаются париками. Они на другой стороне Земли, народ там, понятно, ходит на головах.
Надо показаться родителям. Узнают ли они его?
Поначалу было непонятно, они только молча переглядывались.
– Тут Герман, – сказал он тихо.
Голос уже изменился и шипел, как радио с помехами. Может, он теперь заговорит вообще по-корейски?
Мама встала и подошла к нему.
– Знаешь, красиво. Очень красиво.
– Правда?
Включился папа.
– Очень красиво. Даже самому захотелось такой.
– Можешь взять поносить, – отозвался Герман. Настройки голоса немного исправились.
– Но лучше все же носить его не задом наперед.
Мама двумя руками взялась за парик и повернула его. Он сразу перестал давить на лоб, зато зачесался затылок.
– Ого, Герман, так ты вообще красавчик.
Папа говорил громко и трещал, как будто он тоже радио.
Герман несколько раз в быстром темпе обошел гостиную. Голова закружилась, он привалился к стене.
– Все в порядке, Герман? – спросила мама.
– Порядок. Но надо его объездить.
– Давай посмотрим в зеркало?
Герман замялся.
– Утро вечера мудренее.
14
Герман ждал в коридоре под дверью класса. Было холодно и тихо, пахло старыми бутербродами и сухими меловыми тряпками. Он читал природоведение и пытался представить, как выглядит корова изнутри и каким образом зеленая трава превращается в молоко со сливками. Красная и телемаркская породы коров, зубрил он.
Послышались шаги, эхо от них разлеталось во все стороны. Герман поднял глаза – это уборщица поднималась по лестнице. Она поставила ведро и швабру и оглядела его.
– Герман? Рано ты сегодня.
– Угу.
– А тебе можно входить в школу до звонка?
– Я никого не спрашивал.
– Умно́.
Уборщица широко улыбнулась, потом подхватила ведро со шваброй и пошла в другой конец коридора. Герман дважды обдумал свою мысль и побежал за ней.
– А вы не можете впустить меня в класс?
Она остановилась, оперлась на швабру и взглянула на него.
– Вот не знаю.
– Вы спрашивали?
В ответ она вытащила большую связку ключей и впустила его в класс.
– Теперь мы в расчете, Герман?
Он повернулся к ней.
– Откуда вы знаете, как меня зовут?
Уборщица внезапно смутилась, выставила вперед нижнюю губу и сдула прядку со лба.
– Тебя разве не Германом зовут?
– Ну Германом. Все про меня говорят?
– Фанера сказал, как тебя зовут, – ответила она скороговоркой и быстро ушла.
Герман закрыл за собой дверь и сел на свое место в ряду у окна. Школьный двор был еще пуст, доска чернела как ночное небо, а на учительском столе лежала нераспечатанная пачка мела. И каждый ждал, когда его возьмут в оборот: тишина ждала шума, чернильница – перьев, ведра – мусора, и ожидание тянулось как сон или как обещание.
На парте Руби Герману примерещилось что-то странное. Он вытянул шею: на крышке была выцарапана буква «Г». Герман задумался. «Г»… Григ? Густав Вигеланд? Густав Ваза? Греция, Голландия, гамак, гантели, гетры, гастроном, грызун, гип-гип-ура… Герман успокоился, открыл тетрадку и стал писать, потому что сегодня он должен дать Борову отпор: «Корова глотает траву, не разжевав. Желудок коровы разделен на четыре сектора. Сперва пища попадает в большой мешок – рубец. Оттуда она попадает в сетку. Когда корова отдыхает, она отрыгивает содержимое сетки и пережевывает его. Теперь уже тщательно пережеванная пища попадает в книжку, а оттуда в сычуг».
Внезапно в класс вошел Боров. Увидев Германа, он страшно удивился, не зная, как реагировать, но Герман опередил его.
– Было не заперто, – сказал он и захлопнул тетрадку.
– Хорошо, что сегодня ты не опоздал. Так и нужно. Так и нужно.
И Боров тяжело опустился на стул за своим столом.
Прозвенел звонок, и в класс с шумом хлынул народ. Но увидев Германа, все разом замолчали и как паиньки расселись по местам без звука, ни один стул не скрипнул. Даже Гленн сегодня не скандалил, а Руби с озабоченным видом что-то выискивала в своем ранце. «Г», подумал Герман, это ведь гайка, гараж, глобус и гав-гав.
Боров с ходу принялся рисовать на доске коровий желудок. Рисовал он долго и медленно, а вышло что-то похожее на кривой крендель.
– Как называется эта часть?
Герман поднял руку, но Боров вызвал Гленна.
– Роц.
– Тоц. Садись, ума палата.
Герман покачал рукой и пошевелил пальцами, но Боров словно бы не замечал его.
– Бьёрнар?
– Сычун.
– Угу, карачун безмозглый. Карстен!
– Жур.
– Абажур.
Взгляд у Борова сделался печальный. Герман тянул руку и почти что встал со стула, но все напрасно. Боров вызвал Руби, она вышла к доске и вписала все нужные названия в правильные места. Герман бы справился с этим еще быстрее. Он опустил руку в ожидании следующего вопроса. И тут же снова поднял ее.
– Назови три породы коров.
Руби, не отходя от доски, сказала:
– Голландская, красная и телемаркская. У красной, единственной из всех, нет рогов.
– Молодец! – воскликнул Боров.
Еще трёндская порода, добавил Герман про себя, но немногие смогли это услышать.
Руби пошла на место, а Боров принялся рисовать рядом со всеми желудками коровы ее череп. И тут Герман почувствовал, что перегрелся. Его парта рядом с батареей, и он уже так поджарился, что голова скоро потечет, как эскимо на солнце. Затылок зудел, на висках кожа натянулась, мозги как будто набили шиповником и черным перцем.
Герман снял шапку.
Класс хором ахнул. Руби обернулась и зажала рот рукой, как будто подхватила падающую челюсть. Тишина превратилась в полное безмолвие, стало слышно, как на Валдресе снежинка опустилась на иголку сосны.
Боров обернулся, увидел парик и уронил мел на пол. Бабахнуло, будто бомба взорвалась. Боров беспомощно улыбнулся и остаток урока в бешеном темпе объяснял, в чем разница между овцой и козой.
Герман медленно натянул шапку обратно и уставился в окно. Он думал о том, что все перемелется. Странно, конечно, что у времени только один зуб, хотя лет ему должно быть много-премного и оно не знает отдыха от начала времен. Герман представил себе улыбочку времени – с одним гнилым зубом на весь рот. Неприятное зрелище.
Перемену Герман простоял один около выключенного фонтанчика с питьевой водой. Он чувствовал себя невидимкой: все смотрели мимо него, опускали глаза и обходили стороной. Никто не стягивал с него шапку, не дразнил, не изводил, хотя даже это было бы лучше, он мог бы защищаться и пугать их булавовидными волосами. А так ему и предъявить нечего.
Постепенно до него стало доходить, в чем тут дело. Им меня жалко, понял Герман. Это вообще конец.
Так прошел день. Все молчали как устрицы. Обходили его по большой дуге. Он спиной чувствовал: что-то происходит. Не видел, но понимал все яснее, что его жалкий вид вызывает жалость.
Даже Фанера, который против обыкновения явился на урок вовремя, о гербарии не заикнулся, не приставал, нового задания не дал. Герман маялся бездельем за своим столом и от скуки смастерил за урок три фигурки из картона и выбросил их в мусорку, когда прозвенел звонок.
Но окончательно ясно все стало на последнем уроке, на физкультуре. Яйцо сегодня сварили всмятку, он был мягче некуда, и у него тоже не нашлось ни одного вопроса к Герману, хотя тот не переоделся и не снял шапку. Яйцо залез на шведскую стенку и повис, держась одной рукой.
– Воля и пот и мышцы как сталь![13] – крикнул он. – Сегодня Покаянный день[14], дорогие мои. Поэтому я решил, что сегодня мы играем в вышибалы.
Никогда еще Яйцо не срывал таких громоподобных аплодисментов. Посередке зала поставили две скамейки, Бьёрнара с Гленном определили в капитаны, они должны были набрать себе команду. Начал Гленн, и вот тут Герман понял, что в их жалости – его спасение.
Гленн обвел глазами зал, дрогнул и – невиданное дело! – покраснел. Глядя в сторону, он ткнул пальцем:
– Герман.
Команды встали друг напротив друга, разделенные скамейкой. Яйцо кинул Бьёрнару мяч, снова залез на шведскую стенку и прокричал:
– Кидаем только двумя руками из-за головы! Запрещено целиться в лицо и другие выступающие части тела. Понятно?!
Он дал свисток, перешел на половину команды Бьёрнара, и игра началась. Гленн запулил мяч прямо в живот Карстену, Бьёрнар в ответ впечатал мяч точно в центр Гленновых шорт, а дальше уже вышибали одного за одним, и все они переходили за черту. Герман бегал зигзагами и уворачивался, но никто в него не целился, он снова был невидимкой. С таким же успехом он мог бы стоять столбом в центре, и мячи пролетали бы мимо, не попадая в него.
Наконец в игре остались только Герман и Яйцо. Физкультурник подошел к лавке, поднял мяч; он еще даже не замахнулся, но Герману было ясно, что сейчас Яйцо нарочно промажет. Мяч упал на пол перед Германом, хотя он стоял не шелохнувшись. Гленн подкатил ему мяч, Герман поднял его и медленно пошел к Яйцу. Тот делал много странных телодвижений, стоя на месте. Герман прицелился и вложил всю силу в бросок; гулкое эхо прокатилось по залу, когда мяч угодил точно в лицо.
– Отличный бросок, – просипел Яйцо и, шатаясь, побрел вдоль шведской стенки.
Герман понял в эту же секунду, что проиграл, хотя и выиграл.
Класс затопал, загалдел. Герман повернулся к ним спиной, схватил в раздевалке куртку и кинулся вверх по лестнице, но его перехватил Боров.
– Как раз тебя я искал, – сказал Боров.
– Теперь нашли, – ответил Герман и попытался пройти дальше.
Боров остановил его, выставив вперед один палец.
– Звонка еще не было. Пойди сюда.
– Опять?
Они пересекли школьный двор, зашли во второй корпус, поднялись в класс. Боров запер дверь и сел за парту. Ему было тесно, как слону в детской коляске. И вид у него был очень грустный.
– Я никогда не вывешивал никого за ухо за окно, Герман, – сказал он. – Это всё выдумки.
– Рубец.
– Прости, не понял?
– Сетка и сычуг.
Боров улыбнулся.
– Один придумает ерунду, другой в нее поверит – и пошло. Ты ведь не веришь в эти сказки, а, Герман?
– Красная, телемаркская, голландская и трёндская.
– Отлично.
– Корова дает нам молоко и шкуру.
– Я вот что хотел сказать…
– Из молока мы получаем сливки, масло, сыр и брынзу.
– Отлично, Герман. Ты хорошо выучил урок.
– Теперь вы меня видите?
Уши Борова покраснели, они шевелились, будто две камбалы.
– Я вижу тебя, Герман. Еще бы. Конечно.
– У овцы тело круглой формы и тонкие ноги, коза поджарая, у козла бородка, их всех мы употребляем в пищу.
– Ты прочитал больше, чем было задано. Так и делай, молодец. Я что хотел сказать, Герман. У меня для тебя кое-что есть.
Боров полез в карман, и Герман не сразу понял, что он оттуда вынул. Это был помпон, который Боров сорвал с его шапки.
– Мама наверняка сумеет пришить его на место.
– Нет.
Боров выглядел уязвленным и сбитым с толку.
– Нет? Не выдумывай, пожалуйста; конечно же, сумеет.
– Нет. Можете его выбросить.
Боров положил помпон на парту. Лицо у него стало скорбное.
– То есть ты его брать не хочешь?
– Нет. Сами пользуйтесь.
Зазвенел звонок, и Герман пошел к дверям.
Боров встал, обеими руками поддерживая живот, хотя у него и так двойные подтяжки на брюках.
– Но ты не веришь в ту историю?
Не хочу оставаться здесь ни секунды, подумал Герман.
– Нет и нет два раза.
Он промчался по коридору и выскочил на школьный двор, уже совершенно пустой, как будто все сломя голову бросились врассыпную от Германа Фюлькта, боясь подхватить болячку. Но нет, дело не в этом. Теперь он понял. Понял все. Они подстроили его победу, а это хуже проигрыша. Они смотрят на него с жалостью, поэтому угодничают и подыгрывают – или сбегают. Герман подумал, что, может, и незачем было доходить до сути, но теперь поздно, что понято, то понято.
Кто-то свистнул. Герман оглянулся и увидел у дальних ворот Руби, она стояла и махала ему. От удивления Герман запнулся и шагнул в снег. Выпрямился. Руби все еще махала. Он не шевелился; ее подача, как говорится. И точно, она пошла в его сторону – рыжие волосы, наушники, розовый ранец. «Г», подумал Герман, как Галапагосы. Как грива. Ни с того ни с сего он показал ей язык, вернее, язык сам вывалился наружу и вытянулся в ее сторону. Руби взглянула на него с удивленной полуулыбкой, две ямочки украсили щеки, потом остановилась и уперла взгляд в его язык, больше она не улыбалась. Герман крутанулся на каблуках и побежал к другим воротам. Здесь он сбавил ход, выдохнул и оглянулся через плечо. Руби не пошла за ним, ее розовый ранец мелькнул и скрылся за поворотом. Герман поплелся по Брискебювейен, изредка проверяя, не идет ли за ним Руби, но ее нет, и непонятно, хорошо ли это.
15
Герман толкнул дверь и почувствовал затхлый, чуть тошнотворный дух. Часы пробили три раза. Он вошел в гостиную; дедушка на своем посту, спит. Подушка почти не примялась. Герман не захотел его будить и сел на стул около кровати. Снял шапку и стал думать, есть у деда сегодня время или нет.
Тут он заметил, что фотография упала со стены, и поднял ее. На снимке, сделанном много лет назад на Несоддене, бабушка стоит у яблони, укрывшись под зонтиком, хотя светит солнце.
– Жизнь – шнурок.
Герман убрал фотографию и подвинул стул к кровати.
– Жизнь – шнурок, – повторил дед и открыл глаза. – Боюсь, Герман, сегодня я с вами тоже на лыжах не пойду.
Они посмеялись вдвоем, потом прилетел ангел, и Герман подумал, что хорошо бы что-нибудь сказать.
– Ты видишь разницу? – спросил он.
Дедушка повернул голову в нужную сторону.
– Разницу? Ты прислал мне двойника?
– Нет. Я – это я.
– Приятно слышать. Ты – это ты.
– Дедушка – это дедушка.
– За это я головой ручаюсь. Герман – это Герман. По-моему, шоколад еще остался.
Он нашарил плитку, но разломать не смог. Герман пришел на помощь. И каждый стал сосать свою половинку.
– Ты любил бабушку? – спросил Герман.
– Как баран.
Дедушка долго глотал кусок, задумавшись.
– Не просто как баран. Знаешь, как я ее встретил?
Нет, Герман никогда не слышал.
– Я завязал шнурок на ботинке.
– Шнурок?
– Именно. Я собрался на Несодден, но на Ратушной площади у меня оборвался шнурок на правом ботинке. Это был май двадцатого года. Пришлось мне шнурок завязать. Поэтому я упустил свой пароход в десять тридцать пять. Так что поплыл следующим, на час позже. Кстати, это был «Фласкебекк», он затонул в сорок девятом, но все спаслись. Отломишь мне еще кусочек?
Герман отломил, потом подождал, пока шоколад размягчится у дедушки во рту.
– Ну вот, и на борту «Фласкебекка», на палубе, я встретил Эльзу Марию Луизу, которая потом стала твоей бабушкой. Сама она жила в Ниттедале, а в городе была в тот день проездом, навещала подругу. Она вышла в Несоддтангене, но я ее из виду больше не выпускал. Вот такие дела, Герман. Не лопни у меня шнурок, не сидел бы ты здесь. Шнурок до сих пор цел, а ботинок пропал.
– А кто был Эвен Нухх, дедушка?
– Как ты говоришь? Эвен Нухх?
– Ну которого бабушка не хотела иметь мужем? Когда ты пил пиво?
Морщинка опоясала дедушкину голову. Потом он заулыбался.
– Евнух, они зовутся евнухи. Это такие мужчины, у которых волосы никогда не выпадают. А девчонкам это не особо нравится.
– Не нравится?
– Нет. Девчонки любят лысых.
– Правда?
– Знаешь, на что клюнула Эльза Мария Луиза тогда на палубе «Фласкебекка»? На мою голову, ага.
Герман задумался.
– А папа, что ли, евнух?
Дедушка начал уставать.
– Папа не евнух. Это он давно доказал.
– Как доказал?
– Мама его выбрала. А ты доказательство. Стыд и позор и очень жалко, что бабушка умерла до твоего рождения. Ты знаешь, как она погибла? Она споткнулась о водосток, когда мы бежали через Ратушную площадь в субботу в сорок девятом году, мы опаздывали на пароход. Бог – тот еще юморист.
– Думаешь? – спросил Герман.
Дедушка вздохнул.
– Вообще-то нет. Кстати, я рассказывал тебе, как сверзился со стремянки с кисточками в обеих руках?
– Вроде да.
– Я должен был привести дом в порядок к приезду Эльзы Марии Луизы. А она должна была приехать в тот самый день. Одна краска была белая, а другая – черная. Я сделался похож на зебру. А это была не такая краска, что смывается быстро. Но думаешь, я из-за этого не пошел ее встречать на причал? Хо, еще чего! Я нес ее по трапу на руках. И Эльза Мария Луиза приняла меня таким, какой я был.
Дедушка прикрыл глаза и задремал. Лицо его снова стало гладким и прозрачным. Герман долго сидел и смотрел на него. Он не был уверен, что стоит сделать то, что он задумал, но все-таки сделал это. Стянул с себя парик (тот прилип, и отдирать его было больно, как пластырь), потом осторожно положил его дедушке на голову. Получилось так себе. Похоже на лежалый блин в полосочку. Или на коровью лепеху с щетиной. Или на крышку от кастрюли, утыканную иголками. Герман забрал парик и затолкал его на дно ранца, надел шапку. Потом вложил бабушкину фотографию в дедушкину синюшную руку.
Уже у двери Герман услышал какой-то шорох. Он обернулся к кровати и увидел, что дедушка положил на фотографию обе руки, чтобы никто не отнял.
16
Герман сидел в ванне, стиснув зубы, и прижимал к глазам мокрую тряпку. Мама выдавливала ему на голову тягучую жижу, похожую на клей, и аккуратно втирала ее в пока уцелевшие волосы. В гостиной всхлипывало радио на чужом языке, а мама тем временем взбивала пену, и она сочилась Герману на лицо.
– Шампунь, – объяснила мама.
– Не сказал бы, – возразил Герман.
Мама рассмеялась.
– Купила его у Пузыря. Нежнее уже ничего нет. Но знаешь, из чего он сделан? Гидроксид калия, селен, бура и карбонат калия. Ты такое слышал, Герман?
– Редко.
Пахла жижа почти как мама перед субботним выходом с папой, когда они потом возвращаются поздно, а в воскресенье за завтраком лиц на них еще нет.
– Задраить все люки!
Мама включила душ и смыла пену. Герман снял тряпку и увидел флакон на бортике ванны.
– Шампунь детский, – прочитал он.
Мама накрыла ему голову полотенцем.
– Все моются детским. Клифф Ричард, Пэт Бун, Элвис[15].
– Правда? И Купперн тоже?
– Конечно. Дальше сам справишься?
– Ага.
Мама ушла, и Герман решил воспользоваться случаем. Он скатал полотенце, встал в ванне на цыпочки и повернулся к зеркалу. Рассмотреть удалось немного, но картина впечатляла. Большая часть черепа теперь была видна – как будто он пророс сквозь волосы. А то, что дедушка говорил о девушках и лысых, полная ерунда. Может, во времена горбатого парижского звонаря или Тутахтамона – в общем, до гибели «Фласкебекка» – так оно и было, а сейчас нет.
Герман закрутил на голове полотенце как тюрбан, добежал до своей комнаты, выключил свет и глобус, бросился на кровать и принялся молотить одеяло. Отмутузив его вволю, он набросился на подушку, потом перекинулся на пижаму. Он бился против целой рати совсем один.
Потом рядом присела мама. Герман лежал на животе; он задержал дыхание, но удалось ему это ненадолго: глаза выкатились как помидорины, в ушах колотил барабан. И он сдался; вытащил затычку и сдулся, как надувной матрас.
– Ужинать не будешь? – спросила мама тихо.
Герман не ответил.
– Папа сделал гору бутербродов.
Герман по-прежнему молчал.
– С огурчиком, ветчиной, майонезом…
В ответ ни звука.
Мама решила сменить тему.
– Хочешь – можешь пока не ложиться. Давай в карты сыграем?
– Обманщица.
– Я обманщица?
– Обманщица и врушка.
– Мы с тобой уже говорили об этом, Герман. Я не думала тебя обманывать. Не было у меня такого желания.
– Вы сказали, что парик красивый. А он просто говно с вареньем на резиночке!
Мама долго молчала. Думала.
– Герман, где парик?
– Не скажу.
– Ты его выкинул?
– Не скажу.
Мама уронила руки на колени и сцепила пальцы.
– Скоро будет готов твой парик, заказной. Он из настоящих волос, по мерке. В нем будет гораздо лучше.
– Я урод, – прошептал Герман в подушку.
Мама наклонилась к нему.
– Что ты сказал?
– Урод я! Урод!
– Герман, не говори так. Не бывает уродов.
– Значит, меня нет.
Мама смутилась, но потом осторожно положила руку ему на голову и бережно провела по поникшим кустикам волос. И Герману вспомнилось, что раньше она всегда делала так, когда у него отрастали волосы и пора было идти к парикмахеру. Ничего прекраснее он не знал: мама ерошит ему волосы, тянет, играя, челку и смеется. Герман зарылся лицом в подушку, мамина рука лежала на его голове, и было так тихо, что слышно даже, как папа жует на кухне батон. Внезапно добавился новый звук. Он шел с кровати, с подушки.
– Герман, ты плачешь…
– Еще чего.
– Ничего плохого, если поплачешь.
– Шампунь в глаз попал.
– Жжет?
– Немножко.
– Тогда хорошо бы поплакать, глаз промыть.
– Я не плачу. Все, иди.
Мама встала, открыла дверь, свет из коридора залил стену белым.
– Спокойной ночи! – крикнул папа.
– Спокойной ночи, – шепнула мама.
– Спокно.
Наконец мама закрыла за собой дверь. Темнота вернулась. Слезы вышли из берегов. Вода накрыла с головой, вокруг было темно, безмолвно и медленно. Там, под водой, он и заснул, упершись лбом в медузу, и во сне стал выгребать наверх, на поверхность. Прорвал тонкую блестящую пленку воды и сел. И увидел, что и в этом мире темно и одиноко.
Герман открыл шкаф, достал костюм, надел длинный черный плащ, маску, шляпу с широкими полями, всунул шпагу в шлевки пояса – он готов. Отомкнул дверь, прислушался; пролетел по коридору тише ветра и быстрее птицы. Съехал по перилам на первый этаж, выскользнул на задний двор, вскарабкался на забор и соскочил на ту сторону ловчее рыси. Если кто и собрался за ним в погоню, он их всех перехитрил.
Он стоял посреди Габельсгатен и рассматривал светящиеся кольца вокруг полной луны. Это к удаче. Но луну закрыли черные облака и густой снег, он падал и ложился на следы Германа. Все равно, он и так знал, куда идти.
Вывеска на кинотеатре давно выключена, названия фильмов исчезли. Прокравшись вдоль стены, Герман шпагой взломал дверь, из которой зрители выходят, и проник внутрь. Отлично! Он замер и прислушался: ни звука. Пошел вглубь по темному коридору, держа оружие наизготовку: если Монастарио нападет, то не застанет его врасплох. Впрочем, он наверняка спит сейчас, выпил будь здоров. А охрана думает, что никакой опасности и близко нет. Это они ошибаются. Вот еще одна дверь, Герман осторожно опустил ручку, подцепил створку шпагой, распахнул ее – и оказался в кинозале. Занавес на экране был задернут, настенные бра светили как факелы. Но в зале кто-то сидел. Мужчина в сером костюме. Положив ноги на кресло перед собой, он читал книгу. Герман подошел ближе – и узнал его. Это был Зорро, но в образе книжного червя дона Диего. Хитер, ничего не скажешь.
Герман сунул шпагу за пояс, сел рядом и тоже положил ноги на спинку кресла впереди.
– Что это значит? – спросил Зорро.
– Я подумал, тебе нужна помощь.
– О да, чтобы подгонять время. Пока ждешь продолжения, дни тянутся бесконечно. Эту книжку я скоро наизусть выучу.
– А что за книжка?
– Нашел вот тут. Некий Герман Вильденвей.
– Я тоже Герман.
– Дон Диего. Думаю, мне не сулит неприятностей признание, что еще я действую под именем Зорро.
– Я не разболтаю.
Дон Диего тяжело вздохнул.
– Хорошо хоть меня тут навещал звонарь из Нотр-Дам. Я ему даже помог в конце.
– У них с красавицей все кончилось хорошо?
– Да, кончилось все прекрасно. Так обычно и бывает. Хотя ему крепко досталось.
Они замолкли и просто смотрели на клетчатый занавес. Герман исподтишка разглядывал дона Диего. В жизни тот казался гораздо меньше, чем в кино; и еще он был бледен, как будто не гуляет, только сидит дома и читает умные книги. Герман даже пожалел, что вырядился в секретный костюм.
– А сам-то как? – выпалил он.
– Ну как… Время тянется порой бессмысленно. Торнадо стоит в конюшне, а от фокусов Бернардо я, честно говоря, подустал, все его трюки я видел тысячу раз, но он и не думает менять их. Впрочем, парень он отличный. Куда я без него?
– Я про кино спрашиваю, – сказал Герман. – Чем закончилось?
– Я сбежал из тюрьмы. Я ж тебе говорю, обычно все кончается хорошо. Когда это знаешь, на душе спокойнее. А вообще-то я сейчас другим занят.
– Но как ты выбрался?
– Один каменный блок в полу расшатался, я поддел его шпагой, вытащил и вставил в распор между стенами. Они остановились, не успев меня раздавить.
– Ловко! А та молодая дама?
– Разумеется, я освободил ее и препроводил в надлежащее место, по пути выиграв несколько опасных поединков.
Дон Диего ушел в себя, Герман решил его не дергать.
– Мне кажется, я влюбился в нее, Герман, – задумчиво произнес дон Диего. – Как дальше сложится – не знаю, и это меня мучает, да.
– Все наверняка закончится хорошо, Зорро. То есть дон Диего. Обычно всегда так бывает.
– Это ты мне очень кстати сказал. – Дон Диего положил руку Герману на плечо. – Хотел спросить: какая из моих историй тебе нравится больше всего?
– «Черный рыцарь» и «Маски сорваны» очень хороши. Но лучше всех «Двойник».
– Понимаю. А скажи, ты вот ходишь в моем костюме и с моим оружием, надеюсь, ты меня не позоришь?
Герман покраснел.
– Мне пришлось нарядиться, чтобы обмануть Монастарио.
– Ясно. А то полно развелось людей, которые пытаются выдать себя за меня, размениваются на разную идиотскую ерунду и порочат мое имя. Ты ведь не из таких?
– Нет-нет!
Дон Диего сунул книжку в карман и поднялся.
– Приятно было поговорить с тобой, но мне пора идти.
Одну вещь Герман все-таки должен сказать.
– Если ты сумел помочь звонарю из собора, может, ты и мне сумеешь помочь?
Дон Диего взглянул на него, в свете ламп его лицо с тонкими чертами казалось печальным.
– Нет, не могу. Тебе придется справиться самому. Сорри, Герман.
– Сорри, Зорро.
Дон Диего поднялся на сцену, вскинул руки в прощальном приветствии и исчез за занавесом.
17
В тот день, когда по всему городу зажгли рождественскую иллюминацию, вышив улицы двойным светящимся крестом, Герман зашел в лавку Якобсена. С порога втянул носом запах кофе из кофемолки, но он оказался не прекрасным, как обычно, а кислым, как от грязных носков и вонючей обуви. Германа это ничуть не удивило, ведь и все вокруг изменилось, начиная с него самого. Он натянул шапку пониже и встал перед прилавком. Из задней комнаты вышел Якобсен-младший, зачесал волосы красивой ровной волной, убрал расческу в нагрудный карман к шестнадцати шариковым ручкам и наклонился к Герману.
– Редкий гость. Где ты пропадал?
– В Адапазары.
Якобсен-младший поверил ему на слово, потому что слово покупателя – закон.
– Как там было с погодой?
– Жгучее солнце, мы прятались под зонтом.
Якобсену надоело болтать, и он улыбнулся с деланной вежливостью, как киногерой.
– Чего бы ты хотел?
– Два рождественских пива, пожалуйста.
– Два рождественских пива – и все?
– Деньги у меня есть.
– Не сомневаюсь. А для кого напитки, позволено мне будет спросить?
Так ведь уже спросил без всякого спроса.
Герман положил деньги на прилавок.
– Для Бутыли.
– Говоришь, два пива… Бутыле надо два пива? Всего? Не смеши мои ботинки. Что ты задумал?
– Никто ничего не задумывал.
Но Якобсен-младший тоже не думал смеяться. Он ушел в подсобку и привел маму.
Оглядев Германа с головы до ног, она откинула прилавок, пропуская его внутрь.
– Ты не пошел в школу?
– Взял отгул за прогул.
– Он говорит, ему надо два рождественских пива для Бутыли, – вмешался в разговор Якобсен-младший. – Не припомнят старожилы, чтобы в мирное время Бутыля хоть раз покупал всего две бутылки.
Мама перевела взгляд снова на Германа и помрачнела.
– Это правда?
– Чистая правда.
Она подошла к Герману, наклонилась и прошептала ему в ухо:
– Ты не собираешься опять мыть волосы пивом?
– Нет. Я задолжал Бутыле две бутылки.
Улыбнувшись, мама вставила по бутылке Герману в карманы.
– Поторапливайся. У Бутыли наверняка выдалась трудная зима.
Домой Герман припустил бегом, но, еще не толкнув дверь с табличкой «Йоран Францен», услышал из-за нее странные звуки. Бутыля вел разговор то ли сам с собой, то ли со Временем, но слов было не разобрать – видно, он перешел на свой шведский. Порой он вскрикивал, порой звенела разбитая бутылка. Герман долго пережидал, но попусту; тогда он вошел и увидел, что Бутыля лежит на полу и двумя руками роет ковер.
– Ты Время ищешь? – спросил Герман.
Бутыля даже не обернулся, он копал дальше в сторону стены. Внезапно он изменил направление и пополз вдоль плинтуса, отшвыривая с пути пустые бутылки.
– Она не могла далеко убежать. Хочешь, тоже поищу?
Бутыля встал и выкатил глаза. Таких огромных Герман вообще никогда ни у кого не видел, на него смотрели две грязные тарелки из-под запеканки.
– Стоять! – завопил Бутыля. – Ни с места!
Герман и так стоял в дверях и заходить пока не собирался.
– Кто в королевский розарий впершись? Ходу нет!
– Я рождественское пиво принес, – шепотом доложил Герман.
Бутыля отер пот со лба, топнул ногой и заявил:
– Не видишь – люди вкалывают!
Потом резко развернулся и пополз в обратную сторону, завывая как газонокосилка.
– На носу визита королевской семьи с Бельгии! Быстро все приведши к порядку! Прополоть. Подместь. Сграблить мусор. Надраить кажный камешек на дороге!
Столь же внезапно остановился, потряс перед носом руками и двинулся к Герману.
– И погнобить животину до конца! Слышь? Скребется, шебаршит, тарахтеет… Кто-кто? Мыша, змеи. Раки, крабь. Что скажет с них бельгийская фамилия? То-то! Прихлопнуть животину, чтоб не пикнувши. Я уж без числа животину тюкал, а все буянит, глянь!
Бутыля буравил Германа взглядом. Из глаз вывалились остатки запеканки, он нетвердо сделал шаг, другой. Волосы прилипли ко лбу, ноздри дрожали, в уголках рта выступила пена.
– Ты все-таки поставил мировой рекорд? – тихо спросил Герман.
Между тем с Бутылей творилось что-то неладное. Его била дрожь. Начиналась она с рук: на каждом пальце будто поджигали запал. Пробежав вверх по рукам, дрожь устремлялась вниз, в ноги. Казалось, Бутыля того гляди взорвется. Но нет, его не разнесло на кусочки – наоборот, он свалился на пол как мешок, беззвучно. И остался лежать.
Герман поставил бутылки у порога и попятился – и тут только увидел черепаху. Она лежала на спине рядом с секретером, среди пустых бутылок: лапы вывалились, морщинистая голова криво свесилась из панциря набок.
Тем же вечером скорая увезла Бутылю. Герман не отходил от окна, пока машина не уехала. А потом на улице стало тихо. Постучалась мама. Вошла и встала у Германа за спиной, положила ему руки на плечи. Он вцепился в шапку.
– Что с Бутылей сделают?
– Просушат, подлечат, мозги вправят.
– На веревках просушат?
– Да нет. Он пил слишком много, у него от спирта мозги размякли и набекрень съехали. Теперь их на место поставят. Ты испугался?
– Бутыля не опасный.
– Я тоже так думаю.
Герман обернулся к маме.
– Они похоронят его черепаху?
– Наверно.
– Он просто случайно на нее наступил.
– Я тоже так думаю.
– Не заметил и наступил. У Бутыли вечно темнотища.
18
Герман укрылся в своей комнате. Спать лег со светом. В темноте роится слишком много мыслей; даже когда горит лампа и светится глобус, мысли все равно лезут в голову, прокладывают свои муравьиные тропы через уши и ноздри и сооружают из вопросов целые муравейники. Как может время лечить все? Разве у него есть медсестра и белый халат? Почему тогда оно не вырвет себе зуб? Какого роста самый высокий карлик? Почему живот наедается быстрее глаз? Время идет внутри или снаружи? Или все-таки проходит мимо?
Волосы выпадали – каждую ночь, Герман уже привык, по утрам он вынимал их из шапки, складывал в гербарий и убирал в нижний ящик. В окошках рождественского календаря он каждое утро находил новую мелкую зверюшку, ни на что не пригодную. Иногда он думал: вот бы залезть внутрь окошка и затеряться в лесу, что позади оленей. Вся квартира пропахла рождественской выпечкой семи разных сортов, окна украсились красными звездами, и по воскресеньям зажигались и сгорали свечи адвента[16].
Ему все же пришлось сходить в школу на зачет за полугодие. И на этот раз он невидимкой себя не ощущал. Но все равно было не по себе. Теперь каждый предлагал понести его портфель, норовил отдать ему самый вкусный бутерброд из своего завтрака, придержать дверь, угостить лимонадом и поменяться марками, хотя марки Герман не собирал. Им теперь меня еще жальче, думал Герман. Им так меня жалко, что они заповеди вспомнили.
Сам он вел себя так, будто все вокруг стали невидимками, – проверенная тактика.
Одна только Руби повернулась к нему спиной и ушла в угол. Ну и ладно. Герман решил тоже ее не замечать.
Появился Боров и первым делом обратился с приветствием к Герману. Тот как раз заливал чернила в непроливайку и смотрел на нее, но обойти взглядом Борова не так-то просто. Он раздулся еще больше, заслоняет доску во всю ширину, а сейчас наверняка рождественских марципановых поросят вовсю лопает. Боров трижды предостерегающе постучал указкой по столу, хотя класс давно примолк, и стал читать текст для изложения. Все навострили уши, как радары. Герман поначалу не понял, нравится ли ему история. Но чем дальше читал Боров, тем яснее становилось, что ничуть не нравится. Потому что эта история не может быть правдой. Он решил насажать побольше ошибок и изменить конец.
Боров закрыл книгу, сел за стол и прикрыл один глаз, зато второй обшаривал класс, не моргая. Герман принялся писать:
Мама послала Пера и Кари в могозин. Штоб они купили муку сахар масло сыра. Па дароге домой пакет с сахаром парвался. Кари зажжала дырку но сахар высыпалсю всю дарогу. Пер и кари ужасно растроились но мама говорила они невиноватые. Им повезло, в пакете осталось нимношка сахара. Но Кари послали назат в магазин. Пакет парвался, сказала Кари. Ну и чево? – спросил прадавец. Пакет парвался и сахар высыпался пачти весь, сказала Кари. Высыпался – новаво не дам сказал прадавец. Кари испугалась и убижала.
Потом были примеры по математике. Герман вычитал вместо сложения. Сдал свой листок до звонка и молча вышел, провожаемый взглядами всего класса.
У вешалки в коридоре он помешкал, но Боров не вышел за ним следом. Теперь меня до того жалко, что мне позволяется творить что угодно, подумал Герман и пошел в центр погулять, раз так.
На улицах были протоптаны тропинки шириной с лыжню, восемь трамваев застряли на Риддерволдспласс, сугробы – трехметровые и выше. Во всех витринах торчали рождественские гномы, вид у низкоросликов был сердитый, а на постаменте, где раньше сидел и скучал старик Вельхавен[17], водрузился жуткого вида снеговик с грязными голубями на макушке. Когда будут ставить памятник мне, подумал Герман, попрошу Вигеланда сразу приделать мне на голову здоровенного бронзового голубя.
На Карл-Юхан[18] высилась огромная елка, похожая на зеленую ракету на старте. Под ней на земле горой лежали пакеты и свертки в подарочной бумаге, в большинстве из них было что-то мягкое. Это подарки беднякам, у которых нет денег на подарки. Вот тут Германа и посетила отличная идея. Он достал парик, завернул его в бумагу из-под завтрака, перебежал дорогу, улыбнулся тетеньке из Армии спасения[19] и положил свой сверток к остальным. У спасательницы на голове торчала коробочка, запотевшие кругляши очков упирались в красные щеки. Она присела и проворковала:
– Какой хороший мальчик! Думает о других.
– Жить надо по заповедям. Счастливого Рождества! – ответил Герман и пошел в «Студент».
Пожилые дамы и дяденьки с заострившимися ртами и огромными губчатыми носами тянули какао из кружек. Герман подошел к прилавку, и за ним тут же возник официант в белом фартуке.
– Коктейль шоколадный, коктейль клубничный, лимонад и банановый сплит. Побольше сладкой крошки, пожалуйста. Мама заплатит.
Герман нашел себе место в дальнем углу длинного стола у окна и задумался. Прикинув за и против, решил начать с шоколадного.
Ему пришлось дважды передвигать ремень на следующую дырочку, но когда он наконец добрался до банана, рядом возник официант. Он сдвинул шапочку-пирожок назад и поскреб лоб.
– Где твоя мама? – спросил он.
– В лавке Якобсена-младшего, – ответил Герман.
– Где-где?
– Магазин семьи Якобсен в Скиллебекке. Она там работает.
Дальше события развивались стремительно. У Германа вырвали из рук тарелку с банановым сплитом, потащили его в комнатку позади прилавка и силой усадили на стул. Официант стал листать толстый телефонный справочник. Большая касса в углу дрожала. Она была похожа на стиральную машину. Небось это в ней они лед крошат, подумал Герман. Коровы еще дают нам молочный коктейль и банановый сплит, подумал он дальше.
– Как тебя зовут? – истошно завопил официант, хотя стоял в трех сантиметрах от него.
– На слух не жалуюсь, – ответил Герман.
Но официант лишь повысил голос, а бананы из ушей не вынул.
– Меня зовут Герман Фюлькт. Вы не имеете права ничего мне сделать.
– Чего мы не имеем права, говоришь?
– Меня можно только пожалеть.
– И даже нужно будет, я тебе обещаю.
– Обещаете?
Официант с трудом попадал в нужные цифры на диске. В трубку он тоже орал и швырнул ее на рычаг, как метатель – молот.
– Мягкое мороженое, пожалуйста, – сказал Герман. – Пока я жду.
И тут официант вызверился, как бешеный лемминг, и взорвался. Пуговицы брызнули с белого фартука во все стороны, пирожок с головы упал, галстук встал колом.
– Только пикни еще, наглец!
– Вы правы, я уже много съел, да.
– И сними шапку, когда со взрослым разговариваешь!
– Мне же велено молчать.
– Ты еще и дерзить вздумал?!
– Планов беседовать со взрослыми на сегодня больше не имеется.
– Шапку снял!
– Нет.
– Ты слышал, что я сказал?
– Нет два раза.
Официант вцепился в верх шапки, Герман ухватился двумя руками за край и стал изо всех сил тянуть ее вниз. Но сил оказалось недостаточно, и официант отлетел в угол вместе с шапкой.
У него враз удивленно искривился рот, и все лицо застыло; он вытаращился на голый череп Германа, глаза забегали, словно они вообще здесь случайно. Он тихо протянул шапку Герману.
– Сюда, – сказал тот.
Официант положил шапку ему на колени, Герман немедленно натянул ее на голову.
– Ты не… ты не хочешь все-таки мороженого?
Понятно, подумал Герман.
Через полчаса пришла мама, молча оплатила счет, взяла Германа за руку и вывела на Карл-Юхан.
– Это было нехорошо, Герман.
– Было очень хорошо.
– Ты мог просто попросить денег.
– Это было потешно!
– Мы могли бы сходить вдвоем, кстати говоря.
У Германа в животе началась катавасия, как когда он лист проглотил.
– Кажется, мне срочно надо в туалет.
– Кажется или надо?
– Надо.
– Сколько ты съел?
– Три с половиной. Кажется, надо скорее.
Он внимательно прислушался к себе и поправился:
– Надо скорее.
Они пустились бегом и успели. Герман пулей влетел в туалет, побив пару мировых рекордов. Какое блаженство! Так хорошо ему не было давно. Хотя обидно, конечно, что все эти вкусности задержались в нем так недолго. Обожрутся угри сегодня, подумал Герман.
Прислушался: вверх по лестнице, шагая через три ступеньки, шумно пыхтел папа.
– Герман! Где Герман?! – закричал он с порога.
– Он в туалете, – ответила мама.
Папа встал под дверью и затараторил, глотая слова:
– Знаешь, что скажу?
– Не знаю.
– Зорро вернулся!
Герман молчал.
– Ты там сидишь? – закричал папа.
– Да. Куда Зорро вернулся?
– «Зорро» идет во «Фрогнере»! Я купил билеты на пять. Поторопись!
– Я устал сегодня.
– Что ты сказал, Герман?
Идти и правда не хотелось, но он решил, что должен, иначе папа не увидит продолжения. Просто столько всего разом теснилось внутри, что голову стянуло как обручем.
Герман спустил воду, авось папа не услышит, если он вдруг заревет.
– Иду, – ответил он.
Они заняли свои места во втором ряду. Погас свет, со скрипом и шуршанием открылся занавес. Легла тишина, и по головам проплыла звенящая буква. И вдруг здрасте вам: Зорро с дамой на вершине горы. А все ведь помнили, что прошлая серия закончилась в темнице. Что тут поднялось! Зрители повскакали с мест и принялись вопить. В окошке механика под потолком показалось перепуганное лицо. Герман узнал его: это же тот тип, что клеит афиши и проверяет билеты на входе.
– А ну тихо! Сели все! – рявкнул он. – Иначе отменю сеанс! Желающие могут приобрести шоколад!
Зажегся свет, занавес задернули – дубль два.
Наконец механик отыскал нужную бобину, экран снова засветился, и появился Зорро, заточенный в камере, между сжимающимися стенами. Все откинулись в креслах, задержали дыхание, вцепились в подлокотники, друг в друга… Все, кроме Германа. Он спокойно тронул папу за плечо.
– Наверняка он найдет в полу расшатанный камень, вытащит его и поставит в распор, – прошептал он.
В конце фильма Зорро ускакал на Торнадо к линии горизонта. Там, вдали, он оглянулся, высматривая прекрасную даму, но ее было не видать. В глазах за черной маской светилась печаль.
Зорро грустно оттого, что она не последовала за ним, а он не остался с ней, понял Герман.
Домой они шли под полной луной, ее матовый свет затягивал лица, словно марля. А потом над городом распростерлось большое черное облако, и гореть остались только рождественские звезды в окнах.
– Здорово у тебя соображалка работает, – восхищенно сказал папа.
– Просто догадался.
– Я б никогда не дотумкал. Думал, Бернардо чего наколдует, чтоб его вызволить.
Папа засмеялся, притормозил и достал сигарету.
– Гляди, чего покажу!
Он спрятал сигарету в руке, сжал второй кулак тоже, суматошно замахал и затряс руками, как будто слепня гонял, потом протянул кулаки вперед.
– В каком?
Герман ткнул в левый. Папа разжал пальцы – ничего.
– Попробуй снова!
Герман показал на правый. Папа разжал его, но тоже оказалось пусто. Тогда он раскрыл рот, долго обшаривал его языком, и вдруг показался окурок, он лег на губу, и папа сам скосил на него глаз с большим удивлением.
– Во как! – сказал он.
– Ничего себе, – откликнулся Герман.
Они пошли дальше, высматривая проход в сугробах вдоль обочины. Ближайший нашелся на Соллипласс.
– Чего тебе больше всего хочется на Рождество? – спросил папа.
Герман промолчал.
– Глупый вопрос?
– Ну да. Вот тебе, пап, самому чего хочется?
– Сюрприза.
– И мне.
Герман слепил снежок и запустил в фонарь, но промазал. Папа тоже бросил и тоже не попал. Какое-то время они шли молча. В квартире с открытым окном пели рождественский гимн, но пианист не попадал в ноты.
– Дедушка с нами Рождество встречает?
– Конечно. Мы переправим его к нам под вечер. Мы ведь сможем вдвоем снести его по лестнице?
– Спокойно.
Дома у дверей их ждала большая елка. На вид очень свежая, ветки припорошены снегом, а зарубки от топора блестят. Рядом с ней стояла мама и поеживалась, обхватив себя руками.
– Заходили Бяша и Вяша, – сказала она, – елку вот принесли.
Папа стал проверять высоту елки, подергал иголки, всё с очень деловым видом.
– Вижу. Хорошая елка. Отличная прямо. Игрушки, огни – будет что надо.
– Думаешь, они ее купили на Фрогнере или на рынке? – спросила мама.
– Понятия не имею. А какая разница?
– Они сказали, денег не надо, – гнула свое мама. – Даром, сказали.
– Повезло, – пожал плечами папа.
– И денег не взяли, – повторила мама в третий раз. – Это как?
Папино лицо поменяло цвет, он вертелся как уж на сковородке.
– А, вспомнил! – сообщил он. – У свояка Вяшиного делянка леса где-то в Хаделанде.
Мама смерила папу взглядом снизу вверх, потом снова вниз, но ничего не сказала. Герман понял, что дело тут нечисто. Бедный, пожалел он папу.
– Как аукнется, так и откликнется, – сказал Герман и ушел к себе в комнату.
Ночью ему не спалось. Слишком много звуков оказалось вокруг. Слышно было, как стучит сердце где-то в ухе, и как падают с головы волосы, и даже как бьют ходики у дедушки в квартире. И голоса родителей в гостиной были отчетливо слышны, как будто включили радио на полную громкость, а передача противная.
– Позорище!
– Не будь ханжой, – отозвался папа и, громко топая, ушел на кухню. Было слышно, как он распахнул дверцу шкафа и открыл бутылку.
– Не шуми так. Герман услышит.
– Он спит.
– Именно. А ты своим нудежом его разбудишь.
– Это кто из нас нудит?!
Вообще-то Германа трудно было разбудить – он не спал. Он прислушивался, хотя предпочел бы ничего не слышать, но лежал смирно, чтоб не попасться с поличным.
Все звуки пропали, остались только голоса родителей – громкие, ранящие. Кончайте, думал Герман, не говорите больше ничего. Идите наряжайте елку. Вешайте гирлянды. Только не ссорьтесь больше.
– Ну да, свояк из Хаделанда! Он самый, конечно. А теперь, дорогой, будь добр рассказать, откуда взялась елка.
– Бяша и Вяша сказали, что знают, как добыть елки по дешевке. И я вошел в долю.
– Где брали?
Папа медлил с ответом.
– Ты собираешься напиться еще до Рождества?
Мама говорила жестче, чем даже бабушка, когда отчитывала деда за пиво.
Родители замолчали. Безмолвие воцарилось в квартире. Безразговорность.
– В Нурдмарке, – все же сказал папа после очень долгой паузы. – За Согнсванн.
– Взрослые люди! Как не стыдно!
– Ты вообще-то знаешь, сколько эти елки стоят? Не знаешь? Оно и видно! А парик во что встанет, знаешь? Тысяча крон! Если не больше…
Герман выключил свет, закрыл глаза, спрятался под одеяло. Без толку. Нет такого места, где бы он спрятался и его не нашли; всюду найдут, как ни прячься. Он сжал зубы и стал петь про себя, чтоб ничего уже точно не услышать: «Средь соблазнов мира зла, бурь его и громов в чудном свете Рождества наше сердце дома».
И нырнул в сон шапкой вперед.
Разбудило Германа прикосновение пальца. Палец оказался частью пятерни, а пятерня принадлежала маминой руке.
– Ну, сурок, ты и поспал! Скоро одиннадцать.
– Дремлет все, лишь не спит в благоговенье святая чета, – ответил Герман и сел.
– Ты не пойдешь сегодня с классом в церковь? – спросила мама.
Герман отвернулся.
– Пастор наверняка не разрешит шапку не снимать.
– Да и говорить будет то же, что в прошлом году.
– Хор ангелов запел с небес и пастухам благую песнь принес, и им он говорит: младенец в яслях там лежит. Иисус Христос – младенец тот, он вам спасение везет.
Герману снова пришлось лечь, так он устал от декламации. Но впечатление на маму он произвел.
– Ты это по памяти?
– Было в календаре, – смущенно буркнул Герман. – Что такое ясли?
– Место, где лежал новорожденный Иисус, кормушка для животных.
– Не очень-то удобно ему было так лежать…
– Откроем сегодняшнее окошко вдвоем? – спросила мама.
– Давай ты.
Мама подцепила пальцем створку и открыла: в окошке лежал красный пластмассовый волхв с дыркой в голове.
– Слушай, мне пора бежать. А то Якобсен-младший рассердится.
Мама захихикала, смех шел откуда-то снизу живота, поднимался в рот и выстреливал наружу.
– Знаешь, что спросил у него один покупатель вчера? Как ваши свиные ножки, господин Якобсен?
– Слышали эту шутку в прошлом году.
– Да?
– Да. Но она смешная.
Где-то на улице завыла сирена. А что если это Бутылю повезли? Может, они его так с тех пор и возят, чтоб мозги на место встали?
– Я пошла.
Герман привстал в кровати.
– Мам, а ты без гроша сидишь?
У мамы медленно пополз вниз подбородок, выглядело это чудно́, потом она засмеялась и навела в лице порядок.
– Вот я глупая… Совсем забыла. Замоталась перед праздниками.
– У всех много дел.
Мама достала из кошелька две оранжевые бумажки и положила их на подушку рядом с волхвом.
– Я не про это.
Герман не знал, как задать вопрос; он боялся признаться, что подслушивал вчера, но не мог придумать, как тогда сказать, а сказать было важно.
– А про что, Герман?
Глаза жжет, а свалить все на шампунь нельзя. Он отвернулся к стене и стал смотреть на оленей в лесу на задниках всех окошек календаря.
– Про «Студент». Я тебя совсем разорил?
Мама похлопала его по спине.
– Я сама обещала сводить тебя туда. Если б мы вдвоем пошли, мы бы наели еще больше.
Едва Герман остался дома один, как взял мамину сумку на колесиках и пошел в «Магазин госпожи Йенсен: бумага, открытки, мелочи» на Драмменсвейен.
Дама за прилавком и впрямь была довольно мелкая, едва заприметишь.
– Чем вы торгуете? – спросил Герман.
– Проще сказать, чем мы не торгуем, – ответила госпожа Йенсен и встала на табуретку, чтобы ее было лучше видно.
– Простота не для нас, – парировал Герман и огляделся.
Кругом на полках была разложена всякая мелочовка: карандаши, чайные ложки, наперстки, спички и пинцеты. Наверняка гномы ходят за покупками именно сюда.
– А крупности у вас есть? – спросил Герман.
– В задней комнате, – ответила продавщица и спрыгнула с табуретки.
– Тогда мне нужно две крупности и одну мелкую мелочовку, – сказал Герман.
Он привез подарки домой, закрыл дверь и спрятал их под кровать. Осталось еще две кроны и семьдесят восемь эре. Поначалу он стал придумывать, как их потратить, но потом отложил на черный день, если папе не на что станет купить маслица на хлебушек.
Заодно вытащил из ящика свой гербарий и рассмотрел коллекцию. Новые волосы скоро некуда будет класть. Надо же, сколько волос у меня было, поразился Герман. А сколько еще осталось… Ну, положим, осталось не так много. Шапка кусала голую кожу и все время сползала на глаза, потому что сделалась слишком просторная. Он рассмотрел булавовидный волос. На вид штука не опасная.
Вечером мама с папой принялись наряжать елку. Мама балансировала на шаткой табуретке и развешивала искусственные шишки и разноцветные бумажные корзиночки. Папа надевал на верхушку звезду, но она кособочилась. Вдруг оба разом обернулись и посмотрели на Германа. Он стоял в дверях, не зная, зайти ему или уйти.
– Герман, поможешь нам?
– Сами справитесь, – сказал Герман.
19
Только найдя в окошечке с номером 24 Иисуса, Герман вспомнил, что сегодня сочельник. День самый что ни на есть будничный. Папа ушел на стройку и кладет крышу на новом доме, мама в лавке Якобсена-младшего продает ребрышки. Это только на Пасху радость приходит с утра, а на Рождество надо дожидаться вечера, и то непонятно, порадует ли он.
Герман заглянул под кровать, проверил, на месте ли подарки, и подошел к окну. С неба сочилось солнце, но деревья на улице напротив окна не блестели и не зеленели. Ветки топорщились толстые, белые, того гляди обломятся. Слова доброго деревьям сегодня не дождаться. Если кто и вышел из дому, то спешит по делам и еле тащит поклажу. Пискнули часы, кто-то запел «Тихую ночь». Интересно, что фа-соль можно и есть, и петь. А кораблики, что развешивают в церквях, могут пройти под парусом по Индийскому океану?
И каково дедушке лежать днем и ночью в кровати под балдахином и подгонять время? Скучно небось? Точно, пойду его проведаю, решил Герман, заодно и подарок отдам.
И он торопливо пошел по скукожившимся улицам мимо парфюмерного, где мужчины выстроились в очередь в кассу за модными духами, мимо почты, где наклеивали марки на последние рождественские открытки, хотя к празднику деревенская родня их уже не получит, мимо базарчиков, где стояли связками кривые елки, на которые никто не польстился, мимо дверей, украшенных венками, ветками и корзиночками с шишками и изюмом.
На дедушкиной двери не висит украшений, но она не заперта. Герман, спрятав подарок за спину, прямиком направился к кровати.
Дедушка спал и по-прежнему держал в руках фотографию бабушки. Герман задумался, надо ли его будить. Видно, что спится ему в удовольствие. Лицо спокойное и тихое, как вода, такой тишины Герман никогда не встречал, кажется. И еще странное услышал Герман. Ходики в углу остановились.
– Дедушка, – позвал Герман.
Кровать никак не отозвалась.
– Дедушка! Это я, Герман. Ты спишь?
Он подождал, но ответа не было.
– Я тебе подарок принес. Он не очень, зато я сам его купил.
Герман заговорил гораздо громче. Не помогло. Он присел к кровати и положил руку дедушке на голову.
– Хочешь меня разыграть?
Дедушка не обращал на него никакого внимания. Лицо у него было мягкое, но почти белое. Герман отдернул руку.
– Это точно не розыгрыш?
Ответа не было и теперь. Герман придвинул стул еще ближе к кровати и заговорил:
– Я тебе рассказывал, как у нас один облысел? Мой приятель. Из класса. Все волосы повыпали безо всякой войны. Сами собой. Слышишь меня, да, дедушка? Хорошо. И он все свои волосы собрал и спрятал в альбом с гербарием, чтобы они не растерялись. Вот умник, скажи? Он думал, они ему пригодятся, потому что у родителей не было денег на хороший парик. А одним волосом он очень гордился. Он называется булавовидный. Если кто станет его дразнить или не давать проходу, он его этой булавой бдынц, бдынц – и готово. Ловко, да? Хотя, может, до драки и не дошло бы. Он им этот свой волос только покажет – все разбегутся. Что с ним дальше сталось? Даже не знаю. Кажется, он до конца жизни ходил в шапке. Выдумка, говоришь? А вот и нет. Я не выдумываю, дедуль.
Герман снял шапку и показал дедушке голову. Вдоль былого пробора еще уцелели редкие кустики волос.
– Ты ведь все время знал, о чем речь, да? Только не говорил.
Дедушка и теперь ничего не сказал.
– Меня не проведешь, – прошептал Герман.
Он встал. Сообразил, что едва не забыл, зачем пришел, и положил подарок на стул.
– Хочешь, я сам его открою? Так будет проще всего.
Он разорвал красивую упаковку и раскрыл коробку.
– Если не подойдут, скажи, поменяем, я не обижусь.
Он надел шапку и на секунду остановился, задержавшись взглядом на бабушкиной фотографии. Дед так и держал ее в руках.
– Шнурки у тебя точно есть, да? – Герман поставил пару блестящих черных ботинок рядом с кроватью и поплелся домой.
Дома он вцепился в ствол елки двумя руками и в бешенстве стал трясти ее. Тряс, тряс, пока с нее не попадали все шишки и корзиночки, не осыпались фонарики и не грохнулась со звоном звезда. И только когда облетели все иголки, засыпав комнату, он расцепил руки и осел на пол. Он сидел под серыми голыми ветками и был похож на ничейный подарок, который никто не удосужился упаковать и перевязать ленточкой.
Через тысячу лет пришли родители. Окликнули его из коридора, он не ответил. Они встали на пороге, долго молча озирались. Герман сжался в комок и закрыл глаза руками. Но они все-таки увидели его. Мама шагнула в комнату – и заговорила: сперва совсем тихо, но потом громче и быстрее:
– Герман, что ты наделал? Ты испортил елку! Герман!
Отец сорвался с места, подскочил к Герману и поднял его двумя руками. Теперь Герман повис в воздухе.
– Ты что, совсем рехнулся?!
Мама бегала от стены к стене и причитала:
– Это уже слишком! Что все это значит? Отвечай, Герман!
– Дедушка умер.
Мама резко остановилась. Папа поставил его на пол и убрал руки.
– Что ты сказал?
– Дедушка умер.
Мама подошла к нему вплотную, у нее как будто испарился голос.
– Ты был у дедушки, Герман?
– Дедушка умер. Ну что, поднимем на крышу венок?
Мама выскочила в коридор, папа бросился следом, но в дверях резко затормозил и обернулся к Герману.
– Я не пойду, я дедушке уже сказал «пока», – прошептал Герман.
Они убежали. Быстрая дробь ссыпалась вниз по лестнице и смолкла. Герман стоял посреди комнаты и ждал, чтобы стало как можно тише. Потом принялся наводить порядок. Развесил корзиночки, залез на стол и нахлобучил звезду, но с иголками не справился. Они отказывались втыкаться в ветки – осыпались бесповоротно. Герман принес веник, смел их в кучу и высыпал в мусорное ведро. С ведром в руках он пошел к двери, но долго топтался перед своей комнатой. Решить-то он решил, но нужно было еще уговорить руки и ноги, что он не замышляет ничего плохого. Наконец все согласились. Он быстро зашел в комнату, вытащил гербарий и высыпал все волосы в ведро. Потом спустился во двор и выбросил мусор в бак.
К тому времени, как вернулись родители, «Серебряные мальчики»[20] пропели уже все рождественские гимны по радио в квартире этажом выше. У мамы лицо было в разводах, как на стекле в дождь. Папа обнял ее и уселся с нею на диван.
– А дедушка где? – спросил Герман.
– В больнице в особом месте, – тихо ответил папа.
– Это там время лечит все раны?
Мама долго прочищала нос, потом встала.
– Давайте откроем подарки! – внезапно сказала она.
– Ты думаешь? – засомневался папа. – Можно подождать до завтра. Правда, Герман?
– Да.
– Дедушка рассердится, если мы не откроем их сегодня.
Герману стало неуютно.
– Как дедушка может рассердиться, если он умер?
– Он бы рассердился, будь он жив.
– Тогда давайте лучше сразу их посмотрим.
И они все вытащили свои подарки из-под кроватей и сложили их под елку.
– Герману от мамы с папой, – прочитал папа и отдал ему самый большой пакет.
Герман долго и медленно снимал бумагу, у него свело живот от ожидания. И когда наконец докопался до коробки и поднял крышку, смог выговорить только два слова:
– Беговые коньки!..
Он немедленно примерил их. Коньки оказались чуть великоваты, и Герман расхаживал в них по гостиной косолапя.
– Они немножко на вырост, – объяснила мама, – но если подложить газету и надеть носки, будут в самый раз.
– Наше вам мерси.
– Поскорее давай обновляй норвежский национальный рекорд, – сказал папа, заложил руку за спину и стал показывать китайский старт. Он встал в стойку, но вместо рывка выпрямился, опустил голову и сказал маме: – Прости. Сегодня это ни к чему.
– Прекрати! – отозвалась мама. – И давайте дальше.
– От Германа – папе… Мне?! – радостно воскликнул папа и стянул бумагу. Надолго замолчал. Потом снова обрел дар речи: – Три мотка шерсти. Красный, белый, синий. Интересно…
Ничего не понимая, Герман заковылял к елке.
– Я, кажется, наклейки перепутал, – объяснил он шепотом. – Это, конечно, маме.
Папа с облегчением выдохнул и передал шерсть маме.
– Большущее спасибо, Герман. Что ты хочешь, чтобы я тебе связала?
– Может быть… беговой костюм?
– Мамуся, ты сразу размерчик побольше закладывай, – заржал папа. – Пока свяжешь, пару лет пройдет, а то и больше.
– Да ну тебя.
– Я просто хотел сказать, что Герман растет прямо по часам!
Он запустил свои длинные руки под елку и вытащил новый сверток.
– От Германа – маме. Это мне теперь?
– Видимо.
Папа старательно снял обертку и хитро подмигнул Герману.
– Двести метров лески! Хо-хо, теперь весь угорь наш!
– Надеюсь.
– Там еще один подарок остался, – сказала мама. – Герману от дедушки.
– От дедушки?
– Тут так написано: «Герману от дедушки».
– Так он все-таки мог ходить?
– Ему могли и помочь.
– Помочь – это всегда хорошо.
Для начала Герман осторожно ощупал сверток – он был маленький и мягкий. Потом аккуратно открыл его, чтобы не порвать красивую бумагу, и сел где стоял.
– Шапочка… – просипел он. – Конькобежная.
Он содрал с себя старую и одним движением натянул новую, с тремя полосками и острым клювиком на лбу. Шапка села как влитая. Герман снова встал и сделал по комнате круг почета, высоко задрав голову.
– Спасибо, дедушка! – прокричал он. – Спасибо тебе большое-пребольшое!
Мама взглянула на папу: он прятал за спиной что-то еще.
– Ой, – сказал папа, – ничего себе. Да тут еще один подарок для Германа! От мамы с папой.
Едва Герман коснулся упаковки, в комнате стало тихо-тихо. От этого у него неприятно заныло в животе.
Он аккуратно развернул красивую бумагу и отложил в сторону. В руках у него оказалась коробка с надписью по-иностранному.
– Спасибо. Как раз сложу свои каштаны.
Родители подошли ближе.
– Открой коробку, – улыбнулась мама.
– Как скажешь.
У Германа все внутри будто завязалось узлом, и узел этот стягивался туже и туже, пока он медленно снимал крышку. Наконец он заглянул в коробку.
– Парик…
– Из настоящих волос человека, – объяснил папа.
– Какого? – спросил Герман.
– Что – какого? Они это… твои теперь.
– Вы ведь ни с кого скальп не снимали?
Папа обернулся к маме и стал терзать леску, а ее как-никак двести метров.
– Конечно, нет, – сказала мама. – Волосы сдают люди, у которых их слишком много.
– Вроде свояка из Хаделанда?
Родители долго переглядывались, папа машинально сделал петлю, мама громко дышала носом. Потом она присела рядом с Германом.
– Смотри, по цвету точно твои волосы. И пробор на твоей стороне. Его можно мыть шампунем. Не примеришь?
– Ну…
Пальцы не гнулись и не хотели помогать.
– Отвернитесь.
Они послушно отвернулись. Герман снял конькобежную шапочку и нахлобучил парик. Он был гораздо мягче прежнего, с челкой, и голова в нем казалась легкой, невесомой и какой-то не своей, а присланной напрокат из-за границы и очень модной.
– Уже можно?
– Ага.
Они обернулись и затараторили, перебивая друг друга:
– Герман, замечательно! – мама.
– Краше некуда, по-моему! – папа.
Погладить себя по голове Герман не дал, хотя они тянулись.
– В прошлый раз вы говорили то же самое.
– Давай в зеркало посмотрим?
– Нет! Не посмотрим.
– Выглядишь как раньше!
Папа прикусил язык на полуслове, но права голоса на сегодня уже лишился.
– Отвернитесь!
Они послушно подчинились. Герман снял парик, сложил его в иностранную коробку и надел обратно конькобежную шапочку.
– Кто не спрятался, замри! А я спать пойду, наверно.
Они шли за ним по пятам. Смотрели, как он убирает коробку в нижний ящик стола.
– Ты не хочешь поесть?
– Я сегодня досыта всего насмотрелся.
– Коньки, пожалуй, лучше снять.
– Последний бежит без пары, – сказал Герман.
Он заснул на повороте, выпростав одну руку, а дедушка стоял у кромки дорожки, чтобы зафиксировать мировой рекорд.
20
Во «Фрогнере» – новый фильм о Зорро, он вернулся домой в Мексику, но Герман идет не в кино. Ему снова к врачу.
Они переступили порог приемной, и мама схватила его за руку. Тут было полно людей и лишь один свободный стул. Сегодня приема ждали чуть живые доходяги. Брюки у многих были расстегнуты, вдоль стены стояли ведра. Больные прикрывали рот рукой и мычали что-то сквозь пальцы, издавали странные звуки, дергались всем телом, жмурились, и лица делались похожи на сморщенные яблоки. Запах в приемной стоял хуже некуда, хотя окна нараспашку, а на улице минус восемнадцать. Но пахло как на набережной у «Фреда Ульсена», если к тамошней вони от нечистот добавить запах старых тапок со свиными ножками внутри.
– С Новым годом, – сказал Герман.
Это он, кажется, не то ляпнул. Со всех сторон трещала канонада, как будто карманы у всех набиты петардами вперемешку с горящими спичками. У них тоже глаза наедаются медленнее пуза, подумал Герман и натянул конькобежную шапочку на нос.
Приоткрыв дверь, доктор поманил Германа с мамой пальцем: заходите. Захлопнул дверь, бегом вернулся на свое место и закурил сигару.
– И вот так каждый год. Ребра в распор, кишки узлом, котлета попала не в то горло, от квашеной капусты пучит живот. А я, дурак, забыл противогаз. Тебе сигара не помешает, Герман?
– Ничуть.
– Ты-то не обжирался?
– Нам на маслице к хлебушку не хватает.
Мама встала и дважды обошла стул.
– Понятно. А подарки подарили?
Доктор был в таком прекрасном настроении, что Герман начал подозревать недоброе.
– Будете колоть меня?
– Нет-нет, никаких уколов, зуб даю.
– Конькобежную шапочку.
Тут только Герман заметил, что медсестра другая. И у доктора прошла простуда. А на окне стоит совсем другой цветок и глядит в потолок красным наростом.
– А вам много хорошего на Рождество досталось? – спросил Герман.
Доктор ответил двумя облаками сигарного дыма и минутным молчанием.
– Ну что ж, посмотрим, – сказал он наконец, положил сигару и подошел к Герману.
– Там уже не на что смотреть.
– Я все равно должен посмотреть. Сними шапочку, чтоб мне очки не надевать.
Герман оглянулся на новую сестру.
– Она тоже должна смотреть?
– Я отвернусь, – быстро сказала сестра, подошла к окну и стала поливать цветок.
– Она милая, – сказал Герман. – Как ее зовут?
Потом он снял шапку, а доктор притащил лупу и принялся изучать его череп, нажимая тут и там. Доктор молчал, но Герман сказал правду: смотреть там было не на что. Всего два кустика волос на затылке, да и те не очень густые.
Оглядев голову со всех сторон, доктор убрал лупу в карман и сел.
– Можешь надеть шапку.
Шапка водворилась на голове, сестра закончила поливать. Красный нарост успел превратиться в цветок.
– Какая у тебя любимая дистанция?
– Четыреста метров. Собираюсь выйти в чемпионат.
– Он записался в Конькобежный клуб, – объяснила мама и подошла ближе. – Ему же можно бегать на коньках?
– Да, конечно. Пусть занимается.
– А… а как в целом наши дела?
Доктор посмотрел одним глазом на маму, одним на Германа и одним на сестру.
– Я вам уже говорил: трудно что-либо утверждать наверняка. Процесс идет, как я предполагал. Но повлиять на это нельзя. Может, волосы вновь вырастут. А может, не вырастут.
Он наклонился к Герману через стол.
– Нигде не больно?
Герман прислушался к себе.
– Вроде нет.
– Отлично. А в остальном как ты себя чувствуешь?
– Здоров как лосось, поскриплю еще авось.
Ему тут же захотелось откусить себе язык, как папе иной раз. И все заболело – и живот, и глаза. Он вспомнил, что дедушка умер и похоронен.
– Может, не как лосось, а как носок.
Доктор перевел взгляд на маму.
– О парике вы не думали?
– Уже купили. Но он не хочет его носить.
Доктор встал, и Герман встал тоже.
– Почему ты не хочешь его носить? В чем дело?
Герман посмотрел в пол.
– Ни одного конькобежца в парике не знаем.
21
Герман сел на повороте дорожки, чтобы затянуть шнурки. Он надел три пары носков и вдобавок извел весь утренний выпуск газеты «Афтенпостен». В центре стадиона «Фрогнер» кружились девчонки в коротких юбках, их тени выписывали в искусственном свете зыбкие круги. Герман надел варежки, оттолкнулся и заскользил по льду. Лед держал его. И до старта оставалось еще десять минут. Он пробежал несколько шагов, не работая руками. Штаны натянулись на коленях, газета шуршала, зато он не косолапил.
Внезапно из репродукторов грянула музыка – орган Хаммонда и труба, а девочки-фигуристки на внутренней дорожке выстроились в восьмерку и картинно задрали ноги. Руби среди них не видать. Герман принялся тормозить посреди предстартовой прямой, но остановился только на следующем повороте. Возвращаясь вдоль кромки, он деланно захромал, будто у него серьезная травма колена, дошел до старта и встал вместе со всеми. Никого из бегунов он не знал, поэтому сам тоже никому не был знаком. Все они обводили соперников безразличным взглядом, настоящая шапочка была только у Германа.
С трибуны спустился стартер. У него не ляжки, а оковалки, и попа торчит как горб у большого верблюда. Но пистолета у него не было – только свисток на шее и секундомер в руке. Племянник Яйца, не иначе. Он стал громко выкликать пары. Герман побежит последним. Один.
Стартер подъехал к нему.
– Кто-то должен бежать без пары. Человек не пришел, и вас девятеро. Надвое не делитесь.
– Четыре с половиной, – откликнулся Герман.
– Вот именно. Но мы сражаемся в первую очередь с самими собой. Помни об этом.
– Удачно, что я пока бегаю так себе.
Стартер вернулся на место, первая пара уже стояла наизготовку: спины согнуты, ноги подрагивают, точь-в-точь два шмеля, увидевших мухобойку. Вот они сорвались с места, выгребли из поворота и помчались наперегонки по прямой. Финишировали с результатом 53,8 и 56,4 секунды. У второй пары вышла заминка на старте, а потом они пыхтели ноздря в ноздрю до последнего поворота – там левый вырвался вперед и финишировал на 1:04,5, а правый отстал и дотянул только до 1:12,7. На старт вышла третья пара, и Герман подумал: вот бы один из них сейчас грохнулся.
Но тут рядом с ним, чиркнув по льду, затормозили быстрые коньки.
– Ты газеты подкладываешь?
Герман медленно повернулся: Руби. Она скосила глаза на его коньки, газета торчала из-за края ботинка. Герман посмотрел на ее ноги – и увидел беговые коньки. На Руби были беговые коньки и синий конькобежный костюм.
– Ты в них будешь типа фигурно кататься? – спросил Герман.
– Я бегу четыреста метров, – ответила Руби.
Больше она ничего не сказала, оттолкнулась и очутилась уже на старте. Ну все, понял Герман, слишком поздно. Слишком поздно отказаться. Он не может уйти домой сейчас. Придется выйти на старт и состязаться с Руби. Не надо было ему желать падения третьей паре.
И вот он стоит на внутренней дорожке, согнув колени и вытянув руки в стороны. Музыка перестала играть, девчонки-фигуристки, пигалицы не старше восьми, хором вопили Руби «Давай, давай!». Герман бросил на нее взгляд. Руби почти касалась льда лбом, а руки заложила за спину. Не хватало еще, чтобы она пришла первая, подумал Герман. Обштопала меня на повороте. Раньше меня поменяла дорожку. Мне тогда только продать коньки, сбежать в Адапазары и жить в норе до конца моих печальных дней.
Стартер дал свисток, и Герман припустил вперед, спотыкаясь. Он слышал, как коньки Руби ритмично режут лед. Она обгоняла его. Отрыв увеличивался. Герман вошел в поворот, но ноги плохо слушались, путались в конькобежном шаге; он не удержался на кромке и выкатился в сугроб. Руби шпарила по прямой, она опустила руки и давно успела перестроиться, когда Герман еще только выбирался на дорожку. Она еще прибавила скорость. Герман слышал вопли зрителей и понимал, что проиграл.
Вот бы упасть на последнем повороте, думал он. Если я грохнусь на последнем повороте, прежде чем Руби финиширует, то смогу сказать, что сделал бы ее, когда б не упал. А вдруг сейчас нога сломается? Или выскочит овчарка и оторвет мне руки? Или лед растает?
О многом он успел подумать, все-таки четыреста метров. Но не упал – не сумел. Он хорошо прошел поворот, работая рукой, но, когда вышел на последнюю прямую, Руби давно пересекла финиш.
Герман сделал три отчаянных шага, проплыл мимо судьи под крик «Одна минута двадцать восемь и пять секунды», услышал смех зрителей, попал в свет прожекторов, проехал дальше, не сбавляя хода, и двинул в раздевалку.
Руби нагнала его у памятника Оскару Матисену[21]. Она связала коньки и повесила их через плечо. Герман сунул свои в заплечный мешок. Он не собирался останавливаться, но Руби заступила ему дорогу.
– Не знала, что ты тоже на коньках бегаешь, – сказала она.
Герман ничего не ответил, показывая, что хочет пройти.
– Тренировался много?
– Сорок дней и сорок ночей.
– Почему в школу не ходишь?
– Заразный.
– Боров сказал, кто не будет тебя опекать, того выгонят.
– Знаю. Достала меня эта канитель до печенок.
Руби с любопытством взглянула ему в лицо.
– Ты, что ли, сердишься?
– У меня травма.
– Какая?
– Коленка, видимо.
Он перестроился на соседнюю дорожку, обогнул Руби и пошел домой, петляя проулками. А дома повесил мешок с коньками в подвале и сунул шапочку в нижний ящик.
22
Дни холодные, как из холодильника, и темные внутри. Изредка открывается дверь, папа с мамой надеются выманить Германа, но безуспешно. Достучаться до него не дано никому. Он сидит в глубине комнаты, положив на колени глобус, и руки у них коротки.
Но однажды вечером, когда папа остался на сверхурочные, а мама пошла в школу на собрание, Герман надел свою старую шапку без помпона и вышел на улицу.
Город вымер, черное одеяло неба накрыло его, луна зияла желтой трещиной. Северный ветер крутил снег под фонарями, везде валялись новогодние елки, похожие на скелеты или ржавые остовы велосипедов.
Герман угрем скользил вдоль домов, чутко вслушиваясь, но слышал только ветер, снег и свое дыхание, белое и холодное. На Балдерсгатен он увидел открытое окно, размахнулся запустить в него каштан, но удержался – и все-таки рванул с места, будто и впрямь нахулиганил. Поднялся по пригорку к школе. В нескольких окнах горел свет, там родители пили чай и разговаривали.
Он прокрался до угла и заглянул в школьный двор: наши сдали его, и следы отступления уже занес снег.
В парке он услышал голоса и пошел туда. Гленн, Бьёрнар и Карстен скучились у ограды – мутят небось что-то. Герман направился прямо к ним. Едва завидев его, они замолкли и уставились на него.
– Чего ты тут забыл? – спросил Гленн.
– Шел мимо.
Они посмеялись. Карстен поманил его ближе.
– Какое место на коньках взял?
Герман стиснул зубы, отвернулся к церкви и пополз взглядом по высоченному шпилю, пока кончик этой медной булавки не исчез в небесной наволочке.
– А вы чего делаете? – спросил он.
– Ты в штаны наложишь только слушать, – ответил Бьёрнар.
Герман достал из кармана каштан и пульнул в школу. Зазвенело стекло.
– Я, что ли, попал? – прошептал он.
– Ты разбил стекло завуча!
Они всей гурьбой рванули с места и бежали сколько хватило сил, остановились уже далеко внизу, у памятника Вельхавену. Спрятались за ним, и Гленн достал из кармана зеленый шнур.
– Это еще зачем? – спросил Герман.
– Тебя повесить, чтоб мозги вправить.
– Они и так на месте.
Гленн завязал петлю на одном конце.
– Двери связывать, придурок.
– Зачем?
– Для смеха.
Они сгрудились вокруг него.
– Слабо́ тебе?
– Ну что значит слабо, – промямлил Герман.
И пошел вместе с ними по бесконечным трамвайным рельсам. Они завернули за угол, спустились немного вниз по Оскарсгатен.
– Здесь, – прошептал Гленн.
Они остановились и огляделись. Поблизости никого. Забежали в подъезд; оставив Бьёрнара караулить на первом этаже и стараясь не шуметь, поднялись на второй. Там оказалась всего одна квартира, на двери – табличка: «Хюльда Хансен». На половичке у входа лежала газета. Хюльды Хансен наверняка нет дома, подумал Герман.
Гленн накинул петлю на ручку, Карстен привязал свободный конец к перилам и накрутил шесть дамских узлов. Три пары глаз уставились на Германа.
– Звони.
– А что сказать?
– Осел! Она ж не откроет дверь, в этом весь смех!
Герман подошел к двери и посмотрел на мальчишек.
– Живо!
Он поднял руку, сжал кулак, вытянул указательный палец и надавил на кнопку звонка. За дверью прозвучала тройная трель. Гленн и Карстен попятились. Но больше ничего не произошло.
– Звони еще!
Герман нажал на кнопку еще раз. И теперь услышал медленное шарканье; кто-то приближался к двери, с трудом переставляя ноги и спотыкаясь. И еще какой-то неясный звук разобрал он – что-то вроде стука палки. Потом ручка повернулась вниз.
– Идут! – прошипел Бьёрнар от входа. – Сюда идут!
Гленн и Карстен скатились по лестнице, а Герман все стоял перед дверью и смотрел, как ее пытаются открыть изнутри. Шнурок дергался, но только сильнее затягивал узел.
– Вали, придурок! – крикнул Гленн и выскочил из подъезда следом за остальными.
Не сумев открыть дверь, Хюльда Хансен принялась кричать. Герман дергал и тянул петлю, но она не снималась. Что-то теплое вдруг потекло по ноге, и тут же на площадку влетели двое – дворник и полицейский в форме.
– Наконец-то мы взяли тебя с поличным, мерзавец! – прогудел полицейский и припер Германа к стенке. – Не волнуйтесь, госпожа Хансен! Сейчас мы вас освободим.
Дворник достал садовый секатор и перерезал шнур.
Дверь открылась, обмякшая на костылях Хюльда Хансен смотрела на них. Она увидела Германа. Он увидел Муравьиху.
– Мы поймали вашего мучителя. Легко он не отделается!
Муравьиха все еще рассматривала Германа. Он отвел взгляд и уставился на сверкающие пуговицы мундира полицейского. В правый башмак продолжало течь теплое.
– Это не он, – сказала Муравьиха.
– Как не он?
Дворник растерялся, полицейский ослабил хватку.
– Этого я знаю. Он приносит мне газеты.
Нагнуться Муравьиха не могла, дворник сам поднял газету с половичка и протянул ей, глаза у него беспокойно бегали.
– Вот оно что… – Полицейский резко повернулся к Герману. – Ну хорошо, мальчик. А ты кого-то здесь видел?
Герман все сглатывал и сглатывал, в адамовом яблоке завелся червяк, и хорошо если один. Полицейский одернул Герману куртку и отошел на пару шагов, морща нос.
– Двое убегали вверх по Оскарсгатен.
– Ты их узнал?
– Только со спины видел.
– Они были твоего возраста?
– Постарше вроде. Может, лет тридцати.
Дворник послал полицейскому безнадежный взгляд.
– Ладно. Займемся поисками.
Они ушли, тяжело топая, а Герман остался стоять. Не сойти ему с этого места, на которое натекла лужа из его штанины.
Муравьиха долго смотрела на него, изредка вздрагивая всем телом.
– Зайдешь? – спросила она. – Раз уж пришел.
– Да, – ответил Герман, переставил башмак из лужи и похромал за Муравьихой, не сгибая ногу.
В квартире было совсем темно – прямо хоть на ощупь пробирайся. Вдруг зажглась люстра, и оказалось, что вся гостиная заставлена диванами, по стенам теснятся фотографии, а с потолка свешиваются шнуры с ручками на конце, точно кожаные петли в трамвае. Все занавески были задернуты.
Хюльда Хансен медленно усадила себя на диван, подождала, пока тело успокоится, и перевела взгляд на Германа, задравшего голову к потолку.
– Я хожу, держась за них, если вдруг костылей под рукой не окажется.
– Хитро придумано.
– Дворник сделал.
На это Герман ничего не ответил.
– Садись, если хочешь.
– Я уже хорошо стою.
– Зачем ты опять связал мою дверь?
Герман шагнул прочь из-под люстры и встал в тени у стены.
– Я не знал, что тут вы живете.
– Но остальные знали?
– Я первый раз, – ответил Герман, и стыд сковал лицо и ниже все до пупка.
– Можешь попросить их прекратить?
– Что смогу, сделаю.
– Тогда не будем больше об этом.
О чем еще говорить, Герман даже представить себе не мог. Он покосился на дверь, она вон совсем недалеко, глазом два раза моргнешь – и выбежал. Убежать на край света, а там пробраться на корабль – и поминай как звали.
Герман не убежал.
– Не боишься меня больше? – спросила Хюльда Хансен и обхватила себя руками.
– Каштан хотите?
Герман положил перед ней коричневый кругляш, не дав ей времени ответить.
– Раньше я любила погрызть каштаны.
– Как это? Ели их, что ли?
– Ела. Жареные. В Риме, в Париже. Я всюду поездила. Тебя ведь Герман зовут?
– И в Адапазары были?
– Одно из редких мест, где я не побывала.
Она медленно встала, пошла, подтягиваясь на шнурах, и вернулась со стаканом сока для Германа и большой коробкой шоколадных конфет.
– У тебя там под дверью случилась неприятность с брюками?
– С одной брючиной.
Она уселась, они молча съели по конфете. И тут Герман не вытерпел.
– Откуда у вас в ногах эти муравьи? – спросил он быстро.
Герман не сразу разобрал, кудахчет она от смеха или от негодования, и на всякий случай отступил подальше в угол. Но поняв, что она все-таки смеется, вернулся на шаг назад. Хюльда Хансен тут же оборвала смех.
– Нет у меня в ногах никаких муравьев. Это вы меня просто обзываете и дразните, потому что я хожу очень странно.
– Я и не верил про муравьев.
– У меня пляска святого Витта.
– Так это вы пляшете? – задумчиво и тихо сказал Герман.
– Это болезнь такая. А вот раньше я плясала, да. Я была актрисой. Киноактрисой.
У нее сделалось что-то странное с лицом, она подняла руку – кажется, через боль – и сумела показать на фотографию. Герман подошел ближе, чтобы рассмотреть. Девушка в узкой юбке, маленьких теплых наушниках, стриженная под мальчика и с длинной сигаретой во рту сидит на капоте машины, скрестив ноги.
– Это вы?
– Я. Примерно тогда я стала знаменитой. Это задолго до начала болезни.
Но вниманием Германа уже завладела другая фотография. Он долго ее рассматривал. Мужчина без волос. На всей его голове нет ни одного волоска и шапки тоже нет. И он стоит себе в черной рубашке и смотрит в объектив как ни в чем не бывало.
– Юл Бриннер, – сказала Хюльда Хансен.
– А кто он такой?
– Знаменитый актер. Я играла с ним в одном фильме – «Король и я».
– Вы играли королеву?
– Да, играла.
– Но в то время у короля небось еще были волосы на голове?
– Он был точно как на снимке.
– А вам он, что ли, нравился?
– Он был мой кумир. Лучший из всех, с кем я играла.
Герман еще поизучал лицо Юла Бриннера, а потом повернулся к Хюльде Хансен.
– А вы играли вместе со звонарем собора Парижской Богоматери?
Она отвернулась в сторону и засунула в рот конфету.
– Мне не надо было об этом спрашивать? – тихо сказал Герман.
Он поставил стакан и медленно пошел к двери.
– Я не хочу вас жалеть, Хюльда Хансен! – внезапно произнес он очень громко.
Она сразу же повернулась к нему и улыбнулась всем лицом.
– Ты еще придешь?
– Скорее всего, – ответил Герман.
Дома его ждала мама. Она сидела на кухне с неизменным кофе и очень хотела поговорить.
– Ты где был, Герман?
– Не у школы, – ответил он быстро, и мама посмотрела на него поверх чашки.
– Ужинать будешь?
– Я пойду к себе, уроков много.
– Хороший план. Кстати, ваш Боров рассказал, как ты сдал зачет за полугодие.
Герман повозил ногами, пряча их под столом.
– Мне не понравилась твоя история, – сказала мама.
– Она не моя, так и было. А Боров сам не то прочитал.
Мама молча подлила себе кофе.
– Папа где? – спросил Герман.
– Празднует с ребятами. Они сегодня объект закончили.
– Ну здорово.
– Герман, так нельзя. Зачем ты стал вычитать в примерах на сложение? Представь себе, что я буду так делать в магазине. Чем все кончится?
– Якобсен-младший разорится и пойдет кормиться в Армию спасения.
– Вот именно. Ты снова достал старую шапку?
– Угу.
Мама вздохнула. Потом вспомнила еще что-то:
– Кто-то разбил окно во время собрания.
Герман поджал пальцы в мокром носке.
– Разбил целое окно?
– Бросил большой камень.
– Камень? – Герман задумался. – Вы их видели?
– А их много было?
Мама отставила чашку и пристально посмотрела на него. Герман сполз на стуле, у него отчаянно чесалась нога, вся, от бедра и донизу, он не мог сидеть спокойно.
– А что у тебя с брюками? – вдруг спросила мама.
Герман сразу взбодрился.
– Сейчас расскажу. На Балдерсгатен за мной погналась овчарка. Огромная, больше верблюда.
– Она тебя не укусила?
– Послушай дальше. Она на меня пописала, потому что столбов рядом не было.
– Давай свои брюки, постираю.
Герман немедленно стянул мокрые штаны, побежал в ванную и сполоснулся с шампунем. Больше его не трогали, и он спокойно сидел в своей комнате с глобусом. И думал о королеве, как она доплясалась до такой болезни, и о лысом короле, и о стороже в королевском дворце, у него еще мозги набекрень съехали. Эх, забыл он спросить, знакома ли Хюльда Хансен с Бутылей. И про дедушку тоже надо было спросить.
Внезапно Германа пронзила страшная мысль. Он вдохнул, а выдохнуть уже не получалось. Не опозорил ли он имя Зорро? Впрочем, он ведь был не в плаще и маске. А значит, никто не подумает, что это Зорро разбил стекло и завязал дверь старушке Хюльде Хансен. Двойник здесь ни при чем. Все натворил Герман Фюлькт собственной персоной.
Раздался звонок в дверь. Понятное дело, папа потерял ключ, пока гулял с Бяшей и Вяшей.
Но на пороге возникла мама.
– К тебе гость, – сказала она. И улыбнулась так хитро, что это ничего хорошего не сулило.
– Скажи, у меня на кухне что-то пригорает, – прошептал Герман.
Мама отступила на шаг, и в комнату вошла Руби. Прикрыла за собой дверь и взглянула на Германа.
– Ты уже ложишься?
– Еще не вставал.
Руби села на единственный стул и осмотрелась.
– Хорошая у тебя комната.
– Папа сам все сделал.
Минут пять они молчали. Герман подумывал, не надеть ли ему костюм Зорро поверх пижамы, но не стал.
– На коньках больше не бегаешь?
– Сезон кончился.
У него перед глазами оказались ее волосы. Рыжина сияла ярче, чем обычно. Долго смотреть невозможно.
Руби мотнула головой, Герман отвернулся к окну. И увидел в стекле отражение Руби.
– У меня пятое место, – сказала Руби.
На это Герману нечего было ответить.
– Но ты хорошо бежал.
– Думаешь?
– Почти победил меня.
– Я забыл наточить коньки.
– И у тебя травма была.
Герман задумался, вспоминая.
– Ну да. Левое колено. Или правое.
– И на внутренней дорожке был плохой лед.
– Точно. Пришлось два отрезка идти по внешней.
Несколько минут им не удавалось ничего сказать. Потом это прошло, и Руби заговорила первая:
– Герман, у тебя все волосы выпали?
– Не совсем еще.
Он крутанул глобус, мимо проплыла Америка. Руби подошла ближе.
– Можешь показать?
– Зачем?
– Никогда не видела.
Герман стянул шапку и подставил голову Руби. Не услышал, чтобы она что-нибудь сказала.
– Испугалась? – прошептал он.
И почувствовал руку: она нерешительно, палец за пальцем, приблизилась к его голове и осторожно провела подушечками по последним кустикам волос на затылке.
– В школе завтра никому не говори.
– Чур, я ничего не видела.
Герман вернул шапку на место. На глаза попался глобус, он все еще крутился. Герман остановил его.
– Ты живешь на Майорстюен? – спросил он.
– Можешь зайти в гости, – ответила Руби.
23
Герман проснулся рано, а спал так быстро, что ничего не помнил после того, как закрыл один глаз. Много чего приключилось в последнее время, сказал он сам себе и встал. На спинке стула висели брюки, сухие. Он бесшумно прокрался в туалет и так же тихо вернулся в комнату. Снял шапку, выдвинул нижний ящик и достал парик. Пристроил его на голове, прислушался к своим ощущениям – ничего особенного. Сделал стойку на руках, парик не свалился. Высунул голову в окно – ветром не сдуло. Сложил ранец и отправился на кухню.
Опередить удалось не всех. На кухне уже допивала кофе мама. Глаза у нее были жуть какие усталые, на ниточках висели.
– Герман, ты уже встал?
– Спасибо, и вам того же.
Он открыл холодильник и выпил молока прямо из горлышка.
– Папа где?
– Еще не возвращался.
– Он не с концами пропал?
– Вернется, когда осмелится.
– Значит, скоро придет.
Тут мама заметила парик, и улыбка удивления разбудила ее лицо.
– Что я вижу?! Парик?
– Я его правильно надел? Челка сзади мне ни к чему.
Мама чуть поправила парик и пристально оглядела Германа.
– Сама бы от такого не отказалась. Чтоб не ходить к Пузырю на перманент.
– Может, как-нибудь в субботу дам тебе поносить. А сейчас я побежал.
У ворот школы маячили Гленн, Бьёрнар и Карстен. Завидев Германа, они побежали ему навстречу, Гленн первый.
– Нас выдал?
– Нет два раза, – ответил Герман.
Они взглянули на его парик, но и только.
– Не выдал?
– Сказал – нет.
– Жестко.
– Но больше ее дверь не трогайте. Пожалеете.
– Они так сказали?
– Я так говорю.
К счастью, зазвенел звонок. Боров сидел за своим столом на двух составленных стульях и дышал как носорог. Каждый раз, когда кто-нибудь вперивал взгляд в парик Германа слишком надолго, Боров стучал в пол указкой.
Только Руби вела себя как ни в чем не бывало. Но делала это так старательно, что все же перестаралась.
Боров нарисовал на доске четырнадцать пород деревьев и написал зеленым мелом: «Лес и обработка древесины в Норвегии». Герман записывал за ним: «Лучшие сорта дерева идут на производство мебели. Тик в Норвегии не растет. Для детских комнат используют сосну. Для кухонной мебели хорошо подходит береза. Из дуба тоже делают отличную мебель. Для производства школьных парт используют ель».
Распахнулась дверь, вошел завуч, сделал два шага и повернулся на каблуках; класс уже стоял. Боров чуть было не свалился меж двух стульев, но все же потихоньку встал на ноги, пока завуч обшаривал парту за партой глазами, похожими на жерла пристрелянных пушек.
– Случилось серьезное происшествие. В моем кабинете разбили окно. Это произошло вчера вечером, и мы видели, кто это сделал.
Герман почувствовал, что заваливается набок, прямо как на коньках на повороте, и оперся одной рукой о парту, чтобы не сесть потом мимо своего места.
– Тот, кто это сделал, должен немедленно признаться сам и не тянуть резину. Чьих это рук дело?
Тут мне даже парик не поможет, подумал Герман. Упекут меня в тюрьму, семь лет воли не видать, да еще семь, и обернусь я самым рослым в мире карликом.
Но он не успел поднять руку. За спиной послышалась возня, Гленн встал и заявил:
– Я разбил.
– Я, – сказал Карстен и замахал рукой.
– И я! – вскричал Бьёрнар, задрав обе руки над головой.
– Так я и думал, – завуч повернулся к Борову. – Так я и думал. Вперед – марш!
Борова эта история подкосила. Он плюхнулся на стул, тот жалобно скрипнул, а Гленн, Бьёрнар и Карстен, шагая в ногу, вышли из класса.
Остаток урока Герман рисовал огромный трехцветный топор. Рядом он подписал: «Бревна отправляются на лесопилку или на целлюлозную фабрику. Бумажной фабрике необходимо древесное сырье. Там бревна пилят на доски. Некоторые бревна отправляют на фабрики, целлюлозные и бумажные. Вся бумага, на которой мы пишем, была бревнами».
Когда прозвенел звонок, Руби обернулась к Герману и как ни в чем не бывало кинула на него быстрый взгляд.
Герман встал у ворот на Харелаббен, но Гленн, Бьёрнар и Карстен не появились. Вместо них из ворот вышел Яйцо. Он остановился перед Германом и покосился на парик.
– Стоишь? – сказал он.
– Вроде.
– Они еще не скоро придут. Каждый должен пятнадцать раз переписать начисто стихотворение Бликса[22]. Это не быстро. – Яйцо оглядел улицу, но с места не сдвинулся. – Хороший у тебя парик.
– Это не парик. Настоящий человечий волос.
Яйцо долго тер и мял подбородок.
– Герман, скажи мне: почему меня зовут Яйцом?
– Сам бы рад узнать.
– Вот и я тоже. Был, между прочим, чемпионом Норвегии в упражнениях на коне. В пятьдесят третьем году. – Он помолчал. Потом оживился: – Нет толку спрашивать, почему вы зовете Фанеру Фанерой?
– Спрашивайте, если хотите.
Но Яйцо спрашивать не стал. Он громко захохотал и удалился. От угла улицы внезапно отделилась уборщица, и дальше они пошли вместе.
– Желток и белок! – крикнул им вслед Герман, но они не услышали.
Зато появился сам Фанера; он шел через двор, широко шагая, косясь из-под шляпы по сторонам и разговаривая с самим собой.
Герман сорвался с места и припустил по своим делам. Он побежал на стройплощадку в Вику.
А там небо держится на доме. Он почти целиком из стекла, прозрачный, солнце висит на ниточке над фьордом и набивает дом светом, и все это горит, и сияет, и режет глаза, Герману пришлось отвернуться, прежде чем он насмотрелся.
Потом он увидел подъемный кран.
Позади высокого штакетника, частично уже подпавшего под разбор, Герман отыскал бытовку. Постучал в дверь, она от этого распахнулась. Заглянул внутрь. Двое мужчин в синих комбинезонах сидели за столом и пристально смотрели друг другу в глаза. У одного борода на пол-лица, у второго вся моська обгорела.
Герман кашлянул. Они не услышали. Он вышел наружу и снова постучался.
– Заходите, черт возьми! – крикнул один.
– Бригадир, если это ты, лучше проваливай! – добавил второй.
Они расхохотались и долго смеялись.
Когда они отсмеялись, Герман открыл дверь и вошел.
Они разом повернулись к нему.
– Это не бригадир, – сказал бородатый.
– Считай, повезло ему, – ответил второй.
– Считай, чертовски повезло, – добавил третий голос. Герман слышал его и раньше.
На узкой скамейке под окном лежал папа с полотенцем на голове.
– Это никак Герман! – вдруг завопил обгоревший.
Папа резко сел и повернулся к Герману, на лице у него читался ужас; он судорожно стал наводить глаза на фокус.
– Герман? Привет! Как ты здесь оказался?
Не успел Герман и рта раскрыть, как бородатый и краснолицый вскочили и протянули ему свои огромные заскорузлые руки в пластырях и кустистых волосах.
– Бяша. Очень рад!
– А я Вяша! Или наоборот. Герман, ты его видел, а? Рассмотрел? Угря?
Герман взглянул на папу: тот не очень знал, что теперь делать.
– Не так чтобы подробно, – ответил Герман.
– Это гигант, наверно, был. С метр длиной. Как думаешь, метр в нем был?
– Метра полтора, думаю. Я смотрел сверху, а он целиком почти под водой был.
– Ты должен как-нибудь сходить порыбачить с нами. Я рассказывал тебе, какого гиганта я поймал в пятьдесят девятом? Вот ты слышал о лохнесском чудовище? Так тот змей – просто червяк против угря, что я взял тогда на набережной у «Фреда Ульсена»! Знаешь, что я сделал из его кожи?
Папа наконец встал.
– Герман, мы тебя не ждали сегодня. А ты для чего-то специально пришел?
– Он пришел повидаться с нами! – крикнул Бяша.
– Я думал, может, подняться на кран, – тихо сказал Герман. – Я, кстати, в парике.
Бяша с Вяшей наперебой закричали, что сочтут за честь отдать ему свою каску.
Герман полез первым внутри квадратной лестницы. Он считал ступеньки – шершавые, чтобы не поскользнуться. Досчитав до тридцать второй, начал счет сначала. За ним пыхтел папа. Герман знал, что голова закружится и поплывет, как только люди на земле превратятся в разноцветные мармеладные фигурки, ветер раскачает кран, город опрокинется набок, и небо повиснет вертикально на расстоянии вытянутой руки – и тогда он забудет, куда лезть дальше.
– Не смотри вниз! – крикнул папа. – Мы почти долезли!
Герман закрыл глаза. Каска тяжело давила на лоб, он перецеплял руки и переставлял ноги, ступенька за ступенькой, все качалось и шло кругом, как во сне. Он все-таки открыл глаза – убедиться, что все это на самом деле происходит с ним. Так и есть. Он поднимается в кабину башенного крана, земной шарик крутится внизу с дикой скоростью, а слева чайка тихо сидит на гребне ветра.
Папа догнал его, обнял одной рукой за пояс, а другой распахнул дверцу в кабину. Они заползли внутрь, Герману пришлось отсидеться, пока мир не встал на место. Потом он снял каску и проверил, на месте ли парик.
– Ничего красивее не видел, – сказал папа.
Герман не сообразил сперва, о чем это он, подошел, встал рядом – и тогда все понял. Американское круизное судно, выставив две золотистые трубы, медленно выплывало из Осло-фьорда и шло мимо Несоддена, где уже подтаивала изморозь на стенах домов. Позади Фрогнер-парка виднелось кладбище, где теперь лежит в земляной постели дедушка. Город окружал настоящий норвежский лес, густой и зеленый, и кое-где белела вода.
И тут Герман увидел Гленна с Бьёрнаром и Карстеном, они вышли из школы с распухшими пальцами и раздутыми оттопыренными ушами, а в окне маячил Боров, он вязал помпон из шерсти трех цветов. Мимо стадиона «Бишлет» шли рука в руке уборщица и Яйцо, а следом крался Фанера. Хюльда Хансен ковыляла в салон красоты, а на аллее Бюгдёй Пузырь распахнул дверь и ждал, пока его старушка-мать войдет в квартиру. В доме на Майорстюен доктор с медсестрой поднимались по лестнице с лыжами в руках. А по Киркевейен на всех парах неслась Руби и тянула за собой синюю почтовую тележку, в руке у нее болталась огромная связка ключей с надписью «Г».
– Леска у того угря не порвалась, – сказал Герман.
– Скажи, красотища какая! Так бы и жил тут, – папа широко развел руки.
– Я сам ее оборвал.
– Видишь корабль на Несоддене? Это точно «Принц». Я отсюда вижу!
Герман видел, что никакой это не «Принц», но смолчал.
– Почему вы злитесь на бригадира? – спросил он вместо этого.
Папа тер глаза.
– Оштрафовал нас сегодня.
– У меня отложено на черный день – две кроны и семьдесят восемь эре. Хотя вообще-то они мамины.
– Мама сердится?
– В меру.
Ветер встряхнул кабину, они ухватились за ручки.
– Мне кажется, у меня глубокое зрение тоже есть, – сказал Герман.
Американский лайнер обогнул маяк на Краю Земли, и золотые трубы скрылись из глаз.
– Пап, пойдем домой.
Весна
24
Герман стоял посреди большой комнаты. В темноте он с трудом различал контуры плетеных кресел, радиоприемника на ножках, стола с клеенкой, забитых окон и двери на террасу – он сам закрыл ее за собой. Зато как никогда остро ощущал запахи: старых журналов (скоро он снова зароется в них), сухих водорослей, рассыпающихся в труху от одного взгляда, и яблок, пролежавших тут с осени. Солнце прожаривало дом несколько дней, теперь Герман прел в парике и то и дело вытирал шею.
Внезапно в одном окне появилась блестящая трещинка. Мама с папой убрали первую ставню, букашки на подоконнике проснулись, стали биться в окно и жужжать от досады. У Германа на глазах комната медленно наполнилась светом; родители открыли дверь на террасу, и папа прижался к маме или, наоборот, прижал маму к себе.
– Ну вот, – сказал Герман.
Обратный путь он простоял на палубе. Фьорд был полон белых парусов, они неподвижно висели на солнце. Из-под парика сочился пот и ел глаза. Герман отступил в тень и здесь обнаружил, что судно называется «Фласкебекк». Сразу всплыли в памяти дедушкины истории, Герман все их помнил. Везуха, подумал он. Надо же, сумели всех спасти, вытащили кораблик со дна Индийского океана и перегнали под парусом обратно к причалу «В».
Герман вихрем обежал корабль и нашел родителей на корме; они ели мороженое, облизывая пальцы.
– Что обычно бросают за борт? – спросил он.
– Может, пассажиров с морской болезнью? – начал гадать папа.
– Якорь!
Мама хохотала так громко, что «Фласкебекк» последние метры сдал задом, но часы на ратуше, к счастью, не остановились. Четверть пятого, воскресенье, май шестьдесят второго года.
И дома тоже пришлось распахнуть все окна. В соседнем квартале репетировал школьный оркестр, его почти перекрывали велосипедные звонки. Папа ушел в ванную – скоблил руки, отряхивал перхоть с плеч.
– Угадай, что у нас на обед? – спросила мама.
– Быра в усосе?
– Мимо!
– Киделькафри или тылекот?
– Сосиски с картофельными лепешками!
– Рекорд – восемнадцать штук! С кетчупом, – сообщил Герман.
Ушел к себе в комнату и долго стоял у окна. Крутил глобус, отирая потный лоб. Оркестр играл где-то совсем близко, знакомую песню.
Одну мысль Герману хотелось додумать до конца. Вот говорят про некоторых, что у них море времени впереди. Он внимательно посмотрел перед собой – ни моря, ни времени. Повернулся кругом – тоже ничего. У времени зубы выпали, решил Герман. И тут увидел интересное. Почки на деревьях на той стороне улицы – мягкие, вязкие – полопались, развернув зеленые листочки, и листочки эти закрыли все небо уже. Неслабо, подумал Герман.
Он выдвинул нижний ящик, посмотрел на конькобежную шапочку, но вытащил не ее, а гербарий, и доделал его. Приклеил корешок и положил на окно сохнуть. Не найду в этом году ветрениц – сон-травой обойдусь, решил он.
Потом Герман тихо прокрался в спальню родителей. Пижамы их валялись скомканные не пойми как, папа опять забыл два разных носка в маминой кровати.
Герман сел перед тройным зеркалом.
– Ну и ну, – сказал он. – Дедушка всегда дедушка, хоть он и умер. – Он задумался над своими словами. – Герман всегда Герман и никто другой. Это я вам обещаю!
Он снял парик и стал рассматривать свою голову со всех сторон. Она была большая и гладкая, даже немного блестящая. Потрогал – на ощупь приятная, ни шишек, ни струпьев.
– Герман всегда Герман, – повторил он, – обещаю.
Выскочил из квартиры, скатился по перилам и выбежал на улицу.
Родители смотрели Герману вслед, но сейчас ему было не до них.
Распахнулось окно, и высунулся Бутыля. Он вернулся домой отъевшийся и просохший.
– Какой с тебя красавчик! – Бутыля высунулся чуть не до колен. – Слыхал, Герман?! Как они играмши-то для нас!
Наяривая что есть силы, оркестр свернул на их улицу. Музыканты разом повернули головы; на миг сбились барабаны, кларнеты взвизгнули. Но вот оркестр промаршировал мимо, увлекая следом зевак на велосипедах.
Герман шел вперед. Куда точно, он не знал.
Поэтому шел себе и шел, да и все.
Сноски
1
Монолит – монумент Густава Вигеланда (1869–1943), чей Парк скульптур занимает большую часть Фрогнер-парка в Осло: на 14-метровой гранитной колонне вырезана сто двадцать одна человеческая фигура.
(обратно)2
Знаменитая скульптура Вигеланда, один из символов Осло.
(обратно)3
Несодден – полуостров, разделяющий Осло надвое, и пригород Осло.
(обратно)4
Адапазары́ – город в Турции.
(обратно)5
В городке Эйдсволле в 1814 году была принята конституция Норвегии, действующая с небольшими поправками до сих пор; музейный комплекс включает в себя здание, где она была провозглашена.
(обратно)6
Бюгдёй – полуостров на Осло-фьорде с несколькими музеями.
(обратно)7
Известный марш времен Первой мировой войны. В годы Второй мировой на его мелодию были написаны непристойные частушки о Гитлере, ставшие популярными, позднее она не раз использовалась в фильмах – «Мост через реку Квай», «Большая прогулка», «Здравствуйте, я ваша тетя» и других.
(обратно)8
«Фред Ульсен» – крупная судоходная компания.
(обратно)9
Знаменитый норвежский конькобежец Кнут «Купперн» Йоханнесен.
(обратно)10
Герман Вильденвей (1886–1959) – норвежский поэт и прозаик. Сельма – героиня его стихотворения.
(обратно)11
Фрогнер – район в центре Осло; собственно, все действие книги привязано к одному району норвежской столицы.
(обратно)12
Каламбур: Herman – herr (господин) плюс mann (мужчина) (норв.)
(обратно)13
Начало «Марша физкультурников», который сочинил для школьников в конце XIX века Юхан Николайсен.
(обратно)14
Праздник, знаменующий проводы зимы и начало Великого поста, аналог нашей Масленицы.
(обратно)15
Клифф Ричард (Великобритания), Пэт Бун и Элвис Пресли (США) – известные в 50–60-е годы исполнители поп-музыки.
(обратно)16
Адвент – время подготовки к Рождеству, когда детям дарят календарь с 24 окошками, в каждом из которых – сюрприз: игрушка, шоколадка, записка с пожеланием или заданием, а в еловом венке зажигают свечи, прибавляя каждое воскресенье по одной.
(обратно)17
Юхан Себастьян Вельхавен (1807–1873) – норвежский поэт и литературный деятель.
(обратно)18
Карл-Юхан – центральная улица Осло, названная в честь короля Карла XIV Юхана (1763–1844).
(обратно)19
Армия спасения – религиозная благотворительная организация, действующая во многих странах.
(обратно)20
Знаменитый норвежский хор мальчиков в предрождественское время колесит по разным городам.
(обратно)21
Оскар Матисен (1888–1954) – норвежский конькобежец, многократный чемпион мира и Европы; ежегодно лучшему конькобежцу мира вручается приз его имени.
(обратно)22
Элиас Бликс (1836–1902) – норвежский поэт, композитор и политик.
(обратно)



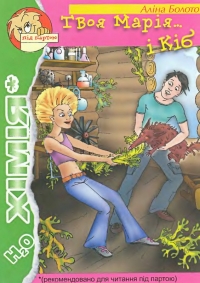
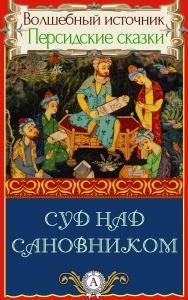



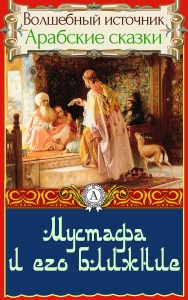
![Индеец с тротуара [Сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/513774/primary-medium.jpg)



Комментарии к книге «Герман», Ларс Соби Кристенсен
Всего 0 комментариев