Макдональд Джордж История Фотогена и Никтерис
I. УЭЙТО
Жила некогда ведьма, пожелавшая знать все. Но чем ведьма мудрее, тем сильнее расшибает себе голову о вставшую на пути преграду. Звали ее Уэйто, и в мыслях ее царил волк. Ничто не внушало ей любви само по себе — только любопытство. От природы она не отличалась жестокостью; жестокой сделал ее волк.
Уэйто была высокой и стройной, белокожей и рыжеволосой, и в черных глазах ее вспыхивало алое пламя. Порою сильное, статное тело ее сводила судорога, она падала на четвереньки и сидела так некоторое время, дрожа крупной дрожью и глядя через плечо, словно волк, покинув ее мысли, прыгнул ей на спину.
II. АВРОРА
У ведьмы гостили две дамы. Одна из дам состояла при дворе; муж ее в ту пору отбыл в далекие края с важной миссией. Вторая, молодая вдова, недавно потеряла мужа и с тех пор ослепла от горя. Уэйто разместила гостей в разных частях замка, так что дамы не подозревали о существовании друг друга.
Замок стоял на склоне холма, что плавно понижался, переходя в узкую долину: сквозь нее, по каменистому руслу, неумолчно журча, струилась река. Высокие стены, окружившие сад, пересекали реку и заканчивались на другом берегу. На каждой стене было по двойному ряду зубцов, а между ними неширокий проход.
Леди Аврора занимала просторные апартаменты из нескольких комнат на самом верхнем этаже замка, с окнами на юг. Окна эркера выдавались над садом; оттуда открывался великолепный вид на реку — вверх по течению, вниз по течению, и на противоположный берег, на крутой, но невысокий склон долины. Вдалеке высились снежные вершины. Аврора нечасто покидала свои покои, однако скучать ей не приходилось: к ее услугам были просторные, полные воздуха залы, великолепный пейзаж и небеса, избыток солнечного света, музыкальные инструменты, книги, картины и занятные безделушки, а также и общество Уэйто, что умело изображала обворожительную хозяйку. Ела гостья оленину и дикую птицу, пила молоко и светлое, пронизанное солнцем, искристое вино.
Бледно-золотые волосы Авроры волной струились по плечам, кожа была светлой, но не белоснежной, как у Уэйто, а глаза — синее небесной синевы; черты лица — тонкие и выразительные, губы — крупные и безупречной формы, а в уголках губ затаилась улыбка.
III. ВЕСПЕР
Позади замка холм поднимался совершенно отвесно; северо-восточная башня примыкала к скале и сообщалась с подземными пещерами. Ибо в камне таились залы, известные только Уэйто и ее доверенной служанке по имени Фалька. Бывший владелец замка выстроил эти покои по образцу гробницы египетского царя, и, возможно, с той же целью, ибо в центре одного из залов возвышалось нечто, весьма похожее на огороженный стеной саркофаг. Барельефы и прихотливая роспись украшали стены и своды. Здесь ведьма разместила слепую даму, а звали ее Веспер. Длинные, темные ресницы затеняли ее черные глаза; нежная, чистейшего оттенка кожа напоминала потемневшее серебро; иссиня-черные волосы, шелковистые и прямые, обрамляли прекрасное лицо; точеные черты печаль не сделала краше, но сделала милее; вид ее без слов говорил о том, что Веспер хотелось бы прилечь и уже не вставать. Дама не подозревала, что живет в гробнице, хотя удивлялась, что рука ее не нащупывает окна. В подземных залах повсюду стояли диваны, обитые роскошнейшим шелком, нежным, как щека самой обитательницы подземелья, а ковры с густым ворсом были столь плотны, что Веспер могла расположиться на покой где угодно — как то и подобает в могиле. Там было тепло и сухо, искусно проделанные отверстия обеспечивали приток свежего воздуха, так что в катакомбах не хватало только солнечного света. Ведьма поила гостью молоком, и вином, темным, как карбункул, и подавала на стол гранаты, и пурпурный виноград, и птицу болот; и наигрывала для нее печальные мелодии, и заставляла звучать жалобные напевы скрипок, и рассказывала ей грустные сказки, создавая вокруг леди Веспер атмосферу умиленной скорби.
IV. ФОТОГЕН
Со временем желание Уэйто исполнилось, ибо ведьмы часто получают желаемое: у прекрасной Авроры родился славный малыш. С восходом солнца мальчуган открыл глаза. Уэйто тут же унесла его в отдаленную часть замка и убедила мать, что мальчик вскрикнул только раз и умер при рождении. Вне себя от горя, Аврора покинула замок, как только к ней вернулись силы, и Уэйто больше не приглашала ее к себе.
Теперь ведьме предстояло позаботиться о том, чтобы дитя не знало тьмы. Посредством упорных упражнений Уэйто приучила мальчика не смыкать глаз днем и не просыпаться ночью. Ведьма убирала с глаз его все черное, оберегая его взор даже от тусклых цветов. По возможности ведьма и тени не давала на него упасть, ни на миг не теряя бдительности, словно тени были живыми существами, способными повредить малышу. Весь день дитя купалось в слепящем солнечном свете, в тех же просторных покоях, что некогда занимала его мать. Уэйто приучала мальчика к солнцу до тех пор, пока он не сделался закаленнее темнокожего африканца. Каждый день, в самый знойный час, ведьма раздевала малыша и клала под палящие лучи, чтобы он зарумянился, словно персик, и мальчик наслаждался живительным теплом и не позволял одеть себя снова. Призвав на помощь все свои познания, ведьма сделала его мускулы сильными, упругими и чуткими, — чтобы душа мальчика (со смехом говорила Уэйто) заключалась в каждом волокне, заполняла каждую клеточку и пробуждалась, едва позовешь. Волосы его пламенели алым золотом, но глаза со временем потемнели и стали черными, как у леди Веспер. То был веселый, жизнерадостный мальчуган, неизменно смешливый, неизменно любящий: сейчас пылал яростью, а в следующее мгновение снова хохотал от души. Уэйто назвала его Фотоген.
V. НИКТЕРИС
Пять или шесть месяцев спустя после рождения Фотогена темноволосая леди тоже разрешилась ребенком: в лишенной окон гробнице слепой матери, в глухую полночь, при неясном свете алебастровой лампы во тьму со слабым криком явилась девочка. И, едва она родилась для этого мира, Веспер родилась для мира иного, и ушла в пределы столь же неведомые ей, как этот мир — ее дочери, которой еще предстояло родиться заново для встречи с матерью.
Уэйто назвала ее Никтерис, и девочка выросла во всем похожая на Веспер — во всем, кроме одного. Та же смуглая кожа, темные ресницы и брови, темные волосы и нежная грусть во взгляде; но глаза ее были глазами Авроры, матери Фотогена, и если по мере того, как девочка становилась старше, глаза темнели, то лишь приобретая более глубокий оттенок синевы. Уэйто при помощи Фальки заботилась о ней как могла — то есть в соответствии со своим замыслом, — главная цель которого заключалась в следующем: девочка не должна была знать иного света, кроме света своей лампы. Так ее зрительные нервы и все органы зрения увеличились в размерах и обрели повышенную чувствительность, а глаза можно было бы счесть чрезмерно большими. В обрамлении темных волос, под темными бровями, они казались двумя просветами в затянутом облаками ночном небе, отблеском вышних сфер, где живут звезды, а не тучи. Это было хрупкое, печальное создание, и никто в мире, кроме тех двоих, не подозревал о существовании маленькой летучей мышки. Уэйто приучила ее спать в течение дня и бодрствовать в течение ночи. Она давала девочке уроки музыки, в которой сама не знала себе равных — но дальше этого образование Никтерис не шло.
VI. КАК РОС ФОТОГЕН
Долина, в которой стоял замок Уэйто, представляла собою скорее глубокую впадину на поверхности равнины, нежели лощину среди холмов, потому что там, где обрывались крутые склоны, к северу и к югу раскинулось широкое, бескрайнее плато. Там росла пышная трава и цветы, и тут и там поднимались рощи, удаленные колонии великого леса. В целом мире не нашлось бы лучших охотничьих угодьев, чем эти травянистые равнины. Там паслись бессчетные стада горбатых и гривастых диких лошадей, созданий небольших, но свирепых, а также антилопы и гну, и миниатюрные косули, в то время как в лесу кишели хищные звери. Леса и равнины в изобилии снабжали замок дичиной. Во главе охотников замка стоял славный ловчий по имени Фаргу; ему-то ведьма и передала своего воспитанника, когда Фотоген подрос и сама она уже ничему не могла его научить. Фаргу охотно взялся наставить мальчика всему, что знал сам. Он пересаживал Фотогена с одного пони на другого, по мере того, как тот взрослел, и каждый новый пони оказывался крупнее и норовистее предыдущего; со временем мальчуган дорос до коня, и переменил их немало, так что вскорости мог укротить любого скакуна тамошних краев. Точно так же Фаргу научил своего подопечного обращаться с луком и стрелами, каждые три месяца подменяя лук более крепким, а стрелы — более длинными, и вскорости Фотоген научился бить в мишень без промаха, и даже с седла. Ему едва исполнилось четырнадцать, когда мальчуган подстрелил первого буйвола, что вызвало немалое ликование как среди охотников, так и во всем замке, потому что и в замке Фотоген был всеобщим любимцем. Каждый день, едва всходило солнце, он выезжал на охоту и, как правило, проводил в полях целый день. Уэйто дала Фаргу один-единственный наказ, а именно: ни в коем случае и ни под каким предлогом Фотогену не дозволялось задерживаться за пределами замка вплоть до заката; мальчуган должен был возвращаться заблаговременно, так, чтобы приближение сумерек не вызвало в нем желания поглядеть, что произойдет потом. Этому наказу Фаргу свято следовал, ибо хотя он не дрогнул бы при виде целого стада разъяренных буйволов, несущихся через равнину прямо на него, в то время как в колчане у него не осталось ни одной стрелы, он панически боялся свою госпожу. Когда ведьма обращала на него свой взгляд, у Фаргу, по его же собственным словам, сердце в груди обращалось в золу, а в венах струилась не кровь, но молоко и вода. Так что, по мере того, как Фотоген взрослел, Фаргу преисполнялся страха, потому что с течением времени обуздывать юношу становилось все труднее. Фотоген был настолько полон жизни (пояснял Фаргу к вящему удовольствию своей госпожи), что напоминал скорее ожившую молнию, нежели человеческое существо. Мальчуган не ведал, что такое страх — но не потому, что никогда не смотрел в лицо опасности: однажды дикий кабан нанес ему рваную рану острым, как бритва, клыком, однако юноша разрубил зверю хребет одним ударом охотничьего ножа, прежде чем Фаргу подоспел на помощь своему воспитаннику. Фотоген на всем скаку направлял коня в стадо буйволов, вооруженный только луком и коротким мечом, или пускал стрелу в стадо и мчался вслед за нею, словно чтобы вернуть упущенный дротик, и довершал начатое точным ударом копья, прежде чем раненое животное успевало понять, куда рвануться. В такие минуты Фаргу с ужасом думал, что случится, когда его подопечного поманят за собой пятнистые леопарды и рыси с острыми, как ножи, когтями, коих немало водилось в ближнем лесу. Ибо мальчуган был настолько закален солнцем, с самого детства вбирая в себя его живительную силу, что на любую опасность взирал свысока, гордясь собственной отвагой. Засим, когда Фотогену пошел шестнадцатый год, Фаргу дерзнул умолять Уэйто о том, чтобы она сама объявила юноше свою волю и сняла ответственность с него. Легче обуздать рыжегривого льва, чем Фотогена, жаловался ловчий. Уэйто призвала юношу к себе и в присутствии Фаргу наложила на него запрет: не задерживаться за пределами дворца до тех пор, когда ободок солнца коснется горизонта. Наказ свой ведьма сопроводила намеками на последствия, намеками весьма туманными и потому еще более жуткими. Фотоген почтительно выслушал, но, поскольку не ведал ни страха, ни соблазна узнать ночь, слова ведьмы остались для него пустым звуком.
VII. КАК РОСЛА НИКТЕРИС
Те жалкие познания, что Уэйто предназначала для Никтерис, она поверяла девочке на словах. Полагая, что в полутьме катакомб читать невозможно, не говоря уже о других причинах, ведьма не давала ей книг. Однако Никтерис видела куда лучше, чем полагала Уэйто, и света ей было вполне достаточно. Девочке удалось улестить Фальку, чтобы та показала ей буквы, после чего Никтерис сама выучилась читать, а Фалька время от времени приносила ей детские книжки. Но главной отрадой для Никтерис стал музыкальный инструмент. Пальцы девочки обожали его, и блуждали по клавишам, словно овечки — по пастбищу. Нельзя сказать, чтобы Никтерис была несчастна. О мире она ровным счетом ничего не знала; знала только гробницу, в которой жила, и находила удовольствие во всем понемножку. Однако же пленнице хотелось чего-то большего — или иного. Никтерис не отдавала себе отчета в том, что же это такое, и, стараясь выразить неясную мысль в словах, говорила себе, что нужно ей "больше места". Уэйто и Фалька уходили от нее за пределы сияния лампы и возвращались снова; наверняка где-то есть и другие залы! Оставаясь одна, Никтерис сосредоточенно разглядывала цветные барельефы на стенах. Барельефы изображали в аллегорических образах силы природы, а поскольку невозможно создать ничего такого, что не явилось бы частью общего замысла, пленница не могла не подметить некоторую связь между картинами: так достигали ее отголоски реального мира.
Было, однако, нечто, что растревожило ей душу и научило ее большему, чем все остальное, вместе взятое — а именно, укрепленная на потолке лампа, что никогда не гасла, хотя самого пламени девушка не видела: только к центру алебастрового шара зарево как бы сгущалось. И помимо воздействия света как такового, беспредельность шара и мягкое приглушенное сияние, заставляющие пленницу поверить, будто взор ее в состоянии проникнуть в алебастровую сферу, в ее бездонную белизну, тоже ассоциировались для нее с мыслью о просторе и обширных пространствах. Никтерис могла часами сидеть неподвижно, любуясь на лампу, и сердце девушки переполнялось. Обнаружив, что лицо ее влажно от слез, Никтерис не могла взять в толк, что такое причинило ей боль, и дивилась, что сама не заметила, как это произошло. Так она любовалась на лампу, только когда рядом не было ни души.
VIII. ЛАМПА
Отдавая приказы, Уэйто почитала само собою разумеющимся, что они исполняются дословно и что Фалька с вечера и до утра неотлучно состоит при Никтерис, для которой ночь была днем. Но Фалька так и не смогла научиться спать в течение дня и часто оставляла девушку одну на полночи. Тогда Никтерис казалось, что белая лампа хранит и оберегает ее. Поскольку лампе не полагалось гаснуть, — по крайней мере, пока девушка бодрствует, Никтерис, за исключением тех мгновений, когда она закрывала глаза, знала о тьме еще меньше, чем о свете. Поскольку же лампа была укреплена высоко над головой и в центре зала, девушка и о тенях имела представление весьма смутное. Немногие тени ложились на пол отвесно или таились у стен, словно мыши.
Однажды, когда Никтерис осталась в одиночестве, послышался отдаленный гул: девушке еще не приходилось слышать звуков, происхождения которых осталось бы для нее загадкой, так что подземный грохот лишний раз подтвердил ей: за пределами катакомб что-то есть. Затем стены дрогнули и затряслись, светильник с грохотом обрушился с потолка на пол, и девушке показалось, что глаза ее крепко зажмурены и впридачу закрыты руками. Никтерис заключила, что это тьма вызвала грохот и тряску, и, ворвавшись в комнату, сорвала и швырнула наземь лампу. Девушка затрепетала. Гул и колебания утихли, но свет не вернулся. Тьма пожрала его!
Лампа погасла, и в девушке с новой силой пробудилось желание выбраться наружу, за пределы темницы. Никтерис смутно представляла себе, что такое "наружу": снаружи одной залы всегда оказывалась другая, и даже дверей между ними не было, только арка — вот и все, что пленница знала о мире. Но тут девушка вспомнила: Фалька поминала как-то, что светильник, дескать, пора менять: в один прекрасный день хватишься, а он "был, да весь вышел"; должно быть, так оно и случилось? А если светильник "весь вышел", куда же он ушел? Наверное, туда же, куда и Фалька, и, как и Фалька, непременно вернется. Но девушка не могла ждать. Желание выйти сделалось непреодолимым. Надо отыскать чудесную лампу! Надо отыскать ее! Надо узнать, что все это значит!
Ниша в стене, где хранились ее игрушки и гимнастические снаряды, было завешено шторой: из-за этой шторы всегда появлялись Уэйто и Фалька, и за ней же исчезали. Как им удается проходить через твердую стену, девушка понятия не имела: мир вплоть до стены представлял собою открытое пространство, а дальше начинался, по всей видимости, сплошной камень. Однако первое и единственное, что следовало попробовать — это наощупь поискать за шторой. В зале царила непроглядная тьма: даже кошке не удалось бы поймать самую крупную мышь. Никтерис видела лучше любой кошки, но сейчас огромные глаза ничем не могли помочь девушке. По пути Никтерис наступила на осколок лампы. Пленница не носила ни туфель, ни чулок, так что кусочек мягкого алебастра, хоть и не поранил ей ногу, однако причинил боль. Девушка понятия не имела, что это, но поскольку до прихода тьмы ничего подобного в комнате не было, она решила, что предмет имеет отношение к светильнику. Засим Никтерис опустилась на колени, пошарила вокруг и, составив два осколка воедино, узнала форму лампы. Тогда девушку осенило: лампа мертва, падение — это и есть смерть, о которой она читала, не понимая значения этого слова, и тьма убила светильник. Так что же имела в виду Фалька, говоря, будто лампа "была, да вся вышла"? Ведь вот она, лампа — мертвая, изменившаяся настолько, что Никтерис ни за что бы ее не узнала, если бы не форма! Нет, теперь это не лампа; потому что все, что делало ныне мертвый предмет лампой, исчезло: а именно, яркое сияние. Так, наверное, это свет "весь вышел"! Вот что имела в виду Фалька — а раз свет вышел, он должен находиться где-то в другом месте, где-то в стене! Девушка снова встала и наощупь двинулась к занавесу.
Никогда в своей жизни Никтерис не пыталась выйти наружу, и понятия не имела, как это делается, но теперь инстинктивно принялась водить руками по стене, скрытой за шторой, отчасти ожидая, что руки пройдут сквозь камень, как Фалька и Уэйто. Но твердая скала неумолимо отталкивала ее, и девушка повернулась было к противоположной стене. Тут она ступила на кубик слоновой кости, игрушка пришлась как раз на то место, где ногу задел осколок алебастра, девушка споткнулась и рухнула вперед, вытянув руки. Стена подалась под ее ладонями, и Никтерис оказалась за пределами пещеры.
IX. СНАРУЖИ
Но увы! — "снаружи" было очень похоже на "внутри": там подстерегал все тот же враг — тьма. В следующее мгновение, однако, пришла нежданная радость — светлячок, случайно залетевший из сада. Никтерис увидала вдалеке крохотную пульсирующую искорку. Искорка то разгоралась, то затухала, с усилием проталкивалась сквозь воздух все ближе и ближе, скорее плыла, чем летела; казалось, что свет приводит в движение самого себя.
— Лампа! Моя лампа! — воскликнула Никтерис. — Это — сияние моей лампы: злая тьма выгнала его! Моя добрая лампа все время ждала меня здесь! Она знала, что я приду, и ждала меня, чтобы увести с собой!
Девушка поспешила за светляком, который тоже искал выход. Хотя пути он не знал, однако светился в темноте; а поскольку свет един по своей сущности, любой источник света может привести к другому, более яркому. Даже если Никтерис заблуждалась, полагая, что перед ней — дух лампы, однако духовное родство объединяло светляка и лампу, и при этом светляк обладал крыльями. Золотисто-зеленая лодочка, влекомая светом, скользила впереди беглянки через длинный, узкий коридор. Затем неожиданно взмыла к сводам, и в то же мгновение Никтерис натолкнулась на уводящую вверх лестницу. Прежде девушке не доводилось видеть лестниц, и ощущение подъема явилось для нее новым и странным. Как только Никтерис поднялась на самый верх (по крайней мере, так ей показалось), светлячок погас и исчез. Вокруг девушки снова сомкнулась кромешная тьма. Но когда идешь на свет, даже исчезновение его знак, указующий дорогу. Если бы светлячок продолжал сиять, Никтерис заметила бы, что лестница повернула, и поднялась бы в спальню Уэйто; но теперь, идя наощупь и прямо, пленница оказалась перед запертой дверью. После долгих попыток девушке удалось, наконец, отодвинуть задвижку — и Никтерис застыла на месте, растерянная, потрясенная, охваченная благоговейным восторгом. Что же это? В самом ли деле вокруг нее такое, или что-то странное творится в ее голове? Перед ней оказался длинный и узкий коридор, что непонятным образом обрывался, а выше и со всех сторон открывались необозримые высоты, и просторы, и дали — словно само пространство вырастало из тесного желоба. В ее комнатах никогда не бывало настолько светло — светлее, чем если бы одновременно зажгли шесть алебастровых ламп. Эти покои, испещренные диковинными прожилками и бликами, очертаниями ничуть не походили на привычные стены катакомб. Никтерис оказалась во власти отрадного замешательства, блаженного изумления — словно в волшебном сне. Она не была уверена, стоит ли на ногах или скользит по воздуху, словно светляк, а в сердце ее бьется неизъяснимая радость, увлекая ее вперед. Но о наследии своем Никтерис знала еще очень мало. Она бессознательно перешагнула порог — и вот пленница, с самого своего рождения запертая в подземных пещерах, вступила в роскошное великолепие южной ночи, в зарево полной луны. Эта луна не походила на луну нашего северного климата, эта луна напоминала расплавленное в горне серебро; то был, вне всякого сомнения, шар, — не жалкий, далекий и плоский диск на синем фоне, шар нависал совсем близко к земле и чудилось, что достаточно запрокинуть голову, и взгляду откроется его обратная сторона.
— Вот моя лампа! — воскликнула Никтерис и застыла неподвижно, полуоткрыв губы и не сводя взгляда с луны. Девушке казалось, что так стоит она в немом экстазе с незапамятных времен.
— Нет, это не моя лампа, — проговорила она спустя некоторое время. Это — мать всех ламп.
С этими словами Никтерис пала на колени и простерла руки к луне. Она не смогла бы объяснить, что у нее в мыслях, но поступком своим девушка умоляла луну оставаться такой, как есть — тем самым великолепным, сияющим, невероятным чудом, укрепленном на недосягаемом своде, жизнью и отрадой бедных девушек, родившихся и выросших в пещерах. Никтерис словно воскресла — нет, словно впервые родилась на свет. Что есть необозримое синее небо, усыпанное крохотными искорками, словно шляпками бриллиантовых гвоздей; что есть луна, которая словно бы наслаждается собственным сиянием — об этом пленница знала куда меньше, чем вы и я! — однако величайшие астрономы мира позавидовали бы восторгам первого впечатления, полученного в возрасте шестнадцати лет. Впечатление это было очень и очень неполным, однако ложным быть не могло, ибо Никтерис видела глазами, к тому предназначенными, и прозревала то, что многим мешает подметить избыток мудрости.
Едва Никтерис опустилась на колени, что-то мягко заколыхалось вокруг нее, обняло девушку, погладило, приласкало. Девушка поднялась на ноги, но ничего не увидела и не ведала, что это, столь похожее на женское дыхание. Ибо даже о воздухе она не знала ровным счетом ничего, и никогда не дышала недвижной, только что народившейся свежестью мира. Воздух поступал к пленнице только через длинные витые каналы и отверстия в камне. Еще меньше знала она о воздухе ожившем — об этом трижды благословенном благе, ветре летней ночи. Словно вино души, ветер переполнил все ее существо пьянящей, чистейшей радостью. Дышать означало познать всю полноту жизни. Ей мнилось, что в легкие она вбирает свет. Во власти чар великолепной ночи, Никтерис ощущала, что в одно и то же мгновение она сокрушена и возвеличена.
Девушка стояла в открытом проходе или галерее, что шла вдоль всей внешней стены, между бойницами, но ни разу не посмотрела она вниз. Душа ее стремилась ввысь, к раскинувшемуся над головой своду с его лампой и беспредельными просторами. Наконец, Никтерис разрыдалась, и в сердце ее снизошел покой: так ночь обретает облегчение в грозе и ливне.
А затем девушка задумалась. Нужно сберечь это великолепие! Какую невежественную глупышку воспитали из нее тюремщики! Жизнь — это великое блаженство, а у нее отняли все, оставили лишь голый скелет! Тюремщики не должны узнать, что она прозрела. Надо утаить этот дар — спрятать даже от собственного взора, схоронить в потайных уголках сердца, и радоваться сознанию, что он тут, с ней, даже если она не сможет мечтать в его присутствии, упиваться открывшимся великолепием. Девушка отвернулась от лучезарного видения, вздохнув от переполняющего душу восторга, и тихо и неслышно, ощупывая руками стену, возвратилась во тьму катакомб. Что тьма или леность поступи Времени для той, что увидела столько, сколько Никтерис — той ночью? Она возвысилась над усталостью — и над злом.
Войдя в комнату, Фалька вскрикнула от ужаса. Но Никтерис окликнула ее из темноты, веля не пугаться, и рассказала, как послышался гул, затряслись стены, и лампа обрушилась вниз. Тогда Фалька ушла и известила свою госпожу, и не прошло и часа, как новая лампа уже висела на месте старой. Никтерис показалось, что новый светильник не так ясен и ярок, как прежний, но жаловаться не стала; она и без того обладала сказочным богатством. Ибо теперь, невзирая на тягостное положение пленницы, сердце Никтерис переполняли радость и гордость; порой она с трудом удерживалась, чтобы не вскочить и не закружиться по комнате в танце, весело распевая. Засыпая, вместо расплывчатых картин девушка видела яркие видения. Воистину, бывали времена, когда Никтерис теряла покой и ей не терпелось полюбоваться на свои сокровища, но девушка урезонивала себя, говоря: "Что с того, если я весь век просижу здесь с моей жалкой и тусклой лампой, если снаружи горит лампа, которой дивятся десять тысяч крохотных сияющих светильников!"
Никтерис не сомневалась, что видела тот самый день и то самое солнце, о которых читала в книгах; отныне всегда, читая про день и про солнце, девушка представляла себе ночь и луну; когда же она читала про ночь и луну, в воображении девушки возникала только пещера и висящая в ней лампа.
X. ВЕЛИКАЯ ЛАМПА
Прошло немало времени, прежде чем девушке снова выдалась возможность выйти наружу, потому что Фалька, с тех пор, как обрушилась лампа, сделалась бдительнее и редко оставляла пленницу надолго. Но однажды ночью Никтерис, у которой слегка разболелась голова, прилегла на кровать и закрыла глаза. Она слышала, как Фалька подошла и склонилась над ее изголовьем, но, не желая поддерживать разговор, девушка лежала неподвижно, не открывая глаз. Удостоверившись, что пленница спит, Фалька оставила ее, двигаясь так неслышно, что столь необычная предосторожность заставила Никтерис открыть глаза и посмотреть ей вслед — как раз вовремя, чтобы увидеть, как Фалька исчезла, словно бы пройдя сквозь картину, висящую далеко от привычного выхода. Девушка вскочила, напрочь позабыв о головной боли, и побежала в противоположном направлении; она вышла, наощупь отыскала лестницу и поднялась на крепостную стену. — Увы! Большая комната оказалась далеко не так светла, как маленькая, только что покинутая. Почему? О горе, неизбывное горе! Великая лампа исчезла! Неужели упала и разбилась? — и чудесный свет улетел на широких крыльях, так что теперь этот блистательный светляк парит, летит сквозь другую комнату, еще более просторную, еще более великолепную! Никтерис поглядела вниз, высматривая, не лежат ли на ковре осколки абажура, но не увидела даже ковра. Однако ничего ужасного вроде бы не случилось: не было ни гула, ни землетрясения, потому что все до одного крохотные светильники сияли ярче прежнего, и по их виду никто бы не заключил, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Что, если каждый из этих крохотных светильников вырастает в огромную лампу, и, побыв ею недолго, вынужден уйти и стать еще большей лампой — снаружи, за пределами этих пределов? Ах! — то живое, невидимое, снова пришло к ней — сегодня более властное, чем в прошлый раз! — так нежно расцеловало девушку, так ласково погладило ее щеки и лоб, легко взметнуло волосы, играя с темными локонами! Но вот невесомое дуновение стихло, и все замерло. Это существо тоже ушло? Что же будет дальше? Может статься, крохотные светильники вовсе не вырастают в большие, но сперва падают один за другим и гаснут, уходят? В это мгновение снизу долетел сладостный аромат, затем еще и еще. Ах, восхитительно! Может быть, все они просто минуют ее на пути к великой лампе! Затем послышалась музыка реки: в первый раз девушка была настолько поглощена небом, чтобы обратить внимание еще и на это. Что это? Увы, увы! Еще одно милое живое существо куда-то удаляется! Все они неспешно и торжественно уходят прочь, длинной, прекрасной вереницей, один за другим, и все по пути прощаются с нею! Должно быть, так: все новые и новые дивные звуки раздавались и затихали! Все "Снаружи" уходило куда-то еще, за пределы здешних пределов, следуя за великой и чудесной лампой! И она, Никтерис, останется нынче днем одна-одинешенька в опустевшем мире! Неужели некому повесить новую лампу взамен прежней, чтобы все эти существа не уходили прочь? Опечаленная, девушка возвратилась в свои пещеры. Она пыталась утешить себя, говоря, что, по крайней мере, снаружи останутся безбрежные пространства, но при мысли об 1опустевшем 0пространстве девушка содрогнулась.
Когда ей следующий раз удалось вырваться на волю, на востоке вставал месяц: ну вот, пришла новая лампа, и теперь все будет хорошо, подумала девушка.
Можно до бесконечности описывать смену чувств в душе Никтерис, чувств более разнообразных и неуловимо-тонких, нежели бесчисленные фазы тысячи изменчивых лун. Каждое новое превращение в беспредельном мире природы переполняло душу девушки неизъяснимым блаженством. Вскорости она заподозрила, что новая луна и луна прежняя — это одно и то же, луна ушла и вернулась, подобно ей самой; но, в отличие от нее, луна то чахнет, то снова растет; луна — живая, и подобно ей, Никтерис, находится в плену пещер и тюремщиков; а когда выдается возможность, луна выходит на волю и сияет в небе. Похоже ли ее узилище на темницу Никтерис? И воцаряется ли там кромешная мгла, когда лампа покидает ее пределы? Как туда попасть? При этой мысли девушка впервые посмотрела вниз, а не только вверх и вокруг; и впервые подметила вершины деревьев между нею и ковром. То были пальмы, чьи багряные пальцы удерживали в горстях плоды; и еще эвкалипты, усыпанные крохотными коробочками пуха; олеандры с розами-полукровками; и апельсиновые деревья, в облаках юных серебристых звезд, между которыми тут и там поблескивали сморщенные золотые шары. В лунном сиянии девушка с легкостью различала цвета и оттенки, для нас невидимые, причем вполне ясно, хотя сперва приняла их за очертания и краски ковра огромной комнаты. Никтерис очень хотелось спуститься вниз, к ним, — теперь, когда она поняла, что перед ней — живые существа, только она не знала как. Девушка прошла вдоль всей стены к тому ее концу, что пересекал реку, но лестницы так и не обнаружила. Над рекой она остановилась, благоговейно глядя на струящуюся воду. Что до воды, Никтерис знала только ту, которую пила и в которой купалась; и теперь, любуясь при свете луны на темный, стремительный поток, упоенно распевающий на бегу, девушка не сомневалась, что перед ней — живое существо, проворная, торопливая змея жизни, спешащая — наружу? — куда? Тут Никтерис призадумалась: ту воду, что приносят ей в комнаты для питья и омовения, должно быть, предварительно убивают?
Однажды, поднявшись на стену, Никтерис оказалась во власти свирепого ветра. Буря ревела в кронах деревьев. По небесам неслись огромные тучи, наталкиваясь на крохотные светильники: великая лампа еще не вышла. Все было в смятении. Ветер вцепился в ее одежды и волосы и принялся трясти их, словно пытаясь сорвать. Что она сделала, чем разозлила такое ласковое создание? Или, может быть, это совсем другое существо — того же рода, только крупнее и больше, иного характера и нрава? Но все вокруг кипело яростью! Или, может статься, создания, живущие там, ветер, деревья, облака и река перессорились друг с другом? И теперь воцарится путаница и хаос? Но, пока девушка в изумлении и тревоге озиралась по сторонам, над горизонтом поднялась луна, не в пример более огромная, чем обычно, необъятная и багровая, словно и она налилась гневом оттого, что шум разбудил ее и заставил выйти поглядеть, что это еще затеяли ее дети, с чего это они так разбушевались в ее отсутствие и того и гляди разрушат все до основания. И едва луна встала, как оглушительный ветер унялся и перестал браниться столь свирепо, деревья притихли и теперь стонали не так жалобно, а тучи уже не сталкивались и не преследовали друг дружку с прежним неистовством. Словно радуясь, что одно ее появление внушило детям должное почтение, луна уменьшалась в размерах, восходя по небесной лестнице, раздутые щеки ее опали, лик прояснился и озарился умиротворенной улыбкой: спокойно и торжественно луна поднималась все выше. Но при дворе ее обнаружились измена и мятеж: не успела луна достичь вершины парадной лестницы, как тучи сошлись на совет, позабыв недавние раздоры, и, застыв неподвижно, придвинулись ближе друг к другу и принялись злоумышлять против своей госпожи. А затем, слившись воедино, они дождались, чтобы жертва подошла совсем близко, бросились на луну и поглотили ее. С небесного свода хлынули капли влаги, они лились все быстрее и быстрее, увлажняя щеки Никтерис — и ничем иным быть не могли, кроме как слезами луны, которая плакала, потому что собственные дети душили ее! Никтерис тоже разрыдалась, и, не зная, что и подумать, в смятении ушла в свою комнату.
Следующий раз девушка поднялась на стену, трепеща от страха. И луна оказалась на месте! — далеко на западе! — жалкая, постаревшая, с виду изрядно потрепанная, словно дикие звери небес изглодали ее лик, однако она по-прежнему сияла в небе, живая и невредимая!
XI. ЗАКАТ
Ничего не зная о тьме, луне и звездах, Фотоген охотился целые дни напролет. Верхом на могучем белоснежном скакуне он носился по травянистым равнинам, упиваясь солнцем, сражаясь с ветром и убивая буйволов.
Однажды утром, когда юноша выехал в поле раньше обычного, опередив свою свиту, он приметил неизвестное ему животное, что крадучись выбралось из лощины, куда еще не проникли лучи солнца. Словно стремительная тень, зверь понесся по равнине, забирая к югу, в сторону леса. Фотоген устремился в погоню, обнаружил тушу недоеденного хищником бизона и пришпорил коня. Но зверь мчался вперед огромными скачками, далеко опередив всадника, и вскорости исчез из виду. Повернув назад ни с чем, юноша встретил Фаргу, что следовал за своим подопечным так быстро, как только нес его конь.
— Что это за зверь, Фаргу? — спросил Фотоген. — Ну и бежал же он!
Фаргу предположил, что это был либо леопард, либо молодой лев, что более вероятно, судя по поступи и виду.
— Ну и трусишка! — рассмеялся Фотоген.
— Напрасно ты так уверен, — отозвался Фаргу. — Этому существу неуютно на солнце. Как только солнце сядет, он куда как осмелеет!
Едва успев договорить, Фаргу уже раскаялся в опрометчивых словах. Фотоген промолчал в ответ — и злосчастного ловчего это нимало не утешило. Но увы! — что сказано, то сказано.
— Выходит, этот презренный зверь — один из кошмаров заката, о которых поминала мадам Уэйто! — сказал себе юноша.
Он проохотился весь день, но не так увлеченно, как всегда. Он не шпорил коня изо всех сил и не подстрелил ни одного буйвола. К ужасу своему Фаргу заметил, что юноша пользуется любым предлогом, чтобы проехать дальше к югу, в сторону леса. Но едва солнце стало клониться к западу, Фотоген внезапно словно бы передумал и во весь опор поскакал к дому, так что свита потеряла его из виду. Вернувшись в замок, ловчие обнаружили коня Фотогена в стойле на своем обычном месте, и заключили, что и сам юноша уже в замке. Но на самом деле он вышел через заднюю дверь. Перебравшись через реку в верхней части долины, он снова поднялся на плато и перед самым закатом достиг опушки леса.
Плоский диск струил свет между голых стволов, и, говоря себе, что теперь-то он непременно отыщет зверя, Фотоген устремился в лес. Но уже входя, он обернулся и поглядел на запад. Алый ободок коснулся зубчатой гряды холмов. — А вот теперь мы посмотрим! — сказал Фотоген, но сказал он это в лицо тьме, силу которой еще не изведал. Едва солнце опустилось к шпицам и зубчатым кряжам, в сердце юноши забился необъяснимый страх, подчиняя его себе; и, поскольку Фотоген не испытывал прежде ничего подобного, само ощущение страха привело его в неописуемый ужас. Солнце опускалось все ниже, и страх нарастал, словно гигантская тень мира, делался глубже и темнее. Фотоген даже не мог помыслить, с чем имеет дело, настолько страх лишил его воли. Когда пылающий серп солнца погас, словно лампа, ужас юноши перерос в настоящее безумие. Словно закрылись веки — ибо не было сумерек и луна еще не взошла; ужас и тьма нахлынули вместе, и юноша воспринял их как единое целое. Он уже не был самим собой — или, скорее, таким, каким себя считал. Отвага Фотогена никоим образом не составляла с ним единого целого — он обладал отвагой, но отважен не был; теперь отвага его оставила, и юноша с трудом держался на ногах — во всяком случае, прямо стоять не мог, ибо все до одного суставы отказывались ему служить и все тело его била крупная дрожь. Он был всего лишь искрой солнца, и сам по себе существовать не мог.
Зверь подбирался к нему сзади — неслышно подкрадывался из-за спины! Фотоген обернулся. В лесу царила тьма, но в воображении юноши во тьме тут и там вспыхивали пары зеленых глаз, а у него не осталось сил даже поднять руку, в которой удерживают лук. В исступлении отчаяния он попытался собрать все свое мужество — не для того, чтобы бороться, — этого ему даже не хотелось — но для того, чтобы обратиться в бегство. Набраться смелости и бежать домой — ничего больше не приходило юноше в голову, но даже это оказалось для него невозможным. Однако то, чего он не имел, было ему с позором даровано. В лесу раздался вопль: не то визг, не то рычание, и Фотоген помчался сломя голову, словно раненая кабаном дворняга. Нельзя сказать, что бежал он сам; это страх вселился в его ноги, а Фотоген даже не догадывался, что они двигаются. Но по мере того, как юноша бежал, в нем возрождалась способность к бегству — он набирался храбрости по крайней мере для того, чтобы быть трусом. Звезды почти не давали света. Фотоген мчался сквозь травы, и никто его не преследовал. Как низко он пал, как изменился ничего общего с тем молодым охотником, что на закате поднялся по склону холма! Юноша презирал сам себя: себя, исполненного презрения, что оказался трусом заодно с самим собой, презираемым! На равнине лежала бесформенная и черная, сгорбленная туша буйвола; он далеко обогнул ее и понесся дальше, словно тень, гонимая ветром. Ибо поднялся ветер, и страх Фотогена удвоился, ибо ветер дул ему в спину. Он добежал до края долины и скатился вниз по крутому склону, словно падучая звезда. И в следующее мгновение оставшееся за спиною плато ожило и погналось за ним! Завывая, ветер мчался за ним по пятам, с гвалтом, визгом, воплями, рычанием, хохотом и трескотней, словно все лесные звери летели на крыльях ветра! В ушах юноши стоял громовой топот погони и оглушительный перестук копыт, словно со всех концов равнины к гребню холма, нависшему над юношей, скакали буйволы и антилопы! Задыхаясь, отчаянно хватая воздух ртом, Фотоген побежал к замку.
Едва беглец оказался на дне долины, над краем ее выглянула луна. Прежде Фотогену не доводилось видеть луну — разве что днем, а тогда юноша принимал ее за полупрозрачное серебристое облачко. При взгляде на луну беглец преисполнился нового ужаса — какая призрачная, жуткая, грозная! — и с каким многозначительным видом выглядывает она из-за своей садовой ограды, присматриваясь к внешнему миру! Да это сама ночь! — ожившая тьма! — ищет его, Фотогена! — невыразимый ужас спускается с небес для того, чтобы заледенить ему кровь и испепелить мозг! Юноша всхлипнул и помчался к реке, туда, где поток струился между двумя стенами, в нижней части сада. Он бросился в воду, перебрался на другой берег и без чувств рухнул на траву.
XII. САД
Хотя Никтерис старалась не задерживаться во внешнем мире подолгу и соблюдала все предосторожности, ее бы непременно разоблачили, но случилось так, что припадки, коим была подвержена Уэйто, в последнее время участились и, наконец, недуг надолго приковал колдунью к кровати. Но либо из предусмотрительности, либо в силу возникших подозрений, Фалька, что теперь вынуждена была неотлучно находиться подле госпожи и днем, и ночью, со временем вздумала запирать за собою дверь привычного выхода, так что однажды, толкнувшись в стену, Никтерис к своему изумлению и ужасу обнаружила, что камень противится ее усилиям и не позволяет пройти; и сколько бы девушка не изучала стену, ей так и не удалось понять, чем вызвана подобная перемена. Тогда Никтерис впервые ощутила гнет тюремных стен, повернулась и, в порыве отчаяния, наощупь добралась до картины, за которой как-то раз исчезла Фалька. Там девушка вскоре отыскала нужное место, при нажатии на которое стена поддалась. Сквозь проем Никтерис попала в некое подобие чулана, где слабо мерцал свет небес, синева коих поблекла в зареве луны. Из чулана пленница попала в длинный коридор, озаренный лунным сиянием, и добралась до двери. Дверь открылась под ее рукой, и, к вящей своей радости, Никтерис оказалась в том, 1другом месте, 0однако не на крепостной стене, но в саду, куда ей так хотелось попасть. Бесшумно, словно легкокрылый мотылек, она порхнула под сень деревьев и кустарников, босые ножки девушки ступали по самому мягкому из ковров, с каждым прикосновением убеждаясь, что ковер этот — живой, и поэтому-то столь ласково их привечает. Теплый ветерок реял среди деревьев, то здесь, то там, словно своенравное дитя. Никтерис закружилась в танце среди травы, то и дело оглядываясь через плечо на свою тень. Сперва девушка приняла ее за крохотное черное существо, вздумавшее поддразнить ее, но заметив, что это создание возникает только там, где она, Никтерис, заслоняет луну, и при каждом дереве, каким бы высоким и раскидистым оно не было, непременно состоит один из этих странных спутников, она вскорости научилась не обращать на тень внимания, и со временем тень стала для девушки таким же источником развлечения, как хвост для котенка. Однако среди деревьев Никтерис еще долго чувствовала себя не совсем уютно. Деревья то словно бы порицали гостью за что-то, то вообще ее не замечали, поглощенные своими делами. Переходя от одного к другому и благоговейно поднимая взгляд к таинственному, шелестящему пологу ветвей и листьев, Никтерис вдруг заметила чуть в стороне деревце, непохожее на остальные. Белое, неясное, сверкающее, раскидистое, словно пальма маленькая, хрупкая пальма с небольшой кроной, — оно стремительно росло и, вырастая, пело дивные песни. Однако в размерах это деревце не увеличивалось: да, подрастало оно быстро, но так же быстро рассыпалось на кусочки. Подойдя поближе, Никтерис обнаружила, что деревце это — водное, и сделано из точно такой же воды, что служила ей для умывания — только вода эта, без сомнения, была живая, как река, — однако, надо полагать, другого сорта, поскольку одна проворно скользила по ковру, а вторая взлетала вверх, и падала, и поглощала сама себя, и снова устремлялась ввысь. Девушка опустила ножки в мраморный бассейн — цветочный горшок, из которого росло деревце. Он был полон самой настоящей воды, живой и прохладной! — и до чего приятной, ибо ночь стояла жаркая!
Но цветы! — ах, цветы! — с ними Никтерис тотчас же подружилась. Удивительные создания! — такие добрые, такие прекрасные! — что за краски, что за ароматы — алый аромат, и белый аромат, и желтый аромат — дарили они всем прочим существам! Та, что невидима и вездесуща, забирала у них столько благоухания и уносила прочь! — однако цветы не возражали. Благоухание заменяло им язык: с его помощью цветы сообщали, что они — живые, а вовсе не нарисованные, подобно тем, что украшали стены и ковры в покоях Никтерис.
Девушка блуждала по саду, спускаясь все ниже, и вот, наконец, дошла до реки. Дальше пути не было — Никтерис слегка побаивалась проворной водной змеи, и не без причины! — так что девушка прилегла на поросший травою берег и погрузила ножки в воду, наслаждаясь напором водных струй. Долго сидела она так, на вершине блаженства, любуясь на реку, порою поднимая взгляд к ущербному лику великой лампы и следя, как луна восходит в одной части небесного свода, для того, чтобы опуститься с другой.
XIII. НЕЧТО НОВОЕ
Прелестный мотылек задел крылышками огромные синие глаза Никтерис. Девушка вскочила и побежала за ним — охваченная не охотничьим азартом, но любовью. Сердце Никтерис — как и любое другое сердце, если очистить его от обломков, — было неиссякаемым источником любви; она любила все, что видела. Но, догоняя мотылька, девушка приметила нечто, лежащее на речном берегу, и, не научившись еще бояться чего бы то ни было, поспешила прямиком туда посмотреть, что это. Добежав до места, Никтерис застыла в удивлении. Еще одна девушка — такая же, как она сама! Но что за странный вид у этой девушки! — и что за невиданный на ней наряд! — и, похоже, бедняжка не в силах двинуться! Может, она мертва? Преисполнившись жалости, Никтерис опустилась на траву, приподняла голову Фотогена, положила ее к себе на колени и принялась поглаживать бледное лицо. Прикосновение теплых рук привело юношу в чувство. Темные глаза, в коих не осталось ни искры былого огня, открылись и поглядели вверх, с губ сорвался странный звук, отголосок страха — не то стон, не то всхлип. Но, увидев склонившееся над ним лицо, юноша глубоко вздохнул и замер неподвижно, не сводя с девушки глаз: эти дивные бездны синевы, проблески небес более приветливых, словно бы излучали храбрость и умеряли его ужас. Наконец, дрожащим, исполненным благоговения голосом, пониженным до полушопота, юноша спросил:
— Ты кто?
— Я — Никтерис, — отвечала незнакомка.
— Ты — порождение тьмы и любишь ночь, — предположил юноша. Страх снова шевельнулся в его сердце.
— Может быть, я и порождение тьмы, — отозвалась Никтерис, — я с трудом понимаю, что ты имеешь в виду. Но я не люблю ночь. Я люблю день люблю всем сердцем; а всю ночь напролет я сплю.
— Как так? — спросил Фотоген, приподнимаясь на локте, и снова уронил голову на колени девушки, едва завидев луну. — Как так? — повторил он. — Я же вижу твои глаза, и они широко открыты!
Никтерис только улыбнулась в ответ и погладила светлые пряди; из его речи девушка не поняла ни слова и решила, что бедняжка не знает, что говорит.
— Так это был сон? — снова заговорил Фотоген, протирая глаза. Но тут в мыслях у него прояснилось, он вздрогнул и закричал: — Ох, кошмар, какой кошмар! Вдруг взять и превратиться в труса! — в ничтожного, жалкого, презренного труса! Мне стыдно — непереносимо стыдно! — и 1так 0страшно! Все это так ужасно!
— Чего же тут ужасного? — спросила Никтерис, улыбаясь, как улыбается мать ребенку, пробужденному от ночного кошмара.
— Все, все, — повторял юноша, — вся эта тьма и рев.
— Друг мой, — отвечала Никтерис, — никакого рева в помине нет. Должно быть, ты обладаешь редкостной чуткостью! То, что ты слышишь, — это только поступь воды и беготня той, милее которой на всем свете не сыщешь. Она невидима, я называю ее "Вездесущая", потому что она навещает всех прочих созданий и утешает их. А сейчас она забавляется от души и радует других, слегка их встряхивая, и целуя, и дуя им в лица. Ну, прислушайся: и ты называешь это ревом? Тебе бы ее услышать, когда она не в духе! Не знаю, почему, но так бывает, и тогда она и впрямь немножко ревет.
— Тут ужасно темно! — проговорил Фотоген. Прислушавшись, пока девушка его увещевала, он убедился, что никакого рева и впрямь не слышно.
— Темно! — подхватила Никтерис. — Кабы тебе оказаться в моей комнате, когда землетрясение убило мою лампу! Я тебя не понимаю. Как ты можешь называть это тьмой? Дай-ка погляжу: да, у тебя есть глаза, и притом большие — больше, чем у мадам Уэйто или Фальки — не такие большие, как мои, полагаю; впрочем, своих я не видела. Но только… ах, вот! — теперь я поняла, в чем дело! Ты ничего не видишь, потому что они такие черные! Разумеется! Тьма слепа. Но не бойся: я стану твоими глазами и научу тебя видеть. Посмотри сюда — на эти трогательные белые существа в траве, с остренькими алыми лучиками, собранными воедино. Ох, как я люблю их! Я бы весь день на них любовалась, на лапушек!
Фотоген присмотрелся к цветам и подумал, что нечто похожее он видел и раньше, только никак не может вспомнить, где. Как Никтерис никогда в жизни не видела распустившейся маргаритки, так он никогда не видел закрытого венчика.
Никтерис бессознательно пыталась отвлечь юношу, помочь ему прийти в себя; и странная, мелодичная речь прелестного создания немало помогла Фотогену позабыть о страхе.
— И ты зовешь это тьмой! — повторила Никтерис, словно сама нелепость подобной идеи приводила девушку в замешательство. — Да я могла бы пересчитать каждую прядь зеленых волос — думаю, именно это в книгах называется травой — на расстоянии двух ярдов! Ты только посмотри на великую лампу! Сегодня она светит ярче, чем обычно; не могу взять в толк, с какой стати тебе так пугаться и говорить о тьме!
Приговаривая, Никтерис поглаживала его щеки и волосы, пытаясь успокоить юношу. Но каким несчастным и жалким ощущал себя Фотоген! — и как ясно это отражалось в его лице! Он уже готов был объявить, что ее великая лампа вызывает в нем только ужас и похожа на ведьму, восставшую из гроба, однако юноша не воспитывался в неведении, как Никтерис, и даже в лунном свете понял, что перед ним — женщина, хотя прежде никогда не видел женщин столь юных и милых; и в то время как Никтерис утешала его, помогая совладать со страхом, само присутствие девушки заставляло Фотогена еще сильнее устыдиться собственной слабости. Кроме того, совсем не зная ее нрава, Фотоген опасался рассердить свою спасительницу: а вдруг она уйдет и покинет его в беде! Поэтому юноша лежал неподвижно, не смея шевельнуться; та слабая искра жизни, что еще теплилась в нем, поддерживалась только ею, а ведь если он двинется, то двинется и она, а если она его оставит, он разрыдается как ребенок!
— Каким путем тебе довелось сюда попасть? — спросила Никтерис, обхватив ладонями его лицо.
— Вниз по холму, — отвечал юноша.
— Где ты спишь? — спросила она.
Фотоген указал в направлении замка. Девушка радостно рассмеялась.
— Когда ты научишься не пугаться, тебе захочется всегда выходить со мной, — заверила она.
Про себя Никтерис подумала, что спросит незнакомку, как только та придет в себя, как ей удалось выбраться на волю: ведь наверняка и эта девушка тоже явилась из пещеры, где ее запирают Уэйто и Фалька.
— Ты только погляди на эти чудесные краски, — продолжала Никтерис, указывая на розовый куст: Фотоген не мог разглядеть на нем ни единого цветка. — Они куда прекраснее, чем краски на твоих стенах, верно? И при том живые, и так сладко пахнут!
Про себя Фотоген досадовал, что спасительница заставляет его то и дело открывать глаза, чтобы взглянуть на то, чего он все равно не видит; всякий раз юноша вздрагивал и крепче хватался за ее руку, ибо всякий раз ужас отзывался в его сердце новым приступом боли.
— Ну полно, полно! — увещевала Никтерис, — Так, право же, нельзя. Ты должна быть храброй девушкой, и…
— Девушкой! — закричал Фотоген, в ярости вскакивая на ноги. — Будь ты мужчиной, я бы убил тебя!
— Мужчиной? — повторила Никтерис. — Что это такое? Как я могу быть мужчиной? Мы обе — девушки, разве нет?
— Никакая я тебе не девушка, — отвечал Фотоген, — хотя (добавил он, изменив тон и бросаясь на траву к ее ногам), я дал тебе слишком веские основания обозвать меня девчонкой.
— Ах, теперь ясно! — отозвалась Никтерис. — Конечно же, нет! Ты никак не можешь быть девушкой. Девушки не испытывают страха — без повода. Я все поняла: ты так испугался именно потому, что ты не девушка!
Фотоген передернулся.
— Вовсе нет, — угрюмо возразил он. — Кошмарная тьма наползает на меня, пронизывает мое существо, проникает в самые кости — вот отчего я веду себя, как девчонка. Если бы только встало солнце!
— Солнце? Что это такое? — воскликнула Никтерис: теперь и она почувствовала смутный страх.
Фотоген разразился восторженным дифирамбом, тщетно пытаясь тем самым совладать со страхом собственным.
— Солнце — это душа, и жизнь, и сердце, и гордость вселенной, восклицал он. — Миры кружатся в его лучах, словно пылинки! В свете солнца сердца мужей исполнены силы и храбрости, а когда солнце заходит, храбрость убывает — исчезает вместе с солнцем, и мужчина становится таков, как я сейчас.
— Выходит, это не солнце? — спросила Никтерис задумчиво, указывая на луну.
— Это?! — с непередаваемым презрением воскликнул Фотоген. — Про эту штуку я ничего не знаю, знаю только, что она безобразна и кошмарна. В лучшем случае, это — призрак мертвого солнца. Да, так оно и есть! Вот почему у нее такой жуткий вид!
— Нет, — проговорила Никтерис после долгой, сосредоточенной паузы. Здесь ты, верно, ошибаешься. Я думаю, что солнце — призрак мертвой луны, вот почему оно куда великолепнее, если верить твоим словам. Значит, на свете есть еще одна огромная комната, в крыше которой живет солнце?
— Не понимаю, о чем ты, — отозвался Фотоген. — Но ты желаешь мне добра, я знаю, хотя не след бы тебе обзывать девчонкой беднягу, заплутавшего во тьме. Если ты позволишь мне полежать здесь, положив голову тебе на колени, я бы заснул. Ты ведь станешь хранить и оберегать меня?
— Да, конечно, — отвечала Никтерис, напрочь забывая об опасности, грозящей ей самой. И Фотоген погрузился в сон.
XIV. CОЛНЦЕ
Всю ночь напролет Никтерис и юноша оставались в сердце огромной конусообразной впадины в земле, словно два фараона в одной пирамиде. Фотоген все спал и спал, а Никтерис сидела неподвижно, чтобы не разбудить юношу и не предать его во власть страха.
Луна поднялась к высотам синей вечности: великолепие ночи достигло своего апогея. Река журчала и лепетала приглушенно и тихо, фонтан устремлялся к луне, расцветал на мгновение огромным серебряным цветком, чьи лепестки непрестанно опадали, словно снег, только с неумолчным мелодичным перезвоном, вниз, на ложе покоя; вот проснулся ветер, пронесся среди дерев, задремал и проснулся снова; маргаритки спали на ножках у ног девушки, но Никтерис и не подозревала о том, что цветы спят; розы, казалось, бодрствовали, ибо аромат их разливался в воздухе, но на самом деле они тоже спали — то было лишь благоухание их снов; апельсины таились среди листвы словно золотые лампы, а вокруг покачивались серебристые цветы — души их еще не рожденных детей; запах акации наполнял сад, словно благоухала сама луна.
Наконец, непривычная к свежему воздуху, утомившись от долгого сидения неподвижно, Никтерис задремала. В воздухе похолодало. Близился час, когда девушка обычно укладывалась спать. Она смежила веки — о, только на минутку! — и склонила голову на грудь. Вдруг глаза Никтерис снова широко распахнулись: ведь она обещала охранять сон незнакомца!
В это мгновение в мире произошла перемена. Луна свершила полный круг и теперь глядела на девушку с запада. Никтерис заметила, что лик луны изменился и поблек, словно и она тоже измучена страхом и с высокого трона узрела надвигающийся ужас. Свет ее словно бы растворялся и утекал прочь; луна умирала — уходила, гасла! Однако же все вокруг казалось на удивление ясным — яснее и отчетливее, чем когда-либо. Как может лампа дарить больше света, если у нее самой света почти не осталось? Ах, в этом-то все и дело! До чего же она истомленная, слабая! Это потому, что свет покидает великую лампу и разливается в комнате — вот почему луна кажется такой изможденной и бледной! Она все отдает! Она тает, словно кусочек сахара в воде!
С трудом превозмогая нахлынувший страх, Никтерис попыталась утешиться, глядя на спящего. Какое красивое создание! — как его назвать, девушка не знала, потому что создание рассердилось, когда она назвала его тем самым словом, с каким обращалась к ней Уэйто. И, чудо из чудес! теперь, невзирая на то, что в огромной комнате похолодало, на бледной щеке разливается цвет алой розы. Какие красивые золотые локоны рассыпались у нее на коленях! Как глубоко и ровно это существо дышит! А что это у него за невиданное снаряжение? Что-то похожее она уже видела на стенах катакомб.
Так девушка разговаривала сама с собою, а тем временем лампа становилась все бледнее и бледнее, а мир вокруг прояснялся. Что бы это значило? Лампа умирала — уходила в другое место, о котором поминало создание, заснувшее у Никтерис на коленях, — уходила, чтобы стать солнцем! Но почему вокруг посветлело еще до того, как лампа стала солнцем? Непонятно. Может, именно превращение свершает перемену? Да, так, так! — это приближение смерти преобразило мир! Девушка знала наверняка, потому что смерть пришла и за ней тоже. Она чувствовала ее приближение! Во что же превратится она, Никтерис? Во что-нибудь красивое, похожее на создание, уснувшее у нее на коленях? Хорошо бы! Как бы то ни было, это смерть, сомневаться не приходится! Ибо силы покидали Никтерис по мере того, как вокруг становилось невыносимо светло. Она скоро ослепнет! Что придет раньше — слепота или смерть?
Солнце стремительно набирало высоту. Фотоген проснулся, приподнял голову и вскочил на ноги. Лицо его просияло торжествующей улыбкой. В сердце юноши вскипел дерзкий задор — задор охотника, способного войти в пещеру льва. Никтерис вскрикнула, закрыла лицо руками и крепко зажмурилась. Затем слепо простерла руки к Фотогену, восклицая:
— Ох, мне страшно, так страшно! Что это? Должно быть, смерть! Я не хочу умирать так скоро! Я люблю эту комнату и старую лампу. Я не хочу в другие места! Это ужасно. Я хочу спрятаться. Хочу вернуться в ласковые, нежные, темные объятия всех прочих созданий. Ох, нет, нет!
— Да что с тобой, девушка? — отмахнулся Фотоген с высокомерием, присущим любому мужчине, прежде чем создание противоположного пола наставит его иному. Он стоял, глядя на Никтерис сверху вниз поверх лука, тетиву которого внимательно осматривал. — Теперь нечего бояться, дитя. Настал день. Солнце почти взошло. Гляди! — оно сейчас поднимется над гребнем вон того холма. Прощай. Спасибо, что приютила меня на ночь. Я ухожу. Не будь такой глупышкой. Если я когда-нибудь смогу что-то для тебя сделать… ну и все такое прочее!..
— Не оставляй меня, прошу, не оставляй! — молила Никтерис. — Я умираю! Умираю! Я не могу двинуться. Свет выпивает из меня все силы. Ох, мне так страшно!
Но Фотоген уже перебрался через реку, держа лук над водой в вытянутой руке, чтобы тетива не намокла. Он стремительно пересек ровное плато и взбежал по склону холма. Не слыша ответа, Никтерис отняла руки от глаз. Фотоген уже достиг вершины, и в то же самое мгновение солнечные лучи одели его сверкающим ореолом: величие короля дня снизошло на златокудрого юношу. Подобно сияющему Аполлону, он стоял на гребне холма, исполненный силы и мощи, ослепительно-яркая фигура в центре огненного смерча. Фотоген согнул пламенеющий лук и извлек из колчана светоносную стрелу. С чистым мелодичным звоном стрела сорвалась с тетивы, с победным криком Фотоген устремился вслед за нею и исчез. Сам Аполлон вознесся в небесную высь, и его колчан сеял в мире изумление и восторг. Но мозг бедной Никтерис эти стрелы пронзали раскаленными иглами. Девушка упала, и тьма сомкнулась вокруг нее. Мир превратился в огненную печь. Охваченная отчаянием, обессиленная, в агонии боли, девушка двинулась назад — с трудом, неуверенно, но настойчиво нащупывая путь обратно в келью. Когда приветная тьма катакомб заключила ее в прохладные, умиротворяющие объятия, Никтерис бросилась на кровать и крепко заснула. Она спала долго, живая пленница могилы, в то время как Фотоген наверху, упиваясь величием солнца, гонялся за буйволами среди нагорьев, ни разу не вспомнив о той, что лежала, затерянная во тьме, чье присутствие стало ему защитой, чьи глаза и руки хранили его на протяжении всей ночи. Его уделом снова стали гордость и слава; тьма и позор на время забылись.
XV. ГЕРОЙ-ТРУС
Но едва солнце склонилось к полудню, как Фотоген вспомнил прошедшую ночь в преддверии ночи наступающей, и вспомнил со стыдом. Он показал себя трусом — и не только перед самим собой, но перед девчонкой! — смельчак при свете дня, когда бояться нечего, ночью он дрожит от страха, словно жалкий раб! Что-то здесь не так, не иначе! На него, должно быть, наложили чары! Он съел или выпил что-то такое, что несовместимо с храбростью! Его застали врасплох! Откуда ему было знать, на что похож заход солнца? Неудивительно, что он с непривычки пришел в ужас, увидев ночь такой, какая она есть — а ведь зрелище и в самом деле жуткое! Кроме того, не видно, откуда ждать опасности! Его могли разорвать на куски, унести, проглотить — а он бы и не увидел, куда нанести удар! Юноша цеплялся за каждое оправдание, стремясь, как водится у людей самовлюбленных, избавиться от бремени стыда. В тот день он поражал охотников — нет, приводил их в ужас своей безрассудной дерзостью — и все для того, чтобы доказать себе: он не трус! Но презрение к самому себе не ослабевало. Только одно сулило надежду — решение снова бросить вызов тьме, на этот раз зная, что это такое. Куда благороднее выступить навстречу известной опасности, нежели очертя голову бросаться навстречу той, что кажется пустячной — а еще благороднее бросить вызов безымянному ужасу. Он сумеет победить страх и стереть пятно бесчестья. В обращении с мечом и с луком ему равных нет, сила и храбрость его известны, для таких, как он, существует только опасность. Поражения для него не существует. Теперь он знает, что такое тьма, и встретит ее приход с тем же спокойствием и бесстрашием, как сейчас. И Фотоген снова сказал: "Посмотрим!"
Когда солнце коснулось далекой, зубчатой гряды холмов, юноша стоял у подножия раскидистого бука: и не успело оно скрыться за горизонтом наполовину, как Фотоген задрожал, словно один из листьев позади него при первом вздохе ночного ветра. Как только сияющий диск исчез, юноша в ужасе помчался к долине, и страх его рос с каждой минутой. Презренный трус, он пробежал, промчался, кубарем скатился по склону холма, скорее упал, нежели нырнул в реку и, как и в первый раз, пришел в себя уже в саду, лежа на поросшем травою берегу.
Фотоген открыл глаза, но не девичьи глаза заглянули в них; то были только звезды, затерянные в пустошах не знающей солнца Ночи — кошмарного архиврага, коему он снова бросил вызов, но противостоять не смог. Наверное, девушка еще не вышла из воды? Он попытается заснуть, ибо двинуться не смеет, и, может быть, проснувшись, обнаружит, что голова его покоится на ее коленях, а над ним склоняется прекрасное смуглое лицо с бездонными синими глазами. Однако, пробудившись, Фотоген обнаружил, что по-прежнему покоится на траве, и хотя он вскочил на ноги, ощущая новый прилив храбрости, на охоту он отправился с меньшим рвением, чем накануне, и, несмотря на то, что жизненная сила солнца пульсировала в его сердце и венах, охотился в тот день без особого энтузиазма. Юноша почти ничего не ел, и задумчивость его граничила со скорбью. Во второй раз он побежден и опозорен! Неужели его отвага — не более, чем отблеск солнца в его же помыслах? Неужели он только мяч, коим перебрасываются свет и тьма? Что за жалкое он создание! Но ведь есть еще и третья попытка. Если он и в третий раз оплошает — впрочем, лучше не загадывать, что он подумает о себе в таком случае! Ведь и сейчас все достаточно скверно — а уж тогда!
Увы! — третья попытка тоже не увенчалась успехом. Едва солнце село, Фотоген обратился в бегство, словно за ним гнались легионы демонов.
Семь раз пытался Фотоген устоять перед наступлением ночи, набравшись сил минувшим днем, и семь раз терпел неудачу — каждый раз все более позорную, и растущее чувство стыда со временем затмило все солнечные часы и соединило ночь с ночью, так что муки уязвленного самолюбия, вечные самообвинения, утрата уверенности в себе лишили Фотогена и дневной храбрости тоже. В конце концов, от переутомления, от того, что, вымокнув до нитки в реке, юноша проводил ночь за ночью на открытом воздухе, и, главное, изнывая под гнетом смертельного страха и жгучего стыда, Фотоген не смог заснуть, и на седьмое утро, вместо того, чтобы поехать на охоту, он пробрался в замок и лег в постель. Железное здоровье, ради которого ведьма затратила столько сил, было подорвано: спустя час-другой юноша метался и стонал в горячечном бреду.
XVI. ЗЛОБНАЯ СИДЕЛКА
Как я уже упоминал, Уэйто сама была больна и пребывала в прескверном расположении духа; кроме того, такова особенность всех ведьм: то, что в других пробуждает сочувствие, в ведьмах пробуждает лишь отвращение. Притом, у Уэйто еще сохранились жалкие, беспомощные зачатки угрюмой совести, ровно столько, чтобы ведьма почувствовала себя неуютно — и, в результате, разозлилась еще больше. Засим, прослышав, что Фотоген болен, Уэйто пришла в ярость. Тоже мне, болен! — после того, как она столько всего сделала, чтобы насытить его жизнью вселенной, искрящейся солнечной мощью! Жалкий неудачник, вот он кто, этот мальчишка! А поскольку Фотоген был 1ее 0неудачей, ведьма негодовала на юношу, преисполнилась к нему неприязни и со временем возненавидела. Она взирала на него так, как художник посмотрит на полотно или поэт на стихотворение, которое сам же безнадежно испортил. В сердцах ведьм любовь и ненависть соседствуют рядом и зачастую сталкиваются. И потому ли, что неудача с Фотогеном опрокинула ее замыслы касательно Никтерис, или потому, что недуг еще усилил в ней дьявольское начало, но только теперь ведьме опротивела и девушка. Самая мысль о том, что Никтерис находится в замке, приводила Уэйто в ярость.
Однако же не настолько она была больна, чтобы не пойти в комнату злосчастного Фотогена и не помучить его. Ведьма объявила больному, что ненавидит его хуже змеи, и, как змея, шипела при этом; нос и подбородок ее заострились, а лоб казался необычайно плоским. Фотоген решил, что Уэйто вознамерилась убить его, и почти ничего не ел из того, что ему приносили. Ведьма приказала зашторить все окна, чтобы ни один луч света не проник в спальню больного, однако посредством этого юноша немного привык к темноте. Уэйто брала одну из его стрел, и то щекотала юношу оперенным концом, то покалывала острием, покуда на коже не выступала кровь. Какие замыслы она вынашивала, сказать не могу, однако Фотоген очень скоро вознамерился бежать из замка — а что делать дальше, об этом он подумает после. Может быть, где-то за пределами леса он отыщет свою мать! Если бы не широкие полосы тьмы, отделявшие один день от другого, он бы ничего не боялся!
Но теперь, пока юноша лежал беспомощным в темноте, из мрака то и дело возникало лицо прелестного создания, что в первую, кошмарную ночь так ласково выхаживало его: неужели он никогда больше ее не увидит? Если, как ему подумалось, она — речная нимфа, то почему она не пришла снова? Она могла бы научить его не бояться ночи, потому что она-то явно не испытывала ни малейшего страха! Но ведь когда наступил день, она словно бы испугалась — почему, ежели тогда пугаться было нечего! Может быть, та, которой так уютно во тьме, боится света! Тогда, на восходе солнца, ослепленный эгоистичной радостью, он не дал себе труда заметить состояние девушки и повел себя по отношению к ней с той же жестокостью, с какой обращалась с ним Уэйто — отплатил злом за добро! Какая она была нежная, милая, прелестная! Если есть на свете дикие звери, что выходят только по ночам и боятся света, почему бы не быть и девушкам, созданным по тому же закону — девушкам, которые не переносят света, как он не переносит тьмы! Если бы ему удалось отыскать ее снова! Он повел бы себя иначе — совершенно иначе! Но увы! — может статься, солнце ее убило — растопило — иссушило сожгло! — а ведь наверняка так, если она и впрямь — речная нимфа!
XVII. ВОЛК УЭЙТО
После того страшного утра Никтерис так и не пришла в себя до конца. Внезапная вспышка света едва не убила девушку; и теперь она лежала во тьме, терзаясь воспоминанием о пронзительной боли — и не смея вызывать ее в памяти, ибо самая мысль о ней жгла бедняжку непереносимо. Однако эта боль не шла ни в какое сравнение с той мукой, что причиняло воспоминание о грубости сверкающего создания: его, объятого страхом, она пестовала всю ночь, но едва его страдания передались ей, первое, для чего он воспользовался вернувшейся силой — это чтобы зло высмеять ее! Девушка недоумевала и дивилась; все это было выше ее разумения.
Очень скоро Уэйто задумала недоброе. Ведьма походила на капризного ребенка, которому наскучила игрушка: она готова была разорвать девушку на куски и посмотреть, что из этого выйдет. Она решила поместить Никтерис на солнце и полюбоваться, как та умрет, словно медуза из соленого океана, выброшенная на раскаленную скалу. Это зрелище утишит боль, причиняемую волком. Засим, однажды, незадолго до полудня, пока Никтерис спала самым крепким сном, ведьма приказала подать к дверям занавешенный паланкин и велела двум своим лакеям доставить девушку на равнину. Там ее, по-прежнему спящую, извлекли из паланкина, уложили на траву и оставили.
Уэйто наблюдала за происходящим с вершины своей сторожевой башни с помощью телескопа: едва Никтерис предоставили самой себе, как девушка села — и в следующее мгновение ничком бросилась на землю, пряча лицо в траве.
— Ее поразит солнечный удар, — заметила Уэйто, — этим все и закончится.
Очень скоро на равнине показался огромный горбатый буйвол с густой и косматой гривой: спасаясь от навязчивой мухи, он во весь опор мчался в сторону Никтерис. При виде лежащей девушки зверь прянул в сторону, отбежал на несколько ярдов, остановился, а затем медленно двинулся к ней с видом, ничего доброго не предвещающим. Никтерис замерла неподвижно: она не видела зверя.
— Теперь ее затопчут до смерти! — молвила Уэйто. — От этих тварей ничего иного ждать не приходится.
Подойдя совсем близко, буйвол обнюхал тело и ушел; затем вернулся и снова принюхался, и вдруг развернулся и поскакал прочь, словно демон схватил его за хвост.
Затем появилась антилопа-гну, животное еще более опасное, и поступила примерно так же, а затем — тощий дикий кабан. Но ни одно существо не причинило девушке вреда, и Уэйто вознегодовала на весь сотворенный мир.
Наконец, в тени распущенных волос, синие глаза Никтерис слегка пообвыклись, и первое, что они увидели, явилось для них утешением. Я уже рассказывал, какими Никтерис знала ночные маргаритки: каждая была для нее крохотным заостренным конусом с алым кончиком. Однажды девушка развела лучики одного цветка дрожащими пальцами, опасаясь, что поступает ужасно невоспитанно, и, может быть, причиняет бедняжке боль, однако ей ужасно хотелось узнать, что за тайна сокрыта в цветке столь надежно; так девушка обнаружила золотое сердечко. Но сейчас, прямо перед ее глазами, внутри завесы волос, росла распустившаяся маргаритка: алый кончик раскрылся в карминно-красное колечко, являя взгляду золоченое сердце на серебряном блюдечке. В ласковом сумраке черных прядей Никтерис ясно различала каждую мельчайшую подробность. Девушка не сразу узнала в ней пробудившийся к жизни конус, но спустя мгновение поняла, что это. Кто же так жесток к бедному созданию, что насильно открыл его и выставил золотое сердечко испепеляющим лучам смертоносной лампы? Кто бы то ни был, надо думать, он же бросил здесь и ее, Никтерис — сгореть заживо в жарком огне! Но у нее есть волосы, она может наклонить голову и создать вокруг себя небольшую ласковую ночь! Девушка попыталась пригнуть маргаритку к земле, подальше от солнца, и окутать ее лепестками, словно волосами, но не смогла. Увы! — цветочек, должно быть, уже сгорел и мертв! Никтерис не подозревала, что маргаритка противится ее ласковой настойчивости, потому что с присущей жизни жаждой пьет жизнь вместе со светом того, что Никтерис называла смертоносной лампой. О, как жгла девушку эта лампа!
Но Никтерис продолжала размышлять — сама не зная, как ей это удается; и со временем вспомнила, что, поскольку в огромной комнате нет иной крыши, нежели та, по которой катится огненный шар, крохотный Алый Венчик, должно быть, видел эту лампу тысячу раз и отлично с ней знаком! И лампа его не убила! Раздумывая дальше, девушка задалась вопросом: может быть, нынешнее состояние цветка более совершенно? Ведь теперь не только целое кажется совершенством (так было и раньше), но каждая отдельная деталь являет свое собственное, неповторимое совершенство, что позволяет ей слиться с остальными в высшем совершенстве единого целого. Цветок — он же сам по себе лампа! Золотое сердечко — это свет, а серебряный ободок — алебастровый абажур, искусно расколотый и широко раскрытый, чтобы явить взгляду таящееся внутри величие. Да, лучезарная ипостась — это само совершенство! Так если именно лампа раскрыла цветок, придав ему эту форму, не может быть, чтобы лампа испытывала к нему неприязнь; они, должна быть, сродни — ведь лампа сделала цветок совершенством! Снова и снова возвращаясь к этой мысли, девушка убеждалась: сходство меж ними и впрямь немалое. Что, если цветок маленький правнук лампы, и лампа его неизменно любит? И что, если лампа вовсе не хотела причинить ей, Никтерис, боль, просто иначе нельзя? Алые кончики лепестков словно опалены, как если бы и цветку однажды довелось страдать: что, если лампа и ее, Никтерис, стремится сделать лучше, открывает ее, как цветок? Надо потерпеть и поглядеть, что будет. Какой резкий оттенок у травы! Но, может быть, ее глаза не приспособлены к сиянию яркой лампы, и потому она видит все в ложном свете! Тут Никтерис вспомнила, как отличались от ее глаз глаза того создания, которое не было девушкой и боялось темноты. Ах, если бы пришла тьма и заключила ее в приветные, мягкие, вездесущие объятия! Она подождет, подождет сколько нужно, потерпит и смолчит!
Никтерис лежала без движения, и Уэйто сочла, что та лишилась чувств. Ведьма не сомневалась: ее подопечная умрет еще до того, как настанет ночь, способная оживить ее.
XVIII. СПАСЕНИЕ
Наведя телескоп на безжизненное тело, чтобы с утра сразу же его обнаружить, Уэйто спустилась с башни и направилась в комнату Фотогена. К тому времени юноше стало заметно лучше, и еще до того, как ведьма ушла, он твердо решил бежать из замка той же ночью. Тьма, безусловно, ужасна, но Уэйто еще ужаснее, чем тьма, а днем бежать невозможно. Так что, как только в доме все стихло, юноша потуже затянул пояс, подвесил к нему охотничий нож, положил в карман флягу с вином и немного хлеба, и вооружился луком и стрелами. А затем выбрался из замка и поспешил подняться на равнину. Однако в силу недуга, и ночных кошмаров, и ужаса перед дикими зверями, едва Фотоген ступил на ровное плато, он не смог сделать дальше и шагу и опустился на землю, думая, что лучше умереть, чем жить. Но сон оказался сильнее страха и вскоре сморил-таки юношу, и он растянулся на траве.
Проспал он недолго, и проснулся с таким странным ощущением уюта и безопасности, словно по меньшей мере наступил рассвет. Однако вокруг царила ночь. И небо… нет, не небо, но синие глаза его наяды глядели на юношу сверху вниз. Снова голова Фотогена покоилась на коленях девушки и все было хорошо: ведь девушка явно боялась ночи так же мало, как он — дня.
— Спасибо, — проговорил Фотоген, — ты — словно живая броня для моего сердца, ты отгоняешь от меня страх. Со времен нашей встречи я был очень болен. Ты вышла из реки и поднялась сюда, заметив, как я перебирался на тот берег?
— Я живу не в воде, — отозвалась Никтерис. — Я живу под бледной лампой, а под яркой — умираю.
— Ах, теперь я все понимаю! — воскликнул юноша. — Я бы не стал вести себя так, как в прошлый раз, если бы осознал, что происходит; но я решил, что ты потешаешься надо мной, а я так устроен, что не могу не бояться тьмы. Прости меня за то, что я тебя покинул — говорю тебе, я ровным счетом ничего не понимал. Теперь мне кажется, что ты и впрямь испугалась: так?
— Так, — отвечала Никтерис, — и испугаюсь снова. Но чего боишься ты, мне непонятно. Погляди, как нежна и ласкова тьма, как добра и приветлива, какая она мягкая и бархатистая! Тьма привлекает тебя к груди и любит тебя. Совсем недавно я лежала, слабая и умирающая, под твоей жаркой лампой. Как ты ее зовешь?
— Солнце, — пробормотал Фотоген. — Хотелось бы мне, чтобы оно поторопилось!
— Ах, не желай этого! Не торопи его, ради меня. Я могу охранить тебя от темноты, но у меня нет никого, кто бы защитил меня от света. Говорю тебе: под солнцем я умирала. И вдруг я глубоко вздохнула. Лицо мое овеял прохладный ветерок. Я подняла взгляд. Пытка кончилась, потому что смертоносная лампа исчезла. Надеюсь, она не умерла и не сделалась еще ярче. Невыносимая головная боль стихла, и зрение ко мне вернулось. Я почувствовала, словно заново родилась на свет. Но встала я не сразу, ибо была измучена. Но вот трава сделалась прохладной, и цвет ее утратил былую резкость. На травинках выступило что-то влажное, и теперь ногам стало так приятно, что я вскочила и принялась бегать взад-вперед. Я бегала долго, и вдруг нашла тебя лежащим на земле — точно так же, как недавно лежала я. Так что я села рядом, поберечь тебя до тех пор, пока не вернется твоя жизнь — и моя смерть.
— Какая ты хорошая, о прекрасное создание! Да ты простила меня еще до того, как я попросил об этом! — воскликнул Фотоген.
Так они разговорились, и юноша рассказал ей то, что знал о себе и своей жизни, а она рассказала ему то, что знала о себе, и оба сошлись на том, что следует бежать от Уэйто как можно дальше.
— Должно отправиться в путь немедленно, — проговорила Никтерис.
— Как только наступит утро, — заверил Фотоген.
— Нельзя ждать утра, — возразила девушка, — ведь тогда я не смогу двигаться, а что ты станешь делать следующей ночью? Кроме того, Уэйто видит лучше при дневном свете. Право же, надо идти сейчас, Фотоген. Верь мне: так надо.
— Я не могу, я не смею, — отозвался юноша. — Я не в силах двинуться. Едва я приподнимаю голову от твоих колен, тошнотворный ужас накатывает на меня с новой силой.
— Я буду с тобой, — успокоила Никтерис. — Я позабочусь о тебе до тех пор, пока не взойдет твое ужасное солнце, а потом можешь меня оставить и поскорее уйти. Только, пожалуйста, сперва отведи меня в какое-нибудь темное место, если такое найдется.
— Я никогда не покину тебя, Никтерис, — воскликнул Фотоген. — Только подожди немного: встанет солнце, вернет мне силу, и мы уйдем отсюда вместе и никогда, никогда больше не расстанемся.
— Нет, нет, — настаивала Никтерис, — идти надо сейчас. А ты должен научиться быть сильным в темноте, равно как и при свете дня, иначе ты навсегда останешься храбрецом только наполовину. Я уже начала — я не восстаю против твоего солнца, но стараюсь примириться с ним и понять, что оно такое и чего от меня хочет — причинить мне боль или сделать меня лучше. Ты должен так же поступить с моей тьмой.
— Но ты не знаешь, что за дикие твари живут там, к югу, — возражал Фотоген. — У них огромные зеленые глаза и они заглотят тебя, словно корешок сельдерея, дивное ты создание!
— Пойдем же, пойдем! — требовала Никтерис, — или мне придется притвориться, будто я тебя бросаю, чтобы ты пошел за мной. Я видела зеленые глаза и я спасу тебя от них.
— Ты! Как тебе это удастся? Будь сейчас день, я бы защитил тебя от самого страшного зверя. Но сейчас, из-за этой мерзкой тьмы, я даже разглядеть их не в силах! Я бы и твоих прекрасных глаз не видел, если бы не заключенный в них свет: он позволяет мне заглянуть сквозь них прямо в небеса. О да, твои глаза — окна в небеса за пределами нашего неба. Думаю, в них-то и рождаются звезды.
— Так пойдем же, или я закрою глаза, и ты их больше не увидишь, пока не станешь паинькой, — улыбнулась Никтерис. — Идем. Ты не видишь диких зверей, а я вот вижу.
— Ты видишь! И зовешь меня с собой! — воскликнул Фотоген.
— Да, — отвечала Никтерис. — И, более того, я вижу их задолго до того, как они углядят меня, так что я охраню тебя.
— Но как? — настаивал Фотоген. — Ты не умеешь ни стрелять из лука, ни наносить удары охотничьим ножом!
— Нет, но я умею держаться от них подальше. Послушай, как раз когда я нашла тебя, я играла сразу с двумя-тремя зверюгами. Я их вижу и чую задолго до того, как они подберутся ко мне совсем близко — задолго до того, как они увидят или учуют меня!
— А сейчас ты ведь никого не видишь и не чуешь? — встревоженно переспросил Фотоген, приподнимаясь на локте.
— Нет, никого. Впрочем, сейчас посмотрю, — отвечала Никтерис, легко вскакивая на ноги.
— Ох, нет, нет! Не оставляй меня — ни на минуту не оставляй! закричал Фотоген, изо всех сил напрягая зрение, чтобы не потерять во тьме ее лицо.
— Тише, или они услышат тебя, — отозвалась девушка. — Ветер дует с юга, и учуять нас они не могут. Я это уже поняла. С тех самых пор, как сгустилась милая тьма, я забавлялась с ними: то и дело чуть-чуть подставлю руку ветру, чтобы какой-нибудь хищник меня унюхал!
— Ох, жуть! — воскликнул Фотоген. — Надеюсь, больше тебе это не приходит в голову? Чем это заканчивалось?
— Всегда одним и тем же. Сей же миг хищник оборачивался, глаза его вспыхивали, и зверь мчался прямо на меня — только ты ведь помнишь, что видеть меня он не мог. Но мои глаза куда зорче, его-то я видела превосходно и обегала зверя кругом, пока не почую его — а тогда я знала, что он меня ни за что не найдет. Вот если бы ветер переменился и подул в другую сторону, целая стая ринулась бы на нас и деться нам было бы некуда. Так что лучше пойдем.
Девушка взяла его за руку. Фотоген уступил и поднялся на ноги, и Никтерис повела его прочь. Но ступал юноша с трудом, и по мере того, как шли часы, силы все больше оставляли его.
— Ох, я так устал! — и мне так страшно! — говорил он.
— Обопрись на меня, — велела Никтерис, обнимая юношу за плечи или поглаживая по щеке. — Ну, еще несколько шагов. Ведь каждый шаг прочь от замка — это шаг к спасению. Обопрись, не бойся. Сейчас я сильная и чувствую себя лучше некуда.
Так беглецы шли вперед. Зоркие ночные глаза Никтерис различали не одну пару зеленых глаз, прорезавших тьму, и девушка частенько избирала кружные пути, чтобы обойти их далеко стороной, но ни разу не помянула про них Фотогену. Она осторожно вела юношу по самой мягкой, самой нежной траве, избегая рытвин и выбоин, и ласково разговаривая с ним по пути — о прелестных цветах и звездах — о том, как уютно цветам на их зеленом ложе и как счастливы звезды там, высоко, на ложе синевы!
С приближением утра юноша приободрился, однако но безмерно устал, пройдя столь долгий путь, вместо того, чтобы спать, тем более после затянувшейся болезни. И Никтерис тоже притомилась — оттого, что всю дорогу поддерживала своего спутника, и еще из-за растущего страха перед светом, что уже забрезжил на востоке. Наконец, оба в равной мере изнемогли, и ни один уже не мог помочь другому. Словно сговорившись, беглецы остановились. Обнявшись, стояли они посреди бескрайней, поросшей травою равнины, ни один не смог бы сделать и шагу и находил опору только в слабости другого; стоило одному пошевелиться, и вторая бы не удержалась на ногах. Но по мере того, как одна слабела, другой набирался сил. Ночь шла на убыль, и день вступал в свои права; солнце уже взмывало к горизонту на пенном гребне светоносного прибоя. С приходом солнца Фотоген воскресал к жизни. И вот, наконец, солнце воспарило к небесам, словно птица — от руки Отца Света. Никтерис вскрикнула от боли и спрятала лицо в ладонях.
— Ох, — вздохнула она, — мне так страшно! Грозный свет жжет меня!
Но в тот же миг в слепоте своей она услышала, как Фотоген рассмеялся негромким, ликующим смехом, а в следующее мгновение почувствовала, как ее подхватили сильные руки: она, что всю ночь пестовала и оберегала юношу, словно дитя, теперь лежала в его объятиях, склонив голову ему на плечо, и он понес девушку словно ребенка. Однако Никтерис отличалась большей силой духа, ибо, страдая сильнее, она ничего не боялась.
XIX. ВЕРВОЛЬФ
В тот самый миг, когда Фотоген подхватил Никтерис, телескоп Уэйто яростно вращался, оглядывая равнину. Ведьма в гневе отбросила от себя прибор, побежала к себе в комнату и затворилась в ней. Там она умастила себя с головы до пят особой мазью, распустила длинные рыжие волосы и обвязала их вокруг талии; затем закружилась в танце, все убыстряя и убыстряя темп, приводя себя все в большее и большее исступление, пока на губах у ведьмы не выступила пена бешенства. Со временем Фалька принялась разыскивать госпожу, но той нигде не было.
По мере того, как вставало солнце, ветер постепенно менялся и вскорости подул с севера. Фотоген и Никтерис приближались к опушке леса. Фотоген по-прежнему нес девушку на руках. Но вот она тревожно зашевелилась и шепнула юноше на ухо:
— Я чую дикого зверя — в той стороне, откуда дует ветер.
Фотоген обернулся, поглядел в сторону замка и приметил на равнине темное пятнышко. Оно увеличивалось в размерах; оно скользило над травой со скоростью ветра. Оно неумолимо приближалось. Существо казалось длинным и приземистым — может быть, потому, что мчалось, вытянувшись в струнку. Юноша усадил Никтерис под деревом в тени ствола, натянул лук и извлек самую массивную, самую длинную, самую острую стрелу. Уже вложив стрелу в тетиву, Фотоген разглядел врага: то гигантский волк несся прямо на него. Молодой охотник наполовину извлек из ножен нож, достал из колчана еще одну стрелу, на случай, если первая подведет, прицелился — на хорошем расстоянии, чтобы иметь возможность выстрелить снова, и спустил тетиву. Стрела взвилась в воздух, полетела точнехонько в цель, попала в зверя и снова взлетела в воздух, переломившись надвое. Фотоген тут же схватил вторую, выстрелил, отбросил лук и вытащил нож. Но вторая стрела впилась в грудь волка по самое оперение, зверь перекувырнулся через голову, с глухим стуком ударился о землю, застонал, забился в судорогах и распростерся недвижим.
— Я убил его, Никтерис, — воскликнул Фотоген. — Это огромный рыжий волк!
— Ох, спасибо! — слабо отозвалась Никтерис из-под дерева. — Я знала, что ты справишься. Я ничуточки не боялась.
Фотоген подошел к волку. То было сущее чудовище. Но юноша, раздосадованный нелепым поведением первой стрелы, не хотел потерять ту, что сослужила ему столь хорошую службу; резким рывком он вытащил дротик из груди зверя. И глазам своим не поверил. Перед ним лежал… нет, не волк, а Уэйто, с волосами, обвязанными вокруг талии! Глупая ведьма считала, что сделала себя неуязвимой, однако позабыла, что, мучая Фотогена, она прикасалась руками к одной из его стрел. Юноша бегом возвратился к Никтерис и рассказал ей все.
Никтерис вздрогнула, разрыдалась и отказалась смотреть.
XX. СЧАСТЛИВЫЙ КОНЕЦ
Бежать дальше было ни к чему. Ни один из них не боялся никого, кроме Уэйто. Они оставили тело лежать на равнине и двинулись обратно к замку. Огромная туча наползла на солнце и хлынул проливной дождь; Никтерис приободрилась, зрение отчасти вернулось к ней, и, опираясь на руку Фотогена, девушка тихо побрела по прохладной, влажной траве.
Вскорости на пути им повстречался Фаргу и другие охотники. Фотоген рассказал им, что убил огромного рыжего волка, и это была мадам Уэйто. Охотники выслушали его с подобающей серьезностью, однако ликования скрыть не сумели.
— Я пойду и предам госпожу земле, — объявил Фаргу.
Но на месте обнаружилось, что тело уже захоронено — в утробах всевозможных птиц и зверей, коим вздумалось позавтракать ведьмой.
Тогда Фаргу, догнав молодых людей, весьма мудро посоветовал Фотогену отправиться к королю и рассказать ему все. Но Фотоген, оказавшийся еще мудрее Фаргу, не пожелал отправиться в путь, пока не женится на Никтерис, "ведь тогда, — говорил юноша, — сам король не сможет нас разлучить; а если двое когда-либо не могли жить друг без друга, то это Никтерис и я. Ей еще предстоит научить меня не терять мужества в темноте, а я должен оберегать ее до тех пор, пока она не привыкнет переносить солнечный зной и видеть, а не слепнуть в его лучах.
Они поженились в тот же день. А на следующее утро вместе отправились к королю и поведали ему всю историю от начала и до конца. Но кого же они встретили при дворе, как не отца и мать Фотогена, обоих — в великой милости у короля и королевы! Аврора чуть не умерла от радости и всем рассказала о том, как Уэйто солгала и убедила ее в смерти новорожденного.
Никто ничего не знал о родителях Никтерис, но когда Аврора узнала в лице прелестной девушки свои собственные лазурно-голубые глаза, сияющие сквозь ночь и тучи, странные мысли пришли ей в голову, и подумала она, что даже злые люди порою оказываются звеном, соединяющим людей добрых. Посредством Уэйто, матери, никогда друг друга не видевшие, обменялись глазами в детях.
Король подарил новобрачным замок и земли Уэйто, и там они жили и учили друг друга на протяжении многих лет, пролетевших незаметно. Но еще не минул первый год, как Никтерис уже полюбила день больше ночи, ибо день был венцом и одеянием Фотогена, и убедилась, что день великолепнее ночи, и солнце благороднее луны. А Фотоген полюбил ночь больше дня, ибо в ночи Никтерис обрела мать и приют.
— Но кто знает, — говорила Никтерис Фотогену, — когда мы уйдем, не вступим ли мы в день настолько же более великолепный, чем твой день, насколько твой день великолепнее моей ночи?






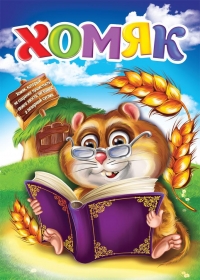


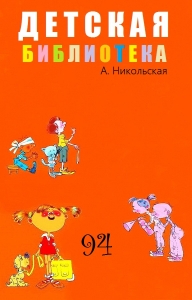


Комментарии к книге «История Фотогена и Никтерис», Джордж Макдональд
Всего 0 комментариев