Всеволод Нестайко Пятёрка с хвостиком
Вторая тайна четвертого «А»
В четвёртом «А» появилась вторая тайна.
Нежданно-негаданно, именно так, как и любят появляться тайны. У них уже была одна тайна — первая. Но о ней немного погодя.
А сейчас о второй, которая появилась в конце учебного года, в мае месяце. Кто-то из их класса совершил благородный поступок. Совершил и, как говорили в рыцарские времена, пожелал остаться неизвестным.
Весь класс прямо-таки подскакивал от любопытства:
— Кто?!
— Кто?!
— Кто?!
Все подозрительно смотрели друг на друга, но никто не признавался А случилось вот что.
В райотдел милиции, который находился через два дома от школы, вдруг кто-то позвонил по телефону:
— Товарищ дежурный! В телефонной будке возле райотдела стоит сумка с деньгами. Пожалуйста, выйдите и заберите. Только быстрее.
Голос был детский, но, мальчишеский или девчоночий, дежурный разобрать не смог.
— А ты кто? Откуда? — спросил он.
— Из… из четвёртого «А»… — начал было этот «кто-то», но потом, то ли испугался, то ли растерялся, то ли, как уже говорилось, просто пожелал остаться неизвестным, — клац! — и повесил трубку.
Когда дежурный выскочил из райотдела, в телефонной будке уже никого не было, а на полу под аппаратом действительно стояла сумка с деньгами.
Оказалось, в тот день утром кассирша одного из киевских учреждений пошла в банк за зарплатой для коллектива. Как правило, она всегда из банка звонила и за ней кого-нибудь присылали, чтобы она сама не несла деньги (потому что сумма была не маленькая — около двадцати тысяч). На сей раз она никак не могла дозвониться (что-то у них там случилось с телефоном). И вышла из банка без сопровождения. По дороге ей стало плохо, она еле дошла до скамейки в скверике, присела и потеряла сознание. Прохожие вызвали «скорую помощь». «Скорая» приехала, забрала её в больницу, и никто не заметил, что под скамейкой осталась сумка с деньгами… И вот «кто-то» из их четвёртого «А» эту сумку нашёл и передал в милицию таким не очень обычным способом.
На следующий день к ним в класс пришёл заместитель начальника райотдела милиции подполковник Кочубей. Высокий, статный, красивый, похожий на киногероя, он говорил с ними, как со взрослыми, без намёка на сюсюканье, уважительно и серьёзно, называл их товарищами.
— Товарищи! — сказал подполковник. — То, что совершил кто-то из вас, заслуживает самой высокой оценки. К сожалению, ещё попадаются люди, которые, найдя большие деньги, не удерживаются и прикарманивают их. Товарищ, который сидит среди вас, не только не сделал так, а ещё и проявил скромность, не захотел назвать себя, чтобы избежать благодарности и ценного подарка. И это ещё более увеличивает уважение к нему сотрудников органов милиции. Но всё-таки нам хотелось бы знать, кто это был. Чтобы пожать ему его честную руку и горячо поблагодарить не только от себя, но и от большого коллектива учреждения, от сотен людей, честно заработанные деньги которых лежали в той сумке…
Вот какую волнующую речь произнёс статный подполковник Кочубей.
Потом он медленным взглядом обвёл четвёртый «А». Все начали переглядываться. Все ждали, что сейчас вот-вот кто-то встанет и, скромно потупя взор, скажет: «Это я!» Но никто не встал и не сказал.
— Ну, что же… — Подполковник улыбнулся. — Пусть будет так. Но знайте, кто бы это ни был мальчик или девочка, я его (или ее) очень уважаю. От всей души желаю вам, товарищи ученики, успехов в учёбе и всего-всего наилучшего. Если когда-нибудь вам что-то будет нужно по нашей части, пожалуйста, обращайтесь. Не стесняйтесь. С радостью поможем. Будьте здоровы!
И подполковник ушёл.
Классный руководитель, учительница украинского языка и литературы Глафира Павловна, цвела, как роза, от гордости и счастья.
— Молодцы! То есть, я хотела сказать, молодец! Тот, кто это совершил. Я, конечно, понимаю, скромность украшает человека… Но… я, конечно, хотела бы знать… Я не допытываюсь, конечно… Но мне бы, конечно, было интересно…
Она обвела свой четвёртый «А» таким умоляющим взглядом, что всем стало неловко. «Неужели ты мне, своему классному руководителю, не откроешься? Неужели?!» — вопрошал её взгляд.
— Ну, признайся! Ну! — подхватилась Шурочка Горобенко.
— Это уж просто свинство! воскликнул Гришка Гонобобель.
— Представляете? Представляете? Ужас! — затараторила Люська Заречняк.
Но всё было напрасно.
Никто не признался.
За несколько последующих дней в четвёртом «А» не было поставлено ни одной двойки, ни одной единицы. Учителя воздерживались от плохих отметок. Боялись: а что, если влепят случайно двойку или единицу этому благородному человеку?
Гришка Гонобобель ликовал:
— Не знаю, люди, кто это совершил, но я лично выношу ему благодарность. Пусть совершит ещё что-нибудь. Хи-хи-хи!
Но пионерский актив во главе с Шурочкой Горобенко пришёл к выводу, что ситуация в классе создалась ненормальная и надо что-то делать. На то они и пионерский актив.
— Скромность скромностью, но так дальше продолжаться не может. Весь класс трясёт как в лихорадке. Необходимо его… или её… обнаружить! — решительно сказала Шурочка. — Надо проанализировать — кто мог, а кто не мог… и, одним словом… Будем подходить и смотреть прямо в глаза. Думаю, не такой уж он… или она… Штирлиц, чтобы ничем себя не выдать.
— Правильно! — единодушно согласился актив. И пионерский актив стал перебирать всех подряд, вспоминая и анализируя.
Давайте и мы с вами присоединимся к активу и попробуем внимательно присмотреться к ученикам нашего четвёртого «А».
С кого начнём?
Ну, возьмём для начала самого заметного и, наоборот, самого незаметного.
Гришка Гонобобель и Антоша Дудкин, или надкусанный пирожок
Гришку Гонобобеля вы, конечно, знаете.
Его все знают.
Его трудно не знать.
О! Слышите? Нет, это не землетрясение, не пожар, не стихийное бедствие… Это Гришка Гонобобель развлекается на переменке. Громкий он человек! Такие «шумовые эффекты», как он, никто в школе производить не может. Если бы проводили мировые чемпионаты по визжанию, Гришка Гонобобель безусловно занял бы призовое место.
Да что я вам рассказываю! Вы же прекрасно знаете Гришку Гонобобеля из четвёртого «А» класса.
А вот Антошу Дудкина вы, конечно же, не знаете. Его родная мама не очень знает. Такой он тихий, скромный и незаметный. Никогда не высовывается, не подскакивает, не тянет вверх руку, как некоторые. Сидит себе тихонько, как мышка. Хотя когда бы его учительница Глафира Павловна ни спросила, он всегда ответит. Не то что Гришка Гонобобель. Тот кричит только на переменках. А на уроках нем как рыба. Потому что в голове у него, как говорит техничка Олимпиада Самсоновна, — «сквозняк».
Но всё равно Гришка Гонобобель — это Гришка Гонобобель. Вы его знаете. А Антоша Дудкин — это Антоша Дудкин. И вы его не знаете. И может быть, ни я, ни вы так бы и не узнали Антошу Дудкина, если бы…
Если бы не Вася Лоб и не надкусанный пирожок.
Вася Лоб — семиклассник. Но его обходят десятой дорогой даже девятиклассники. Таким здоровяком сотворила Васю матушка-природа. Руки длинные, шея могучая, челюсти квадратные, тяжёлые. Ходит он переваливаясь на полусогнутых ногах, беспорядочно размахивая руками. Совсем как снежный человек — йети. Так его кое-кто шёпотом и называет. Когда кто-нибудь попадается ему на дороге, он, опустив голову, хмуро смотрит исподлобья и говорит только одно слово: «Врежу!» И на дороге уже никого нет. Крикливый Гришка Гонобобель с Васей говорит тихим голосом, заискивающе называет его Василий Васильевич и сладко-фальшиво улыбается.
В тот день на втором этаже по линии «бережливых» должно было дежурить второе звено четвёртого «А». Вы, конечно, знаете, что такое эти дежурства. Дело чрезвычайно серьёзное. Надо следить, чтобы был порядок, чтобы никто ничего не разбрасывал, не ковырял стены, не откручивал для развлечения краны в умывальнике, а тем более не брызгался водой, не включал без надобности электричество и так далее. Тут нужны люди авторитетные, энергичные, а то и зубастые.
А во втором звене, как назло, в тот день были «перебои с кадрами». Приближалось Первое мая, и у всех энергичных и авторитетных из второго звена хлопот было выше головы и стенгазета, и самодеятельность, и приглашение ветеранов, и всякое другое.
Одним словом, получилось так, что все разбежались, и на дежурство вышли только Антоша Дудкин и Тая Таранюк, высокая, худая, с длинной тонкой шейкой и в больших, будто с другого лица, очках. Тая была такая же тихая, как и Дудкин. И к тому же ещё страшно стеснительная. Каждые пять минут по какой-нибудь причине она краснела, да так, что у неё аж слезы выступали на глазах.
Когда они вдвоём вышли на первой перемене с красными повязками в коридор, Гришка Гонобобель так и покатился от хохота:
— Ой, держите меня! Ой, не могу! Ну и дежурные! Парочка — Мартын и Одарочка! Ой! Сейчас упаду!
Тая вспыхнула как маков цвет.
А Антоша так нахмурил брови, что они сошлись на переносице в одну линию.
Тем временем Гришка Гонобобель уже орал на весь коридор:
— Все сюда! Все сюда! Сейчас будет комедия! Ха-ха-ха! Только один день! Дежурят Антоша Дудкин и Таисия Таранюк! Все сюда! Ха-ха-ха!
К воплям крикливого Гонобобеля все уже привыкли, и никто особенного внимания на него не обращал. Хотя небольшая группка из нескольких учеников всё же образовалась. Это были хлопцы из параллельного четвёртого «Б» класса Игорь Дмитруха, Валера Галушкинский, Лесик Спасокукоцкий, Стасик Кукуевицкий и Лёня Монькин. Оно и понятно: «бешники» всегда готовы посмеяться над всегдашними своими конкурентами — «ашниками».
И вот эта группка во главе с отчаянным Гришкой Гонобобелем, хихикая, потянулась за дежурными, которые сперва медленно, а потом всё быстрее и быстрее, словно удирая, шли по коридору.
— Ой! Это же надо… Ну! Ой! — растерянно шептала на ходу Тая.
Антоша шёл молча. Только губы кусал. И вот в эту минуту из седьмого класса вышел им навстречу Вася Лоб.
В руках он держал пирожок. Укусил, скривился и швырнул надкусанный пирожок на пол под батарею.
Тая и Антоша остановились.
Тая охнула, закрыла рукой рот и поспешно отвернулась.
Антоша тоже охнул и замер. Только что красный как помидор, он вдруг стал белым как сметана. И от этого повязка на его рукаве показалась ещё краснее.
Как-то случайно он скосил на неё глаза…
В первое мгновение никто даже не понял, что произошло.
Антоша так быстро наклонился и поднял пирожок, что не все это и заметили. Все увидели только, как он тычет надкусанный пирожок прямо Васе в лицо и говорит:
— А ну, доешь!
Это была потрясающая картина: маленький, щуплый Антоша тыкал здоровенному, вдвое большему, чем он, Васе надкусанный пирожок прямо в нос и говорил: «Доешь!»
Это был просто кадр из мультфильма — заяц и медведь.
Вася так растерялся, что, вместо того чтобы сразу «врезать», обалдело спросил:
— Что-о? С пола?
— А зачем бросал?
Только тут Вася наконец опомнился, молча коротким движением ударил Антошу по руке, и пирожок полетел назад под батарею.
Антоша тоже ничего не сказал, повернулся, неторопливо пошёл к батарее, поднял пирожок, подул на него и снова протянул Васе:
— Нет! Доешь!
Кто-то хихикнул (то ли Спасокукоцкий, то ли Кукуевицкий).
Вася Лоб нахмурился:
— Ты что, амёба, не понимаешь? Ты же всю жизнь лечиться будешь!
Пирожок дрожал в Антошиной руке, но Антоша упрямо протягивал его Васе. И тут Гришка Гонобобель не выдержал:
— Да он шутит, Василий Васильевич! Он шутит. Он у нас комик, юморист! — Гонобобель подскочил к Антоше: — А ну, дай сюда! — и хотел выхватить пирожок.
Но Антоша не дал, ловко вывернулся, да ещё пребольно ткнул Гонобобеля локтем в бок.
— Ой! — вскрикнул Гришка. — Я же хотел тебя… Ну и пропадай! Дуремар!
В это время Вася опять ударил Антошу по руке, и снова пирожок полетел на пол. И когда Антоша наклонился над ним, Вася поднял ногу и здоровенным своим башмаком припечатал Антошу сзади по штанам.
Антоша распластался на полу, как щенок на льду, и проехал несколько метров аж к батарее.
Теперь уже весело захихикали и Спасокукоцкий, и Кукуевицкий, и Галушкинский, и Монькин, и Дмитруха.
А Вася Лоб сплюнул сквозь зубы и, болтая длинными руками, пошёл себе по коридору.
В это время прозвенел звонок, и все бросились по классам.
Тая помогла Антоше подняться, поспешно приговаривая:
— Вот видишь! Зачем ты с ним связывался? Оно тебе надо?.. Ну, побежали! Быстрее! Уж Глафира Павловна идёт…
Антоша хмурил брови и сопел:
— Ну, беги!.. Я сам… Беги!
Тая была примерной ученицей, никогда в жизни не опаздывала на уроки и, наконец, не выдержала — бросила Антошу и побежала в класс.
Коридор вмиг опустел, двери классов закрылись.
Антоша минуту постоял, потом вздохнул и пошёл к дверям. Только не своего, четвёртого «А», а седьмого «Б».
Постучал, приоткрыл дверь, пролепетал: «Извините» — и зашёл.
И учитель, и семиклассники — все разом удивлённо уставились на него.
Антоша поискал глазами, нашёл на задней парте Васю и решительно направился туда.
В глазах у Васи мелькнул испуг.
Антоша подошёл, молча положил на парту перед Васей надкусанный пирожок и так же молча пошёл назад.
У дверей снова пролепетал: «Извините» и вышел…
На перемене об этом знал уже весь второй этаж.
— Ой, что теперь будет?
— Ой-ё-ёй!
— Вася Лоб — это же…
— Ужас!
— Вот так, при всём честном народе, за надкусанный пирожок!..
— И кто бы подумал! Такой тихоня! Вот тебе и Дудкин!
— А что — молодец! Если все начнут швырять пирожки на пол, сколько тех пирожков понадобится.
— В Африке дети голодают, а тут некоторые пирожками разбрасываются.
— И вообще хлеб нельзя бросать на землю, за это раньше…
— Всё равно Лоб ему не простит.
— Не простит.
— Что теперь бу-уде-ет!..
Четвёртый «А» гудел как улей.
Особенно кипятился, кричал и размахивал руками Гришка Гонобобель:
— Ну, Дуремар! Вот Дуремар! Ну-у, я ему не завидую! Раз Лоб сказал, что всю жизнь Дудкин теперь лечиться будет, значит, будет. Лоб — это такой кадр… будь здоров! Ну, Дудкин! И я же его спасал, я же спасал! А он меня — локтем! Дуремар!
Антоша сидел, втянув голову в плечи, и молчал. Он снова был тихий и незаметный, как всегда. И даже не верилось, что это о нём говорят, что это он — герой приключения с надкусанным пирожком.
А после пятого урока, когда прозвенел звонок, и Глафира Павловна взяла журнал и вышла из класса, и класс весело забазарил, собираясь домой, в дверях появился вдруг Вася Лоб.
Все дружно ахнули и замерли.
Сразу стало слышно, как жужжит, бьётся об стекло муха — такая наступила тишина.
Лоб молча вертел головой, обводя тяжёлым взглядом класс. Брови его были нахмурены.
Гришка Гонобобель стоял в проходе между партами как раз перед Антошей, закрывая его собой. Поэтому Вася Антошу не увидел. И продолжал молча мрачно осматривать класс.
Нервы у Гонобобеля не выдержали.
— Вот он, Василий Васильевич! — воскликнул Гришка, оборачиваясь и выталкивая Антошу вперёд. — Чего за меня прячешься? Ишь!
Лоб, шаркая ногами, направился к Антоше.
Четвёртый «А» затаил дыхание.
Вася протиснулся в проход между партами вплотную к Антоше. Занёс правую руку назад, словно замахиваясь.
Антоша съёжился.
И вдруг Лоб резко выдернул из-за спины левую руку и широко улыбнулся.
В руке была… конфета.
— Награждаю тебя «Тузиком»! За геройство. — Потом он обернулся к Гонобобелю: — А ты… — и влепил ему звонкий щелчок. Класс разом вздохнул и дружно засмеялся.
Первая тайна четвёртого «А»
Вот такое было приключение с надкусанным пирожком.
— Дудкин — мог! — уверенно сказала Шурочка Горобенко.
— Мог! — согласился пионерский актив.
— А Гонобобель — не мог! — сказала Шурочка.
— Не мог! — единодушно согласился актив.
— И я не смогла бы, — опустив глаза и покраснев, сказала Тая Таранюк, звеньевая второго звена.
Актив вздохнул, но возражать не стал.
— И пятёрка с хвостиком у Дудкина же есть! — напомнила Шурочка.
— Ой! Правильно! — подхватил актив.
— Пойдём! — сказала Шурочка и повела актив к парте, где сидел и повторял какой-то урок Антоша Дудкин.
— Посмотри мне в глаза! — властно сказала Шурочка.
Антоша поднял голову и глянул на Шурочку своими ясными серо-голубыми глазами.
— Скажи честно, это — ты?
— Что? — растерялся Антоша.
— Это самое! Деньги! В милицию? — сверлила его взглядом Шурочка.
— Честное слово! Не я! — бухнул себя в грудь Антоша. — Честное слово!
Шурочка вздохнула. Антоша был честный хлопец и смотрел так, что не поверить ему было невозможно.
— А… а пятёрка с хвостиком? — как утопающий за соломинку, ухватилась Шурочка за последнее доказательство.
— А у тебя разве нет? — спросил Антоша. Пионерский актив испытующе посмотрел на Шурочку.
— Да вы что? Стала бы я так лукавить… Вы что?!
— А между прочим, кто первый получил пятёрку с хвостиком? Я уж и забыла, — наморщила лоб Тая Таранюк.
— Как — кто? Кум Цыбуля! — сказал Антоша.
— Точно! — Шурочка прищурила глаза. — Как это я сразу не подумала?..
И пионерский актив, как по команде, повернул головы и посмотрел на предпоследнюю парту у окна.
Давайте и мы с вами посмотрим туда…
Кум Цыбуля
Если фамилия ваша Цыбуля, то как, вы думаете, вас называют в классе?
Правильно! Кум Цыбуля. Не иначе.
Потому что в каждом классе обязательно найдётся кто-то, кто читал уже «Сорочинскую ярмарку» Николая Васильевича Гоголя.
И никуда вы от этого не денетесь.
Ничего не сделаете.
Пусть вас тысячу раз зовут Петя, никто вас Петей называть не будет.
Хоть плачьте, хоть обижайтесь, хоть жалуйтесь Глафире Павловне — не поможет ничего. Будете вы Кумом Цыбулей — «и вся игра», как говорит знакомый уже вам семиклассник Вася Лоб.
Кстати, Петя Цыбуля не плакал, не обижался и не жаловался Глафире Павловне.
Во-первых, потому, что у него был весёлый и добрый характер, он не любил обижаться, плакать, а тем более жаловаться.
Во-вторых, он с малолетства привык к этому прозвищу. Папа стал его называть так ещё с младенческого возраста (не папиного, а Петиного, конечно). И старший Петин брат, десятиклассник Алёша, тоже был Кумом Цыбулей. Да и отец их, заведующий отделом «Гастроном-торга» Александр Иванович, скажем откровенно, не избежал этого прозвища. Среди близких друзей и Александр Иванович был Кумом Цыбулей.
Но чтобы не было путаницы, мы с вами будем называть Кумом Цыбулей только Петю.
Надо сказать, что в классе его все любили. Есть же такие счастливые люди, которые сразу вызывают к себе общую симпатию. О них все так и говорят — симпатяги.
Только глянешь на него — и уже не можешь удержаться от приветливой улыбки. Круглое веснушчатое лицо, носик кнопочкой, белобрысый чубчик торчит ёжиком, а голубые ясные глаза всё время смеются. Никто никогда не видел, чтобы Кум Цыбуля хмурился, грустил, сердился или что-нибудь подобное. Даже если упадёт, ударится, только на секунду испугается — и уже сам над собой весело смеётся.
Хороший хлопец, ничего не скажешь.
И вот об этом хорошем хлопце вдруг разнёсся неожиданный слух. Его принесли на продлёнку двое «бешников» — Спасокукоцкий и Кукуевицкий.
Как вы знаете, на продлёнку, то есть группу продлённого дня, остаются не все. У кого дома есть свободные от работы родители, дедушки-бабушки, братья-сестры и тому подобное, те в большинстве случаев не остаются. Кум Цыбуля не оставался. У него был брат Алёша, десятиклассник, да ещё дедушка Пантелеймон Петрович.
Так вот, пошла сегодня группа «бешников» — продлёнщиков в Ботанический сад. Спасокукоцкий и Кукуевицкий откололись, побежали в овощной магазин выпить соку.
Глядь — а у киоска под магазином стоит за весами Кум Цыбуля и… продаёт яблоки. В синем фартуке, в берете, как заправский продавец.
Спасокукоцкий и Кукуевицкий так и присели от удивления.
Кум Цыбуля заметил их, подмигнул весело — и хоть бы что.
Спасокукоцкий и Кукуевицкий даже про сок забыли, так и не выпили. Постояли-постояли, хлопая глазами, и вернулись назад.
«Ашники», услыхав неожиданную новость, растерянно переглянулись. Как на это реагировать, в первую минуту они ещё не знали.
Только Гришка Гонобобель, который ревниво относился к популярности Кума Цыбули, позволил себе хихикнуть злорадно:
— Хи-хи! Торговец! Негоциант Цыбуля!
Да Люська Заречняк ахнула по привычке:
— Представляете? Представляете? Ужас!
Все остальные выжидали. В самом деле — кто принёс новость? «Бешники». Постоянные соперники и конкуренты. Да ещё эти Спасокукоцкий и Кукуевицкий, которые только и знают, что подхихикивают из-за чужих спин. А может, вообще брешут?! Может, наговаривают? Поэтому на всякий случай Шурочка Горобенко решила «бешников» немного осадить.
— Ну и что?! — задиристо тряхнула она головой. — Ну и торгует! И пусть! На здоровье! Нужное для людей дело. И нечего вам!
— Категорически! — поддержал её Ромка Лещенко. Он очень любил слово «категорически».
А тихий Антоша Дудкин молча мотнул головой.
И Спасокукоцкий с Кукуевицким тут же угасли, отступили и смылись.
— Но посмотреть всё-таки надо! — сказала Шурочка, когда их уже не было.
— Категорически! — опять-таки сказал Ромка.
По дороге к тому овощному, что возле Ботанического сада, говорили о торговле. О торговле вообще и о работниках прилавка в частности.
Наибольшую осведомлённость в этом деле проявила Люська Заречняк.
— Ой, вы знаете, вы знаете, — тараторила она, — работники торговли — это такие обеспеченные люди! Материально. Ужас! У одной маминой знакомой соседка по даче (на Нижних Садах) — обыкновенная себе продавщица продовольственного магазина. Так чего у неё только нет! И дача, и машина, и два цветных телевизора, дублёнка, кожаное пальто и кожаный жакет, и все пальцы в кольцах. Сплошное золото. Представляете? Представляете? Ужас!
— А что? Обвешивает, обсчитывает… Запросто! — замахал руками Гонобобель.
— А потом только раз! — и под суд, за решётку, — тихо сказал Антоша Дудкин (его мама была народным заседателем в суде).
— Категорически! — кивнул Ромка.
— Неужели и наш Кум Цыбуля хочет стать таким?! — недоверчиво проговорила Шурочка.
— А что? — снова замахал руками Гонобобель. — Запросто! И папочка его в «Гастрономторге» работает, и брат Алёша собирается в торгово-экономический поступать. Он сам говорил…
— Представляете? Представляете? Ужас! — взялась рукой за щеку Люська. — Такой симпатяга — и… Ужас!
— А! — рубанул рукой Гонобобель. — Вы же только и знаете: «симпатяга», «симпатяга»… А этот симпатяга таким кадром потом станет, что будь здоров!
— Да ну тебя! — возмущённо воскликнула Шурочка. — Тебе только бы какую-нибудь гадость сказать о ком-то!
— Не гадость, а просто… — слегка смутился Гонобобель. Они как раз проходили мимо большой крикливой очереди, которая толпилась вокруг решётчатых железных контейнеров, из которых, как диковинные зелёные тигры, выглядывали полосатые херсонские арбузы.
Толстый потный дяденька в лихо сдвинутой на затылок шляпе ругался с продавщицей:
— Вы мне насчитали три сорок пять, а с меня — три тридцать пять. Я математик. Считать умею.
Продавщица, разбитная и крикливая, презрительно смерила его взглядом:
— «Математик»! Какой же вы, мужчина, миллиметровый! Нате вам не десять, а двадцать копеек, только уходите быстрее. Не задерживайте мне очередь.
— Ваши копейки мне не нужны. Мне не деньги, а принцип! Надо правильно считать.
— Идите-идите!
— Да не задерживайте, в самом деле!
— А вы не кричите. Если бы вас обсчитали…
— Отпускайте! Отпускайте! Ну!
— А вы чего лезете? Вы тут не стояли.
— Я-а-а не стояла?! Да я лично за этой дамой! Лично!.. Я только бегала за авоськой.
— Мне принцип! Принцип! Я деньги не печатаю. Я зарабатываю честно.
Гришка Гонобобель победно глянул на Шурочку:
— О! Слышала?! А ты — «гадость» и… Жизнь надо знать! Хи-хи!
Шурочка молча отвернулась от него.
Показалась ограда Ботанического.
И вот…
Они решили близко не подходить.
— Надо деликатно, — сказала Шурочка. — Деликатно надо.
У овощного магазина был киоск с тентом, позади которого возвышались ящики, почти все уже пустые. Но за весами стоял не Кум Цыбуля, а его старший брат, десятиклассник Алёша. Действительно, в синем халате, в берете, как настоящий продавец. Впрочем, Кум Цыбуля тоже был тут. Подвязанный, видно, специально укороченным для него синим фартуком, он активно помогал Алёше: ловко насыпал яблоки из ящиков в пластмассовое ведёрко. Алёша брал у него ведёрко, ставил на весы, взвешивал и расплачивался с покупателями. Причём ведёрок было два: пока Алёша взвешивал одно, Кум Цыбуля насыпал второе. И очередь продвигалась очень быстро. Без криков, без ругани, без споров.
Видно было, что люди довольны.
— Молодцы!
— Всюду бы так!
— Хорошие ребята!
Когда кто-то новый подходил в седому старичку, который стоял в очереди последним, он вежливо повторял одну и ту же фразу:
— Продавцы извинялись, просили не занимать. Сейчас будет перерыв. Товар принимать будут.
И не успели наши «ашники» обменяться первыми впечатлениями, очередь растаяла, последний седой старичок сказал: «Премного благодарен!» — и отошёл. Алёша побежал зачем-то в магазин. Кум Цыбуля остался у киоска сам.
— Айда! Потолкуем с этим негоциантом! — махнул рукой Гонобобель.
— Только деликатно, — сказала Шурочка.
— Да деликатно-деликатно, а как же! — уже на ходу бросил Гонобобель.
Кум Цыбуля очень удивился, увидев сразу столько знакомых лиц.
— О! Привет!
— Негоцианту Цыбуле — нижайший поклон! — Гонобобель церемонно поклонился, вымахивая воображаемой шляпой. — Хи-хи!
Остальные поздоровались вразнобой.
— А что ты тут делаешь? — не совсем кстати спросила Люська (как будто бы и так не видно!).
— Брату помогаю, — просто ответил Кум Цыбуля. — Он ещё летом устроился. И подзаработать, и для практики. Он же в торгово-экономический собирается.
Эта его искренность как-то сразу обезоружила всех. Только Гонобобель продолжал выступать:
— Вот Цыбуля! Вот негоциант! Купец нижегородский! — но, увидев, что его слова не действуют, тоже скис и, чтобы как-то выйти из неловкого положения, сказал: — А ну хоть покажи, чем ты тут торгуешь?
Гонобобель перегнулся через прилавок и вдруг радостно завопил:
— Люди, смотрите, какой товар! — Он схватил из ящика большое краснобокое яблоко.
— Ой! Я шатаюсь! — ойкнула Люська.
— Кум! — Гонобобель хлопнул Цыбулю по плечу. — Дай хоть попробовать, скупердяй! Сидит на таких витаминах и… и молчит.
Кум Цыбуля смущённо улыбнулся, растерянно оглянулся, покраснел:
— По… пожалуйста! Берите! Пожалуйста!
Гонобобель тут же, не раздумывая, укусил яблоко и даже зажмурился:
— Ух-х! Вкуснотища!
Люська потянулась рукой к ящику,
— Да вы что?! — возмутилась Шурочка. — Это же не его! Это же государственные! Как так можно?
— Что значит — государственные? — чавкая и захлёбываясь, возмутился Гонобобель. — А… а государство чьё? Наше!.. Скажи, Кум!.. И настоящие работники торговли всегда найдут, как списать такую мизерню. Что-то подгнило, что-то побилось… Правда же?
Кум Цыбуля неуверенно пожал плечами, но тут же закивал, приглашая:
— Берите, берите! Пожалуйста! Пожалуйста! Берите! Чего там…
Гонобобель так вкусно жевал яблоко, с таким захлёбом вгрызался в него зубами, что отказаться было просто невозможно, не хватало сил.
И сперва Люська, а потом Ромка, Антоша и другие потянули руки к ящику.
Интересная это штука, которую можно было бы назвать «законом большинства». Если большинство что-нибудь делает, то и тебя (хотя, может быть, и не очень ты сначала хочешь) тянет какая-то сила сделать так же. Как все, так и я. А когда ещё и желание есть? Когда у тебя, можно сказать, слюнки текут — так хочется укусить это вкуснющее яблоко!
Как тут удержаться?
Шурочка быстро-быстро заморгала и опустила глаза:
— Разве что самое маленькое… Чтобы попробовать только.
Но как она ни выбирала, и ей досталось большое и красное-красное (ну и ящик!)
Она так покраснела, когда взяла яблоко, что её щёки и яблоко по цвету сравнялись. Совестливая была Шурочка.
Они стояли и дружно лопали, аж за ушами трещало, а Кум Цыбуля смотрел и ласково им улыбался.
— Ну, яблоки! Я ещё сроду таких не ела. Честное слово! Можно, я ещё одно! — Люська умоляюще посмотрела на Кума Цыбулю.
— Бери, конечно… Это макинтош. А сейчас получили «Слава победителям». Вот подождите, скоро Алёша начнёт выносить. Ещё тех попробуете…
Гришка Гонобобель, который уминал уже третье, вдруг замер. На минуту оторвал яблоко от зубов и решительно сказал:
— Нет! Хорошего понемножку! Айда, люди! Не будем мешать советской торговле. Будем деликатными, как говорит наша Горобенко.
Шурочка чуть не подавилась яблоком: вот нахал! У неё просто язык отнялся. Она не нашлась, что сказать.
А Гришка тем временем, схватив из ящика ещё одно яблоко, приветственно поднял вверх руку:
— Чао, Кум! Премного благодарен! Здорово иметь своих людей в торговле! Хи-хи! Чао!
И, хихикая, побежал прочь.
Все сразу смутились, опустили глаза и, бормоча: «Спасибо», «Благодарю», «До свидания», быстренько начали расходиться.
Через минуту Кум Цыбуля остался у киоска один.
Шурочка Горобенко и Антоша Дудкин жили в одном доме. Потому шли вместе. Шли и молчали.
Вдруг Антоша остановился:
— Слушай, а… давай вернёмся.
— Зачем? — Шурочка покраснела.
— Не знаю… Но…
— Вообще… правильно. Как будто бы украли что-то и удираем.
— Ага…
— Идём, — решительно сказала Шурочка.
Когда они выглянули из-за угла, то увидели, что Кум Цыбуля с виноватым видом говорит что-то брату Алёше, а тот растерянно чешет затылок.
Скрываясь за пустыми ящиками, они подошли ближе.
— Так сколько всего, говоришь? — спросил брат Алёша.
— Да, наверное, штук двадцать, я думаю, — вздохнул Кум Цыбуля.
— А ну, прикинем на весах.
Алёша быстренько насыпал яблоки в одно ведёрко, во второе, начал взвешивать.
— Та-ак!.. Три двести. Плюс два семьсот… Ну, набросим ещё для верности килограммчик. Может быть, ты ошибся, ты же не считал… Не будем государство обманывать. А то про нашего брата, работника торговли, только и знают: «хапуги», «спекулянты»… Мы же с тобой не такие, правда? И никогда не будем…
Кум Цыбуля молча кивнул.
— Выходит, килограммов шесть с половиной — семь. Пусть будет семь. Цена за килограмм известна. Таким образом…
Он решительно полез в карман, вынул кошелёк, начал отсчитывать деньги.
— Не вешай, братишка, нос. Мы с тобой люди рабочие. Можем себе позволить угостить друзей. Даже целый класс.
Шурочка и Антоша переглянулись.
— У тебя что-нибудь есть? — прошептала Шурочка. Антоша вытрусил карманы, вздохнул:
— Двадцать три копейки…
— Давай! У меня сорок.
Брат Алёша изумлённо вытаращился на неё, когда она, неожиданно появившись, протянула ему деньги.
— Что такое?
— За яблоки… У нас просто сейчас больше нету.
Алёша улыбнулся:
— Да нет. Не надо. За угощение же не платят.
— Какое там угощение! — воскликнула Шурочка. — Свинство с нашей стороны, а не угощение!
— Думали, работники торговли… всегда найдут… — пробормотал Антоша.
— Слушайте, а знаете что!.. — неожиданно встрепенулась Шурочка.
На следующий день из четвёртого «А» на продлёнку не остался никто.
Зато в овощном магазине у Ботанического сада такого количества добровольных помощников ещё не видели никогда. Одни носили пустые ящики, другие убирали, третьи помогали продавцам — работа нашлась всем. Даже Гришка Гонобобель и Люська Заречняк, которые Шурочкину идею сначала встретили без всякого энтузиазма и с которыми пришлось провести разъяснительную работу, и те не отставали.
В коллективе всегда работается весело. Снова тот же «закон большинства».
В этот день никто не съел ни одного яблока. Хотя всех угощали. И яблоки были вкуснейшие — «Слава победителям».
Первая тайна четвёртого «А». (Продолжение)
Вот тогда-то, в сентябре месяце, в начале учебного года, после случая с Кумом Цыбулей, и появилась первая тайна четвёртого «А».
Появилась она на следующий же день после того массового прогула продлёнки, за который у пионерского актива во главе с Шурочкой Горобенко были, конечно, неприятности. Потому что прогул всё-таки прогул и пионерский актив существует не для того, чтобы возглавлять прогулы, а для того, чтобы с прогулами бороться. И в следующий раз благородные поступки в сочетании с трудовым воспитанием надо непременно сочетать ещё и с пионерской дисциплиной. Всё это говорила пионервожатая Оксана, а Шурочка слушала и во всём соглашалась. Она прекрасно знала, что с вожатыми спорить не рекомендуется, а рекомендуется признавать свои ошибки и обещать их исправить. Этому опять-таки научила её Оксана.
Так вот, на следующий день после того случая, придя в класс, Кум Цыбуля увидел на своей парте листок из тетради в линейку, сложенный вдвое. Он его развернул и сперва удивлённо, а затем смущённо хмыкнул:
— Хм, хм… А это что такое?
Первой заглянула ему через плечо Наталочка Приходько, сидевшая с ним за одной партой. А потом уже Люська Заречняк и Гришка Гонобобель, сидевшие за ними.
На листке было написано синими печатными буквами «Кум Цыбуля» и красным карандашом выведена цифра «пять». Причём полукруг внизу у пятёрки закручивался в маленький бублик и заканчивался смешным хвостиком.
— Пятёрка с хвостиком! Хи-хи! — хихикнул Гришка Гонобобель. — Кто это тебе подбросил?
Кум Цыбуля удивлённо пожал плечами.
Четвёртый «А» был заинтригован.
Судя по тому, что стояла пятёрка, а не единица и не двойка, следовало, наверное, воспринимать это как что-то положительное. Значит, кто-то хотел отметить Кума Цыбулю.
Но кто?
Кто-то из класса?
Возможно…
Кума Цыбулю в классе любили, и после приключения с яблоками для этого были, как говорится, все основания. Но почему таким странным образом? Казалось, до сих пор никто не проявлял склонностей к подобному таинственному благородству.
К тому же никто в классе пятёрки с хвостиком не выводил. У всех пятёрки были нормальные, без хвостиков.
— Может, Глафира Павловна? — сказала и покраснела Тая Таранюк.
— Или пионервожатая Оксана? — задумчиво сказала Шурочка.
— А… а может быть, сам Вадим Григорьевич? — опять покраснела Тая Таранюк.
Четвёртый «А» переглянулся.
Это предложение ни у кого не вызвало категорического протеста.
Директор школы Вадим Григорьевич был человеком необыкновенным.
Любил всё новое, прогрессивное, неожиданное. И смело, как говорится, воплощал всё это в жизнь.
Школа у них была особенная — последнее слово науки и техники. Классы покрашены во все цвета радуги. Те, что окнами выходят на юг, — в так называемые холодные тона: синий, голубой. А те, что на север, — в тёплые: жёлтый, красный, оранжевый. Коридоры были голубые. Учёные ведь считают, что когда дети выходят из красного класса в голубой коридор, это создаёт у них смену впечатлений и психологически успокаивает.
Столовая была апельсиновая. Апельсиновый цвет, оказывается, больше всего возбуждает аппетит.
Сам Вадим Григорьевич тоже очень тонко, как говорится, использовал цветовую гамму. Глаза у него были голубые, и в весенне-летний сезон он носил голубые костюмы, отчего седина его приобретала явный голубой оттенок. (Правда, Люська Заречняк утверждала, что когда директор надевает голубой костюм, то специально моет в тот день голову подсинивающим шампунем «Фантазия». Но это, конечно, враки.) Во всяком случае, на директора приятно было смотреть. Особенно когда он улыбался. У Вадима Григорьевича была ослепительная, лучезарная улыбка, и когда в своём голубом костюме он ещё и улыбался, то казалось, что с безоблачного неба сияет ясное солнце. Но Вадим Григорьевич улыбается не всегда и не всем. Нарушителям дисциплины и двоечникам Вадим Григорьевич не улыбается никогда. Он улыбается только отличникам и активистам, которые «поддерживают его прогрессивные идеи, направленные на усовершенствование учебного процесса», как говорит завуч Вера Яковлевна. А идей у Вадима Григорьевича множество, потому что «энергии у него (как говорит опять же таки Вера Яковлевна) не меньше, чем у атомной электростанции».
Всё время Вадим Григорьевич был в хлопотах. То он строил школьный бассейн, то организовывал школьную Третьяковку, то закладывал школьный фруктовый сад… А главное, всё время неусыпно следил, чтобы уроки учителя проводили творчески, с огоньком, с фантазией — на основе, так сказать, последних достижений педагогической науки. Время от времени Вадим Григорьевич без предупреждения появлялся в каком-нибудь классе. Несколько минут сидел на задней парте тихо, слушал урок. Потом с очаровательной своей улыбкой начинал понемногу вмешиваться и незаметно, уважая самолюбие и достоинство учителя, поворачивал урок в неожиданно интересную сторону, да так, что ученики сидели раскрыв рты и слушали как заворожённые.
Что и говорить, талантливый был педагог Вадим Григорьевич. И от него всегда можно было ожидать каких-нибудь неожиданностей. Но доказать тогда ничего никто не мог. Так тайна пятёрки с хвостиком и осталась тайной. Даже больше. Потом она стала ещё загадочнее. Потому что пятёрка с хвостиком была первой, но не последней. Однако наберитесь, друзья мои, терпения. Об этом речь ещё впереди.
А сейчас давайте вернёмся к нашему пионерскому активу, который окружил предпоследнюю возле окна парту, где сидит Кум Цыбуля, и, глядя ему прямо в глаза, спрашивает:
— Ты?! Или не ты?!
— Клянусь!.. Да вы что?! Неужели вы думаете, я бы скрывал, если бы сдал деньги в милицию? Никогда! Я же вообще не умею ничего скрывать. К сожалению… — Кум Цыбуля улыбнулся.
Это была правда. Ничего скрывать Кум Цыбуля таки не умел. У него всегда всё было написано на лице.
— А кто? Как ты думаешь? — вздохнула Шурочка.
Кум Цыбуля пожал плечами, потом обвёл взглядом класс:
— А может… может, Ромка?
— Ромка?
— А что? Вы же помните… в День Победы…
Этот странный Ромка Лещенко
Если вы скажете, что самая большая для вас в жизни радость — мыть посуду, особенно жирные кастрюли, что вы готовы в любую минуту променять игру в футбол, в горелки, во что угодно на мытьё посуды, чтобы только поскрести пригоревшее дно, я вам, извините, не поверю.
Не могу я поверить, что нормальный здоровый человек может искренне увлекаться таким, мягко говоря, неувлекательным делом. И никогда не думал я, что существуют на Земле такие люди.
И вдруг…
Учёные доказали, что самые болтливые в мире — это дети от пяти до десяти лет. За день они произносят в среднем по четырнадцать тысяч слов.
Впрочем, Люська Заречняк произносит не четырнадцать, а все пятьдесят тысяч слов. Если не больше.
«Ой, вы знаете, вы знаете!.. — выкрикивает она с самого утра, едва переступив порог класса. — Представляете, представляете?.. Ужас!»
И начинает, как из пулемёта, выдавать информацию. О том, что у какой-то девочки в троллейбусе развязался шнурок, что вчера в магазин «Кулинария» на Крещатике залетел воробей и не мог вылететь, что у какой-то тёти Муси из пятнадцатой квартиры сбежало молоко, что…
Перечислить всё просто невозможно. И всё это у Люськи было одинаковым «ужасом». Представляете?
Так вот, эта самая Люська Заречняк первая принесла известие о том, что Ромка Лещенко увлекается мытьём посуды.
Не просто моет, а увлекается.
— Представляете, окна ихней кухни выходят как раз под наш балкон. Они на втором этаже, а мы на третьем. Вы не думайте, я совсем не подглядываю. Очень мне надо! Я вообще никогда не подглядываю. Подглядывать очень некрасиво. Подглядывают только невоспитанные, бессовестные люди. Терпеть не могу, когда подглядывают. Но когда тебе что-то само лезет в глаза, не будешь же ты отворачиваться. Правильно?.. Так вот, я уже давно заметила, что Ромка часто стоит возле мойки и моет посуду. У них мойка за плитой в глубине кухни. Если немного перевеситься через перила, прекрасно видно. Ну, думаю, моет, пусть себе моет. Маме, наверное, помогает, мама просила, мало ли что. Я тоже иногда мою, если попросят. Надо же дома помогать. Правильно?.. А вчера вдруг слышу мама его: «Ромочка! Да оставь ты уже эти кастрюли, я сама. Беги погуляй. Ребята уже дважды тебя звали в футбол играть». — «Перебьются! — говорит. Подождёт футбол». — «Ну что ты скажешь! — всплеснула мама руками. — Вдруг ни с того ни с сего увлёкся мытьём посуды. Сынок! Да что с тобой, в самом деле?» — «А что? — улыбается. — А если мне нравится. Не может быть такого хобби, что ли?»
Представляете? Ужас!
Гришка Гонобобель сразу весело загорланил:
— Га-га! Здорово! Кастрюльщик Лещенко! Га-га! Мойщик-помойщик! Хобби-бобби! Га-га!
Но Шурочка Горобенко, самая рассудительная и положительная в классе, на Гонобобеля сразу шикнула:
— Молчи! Ты в жизни, наверное, ложки за собой не вымыл. Чего зубы скалишь? Нечего смеяться… Но факт интересный. Я сама хоть и мою всегда посуду, но чтобы увлекаться… Надо с ним поговорить.
Ромка Лещенко не был такой крикливый, как Гришка Гонобобель, но и не был такой тихоня, как Антоша Дудкин.
Ромка был обыкновенный себе, нормальный хлопец. Среднестатистический, как сказал бы отец Шурочки, доктор экономических наук Иван Семёнович Горобенко. Когда в классе был шум, Ромка шумел. Когда в классе была тишина, Ромка сидел тихо. Были у него и пятёрки, но были и тройки, а иногда даже двойки (хотя и редко). Мог Ромка дёрнуть какую-нибудь девчонку за косу или «конский хвост», но мог и угостить ее конфетой. Одним словом, был Ромка обыкновенный среднестатистический хлопец. И потому такое необычное, прямо скажем, исключительное увлечение всех удивило.
— Однако надо быть деликатным, — сказала Шурочка. — Я сама с ним поговорю. Вы все даже не подходите близко. Ясно?
Всем было ясно. Кроме Гонобобеля.
— А я пойду. Хи-хи! — хихикнул он. Пришлось стукнуть его портфелем по голове. Действие происходило перед уроками, до зарядки. Ромка, ничего не подозревая, наспех листал учебник (что-то не успел доучить).
Шурочка застигла его врасплох.
— Слушай, — сказала она, решительно подойдя к нему. — Ты только скажи правду. Не выкручивайся. Ты же знаешь, я не люблю, когда выкручиваются. Ты это… в самом деле любишь мыть посуду?
Ромка покраснел:
— А что? Нельзя?
— Нет. Почему? Наоборот. Можно. Даже нужно. Я сама часто мою. Но чтобы любить…
Ромка покраснел ещё больше:
— А я люблю! И… и — всё! Кому какое дело! Не мешай мне, потому что я не успею. Извини…
Ромка резко отвернулся от Шурочки и снова уткнулся в учебник. Шурочка передёрнула плечами и возвратилась к обществу, которое стояло невдалеке. Обществу не надо было ничего объяснять. Общество всё слышало.
— А может, он псих? Хи-хи! — осклабился Гонобобель.
— Сам ты псих! — сказала Шурочка.
Но в голосе её не было уверенности.
Так Ромка Лещенко перестал быть обыкновенным среднестатистическим хлопцем. Человек, любящий мыть посуду, по мнению четвёртого «А», не мог быть обыкновенным.
А через несколько дней… На сей раз уже Гришка Гонобобель сделал ещё одно ошеломляющее открытие. Открытие, которое заставило весь класс серьёзно, по-настоящему заволноваться.
Гришка даже не мог вспомнить, зачем он пошёл на тот пустырь, отгороженный забором, где уже второй год собираются возводить новый дом, а покамест сваливают разный мусор. Но факт остаётся фактом — на пустырь Гришка пошёл. Отодвинул доску, залез и вдруг увидел Ромку. Ромка был один и возился в овраге, что-то делал. Что именно, Гонобобель не видел — мешали бурьяны.
«Сейчас я его испугаю!» — злорадно подумал Гришка и стал подкрадываться к Ромке. Чем ближе он подкрадывался, тем больше его удивляло то, что Ромка делал. Ромка, пыхтя от натуги, перетаскивал здоровенный камень. Гришка сперва подумал, что он чего-то строит, играет во что-то.
Но вот Ромка положил камень на землю, отдышался, прошептал:
«А теперь назад!» — схватил и потащил его на то место, где он раньше лежал.
Это была глупая, бессмысленная, ненужная работа. И делал её Ромка с трудом, через силу. Зачем? Для чего?
У Гонобобеля вдруг взмокли ладони. Мысль напугать Ромку вмиг выветрилась из головы. Гришка сам испугался.
Чьи-то непостижимые действия, которым ты не можешь дать объяснения, всегда почему-то пугают.
Осторожно, чтобы не привлечь к себе Ромкиного внимания, Гонобобель стал пятиться, потом пошел боком, потом повернулся и бросился бежать…
— А что я говорил! Что я говорил! Он псих! Точно! Псих! Ненормальный! Точно! — размахивал на следующий день в классе руками Гонобобель.
Все стояли молчаливые, угнетённые.
— А ты не выдумываешь? Не врёшь? — внимательно взглянула прямо в глаза Гонобобелю Шурочка.
— О! — черкнул себя рукой по шее Гонобобель.
— Может… может, и в самом деле… — тихо и перепуганно промолвила Люська Заречняк.
— Считаю, надо сказать его маме, — неуверенно посмотрел на Шурочку Антоша Дудкин.
— Ага! — уже решительно сказала Шурочка. — В таких случаях всегда надо обращаться к докторам. И чем раньше, тем лучше.
Но сказать Ромкиной маме они не успели… Это было как раз накануне Дня Победы.
И в тот день у них была встреча с Героем Советского Союза гвардии капитаном в отставке Юрием Сергеевичем Гавриленко.
Когда он появился в коридоре, сопровождаемый взволнованной и непривычно подкрашенной Глафирой Павловной, Люська Заречняк ойкнула:
— Ой! Так это же наш сосед! Ром! — Она обернулась к Ромке. Ромка лишь нахмурил брови и ничего не сказал. Он был сам не свой. Впрочем, он всегда хмурил брови, когда Люська болтала.
Но Люська была Люська. Недаром она произносила в день пятьдесят тысяч слов.
И не успел Герой дойти до дверей четвёртого «А», как весь класс уже знал, что он работает обыкновенным инженером на каком-то киевском заводе, что живёт в их доме почти год, а Люська даже понятия не имела, что он Герой Советского Союза, потому как ведёт себя очень скромно, со всеми первый здоровается и даже детям в дверях уступает дорогу, что машины у него нет и на работу он ездит на велосипеде.
Юрий Сергеевич Гавриленко был невысокого роста, худощавый, седоватый, сероглазый, весьма из себя невидный. Только правая щека возле уха была покрыта красными рубцами. И хоть был он в белом свитере, который закрывал всю шею, можно было догадаться, что и шея покрыта рубцами тоже.
Он заметно волновался, смущался, краснел, и Глафире Павловне пришлось буквально по слову вытягивать из него рассказ о его подвигах. Откровенно говоря, рассказывал не столько он, сколько Глафира Павловна (как потом выяснилось, она его давно знала и еле уговорила выступить в классе на День Победы — он был очень стеснительный и не любил рассказывать о себе).
Однако он был-таки настоящий Герой. И то, что он совершил, мог сделать только Герой. Обыкновенному человеку это было не под силу.
Во время войны он был танкистом, командиром танка. Как-то ранней весной сорок третьего года в жестоком танковом бою он подбил два танка гитлеровцев. Но подбили и его. Машина загорелась. Он вытащил из пылающего танка сперва раненного в обе ноги башенного стрелка. Потом, несмотря на то что сам был раненый и обгорелый, снова полез в танк и вытащил контуженного водителя, который был без сознания. А потом под пулями, под взрывами снарядов от воронки к воронке он два километра по очереди перетаскивал их обоих по мокрому снегу, перемешанному с землёй, к реке. Наши огневые рубежи были на том берегу. И Юрий Сергеевич, вскинув себе на спину раненого башенного стрелка, пополз по льду через речку. Был март, лёд уже непрочный, к тому же снаряды надырявили много прорубей. И вот посреди речки они вдруг провалились под лёд. Мало того, что башенный стрелок был ранен в обе ноги, он ещё и не умел плавать. И сразу же пошёл на дно. Трижды нырял Юрий Сергеевич в ледяную воду, пока вытащил его. Еле добрались они до берега. А на той стороне остался контуженный водитель… И Юрий Сергеевич пополз назад. Обгорелый, раненный в плечо, мокрый и обессиленный вконец.
Четвёртый «А» слушал не дыша. И каждый словно на себе ощущал, как страшно печёт обгоревшая кожа, как от малейшего движения всё тело пронизывает нестерпимая боль.
Они потом молчали минуты две, не меньше.
Глафира Павловна видела, какое впечатление произвёл на них рассказ, и тоже молчала.
Наконец Шурочка тихо спросила:
— Скажите, а… а как вы всё-таки смогли? Это же было так… так…
Юрий Сергеевич смущённо улыбнулся и пожал плечами:
— Не знаю… Я думаю, в этом виноваты кастрюли.
Все удивлённо переглянулись.
Он снова улыбнулся:
— Понимаете, был у меня дед, Гервасий. По отцу. Мы к нему на лето в село ездили. Полный Георгиевский кавалер. Четыре Георгиевских креста имел. Герой двух войн. Японской, девятьсот четвёртого, и первой мировой, империалистической. Я его спрашивал: «Дедушка, ну объясните… ну как это люди становятся героями? Как?» И он мне сказал: «Если хочешь, Юрко, стать человеком, чего-то в жизни достичь, научись, сынок, делать то, чего делать не хочется. Потому что делать то, что приятно, что с удовольствием делается, все умеют. А вот то, что трудно, неприятно, больно даже, умеют далеко не все. Но именно те, которые умеют, чего-то в жизни и достигают. Запомни!» Я эти дедушкины слова не раз вспоминал. Тогда, в детстве, больше всего не любил я мыть посуду, особенно жирные кастрюли. До войны ж горячей воды в кранах, как теперь, не было. На примусе грели, на керогазе. Жили мы вчетвером: я, мама, сестрёнка моя младшая (ещё в школу не ходила) и парализованная тётка, мамина сестра. Папы не было, умер. Мама с утра до ночи на работе (на двух службах работала). Разрывалась, конечно, не успевала. Но никогда ничего меня не заставляла. Сама всю грязную посуду, что за день насобирается, поздно вечером мыла. Я тогда только во второй класс перешёл, жалела меня, малого. Так вот, после тех дедушкиных слов, вернувшись в Киев, взял я себе за правило каждый день мыть посуду. Даже плакал поначалу втихомолку, так это было мне неприятно. А потом втянулся, привык. И появилось у меня упрямство какое-то, настойчивость в достижении цели. Помню, хлопцы даже удивлялись. Как-то сорванец один закинул новенькую чернильницу-невыливайку нашей одноклассницы в грязнющую глубокую яму с водой (мы тогда носили чернильницы-невыливайки в специальных таких торбочках, которые затягивались шнурком). Девочка очень плакала — мачеха у неё была суровая, жестоко бранила, если что пропадало. Никто из хлопцев лезть в яму не отваживался, очень уж она была грязная и глубокая. А я пересилил и страх свой, и брезгливость, разделся, нырнул и достал чернильницу. Никогда не забуду глаз той девочки… Так что, думаю, во всём виноваты кастрюли… ну и дед, конечно. — Он снова улыбнулся.
Все, как по команде, повернули головы и посмотрели на Ромку. Ромка густо-густо покраснел и опустил глаза… Домой расходились молча.
Никто не сказал Ромке ни слова.
На следующий день Гришка Гонобобель впервые в жизни вымыл после себя тарелку.
* * *
А ещё через день Ромка получил пятёрку с хвостиком. Это было совсем недавно.
То была самая последняя пятёрка с хвостиком. Свеженькая, ещё даже тёплая.
Но когда пионерский актив подошёл к Ромке и поставил, как говорится, вопрос ребром, Ромка только усмехнулся и сказал:
— Девчонки, я вас очень уважаю, но… Мне кажется, не там вы ищете. Не туда смотрите. Людей не знаете, дорогие руководители. Я бы на вашем месте обратил пристальное внимание… ну хотя бы… хотя бы на Толю Красиловского.
Актив переглянулся.
— Ой! Правильно! — сказала Тина Ярёменко, звеньевая первого звена.
Толя Красиловский был в её звене.
Толя Красиловский
Толя посмотрел в окно и вздохнул.
Из подъезда вышли и направились к воротам Люся Гулина и Богдан Цыпочка. У обоих через плечо были переброшены коньки. Гулину вела за руку мама, Цыпочку бабушка.
«На фигурное катание потопали, — хмыкнул Толя. — Тоже ещё — фигуристы! Цыпочка! В детском саду был недотёпа из недотёп. Не то что ходить, стоять по-человечески не умел. Всё время шлёпался на землю. Штаны сзади всегда грязные были. А теперь ишь, фигурист!»
Не прошло и минуты, двери подъезда снова отворились и вышел Гена Степовецкий, которого ещё с детского сада называли не иначе как Крокодил Гена. Крокодила Гену вела за руку старшая сестра, девятиклассница Марина. И он, и она несли яркие полиэтиленовые кульки.
«В бассейн похромали, — опять хмыкнул Толя. — В чемпионы рвутся! Кроль, брасс, баттерфляй…»
Не успел он всё это подумать, как вслед за Геной и Мариной из подъезда вышел Алик Ивасюта. Его вела за руку мама — высокая пышноволосая красавица в синем вельветовом платье с блестящими пуговицами. Алик нёс папку с нотами, а мама — скрипку в футляре.
«О! И этот на свою музыку намылился, — в третий раз хмыкнул Толя. — Будущий Паганини!» Так говорят про него мама и три тётки, которые живут все вместе в одной здоровенной квартире на пятом этаже. Вот именно — Паганини! Наталочка Приходько, живущая на одной площадке с Ивасютами, говорила, вроде бы её папа сказал, что когда Алик пиликает на скрипке, у него начинают болеть зубы. Толя хмыкнул в четвёртый раз. И тут же вздохнул. «Ну, чего ты?! — сказал он сам себе. — Чего ты хмыкаешь?! Расхмыкался! Признайся, что ты просто завидуешь им… Ничтожество! Никудышник!»
Ему стало больно. Несколько дней назад та же Наталочка Приходько, которая учит сразу три языка — английский, французский и немецкий, — и которая с недавних пор стала не Наталочка, а Натали (с ударением на последнем слоге, потому что именно так произносится по-французски её имя), так вот, эта самая Натали Приходько сказала, что её мама сказала, что воспитанием детей надо заниматься как можно с более раннего возраста, что если не выявить вовремя способностей, то даже из самого способного ребёнка ничего не выйдет, а вырастет просто никудышник, ничтожество.
Ничтожество! Толя тогда же посмотрел в словарь — что это такое.
«Ничтожество — ничтожный, мелкий человек». Мелкий…
Толя вздохнул.
Ещё совсем недавно было так хорошо! Все они ходили в детский сад.
Вместе играли. Было весело. Люся Гулина и Богдан Цыпочка были обыкновенные себе Люська и Богдан, которых можно было стукнуть по спине, бегая в горелки. И Алик Паганини не знал, где у скрипки смычок, а где всё остальное. А Натали Приходько не то что на трёх иностранных — на родном украинском языке двух слов слепить была не в состоянии.
Но только пошли они в школу — и началось! Родители словно головы потеряли. Словно наперегонки бросились — как бы к самому выдающемуся, самому модному делу своего ребёнка приспособить. И растащила судьба Толиных друзей от него за какой-нибудь месяц. То, бывало, каждый вечер во дворе носятся дотемна, во что-то играют, бегают, визжат так, что пенсионеры, забивающие на детской площадке «козла», передёргиваются нервно. А теперь… Натали Приходько иностранные слова зубрит. Алик Паганини гаммы смычком выпиливает. Цыпочка и Гулина кренделя на льду выписывают. Крокодил Гена в бассейне мокнет. Лишь Толя один как палец слоняется, ничтожество…
Может быть, и он бы не хуже других и на льду кренделя выписывал, и в бассейне плескался, и слова иностранные зубрил. Да… некому его водить. Родители его лекторы общества «Знание», в разъездах всё время. А бабушка Марыля хворая («обезножела», как сама говорит). Не столько она его, сколько он её досматривает. И в магазины бегает, и в дом приносит. И вообще всё, что надо, делает. Хорошо, что она хоть обед варит да по хозяйству, прихрамывая, справляется.
Впрочем, если бы бабушка Марыля и не «обезножела», а была бойкая, как Цыпочкина, кто знает, водила бы она его по тем бассейнам и каткам или нет. Как-то у них в семье не принято было его водить. Даже в детский сад он всегда сам топал. Благо что недалеко, полквартала всего, и улицу переходить не надо.
Он уже думал: может, самому куда-нибудь записаться и ходить. Но так и не отважился. Ещё те дяди и тёти в секциях на смех поднимут: чего, мол, такой шпингалет приполз, порядка не знаешь, что ли? И не запишут. Только стыда наберёшься. И почему он был так уверен, что не хуже других и на льду, и в бассейне, и слова иностранные… А может, как раз и не вышло бы ничего! В позапрошлом году, когда с родителями в Евпатории на море был, как он испугался, соскользнув с папиной спины на глубоком месте… Думал, что всё, конец. Воды сразу нахлебался. И потом три дня в море боялся заходить. А на скрипке так точно не смог бы. Это же как минимум слух нужно иметь. А у них в семье — ни у папы, ни у мамы, ни у бабушки Марыли. Откуда ж у него возьмётся? Вот и выходит, что настоящее он ничтожество.
Толя снова вздохнул.
Уроки уже давно сделаны. Читать и писать он ещё в детском саду научился, теперь эти уроки ему раз плюнуть. Что же делать, чем заняться?
— Пойди, радость моя, погуляй! — словно прочитав его мысли, крикнула из кухни бабушка Марыля. — Гляди, погода какая! Последние денёчки. Скоро дожди начнутся. Пойди, мой дорогой, пойди…
И Толя без особого желания, просто чтобы не спорить с бабушкой, надел курточку и, хлопнув дверью, вышел из дому.
На детской площадке играли дети. Но одни были младше Толи, другие старше ни с теми, ни с другими он, как говорится, не «контачил». И даже не глянул в ту сторону. А пошёл на задний двор, где стоял старый, покосившийся двухэтажный дом с выбитыми стёклами. Людей из него давно выселили, собирались снести, но почему-то не сносили. И он стоял, неудержимо привлекая вечной тайной покинутого жилья. По комнатам гулял ветер, вороша на полу обрывки каких-то старых газет и бумаг. На стенах таинственно шуршали ободранные обои и время от времени со звоном хлопала сорванная с петель форточка.
Детям категорически запрещалось даже подходить к этому дому, но как же здорово играть тут в прятки, в войну, в сыщиков-разбойников! Они прозвали его «старым замком». Сколько незабываемых часов провела тут их компания в то последнее лето перед школой! Эх, жаль, что они все теперь так заняты. Здорово было бы, если бы…
И вдруг Толя вспомнил, что сегодня на большой перемене Натали Приходько говорила, будто она вчера вечером слышала, как в подвале «старого замка» что-то мяукало. Посмотреть бы, но… ей же идти на французский, а потом на английский, не говоря уже про немецкий. Люся Гулина заахала и сказала, что ей, к сожалению, тоже надо на фигурное. «Подумаешь, мяукало, — сказал Крокодил Гена. — Помяукало-помяукало и перестало» — «Нет, надо бы, конечно, посмотреть: может, котёнок?..» — сказал Алик Паганини. Однако больше никто ничего не сказал, потому как переменка кончилась.
Толя подошел к «старому замку» и прислушался.
Тихо.
«Крокодил Гена был-таки, наверное, прав, — подумал он. — Помяукало-помяукало и перестало». Но на всякий случай позвал:
— Кис-кис-кис!
И вдруг откуда-то снизу, из-под лестницы, послышалось слабое приглушённое мяукание. Узкая деревянная лестница на второй этаж начиналась сразу у дверей. За лестницей чернел большой квадратный вход в подвал. Крышка была оторвана и лежала в стороне.
Толя приблизился к чёрному квадрату и снова позвал:
— Кис-кис-кис!
В ответ — жалобное, отчаянное, поспешное:
— Мяу-мяуу-мяу!.. Мяу! Мяууу…
Так мяукают, только взывая о помощи. Наверное, это был котёнок — такое слабое и бессильное было мяукание.
Толя наклонился.
Из подвала дохнул на него мокрый, гнилой холод. Где-то глубоко внизу, в чёрной, непроницаемой темноте, светились два маленьких зелёных глаза. Толя вздрогнул и отшатнулся. Котёнок, видимо, почувствовал его испуг и мяукнул коротко и безнадёжно:
— Мяу!
«Эх, ты! Он второй день в холодном сыром подвале пропадает, выбраться не может, а ты — боишься. В самом деле — ничтожество ты! Никудышный!»
Будто не сам он себе, а кто-то благородный и мужественный говорил ему эти слова. Но как побороть, пересилить скользкий, холодный страх, который от живота расползается по всему телу и делает его немощным и бессильным? Как?
Тут никто не поможет. Никто. Только ты сам.
Котёнок снова мяукнул.
— Погоди! Я сейчас, сейчас… — дрожащим голосом тихо проговорил Толя и вялыми, непослушными ногами сделал шаг вперёд. Он видел только две первых ступеньки. И ступил на них. Шаг… ещё шаг… ещё…
— Ай!
Он не успел даже испугаться.
Он испугался, когда уже лежал внизу.
Хорошо, что под лестницей в подвале была куча тряпья — мешков, старых одеял и ещё какого-то барахла. Толя мягко упал на эту кучу и даже не ушибся.
Он взглянул вверх и увидел: лестницы в подвал не было, все ступеньки, кроме тех двух, вверху, были сломаны, выбиты. И тут Толя похолодел. Словно не на мягком тряпье он лежал, а на холодной льдине, в которую вмёрзло его тело.
Глаза постепенно привыкли к темноте. Он уже различал какие-то диковинные предметы. Странная лодка выплывает кормой из мрака (поломанная деревянная кровать), а на ней что-то рогатое (старый велосипед), а с другой стороны невообразимая гора поломанных стульев, сундуков и ещё чего-то совсем уже в темноте непонятного и неразличимого…
Он ахнул и отдёрнул руку — она натолкнулась на что-то живое и дрожащее.
— Мяу! — виновато мяукнул котёнок.
Толя осторожно протянул руку и привлёк котёнка к себе. Котёнок был не такой уж и маленький — среднего, а то и старшего кошачьего возраста. Но страшно худой, сплошные рёбра.
— Как же ты попал сюда?
Котёнок замурлыкал, изгибая спину.
— Что же нам теперь делать? Как вылезти? А ну, постой…
Он старался на ощупь в темноте найти что-нибудь такое, что можно было бы подставить под лестницу и выкарабкаться. Но вскоре убедился, что ничего из этого не выйдет: до уцелевших ступенек было очень высоко.
Новая волна отчаяния охватила его.
Ну что он за неудачник такой!
Цыпочка с Гулиной где-то сейчас во Дворце спорта кренделя на льду выписывают. Крокодил Гена в бассейне баттерфляем, как бабочка, порхает. Алик Паганини какую-то рапсодию смычком вышивает. А он, ничтожество, в подвале… Они людьми станут. Фигуристами, чемпионами, лауреатами. Их по телевизору показывать будут. А он… хотел котёнка вытащить, да и то… Самого теперь вытаскивать нужно.
Толя не выдержал и заплакал.
Он редко плакал. И сейчас, плача, сам себя убеждал, что плачет не потому, что ему страшно, а потому, что ему жаль бабушку Марылю. Как же она, бедная, будет переживать, как будет волноваться, когда он не придёт домой!
Наверху послышались шаги.
Толя встрепенулся, хотел уже позвать на помощь, но в последний миг испугался, что это же его могут поднять на смех («Провалился, никудышник!»), но и не крикнуть уже было невозможно (полная грудь воздуха), и, сам не зная, как это у него вышло, он громко… мяукнул:
— Мяу!
Сверху ослепительно сверкнул свет электрического фонарика. Донёсся удивлённый голос:
— О! А ты как тут очутился?!
Отец Алика Паганини, Захар Власович Ивасюта, был самый высокий у них во дворе — два метра пять сантиметров. Ему не нужны были никакие лестницы. Он просто соскочил в подвал. Взял Толю и котёнка, выставил наверх, потом подтянулся на руках и вылез сам. Всё это заняло не больше чем полминуты.
— Ишь! — улыбнулся Захар Власович, отряхивая Толю своей большой мягкой рукой. — Я и не подозревал, что ты такой… Герой! Молодец! Сам в тёмный подвал за котёнком полез. Ишь!
Толя прижал котёнка к груди и глянул исподлобья на Захара Власовича смеётся или нет. Но ни в голосе, ни в глазах не было и тени насмешки. Скорее наоборот.
Кроме того, что Захар Власович был у них во дворе самый высокий, он был ещё и самый уважаемый. Мастер завода «Арсенал», депутат райсовета, орденоносец, во время праздничных демонстраций он всегда стоял на правительственной трибуне среди знатных людей столицы. Толя не раз видел его по телевизору. А все, кого он видел по телевизору, были для него людьми необычайными.
Толя опустил голову, чтобы отец Алика не заметил, что он плакал. Тот, кажется, не заметил. Положив руку Толе на плечо, он повторил:
— Молодец! — Потом перевёл дыхание и сказал: — Не знаю, полез бы мой Паганини или… Не уверен. Хотя он хлопец добрый. Это ж он меня попросил. Котёнок, говорит, в подвале мяукает, наверное, вылезти не может. У меня сегодня отгул. А они па музыку торопились. — Захар Власович скривился:
— Эх! Нужна ему эта скрипка… как корове седло! Не станет он музыкантом всё равно. И сам мучается, и… Да разве объяснишь? Они, братец, не догоняют, как теперь говорят. Но их же четверо. Женщины, братец, это…
Ивасюта махнул рукой.
И то, что этот большой уважаемый человек говорил с ним так откровенно, искренне, как со взрослым (даже на жену и её сестёр жаловался), наполнило Толино сердце радостью. И ему вдруг стало жаль Алика Паганини. А он ему так завидовал!..
И ещё он неожиданно подумал: вот самого же Захара Власовича не водили, наверное, ни в бассейн, ни на музыку, а он…
И в мире, как в телевизоре, у которого был сперва выключен звук, а потом его вдруг включили, — всё вокруг забурлило радостно и звонкоголосо. На какой-то миг Толе показалось, что на небе вспыхнула радуга. Так бывает, когда сквозь слезы посмотришь на солнце.
* * *
Это случилось ещё в первом классе, три с половиной года назад.
Но все узнали об этом только в прошлом году, в третьем классе. Сам Толя не выдержал, рассказал Ромке, с которым сидел за одной партой.
А тогда он просил Захара Власовича никому ничего не говорить, даже своему сыну Алику. И Захар Власович слово сдержал — не рассказал.
Кстати, Алик скрипку свою таки бросил. Во втором классе на музыку он уже не ходил.
И Богдан Цыпочка фигурное катание бросил. Перешёл было на хоккей, но бросил и хоккей. Мама решила, что хоккей слишком «травматический» вид спорта. И после некоторых шишек и синяков собственноручно вынесла Цыпочку на руках с ледовой площадки. С тех пор он посещает шахматную секцию.
А вот Люся Гулина фигурным катанием ещё занимается, хотя выдающихся успехов покамест не достигла.
И Крокодил Гена ходит в бассейн. Хотя тоже чемпионом ещё не стал.
Наибольших результатов достигла Натали Приходько. Важность и нужность изучения иностранных языков она доказала на практике.
К ним в школу прибыла однажды делегация немецких пионеров из города Лейпцига, побратима нашего Киева. И Натали Приходько так бойко «шпрехала» с ними по-немецки — четвёртый «А» просто диву давался.
Толя после этого решил всерьёз взяться за английский. Купил несколько тоненьких книжечек для внеклассного чтения и заставил себя их читать.
Не без того, что тут помогло и влияние его друга Ромки Лещенко, который, как вы знаете, по-настоящему закалял свой характер. И теперь, в упор посмотрев на звеньевую первого звена Тину Ярёменко, Шурочка сказала:
— Что же, по-моему, Красиловский — мог!
Но Толя их уверенность развеял в один миг:
— Я же тогда болел. Вы что — забыли?
И Шурочка вспомнила: действительно, в тот день, когда случилось это событие с деньгами, Толи Красиловского в школе не было. Он был болен ангиной. И Шурочка с Тиной ещё ходили его проведывать. И застали там Ромку Лещенко.
Шурочка посмотрела на Ромку. Ромка улыбался. Он прекрасно всё помнил, но ему хотелось проверить, как относится актив к его другу, что он думает о нём. И теперь Ромка был доволен.
— Слушайте, — сказала редактор стенгазеты Натали Приходько. — А чего это мы всё время только на мальчишек думаем? Полковник же сказал, что дежурный не разобрал — мальчик или девочка. Почему это не могла бы быть, например… ну, например, Грацианская?
— Или Миркотан? — подхватила Тая Таранюк.
Аллочка Грацианская и Люба Миркотан
Аллочка Грацианская очень хорошенькая девочка.
Да что я говорю — хорошенькая. Просто красивая. Не будем бояться этого слова. Создаёт же иногда матушка-природа такое диво. Пышные, чёрные как смоль волосы. И синие-синие глаза. И длинные мохнатые ресницы. И пухленькие розовые губки. И ровненький носик. И ослепительная белозубая улыбка. И ямочки на щеках. Ну просто не к чему придраться.
Всё красивое.
И по характеру симпатичная.
Красивые, как вы знаете, часто бывают заносчивые, капризные, самовлюблённые.
А Грацианская — ничего подобного. Добрая, воспитанная, щедрая. Всегда поделится и конфетами, и жевательной резинкой, и стерженьками для авторучки. И улыбается всем приветливо. Ни с кем не ссорится, не ругается. Если нужно, и на уроке подскажет, списать даст (она отличница). Одним словом, хорошая девочка, и всё.
Если среди хлопцев все больше всего любили Кума Цыбулю, то среди девчонок — её, Аллочку Грацианскую.
И никто не мог понять, почему Люба Миркотан вдруг так невзлюбила её. Люба на Аллочку не могла спокойно смотреть. В глазах у неё всегда была неприязнь и презрение. Иногда казалось, что Люба готова даже ударить Аллочку. Всех это очень удивляло. Девочки не раз спрашивали Любу:
— Ну почему ты её так не любишь?
— Не люблю, и всё, — цедила та сквозь зубы.
— Но почему? Она же такая хорошая девочка. Всем нравится.
— Всем нравится, а мне не нравится.
— Без причины?
— Без причины.
Девочки только плечами пожимали.
Один лишь Гришка Гонобобель поддерживал Любу:
— Чего привязались? Ну, не нравится. Подумаешь! Кому что. Хи-хи!
Ну тот вообще всех презирал, над всеми хихикал.
И если бы Люба от природы была девочкой злой, недоброжелательной. А то ведь нет. Она была доброй, приветливой со всеми. Со всеми, кроме Аллочки.
— Да она просто ревнует, — решила Люська Заречняк, — что Аллочка красивее её.
Действительно, Люба тоже была хорошенькая, но, конечно, не такая яркая, как Аллочка.
Кто его знает. Чужая душа, как говорят, потёмки, в чужую душу не влезешь.
Люба и Аллочка жили в одном дворе. Аллочка — в фасадном доме (том, что выходит на улицу), а Люба — во флигеле (том, что в глубине двора).
Может, всё-таки что-то между ними было, какая-то ссора. Впрочем, Аллочка клялась девочкам, что никогда в жизни не ссорилась с Любой, никогда не сделала ей ничего плохого, нистолечко. Несколько раз она пробовала откровенно поговорить с Любой, выяснить, как говорится, отношения. Но ничего из этого не вышло.
— Я к тебе ничего не имею, — презрительно говорила Люба, глядя Аллочке прямо в глаза. — Что ты хочешь? Чтобы я бросилась тебе на шею, как другие? Извини, мне не хочется! — И уходила.
Аллочка очень переживала из-за такого Любиного отношения, переживала искренне, девочки это видели и сочувствовали ей.
Аллочка привыкла к ласковому, нежному отношению, привыкла, что её все любят, что ею любуются. Как я уже говорил, её любили все — и родные, и близкие, и знакомые, и малознакомые. Не говоря уже о родителях, о папе и маме.
Но, наверное, никто так не проявлял своей любви, как баба Надя.
Баба Надя, или Надежда Сергеевна, жила во флигеле, там, где и Люба Миркотан. Только Люба — на третьем этаже, а Надежда Сергеевна — на первом. Когда-то она работала паспортисткой в домоуправлении, но давно уже была на пенсии. Мужа своего, Григория Ивановича, который работал бухгалтером на заводе «Транссигнал», она похоронила лет десять назад и жила одна (детей у них не было).
Аллочка знала Надежду Сергеевну с первых дней своей жизни. Собственно говоря, это Аллочка назвала её бабой Надей. Потому что Надежда Сергеевна заменила маленькой Аллочке родную бабушку. Дело в том, что одна родная Аллочкина бабушка, мамина мама, жила в Запорожье со вторым своим мужем. Вторая родная бабушка, папина мама, жила в Одессе с папиной сестрой и её детьми, то есть своими внуками. Приехать они не могли.
Родители Аллочки работали. Мама, Инна Аркадьевна, преподавала в политехникуме связи. Папа, Борис Иванович, руководил в спорткомитете. Присматривать за Аллочкой было некому.
В яслях она часто болела.
Увидев тяжёлое положение Грацианских, Надежда Сергеевна сама предложила свои услуги. Родители не знали, как её благодарить.
— Ах, Надежда Сергеевна, как мы вам обязаны! Вы наш добрый ангел-хранитель! Что бы мы без вас делали? — не раз говаривали и папа, и особенно мама.
Родители пробовали предлагать Надежде Сергеевне деньги, но та категорически отказывалась.
— Она же мне как родная! Я же её так люблю! — говорила Надежда Сергеевна, глядя на Аллочку увлажнёнными глазами.
Более добрых глаз, более доброго взгляда Аллочка не видела ни у кого. И руки у неё были добрые, мягкие, тёплые, ласковые. Аллочка и сейчас помнит лёгкое прикосновение этих рук. Особенно когда они обнимали её, прижимали к груди. Тогда Аллочка слышала, чувствовала, как бьётся бабы Надино сердце.
И пахло от бабы Нади очень приятно. Всю жизнь, как она говорила, душилась она одними духами, которые дарил ей когда-то муж и которые назывались так необычно и таинственно — «Манон». Этот особенный, нежно-пряный запах волновал Аллочку. И квартира у бабы Нади была очень уютная. Маленькая, двухкомнатная, заставленная старой мебелью, которой теперь уже ни у кого нет. Чёрный шкаф. Буфет буквой «Н», с двумя тумбочками по бокам и двумя зеркалами между ними. Клеёнчатый диван с высокой спинкой, наверху которой снова-таки было овальное зеркало. Так называемый трильяж — туалетный столик с тройным зеркалом.
Это обилие зеркал в маленькой квартире делало её больше, просторнее.
Аллочка любила, когда баба Надя приводила её к себе.
Особенно нравилось Аллочке рассматривать старые фотографии в большом сером альбоме с фиалками на виньетке. Больше всего привлекали её фотографии бабы Нади в детстве.
— Ой! Это ты? Ты тоже была пионеркой? Ой, как интересно!
— А как же! Будьте уверены! «Здравствуй, милая картошка, тошка, тошка… пионеров идеал…» — напевала баба Надя, и Аллочка звонко смеялась.
Однако особых чувств у самой бабы Нади фотографии детства почему-то не вызывали. А вот те, где она была сфотографирована со своим мужем, светлооким, русоволосым и стройным, всякий раз оживляли её. Она нежно гладила их своей мягкой рукой и говорила:
— Вот это мы в Сочи. А это в Никитском ботаническом саду, в Крыму. Видишь, под пальмой. Это в Мисхоре, это в Гурзуфе. А это в Ливадийском дворце. Возле льва. Видишь, там такие львы на лестнице. Мы с Григорием Ивановичем весь Крым, весь Кавказ объездили. Будьте уверены! Мы на месте не сидели. Мы любили путешествовать… — Она вздыхала и медленно проводила рукой по фотографии.
Она очень любила своего мужа.
Однажды (Аллочке тогда было уже лет пять с половиной) баба Надя сказала смущённо и виновато:
— Рыбка моя! Просто не знаю, что и делать. Мне сегодня так надо было бы съездить на кладбище. Сегодня такой день… А родители твои сразу после работы идут в театр, даже домой не заедут. Просто не знаю…
— Так давай съездим! — не задумываясь, воскликнула Аллочка. — Я ещё никогда не была на кладбище. Мне интересно.
— Нет. Твои родители будут недовольны. Кладбище — это такое место…
— А мы им ничего не скажем, — заморгала глазами Аллочка.
— Так нельзя. Обманывать родителей — это…
— А мы их не будем обманывать, — лукаво улыбнулась Аллочка. — Если они спросят, мы скажем. А если не спросят, то… Мы не будем обманывать.
— Солнышко моё, — растрогалась баба Надя. — Ну, ладно! Возьму грех на душу.
Они довольно долго ехали трамваем, пока доехали до Байкового кладбища. Баба Надя купила цветы, и они пошли по тенистым аллеям мимо многочисленных гранитных и мраморных памятников. В чаще пели птицы, на памятниках качалось солнечное кружево. Было красиво и совсем не страшно.
— Сегодня ровно пятьдесят лет, как мы познакомились с Григорием Ивановичем, — тихо говорила баба Надя. — Мы всегда отмечали этот день. Он дарил мне цветы. Всегда — розы. И обязательно красные. Будьте уверены! А теперь розы дарю я… Мы очень любили друг друга. Я от души желаю тебе, чтобы, когда ты вырастешь, ты встретила такого, как он. Тогда ты будешь счастлива.
Баба Надя говорила с Аллочкой, как с равной. И Аллочке нравилось это.
Они подошли к скромному рябенькому памятнику из так называемой «крошки» цемента с обломками мрамора.
Баба Надя поставила красные розы в литровую банку, потом вынула из сумочки чистый белый платок, аккуратно вытерла овальную фотографию молодого Григория Ивановича, которая была на памятнике, наклонилась и поцеловала её.
Девочка крепко обняла бабу Надю и всем телом прижалась к ней. А баба Надя благодарно обняла и привлекла к себе Аллочку.
Родителей обманывать не пришлось. Баба Надя сама рассказала им всё на следующий день. Тогда родители отнеслись к этому спокойно. Им просто было некогда.
Папа готовился к каким-то ответственным республиканским соревнованиям. У мамы начиналась летняя экзаменационная сессия. Не зря говорила баба Надя о любви к путешествиям. Она в самом деле не любила сидеть на одном месте. Каждый день после завтрака и до обеда они с Аллочкой отправлялись гулять. Объездили и обходили все киевские парки и сады. Но больше всего любили они Советский парк, тот, где Мариинский дворец, памятник Ватутину, арсенальцам, потому что там был «Малышок» — детский городок с качелями, каруселями, аттракционами, а главное с детской железной дорогой, специально для дошколят. Аллочка очень любила эту железную дорогу, маленький жёлтый паровозик с длинной трубой, узкой внизу и широкой вверху, с фарами вместо глаз. И всего два маленьких вагончика, по четыре места в каждом, с нарисованными на стенах зверятами. Машинист в паровозике не сидел. Железная дорога была электрической, управляла ею толстая тётя, которая стояла у железной будки, похожей на автомат для газированной воды, и нажимала на кнопки. Поезд громко скрипел и скрежетал — его, должно быть, забывали смазывать. Он делал круг среди тенистых клёнов у забора министерства здравоохранения, а когда проезжал под железным навесом, изображавшим туннель, тётя трижды нажимала какую-то кнопку, и паровозик хрипло тутукал. Аллочке нравилось это больше всего.
Баба Надя всегда волновалась, когда сажала Аллочку в вагончик: взрослым ездить с детьми не разрешалось.
Она смотрела на Аллочку так, будто отправляла её в далёкое опасное путешествие. Губы у неё дрожали.
— Ты же смотри, ты же смотри, будь осторожна, не высовывайся, не упади. Я тебя умоляю! Я тебя умоляю! — И молитвенно складывала руки.
Аллочке было смешно, она нисколечко не боялась.
А баба Надя смотрела на неё увлажнёнными глазами и умоляюще склоняла голову набок.
Столько беспокойства, столько самоотверженной любви в глазах Аллочка не видела ни у кого — ни у мамы, ни у папы.
Именно такой — на перроне детской железной дороги в тени деревьев со склонённой набок головой — Аллочка и запомнила бабу Надю.
Как-то во время Аллочкиных именин (когда ей исполнилось пять лет) случился конфуз. Одна из гостей, жена папиного начальника, сложив губы бантиком, сладко спросила именинницу:
— А кого ты больше всех любишь?
И Аллочка искренне призналась:
— Бабу Надю.
Гостья, ожидавшая услышать «маму» или «папу», обескураженно оглянулась. Мама покраснела, папа нахмурился. А баба Надя, сидевшая на самом краю длинного праздничного стола (она помогала маме носить из кухни яства), опустила глаза — сделала вид, что не расслышала. Она действительно плохо слышала, причём с каждым годом всё хуже, так что даже пришлось приобрести слуховой аппарат. Но то, что говорила Аллочка, она слышала всегда. Она всё понимала по её губам. И часто родители, чтобы не кричать, просили Аллочку пересказать бабе Наде всё, что нужно.
Папин начальник, бывший футболист, очень смеялся:
— Прекрасно! Потрясающе! Вот что значит детская непосредственность! Прекрасно! — Обернувшись к папе, он пробасил: — Твоё счастье, что та глухая, не слышит… Однако выводы сделать надо! — И он руководящим жестом поднял палец вверх.
А через некоторое время ситуация в семье Грацианских изменилась. Одесская Аллочкина бабушка, папина мама, решила переехать в Киев. Дочь старшей папиной сестры, то есть внучка, вышла замуж. И там стало тесно. Внучка с мужем заняли бабушкину комнату. А в Киеве, наоборот, надо было присматривать за Аллочкой. Таким образом, по всем соображениям получалось, что одесской бабушке лучше жить в Киеве.
Аллочка хорошо помнит тот день, когда баба Надя узнала об этом. У неё было такое лицо, что Аллочка даже испугалась:
— Что такое? Что с тобой? Тебе плохо?
— Нет-нет ничего… — еле слышно прошептала баба Надя белыми губами.
— Ты не бойся! Я тебя не оставлю! Никогда! Ты моя! — Аллочка обхватила бабу Надю двумя руками и уткнулась лицом в её мягкий тёплый бок.
Одесскую бабушку звали Зоя Петровна. Она была маленькая кругленькая, с белыми крашеными волосами и курила длинные папиросы. Она не любила путешествовать, зато любила смотреть телевизор. И всё время говорила про Одессу: какая Одесса прекрасная, какое там море, какая оперетта, какая знаменитая улица Дерибасовская, какой базар Привоз, а главное, какие хорошие люди — весёлые, остроумные, компанейские; одним словом — «одесситы», этим всё сказано.
Видимо, она очень скучала но Одессе — она прожила там всю жизнь.
Аллочка сочувствовала ей, но скучала в её обществе. Баба Надя первые дни после приезда бабы Зои не заходила. Чтобы не мешать.
На пятый день, после трёхчасового сидения перед телевизором, во время которого баба Зоя умудрилась, не смолкая, рассказывать про Одессу, Аллочка не выдержала. Когда пришла с работы мама, Аллочка бросилась к ней:
— Я не могу! Где моя баба Надя? Я погибну, если её не будет! Где моя баба Надя?! — И она зарыдала. Истерически, захлёбываясь слезами и дрожа всем телом.
Мама испугалась, побежала за бабой Надей. Баба Надя пришла, и они полчаса плакали вчетвером — Аллочка, мама, баба Надя и баба Зоя.
После этого баба Надя снова стала приходить.
Было договорено, что баба Надя будет водить Аллочку гулять после завтрака и до обеда. А уж после обеда баба Зоя будет смотреть с ней телевизор.
Несколько дней всё было хорошо.
Но потом не выдержала баба Зоя. Увидев, как скучает с ней Аллочка, как ждёт она бабу Надю, как подскакивает от радости, когда та приходит, баба Зоя решила положить этому конец.
Однажды вечером баба Зоя имела бурное объяснение с родителями и поставила вопрос ребром: или я, или она. На следующий день родители очень ласково и душевно поговорили с бабой Надей. Баба Надя поплакала и ходить перестала. Сначала она говорила Аллочке, что нездорова, а потом и впрямь стала болеть, целый месяц пролежала в больнице. Тем временем баба Зоя превозмогла свою нелюбовь к путешествиям и начала ходить с Аллочкой на прогулки, особенно в зоопарк. Баба Надя в зоопарк Аллочку не водила — ей было жаль смотреть на зверей в неволе.
А баба Зоя, как оказалось, знала про животных и зверей очень много интересного. Её муж, Аллочкин дедушка, умерший ещё до Аллочкиного рождения, был ветеринар, настоящий доктор Айболит…
Вскоре Аллочка полюбила ходить с бабой Зоей в зоопарк и слушать её бесконечные рассказы.
А осенью Аллочка пошла в первый класс и понемногу стала отвыкать от бабы Нади.
И когда баба Надя однажды не вытерпела и зашла, чтобы хоть одним глазком взглянуть на неё, Аллочка ощутила даже какую-то неловкость от растроганных увлажнённых глаз бабы Нади, которые смотрели на неё с нескрываемым восторгом.
— Боже, какая ты стала красавица! Будьте уверены! — всё время повторяла баба Надя.
Она уже совсем оглохла и без аппарата не слышала ничего. Аппарат у неё был какой-то несовершенный, то и дело противно, пронзительно визжал. Аллочке было неприятно. Но она, как девочка воспитанная, не показывала этого, наоборот, улыбалась бабе Наде ласково и приветливо.
Недели через две после этого баба Надя позвонила по телефону и попросила маму:
— Можно я зайду к вам на минутку? Только чтобы посмотреть на Аллочку.
Мама скривилась, но ответила подчёркнуто вежливым тоном:
— Ах, конечно, конечно, пожалуйста, Надежда Сергеевна. Только, если можно, не сегодня… и… и не завтра… у меня такие тяжёлые дни.
Больше баба Надя не звонила. И не заходила.
Аллочка иногда видела её издали, когда играла во дворе с детьми. То она шла в магазин, то возвращалась домой. Аллочка приветливо кивала ей, улыбалась, но не подходила. Почему-то она теперь стеснялась бурных проявлений бабы Надиной любви. Иногда она замечала, как баба Надя смотрит на неё из окна своей квартиры. И Аллочка никогда не забывала приветливо кивнуть ей и улыбнуться. На какой-то миг Аллочкино сердце сжималось. Но только на миг.
Прошёл год… Потом прошло два, три года…
Однажды в сентябре, уже в четвёртом классе, Аллочка забрела на задний двор, за флигель. Искала детей. Вышла погулять, а никого почему-то не было. И вдруг увидела, что на карнизе под окном первого этажа стоит Люба Миркотан с каким-то свёртком в руке. Форточка была открыта.
Заметив Аллочку, Люба оцепенела, потом вспыхнула, соскочила с карниза на землю и, не оборачиваясь, убежала.
Аллочка так растерялась и так испугалась, словно её поймали на горячем.
И вдруг вспомнила: где-то с полгода назад, весной, она уже видела однажды Любу тут, на заднем дворе. Только Люба тогда стояла не на карнизе, а просто у окна и, приставив козырьком руку к стеклу, заглядывала внутрь. И снова-таки, увидев Аллочку, Люба покраснела и растерялась. Но тогда Аллочка не придала этому значения. Конечно, заглядывать в чужие окна не очень красиво, поэтому Люба и покраснела. Единственное, подумала тогда Аллочка, это то, что окно было бабы Надиной кухни.
И только теперь простая и очевидная мысль мелькнула в голове:
«Так вот почему она меня не любит! Она воришка, что-то крадёт из окон первого этажа, а я заметила, и потому она меня невзлюбила».
Когда человек находит мотивы каких-то непонятных, необъяснимых до этого явлений, ему сразу становится легче.
Аллочке стало жаль Любу. В конце концов, Люба неплохая девочка. Добрая и искренняя. Гришка Гонобобель ещё в третьем классе рассказывал как-то про болезнь — клептоманию, когда человек просто не может не красть.
А что, если Люба больна?
Что делать?
Как ей помочь?
Главное, надо её сначала успокоить.
На следующий день в школе Аллочка подошла к Любе и скороговоркой прошептала ей на ухо:
— Ты не бойся, я никому не скажу. Клянусь.
Люба покраснела и дёрнула плечиком. Ничего не сказала, молча отвернулась.
«Бедная… Переживает, — подумала Аллочка. — Конечно, кто бы не переживал на её месте».
Теперь Аллочку уже совсем не волновало недоброжелательное Любино отношение.
Однажды утром мама разбудила Аллочку раньше обычного. Аллочка сразу заметила, что мама как-то непривычно возбуждена, взволнована.
— Вставай, доченька! Вставай, дорогая! Сегодня ты в школу не пойдёшь. Я договорилась с Глафирой Павловной… Ты полетишь с бабой Зоей на несколько дней в Одессу.
— Зачем? Что случилось? — удивилась Аллочка.
— Ничего не случилось. Просто бабе Зое нужно срочно в Одессу. Ей почему-то не переводят пенсию. Надо выяснить в собесе. А я боюсь её одну отпускать. Ты же знаешь, какая она стала забывчивая, невнимательная.
Баба Зоя была уже одета, и посреди комнаты стоял чемодан. Оказалось, самолёт отлетает через два часа, а билетов ещё нет.
Правда, для папы Грацианского проблемы с билетами не существовало. Он часто отправлял спортсменов во все концы Советского Союза, а то и за границу, и в Аэрофлоте у него были «железные», как он сам говорил, контакты.
Всё произошло в ускоренном темпе — быстрый завтрак, машина, аэропорт, самолёт… И через каких-то три с половиной часа Аллочка была в Одессе.
И хотя в Одессе она уже бывала, но всегда летом, на каникулах, и эта неожиданная поездка среди учебного года оказалась очень интересной. Аллочка вообще любила путешествовать. Баба Надя с малолетства приучила её к этому. А путешествовать в то время, когда все ходят в школу, согласитесь, в этом есть что-то волнующее.
Свои дела в собесе баба Зоя утрясла очень быстро, за каких-то полчаса. И всё время была с Аллочкой. Они ездили в Аркадию, на Большой Фонтан, на шестнадцатую станцию, ходили по безлюдным, опустевшим пляжам, катались на катере. Был октябрь, но дни стояли солнечные, безоблачные, и ветер с моря приносил солёные брызги волн и йодистый запах водорослей. Аллочка любила море в Одессе. Даже больше, чем в Крыму, где она была однажды с родителями на спортивной базе в Алуште.
А на следующий день вечером Аллочка впервые в жизни была, как взрослая, в театре оперетты. Да ещё в каком! В знаменитом, одесском! И сидела в директорской ложе, куда посадил их, нарушая правила, знакомый бабе Зое администратор, с которым она весь антракт курила и хохотала в маленьком кабинетике, обклеенном яркими афишами. Вообще в тот вечер баба Зоя могла сама спокойно выступать на сцене вместе с примадоннами — такая она была очаровательная и эффектная как сказал администратор, в своём панбархатном платье и модной причёске «Каскад» («Ой, не смотрите на меня, потому что ещё немного, и я вас выпущу на сцену во втором акте»).
И тогда же, во втором акте, под музыку Штрауса Аллочка вдруг ощутила прилив нежности к бабе Зое и прошептала ей:
— Всё-таки я тебя очень люблю. Спасибо, что ты привела меня сюда.
Растроганная баба Зоя порывисто привлекла её к себе — она впервые услышала от Аллочки такие слова.
Три дня промелькнули быстро и незаметно.
Они возвратились на самолёте в воскресенье. В аэропорту их встречали папа и мама. Аллочка была очень весёлая и, захлёбываясь, рассказала про свои одесские впечатления.
И лишь после обеда мама обняла Аллочку за плечи и, виновато приглушив голос, сказала:
— Ты только не волнуйся, доченька… Я должна сообщить тебе печальное известие. Умерла баба Надя. Вчера её похоронили…
Аллочка так растерялась, что сразу даже не заплакала. Несколько секунд она молчала. Потом подняла на маму широко раскрытые глаза:
— Так, значит, вы… специально?
Мама отвела взгляд:
— Ты такая впечатлительная, Аллочка! Мы боялись… Мы думали… Мы хотели…
— Как вы могли?! — И только теперь она заплакала — громко, содрогаясь всем телом.
Они успокаивали её все втроём — мама, папа, баба Зоя. Она перестала наконец плакать и направилась к входной двери.
— Куда ты?! — испугалась мама.
— Не выдумывай! — сказал папа. Но она упрямо поджала губы:
— Нет, я пойду!
— Пускай идёт, — сказала баба Зоя. — Ей нужно сейчас побыть одной. Всё-таки баба Надя вынянчила её.
Аллочка спустилась во двор и, ощущая под сердцем холодок, пошла к окнам бабы Надиной квартиры. Подошла вплотную, приложила козырьком руку ко лбу и заглянула внутрь.
Хотя все вещи были на местах, она не узнала теперь знакомую с малолетства комнату. Только присмотревшись, поняла почему. Все зеркала были занавешены белыми простынями. А зеркал в той комнате было множество, как вы помните. И это было страшно. Аллочка отпрянула от окна.
Из подъезда вышла дворничиха тётя Галя, соседка бабы Нади.
— О! Ты мне как раз и нужна, — кивнула она Аллочке. Подняла фартук, порылась в кармане пиджака, вытащила конверт и протянула:
— Это тебе. Написано «в собственные руки». Потому я и не отдала родителям.
У Аллочки остановилось сердце, когда она взяла конверт. Знакомым почерком бабы Нади на конверте было написано:
«Аллочке Грацианской (в собственные руки)».
— Я нашла его на буфете. Когда опечатывали квартиру. Такой была человек! Как жалко! Сердце не выдержало. Потому что такое было сердце… За других болело. А тот, кто чужую боль в своё сердце не пускает, сто лет живёт.
Тётя Галя ещё что-то говорила, но Аллочка уже не слышала. Не заметила она и как дворничиха ушла.
Она то смотрела на конверт, то прижимала его к груди, то снова смотрела. И никак не решалась распечатать.
Наконец решилась.
«Любимая моя Аллочка! Девочка моя дорогая!
Ночью у меня был сердечный приступ, боялась, что не дотяну до утра. Потому решила тебе написать. На всякий случай. А то не успею… И ты не узнаешь, что я всё знаю. И безгранично благодарна тебе за твою тайну. Я знала, я верила, что ты не сможешь так просто забыть свою бабу Надю. Потому что нельзя забывать тех, кто так тебя любит. А ты для меня — самая родная, самая добрая. Нет у меня на свете никого, кроме тебя… Я всё понимаю, что видаться нам нельзя и не нужно. У тебя есть родная бабушка, которую ты должна любить. И любишь. Я бы никогда не простила себе, если бы стала между вами. Это было бы преступление…
И когда год тому назад я впервые увидела у себя в кухне на подоконнике кулёчек конфет, я растерялась. Я не находила себе места… На следующий день я встретила тебя во дворе, заглянула тебе в глаза, но ты сделала вид, будто ничего не случилось, будто ты ничего не знаешь. И я поняла, что ты хочешь, чтобы это была твоя тайна. И я подумала, что ты права. Так будет лучше для всех… А когда в следующий раз я нашла на подоконнике пачку вафель «Артек», я уже нисколько не сомневалась. Ты знала, что я люблю эти вафли.
Ты всегда приносила свои подарки в моё отсутствие. Я ни разу не заметила, как ты это делаешь. Хотя признаюсь тебе честно, иногда даже дежурила, надеясь тебя застичь. Но тщетно. Ты большая ловкачка, моя дорогая. Будь уверена!..
Спасибо! Спасибо тебе, моя единственная радость!
Будь счастлива, добрая моя девочка!
Обнимаю тебя.
Твоя баба Надя».
У Аллочки отчаянно билось сердце.
Строчки письма расплывались перед глазами.
Она ничего не понимала.
Какая тайна? Какие конфеты, какие вафли, какие подарки?
Она же ничего этого не делала!
И вдруг…
Вдруг в её воображении всплыла Люба Миркотан. Как она со свёртком в руке спрыгивает с карниза…
Кровь бросилась Аллочке в лицо…
Люба жила на третьем этаже с мамой, папой, старшей сестрой и двумя младшими братишками. Конечно, сегодня воскресенье, они могли куда-то поехать. У них была дружная семья, и они часто в воскресенье шумной гурьбой ездили на природу. Все с рюкзаками, даже самый младший, шестилетний Андрюха.
Но сейчас они были дома.
Дверь открыла сама Люба.
У Аллочки темнело в глазах, когда она пересохшими от волнения губами сказала:
— Выйди на минуточку… Пожалуйста… — И умоляюще повторила: Пожалуйста… — (Она даже забыла поздороваться.) Люба не удивилась:
— Сейчас… Я только наброшу кофточку.
Спускаясь по лестнице, они сначала молчали. Потом Люба спросила:
— Где ты была?
— В Одессе… Но я не знала! Честное слово, я ничего не знала! Только сегодня… Честное слово! — Аллочка била себя кулачком в грудь, но и без этого ей нельзя было не поверить. Такой у неё был голос.
— Я так и думала, что тебя куда-то отослали, — не глядя на неё, сказала Люба.
— Скажи, зачем ты это делала? — дрожащим голосом спросила Аллочка.
— Что? — резко повернула голову Люба.
— Ну… конфеты… вафли…
— А… откуда ты знаешь? — покраснела Люба. Аллочка молча протянула ей письмо. Потом смотрела, как Люба читает, и видела, что ей больно.
Аллочка уже жалела, что дала письмо, но было поздно.
— Если бы я только знала…
Люба пожала плечами, потом неожиданно вздохнула:
— Я случайно услышала её разговор… с тётей Галей. Дворничихой. Она так говорила… о тебе… И вообще… Мне стало так её жаль. Это же страшно, когда человек такой одинокий…
— Если бы я знала… Если бы я только знала… — всё повторяла и повторяла Аллочка…
…Баба Надя стояла на перроне детской железной дороги в тени деревьев и, склонив голову набок, смотрела, как Аллочка отъезжает в маленьком разрисованном вагоне всё дальше и дальше…
* * *
Когда Люба Миркотан получила пятёрку с хвостиком, она так растерялась, что даже говорить не могла. Никто из тех, кто получал пятёрки с хвостиком, так не терялся. У Любы даже красные пятна на щеках появились.
— Ой! За что?! Ну, это уже… абсолютно!
Все, особенно девочки, начали её успокаивать:
— Ну, чего ты…
— Как раз ты… абсолютно!
— Нечего прибедняться!
А Аллочка Грацианская горячо воскликнула:
— Вот и неправда! Не говори! Может быть, как раз ты — больше всех… — и вдруг запнулась.
Никто в классе не знал ни про бабу Надю, ни про Любочкину тайну, ни про письмо.
— Ай! Перестань! Слышишь! — крикнула Люба, но тоже вдруг умолкла и махнула рукой: — А! Ну вас всех!..
И выбежала из класса.
Так на том тогда всё и кончилось.
Аллочка и Люба были, как вы уже поняли, девочки темпераментные, чувства свои не всегда сдерживали.
Но, даже зная это, актив не ожидал такой бурной реакции, когда подходил к ним сейчас.
— Да вы что — смеётесь?! — воскликнула Аллочка. — Чтобы я чужую сумку с деньгами взяла?! Даже если бы она десять лет под скамейкой стояла.
— Вот смешнячки! — воскликнула Люба. — Вы меня просто не знаете. Да я ни за что не стала бы звонить и оставлять сумку в телефонной будке. Это же кто-то мог бы спокойно проследить, схватить, и пока дежурный выбежал — ищи ветра в поле! Я бы в крайнем случае просто забежала в милицию, бросила бы сумку дежурному на стол и тогда бы удрала. Нет! Это не я!
Таким образом, первая попытка искать среди девочек ничего не дала. И актив решил вернуться к хлопцам.
— А как вы смотрите на новичка? — спросила Тая Таранюк и, как всегда, покраснела.
— Положительно! — вырвалось у Натали Приходько, и она почему-то тоже покраснела.
Тина Ярёменко прыснула в кулак.
Капитан Буль и Боцман Вася
Первого сентября, когда четвёртый «А» впервые был уже не третьим, а четвёртым, в классе появился новичок. Вася Мостовой.
Загорелый, с выгоревшими волосами и облупленным носом, он был улыбчивым и совсем не робким. Не то что другие новички. Со всеми поздоровался, перезнакомился и начал рассказывать про своё село Горенку, что в Киево-Святошинском районе, сразу за Пуще-Водицей («два шага от Киева»).
Но к новичку мы ещё вернёмся.
А сейчас поговорим о капитане Буле.
Капитан Буль — это Петрусь Булько. Почему он капитан Буль, спрашивается? Ну, это очень просто.
Вы сами знаете, как часто в первом, втором, третьем классе меняют люди профессии. Сегодня ты космонавт, завтра ты пограничник, послезавтра художник, потом директор школы, потом клоун в цирке и так далее.
Что же касается Петруся Булько, ни у кого двух мнений не было. С первого класса все знали, что он станет капитаном дальнего плавания.
И мечте своей Петрусь не изменил ни разу. Даже когда в школе была встреча с космонавтом и все хлопцы до единого бросились в космонавты, Петрусь удержался — остался капитаном.
А решено это было ещё в детском саду.
Кто из вас не пускал весной в ручейках бумажных корабликов? Наверное, нет таких людей на свете.
Любил пускать кораблики и Петрусь. Хлопец он был ловкий, сообразительный и достиг в этом деле значительных успехов. Его кораблики почти никогда не переворачивались, не размокали, а, обходя все подводные рифы, благополучно выплывали из рек-ручейков в лужу-океан.
Так вот, пускали они однажды в детском саду кораблики. А мимо проходил моряк. Настоящий моряк, в бескозырке с ленточками, в синей матроске, из-под которой выглядывал полосатый треугольник тельняшки. А под носом усики молодецки закрученные, а в глазах чёртики прыгают. Не моряк, а картинка.
Взглянул моряк на Петруся, улыбнулся лучезарно, рукой мозолистой с синим якорьком взлохматил чуб Петруся. И сказал звонко:
— Молодец! Быть тебе капитаном дальнего плавания!
Это слышали и Гришка Гонобобель, и Шурочка Горобенко, и Люська Заречняк, которые ходили в тот же детский сад. Собственными ушами слышали.
Сказал моряк и ушёл себе, а слова его остались — зацепились в сердце Петруся.
Да, посмотрел бы я на вас, если бы вам такие слова сказал настоящий моряк! А вы ещё только в детский сад ходите, пускай даже в старшую группу.
Как бы вы прореагировали? То-то же!
И когда заходил разговор, кто кем будет, Петрусь уже просто не мог ничего другого сказать.
Все тетради Петруся, особенно последние страницы, были изрисованы кораблями — линкорами, крейсерами, фрегатами, каравеллами. И книжки он читал главным образом про море и моряков. И открытки «морские» собирал.
Если кому-то в классе надо было выяснить что-нибудь, связанное с морем, обращались к Петрусю.
Однажды Гришка Гонобобель назвал его Капитан Буль. Прозвище понравилось, да и сам Петрусь не очень возражал — было оно не обидное. Так и пошло: Капитан Буль, Капитан Буль… Правда, было в нём что-то немножечко пиратское, но это не беда.
А теперь вернёмся к новичку Васе Мостовому. Жил он, как вы знаете, в селе Горенки за Пущей. Теперь переехал в город. Родители уже давно работали в Киеве на заводе «Арсенал». И всё время ездили на работу из Горенки. А вот сейчас получили наконец квартиру и переехали. В Горенке остались два деда, одна бабушка и целая куча родственников.
— Горенка — моя дедовщина, — говорил Вася Мостовой. А уж если быть совсем точным, то говорил он не «дедовщина», а «дедовфина», потому как шепелявил. Но это у него выходило очень мило, даже симпатично.
Особенно часто он повторял «что ты», которое, ясное дело, звучало у него «фто ты».
Когда Вася узнал, что Петрусь мечтает стать моряком и что его называют Капитаном Булем, он даже подскочил:
— Фто ты! И я мефтаю стать моряком. Вот было бы здорово на одном корабле! Ты будеф капитан, а я боцман.
Гришка Гонобобель загоготал:
— Го-го! У нас свой шепелявый, свой Валера Галушкинский появился! Капитан Буль и Боцман Фтоты. Го-го!
Но Вася не обиделся. Даже сам засмеялся:
— А фто? Звучит! Капитан Буль и Боцман Фтоты. После кругосветного путефествия возврафаются в родной порт Одессу… или — Ленинград. Сила! Фто ты! — И тут же хлопнул по плечу Капитана Буля: — Давай дружить!
В мгновение ока он договорился с Антошей Дудкиным, который сидел с Капитаном, чтобы тот пересел на другое место.
— Ты только не обижайся. Фто ты! Просто у нас же, сам понимаеф, обфие интересы. Гуд бай!
Всё это было сказано так просто и откровенно, что Антоша нисколечко не обиделся и сразу пересел. Очень Вася был, как говорят взрослые, контактный человек.
Кстати, его стали-таки называть Боцман, но без Фтоты — просто Боцман Вася. Да и в самом деле, зачем обыгрывать чей-то, пускай даже и симпатичный, но физический недостаток? Недостатки обыгрывать — последнее дело.
Все переменки и даже иногда, извините, на уроках новые друзья бубнили о чём-то морском. И то и дело Вася восторженным шёпотом восклицал:
— Ты фто! Ух здорово! Ну, ты Драйзер! Всё знаеф.
Учителя были вынуждены делать Боцману Васе замечания. Однажды после уроков Вася сказал:
— Слуфай, а давай не оставаться на продлёнку… А махнём в Пуфтю, в мои края. Такая погода! Грех кантоваться на продлёнке.
Петрусь неуверенно пожал плечами:
— Не знаю. Могут быть неприятности… и тут… и дома.
— Ну! Капитан! Какие неприятности? Фто ты? У тебя телефон есть?
— Есть.
— В случае чего — позвоним. Там же автоматы возле каждого дерева. Я тебе фто-то покажу! Зафатаефся!
Петрусь нерешительно оглянулся. Рядом стояли Гришка Гонобобель, Кум Цыбуля, Антоша Дудкин, Аллочка Грацианская, Оля Татарчук и Нина Макаренко (Макаронина) из четвёртого «Б».
— Кто хочет? — повернулся к ним Боцман. — Пуфтя — это же совсем рядом. Два фага. До Подола. А там на двенадцатом трамвае. И всё. А? Такая погода!
Если бы не Аллочка Грацианская и не Макаронина, кто знает, может, ничего бы и не было.
Но вдруг Макаронина сказала:
— А мы недавно ездили. Я даже ногу поранила. — Она показала свежий шрам на ноге и сразу отошла, чтобы «ашники» не подумали, что она набивается к ним в компанию.
Аллочка Грацианская вдруг улыбнулась своей очаровательной улыбкой:
— А что? Я бы поехала. Я люблю путешествовать…
Когда такое говорит первая красавица в классе, то надо быть последней шляпой, последней тряпкой, надо немедленно менять брюки на юбку, если ты ещё колеблешься. А когда в придачу оказывается что «бешники» уже были, то… Капитан коротко бросил:
— Поехали!
Антоша Дудкин и Кум Цыбуля молча кивнули, Гришка Гонобобель хоть и скривился (ему было неприятно, что активное участие в этом приняла Макаронина, с которой у него были личные счёты), но тоже кивнул.
Оля Татарчук переглянулась с Аллочкой Грацианской, прочитала в её глазах мольбу («Не оставляй меня, пожалуйста, одну с мальчишками») и тоже согласилась.
Оля Татарчук была белобрысая. И не просто белобрысая — более белобрысой, чем она, не было, наверное, во всей школе. Светлые-светлые волосы, белые брови, белые, словно припорошённые мукой, ресницы и светло-серые глаза. Рядом с Аллочкой она напоминала фотонегатив. Но почему-то именно к Аллочке она всё время тянулась. Она была какая-то чудачка, эта Оля Татарчук. Она всё время кем-то восторгалась, а себя всегда унижала («Ой, какой ты молодец!.. Ой, как тебе идёт эта кофтюля!.. Ах, как ты хорошо отвечал сегодня на английском! Молодчинка!.. А я так мямлила на математике! Ужас!»).
Люди любят, чтобы им говорили приятное, и к Оле в классе относились хорошо.
Потому никто из хлопцев не имел ничего против того, чтобы поехала и Оля.
Всю дорогу Боцман не умолкал ни на минуту. Он вовсю расхваливал прелести Пущи-Водицы, которую знал «как свой карман» (так он сказал). Какие только приключения не случались с ним в Пуще! И лося-великана он однажды встретил, и галчонка, выпавшего из гнезда, назад положил, и лесной пожар тушил, и маленькую девочку из детского садика «Советская Украина», которая в лесу заблудилась, на Шестую линию провёл… Ну не Боцман, а Герой Советского Союза. Оля Татарчук то и дело восторженно хлопала в ладоши:
— Ну, молодец! Ух, здорово!
А красавица Аллочка смотрела только на него, не даря взглядов никому другому.
Гришка Гонобобель уже жалел, что поехал.
— Всё! Пятая линия! Выходим! Выходим! Вылазим! — закричал наконец Вася.
И они высыпали из трамвая.
Вход в парк с ажурным, несколько старомодным штакетником. Высокие мачтовые сосны. И неповторимый запах леса.
— Вперёд! За мной! — бодро махнул рукой Боцман и быстро зашагал, почти побежал по асфальтированной аллее.
В парке было безлюдно. Будний день, рабочее время…
Только в укромном месте на скамейке под плакучей ивой сидела какая-то пожилая парочка — видно, курортники.
Неожиданно сверкнула на солнце вода. И показалось длинное озеро, через которое был переброшен мостик с деревянной беседкой посредине — резные столбики, ажурный под крышей штакетник.
— Ой! Красота какая! — восторженно закричала Оля. — Я никогда тут не была.
Озеро действительно было очень красивое, берега поросли вековыми деревьями, на воде плавали жёлтые опавшие листья.
Но Боцман, видимо, привёл их сюда не только любоваться красотой озера.
— Вперёд! — воскликнул он и повел одноклассников через мостик.
Слева от мостика, у деревянного причала, было привязано десятка два лодок, а на берегу стоял домик — лодочная станция.
На крылечке домика сидела на стуле и читала книжку крупная женщина в красной косынке, по-пиратски перевязанной наискосок через лоб.
Боцман вёл их прямо к ней.
— Здравствуйте, тётя Клава! — крикнул он, подойдя к ней почти вплотную.
Только тогда она оторвалась от книжки.
— О! Васек! Здорово! Приехал? Соскучился?
— Моя тётя Клава! — обернулся Боцман к одноклассникам. — Мои друзья!
— Очень приятно! — Тётя Клава церемонно подала каждому из них сложенную лодочкой руку.
— Как там мой фрегат? — спросил вдруг Вася и взглянул искоса на Петруся.
— На месте, капитан! — смешно козырнула тётя Клава.
— Нет, я теперь боцман. Капитан у нас — вот! Капитан Буль! — Он хлопнул Петруся по плечу. Петрусь зарделся.
— А-а… — окинула взглядом Петруся тётя Клава. — Ну, смотрите, вам виднее. Только будьте осторожнее… Что-то вас многовато.
— Фто ты! Как раз комплект. Ты фто не знаеф — мой фрегат брал на борт и десять.
— Знаю-знаю, только всё-таки не очень… Хоть и тепло сегодня, но уже сентябрь, вода холодноватая. Плавать хоть умеете?
— А как же! — за всех ответил Гонобобель.
— Ну, тогда давайте. Там, в конце…
— Знаю-знаю. Фто ты!
Боцман уверенно зашагал по причалу мимо лодок. У предпоследней остановился.
— Вот! Мой фрегат «Мечта». Я всегда на нём плаваю.
Тётя Клава уже приближалась, неся два весла.
— Кто умеет грести? Только честно!
— Я! — крикнул Гонобобель и с видом победителя посмотрел на Аллочку.
— Ну, тогда сядешь тут, рядом с Васей. Он на правое весло, ты на левое.
Тётя Клава вставила вёсла в уключины, открыла замок, размотала цепь, взяла в руку.
— Садитесь! Девочки, проходите на корму. И кто-нибудь из мальчиков тоже.
— Давай ты, Антофа! — сказал Боцман. — А теперь мы — на вёсла. А ты, Капитан, и ты, Кум, — на нос.
Когда все уселись, тётя Клава отдала цепь Петрусю и легонько оттолкула лодку от причала.
— Ну, счастливого плавания! Давай, капитан! Веди вперёд «Мечту»!
Однако растерянный Петрусь молчал.
— Ну фто ты? Чего молчиф? — крикнул Боцман, Петрусь перехватил Аллочкин взгляд — она смотрела на него лукаво и ожидающе.
И вдруг щекотная волна радостного возбуждения охватила его.
— Слушай мою команду! Курс зюйд-зюйд-вест, поворот на четыре румба! Полный вперёд! — звонко скомандовал он и не узнал своего голоса — такой он был истинно капитанский.
— Есть, капитан! — крикнул Боцман и налёг на весло. Гонобобель тоже налёг. И лодка поплыла по озеру.
— Ой! Как хорошо! — радостно взвизгнула Оля Татарчук. И всем стало весело.
— Сла-авное мо-оре-е, священный Байкаа-ал! — затянул Кум Цыбуля.
— Курс норд-норд-ост! Эй! В машинном! Поддай пару! — уже уверенно скомандовал Петрусь.
Аллочка смотрела на него так, как недавно смотрела она на Васю.
Эх, хорошо!
Как хорошо жить на свете!
Когда ты капитан и командуешь фрегатом «Мечта» и на тебя смотрит первая красавица в классе, разве ты можешь сидеть? Что это за сидящий капитан? Смех, да и только! Ты должен стоять на капитанском мостике, подставив лицо солёному ветру.
И Петрусь подхватился, встал и, балансируя, поднёс ко лбу руку козырьком.
Они уже проплыли под мостом и выплыли на широкий плёс.
Гришка Гонобобель старался изо всех сил, чтобы не отстать от Васи Боцмана, но всё-таки и опыта и ловкости у него было поменьше. И лодка всё время поворачивала налево.
— Эй! В машинном! Левое греби! Правое табань! Матрос Гонобобель! Шуруй активнее!
Если бы Аллочка не посмотрела в эту секунду на Гришку…
А может быть, он и нечаянно. Кто его знает…
Но Гришка Гонобобель вдруг изо всей силы рванул за весло, лодка резко качнулась… Капитан Буль потерял равновесие — и…
Все только увидели, как мелькнули в воздухе его ноги, когда он перелетал через борт.
Бултых!
— Ой!
Лодка продолжала двигаться вперёд. Через мгновение голова Петруся вынырнула уже за кормой.
— Человек за бортом! Ги-ги! — весело закричал Гонобобель.
— Плыви сюда! Ты фто? — закричал Боцман. Петрусь беспомощно бултыхался в воде, то погружаясь с головой, то на миг выныривая.
— Да он же не умеет плавать! — вскрикнула Оля Татарчук. Никто не успел даже глазом моргнуть, как она подхватилась, вскочила на корму и прыгнула в воду.
Вода сразу закипела, забурлила. Мгновение — и Оля уже возле Петруся… И уже они вдвоём то погружаются, то выныривают.
— Разворот! Быстрее! — закричал Вася, отчаянно орудуя веслом.
Но пока они с Гонобобелем разворачивали лодку, ещё дважды бултыхнулось. Это Антоша с кормы, а Кум Цыбуля с носа бросились в воду. Хотя, честно говоря, это уже было ни к чему.
Впрочем, какие же они были бы хлопцы, если бы сидели сложа руки, когда такое делается!
Лодка уже подплыла, и Оля и Петрусь уже держались руками за борт, Вася, Гришка и Аллочка пытались втащить их в лодку, а хлопцы только подплывали, виноватые и растерянные.
И вот они уже все вчетвером держатся за борта лодки и цокают зубами.
— Н-не н-надо тащить… Н-не т-теряйте в-времени, — процокала Оля. Гребите б-быстрее к б-берегу…
И Вася с Гришкой тут же согласились. Разве могли они после всего не послушать её.
Интересная была картина — высоко задрав нос, лодка быстро плыла к берегу, а за кормой кипела-бурлила вода, словно там был подвесной мотор. То, держась руками за корму, отчаянно молотили ногами по воде все четверо. Так приказала Оля. Активно двигаться, чтобы не переохлаждаться.
По берегу уже бежала, размахивая руками, тётя Клава. А потом они выкручивались в кустах.
А затем изо всех сил бежали в село Горенку, к Васиным родичам. Было это не таких уже и два шага… У Капитана Буля голова шла кругом.
Как же он виноват перед всеми ними! Какой позор! Какой стыд! Как смотреть им в глаза теперь?
Ну разве же он мог признаться, что не умеет плавать, что всё время собирался научиться, да так и не собрался, потому что купание для него адская мука. Был он худенький и такой мерзляк, что даже в самый жаркий день, едва залезет в воду, через минуту уже стучит зубами и, обхватив себя крест-накрест за плечи, мелко дрожит, как щенок под дождём. Где тут уж плавать, если просто в воде находиться сил нет.
Разве мог он признаться в этом, он, капитан дальнего плавания?..
— Ну, ты же и плаваеф! Как дельфин! — восторженно прокричал Оле на бегу Боцман Вася.
— Это ты кролем? — просопел Кум Цыбуля.
— Ага… Я же третий год уже в бассейн хожу, — словно извиняясь, призналась Оля.
А потом они сидели в тёплой уютной хате боцманского деда Сергея и бабы Дуни и пили горячее молоко. Баба затопила печь и сушила их одежду.
Все четверо были временно облачены в дедовы и бабины наряды и выглядели весьма комично, особенно хлопцы.
Оля, закутанная в цветастый бабин халат, сидела на печи над всеми и очень смущалась. Она привыкла восхищаться другими, а себя унижать. А тут она была в центре внимания и все только и говорили что про её геройство.
Хлопцы не жалели красок. Их можно было понять. Кроме всего прочего, они ещё старались таким образом приглушить неловкость, вызванную тем, что именно она, девочка, а не они, хлопцы, первой бросилась в воду и спасла Петруся. И они старались всячески подчеркнуть, что она, так сказать, профессионалка, спортсменка, но всё равно не каждая спортсменка вот так бросилась бы, не задумываясь, в холодную воду…
Аллочка впервые в жизни завидовала. Никто на неё не смотрел, даже Гришка Гонобобель.
Гришка попытался посмеяться над Петрусём:
— Эх ты, Капитан Буль-Буль! Ги-ги!
Но никто его не поддержал.
На Капитана и так больно было смотреть.
Я думаю, вы бы тоже переживали, если бы с вами такое случилось.
— Всё! — вдруг решительно махнул рукой Боцман Вася. — С завтрафнего дня мы с Капитаном записываемся в бассейн! Я вам честно скажу, я тоже плоховато плаваю. И если бы вот так неожиданно упал за борт — кто его знает… А плавать уметь надо. Особенно морякам. Вопрос жизни и смерти. Фто ты!
Петрусь благодарно посмотрел на Васю:
— Спасибо тебе, Боцман!
«Я понимаю, ты хорошо плаваешь. Но ты — настоящий друг. Спасибо!»
* * *
Когда актив подошёл к его парте, Боцман Вася виновато склонил голову набок и сказал:
— Я уже знаю, чего вы… Очень бы хотелось, но… я так жалею, фто это не я.
Актив вздохнул и переглянулся.
— А может, Оля Татарчук? А? — посмотрел на них Вася. — Почему это вы только на хлопцев думаете? Оля как раз…
— У Оли в тот день были соревнования. Она тогда была в бассейне, — сказала Шурочка. — Я уже думала…
Когда актив отошёл от Васи, Натали Приходько ещё раз вздохнула и сказала:
— А я так надеялась, что это всё-таки он. По-моему, он больше всего подходит… из всех ребят… больше всего…
— А по-моему, есть и другие, которые подходят не меньше, — подняв брови, сказала Тина.
— Ну конечно, твой Ивасик! — въедливо сказала Натали.
— Девочки, ну не надо, — сказала Тая Таранюк и покраснела. — У нас в классе все ребята хорошие.
— Ну, это ещё надо подумать… — сказала Шурочка.
— Я только знаю, что Ивасик мог бы! — упрямо сказала Тина.
— Тебе виднее, — сказала Натали.
— Виднее! — повторила Тина.
Ивасик и Христя
Ивасик Тимченко, головастый, большелобый, неулыбчивый, жил вдвоём с мамой. Папы у него не было. Сперва мама говорила, что папа умер, когда Ивасик был ещё совсем маленький, но потом в детском саду нахальноватый Жора Мукосей сказал, что папы у него не было вовсе, что мама его мать-одиночка, и вообще нечего выдумывать. Ивасик стукнул Жору по носу, но это дело не изменило. Языкатая Соня Боборыка вступилась за Жору и сказала, что правда-правда: Ивасикова мама — мать-одиночка, и это все знают.
Ивасик плакал в углу, глотая слезы. Он очень любил свою маму, самую нежную, самую добрую из всех мам на свете, и не мог поверить в эти злые разговоры.
Но вечером мама вздохнула и сказала:
— Да, сынок, с папой нам не повезло. Он не достоин нашего с тобой внимания. Нехорошим он оказался человеком. Не будем о нём вспоминать. Главное, что у меня есть ты, а у тебя есть я. Будем любить друг друга и не пропадём.
И так она это откровенно и просто сказала, что Ивасик понемногу успокоился.
Тина Ярёменко, востроносенькая, курчавенькая, с несколькими точечками-родинками на щеках и на шее, очень любила смеяться. Правда, удавалось ей это не всегда.
Жила Тина вдвоём с папой. Мама папу оставила, вышла замуж за какого-то военного и уехала. Когда на суде Тину спросили, с кем она хочет остаться, с папой или с мамой, она, не задумываясь, сказала:
— Конечно, с папой.
Собственно говоря, папа для неё с малолетства был и папой и мамой. Папа её, маленькую, пеленал, купал, кормил из соски.
Мама Тинина была артисткой — хористкой в театре оперетты. Она никогда не имела ни минуты свободного времени. С утра у неё были репетиции, вечером спектакли. И папе, конечно, пришлось самому заниматься Тиной. Делал он это с удовольствием, потому что Тину любил.
Папа был весёлый человек, добрый, но маму это не устраивало. Тина помнила, как мама, не стесняясь её, Тины, истерически кричала на папу:
— Паяц! Осточертели мне твои дешёвые шуточки! Я за них себе новое платье не куплю. Не умеешь заработать, как инженер, иди в мясники. Ничтожество! Неудачник!
Папа молча виновато улыбался и то и дело поправлял на переносице указательным пальцем сползавшие очки.
Тина не выдерживала и тоже начинала кричать на маму:
— Не трогай! Не трогай! Это мой папа! — и топала ногами.
— Ну и целуйся, целуйся со своим папочкой! — кричала мама. — А я не хочу!
Тина никогда теперь не вспоминала маму. Будто её и не было вовсе.
Так получилось, что Ивасика и Тину Глафира Павловна в первый же день в первом классе посадила за одну парту.
И когда было родительское собрание, на котором выбирали родительский комитет, Тинин папа, Николай Иванович, и Ивасикова мама, Лидия Петровна, тоже сидели за одной партой. (Глафира Павловна садила родителей на те же места, где сидели их дети.)
И Николая Ивановича, и Лидию Петровну избрали в родительский комитет.
Глафира Павловна была очень ими довольна. В родительском комитете Николай Иванович и Лидия Петровна работали больше и активнее всех.
Лидия Петровна устроила в классе аптечку (она была медсестрой). А Николай Иванович смастерил для аптечки в углу очень симпатичный навесной шкафчик со стеклянными дверцами.
Когда Николай Иванович мастерил, то просил Ивасика помочь. Ивасик подавал инструменты, гвоздики, держал реечки. И даже два гвоздика забил сам. Правда, первый согнулся. Но Николай Иванович выпрямил его, весело проговаривая:
— Ишь чего выдумал! Сгибается! По шляпке его за это, по шляпке!
Тина стояла рядом и смеющимися глазами влюблённо смотрела на папу.
Сперва Ивасику понравилась и сама Тина, и её папа — особенно папа. И отношения между ними понравились — шуточные, весёлые отношения.
— А ну, Христя, раскрывай дневник! Что у тебя сегодня вскочило туда? — говорил папа, приходя забирать её с продлёнки.
— Пожалуйста, товарищ папа! За крючки пятёрочка зацепилась. А с палочками хуже, кривенькие вышли, больше тройки не потянули, — комично жаловалась Тина.
— Ай-яй-яй! Объявляю вам своё, родительское «фе»! Приказываю — палочки выровнять, тройку исправить!
— Есть! — Она бросалась папе на шею и целовала его. (В душе у Ивасика шевелилась зависть.)
Однажды они пошли всем классом в оперный театр на балет «Лесная песня». И сидели рядом — Ивасик с мамой и Тина с папой. Ивасику было радостно.
А перед Октябрьскими праздниками они пошли в кино, уже без класса, просто вчетвером: Тина с папой, Ивасик с мамой. И потом ещё дважды ходили. И ничего в этом не было странного, всё нормально.
Но как-то перед Новым годом на перемене Ивасик услышал, как Соня Боборыка (она и тут оказалась с ними в одном классе) сказала в группе учеников:
— А её папа ухлёстывает за его мамой.
— Хи-хи! — хихикнул Гришка Гонобобель.
Ивасика словно кипятком обварило.
Соня Боборыка ещё что-то сказала, но он уже не разобрал, потому что быстро прошёл мимо, сделав вид, что не расслышал.
Ивасик и сам замечал, что мама последнее время стала больше прихорашиваться, следить за собой. И настроение у неё было более весёлое — она частенько даже напевала, чего раньше никогда не делала. Но Ивасик только радовался этому.
И вот, выходит…
На уроке он ни с того ни с сего вдруг толкнул локтем Тину:
— Подвинься! Расселась…
Она удивлённо взглянула на него. Но ничего не сказала, подвинулась.
И так стало горько Ивасику, что и словами не выразить.
После продлёнки их пришли забирать вместе и его мама, и Тинин папа.
Они стояли в вестибюле рядом. Он рассказывал ей что-то весёлое, видимо шутил, а она смеялась, да так охотно, так звонко, так радостно, как не смеялась никогда раньше.
Ивасик вдруг почувствовал, что маму у него забирают. Что она не принадлежит больше безраздельно ему и только ему, как это было всегда. Что она, когда вот так смеётся, почти чужая ему. Тинин папа перехватил его враждебный взгляд исподлобья и широко раскрыл глаза:
— Ов-ва! Что случилось? Уж не подрались ли вы с Христей? «Товарищи»!
— Нет-нет, папочка! Всё в порядке, — поспешила сказать Тина.
По дороге домой Ивасик молчал.
И только дома вдруг выкрикнул отчаянно:
— Зачем он тебе?! Зачем они нам?! — и горько заплакал. Мама растерянно замерла, потом порывисто обняла его:
— Ну успокойся, успокойся, сынок! Что ты! Что ты… Никто, никто мне, кроме тебя, не нужен. Никто!
Лишь когда он перестал плакать, она тихо сказала:
— Я почему-то думала, что они тебе нравятся. Мне так казалось… А если нет, то, конечно…
Он ничего не ответил.
На следующий день, когда родители пришли забирать их после продлёнки, Николай Иванович и Лидия Петровна стояли уже в разных концах вестибюля. Будто незнакомые. Тинин папа то и дело поправлял пальцем очки на переносице и смущённо улыбался. Никаких шуток, никаких острот. Ивасикова мама смотрела устало и безразлично.
Наступил Новый год, а потом каникулы.
Ивасик совсем успокоился.
Только заметил, что мама перестала прихорашиваться и напевать.
Однажды в конце каникул поздно вечером мама подошла к окну и вдруг в отчаянии махнула рукой, потом резко обернулась и взглянула на Ивасика. Неизвестно почему, Ивасик сделал вид, что ничего не заметил. Но через минуту подошёл к окну и посмотрел на улицу. На той стороне под деревом против их дома кто-то стоял. Был мороз, метель, одинокие прохожие торопились, стараясь быстрее спрятаться в дом или троллейбус. А этот стоял, топчась на одном месте, и ёжился от холода. Потом вдруг дёрнулся и спрятался за дерево.
Фигура показалась Ивасику как будто знакомой. Но различить было трудно далековато, темнота и метель.
Мама уже постелила постель и позвала его спать. И снова, сам не зная почему, Ивасик не сказал маме ни слова о том, что увидел.
Через два дня каникулы окончились.
Как всегда после каникул, настроение у всех было приподнятое, весёлое. Переговаривались, рассказывали друг другу разные новости, смеялись.
Только Тина сидела почему-то за партой опустив глаза, поникшая, молчаливая.
Её уже спрашивали и Шурочка Горобенко, и Аллочка Грацианская, и Соня Боборыка:
— Чего это ты? Что с тобой? Может, больная?
Но Тина деланно улыбалась, махала рукой:
— Да нет, ничего! Всё нормально.
И лишь когда возле неё сел Ивасик и тоже спросил: «Чего ты?» — она вдруг глубоко вздохнула и тихо ответила:
— Папа заболел. Температура тридцать девять и семь. Подозревают воспаление лёгких… А в больницу не хочет… из-за меня. — И подбородок у неё задрожал.
У Ивасика сжалось сердце.
— Ну, не переживай… Выздоровеет. У меня тоже было когда-то воспаление лёгких… крупозное. Я ещё совсем маленьким был. Мама целые ночи меня вот так на руках носила. Чтобы не было отёка лёгких. И — как видишь… Выздоровеет. Не волнуйся… А кто с ним сейчас?
— Соседка. Это она настояла, чтобы я в школу пошла. Я не хотела… — В глазах у девочки были слезы. На продлёнку Тина не осталась. Когда мама пришла его забирать, Ивасик сразу же выпалил:
— А Тинин папа заболел… Температура тридцать девять и семь. Подозревают воспаление лёгких. А в больницу не хочет… Из-за Тины…
Мама так побледнела, что Ивасик аж испугался. И поспешил добавить:
— Но он же выздоровеет… Правда ж? Я же выздоровел.
Всю дорогу они молчали.
Накормив Ивасика, мама обняла его и как-то виновато сказала:
— Ивасик, сынок, я… я должна проведать Николая Ивановича. Я же медсестра… Может, я там нужна. Воспаление лёгких — это не шуточки…
Она, наверное, приготовилась к тому, что Ивасик будет возражать, но он сказал:
— Конечно… Надо проведать. Только возьми и меня с собой.
Мама с благодарностью посмотрела на него и молча кивнула. Потом взяла шприц в блестящей металлической коробочке, какие-то ампулы, и они пошли.
Дверь им открыла заплаканная Тина.
Посреди комнаты стояла высокая черноволосая женщина в белом халате. Выражение лица у неё было решительное и неумолимое.
— Я настаиваю на госпитализации! Вы же взрослый человек. Вы что, хотите оставить свою дочку сиротой?
Говорила она громко, пожалуй, громче, чем следовало бы в присутствии тяжелобольного.
Николай Иванович лежал на тахте красный, с пересохшими губами. Без очков лицо его казалось детским и беспомощным. Однако он упрямо качал головой, возражая.
— Что? Что с ним? — прямо с порога спросила Лидия Петровна.
— Типичная пневмония. Причём двухсторонняя. Надо колоть антибиотики. Через каждые четыре часа. И банки, и вообще уход… А он категорически отказывается от госпитализации. Если бы хоть была наша патронажная сестра. А то, как на грех, заболела… Скажите хоть вы ему.
Лидия Петровна была уже возле больного, держала его одной рукой за лоб, второй за пульс. И он что-то шептал виновато.
— Не волнуйтесь, — обернулась мама Ивасика к врачу. — Я медсестра. И укол сделаю, и банки поставлю.
Потом мама с врачом вполголоса говорила о необходимых процедурах, а Ивасик озирался вокруг.
Квартира была небольшая, двухкомнатная, обыкновенная, а вот стены… Все стены были завешаны детскими рисунками. И каждый в аккуратной рамочке. Рамочки делал, конечно, папа. А рисовала, конечно, Тина. Больше всего было почему-то котов и зайцев. Но эти коты и зайцы были необыкновенно выразительные, каждый со своим лицом, своим характером. Просто талантливые были зайцы и коты. И ещё почти на каждом рисунке было солнце — жёлтое, яркое, лучистое.
Глядя на эти солнца, Ивасик почему-то вспомнил вдруг метельный морозный вечер и одинокую фигуру под деревом.
Он посмотрел на Тининого отца. Тот лежал в жару, бессильно откинувшись на подушку, но в глазах, которые он близоруко щурил на его маму, была несказанная детская радость.
Ивасик вдруг почувствовал, что в сердце у него нет уже того ревнивого страха, который был недавно, а есть только сочувствие и жалость.
Он подошёл к Тине, которая смотрела на него испуганными глазами, и сказал тихо:
— Не переживай, Христя… Раз мама тут, всё будет нормально.
И улыбнулся.
Он впервые назвал её Христей, как называл её только отец, и сказал не «моя мама», а просто «мама».
Тина улыбнулась ему сквозь слезы.
…Во втором классе у них уже была одна фамилия — Ярёменко:
Тина и Ивасик Ярёменки.
Одноклассники не сразу привыкли к этому. Гришка Гонобобель даже пробовал хихикать, а Соня Боборыка и Люська Заречняк — сплетничать.
Но Ивасик взял Тину за руку, стал посреди класса и сказал:
— Это моя сестра. Моя мама — её мама. А её папа — мой папа. И кто будет хихикать и сплетничать об этом, тому я дам по голове.
Одноклассники постепенно привыкли.
В четвёртом «А» это теперь чуть ли не самая счастливая, самая весёлая, самая дружная семья — семья Ярёменков: папа, мама, брат и сестра.
* * *
— Ну так что? Подойдём к Ивасику? — спросила Шурочка.
— Не надо, — сказала Тина. — Если бы это сделал он, я бы знала. От меня он бы не стал скрывать.
— Так зачем было говорить? — пожала плечами Натали. — Ох уж эти сестрички!
— Слушайте, а… а может быть… вы только не смейтесь… — Тая Таранюк покраснела. — Но в жизни как раз бывает так, что героем оказывается тот, на кого меньше всего думали.
— Кого ты имеешь в виду? — прищурилась Шурочка.
— Валю… Тараненко.
— Тараненко?! Валю?! — Шурочка сделала большие глаза.
— Представьте себе! — многозначительно кивнула Тая. — В жизни именно так и бывает.
— Вообще-то… кто его знает… — почти согласилась Натали. — Во всяком случае, в детективах точно. У Агаты Кристи, например, или у Сименона. Я читала… в оригинале.
Валя Тараненко
Как это ни печально, но Валя Тараненко был трус.
С самого детства.
И в детском саду его все обижали, колотили, а он не мог дать сдачи. И в первых классах тоже.
Ну что это, люди добрые, за закон такой удивительный. Нетрусов никто и пальцем не трогает, а если ты трус, то вроде на тебе написано: каждый тебя и локтем толкнёт, и на ногу наступит, ещё и обругает при этом чего, мол, крутишься под ногами. Беда, да и только!
Кстати, Валя не был таким уж немощным, слабосильным. Мог бы, кажется, постоять за себя. Да не поднималась у него на других рука, не отваживался он. Боялся. Отойдёт, проглотит обиду, поплачет втихомолку «и вся игра», как говорит семиклассник Вася Лоб.
Сколько уж раз решал Валя, говорил себе: «Ну, всё! С завтрашнего дня перестаю бояться. Всё!»
Однако наступало завтра, и хлопцы прыгали с высокого школьного крыльца. А Валя подходил к краю, заглядывал вниз, в животе у него обрывалось, холодело, и он пятился назад. Или нажимали хлопцы кнопки, набирая код какой-нибудь квартиры (с недавних пор на многих киевских домах установили автоматические замки и переговорные устройства). Отзовётся в динамике скрипучий голос: «Такая-то квартира слушает». Хлопцы в микрофон: «Здравствуйте, я ваша тётя!» и ходу, хохоча, герои! А Валя уж и отважится, кнопки понажимает, да только услышит голос, дрожит весь и, слова не сказав, убегает.
Ну что ты сделаешь!
Тяжело жить трусу в этом сложном мире, где на каждом шагу подстерегает тебя что-то неожиданное и опасное.
Особенно отравлял жизнь Вале один человек. Курносый, щербатый, с оттопыренными ушами. Учился этот человек в другой школе, но жил в проходном дворе, через который Валя ходил в магазин. Человек был одного с Валей возраста и такой же ростом, может быть, даже на сантиметр ниже.
Но никого Валя так не боялся, как его.
Валя не знал его имени и называл его Фрукт. Когда-то он слышал, как в очереди один дяденька возмущённо сказал про другого, который лез без очереди: «Ну, фрукт! Я ещё такого не видел».
Фрукт ни разу Валю не ударил. Но всегда, когда Валя проходил, издали делал угрожающий жест рукой и смотрел так, что у Вали трусились колени и он ускорял шаг.
Всё дело в том, что через плечо у Фрукта висели боксёрские перчатки. Всегда, когда Валя его видел, Фрукт то ли шёл на тренировку, то ли возвращался. Кто его знает.
Какая же это была мука для Вали — ходить через проходной двор! И как её, скажите, перенести, когда в одном из домов того же двора жила ещё Мая Юхимец! Та самая Юхимец, которая учится в том же четвёртом «А» и сидит с Маринкой Зозулей прямо перед Валей. Та самая Мая, на чьё розовое ушко и витой блондинистый локон на виске он смотрит все уроки…
Большинство хлопцев в классе единодушно отдавали пальму первенства красавице Аллочке Грацианской.
А Вале нравилась Мая Юхимец.
Ну и что, что у неё носик картошечкой. И одна бровь немного выше, а вторая ниже? Зато какие у неё глаза! И какие ямочки на пухленьких руках возле локтей! И вся какая! Но как всегда в четвёртом классе, когда тебе нравится какая-то девчонка, она на тебя совсем не обращает внимания.
Мая и Марина всё время о чём-то таинственно шептались, то и дело тихо вскрикивая, чтобы привлечь чьё-нибудь внимание («Представляешь! Потрясэ!»).
Валя вздыхал.
Как ему хотелось быть героем! Сделать что-нибудь такое, что делают только смелые, отчаянные люди. Чтобы Мая восхищённо ахнула. Ну, заодно и Маринка Зозуля. Пусть ахнет и она, ему не жалко.
Валя, как и все трусы, особенно любил книжки и фильмы о героях. Сколько подвигов совершил он в мыслях и в мечтах!
А в жизни только и знал, что скрывал свою трусость, чтобы окончательно не осрамиться. И, как все трусы, проявлял недюжинную изобретательность и фантазию, когда хитрил, выкручивался, чтобы не видели, особенно девочки, как он боится.
Тяжело быть трусом!
И вот однажды…
Мама послала его в магазин. Можно было, конечно, не идти через проходной. Но в обход очень далеко — надо пройти квартал, потом ещё один по улице, которая пересекает, потом снова целый квартал… А мама просит быстрее. И к тому же дважды он уже ходил через проходной и Фрукта не встретил. Может быть, тот заболел или же совсем переехал в другой район — бывают же такие счастливые неожиданности. И Валя повернул в проходной.
И только он повернул за угол, как…
Первое, что он увидел, — это были Мая Юхимец и Марина Зозуля. Они стояли на балконе дома, за угол которого он повернул.
Второе — это был Фрукт с боксёрскими перчатками через плечо. Он сидел на ступеньках подъезда дома, который напротив.
Мая и Маринка Валю ещё не заметили, они стояли, опершись на перила, боком к нему. Но ещё шаг — и они его заметят. Отступать назад рискованно — увидят, как он удирает.
Единственный выход — броситься в кусты сирени под балконом. Что Валя и сделал с ловкостью прямо-таки удивительной.
Балкон, на котором стояли девочки, был на втором этаже прямо над Валей, и он хорошо слышал их голоса.
— …И он вдруг как захохочет! — продолжала что-то рассказывать Маринка. А я вот так посмотрела и… всё! А он как скривится!..
— Смешнюля! — хмыкнула Мая.
— Ой, они вообще такие смешнюли!
— И задавули. Думают, что никто ничего не понимает, какие они…
— Ага-га! Комедия!
Судя по разговору, Валю они не заметили.
Но Валя вдруг представил, как он проходит мимо Фрукта, а тот делает свой жест, а может, сегодня не только жест… А Мая и Маринка смотрят с балкона, как в театре.
Будет им сейчас комедия! Будет он им сейчас такой смешнюля, что…
У Вали потемнело в глазах.
Фрукт сидел на ступеньках и не собирался никуда идти.
Что же делать?
И из-под балкона не высунешься, потому что эти глазастые девчонки сразу заметят. Ещё и позовут, чего доброго, — тогда что? Фрукт тут же подгребёт, подрулит…
Ну и ситуация! Хоть до вечера сиди — А мама? А магазин?
Девочки наверху замолчали. Неужели заметили?
И вдруг…
Вдруг во дворе появился какой-то незнакомый чернявый хлопец.
Он смело направился к Фрукту.
Фрукт встал.
Чернявый подошёл к нему и насмешливо осклабился:
— Мухамед Али! А ну дай сюда! — И он схватил рукой боксёрскую перчатку.
Фрукт испуганно отшатнулся:
— Не трогай!
— Козёл! Ты же ни разу их не надевал. Я же знаю. Я же знаю. Я же за тобой давно слежу… Ты же просто носишь их… для показухи.
— Пусти! — Фрукт плаксиво скривился.
— Поносил — дай другому поносить. — Чернявый рванул перчатку к себе.
И вдруг Валя сообразил: да Фрукт же обыкновенный трусишка, такой же, как и он!
И перчатки боксёрские носит для храбрости!
Вале так стало радостно и весело от этого открытия, что он даже хохотнул.
Так чего же тут прятаться в кустах? Чего?
Вот когда надо пройти гоголем мимо врага своего посрамлённого! На глазах у прекрасной Майи Юхимец и Маринки Зозули.
Валя выскочил из кустов и быстрым шагом с презрительной улыбкой двинулся через двор.
Увидев, как Валя решительно приближается, чернявый вдруг замер, внимательно взглянул на него, потом перевёл взгляд на Фрукта, потом снова на Валю. В глазах его мелькнул испуг.
И когда Валя подошёл совсем близко, чернявый криво усмехнулся:
— Да нате вам ваши перчатки! Очень они мне нужны! — Он бросил уже отобранные у Фрукта перчатки на землю и, насвистывая, быстро пошёл прочь.
Валя даже остановился от неожиданности.
Фрукт нагнулся, поднимая перчатки. Потом взглянул мельком на Валю, отвернулся в сторону, тихо пролепетал: «Спасибо!» — и шмыгнул в подъезд.
И только тогда Валя окончательно понял, что произошло.
Его, труса, испугался чернявый чужак, отбиравший боксёрские перчатки у Фрукта! У Фрукта, которого Валя так боялся! И Фрукт ему, Вале, сказал «Спасибо». За спасение.
Так это же… это…
Валя взглянул на балкон. На балконе не было никого. Неужели не видели? Неужели раньше ушли с балкона и ничего не видели?! Вот же…
И всё равно радость, ни с чем не сравнимая радость охватила Валю.
…Конечно, не думайте, люди добрые, что Валя сразу, в один миг, стал отчаянным смельчаком. Так не бывает.
Но если трус впервые преодолел свой страх, почувствовал, что он на что-то способен и отважился на какой-то, пускай незначительный, поступок — не такой уж он и трус.
На следующий день Валя шёл в школу весёлый и радостный. Не было в его душе прежнего страха. И улыбался он уверенно, как никогда.
Гришка Гонобобель, который всегда, когда Валя проходил, шутя замахивался на него, а потом медленно опускал руку: «Не бойся, дядя шутит!» — на сей раз лишь скользнул по нему взглядом и не замахнулся.
Мая Юхимец и Маринка Зозуля уже сидели за партой и о чём-то, как всегда, шептались. Увидев Валю, они лукаво улыбнулись. И во взглядах их было что-то новое.
«Может быть, всё-таки они видели?» — радостно забилось Валино сердце.
Эх, как же хорошо не быть трусом!
* * *
Валя медленно поднял глаза на Шурочку:
— Но вы же уверены, вы же знаете, что это не я…
— Ничего мы не уверены, ничего мы не знаем, — искренне сказала Шурочка. — Если бы знали, не спрашивали бы. В том-то и дело, что не знаем.
Когда они отошли от Вали, Тина, вздохнув, сказала:
— Зря мы его обидели. Он решил, что мы издеваемся, смеёмся. А он не такой плохой хлопец, — Тина укоризненно взглянула на Таю: — Тоже ещё! «В жизни так бывает»… Агата Кристи!
— Ну, я же думала… я не хотела, — покраснела Тая.
— Ну, ладно, девочки, не ссорьтесь, — сказала Шурочка. — Вообще-то, чтобы найти сумку с деньгами и не отдать сразу кому-то из взрослых, самому понести в милицию, да ещё и не просто, а позвонить и потом удрать, надо иметь характер…
— Конечно! — подтвердила Тина.
— Ну да! — кивнула Тая.
— Ну, тогда это — Дениска! — сказала Натали.
Дениска Черногуз
Дениска Черногуз мальчик холёный, воспитанный. Всегда в чистенькой красивой рубашке, в отутюженном костюмчике. И причёска всегда аккуратненькая — бабушка дважды в месяц водит его в парикмахерскую. Драться он не любил, никогда не дрался, со всеми всегда был вежливый, приветливый — и с мальчиками, и с девочками. Никогда не носился воинственно по двору с игрушечным автоматом, отчаянно вопя:
«Тра-та-та-та-та!» И не кричал страшным голосом: «Падай! Ты убитый!» Хороший был, спокойный мальчик.
И потому все в четвёртом «А» очень удивились, когда узнали, что Дениска всерьёз собирается стать десантником. Кадровым военным.
Ведь ещё совсем недавно в первом классе он высказывал совершенно другие желания. В первом классе он хотел быть директором школы. Как Вадим Григорьевич. Хотя нельзя сказать, что это такая уж мирная профессия.
Во втором он хотел стать учёным-лингвистом. Как его отец Вячеслав Иванович. Даже английский язык начал изучать дополнительно. Сверх школьной программы. С учителем-репетитором.
И вдруг…
Об этом в четвёртом «А», кстати, никто не знал.
Вдруг вернулся из армии Денискин сосед, живущий с ним на одной площадке, Валера Соколенко.
Дениска давно, ещё до армии, дружил с ним. Когда Дениска пошёл в первый класс, Валера заканчивал десятый. У Дениски был первый звонок, у Валеры последний.
Валера часто катал его на велосипеде. Сажал на раму, и они ехали на склоны, потом по Петровской аллее мимо Аскольдовой могилы к памятнику Неизвестному солдату. Дениска очень любил эти поездки. Валера привязал к раме специальную подушечку, чтобы Дениске было мягко и удобно. Он держался руками за руль и делал вид, что это он ведёт велосипед.
И в письмах, которые писал Валера из армии родителям, он всегда передавал Дениске приветы.
Однажды он приезжал в отпуск на несколько дней. Это была награда за отличную службу. В лихом берете, в специальной рубашке с отложным воротом, из-под которого виднелась тельняшка с голубыми, более светлыми, чем у моряков, полосками, Валера выглядел так браво, по-молодецки, что Дениска глаз от него не мог отвести.
И когда в один из дней Валера на часок взял его с собой в город, Дениска был счастлив. Валера служил в десантных войсках. Ничего более героического Дениска даже представить себе не мог. То, что рассказывал Валера о службе, казалось захватывающим кинофильмом. Прыжки с парашютом, преодоление водных рубежей, марш-броски на десятки километров, бои с преобладающими силами противника…
— Десантник должен уметь всё, — говорил Валера. — Это воин-универсал. Парашютист, альпинист, моряк, танкист, сапёр… Нет такого военного да и мирного дела, которое бы не умел делать десантник. Если надо — будет командовать торпедным катером, если надо — поведёт самолёт. Один десантник должен уметь обезоружить и обезвредить несколько врагов. И вместе с тем десантник — добрый человек. Всегда поможет, всегда поддержит, никогда не оставит человека в беде.
Дениска слушал и смотрел на Валеру влюблёнными глазами. Но времени было очень мало. Валера тогда смог уделить Дениске только один час.
И вот наконец Валера отслужил и возвратился домой. Жизнь Денискина сразу же изменилась. С первого же дня. В семь часов утра Валера звонил в Денискину квартиру:
— Солдат Дениска! Подъём! На зарядку выходи!
И Дениска с Валерой бежали во двор делать зарядку, а потом — водные процедуры: мылись до пояса холодной водой. Денискин отец в это время всегда ещё спал, потому как по ночам писал докторскую диссертацию.
Затем Дениска завтракал и бежал в школу, а Валера — на работу (он работал шофёром и заодно учился в политехническом).
Однажды в воскресенье они поехали кататься на велосипедах. У Дениски уже был свой «Орлёнок», и он ездил на нём как сумасшедший (так говорила мама).
Провожая Дениску с Валерой, мама повторяла с беспокойством:
— Вы же смотрите осторожно! Такое движение! Дениска! Валера!
Валера сделал успокаивающий жест:
— Тётя Галя! Держите себя в руках. Во вверенном мне подразделении всё будет в порядке!
И они поехали. Валера — впереди, Дениска — за ним.
Как и когда-то, они поехали туда, на склоны Днепра, где Петровская аллея.
Было утро, и на аллее ещё безлюдно.
Октябрь на днепровских склонах особенно красив: в какие только оттенки цветов — от багряного до лимонно-жёлтого — не раскрашивает он деревья! А опавшие листья как пахнут!
Они ехали молча, очарованные красотой осени. Неожиданно впереди в кустах возникло какое-то подозрительное движение. Валера затормозил, Дениска тоже.
Трое помятых, с похмелья парней окружили худенького юношу и говорили что-то угрожающее. Юноша пытался вырваться, но они его не пускали.
Валера слез с велосипеда, положил его на землю. Обернулся к Дениске:
— Ты близко не подходи! Слышишь?!
А сам быстро пошёл к кустам. Ещё издали крикнул:
— Эй! В чём дело?
Один из парней, чубатый, заросший щетиной, окрысился на него:
— А ну хиляй отсюда! Ну!
— Что такое? — продолжая приближаться, спросил Валера у юноши.
— Да вот… деньги требуют, — тихо пробормотал юноша. Чубатый, наклонив голову, набычил шею и грозно двинулся навстречу Валере:
— Ну ты! По земле размажу!
— Врежь ему! Чего смотришь! — отозвались сзади те двое.
Чубатый размахнулся — и…
Всё случилось так молниеносно, что Дениска даже не уследил, как именно действовал Валера. Видел только, что Валера перехватил руку чубатого, присел, крутнулся, швырнул его через себя, и чубатый, вскрикнув от боли, полетел в кусты. А Валера уже бросился на тех двоих. И уже второй, сбитый с ног ловким приёмом, покатился по склону. Третий не стал дожидаться своей очереди, сам бросился в кусты и исчез.
Площадная брань и треск в кустах стали быстро удаляться. Юноша сперва ошалело смотрел, потом пробормотал:
— Спасибо! Спасибо! Благодарю! — и бросился бежать в противоположную от кустов сторону.
Уже на бегу обернулся и ещё раз крикнул:
— Благодарю! — и исчез под Чёртовым мостом на шоссе.
Валера поднял с земли велосипед, смущённо взглянул на Дениску:
— Не говори только дома никому, ладно? Женщины таких вещей не понимают. Особенно мамы. Не будем их волновать. Ни твою, ни мою.
Дениска аж захлёбывался от восторга.
Ох, Валера!
Ну Валера!
Вот это Валера!
Так кем, скажите, после этого можно мечтать сделаться?
Лингвистом?
Не смешите меня!
Однако в четвёртом «А» про Валеру Соколенко никто ещё ничего не знал.
Дениска был не из трепачей, не любил распространяться о своих делах.
Потому-то все и удивились, когда узнали, что Дениска хочет стать кадровым военным, десантником.
А узнали, кстати, тоже совсем случайно.
К Галочке Семёновой, которая сидит за одной партой с Дениской, приехали из Ташкента гости. Семья Рахимовых: папа, мама и двое сыновей — Хамид (во втором классе) и Батыр (в четвёртом).
Правду говоря, приехали они не к Галочке, а к её родителям. Родители с семьёй Рахимовых дружили давно, ещё начиная с дедушек. Дедушки Рахимов и Семёнов вместе воевали, вместе лежали в госпитале и День Победы встретили вместе в Берлине. И дети их дружили, Когда Ташкент пострадал от землетрясения, Семёновы, и старший, и младший (тогда ещё студент), ездили восстанавливать столицу Узбекистана. И вот теперь Рахимовы приехали в Киев. Правда, не в полном составе. Дома ещё осталось трое детей. Всего их у Рахимовых было пятеро.
Приехали они не только в гости, а ещё и на консультацию к академику Амосову — у мамы Рахимовой было больное сердце.
Поскольку родители занимались такими важными делами, Хамид и Батыр, оба в одинаковых тюбетейках, чернявые и неразговорчивые, поступили под Галочкину опеку. И она взяла их с собой на продлёнку. Тем более что продлёнка три часа проходила в Ботаническом саду, или, как они его называли, в Ботанике.
Поскольку Хамид и Батыр были, как уже сказано, неразговорчивые, общаться с ними было трудновато. Поэтому где-то через полчасика четвёртый «А» оставил их в покое. И занялся своими обычными делами — игрой в мяч, в классы, скаканием через резинку и тому подобное. И Галочка, на минутку оставив Хамида и Батыра, чтобы сделать «два Буратино» через резинку, неожиданно увлеклась и только через минут двадцать обнаружила, что уже давно не видит братьев.
— Ой! — вскрикнула она. — А где же мои узбекские друзья?
Четвёртый «А» растерянно переглянулся. Никто не видел, куда они делись. Бросились туда-сюда по аллеям, по кустам. Узбекских друзей не было нигде. Не было, кстати, и Дениски.
— Ой! Где же они?! — схватилась обеими руками за щёки Галочка.
— Представляете? Представляете? Ужас! — и себе приложила руку к щеке Люська Заречняк.
— Спокойно! — сказал Боцман Вася. — Сейчас организуем поиск. Только Марье Демьяновне — ни звука.
Учитель группы продлённого дня, то есть продлёнки, Марья Демьяновна была очень симпатичная, но чересчур пугливая. Всякие ЧП, даже небольшого, местного, масштаба, вызывали у неё такой перепуг, что приходилось успокаивать её всем классом.
— По-моему, я слышал там, в кустах, «ань-ань», — неуверенно сказал Гришка Гонобобель.
— Так чего же ты молчал?! Вот ефчё! Айда! — махнул рукой Боцман Вася.
И весь четвёртый «А» в полном составе бросился в кусты.
— Мальчишки! Девчонки! Осторожнее бегайте! Не упадите! — крикнула им вслед со скамейки под клёном Марья Демьяновна, на миг оторвавшись от книжки.
…Володька Лобода учился тоже в четвёртом классе, только в другой школе.
Я точно не знаю, кто изобрёл водородную бомбу. А вот водяную бомбу, наверное, изобрёл всё-таки Володька. Это очень простая штука. Берётся соска, обыкновеннейшая резиновая соска для младенцев, надевающаяся на бутылочку с молоком. В данном конкретном случае эта самая соска надевается не на бутылочку, а на водопроводный кран. Потом кран потихоньку откручивается, под напором воды соска растягивается и превращается в вот такенную колбасяку.
Когда вы чувствуете, что она вот-вот лопнет, вы немедленно закручиваете кран, перевязываете соску ниткой и осторожно снимаете. Бомба готова. Если теперь вы бросите её, то от наименьшего соприкосновения с головой врага она разрывается, и вашего неприятеля заливает с головы до ног. Эффект потрясающий! Враг обалдевает и по крайней мере на полчаса выбывает из строя (пока не высушится или не переоденется).
Володька Лобода абсолютно неповторимый и невозможный человек. Он не признаёт никаких игр, кроме войны.
У Володьки широкое, скуластое лицо и приплюснутый, без переносицы нос — как у боксёра или американского гангстера. Узкие Володькины глаза пылают сумасшедшим огнём, когда он носится по Ботанике и картаво орёт «Уггя!», что, конечно же, означает «Ура!». Если надо изобразить выстрел, Володька не кричит обычное «пиф», «паф» или «пу». Наставляя пистолетом указательный палец, он противным голосом дико гундосит: «Ань-ань!» И эти неимоверные звуки сеют во вражеских рядах страшную панику.
В общем, Володька Лобода — типичный поджигатель войны.
Причём войны, которые он поджигает, ни в коем случае нельзя назвать справедливыми, благородными или освободительными. Совсем наоборот. В историю человечества наряду с войнами Александра Македонского, Батыя и Чингисхана войны Володьки Лободы войдут как несправедливые, захватнические и опустошительные.
Он нападал на мирных «продлёнщиков» из других школ, забрасывал их водяными бомбами, конфисковывал мячи, скакалки и прочее игрушечное имущество. И отдавал только через час, после вмешательства руководителей продлёнки. Действовал он наскоками, неожиданно и внезапно, без официального объявления войны. И после короткой боевой операции, не дав противнику опомниться и собраться с силами, отступал со своим войском в глубокий, поросший деревьями и кустами овраг.
Именно в этот овраг и сыпанул сейчас наш четвёртый «А».
На дне оврага была небольшая полянка — пересохшее русло бывшего ручья.
И вот тут…
Под тремя деревьями, как в ковбойском фильме, стояли прижатые спинами к стволам Хамид, Батыр и Дениска. Их держали за руки по двое, а Дениску аж трое воинов Лободы. А сам Володька, мокрый с головы до ног, ходил от одного к другому и расстреливал их из автомата-водомёта системы «Соска», гундося при этом:
— Ань-ань! Ань-ань!.. Ань-ань!..
Не желая отнюдь приуменьшить мужское достоинство мальчишеской половины нашего четвёртого «А», я всё-таки должен признаться, что решающую роль в этой конкретной военной операции сыграли именно девочки.
— Ах вы, разбойники!
— Ах вы, хулиганы!
— Ах вы, бандиты!
— Что же это вы делаете?!
— Да как вы смеете?!
— Как вам не стыдно?!
— Пустите сейчас же!
И всё это на такой высокой визгливой ноте, на которой умеют кричать только очень возмущённые девочки.
Я думаю, не только озорники Володьки Лободы, но и настоящее войсковое соединение не выдержало бы, растерялось.
Галочка Семёнова бесстрашно подскочила к Володьке Лободе, вырвала у него из рук автомат-водомёт, швырнула его в кусты и закричала:
— Ах вы, бессовестные! Что же это вы делаете?! Это же наши узбекские друзья! Выходит, они прилетели за пять тысяч километров, чтобы вы вот так обливали их водой? Да мы вас! Да мы вам!
Фельдмаршал Лобода ошарашенно смотрел на неё.
Воины его сразу же отпустили пленников и тоже растерянно хлопали глазами.
Наконец Володька немного пришёл в себя:
— Да ну вас! Раскричались… Уж и поиграть нельзя. Поиграешь с вами в какую-нибудь человеческую игру… Ну, кадры! Айда, хлопцы! Ань-ань!
Впрочем, это «ань-ань» вышло у него хиленькое, дохловатое. И под это дохловатое «ань-ань» войско Лободы скрылось в кустах.
Впервые в истории Лободиных войн победа над ним была одержана без единого выстрела.
Старший из узбекских друзей, мокрый как хлющ Батыр подошёл к такому же мокрому как хлющ Дениске, снял свою тюбетейку и надел Дениске на голову.
— О!.. Дениска — настоящий батыр! Не Батыр — батыр, не Хамид — батыр, а Дениска — батыр!
Дениска смущённо пожал плечами, а все удивлённо переглянулись. Вот что выяснилось.
Батыр и Хамид забрели в кусты. Там на них напало Лободиное войско и захватило в плен. Дениска случайно стал свидетелем этого. Он побежал за ними в овраг. И там, когда Володька Лобода поднял над головой «водную бомбу», чтобы кинуть её на Батыра и Хамида, Дениска осуществил десантную операцию. Сзади набросился на Володьку, ударил по «бомбе». «Бомба» разорвалась у Володьки над головой. Но… силы были неравные.
Что было потом — вы знаете.
Вот тогда-то впервые и узнали все о Денискиной мечте стать десантником.
И хотя «десант» победы не принёс, все решили, что поступок Дениски заслуживает самой высокой оценки. И что мир надо защищать.
И что кадровые военные очень для этого нужны. А десантники, может быть, особенно.
* * *
Через два дня на Денискиной парте лежал листок из тетради в линейку, на котором была выведена жирная красивая пятёрка с хвостиком.
Последняя пятёрка с хвостиком
Нет-нет. Речь не о Денискиной, Денискина была не последней. Впрочем, о той последней расскажем чуточку погодя. А теперь самое время познакомиться с Иринархом Ивановичем. Если вы его никогда не видели, вы себе даже представить не можете, что это за человек. Когда он, слегка прихрамывая, заходил в школу, первое впечатление, что это какой-нибудь профессор. Фетровая шляпа с шелковым бантом. Синий костюм-тройка. Ослепительно белая рубашка, галстук. В руках чемоданчик-дипломат. Если к этому добавить благородные черты немолодого лица, солидную, слегка полноватую, но стройную фигуру, то выйдет портрет члена-корреспондента Академии наук или же художественного руководителя столичного театра.
Да ещё имя, которое встречается, наверное, один раз на несколько миллионов (если не больше) — Иринарх. Иринарх Иванович.
Но он не профессор, не член-корреспондент и не художественный руководитель столичного театра. Иринарх Иванович — учитель труда.
В мастерской он снимает шляпу, переодевается в синюю спецовку, вынимает из дипломата инструменты и начинает урок.
Конечно, есть школы, в которых на уроках труда собирают полупроводниковые схемы, работают с компьютерами, но в нашей школе покамест этого нет. Зато такого учителя труда, я думаю, нет ни в одной школе Советского Союза. Есть, может быть, даже лучшие, но такого нет.
Только не думайте, пожалуйста, что он какой-нибудь чудак, оригинал, как говорится, «с приветом».
Никакого чудачества в нём нет. Разве, может, то, что он носит инструменты в дипломате, вместо того чтобы спокойно оставлять их в шкафу мастерской. Но…
— Носит же музыкант свою скрипку или виолончель с собой, — улыбается Иринарх Иванович. — И ничего. А ведь для настоящего рабочего человека инструмент всё равно что для музыканта скрипка. Ну конечно, дорогие товарищечки, сыны и дочки, токарный станок не понесёшь. А вот ножовку, шерхебель, плоскогубцы, молоток, стамеску, рубанок — запросто. Как-то привыкаешь к своему инструменту. И чужой молоток уже не такой удобный для рук, и чужой рубанок не так стружку снимает…
Нет, ничего в Иринархе Ивановиче нету чудаческого.
Но человек он необыкновенный.
Его уроки труда не только уроки труда, но и уроки истории нашего государства.
На своих уроках Иринарх Иванович всё время рассказывает. А рассказать ему есть что.
Иринарху Ивановичу далеко за шестьдесят, а может быть, даже и за семьдесят, но он ещё крепкий как дуб. Начал он свой трудовой путь в двенадцать лет. И кем только в своей жизни не был: и слесарем, и столяром, и трактористом, и бетонщиком, и каменщиком, и штукатуром, и электриком, и монтажником — все, наверное, профессии рабочие освоил.
— Как десантник, — сказал Дениска.
И куда только не бросала Иринарха Ивановича судьба! Он строил Днепрогэс и Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск и Волго-Балт…
Во время войны он тоже и воевал, и строил. Он был в войну сапёром, строил блиндажи, мосты, наводил переправы. А после войны отстраивал тот же Днепрогэс, разрушенный фашистами, поднимал целину, строил посёлки для первоцелинников. Неспокойный был у него характер. Любил Иринарх Иванович новые впечатления. Любил быть, как он говорил, на передовом рубеже эпохи.
— И работу люблю «оперативную», как я её называю, — говорил он. — Чтобы сделал — и сразу видишь, что ты сделал. И что нужно это людям.
Потом он возводил в Киеве новые районы — Русановку, Березняки, Оболонь.
На Оболони с ним случилось несчастье: упала бетонная плита и раздробила ему ногу. И хоть возраст у него и так был пенсионный, а тут ещё и инвалидность, не захотел Иринарх Иванович сидеть дома. Пошёл в школу учителем труда.
— И ничуть не жалею, что жизнь подкинула мне на закуску такую петрушку, как я это называю, — улыбался Иринарх Иванович. — Десять лет уже вожусь с вашим братом калистратом и не скучаю, дорогие мои товарищечки, сыны и дочки. Нравится.
Надо сказать, что и четвёртому «А» (как и всей, правда, школе) очень нравились уроки Иринарха Ивановича. Даже Гришка Гонобобель на уроках труда молчал и только свистел носом, выпиливая какой-нибудь крючок и слушая в то же время рассказы Иринарха Ивановича.
Этот год для их школы знаменательный. Вот-вот должен был открыться школьный пионерлагерь труда и отдыха. В лесу за тридцать километров от Киева по дороге на Обухов.
Помогали строить лагерь шефы школы — экскаваторный завод, на котором работал Николай Иванович Ярёменко, папа Ивасика и Тины.
Да и не только он работал на этом заводе. В школе училось много детей, чьи родители работали на экскаваторном заводе. В их микрорайоне было несколько домов экскаваторного.
И вот, благодаря энергии Вадима Григорьевича (которая, как вы помните, была равна энергии атомной электростанции) и активной поддержке родителей, удалось построить школьный пионерлагерь труда и отдыха.
Вадиму Григорьевичу очень хотелось торжественное открытие лагеря приурочить к концу учебного года и первую смену «запустить» сразу после экзаменов.
Но, как это нередко случается, строители немного не справились, не уложились в сроки. Поэтому было решено устроить родительский воскресник по доведению школьного пионерлагеря до кондиции, как выразился Вадим Григорьевич.
Это стало известно в последний день занятий, перед последним звонком.
— Слушайте! — сказала вдруг Шурочка. — А давайте и мы попросимся! Старшеклассники не могут — у них экзамены. А мы же в пятый перешли, и экзаменов у нас нет.
— Ой! Правильно! Давайте! — подхватили все. — Это же так интересно!
— А фто? Можно! — сказал Боцман Вася.
— Категорически! — кивнул Ромка Лещенко. Даже Гришка Гонобобель, который все благородные идеи сначала под любыми предлогами старался завалить, эту поддержал сразу:
— Годится! Свежий воздух… лес… В казаков-разбойников поиграем. Рио-де-Жанейро!
— Мы не играть едем, а помогать довести лагерь до кондиции, — строго сказала Шурочка.
— Я пошутил. Хи-хи! — хихикнул Гонобобель. Глафире Павловне идея тоже понравилась, но она решила всё-таки для верности посоветоваться с Вадимом Григорьевичем.
Вадим Григорьевич идею четвёртого «А» горячо поддержал:
— Прекрасно! Молодцы! И четвёртый «Б» сагитируем! Третьи, конечно, ещё рановато, а четвёртые, то есть они уже даже пятые, как раз. Всё! Решено! Заказываю автобусы с сопровождением,
И вот в воскресенье утром пять автобусов, два детских (каждому классу по отдельному) и три взрослых, выехали на Обуховское шоссе.
Автобусы ехали, хоть было солнечное утро, с зажжёнными фарами. Возглавляли и замыкали автоколонну жёлтые с синей полосой милицейские машины. Такой теперь порядок: если везут большую группу детей, автобусы зажигают фары, а впереди и сзади колонну сопровождают машины Госавтоинспекции.
Уже одно это настроило оба четвёртых (а точнее, уже пятых, но мы будем называть их по привычке четвёртыми) на праздничный лад.
— Как испанских королей везут, — улыбнулся Валя Тараненко. — Или премьер-министров.
— А ты думал! — гордо сказала Шурочка. — Дети у нас в стране важнее королей. Не говоря о премьер-министрах.
Так всегда говорила пионервожатая Оксана. В их автобусе ехал Иринарх Иванович. Он уже знал, что идея зародилась в четвёртом «А», и очень за это их четвёртый «А» уважал.
— Молодцы! Хвалю! Именно за инициативу — этот детонатор взрыва трудовой активности масс, как я его называю. Чаще проявляйте инициативу, дорогие товарищечки, сыны и дочки, как можно чаще. И жизнь ваша будет интересной, ценной и неповторимой.
Автобусы свернули с шоссе в лес и на ухабистой лесной дороге закачались, как на волнах. По окнам хлестали ветки деревьев.
А вот и лагерь.
Белые корпуса с грязными, заляпанными извёсткой стёклами. Всюду кучи разного строительного мусора — и на аллеях, и на дорожках.
До кондиции ещё было далековато.
Хоть и предупреждали маленьких детей не брать, поскольку это не развлекательная поездка для отдыха, а трудовой воскресник, кое-кто всё-таки не удержался. Приходьки взяли Наталочкину пятилетнюю сестричку Лесю («Она у нас тихая и смирная, как овечка, да и оставить не с кем, хоть плачь»). И Миркотаны Любиного шестилетнего брата Андрюху прихватили («Вы же его знаете, он и в работе сноровистый, больше, чем некоторые ваши четвертаки, сделает»).
Что касается Андрюхи, то в классе его таки прекрасно знали. Хлопец он был интересный, самостоятельный, что называется, с выдумкой. И для своих шести лет весьма сообразительный. Когда ему не было ещё пяти, он пришёл записываться в школу. И, что интересно, уже тогда знал буквы, счёт, умел читать по слогам, считать до двадцати и даже немного писал. Когда ему сказали: «Подожди годик-второй и тогда приходи», он сердито нахмурил брови: «Некогда мне ждать. Мне надо поскорее. Я же буду первым космонавтом детского возраста. Им такие нужны. Чтобы летать на далёкие планеты».
Оказывается, старшая сестричка Оксана когда-то рассказывала при нём Любе фантастическую книжку, в которой на ракете, кроме взрослых, летели и дети, так как только они уже под старость могли долететь до желанной планеты.
И Андрюха решил готовиться в космонавты. Причём проявил немалую настойчивость.
Как вы уже знаете, Миркотаны любили семейный туризм и каждую субботу-воскресенье отправлялись в поход. Так в этих вот походах малый Андрюха не отставал от старших, а Люду и Оксану иногда и мог перещеголять, особенно в собирании грибов, земляники, разных интересных сучков, из которых папа Миркотан вырезал диковинных животных.
Чтобы казаться старше, Андрюха то и дело хмурил брови и надувал губы, отчего лицо его приобретало комично-серьёзное выражение. На все попытки взрослых да и старших детей посмеяться, подтрунить над ним Андрюха никакого внимания не обращал. Ирония в отношениях с ним как-то сама собой постепенно исчезала, и все начинали относиться к нему серьёзно.
Поскольку директору Вадиму Григорьевичу пришлось агитировать четвёртый «Б» на воскресник, то и бригадиром четвёртого «Б» стал он сам.
А бригаду четвёртого «А» возглавил уже Иринарх Иванович. Бригадой родителей руководил Николай Иванович Ярёменко. Бригада родителей доводила до кондиции корпуса лагеря: мыли помещения, красили окна, двери, исправляли разные технические недоделки (подгоняли двери, прибивали шпингалеты, ручки, врезали замки). А также убирали с территории остатки тяжёлого строительного материала.
Ну а бригады «бешников» и «ашников» разделили всю территорию на два одинаковых участка, и каждая бригада должна была убрать со своего участка весь мелкий строительный мусор — разные камешки, щепки, железячки и тому подобное. Территория была довольно большая, поэтому работы хватало.
И ясное дело, само собой возникло соревнование. Ну, просто не могло не возникнуть. Где вы видели, чтобы рядом работали три бригады и каждая не хотела бы сделать свою работу лучше и быстрее?
Откровенно говоря, бригаду родителей можно было бы из нашего соревнования исключить сразу. Хотя родители принимали участие самое активное и тоже каждый час бегали к доске с показателями записывать свои достижения. Но было ясно с самого начала, что бригада родителей проиграет и окажется на третьем призовом месте. Поскольку где это вы видели, чтобы в соревнованиях родителей и детей родители когда-нибудь выигрывали?
По-настоящему соревновались только бригады четвёртого «А» и четвёртого «Б».
От всех трёх бригад были выделены представители в специальную комиссию по подведению итогов соревнования. И эта комиссия ежечасно выводила баллы каждой бригаде, записывая их на специальной доске, висящей на сцене лагерной летней эстрады.
Между прочим, брались во внимание не только голые показатели хода работ. Нет! Голые показатели ещё не свидетельствовали о победе. Не менее важным был ещё целый ряд обстоятельств. Например, дружная весёлая атмосфера во время работы в течение этого часа. Отсутствие споров и, так сказать, сумма смеха. Как пишут в газетах, «смех в зале», так и члены комиссии записывали в своих блокнотах, а потом на доске «смех» и ставили плюс. Количество плюсов обязательно входило в показатели. Беспричинный смех («гоготание», о котором говорят: «Смех без причины — признак дурачины») не засчитывался.
Был ещё один показатель — «трудовая песня», то есть песня, помогающая в работе. Причём опять-таки шумовые эффекты, так называемое «горлодрание», не засчитывались.
Тут, к большому сожалению четвёртого «А», показатели четвёртого «Б» были значительно выше. Солистка «бешников» Таня Верба своим чистым, как родничок, и заливистым, как серебряный звоночек, голосом выводила такие трели, что их подхватывали в кустах аж два соловья. И это было так прекрасно, что все, и дети, и взрослые, вмиг замерли и какую-то минуту молчали, слушая это трио: Таню и двух соловьев.
Благодаря Тане Вербе «бешники» сильно рванули вперёд.
Зато по смеху лучшими были «ашники». Тут показали себя настоящими молодцами Кум Цыбуля и Боцман Вася. Они так весело, так остроумно друг друга шутя «подначивали», что вся бригада аж взрывалась от дружного хохота.
В работе постепенно выяснилось, что вулканическая энергия директора Вадима Григорьевича всё-таки не могла заменить огромного трудового опыта Иринарха Ивановича.
Учитель труда, как полководец, меняя тактику в зависимости от загрязнённости территории, то бросал главные силы бригады на левый фланг, то переносил на правый.
Прихрамывая, он обходил боевые порядки своей армии и повторял:
— Молодцы! Орлы! Горжусь вами, товарищечки, сыны и дочки! Отличники-передовичники, так я таких называю.
Ни одно руководящее указание не могло бы подстегнуть больше, чем это «горжусь вами».
И каждый так старался, так старался, как, наверное, никогда в жизни.
Можете верить, можете не верить, но шестилетний брат Любы Миркотан Андрюха не только не отставал от «четвертаков», а был среди первых. Нахмурив брови и надув губы, он выискивал в траве такие мелкие щепочки и железки, которые не замечали другие.
— Ну характер! — восторженно разводил руками Иринарх Иванович.
И когда после обеда пятилетнюю сестричку Натали Приходько Лесю укладывали на веранде часочек поспать и кто-то из родителей заикнулся: «Так, может быть, и Ан…» — Андрюха так сверкнул глазами, что тот не договорил, умолк и спрятался за чью-то спину.
Конечно, и смех и песни — дело нужное, но главным всё-таки в соревновании был труд, то, что бригада сделала.
И сам лучезарный директор Вадим Григорьевич, бригадир бригады «бешников», через два часа после обеда, когда трудовой день ученических бригад завершался (ясное дело, он был короче взрослого), честно признался перед всеми:
— Конечно, нам очень хотелось быть первыми, что и говорить. Или хотя бы сравняться, то есть когда говорят: «Победила дружба…» — но… хотя мой четвёртый «Б» работал отлично и по песням был вне конкуренции… на этот раз первой придётся признать бригаду Иринарха Ивановича. И я лично открыто признаю его руководство бригады непревзойдённым. Если пользоваться военной терминологией, то я только старший сержант, а он — генерал.
Такая директорская скромность на всех произвела очень хорошее впечатление, и даже «бешники» после этого не так уж переживали своё поражение. Раз сам директор не стыдится второго призового места, то чего уж им!
Взрослые ещё продолжали работать, а ученические бригады отдыхали. Таково было распоряжение начальства.
Кто в жмурки играл, кто в горелки, кто в сыщиков-разбойников, кто в классы, кто в волейбол. Это уж как водится. А кто просто себе гулял по лесу. Шурочка Горобенко и Тая Таранюк были как раз из таких. И вот, гуляя, отошли они довольно далеко и вышли на дорогу, по которой приехали в лагерь.
И вдруг увидели Андрюху.
Ползая на коленях и сопя от старательности, он что-то чертил зажатым в кулаке сучком прямо на пыльной дороге. Причём всё время насторожённо оглядывался и торопился. Словно делал что-то непозволительное или секретное. Девочки были далеко, он их ещё не заметил.
Шурочка приложила палец к губам, и они с Таей, свернув в кусты, крадучись, приблизились.
На дороге большими буквами было написано: «Весь четвёртый “А”». А внизу здоровенная, метра на полтора, пятёрка с хвостиком. Именно в тот момент, когда девочки приблизились, Андрюха заканчивал выводить этот самый хвостик.
Девочки успели только раскрыть рты от удивления, как Андрюха уже встал, ещё раз оглянулся воровато и побежал в сторону лагеря.
— Так вот кто эти пятёрки с хвостиком выставлял! — покраснела Тая.
— А Люба, значит, приносила и клала на парты, — сказала Шурочка. — Но Андрюху трогать не будем, поговорим с Любой.
…Люба так растерялась, что сразу и не ответила. Потом вздохнула и опустила голову:
— Ему так хотелось, чтобы была тайна. И он же не двойки, не единицы пятёрки ставил! Понимаете, я всё время рассказывала дома про наш класс. И вот как-то рассказала про Кума Цыбулю, про ту историю с яблоками. Андрюха и говорит: «Знаешь, а его надо отметить. Давай ему пятёрку поставим». И вывел на листке из моей тетради пятёрку с хвостиком. Он почему-то так пятёрки пишет. И сказал, чтобы я тайком подложила Куму Цыбуле на парту и никому чтобы ничего не говорила. Ну, я и молчала… Только не думайте, только не думайте, что он и мне написал. Нет! Это уж я не знаю кто, это уж кто-то другой.
— А я знаю кто, — сказала Шурочка. — То есть не знаю, а догадываюсь.
— Аллочка? Правда? — подняла на неё глаза Тая.
— По-моему, да…
Люба почему-то покраснела, потом умоляюще посмотрела на девочек:
— Только вы не говорите ему, ладно? Пусть он думает, что никто не знает. Он так хочет, чтобы была тайна.
— Конечно, конечно, — покраснела Тая.
— Не скажем. Пусть думает, — кивнула Шурочка. Так перестала существовать первая тайна четвёртого «А» класса. А через полчаса совсем случайно раскрылась и вторая. Те две милицейские машины, сопровождавшие автобусы, проводив их к лагерю, с утра поехали назад в Киев. А под вечер приехали опять. Поскольку взрослая бригада, к которой присоединились и шофёры автобусов, ещё свою работу не закончила, милицейским машинам пришлось ждать. И конечно же, их окружили хлопцы. Ну какие бы они были хлопцы, если бы не окружили милицейские машины и не воспользовались бы случаем поговорить о разных уголовных делах, об отчаянных погонях и преследованиях!
И вот Игорь Дмитруха, между прочим, спросил белобрысого, с пшеничными усиками автоинспектора-лейтенанта, который стоял, опершись на капот машины:
— Скажите, а вы случайно не знаете, нашли того хлопца, который сумку с деньгами в милицию подбросил?
— Представь себе, что как раз случайно знаю, — улыбнулся лейтенант. — Друг мой в том райотделе работает. Нашли. Её, оказывается, несколько человек видело. Описали, и по словесному портрету нашли. Кстати, девочка, а не хлопец. Не из вашей, правда, школы. Вообще из другого района, из Дарницы. Случайно в том скверике была. У неё там бабушка напротив живёт. Скромная такая, застенчивая, говорит, девочка. Не помню точно, как зовут. Но нашли. Он мне как раз вчера говорил.
— Ха-ха! — расплылся в улыбке Игорь Дмитруха. — Из другой школы! Девочка! Ха-ха! А они думали, что из ихнего передового «А». Разогнались!.. А это чужая. Конечно! Я так и думал. Не мог никто из ихнего такое сделать. Не те кадры. Мелкота!
Спасокукоцкий и Кукуевицкий весело захихикали. А Галушкинский и Монькин даже захохотали.
— А вот и те, те кадры! Неправда! — закричал Валя Тараненко.
— Обознался! Геройский кадр! Ха-ха! — презрительно бросил Дмитруха под дружный хохот «бешников».
Валя втянул голову в плечи. Хлопцы-«ашники» промолчали. Как-то тяжело говорить о самих себе, что мы, мол, не такие. А девочек из «А» поблизости не было. И потому в этом игровом эпизоде, как любят говорить спортивные комментаторы, «бешники» были сверху.
И хоть было понятно, что «бешники» берут реванш за сегодняшнее поражение, настроение у наших хлопцев малость подупало. Неприятно, когда кто-то сомневается в твоей способности совершить благородный поступок.
Наконец этот необыкновенный трудовой день кончился…
Лагеря не узнать!
Всё кругом чисто. Белые корпуса светятся чистыми окнами в лучах заходящего солнца.
Над эстрадой — красный транспарант с белыми буквами: «Приветствуем первую смену! Радостного вам труда! Весёлого вам отдыха!»
А на большущей клумбе высажено цветами: «Добро пожаловать!»
Любо глянуть, какая всюду красота. И особенно — когда это дело твоих рук. Автобусы уже заполнены. Вот бежит последний пассажир — шестилетний Андрюха, который где-то было затерялся, чем очень взволновал Глафиру Павловну. Родители почему-то волновались значительно меньше. Вот уже и он сидит на переднем сиденье у окна.
Прощально пропела сирена милицейской машины.
Автоколонна двинулась.
Шурочка и Тая прилепились к окну.
Вот сейчас… сейчас… вот…
— Ой! Смотрите! Смотрите! — удивлённо вскрикнула Оля Татарчук.
На обочине дороги, на пыльной земле, виднелась уже знакомая нам нацарапанная сучком надпись: «Весь четвёртый “А”» — и большая пятёрка с хвостиком.
Все повытягивали шеи, выглядывая из окон. Сидящие с другой стороны повскакивали с мест, а некоторые даже вскочили на сиденья.
По лесной ухабистой дороге автобус двигался медленно, и потому все успели заметить.
Но не проехали они и сто метров, как снова автобус взорвался криками.
На обочине было написано: «Весь четвёртый “Б”», и тоже стояла здоровенная пятёрка с хвостиком.
Автобус четвёртого «А» ехал первым после милицейской машины. Следом за ним ехал автобус четвёртого «Б».
И все «ашники» обернулись назад.
Там уже тоже увидели надпись, и в их автобусе поднялась такая же самая удивлённая суета.
Шурочка и Тая взглянули друг на друга, а потом на переднее сиденье.
Ещё никто, кроме них, не знал Андрюхиной тайны. И Шурочка громко, на весь автобус, сказала:
— И правильно! Они сегодня тоже абсолютно заслужили.
— Ага! Правильно! Заслужили! — закричали девочки. Хлопцы молча переглянулись. Валя Тараненко пожал плечами:
— Может, и заслужили, не будем злопамятными… — Потом подумал и добавил: — Будем благородными.
И хлопцы одобряюще загудели. Это всё-таки приятно — быть благородными. А Шурочка сказала, опять же таки громко, на весь автобус:
— Я не знаю, кто ставит эти пятёрки с хвостиком, но это мудрый и добрый человек.
— Да здравствует его мудрость! — подхватила Тая.
— И доброта! — закончила Шурочка. Они снова взглянули друг на друга и улыбнулись. Андрюха этого не видел.
Сидя на переднем сиденье, он солидно хмурил брови и надувал губы. Глядя на него, никто бы не подумал, что он имеет какое-то отношение к тем надписям на дороге…




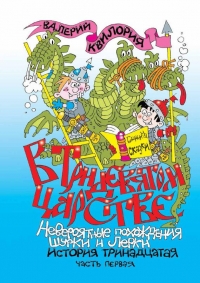




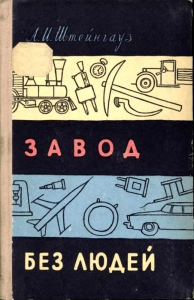

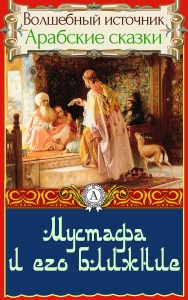

Комментарии к книге «Пятёрка с хвостиком», Всеволод Зиновьевич Нестайко
Всего 0 комментариев