Алексей Данилов Своими руками
Начало книги
Немало книжек написано о диких и домашних животных. Названий их не пересчитать по пальцам. И больше всех повезло в этом «другу человека» собаке. Тут и рассказы, и повести, и романы: «Мильтон и Булька», «Каштанка», «Белолобый», «Белый Бим Чёрное ухо», «Кусака», много и стихов разных поэтов написано о собаке. Но только ли собака является другом человека?
Наверное, многие животные обиделись бы на нас, узнай они, что мы лишь собаку считаем своим другом. Я представляю, как подошла бы ко мне коза-дереза и спросила бы, если б она умела говорить: «Скажите: это правда, что пёс Барбос вам лучший друг?» — «Это правда, — пришлось бы мне ответить. — Все так считают». — «А кто же я вам?» — спросила бы коза-дереза.
На этот вопрос я не смог бы дать ответа. Для меня все домашние животные равны: и собака, и кошка, и свинья, и овца, и коза, и коровушка. Они все приносят человеку пользу. Если овца не будет давать нам шерсть, у нас не будет тёплого свитера, шерстяных носков и варежек, костюма и пальто. Корову справедливо называют фабрикой на четырёх ногах. От коровы мы получаем молоко, а из молока делаем сыры, масло, сливки, творог, сметану, кефир, простоквашу. Разве назовёшь корову недругом? Разве не заслуживает она, чтобы о ней были написаны художественные произведения?
В войну на коровах перевозили вещи, детей, пахали и боронили землю. Всё это я видел своими глазами, своими руками впрягал корову в тачку и в плуг, сам был погонщиком и пахарем. Вот почему я и решил написать книжку о корове — не об одной, конечно, о многих, и не только о коровах, но и о людях, кто пасёт коров, доит, ухаживает за ними.
Я думал, что написать такую книжку будет легко, но я ошибся. Чтобы рассказать об этом удивительном животном, о корове, рассказать всё, нужно много времени: рассказывать надо с истории и заглянуть в будущее, надо поездить по разным местам, посмотреть разные породы, послушать рассказы людей о корове, собрать интересные истории.
Известно, что во всём мире насчитывается свыше тысячи пород крупного рогатого скота. И все они разные. На юге, например, есть коровы с горбом, а в некоторых странах водятся безрогие быки. И у каждой коровы свои особенности, свой характер. Да, да, характер! Правда, характер коровий называется по-другому — норовом. «У каждой коровки свой норов», «норовистая корова». Норовистой считают ту, которая не слушается хозяйки, пастуха.
Эта книжка — лишь начало большой книги о домашних животных, которую стоит написать. С ними связана вся жизнь человека от мала до велика. Иные неблагодарные люди называют корову глупой скотиной, но корова спасает человека от голода. Щенка или котёнка, оставшихся без матери, не вырастишь без коровьего молока. Коровы спасают овец и телят от волка, при ночном пожаре будят хозяев, поднимают тревогу при опасности. Коровы оказываются и хорошими пловчихами. В Чудском озере коровы с одного острова переплывают сами на другой, где растёт хорошая трава, а от острова до острова не меньше километра, глубокий пролив. И сами они возвращаются к вечеру домой.
У человека много друзей, много помощников, которых надо знать и любить. Об этом я и написал книжку «Своими руками».
Рассказы
Коровьи работники
У каждой коровы есть работники. И не один-два работника, а много. На домашнюю корову работает вся семья: это отец и мать, братья и сёстры, а если есть дедушка с бабушкой, то и они служат у коровы в работниках. Хочешь есть молочко, мясо, масло с творогом, — поработай на корову за это. Говорят в народе: «Любишь кататься — люби и саночки возить». Можно к этому сказать: «Любишь маслице — люби и за коровкой ухаживать».
Хозяйки в деревне иногда корову называют барыней. Придёт в хлев с подойником, а корова лежит, хозяйка её поднимает:
— Напилась, наелась и разлеглась, как барыня. А ну, вставай.
Если расставлять работников коровьих по старшинству, то главным работником надо назвать хозяйку дома: она и пойло готовит корове, и доит её, и телёнка её выхаживает, и пастуха нанимает и кормит. На втором месте стоит хозяин дома: он задает корове корм, но прежде готовит его, косит траву, возит к дому, убирает в сарай или складывает в стог, ремонтирует хлев, кормушку и убирает из-под коровы навоз. На третьем месте — дети: они помогают и матери и отцу, носят или возят воду, корм; когда скажут, навоз в огород отвозят, чистят корову щёткой или гребёнкой, пасут на росе, бывают у пастуха в подпасках, если пастух берёт помощника по очереди с каждого двора. Потом на лето работником коровьим становится пастух, а при коровьих болезнях — ветеринар.
Ну, а на колхозных фермах всё по-другому. Здесь главный работник — зоотехник, потом доярки, потом скотники, подвозчики кормов, механики, электромонтёры, телятницы, весовщик, председатель колхоза или директор совхоза — словом, и не перечислить всех. И весь порядок моего перечисления — кто главный работник, а кто не главный — не совсем верен. Можно посчитать, что человек, который убирает от коров навоз, выполняет самую последнюю и пустяшную работу. Но без его труда и забот коровы потонут в навозе, ни доярке, ни кому другому не будет ходу, молоко будет с грязью, станет несъедобным и к коровам пристанут разные болезни. Тут все главные и нужные, и лучше об этом не спорить.
Пастухи
Профессия пастуха всегда была редкой и ценилась дорого. Такой она и сейчас осталась. А скоро на пастуха будут учиться в сельскохозяйственных школах, потому что настоящий пастух должен быть грамотным, знать математику, уметь читать научные книжки, знать породы скота, определять коровьи болезни и уметь их лечить, когда не окажется близко ветеринара. А ещё он должен знать травы, которые можно съедать корове, а которые нельзя, потому что бывает ядовитая трава и портящая вкус молока. Всегда была пастушья грамота, но передавалась она от старых к молодым опытом: брал пастух себе подпаска и определял, годится он в пастухи или не годится. Если ему попадался плохой подпасок, то на второе лето он искал себе другого.
В народе говорят, что поэтом надо родиться. И пастухом тоже нужно родиться, иметь к этому призвание. Правда, считают, что в пастухи идут лодыри или мало к чему способные люди, но это совсем неверно.
Кто раньше всех в деревне встаёт?
Петух и пастух.
Кому не страшны ни солнце, ни ветер, ни гроза, ни обложной дождь и мокрая трава?
Пастуху.
Кто отвечает и за бодливого быка, и за паршивого барана?
Пастух.
А кто всё лето целыми днями разговаривает только с коровами и овцами?
Тоже пастух.
Потому и не каждый мог, не каждому нравилась жизнь пастушья. И потому-то до войны не много бывало пастухов в деревнях, которые из лета в лето нанимались пасти скотину.
В нашей деревне было два пастуха: Дмитрий Семёнович Машков и Маноха — так звали не старого ещё мужика-бобыля, Ивана Фомичева, имя которого произносилось крайне редко. Дмитрий Семёнович был стар, славился как пастух на далёкую округу, и его каждую зиму зазывали пастушить во многие деревни. О найме пастуха тогда заговаривали уже с осени. Дед Митрий — так звали Дмитрия Семёновича — был выгоден потому, что он ходил со своими подпасками, с детьми. В деревнях не в каждом доме находились в подпаски ребятишки, и безребятные наниматели искали пастуха со своими помощниками.
Пастушил он по-разному, кормил скотину не всегда одинаково. Обкормит его какая хозяйка, тяжело ему станет бродить по пастбищам — он положит скотину, угнав её с глаз долой от хозяек, и на полдень или к вечеру вернёт голодной. Занимался дед Митрий и плетением плетушек возле стада, когда пригодными бывали ивовые прутья, не ломались. Заросли ивняка находились в дальних от деревни верхах, дед Митрий угонял туда скотину, обходил вокруг стада несколько раз вместе с подпаском, укладывал и занимался другим промыслом, плёл плетушки. Коровы — разумные животные, неназойливые. Если они видят, что пастух сидит или спит, то и они будут лежать, пока какая-нибудь невоспитанная коровёнка или телушка, проголодавшись, не поднимется и не пойдет к свежей траве, не подаст пример остальным и не разбудит пастуха.
Хозяйки сразу узнавали, когда пастух плохо кормил скотину: не дадут коровы молока — пастух не двигался по лугу, проспал возле стада. Вечером ему выговор. Дед Митрий исправлялся, а другой, Маноха, — тот чем больше его ругали, тем он настойчивее морил коров. И налаживал пастьбу только после строгого предупреждения мужиков, обещавших его побить.
Маноху нанимали лишь по несчастью, когда не находился другой пастух. Пастухом он считался дешёвым, ему меньше других платили с головы (за одну корову), и всё равно за ним не гонялись.
Бывали пастухи случайные. Придёт кто-нибудь из дальней деревни никому не знакомый, или кто из своих надумает легко заработать в пастухах и наймётся стеречь скотину, когда другого пастуха, настоящего, нет. Так однажды нанялся пасти скот нашенский мужик Пантюшка.
Ростом Пантюшка был маленький, но крикливый и злой. Зло в нём вспыхивало мгновенно и быстро проходило, но для пастуха такой характер совсем не подходит.
Издавна известно, что обходиться со скотом следует ласково. Грубость и побои не сделают животное послушным. Пастух Пантюшка пас стадо с тяжёлой дубинкой, в своём гневе он беспощадно бил коров и овец. Дубинку он пускал метко и так ударял по коровьему боку, что корова в испуге и от боли жалобно взрёвывала и не могла сразу продыхнуть, а овцы падали и потом долго хромали. К середине лета все овцы оказались хромыми, волочили ноги. Спросят у Пантюшки, что с овцой, отвечает:
— Корова наступила. Овцы лежали в траве, а она зыкнула по жаре и — на овец, передушила не одну.
Люди знали, что хромота у овец от Пантюшкиной дубинки, но сделать ничего не могли. Кнута Пантюшка не имел, потому что сплести его или свить нужно было умение, а он только и умел многословно ругаться да петушиться на людях. Беда была в том, что Пантюшка мог бросить пастушить, а среди лета нового пастуха уже не найдёшь, самим пасти в разгар летних работ невыгодно, да и какой ни есть пастух, он всё лучше очередников, не каждый из них погонит на дальние луга, а изо дня в день крутят стадо на одном месте и почти не кормят.
При найме пастуха всегда выбирались старшими человека три от деревенских. Они сговаривались с пастухом о размере платы, потом разрешали споры пастуха с владельцами скотины, если надо было, и спрашивали с пастуха за плохую пастьбу скотины, за урон головы, за увечья. Бывало, если чья-то корова наносила ушиб овце или ранила другую корову, то с хозяина бодливой коровы брался какой-нибудь штраф. Если овца тратилась, то убыток возмещался овцой или деньгами, и за ранение коровы, если она переставала из-за этого молоко давать, тоже следовало взыскание по уговору.
Не прошло даром и Пантюшке за его дубинку. Сказали ему однажды сменить дубинку на кнут, Пантюшка ответил:
— Брошу дубинку, а к стаду завтра волк пожалует, чем я от него отбиваться буду? Кнут я найду, а дубинку не брошу. Коров ваших я дубинкой не трогаю.
— Смотри, Пантелей, — предупредили его, — тебе отвечать за слова. Ни у одного пастуха того не было, чтобы коровы всех овец переувечили.
Вспыхнул Пантюшка, бросил дубинку, кепку на землю, поскакал прочь от стада с угрозой не выгонять больше, не стеречь, но вернулся. Полсрока отстерег, жаль стало терять заработок, побранился и успокоился, дал слово следить за коровами.
Моя мать была в числе старших. Однажды она мне и сказала:
— Сынок, есть одно важное дело. Ты можешь его сделать, только никому об этом не распространяться. Надо тебе хороших ребят взять, троих-четверых (много — мешать будут), и последить за Пантюшкой-пастухом, бьёт ли он дубинкой скотину. Потом скажете, когда вас спросят об этом. Только смотрите зорче, чтобы честно было. Вам потом за это спасибо будет.
Я обрадовался этому заданию, потому что не надо было сидеть дома, караулить огород или полоть грядки, собрал себе отряд из своих ровесников, и мы отправились тайком из деревни разыскивать стадо.
Куда Пантюшка прогнал стадо, никто не знал. Мы сбегали за колхозный сад, но там на нашем лугу дед Митрий пас якшинских коров, где он пастушил в это лето. Пришлось бежать в Остров — так назывался другой луг. Там и увидели наше стадо. Сено уже было скошено и сложено в стога. Луг был голый, как голова, подстриженная машинкой под первый номер. Коровы лезли в лес, где было много лесной зелёной и сочной травы, но в лесу пасти запрещалось. Подпасок Нюшка, Пантелеева дочь, и сын Серёжка гнали скотину от леса, а сам пастух шёл по другому склону, над которым на поле ещё зеленел овёс, куда тоже рвалась голодная скотина, кричал на непослушных коров, а подходивших к овсу с броска отгонял дубинкой.
Овцы обогнали коров, взбежали к овсяному полю и уткнулись в зелень мордами, вырывая траву вместе со стеблями кистястого овса, жадно хрумкали. Пантюшка молча приблизился к отаре, пустил дубинку, овцы закувыркались по склону. Чья-то овца поволокла заднюю ногу. Мы вернулись в деревню. Мать моя чинила у колхозных амбаров веретьи с мешками, готовились к страде. Мы рассказали ей о виденном. На полднях хозяйки пересмотрели своих овец, пересчитали хромых и объявили Пантюшке, что ни за одну хромую овцу он не получит зарплаты. Пантюшка принялся оправдываться, но нас позвали в свидетели, и он оказался уличённым в жестокости. Был наказан за это, и больше никогда не нанимался пастухом.
Нас Пантюшка запомнил. Потом, когда мы цеплялись за повозку, когда он что-нибудь возил на колхозной работе, он стегал больно кнутом и приговаривал:
— Это тебе за донос. Знай в другой раз Пантюшку.
Спиридон и Васька
Спиридон пришёл в нашу деревню в зимнюю непогоду. К нам прибежали ребята и сказали матери:
— Тётка Доня, нам велели сказать вам, что пастух пришёл наниматься, надо идтить на собрание.
— Принесло его в такую непогоду. Но ладно, пойдём, потолкуем. В погоду, глядишь, всех и не собрать было бы.
Пока мать заходила за соседями, ждала их, я с ребятами прискакал в избу деда Володи, где собирались нанимать пастуха. Ближние, кто раньше был оповещён, были уже в сборе, вели разговоры.
На улице мело и морозило, а в избе было тепло и чисто. Люди были радостные, что пришёл человек в пастухи. И казалось, будто за окнами тепло, солнечно, сходит снег и на днях с дворов выпихнут скотину и новый пастух погонит её на луг. Но шёл ещё декабрь, пастух только договаривался о плате за пастьбу: когда давать ему задаток, какое будет летом питание, сколько копеек с головы на кнут положить (на приобретение кнута). Бывало, что пастух нанимался, а потом не приезжал за задатком, перехватывали его в другую деревню на большую плату. Случалось, что и аванс получал, а после нанимался на сторону.
Спиридон пришёл из Сергиевского посёлка. Никто его не знал. Имя его удивило всех. У нас так никто не звался. Он был коренаст, серьёзен. До разговора с ним бабы зашли к деду Митрию и спросили ещё раз, не надумал ли он остаться пастухом в своей деревне. Он ответил, что ему уже сами из Дальнего Шеинова привезли задаток, что неловко ему подводить людей, но он послушает, сколько пообещается пришлому пастуху платы, и подумает потом, — может быть, и вернёт задаток.
На такие условия с дедом Митрием не согласились: перебивать пастуха считалось делом плохим, а тем более когда он уже принял задаток. Ему и на собрание не велели приходить, потому что скотину он не держал, участия его в собрании не требовалось. Но он пришёл. Разговор со Спиридоном уже начался. Места все были заняты. Дед Митрий оказался перед всеми на виду.
— Что, Митрий Семёнович, пожаловал? — спросила моя мать. — Мы о деле разговор ведём, а ты только мешать нам будешь.
— Да я, падер её возьми (такая присказка была у деда), я послушаю вас да пойду.
— Скотины у тебя нет, нечего тебе и слушать нашу беседу.
— Да, Митрий, иди себе домой, — подсказали другие.
— Иди. Ты не наш.
Потоптался дед Митрий, покряхтел и ушёл.
Спиридон нанялся к нам в пастухи. О выплате аванса не уславливались. Он решил получить полную плату после постановки скотины на дворы, получить разом. О дне выгона ему обещались сказать дня за три. После сговора его покормили — и он ушёл домой, не побоявшись непогоды и позднего часа. Подпасок у Спиридона был свой.
До выгона стада о Спиридоне узнавали, что он за человек. Ему могли и отказать, если бы его обрисовали плохим человеком. Сказано о нём было лишь одно: Спиридон — человек честный и работящий. Так и оказалось на деле.
Спиридон явился в день выгона стада в сказанное ему время. Пришёл он рано, с котомкой за плечами, с длинным кнутом и дубинкой. С ним был подпасок Васька.
Выгон стада всегда был праздником. Мы уже выводили коров на проталины, приучали их друг к дружке, к простору после долгой зимы, нахождения в хлевах, приучали к подножному корму, хотя травы молодой ещё не было, оставалась прошлогодняя. Когда коровы оказывались в стаде, то некоторые принимались бодаться, чесали рога о чужие бока, иногда серьёзно ранили более смирных коров. И уже все знали: у какой коровы бодливый норов, за той и досматривали, старались с первого выгона образумить её, не дать проявить волю на всё лето над другими.
При найме пастуха договаривались, по скольку яиц с головы должны принести хозяйки на выгон. Приносили и бутылку топлёного масла, и хлеб-соль с вышитым рушником.
Хозяйки с пастухом обходили вокруг стада с заклинаниями от волка и болезней, складывали приношения, потом бросали вверх сваренное круто яйцо, и если оно не разбивалось, то считали, что всё стадо будет в сохранности: ни волк не загубит скотины, ни болезнь не пристанет, ни другое какое несчастье не свалится на стадо.
Коровы, скученные на выгоне, смотрели на народ, казалось, были испуганными, не понимали, что происходит. За обходом, с передачей Спиридону хлеба-соли, было брошено яйцо, что мы ожидали нетерпеливее всего. Яйцо разбилось. Люди ахнули, затужили. Пастух новый, да ещё плохая примета. На кого же выпадет несчастье? Спиридон нахмурился, но не сказал ни слова. Он принял дары, попросил отнести всё к нам, вышел по направлению к лугу, приказал подпаску:
— Давай, Васька! До белых мух…
Кормили Спиридона по очереди. Вечером он заходил после ужина в соседний дом и предупреждал, что завтра его кормить их день. Напоминание его было непривычным, потому что он ходил не по солнцу, а вопреки. Люди, привыкшие к прежнему порядку, забывали, что пастух от соседей с левой стороны пойдёт к ним. Он не забывал напомнить, и если хозяйка ко времени не успевала сготовить завтрак, то вина была только на ней, но Спиридон не ждал завтрака, натощак выходил на выгон и ждал сбора скотины. Нерадивая хозяйка потом далеко гналась за стадом, несла завтрак пастухам. Строгость Спиридона не всем нравилась, на него стали наговаривать, что он пасёт скотину с дубинкой, как раньше пас Пантюшка, а кнут и не распускает, всё время носит свёрнутым на плече. И опять подговорили нас посмотреть за пастухом.
Ещё не начинался сенокос. Луга были заказными. Стадо паслось на парах, где трава была негуста. Спиридон шёл впереди стада и время от времени помахивал чем-то над головой. Коровы, сворачивавшие к лугу или в другую сторону, поднимали головы, смотрели на пастуха и направлялись за ним. Дубинкой он не замахивался на коров и кнут не распускал. Пройдя в конец парового клина, он переходил на вторую половину поля и опять сманивал коров за собой.
За весь день Спиридон не распускал кнут, не бросил ни разу дубинку. Только Васька иногда подгонял своим кнутиком отставшую корову, назойливо лезшую к покосам или в хлеба.
Но раз пришлось развернуть Спиридону свой кнут. Был уже сентябрь, ребята пошли в школу, а волки покинули с выводками свои логова и обучали волчат охоте. Подкралась стая к Спиридонову стаду. Матёрые затаились в перелеске, а молодые бросились отбивать от стада овец, но ошиблись выбором. Их почуяли коровы, рявкнули, сбежались в круг, защитив овец и выставив рога навстречу зверям.
Спиридон смекнул об опасности, увидал волков, бросился к ближнему, скрываясь за стадом, на бегу размотал кнут, замахнулся им и обвил молодого волка за шею, придержал. Разъярённые коровы бросились на зверя и со страшным рёвом забодали и растоптали его, так что и шкура волчья ни на что не годилась, нельзя было её снять.
Матёрые волки не отважились приблизиться к стаду, отомстить за своего детёныша, скрылись. И до белых мух, до первого снега не приближались больше к стаду.
После этого случая люди загордились своим пастухом, старались кормить его ещё лучше, чтобы у него было больше сил на волков.
Ни одной овцы не потерял Спиридон за пастьбу. По первому снегу он приезжал получать плату, объехал все дворы, нагрузился хлебом, картошкой, получил деньги, распрощался и уехал. Его звали приходить в пастухи опять, но он отказался. Люди думали, что его чем-то обидели, но причину его отказа я узнал совсем недавно.
Попал я однажды в Сергиевский посёлок, вспомнил о Спиридоне и навёл справки. Мне показали на идущего к нам старика, сказали:
— А вот и сам Спиридон собственной особой. Можешь с ним и поговорить.
Заслышав разговор, Спиридон спросил, кто им интересуется, и, узнав предмет разговора, обрадовался, сказал, что хорошо помнит меня маленьким и любопытным, напомнил, что я никогда не убегал от него, когда он рассказывал разные истории или сказки.
Спиридон тогда не курил. Я спросил у него однажды:
— Дядя Спиридон, а почему ты не куришь? И дед Митрий, и Маноха курят, а ты нет.
— А потому не курю, что отец не велел мне курить до сорока годов, — ответил мне Спиридон. — Кто раньше сорока начинает курить, у того жаба в лёгких заводится, поцарапывает лёгкие когтями, и человек умирает.
Я напомнил Спиридону его давние слова и спросил, стал ли он курить после сорока годов. Он рассмеялся и ответил:
— Нет, не стал. Постарел, и лень стало учиться. Живу и без этого, не кашляю. А ты куришь?
— Я тоже не курю, — ответил я смеясь. — И тоже не кашляю.
Спросил я о Ваське-подпаске, что с ним стало. Спиридон ответил:
— О, этот малый большим совхозом заведует. Учёным считается по скотине. Жить без этого не может. А я хоть и на пенсии, а тоже работаю, за телятами ухаживаю. Сила есть — без дела сидеть не будешь.
Спросил я ещё и о том, чем созывал он к себе коров, рассказал, что подсматривал за ним, не бил ли он коров дубинкой.
— За это на меня скотина не в обиде, — ответил он. — Дубинку я носил с собой на волка да на вора, а коров пас трещоткой. Знаешь ведь эту игрушку?
Я разом вспомнил то далёкое время, когда на полднях после обеда Спиридон строгал палочки, планочки, мастерил трещотки. Подарил однажды он и мне такую и научил самого мастерить.
— Рожков у нас не бывало, как в других краях, — продолжал он, — а скотина привыкает к одному звуку, слушается и спокойнее ест траву. Я тогда и применил трещотку. Изделие нехитро, а пользу приносило.
— А почему же вы не стали больше стеречь у нас скотину? — спросил я.
— Не надо было. Я тогда строился. Избёнка была ветхая. Отстерёг у вас, поставил избу, а больше колхоз отпуска не дал в пастухи. И не вечный я пастух, а так, временный.
Митя Брылёв
Когда прошла революция и ещё не была налажена жизнь нормально, к людям приставали разные болезни: то тиф навалится, то дизентерия косит людей, то от сорного хлеба злая корча пальцы рук-ног отгрызает, а ещё инфлюэнца припожаловала (нынешний вирусный грипп). Ослабленные голодом, люди сдавались без борьбы даже самым безобидным болезням, умирали от насморка, от ангины, от малейшей простуды и истощения организма.
Умерли и Митины родители, его братья и сёстры и вся близкая родня.
Остался Митя один-одинёшенек на белом свете, остался, как говорили о нём, сиротой неприкаянной. Смотреть на его сиротство было неловко и совестно. Митя вызывал у людей жалость, но пожалеть его по-настоящему, приютить у себя, дать кров никто не отважился. Уродился он чудаковатым, картавил, присюсюкивал, личико у него было дробное, нос маленькой помидоринкой, всегда красный и с мокринкой под ноздрями, а характером тихий-претихий — мухи не обидит.
Над Митей сжалились, выхлопотали ему место в детдоме, собрали миром, посадили в телегу и повезли в город Новосиль, где был детдом. Сборы все состояли в том, что Митю покормили на дорогу, сварили с собой несколько яичек, налили бутылочку молока и привели к подводе.
Возчик посадил сироту в телегу, посмотрел, как мальчуган испуганно озирается, подумал: не сбежал бы, чего доброго, хотел привязать его за ногу к тележной грядке, но решил, что не хватит ума у такого на побег, повёз его по прямому назначению, злобясь, что из-за такого ни на что не пригодного мизгиря ему приходится убивать драгоценный день, когда на полях в разгаре весенние работы, надо пахать, сеять, чтобы снова не повторился голод.
Лошади были худы, парой с трудом тянули телегу. По сторонам дороги чернели поля. На лугах зачинала зеленеть нежная молодая травка. В небе пели жаворонки и летали с криками «чьи вы» чибисы. Они злили возницу. Митя смотрел на птиц, отстававших от подводы. Ему казалось, что там, в городе, куда его везли, этих птиц не будет. На глазах у него появились слёзы.
— Не слезокапь, Митяй, — сказал возница. — В городе будешь человеком, а в деревне без отца с матерью погибнешь, вши заедят. Кому ты тут нужон? Никому. У каждого своих ртов хватает. И жизнь разлаженная. Не до тебя людям… Там тебя выучат, начальником станешь.
— Не хосю насяльником, — ответил Митя.
— А кем ты хочешь? — спросил возница.
— Пастухом хосю.
Возница рассмеялся.
— Чудак ты, Митяй. Нашёл дело. Коровам хвосты крутить каждый дурак сможет, а вот науку полезную постигнуть — тут, брат, голова нужна и городская жизнь. Без этого любому умнику эх-хе-хе и хо-хо-хо!
— Не хосю, — повторил Митя и повернулся лицом к задку телеги.
Митя смотрел на овражки, на придорожные кустики, деревья, на перекрёстки дорог, на посевы и перелески. Зажмуриваясь, он видел всю дорогу до своей деревни, казавшуюся прямой, словно холст, с уклоном туда, откуда они выехали. Внимательно Митя рассматривал деревни. И когда подвода выезжала за околицу, то на него наваливалась грусть, будто и эта деревня была его и он никогда больше в неё не вернётся.
Три деревни остались позади. Митя успокоился. Дальше от дома деревни уже стали казаться чужими и неприветливыми. Он оставлял их без сожаления, лишь примечал по-прежнему внимательно дорогу. Возница разговаривал иногда то о пашне, что хорошо мужик вспахал поле, то о зеленях: рожь перезимовала, не подмёрзла и не вымокла, хороший урожай будет. Говорил он и о садах, и о деревенских порядках или беспорядках, хвалил трудолюбивых и ругал лодырей, у кого крыши были провалившиеся.
— Первое дело, Митяй, — крыша над головой, — говорил он. — Когда по непогоде в избе не капает, жизнь раем бывает, а полило — в ад тебя поместили. Ты меня разумеешь?
— Ага, — отвечал Митя.
— Ага, — подхватывал возница, — хорошо без сапога, но на крепких ногах лучше в сапогах.
Проехали они ещё одну деревню. Лохматая чёрная собака провожала их до большого дубового леса. Какая-то ленивая и не злая собака. Она бежала следом, отставала, обнюхивая кусты, столбы граней, камни у дороги, и, словно вспомнив, что впереди чужая подвода, догоняла её, облаивала и опять отставала. В лесу вдруг послышался рёв быка. Митя встрепенулся, встал на коленки. Стада не было видно, а бык ревел, казалось, рядом.
— Ну, Митяй, берегись, — пристращал возница. — Бык одичавший. Встретится — телегу нашу перевернёт и нас закатает. Ты в пастухи ещё рвёшься. Эх ты…
— Бык хоросый, — сказал Митя. — Он заблудился. Ему скусно в лесу.
— Наговаривай, наговаривай мне, неразумный. Быку в лесу скучно! Он нас почуял — у него рога зачесались, вот и ревёт.
— Неправда, — ответил Митя. — Ему скусно.
Дорога через лес шла по дну оврага. Рядом с ней была глубокая протока. С боков промоин свешивались оголившиеся корни и уходили в землю. Корни были похожи на пастуший кнут. Митя смотрел на них и мечтал заиметь такой крепкий, гибкий и длиннющий кнут, чтобы издалека можно было пугать скотину звонким хлопком кнута, поворачивать куда надо.
— Этот зверь совсем рядом, — сказал возница, беспокоясь от страха. — Злая скотина, чёрт возьми. Я бы их всех порешил.
— Не, не злая, — возразил Митя.
— Скажи ещё мне. Не злая! Он от тебя только мокрое место оставит — встренься ему на ровной дороге.
— Не оставит. Он смирный. Это ему скусно.
Бык ревел и ревел. Где-то отзывалось эхо, казалось, что он в лесу не один, что их много и они наступают на проезжавшую подводу.
Дорога повернула влево, повернулся и овраг, и лесные склоны. За поворотом вдруг стало светло. Митя обернулся и увидал безлесье, цветущие на склонах поляны. На правом склоне чернел огромный бык. Он рыл копытом землю, поддевал дёрн рогом, разбрасывал комья по сторонам, и ревел.
Митя соскочил с телеги и пустился по склону вверх к быку.
— Ты куда? — закричал возница. — Стой на месте.
Митя обернулся, что-то сказал в ответ, но голос его не был услышан. Бык поднял голову и направился навстречу Мите, продолжая реветь.
— Митяй, погибнешь! Я за тебя не ответчик! — кричал возница и грозил: — Сейчас догоню — отлуплю как сидорову козу.
Митя подбежал к ореховому кусту, сломил веточку и пошёл к быку. Возница остановил у края поляны лошадей, встал в телеге на ноги и стал смотреть на своего подопечного.
Бык остановился и следил за мальчуганом. Когда тот сломил ветку и пошёл прямо к нему на рога, он нагнул к земле голову, приклонился в коленках и снова принялся разбрасывать сырой дёрн рогами и реветь устрашающе. Возницу пронял страх. Он предвидел верную гибель мальца, готов был броситься ему наперерез, но не хотел из-за него погибать добровольно, подумал, что можно будет отговориться, что бык напал сам, перевернул телегу и забодал Митяя. Он даже присмотрел промоинку, куда можно опрокинуть пустую телегу, наделать следов, если, случаем чего, начнут дознавать о происшествии.
Помахивая веточкой, Митя подошёл к быку и, как будто покропил водой, помахал над бычьим боком, стегнул легонько по костерцу, погнал быка вниз. Возница пустил лошадей вперёд, опасаясь быка.
«Дуракам ни громы, ни молнии не страшны, — думал он. — Их ни мороз и ни огонь не берёт, а мы люди простые, нам лучше подальше от всего».
Бык оборачивал голову, смотрел на Митю, успокоился и послушно сходил со склона на дорогу. Возница был далеко на лесной дороге, поджидая своего подопечного. Он решил, что Митя сгонит на дорогу быка и оставит его, но тот направил скотину в его сторону. Лошади потянули телегу дальше, сначала медленно, потом закрутился над головой в руке кнут, захлестал по лошадям и ход убыстрился. Митя тоже подстегнул быка. Возница встал на ноги и погнал лошадей ещё быстрее.
«Куда он уезжает? — думал Митя. — Я пешком не дойду до города. И не знаю туда дороги».
Мите было невдомёк, что его возница испугался быка. Митя хотел вернуться назад, но решил пройти лес. Такие овражные леса далеко не тянутся. И вскоре он вышел к ещё большему оврагу с узкой речушкой, вьющейся по каменистому руслу среди ивняка и камышей, зазеленевших среди старых будыльев.
Подвода стояла на горе. Бык пристал к воде и стал пить. Митя тоже припал к воде, сдул соринки и напился. Вода была светлая и холодная. Такую воду пить только в жаркую летнюю пору на горячей работе.
Внизу по оврагу паслось стадо. Бык оторвался от воды, поднял высоко голову, понюхал воздух, заревел грозно и пошёл к стаду. Митя по валунам, положенным поперёк реки, перешёл на другой берег и поднялся вверх.
— Ты что за шутки затеваешь? — набросился на Митю возница, направляясь ему навстречу с кнутом. — Надеру сейчас — сесть не на что будет.
— Ладно, надери, — сказал Митя и повернулся к вознице задом. — Он заблудился. И не брухачий он, смирный.
— Садись! Ехать надо, — рыкнул возница. — И вздумай с телеги соскочить — порешу!
Дальше они ехали молча. Митя стал вспоминать своё деревенское стадо, пастухов. К ним приходили наёмные пастухи из чужих деревень. Каждый по-своему стерёг стадо, у каждого были свои причуды и свои пастушьи особенности. Коров и овец с телятами и подтёлками было много, но в голодную пору стадо сильно убавилось, и в эту весну даже не наняли пастуха.
«Вернусь и буду пастухом, — решил Митя. — За так буду. Пускай им всем будет хорошо».
Лошади были потные от слабости. Возница посмотрел на солнце, почесал затылок и сообразил:
— На полдень время стало. Доедем до лужочка, что виднеется за этим полем, лошадей будем кормить. — Митя промолчал. — Слыхал, нет? — спросил возница. — Или обиделся? Я тебе по делу заметил. От чужой скотины надо подальше держаться, знакомство с ней водить опасно. Такой тебя одним рогом подденет — и ты будешь как гриб на сучке сушиться, пока он тебя не скинет. Ты мало жил и не знаешь, какие истории бывают с этой скотиной.
— Не знаю, — согласился Митя.
— Ну так слушай. Я тебе буду рассказывать. Был, как мне дед мой сказывал, у нашего барина бык племенной, заграничный. На семи подводах его привезли. Рога — вон с оглоблю, острые что шило. Племя хорошее он не развёл, а скотников барских помучил как следует, а одного и жизни лишил. Вырвался он из стойла. Кто успел на стенки повскакивать, спасся, а этот спиной к нему стоял, что-то там делал. Бычище на него со всего разбегу. Пропорол, конечно, сквозь и к стенке пришпилил. Остановиться вовремя не смог, пронизал рогом стенку и застрял так. Заарканили его, кувалдами выколотили рог из стенки, сняли человека и похоронили… Вот так бывает, а ты с веточкой к нему… А то уж при мне дело было. Один мой дядюшка вырядился к празднику в красную рубаху, направился в гости. Откуда ни возьмись, навстречу бык. Эко он рявкнул. Почуял мой дядька неладное — в бег. А далеко ли убежишь-то? У быка четыре ноги да силища какая, а дядька на двух ножках да в скользких сапожках. Но бежит, кувыркается. Только видит, не избавиться бегом, к омёту свернул да с ходу, брат, без лестницы на верхушку взлетел. От, думает, спасся. В гости можно и попозже подойти, когда люди отгонят скотиняку. Только так-то он подумал, а бык сквозь омёт пролетел и верхушку на себе понёс. Качнулся дядя с боку на бок, захватил руками солому да так с охапкой и свалился. Бык вперёд с копной соломы на рогах, а дядя к дому с охапкой. Так в избу и влетел с соломой. Всю жизнь над ним смеялись… Ну, а теперь отдыхать.
Низина за полем была широкая, зелёная. Скотину в этом месте не пасли до уборки хлебов. Трава вырастала здесь ранняя и густая. Не один стог ставился на такой малой площади.
— Покормим лошадей и покатим дальше, — сказал возница. — Не были б истощавшие, без передыху бы дотянули бы, а теперь могут стать через версту-другую.
Он свернул лошадей с дороги к стоговищу, где с зимы осталось сено, сказал:
— Отдыхай, Митяй. Хочешь — на сено ложись, хочешь — оставайся в телеге.
— Я в телеге буду, — сказал Митяй и улегся в задке.
Возница надел лошадям на морды торбы с зерном, лёг на сено.
Солнце грело хорошо. Митя закрыл глаза, погрел на солнышке нос. Он, как ему показалось, не спал, но увидел странный сон. Едет он в телеге по ухабистой дороге, а вместо мужика-возницы сидит в передке телеги лохматый медведь, зевает во всю пасть и говорит: «Сейчас, Митяй, зевота пройдёт и я тебя съем». Заглянул Митя в медвежью пасть, а в ней огонь бушует, от которого ему жарко стало. Проснулся он от испуга. Посмотрел, а над ним высокое голубое небо. Приподнялся, увидал на сене дядьку-возницу и разом вспомнил, где он находится. Чужой лужок, поля чужие кругом. Дорога уходит в город и в родную деревню. Там осталась из родни только крёстная мать. Она говорила, когда провожала его: «Если плохо тебе, Митюшка, будет в городе, вертайся ко мне, приючу. Как-нибудь проживём».
Митя сполз с телеги, взглянул на потное лицо возницы, задом отошёл от телеги и со страхом в душе пустился бежать по дороге назад, к своей деревне. Он оглядывался, перебегая поле, постоял перед входом в лес, глядя, не появится ли подвода. Возница, видимо, разоспался, не спохватился о беглеце.
В лесу было тихо, лишь осинки шелестели листвой от набегавшего по вершинам ветерка. Митя пошёл через лес мимо дороги, прислушивался, не застучит ли сзади телега, готовый в любой момент скрыться в зарослях подлеска.
По лесу кричали дрозды и сороки. Зеленел дикий лук, белели звёздочками цветочки и пробивались из листвы баранчики. Митя срывал на ходу лук и ел. В лесу было покойно и уютно, словно в чистой и тёплой избе. Митя не спешил идти. Ему хотелось остаться среди деревьев на всю жизнь. Он придумывал найти овражек, сделать в нём землянку и жить в ней зимой и летом, собирать грибы, орехи, а зимой охотиться на зайцев. Но, представив, как в зимнюю непогоду по лесу будут рыскать волки, не дадут носа высунуть за порог, жизнь лесную он отверг.
Митя выходил из леса, когда на дороге послышался тележный стук. Он юркнул в кусты, отбежал за деревья и затаился. Возница позвал его, подождал и, поругав, грозясь побить, поехал полем, подстёгивая лошадей.
Митя пошёл следом, лишь подвода скрылась из глаз. Через деревню он не пошёл, обогнул её, пробрался за огородами и побрёл дальше. На дороге виднелся след подводы. Но он оглядывался, мог проехать кто-нибудь другой, а возница окажется сзади, внезапно сцапает его и увезёт в город, куда ехать он теперь боялся пуще прежнего.
С заходом солнца Митя добрёл до своей деревни. Он затаился в саду и стал прислушиваться к деревенскому шуму. Он услыхал рёв скотины. Стадо прогнали с луга. Коровы не наелись — ещё мала была трава — и просили корма. У Мити тоже подводило от голода живот, но просить есть ему не у кого было. Он от обиды заплакал.
Спохватился Митя, что ему негде ночевать, когда кусты стали тонуть в ночную темноту, стихали голоса в деревне, а в избах зажигались огни. Проситься на ночлег к кому-нибудь он боялся, знал, что за побег ему будет взбучка.
В саду стоял пустой барский дом — большой, на высоком фундаменте, с подвалом и чердаками, — в котором собирались открывать школу, но дом был заколочен, и забираться в него он боялся. Боялся колдунов и разных злых духов. На углу сада была старая с дуплом ракита. Большой сук, отодранный, но не отвалившийся от ствола, лежал ветками на земле, и по нему легко было подниматься на четвереньках вверх к дуплу.
Митя пошёл к раките. В дупле была настлана сухая трава. Здесь играли ребята, натаскали травы. Гнилые ракитовые стенки были тёплые и мягкие. Он решил жить здесь всю жизнь.
От голода Митя уснул не сразу. Он смотрел из дупла на звёзды и думал, что хорошо бы попасть на далёкую звезду, где всегда стояло бы лето, картошка росла бы варёной и хлеб собирали бы с поля буханками. Там он нанялся бы в пастухи и круглый год стерёг бы скотину, стерёг бы за так, потому что еда ему не нужна была бы и без одёжи было бы тепло.
Проснулся Митя рано. Из дупла было видно, как всходило солнце. Оно было большое и мутное, на него можно было смотреть. Митя впервые удивился, почему солнце бывает разное: утром такое, днём маленькое и яркое — смотреть нельзя без закопчённого стекла, а вечером тоже не горячее и огромное.
К дуплу подлетел скворец, сел на веточку перед Митиными глазами и стал беззаботно и весело распевать. То он кому-то посвистел, потом покрякал по-утиному, кукарекнул, покудахтал, подразнил жеребёнка. Митя умел передразнивать многих птиц. Он зачирикал в дупле. Скворец повернул головку, заглянул в дупло, и, лишь Митя повторил чириканье, он бросился воинственно на воробьиный голос. Митя поймал его рукой. Скворец запищал, словно его живьём щипали, стал клеваться, царапаться.
— Не бойся. Я тебя не трону, — сказал Митя и погладил его по головке.
Скворец успокоился и стал рассматривать Митю.
— Не дери воробышков, а то другой раз не отпущу, как поймаю, — наказал Митя и отпустил скворца.
Позабавившись с глупой птицей, Митя стал соображать, где добыть что-нибудь на завтрак. В саду паслись две коровы на росе. Он подумал, что можно было бы подоить одну из них, напиться молоком, но у него не было никакой посудины. В огородах ещё ничего не выросло. Он решил пойти в поле и нарвать толкачиков.
Митя выбрался из дупла и спустился на землю. За садом были пары, где первыми выскакивали из земли съедобные стебельки хвоща полевого — толкачики. От барского дома отошёл дядька и направился наперерез Мите. И вдруг они в одну секунду остановились и уставились друг на друга. В дядьке Митя узнал возницу.
«Попался», — в страхе подумал Митя и стал пятиться к канаве.
— Митяй, ты? — спросил дядька.
— Нет, не я! — крикнул Митя, повернулся и показал ему пятки.
— Стой, дезертир! — закричал тот и погнался за Митей, но в терновые кусты, куда под колючие ветки скрылся беглец, забираться не решился, пожалел одежду и тело.
Толкачики на пару были редки. Митя шёл и шёл, срывая коричневые сочные стебельки, снимал с них пояски-розеточки, съедал, оставляя головки. Попадался полевой лук. Он поедал и его. Сначала он оглядывался, не гонится ли за ним дядька-возница, но вот ушёл подальше от сада и перестал бояться.
Он вышел к лугу. Справа текла их деревенская речушка, недалеко виднелась соседняя деревня. Там на лугу Митя увидел стадо и направился к нему. Митя любил смотреть на скотину, на пастухов и всегда завидовал им.
Пастух у стада был седой старик, а подпаском шла за стадом тётка. Она поднялась по луговому склону к зеленям, бросила в овец неуклюже палку, но палка полетела совсем в сторону. Митя и сам был неуклюж, но ловчее этой тётки бросал и камни, и палки, а как бросают большие ребята, он на них смотрел с восхищением и завистью, так не мог. Овцы испугались всё же и скатились на луг.
Седой пастух увидел Митю и позвал к себе. Митя радостно сбежал к нему.
— Здорово был, — сказал пастух и спросил: — Ты чей будешь?
— Я ничей, — ответил Митя. — Я из оттуда. — Он кивнул головой в сторону своей деревни.
— А там-то чей? Петров, Иванов, Сидоров или кроме чей? Отец-мать твои как зовутся?
— У меня нету их. — Митя потупил взгляд, склонил к груди голову, сказал со вздохом: — Они помёрли, а я сиротой остался.
— Вон оно что, — глухо проговорил пастух и спросил: — Величали-то их как?
— Брылёвы.
— Ну так как же, знал я Брылёвых. А ты теперь с кем живёшь-то?
— Один живу, — ответил Митя. — Я теперь в ракитке живу. У меня дом в дупле. Я всегда там буду жить. Меня в город возили, в детприёмник, а я не захотел туда.
— Вон оно какие дела-то, — проговорил пастух. — Ну а что же ты собираешься делать дальше?
— Дальше я пастухом буду, а в город не поеду.
— Ну, пастухом тебе рано, а вот в подпаски я тебя взял бы. Пойдёшь?
— Пойду, — согласился Митя. — Я умею и кнутом хлопать, и дубинку швырять. А тётка не умеет. Она размахивается не так.
— Марья, — окликнул пастух тётку-подпаска и позвал: — Подойди к нам на словечко.
— Чего скажешь, дядя Микола? — спросила тётка, подойдя к ним.
— Что тебе могу сказать? Ты вот причитала ноне, что некому тебя заменить, так нашлась тебе замена. Мальчонка-то осиротел, не при деле живёт. Давай его в подпаски усватаем. Много я на него не возьму. Глядишь, потом заместо меня пастухом вам будет.
— Надо с народом говорить, — ответила тётка. — Я не против.
— А коль не против, то оставляй ему своё дело и ступай на деревню, обговори с бабами, а он побегает за тебя.
— Ох, это я с радостью, — сказала тётка Марья, рассматривая Митю. — Вот узелок возьми. Тут еда моя. Поди, голоден?
Митя кивнул, признался, что голоден, но руку за узелком протянул не сразу, а после слов дедушки-пастуха:
— Возьми, возьми. Труд наш большой, находишься — живот вот как подведёт.
Тётка Марья убежала в деревню. Дедушка-пастух заставил Митю позавтракать из её узелка и сказал:
— А теперь ходи. Сами сыты, и скотину нужно накормить. Когда скотина у пастуха сытая бывает, ему спится крепче.
— А почему? — спросил Митя.
— Коровы не мычат, корму не просят ночью, не будят его. Станешь пастухом — первым делом стадо накорми. Хозяйки тебя за это пуще всего любить будут. Покажешь хороший пример — на всю жизнь останешься на одном месте, — поучал старый пастух.
Митя стал ходить за стадом. Был он ещё и мал, и непривычен к такой работе — к вечеру он так уходился, что с трудом переставлял ноги и насилу добрёл до деревни.
Пастух дошёл до крайней избы, сошёл в сторону от дороги, встал лицом к стаду и пропустил его, словно считал поголовно, в деревню, подождал Митю и сказал:
— Всё, Митрий, скотина дома. Нам отужинать — и можно подаваться на пляски. Ты как, русского оттопать сумеешь?
— Не, я спать буду, — ответил Митя и спросил: — А завтра мне тоже стеречь?
— Как скажет народ, — ответил пастух. — Пойдём к Марье, она и скажет нам, как порешили.
С того дня Митя и стал подпаском. Вечером на деревенском сходе решили взять Митю на деревенское содержание, пока он не достигнет своих совершенных лет или станет самостоятельным пастухом. И покатилось лето за летом. Все-то поля и луга исходил Митя за стадом. Смотрел он своими зоркими глазёнками на коров и овец и загодя видел, какая корова отворачивала нос от луговой травы или от паровых трав к посевам. И ещё не успевала она ступить шагу, он кричал: «Куда, куда ты? Я вот тебе задам. Ходи смирно». Не был Митя грозен голосом, но скотина была ему послушна, и он мало бегал за каждой шальной коровёнкой или шелудивой овцой по луговым склонам, по полям и перелескам. Он тихонько ходил за стадом, и лишь слышался его голосок: «Куда пошла?»
Митя ходил в подпасках до четырнадцати годов, потом стал пастухом. У старого пастуха отнялись ноги, и Митя принял деревенское стадо. Но, к удивлению всех, в подпаски он себе никого не попросил, отказался от помощников.
— А зачем он мне? — спрашивал Митя, когда ему говорили о подпаске. — Я один устерегу.
До самой своей смерти Митя пробыл пастухом в одной деревне и пас скотину один. Зазывали его пастушить в другие деревни, перекупали, но он всем давал отказ. Давно нет Мити в живых, но и сейчас его ещё помнят люди и говорят, что, кроме него, не было пастуха настоящего и не будет. И что странно: Митя ни разу не ударил животину палкой и не стегнул кнутом. И ни разу его стадом не было потравы хлебов, а где зеленела травка, туда первым заходило Митино стадо.
Куриный доктор
Известно, что мальчишки заядлые спорщики. Спорить они любят и по делу, и без дела. Особенно в спорах отличаются такие, кто на глаз шустёр да на язык востёр. Такому ничего не стоит доказать другим, что со вчерашнего вечера солнце стало садиться на востоке, а всходить впредь будет с запада. Он будет даже биться о большой заклад, что он прав, и запугает сверстников вызовом: «А не веришь — давай поспорим на сто рублей!»
Попробуй тут не испугаться, заслышав о такой сумме. А вдруг проиграешь?
Где столько денег возьмёшь на расплату? И хоть знаешь, что всё-то он тебе врёт, но в спор вступать опасаешься, подумаешь: «А вдруг он прав». Начнёшь вспоминать прошедший вечер и не можешь вспомнить, в какой стороне вчера солнце садилось. Да так и отступишь от настырного спорщика.
Однажды мне самому пришлось слышать такой нелепый спор и разрешать его, но не в пользу заядлого спорщика.
Была уже осень. Всё городское население отхлынуло из деревни, стало тихо и малолюдно. Городской люд надоедает: и загремят транзисторы по улице, затрещат мопеды, послышится буханье по волейбольному мячу. Будто всего этого они лишены в городе. Так иной проведёт лето и ни птичку не услышит, ни стрекот кузнечика, только пухнут барабанные перепонки от джазовой какофонии да кликушных эстрадных певиц. А чтобы куда-нибудь в иной край совершить поход, поработать хотя бы в своём саду, помочь бабке с дедом — на это ни догадки, ни энтузиазма не хватает.
Осень нынче оказалась очень урожайной на рыжики. Но я не знал мест, где, как слышал, рыжики можно косой косить. Я мог бы за кем-нибудь увязаться следом и попасть в те места, но счёл это неудобным. Однако случай помог мне. Я встретил в лесу ребят с корзинками. Они шли по лесной дороге, беспечно болтая о чём-то, не глядя по сторонам, где в зарослях сосняка можно было срезать один-другой гриб, да не какой-нибудь подосиновик, а белый.
Как водится, мы обменялись приветствиями и окинули взглядом лесную добычу друг друга. У ребят в корзинках не было ни одной грибной шляпки.
— Ну, грибники! — произнёс я.
— Ай, а вы-то чего набрали! — почти в один голос высказались юные грибники. — У нас такие и не берут.
— То у вас, — ответил я. — Вы, видать, господских кровей, только царскими грибами питаетесь. А нам каждая солонушка пригожа. Да у меня тут есть и беленьких с пяток.
— Ну, сейчас рыжики нужно брать, — сказал один из ребят. — Мы за рыжиками ходим.
— И рыжиков мне с пяток попалось.
— Это не рыжики. Мы вот сейчас сразу по корзинке нарежем.
— Пойдёмте с нами, — пригласили меня.
Отказаться от такого предложения было трудно. Я направился за ребятами следом, глазея по сторонам и набрасываясь на каждый мухомор, принимая его за благородный гриб. Сначала ребята обращали на меня внимание, но потом забыли, что я тащусь за ними. На лесной, заросшей травой и местами заболотившейся дороге они вдруг заспорили. Из-за чего, казалось бы, можно спорить на лесной дороге, но они нашли спорный предмет, из-за которого готовы были чуть ли не сцепиться за грудки.
Меня заинтересовал их спор. Я прибавил шаг и сократил расстояние между ними, чтобы отчётливее слышать их слова.
Они спорили из-за следов на дороге. Следы принадлежали крупным парнокопытным животным. Нельзя было сказать, что наследили кабаны. Один из спорщиков утверждал, что по дороге гуляли (он так и говорил: гуляли) лоси. Второй (как потом выяснилось, сын ветеринара) возражал ему, говорил, что следы коровьи, что от колхозного стада отбились тёлки и пропадают где-то в лесу. Они и проходили здесь. Я согласился с сыном ветеринара, считая, что, верно, он перенял отцовскую науку, умеет отличить коровий след от лосиного, но в спор не вступал. И конечно же, охотник-охотовед, который назвался сыном охотника, знает лосиные следы как свои пять пальцев. Он выкинул руку и предложил спор на сто рублей. Юный знаток ветеринарии сдался, да мало того: ещё и отцу его попало, что он якобы корову от лошади не отличит, что и лечить он не умеет никого. Дошло до прямого, опять же спорного вопроса:
— А скажи, скажи: гуся или утку твой батька вылечит?
— И гуся, и утку, и любую птицу вылечит, — ответил ветеринаров сын.
— А вот и не вылечит. Спорим, что не вылечит.
— Спорим, что вылечит. На рубль, — предложил сдавшийся в первом споре парнишка.
— Нет, на сто. Не вылечит.
Опять эти магические сто рублей. И рука противника опустилась вниз. Я приблизился и взял задиру-спорщика за руку, сказал:
— Спорю на сто — вылечит.
Мой противник опешил, но не сдался. Он встряхнулся сам, тряхнул мою руку и назвал новую сумму заклада:
— Спорим. Только на сто пятьдесят. — И тут же поправился: — Нет, на двести!
— Считай, что я выспорил, — ответил я.
— Нет, на триста, — прибавил он, не сдаваясь.
— На тысячу, — добавил я.
— А-а, — протянул спорщик, — на тысячу не пойдёт.
— Почему? — спросил я.
— Где вы столько денег возьмёте? И не отдадите, я знаю.
Он отнял руку, оставаясь убеждённым, что выиграл бы в споре.
— Много выспорил денег-то? — спросил я.
Его приятели рассмеялись, сказали в один голос:
— Ничего не выспорил. С ним никто и не спорит.
— А напрасно не проучите заядлого спорщика. Может быть, тут когда и проходил лось, но эти следы коровьи. Это во-первых. А во-вторых, я вам расскажу случай, как я сам вылечил курицу, но научил меня этому ветврач. Дело было так…
Я рассказал ребятам одну историю, случившуюся год назад.
Однажды проездом в деревню зашёл я по делам к приятелю, живущему в нашем районном городе. Поднялся на пятый этаж, позвонил. Мне открыли дверь и сразу же предупредили: не заходить на кухню.
— Вы ремонтом занялись? — спросил я.
— Да нет, хуже, — ответил мне приятель.
— А что такое?
— Ай, — махнул он рукой. — Сказано — не заходить, значит, не заходить.
— Зверя какого приобрели?
— Да нет, хуже зверя, — твердит своё хозяин.
— Что может быть хуже ремонта и зверя? — пытаю я.
— Цыплята там, — зло буркнул приятель. — Если не боишься грязи, можешь идти.
— Цыплята! — воскликнул я. — И много их? А я всё собираюсь купить, да не выходит. Посмотрим! Нашёл тоже, чем пугать.
Я приотворил осторожно дверь. В нос мне шибануло, словно из настоящего птичника, запахом куриного помёта. Пол был так запятнан, что ноге ступить было некуда.
— Так сколько же цыплят-то? — спросил я.
— Четыре, — опять буркнул приятель и добавил: — Было пятнадцать. Подохли…
— Инкубаторы? — спросил я.
— Не «куку-де-малинь» и не «плимут-рок», — ответил он. — Простые.
— Ты и в породах разбираешься?
— Будешь разбираться, когда не знаешь, что с ними делать.
— Так ты что, на балконе решил их водить?
— Участок взял садовый, хотел туда отнести, да сарай не построил ещё.
— Ну и что теперь?
— А, не знаю, — отмахнулся он.
— Давай я их в деревню отвезу.
— Вези, — обрадовался птицевод, но тут же и замялся: — А вообще-то, нельзя отдать. От Наташки слёз не оберёшься.
Наташке исполнилось семь лет. Я решил, что гибель одиннадцати цыплят — дело её заботливости. Не одно живое существо гибнет из-за детской прихоти. И всё же я увёз цыплят в деревню, где их постигла тоже нелёгкая участь: нахождение на летней кухне, потом в бане, пока не был построен птичник и не подросли они, что их можно стало на день выпускать на улицу.
Оперились мои цыплята, выросли. Из них были три петуха и курочка. Петухи стали задирами, гонялись за всеми, лезли в драку. Курочка оставалась очень ручной. Но однажды она не слетела с насеста к корму, вешала клюв и больше сидела. Видно было, что она приболела. Что в таких случаях делать, я не знал. На счастье, по деревне проехала машина ветпомощи. Мои домашние погнали меня за ветеринаром, но я проводил машину взглядом на несколько домов, где она развернулась в обратный путь и остановилась. Я тогда тоже не верил, что кур можно лечить. Откуда могла быть наука по куриным болезням?
Курица не корова, если и истратится, то потеря не велика. Но жена была убеждена, что всякое живое существо должно получать помощь от человека. Она сбегала к машине и попросила ветеринара зайти к нам. Он скоро явился и, видимо прочтя в моём взгляде недоверие, сказал:
— Где курица? Несите её сюда.
Мы забегали по двору, но курицу найти не удалось.
— Что с ней? — спросил куриный лекарь.
Я объяснил ему симптомы куриной болезни и проговорил:
— Беспокоят людей. Кто и когда лечил кур?
Ветеринар смерил меня презрительно-уничтожающим взглядом и дал совет:
— Найдёте её — попробуйте попоить слабым раствором марганцовки, как сами пьёте при отравлениях желудка. Посмотрите зоб. Возможно, у неё вздутие зоба. Тогда подержите её вниз клювом и помассируйте от груди к голове, чтобы у неё вышло всё оттуда, а потом молоком попоите.
— Спасибо, — поблагодарил я и бросился искать курицу.
Нашли мы её под крыльцом, куда она забилась, видимо, уже на вечный покой. Ощупал я её зоб, оказавшийся твёрдым и больше теннисного мяча. Я проделал все манипуляции — курица выжила. Осенью, при отъезде в город, я подарил её бабушке-соседке на племя.
Но на этом я не успокоился. Зашёл как-то к своему районному приятелю и попросил у него почитать что-нибудь про птицу. Он дал мне несколько книжек, из которых я узнал, что ещё задолго до Октябрьской революции ветеринары лечили птицу. А в наши дни огромные птицефабрики никак не могут обойтись без куриного доктора.
У птицы, как и у животных, случаются различные заболевания и бывают даже повальные болезни.
Признаться, мне очень хотелось стать ветеринаром, но годы мои уже не те. Вот был бы я в возрасте заядлого спорщика, я обязательно выбрал бы себе работу ветеринара.
Я расстался с ребятами на перекрёстке лесных дорог. Корзины наши были переполнены рыжиками. Я считал, что не за здорово живёшь узнал грибные места. Во-первых, я разрешил ребячий спор, во-вторых, рассказал им, хотя и не полностью, о почётном звании: ветеринар.
Разорение богача
Это было давным-давно, когда в России были богатые помещики.
В богатстве своём они могли позволить себе любые причуды, недоступные беднякам. Вот один из случаев, о котором я услыхал ещё в детстве от старика, прослужившего у богача помещика долгие свои годы. Рассказ этот, как я помню, начинался так.
Много их, богатых чудаков, живало на нашей земле. Один на собаках с ума сходил. Разведёт псарню: и гончие у него, и борзые, и легавые, и пойнтеры с сеттерами, и лайки, и таксы. Свора тебе на волка, свора на медведя, на барсука, на вальдшнепа с бекасом, на белку с тетеревом. День прокормить все псарни с псарями — телка хорошего подавай. Другой дерева невиданные выписывал, вместо хлеба на земле сажал, тень наводил; третий музыками болел, театры строил; тот с лошадьми занимался. А мой барин молочным делом заболел. Всё был барин как барин, пока за границу в Швейцарию не съездил. А там говорит как-то мне: «Погляди, Яков, направо и налево и скажи мне, что ты там видишь». Поглядел я на все стороны и говорю ему: «Вижу, барин, коровок. Коровки на травах пасутся. Невелика невидаль. Ваше стадо, барин, побольше будет». — «Ничего ты, Яков, не увидал. Слеп ты и неразумен. Смотри ещё да не льсти мне ответом».
Повертел я головой, будто и не рассмотрел всё разом, а опять главного не говорю, но речь веду: «Вижу, барин, луга у них травянисты и коровёнки смирны, без пастуха кормятся». — «Коровёнки, говоришь?» — спрашивает барин. «Коровёнки, — твержу ему. — Без пастуха. У нас этого нет». — «Ну, ещё разок погляди, Яков. И не скажешь истины — эко я по твоей спине кучерским кнутовищем прогуляюсь».
Не всяк холоп лыком бывал шит. Иной барин сам слеп да глух, а холоп его видит и слышит за двух. Вздохнул я, не хотелось мне болячку барина трогать. Наслышан был от него, что коровёнки в его стаде только корм переводят, а маслом с сырами не кормят и на мясо худы. «Не обессудь, барин, слугу твоего верного. Знамо мне, что усмотрел ты в коровах тутошних. Ростом велики они, и вымена под ними ведёрные». — «То-то же, Яков. Вот и будем мы с тобой такую породу приобретать. Удивим соседей и обогатим наш край российский доброй скотиной». — «Как знать-стать, барин, — отвечаю ему. — Денег, поди, больших будет стоить. На ветер бы они не пошли». — «Молчи, Яков. Я вот закрыл глаза и вижу этих коров на своих лугах, в своих ворках[1] и коровниках. И тяжёлыми вёдрами бабы молоко от них носят. Реками молоко льётся. Маслом подвалы заполнены. Лабазы сыров под навесами. И сам царь шлёт провизоров[2] своих. И от купцов отбою нет». — «Загадывал, барин, мужик один поймать зайца, шкурку содрать с него и продать на базаре, на деньги купить курочку, дождаться от неё яичко, а от яичка цыплёночка да ещё цыплёночка. Разбогател мужик на словах. Зайца он не поймал, шкурки не содрал, курочку не купил, беден до сей поры». — «Я же не бедняк, Яков. Я поеду в банк, возьму деньги и куплю на них этих коров, а дальше всё пойдёт само собой. Молись за удачу нашу, Яков».
Свернули мы к фермам ихним, нашли хозяина, и мой барин торг зачал. Лопочут они чужим языком, долго лопотали — долопотались, вижу. Вино пили, а потом строения смотреть пошли и работника лошадь запрягать послали, на коров смотреть поехали. Вернулся мой барин довольнёшенек. Со мной будто бы с братом родным обходится. А я гляжу на их жизнь, и сомнение меня берёт, что скотина ихняя приживётся в наших краях. Сказал барину: «Сдаётся мне, барин, впросак мы попадём с нашей покупкой». — «Почему так думаешь, Яков?» — спрашивает он. «А языка нашего русского они не разумеют, обхождения нашего не поймут, голодать будут», — хитрю перед ним. Барин рассмеялся и ответил: «Глуп ты, Яков. С какими людьми большими ты при мне виделся, разговоры умные слушал, а умом не вырос». — «Ум, барин, не словом сказывается — делом, и не для показу он даётся, а на дело». Посмеялся барин над моими словами, философом меня обругал и на своём дело оставил.
Обернулись мы из-за границ — и коровушки швицкие за нами в имение прибыли. Барин рад. А я взглянул — коровки за дорогу исхудали заметно. Вымя под ними мешком болтается. Зашумел наш барин на скотников: корму срочным делом задавать велел гостьям дорогим, пойло подносить. Те в суматохе великой мечутся, а коровы подняли головы, раздувают ноздри, воздух улавливают, смотрят по сторонам и ревут на всю округу — ни на корм не смотрят, ни к пойлу губы не тянут.
«Привыкнут, — утешается барин. — После дальней дороги и человека смаривает, на еду не тянет. Будет у нас швицкая порода жить».
Слова барина сбылись. Швицкая порода утвердилась, только год от году мельчать она стала да и поборолась нашей великорусской. Скотники на барском дворе народ пройдошный был, всё норовили поменьше поработать да побольше поесть. С чего свои-то породы худы бывали? По нерадивости. Всякая скотина уход тёплый любит да ласку материнскую. Говорится же про лошадку: «Не гони коня кнутом, а гони овсом». И на коровку присловье было: «Не дои Бурёнку под батогом, а дои под стогом».
Увидал мой барин свою промашку, кинулся в Москву, книжек добрый воз понаскупал и читать засел. А когда начитался, объявил: «Едем, Яков, опять в Швейцарию за симменталками. Есть там кантон Берн, там-то мы и найдём этих симменталок. Скотников я новых для них поставлю. Должны будем развести у нас настоящую коровью породу». — «Ой ли, барин, — отвечаю ему, — только ли в скотниках дело? Может, им клевера наши не по зубам, а солому они там и во сне не видали». — «Не отговаривай, Яков, господина своего в добрых намерениях. Сказано — едем в Берн, значит, едем!»
Откупил мой барин и симменталок. Загляденье, а не коровы. Сколько прожил, а они всё перед глазами моими стоят. Словом, красоты их и не передашь. У барина моего ровно крылья выросли. Соседей забыл, в дворянство ни ногой, с гостями краток, вина пить бросил. Глаз не спускает со своего стада. Сам за пастуха, и ветеринара выписал умного, при себе постоянно держит. Наладил с симменталками, заказы ему пошли. Казалось, веди дело, а он опять мне: «Едем, Яков, в Англию за шортгорнской коровой. Мясо будем производить». Показал он мне эту самую шортгорнку — я ахнул: «Не прокормить, барин, нам такую гору. — Припомнил ему: — Швицкие-то видал, по каким травам гуляли да горную водицу пили, а наши корм-пойло не по заграничному брюху». — «Заведём новый скот, и корма новые вырастим, Яков», — обрезает меня барин и везёт за тридевять земель в аглицкий Дургам к братьям Коллингам.
Скажу вам, что всякое дело может стать человеку болезнью, азартом какая зовётся. Возьми хоть любую птицу: гуся, курицу, утку с индюшкой; свиньями увлекись, овцами, лошадьми — верно, в азарт войдёшь. А азарт к добру в любом деле может помехой стать, осмотрительность при нём теряется. Вот и тут было: братья Коллинги приняли нас учтиво, да за коровок по двадцать тысяч нашенскими рублями запросили, а быки и под сорок за голову.
«Рискованно, — говорю, — барин, деньгу такую бросать. Погодить стоило бы». Барин мне в ответ: «Яков, нам вернуть эти деньги — что раз плюнуть. Ты своими глазами видал на весах годовалого телка, сам на тридцать пять пудов гири ставил. Считай, какие деньги в год можно будет брать: лопатой греби». — «Лопат, барин, не наготовиться будет. Стачиваются они об деньги скоро». — «Молчи, Яков!» — сладко закончил барин разговор и ударил по рукам с англикашками. И хоть бы поторговался, дипломацию проявил, как наш великий князь Горчаков дела с ними вёл. Нет же, сам их руки золотом засыпал и ещё мне шепнул: «За такой товар торговаться — божий гнев на себя вызывать».
Повёл дело мой барин и с аглицкими коровами. Меня отрядил лечебному делу по скотине обучаться. Дворы особые построил. А сам ходом в другие страны подался — Голландию объехал, Данию, Германию. И появились у нас и голландская порода, и ангельнская, и фюненский скот, и красный немецкий — «немками» у нас их назвали. Остановиться бы тут-то моему барину, ан нет — азарт есть азарт. На остров Джерзей он пробрался и джерзейскую породу выторговал. Это уж и не корова, а живой маслозавод. Узнал он там, что американцы за этой коровой охотятся, цены большие тож на них подняли, опять по двадцати тысяч за голову, — шапку об пол, по-нашенски, по русскому горячему нраву, сторговал три головы маток да быка с ними, пополнил свою ферму. Устоять перед такой диковинкой ему нельзя было. Каждая такая коровка до восьми пудов масла за год давала. Как сами понимаете, не маслом доилась, молоком тоже, только молоко-то от неё за пять процентов жирности, от сливок на глаз не отличишь.
Расходы мой барин большие понёс, а доходов не дождался. Прослышал я, что одно именьице степное заложил и в кредиты влез. Я тогда уж в науку ветеринарную влез, по книжкам узнал, как капризна на переселение коровка-то. Много их пород разных, и каждой породе особый климат нужен: горной, скажем, горы, низменной — низины да влага большая, а степной степи подавай. Вот ведь какое дело-то. Глаз на всё завидущ, только без науки и псарни хорошей не вывести. Разорился мой барин как есть. Ну, а наш русский человек как поскользнётся, так уж и покатится. Запил он с горя да позора. И мне работы у него не стало, пришлось в другую экономию поступать. Был у нас помещик в Моховом, взял меня практику у него держать. Водил он нашу породу, великорусскую. Порода эта тоже не из худых, корми её полным рационом — и от неё тебе и молоко с маслом будет, и в мясе достаток будешь знать.
Барин мой прежний дожил до первой мировой войны и революцию встретил. Дворы его к тому времени опустели. Удержалось там несколько коровёнок поместных, — глядишь и вышла бы из них какая особая порода, новая, но барина революция не пощадила, а с ним и хозяйству его пришёл конец.
Да, большое богатство на ветер было пущено. Барин не только на породистую скотину деньги тратил — они машины разные выписывал, механизмы. Можно сказать, барин был хозяйственным человеком. С него и другие пример брали, к хозяйству руки прикладывали. Что касается бар, господ, то их поделом наказали, а хозяйство их поберечь стоило бы, на пользу народу обернуть, да где тогда по неграмотности думать было об этом?
Всё под метлу смели, огню предали. Потом сколько бедствий терпели, пока жизнь заново наладили… Годы мои прошли, только советчиком и быть мне теперь, да кто будет стариковские советы слушать, но одно буду говорить, что и чужой язык корове вреден. Припоминал мне мой барин мои слова, говорил не раз: «Мудрый ты, Яков. Ни швицкая корова, ни ангельнская, ни шортгорнская с джерзейской, никакая другая нашего языка не поняла. Какой наш язык пастушеский? Дубинка. А там ласковое слово и простор, простор для них. У нас овраги, полынь горькая, а на поле хлеба и у межи пастух с дубинкой. Хватит её метко по боку, кожа вспухает — и плачет она потом, жвачку не жуёт и молоко убавляет». При этих словах и заплачет, бывало, мой барин. Жалко его станет. На добром деле разорился человек. А всё потому, что, не спросив броду, сунулся в воду.
Такой вот рассказ остался в моей памяти с детства. Давно нет на свете деда Якова, умер он от старости. Я записал его рассказ как память о нём. Может быть, кому-нибудь, кто посвятит жизнь разведению животных, он и послужит уроком в деле.
Блокадная корова
В одном дачном посёлке под Ленинградом стоит двухэтажный дом. Он ничем не выделяется среди других домов, даже вид его не вызывает интереса у прохожих, разве что заглядится кто на высокие толстые берёзы, которые растут вместо сада, и подумает: «Чудак, видно, тут какой-то живёт. Сада не имеет. От сада какая выгода была бы».
Дом этот не блещет новизной. Стены его давно не красились. За оградой растут мало ухоженные кусты, нет цветов и ягодных грядок. Но всегда полна водой между берёз яма-пруд, в которой водятся караси.
Случайно мне довелось познакомиться с хозяином этого дома и многое услышать из его рассказов как о доме, так и о цветах, росших когда-то вокруг, о берёзах и давних обитателях этого дома.
Хозяин дома уже пожилой человек. Он поэт. Я с интересом слушал его собственные песни, которые он поёт под гитару на собственный мотив. А ещё этот человек прекрасный рассказчик. Не одну историю услышал я от него, среди них была история и про блокадную корову. Но прежде я услышал рассказ о сене, потешивший меня своей необычностью.
Человек этот прожил большую жизнь: шестьдесят лет. За столько времени много, как говорят, воды утекает. И этот человек повидал столько, что о многих вещах и предметах может рассказывать долго и интересно.
Я увидал у этого человека косу со старинной печатью какого-то завода братьев (фамилию не помню теперь), «братьев и К°». Окосье этой косы тоже было старым, отшлифованным многими руками.
— Сеном промышляешь? — спросил я, рассматривая косу.
— Промышляли. Когда-то в этом доме корову держали. Сена тут много было. И теперь есть. Обкашиваю кругом и даю людям. Бурьяну особенно много.
— А что ж цветов не заведёшь, грядок не сделаешь? — поинтересовался я.
— Заводил грядки, да толку от них мало. Я в разъездах бываю. Ухаживать за посевами некому, всё забивает трава, сохнет в жару. А цветы были хорошие. Многолетники росли. Флоксы. Но их вот эта коса уничтожила.
— Каким образом? — спросил я.
— А таким. Как видишь, я живу здесь, наверху, а низ сдаю жильцам не ради денег, а по другой выгоде. Когда внизу никто не живёт, то наверху бывает очень холодно, а отапливать весь дом дорого стоит, вот я и сдаю низ. Однажды квартировал у меня лейтенант с молоденькой женой-красавицей. Я, конечно, хотел ей понравиться и потому старался следить за домом и участком, выкашивал бурьян, траву, чтобы в дождь и по утренней и вечерней росе не сыро было бы ходить. Однажды я обкосил тропинку до калитки, повесил на берёзу косу и уехал куда-то на весь день. Вечером, вернувшись домой, встречаю у калитки моего постояльца с радостной, до ушей, улыбкой. Утром я с ним не встречался и потому поздоровался, а он мне и сообщает радостную весть. «Я, — говорит, назвав меня любезно, — докосил траву, какую вы не успели скосить». — «Какую траву?» — удивился я. Он показал за кусты под окна. Взглянул я — всё скошено. У меня ноги ослабли, и будто меня самого подкосили. Смотрю на него и не знаю, что ему сказать. Пришёл в себя, спросил: «Ты где родился, товарищ лейтенант?» — «В деревне, а что?» — спросил он. «Ничего, — отвечаю. — Просто я прожил более пятидесяти лет на белом свете, много разных дураков встречал, а такого, прости меня, вижу впервые и, наверное, вряд ли смогу увидеть». Вижу, он не понимает моих слов, поясняю ему: «Ты же цветы покосил. Память о матери уничтожил. Это лучшие во всём посёлке флоксы были». — «А я думал, это трава». — «Баран тоже думал, да об новые ворота лоб разбил».
Я с расстройства даже уехал из дому. Вернулся через неделю, вижу, а скошенный участок перекопан. Навстречу бежит мой квартирант и говорит: «Поправил дело. Вскопал всё, куплю на рынке таких цветов и посажу. Забыл только, как они называются». — «Балванусы, — говорю ему. — Балванус махровый». — «Подождите, — говорит, — я запишу, чтобы не забыть». Ну, а в своё время эта коса людям жизнь спасала…
— Минуточку, — перебил я. — Балванусы-то махровые посажены?
— Растут. Можешь полюбоваться. В окрошку употребляю.
На грядках рос хрен. Я вволю посмеялся и попросил хозяина угостить меня окрошкой.
— Ну, а с коровой дело обстояло более серьёзно и не смешно, — начал мой приятель рассказ после вкусного обеда — окрошки с корнем балвануса махрового, салата и прочих кушаний, — когда мы прилегли на веранде отдохнуть. — Мой отец был человеком с некоторыми странностями. Когда у него были деньги, то он покупал вещи и различные предметы, совершенно ненужные дома. Так он накупил штук двадцать пил, с две дюжины топоров, множество настольных принадлежностей: чернильных приборов, ламп, пепельниц, статуэток, часов и много прочей всячины. И сейчас ещё в сарае валяются кирки, заступы, кувалды, безмены, как в лавке древностей. Не посвященному в эти дела трудно разгадать причину скупки барахла. Тут можно подумать, что этот дом занимали разные артели: пильщиков дров, досок, каменотёсов, мостильщиков мостовых, тут же находилась бронзовая мастерская и часовых дел мастер работал. А всё объясняется проще простого.
Отец мой был добрым человеком. Просили у него денег в долг — он не отказывал. Но мастеровой люд не любил отдавать из своих рук деньги. Один сделал одну вещицу, другой другую, уговорил отца принять, хоть она и стоила дороже тех денег, навязывали как бы за доброту. Один так-то отплатил, второй. Слава прошла, что этому человеку можно за деньги и вещью отплатить, ну и потекло к нему: и чёрный металл, и цветной, и мрамор и дерево редких пород. У него долго стоял даже револьверный станочек. Бывало, встретит отца человек с пилой или топором, умоляет купить за бесценок, плачется, что у него несчастье случилось, нужны деньги, а взять негде вот и продает пилу, а то косу или другой какой инструмент. Отец даёт денег и уходит, не принимая вещи. Продавец идет следом до дома, вешает или кладёт эту вещь за калитку и уходит с чистой совестью.
В сороковом году он приобрёл совсем не годную ни на что покупку привёл корову. Пришёл с ней и говорит: «Кос много, трава растёт кругом — без коровы жить стыдно». Посмотреть на эту скотинку и не рассмеяться или заплакать — надо было иметь крепкое сердце. Если рисовать эту животину с хвоста, как делают иногда опытные художники — анималисты, то на хвост краски тратить не пришлось бы, хвоста почти не было, однорогая и хромая. Ну, а взглянуть на бока, кострецы — не корова, а козлы для пилки дров. Помню, как заплакала мать и запричитала бабушка. На что, кому такая корова годится? У отца было оправдание, что корову он купил не для молока и не на мясо, а на употребление сена. Никто так и не узнал, где купил отец этот живой коровий скелет, сколько заплатил и как ему навязали его, можно было только догадываться, что упросил его кто-нибудь выручить — он и выручил. Нам ничего не оставалось, как готовить сено. Тогда-то и пошли в ход косы, вилы, грабли, в которых по известной уже причине недостатка не было. На зиму мы наготовили столько сена, что всё его наша животина и не поела. Если сказать, что не одолела она сготовленное сенцо по случаю беззубия — жевать нечем было, то это было бы неверно. К весне, считали все в посёлке, мы сволокем ее собакам, а она вышла на траву такой справной, что, как говорится, воды взлей — скатится и не намочит шерсти. Ну, и представь себе, ещё и телёнка нам принесла. Телёнка, правда, держать не стали, быстро сбыли его. Выпросил кто-то продать. Порода хорошая открывалась в нём.
Рассказчик замолчал.
— А что дальше? — спросил я.
— Дальше-то? Сейчас сообразим чайку, а потом будет дальше, — ответил он.
Мне не терпелось узнать до конца эту коровью историю, и я заставил-таки продолжать его за чаем.
— В этой истории главное то, что я живу пока благодаря этой корове. Сам знаешь, что в следующее лето началась война. Немец попёр к Ленинграду. Отец ушёл на войну. Но нам он наказал беречь корову, не жалеть сил на неё, потому что она, как он сказал, может в трудную минуту очень пригодиться. Так оно и было. Ленинград оказался в блокадном кольце. Начался голод. У нас, должен сказать, были грядочки с овощами, кое-какой запас сложился. Но дом наш заполнили родственники. Я тогда не знал, что они были у нас, а тут вдруг столько объявилось, съехались жить сообща, потому что так, решили они, легче выжить. В доме делилось всё на всех. Делилось, прежде всего, наше: лучок, морковка, свёколка и — молоко. Каждый получал в день свою каплю молока. Голодно было, но жили. Можно представить, что значила тогда чашка парного молока. Люди собак ели, кошек, — а у нас молоко. Корову мы охраняли, словно военный склад, каждую ночь дежурили посменно. Я усердствовал больше всех. Исполнял наказ отца. Но родственнички наши стали лениться ухаживать, вернее-то, караулить корову. Молоко от неё поддерживало жизнь, но на брюхе не чувствовалось. Голодом подводило животы, есть хотелось постоянно. Они и стали поговаривать зарезать корову на мясо, отказались от дежурства. Я и простудился тогда, слёг. Мать добыла за молоко у военных лекарство, убавила от взрослых долю молока, кипятила мне и давала горячее да с пенками. Выкарабкался я из болезни. Отец тогда заехал, пайком поддержал. А вскоре несчастье случилось. Мать отправилась хлеб добывать и не вернулась, попала под бомбёжку. На меня легли все заботы. Бабка уже соображать плохо стала. Родственники наши стали меня отстранять потихоньку от дел, за хозяев вступили в разные дела.
Однажды я проснулся от какого-то знакомого запаха. Давно где-то я вдыхал такой аромат. Продрал глаза и понял, что жарится мясо. Раздетый слетел я вниз, а там на плите жарится и парится, за столом сидят все и объедаются жарким. Какая-то тётушка бросилась ко мне, залепетала, что кто-то залез ночью в стойло и прирезал корову, но не унёс, помешали ему…
Я не поверил. Выскочил босиком на улицу, заглянул в сарай, а там пусто. Не рассказать, как я ревел, как хотел сбежать из дому куда-нибудь на фронт, да побоялся бросить бабку, остался. Праздник длился недолго, прошёл быстро, начался настоящий голод. Мясо прошло быстро. Овощишки были съедены давно. Оставалось, как говорят, положить зубы на полку, вытянуть ноги да закрыть глаза. Но тут снова приехал отец. Когда он узнал, что корова съедена, он чуть ли не перестрелял тех родственников. Помню его слова: «Вы сами себя приговорили к смерти. Капля молока спасла бы вас. Первобытный человек приручил тура, чтобы жить молоком, а вы, цивилизованные граждане, уничтожили его достижения и теперь поплатитесь за это».
Меня он отправил на Большую землю, эвакуировал. Многого пришлось мне там хлебнуть. И всё время я вспоминал ту блокадную корову, часто плакал о ней. Когда закончилась война, я боялся возвращаться домой. А вернулся — узнал, что отец погиб при прорыве блокады, бабушка умерла. Меня тогда скоро взяли в армию добивать фашистов. На фронте был ранен. По ранению вернулся домой, стал налаживать хозяйство. Наладил — живу, как видишь. Вот и вся история. Задумывал я когда-то тоже купить корову, но такой не нашлось красавицы, а обычную покупать не захотел…
— Не сказал, а что же с роднёй стало? — спросил я.
— Родня не выжила. Всё! Не будем продолжать разговор дальше. Давай пройдёмся. Скоро ужин наступит. Надо что-нибудь прикупить в магазине.
— Да, печальная история, — сказал я.
— Сколько печальная, столько и поучительная, — заключил хозяин. — Если сможешь написать об этом, то пожалуйста. Может быть, кому и пригодится. В жизни всякое случается…
Коровушкино тепло
У каждого человека своё детство бывает, и похожее и не похожее на детство других. Вот и Серёжкина тётя Оля заверяет, что такого детства, которое выпало ей, не было, нет и быть не может ни у кого. Особенно теперь, когда войны нет, такого детства никому не увидать.
Все люди любят рассказывать о своём детстве, а Серёжкина тётя особенно в этом словоохотлива: как говорится, хлебом её не корми — дай хоть малость о чём-нибудь рассказать ей о далёких её детских похождениях.
Серёжка учится в пятом классе. Почерк у него очень красивый.
Тётя Оля, глядя в его тетради, говорит:
— Пишешь ты красиво, как настоящий писатель. А вот записать про то, что я тебе рассказываю, не можешь. Не можешь или ленишься. Сколько я тебе про Бурёнушку нашу рассказывала, а хоть бы слово запомнил, где уж тебе записывать… А записал бы да в газету направил — вот тебе и история настоящая. Тебя за это похвалили бы.
Рассказ о Бурёнке тётя Оля всегда начинает с воспоминаний о бабушке, какая она была добрая да весёлая, заботливая да работящая.
— Всех любила она, — с восторгом и грустью, что нет в живых её бабушки, рассказывает тётя Оля. — Людей любила, зверей любила. Но люди людьми, звери есть звери, а пуще всех коровушек она почитала. «Коровушка на дворе — еда на столе», — говорила она и ещё присказывала: «Коровка со двора — голод на порог». И чтобы не оставила коровушка двора нашего, бабушка пойло готовила для неё чистое, вкусное. Бывало, и понюхает, и рукой проверит, не горяча ли или холодна составленная водица. Зимой идёт откуда, найдёт на дороге жомку выпавшего с воза или из саней проезжего сена — подберёт да, прежде чем войти в избу, скормит Бурёнушке. И хоть говорят, будто корова только и горазда доиться, а чувства никакого не имеет, но наша коровушка с полдеревни бабушку рёвом встречала. Бывала и беда от этой привязанности. Другим она молоко не отдавала. И в бабушкин наряд наряжались, и всё равно без молока приходили. Ни отойти, бывало, бабушке, ни отъехать. Праздник где, все с ночёвкой идут, а бабушка одной ногой в гостях, а второй дома.
А летом какой только травки бабушка не приносила Бурёнке! И меня-то она к этому приучила. Деткам всем труд старших в играх помогает. Вот и я играла в бабушку да от игр и к истинным заботам о Бурёнке перешла. Попадёшь на луг или в лес — всем забавы, а я двоюсь: играю, а сама всё глаза кошу, где клеверок зеленеет или какая другая травка сочная ждёт меня. А зимой выберусь из избы да тайком — к стогу, надёргаю зелёного да душистого сенца жомку и коровушке снесу. Признала меня Бурёнка. Бабушка ушла к своим сёстрам да запозднилась. Мать сходила с подойником на полдни и вернулась с кружкой молока. Ругает корову, а я и вступилась за неё. Мать взяла меня за руку и повела на дойку Бурёнки.
— Посмотрю, как ты не заругаешь её, — говорит мать, — когда она тебе глаза хвостом настегает да без молока домой проводит.
Я и не знала, как за соски браться, только видела, как другие доили, а тут подошла, как бабушка подходила, погладила её по спине, по бокам, дала руку лизнуть и с замершим сердцем на корточки да доить стала. Молоко-то само и брызнуло в подойник, брызнуло и полилось. Я под руками ничего не чувствую, будто ни к чему и не прикасаюсь. Устала только вся. Ноги стало ломить и пальцы скрючивать — это от непривычки. Заметила я, что Бурёнка переступила с места, взглянула в подойник, а он чуть ли не полным-полнёхонек. Что делать дальше — и не соображу.
— Будет тебе, соски оторвёшь, — сказала мать.
И тут я вспомнила, что надо вымя рукой погладить, поласкать за молочко-то, как бабушка делала, чтобы коровушка не обиделась.
Встала я, а ноги не стоят, будто и земли под ними нет, а тут опять голос матери:
— Ну и молодец ты, Олька! — А я стою и жду, когда корова ножищей двинет, выбьет ведёрко из-под себя и доярку откинет, а корова стоит и дремлет. — Теперь ты бабушку всегда заменишь. — Взглянула мать мне в лицо и воскликнула: — Глупая, а ты чего плачешь-то? Радоваться надо, а ты нюни распустила. Гляди — тьфу, тьфу! — она бабушке столько-то молока не даёт. Этому и сама бабушка обрадуется.
Бабушка не молоку обрадовалась. Она сказала:
— Удои считать — молока не видать. А то, что мне на смену ты сгодилась, — этому я рада. У меня вот как руки теперь болят от работы. Отдых мне нужен.
Пошла бабушка вечером доить Бурёнку, а она воспротивилась ей. Бабушка позвала меня, заставила гладить корову да так только и смогла подоить.
— Приняла она тебя, моя внучка. Ручки твои понравились ей, мои и знать теперь не желает, — сказала бабушка. — Одной тебе ещё рано все дойки справлять — будем вдвоём ходить. Когда ты подоишь, когда я.
Долго вдвоём нам не пришлось ходить. Война поднялась, пошла на нас. Бабушка от одной вести про войну силу потеряла. А как немец стал города наши брать, попёр к Москве, она и слегла в болезни. Всех сыновей её, кормильцев, на войну забрали, а нас эвакуировать стали, чтобы враги над нами зла не чинили и ничего им наше не доставалось бы. И ещё не докатились враги до нашей деревни, бабушка наша тихо скончалась и осталась лежать в родной земле, а мы со своими пожитками потянулись на восток.
Нас у матери было четыре девки мал мала меньше. Всех ей одной не донести было. Такой груз только лошадь и могла везти, а лошадей не осталось, на войну пошли тоже. Мать и приспособила тачку для поклажи и маленьких сестёр, а в тачку впрягла нашу Бурёнку да меня и заставила вести её по дороге. И много дней и ночей мы шли и шли по дорогам. Бурёнка сперва злилась, что не по назначению её использовать мы решили, от обиды норовила рогом меня задеть, только я отстранялась да всё больше ласкала её. Смирилась она наконец, только плакать стала.
На четыреста с лишком вёрст ушли мы от дома. Холода стали встречать нас. Выбрали мы с матерью деревушку, где и речка протекала, и леса были близко, и угодья просторные, остановились на жизнь. И прежде-то всего побежали траву сшибать, соломку подбирать на межах, жнивьё подкашивать. Трава-то уже высохла, сразу её в кучки да на тачку и к дому. Люди там крепко жили. У всех стога зелёного сена. Они только насмехались над нами: будет ли, мол, корова жевать такой корм? Пока не исхудала, прирезать её да на мясо пустить, всё прок будет. А мы знай своё дело делаем. Я и слышать не могла, чтобы с Бурёнкой расстаться. И не то чтобы я о молоке думала, а просто не представляла, как это жить нам потом без бабушки, без отца да без Бурёнки. Бабушка говорила, что корова — вторая мать в доме.
Жизнь наша в чужих краях не была мёдом. В первую зиму нам из колхоза дали воз сена, настоящего, зелёного. Сложили мы его копёшкой, обставили слежками, на время отёла приберегли и телёночку. Докормили мы Бурёнку нашу поздним сеном до нового молока, до выпаса. Сказать, конечно, легко «докормили до выпаса», а какого труда это стоило — не передашь словами. Я всю зиму лютую с улицы не уходила. Смотрю, бывало, где подвода остановится, жду, когда она отъедет, да туда стрелой. Зимой-то всегда лошади сенца бросают, чтобы не мёрзла, а уж подобрать потом до травинки — не подберут, а то и вовсе поленятся нагнуться — да хорошую жомку и добудешь. Там, где стога поднимали, под закрайками выбирала охвостья, сметала труху сенную да примешивала к нашему позднего укоса сену.
Деревня, где мы жили, была большая. Кроме нас и другие беженцы к ней прибились. Только многие не одолели коров продержать первую зиму, лишились их и стали нищими жить. Мать наша делилась молоком с теми, у кого малые дети были, да всех одна корова накормит ли? А молока-то что малым, что старым — всем хочется. Из-за этого раз и вышла потеха. Лежим мы с матерью, обсуждаем дела наши, строим планы, как жизнь новую начнём, когда на родину вернёмся, как слышим вдруг: ведро громыхнуло у коровы. Летом мы её привязывали к дереву у избы.
— Не вор ли за коровой пришёл? — сказала мать. — Откуда ведру у неё взяться?
Выскочили мы на улицу, а от коровы длиннющая тень в юбке и платке к огороду побежала. Мы разом узнали эту тень. Дед жил недалече от нас, беженец тоже, как нас называли.
— Корову доить приходил, — сказала мать. — Молочка захотел, старый идол. Нет, нашу Бурёнку не подоишь. У неё такой характер.
Долго мы тогда не могли уснуть, над дедом смеялись. А утром мать отлила из подойника в его ведро молока и снесла ему. Дед устыдился, отказывался от ведра и молока. Мать сказала ему:
— Наша корова только дочке молоко отдаёт. Другому её не подоить. А тебе как станет тошно без молока, приди и скажи. Выделю я тебе кружку-другую.
Дед не набрался отваги просить молока, но мать сама отправляла ему иногда по бутылочке.
Долго жили мы в чужой стороне, но пришёл день, когда с ленинградской земли врага прогнали. Стали мы собираться домой. Только назад добираться медленным ходом мать не захотела. Была весна, наша земля ждала нас с часу на час сажать огород, сеять в полях. Скоро нашлась машина. Военный грузовик шёл на Ленинград. Но тут получилась неурядица. Для нас и вещей находилось место в кузове машины, а для Бурёнки не было.
— Продадим мы её, а домой поедем, — решила мать. — Там потом купим другую. Не оставаться же из-за неё на чужой земле.
Я заревела по корове, побежала к стаду. Бурёнка увидала меня ещё издали, направилась навстречу мне с рёвом. Я сорвала ей по пути лопухов. Трава ещё только вошла в рост. Ко мне подошёл пастух, дед Афоня, спросил:
— Что, лапушка, стряслось, что вся в слезах прибёгла?
Я ему рассказала, что должно случиться, а сама пуще заревела. Он мне и говорит:
— А ты не лей слёз-то. Слезами делу не поможешь. Ты вот что… Ты укради корову-то.
Я уставилась на деда заплаканными глазами, не закрыв рта. Как грозой меня поразило слово «укради». Как же я могу украсть свою же корову? А если я её украду, то куда мне её деть-то. Краденую скотину или продают, или уводят далеко-далеко и там держат её на свою пользу, как рассказывала мне бабушка, а то забивают на мясо, съедают. Только если поймают с ворованной скотиной, то не щадят вора, отбивают у него на всю жизнь охоту на чужую скотину зариться.
— Вижу, ты в толк не можешь взять, как это украсть её. А я тебя научу. Ты верёвку ей на рога и ступай большой дорогой к своему дому. Пойдёшься, пойдёшься — и дойдёшь.
— А мать как же? — спросила я.
— Матери я скажу, что доставишь ты ей коровушку в родимый дворок. Приедет она да пусть поджидает вас. Машиной-то они в два-три дня докатят, а тебе — ой сколько топать.
Тут я вспомнила дорогу, по которой мы шли в эти места, — холодом меня проняло всю. И лесами-то мы шли, и мимо болот топких пробирались, и волков-то мы видели, и медвежьи следы пересекали, и ночами каких жутких воплей да криков не наслушались. И опять пастух Афоня будто подслушал, что я мыслями говорила, сказал:
— Ты не бойся, главное дело. Иди всё большой дорогой. Зверь теперь по глухим местам затаился с детёнышами, люди на земле работой заняты. Иди ранними утрами, когда спросонья на баловство человека ещё не тянет. К ночлегу засветло подходи. Деревню проходить будешь — запоминай её название и спрашивай, да хитро, какие на пути будут селения. Спросит любопытный, чья ты, куда идёшь, — говори, называй деревни. Переехали, мол. Отец следом вещи подводой везёт, а ты вперёд ушла, пока он лошадь поить остановился или по знакомству к кому забежал. Что дальняя — скрывай.
— А у меня верёвки-то нет, — сказала я.
— Будет тебе верёвка. — Дед Афоня снял со спины мешок, дал мне лыковую верёвку и снял с ремня котелок. — Это тебе под молоко. А вот и хлеба ломтик, обед мой бери. А там молоком будешь жить.
Увела я свою Бурёнку от покупателей. Дедушка Афоня успокоил меня, что он скажет, как пригонит стадо в деревню, что увела я корову домой, что продать её и дома можно будет.
Повела меня большая дорога на запад. Сперва она меня пугала каждым деревом, каждым кустом, походившим на зверей. Но чем дальше я уходила от нашего временного пристанища, ближе с каждым шагом к родной деревне, мне становилось радостнее.
На словах легко и радостно шлось, будто и скоро добралась, теперь так вовсе не видится дороги, будто на крыльях летела, а делом-то было не так: начни припоминать каждый шаг — ох сколько наплакалась я да страхов натерпелась! Порядком всё рассказывать — дня мало будет.
Первый шаг — украсть корову — свершила. Правда, верёвку на рога корове привязать не могла, руки тряслись. Дед Афоня привязывал и напутствовал всё словами, как идти да по каким приметам путь держать. Мне-то казалось, что дорога мне и не забылась ещё. Подал он мне конец верёвки, сказал:
— Уводи, пока матушка не спохватилась, покупателя не привела. К вечеру ты далеко будешь, вёрст двадцать отмахаешь.
Пошла я полем к дороге. День был жарок. Оводьё летело, что пулями стреляли, да скоро завечерело, прохладцей потянуло — отстала эта нечисть. Уходила я и всё оборачивалась на стадо, видела деда, глядевшего мне вслед, а перешла за бугор — страх меня охватил дальностью нашей деревни. Дум недостало дотянуться туда. Оглянусь — одна я на дороге со своей Бурёнкой, словно сиротинушка. Тут и заплакала. Слёзы льются, а ноги знай себе шагают да шагают. Одну деревню прошла. Собаки от двора к двору провожали, но не трогали: коровы, верно, боялись.
Иду дальше и назад всё поглядываю да слушаю шум машины, чтобы заранее скрыться от своих. Прошла другую деревню, третья завиднелась, и речушка тут дорогу пересекла, справа повернула да и на деревню направлением пошла. Свернула я берегом. Лужочки туманиться стали. За речкой лес большой. Солнце впереди и над лесом виснет, садиться собралось, прощается со всеми и показывает, что пора ночлег подыскивать: птицам — гнёзда присматривать, людям — к жилью прибиваться. Ближе к деревне стожки пошли. Стала я глядеть, где на ночь остановиться. Близко к деревне боязно подходить и отдаляться страшно. А солнце скатилось за лес, сумерки легли, и холод понесло по лугу. Кусты зашевелились, как тебе зверьё какое зашевелилось, заметалось. Птичка взлетит из-под ноги — страхом всю прожигает. Лес сразу так тёмен стал, что ничем не прошибить такую темень. Правда, страхи от него речушка отгораживала.
По дороге, слыхала, машина проехала, с краю деревни остановилась. «Ну, — думаю, — про меня мать справляется». Потаилась я у речки, потом выбралась из луговины на взгорье и узнала деревню: на две стороны по речке лежит. Останавливались мы в ней, искали квартиру, да не нашли. Сарай разглядела на отшибе. Пока заря догорала, прокралась низиной к нему. Ворот нет. Сено в сарае свежее, пахучее. Проезд на две стороны. Справа и слева сено. В дальних крылах темно и страшно. Завела я Бурёнку свою, в темноте поставила, сама за водой на речку сбегала, подмыла вымя и принялась доить. Котелок надоила, попила парного да сладкого молока, остаток выплеснула и снова дою. Котелков десять вылила. Себе один на ночь оставила. Корова, как от молока я её освободила, легла. Я рядком у шеи её пристроилась. От неё мне тепло, и сено тёплое.
Сколько спалось — не знаю. Проснулась я от разговора. Глянула, а на улице светло, проезд тоже освещён. Вспомнила, где я оказалась. Думаю, месяц ночной светит. В другой стороне, в тёмной, девки смеются и парни что-то бубнят, рассказывают. Окают лопоча, как тебе неграмотные какие. И совсем маленькими от оканья мне показались. Ну не беда ли мне. Думаю: «Как подаст голос Бурёнка, подступятся они и выдадут меня». Стала гладить коровушку за ухом и просить таиться до света. Вижу, там огонёк зажёгся и точки засветились. Меня холодом охватило: курят, мерзавцы. Собралась с духом да как крикну не своим голосом:
— Кто курит тут? Я вот задам!
Видали бы вы, как они свистнули из сарая. На улице, вижу, полетели в траву папиросины, искры порассыпали. Девчонки визжат, словно их варом окатили. Рассмеялась я — и страху не стало. Если меня боятся, кого я-то должна пугаться?
Утром птички меня разбудили. Вывела я свою Бурёнку на росу. Деревня спит, а нам не до сна. Дорога у нас впереди дальняя. У речки туману полно. Прошли мы берегом за деревню, напоила я коровушку, сдоила, сама умылась, отзавтракала и пошла дальше большой дорогой. След машины увидала и пошла по нему. Утро прохладой нас обдувало, а потом жара потекла. Дорога нагрелась, жар от неё поднимается. Бурёнка слюнями брызгаться стала. Ручеёк, лужица попадётся — водой окачиваю её, дальше путь держу. Стали подводы попадаться: то обгонит какая, то навстречу проедет, сено везут, мешки с чем-то. На меня никакого внимания не обращают.
Военные догнали меня. Три подводы шли. Дядька усатый спрашивает:
— Далеко, доченька, коровку ведёшь?
— Домой, дядь, — ответила ему.
— А далеко ли дом-то?
— За Ленинградом.
— Как за Ленинградом? — удивляется он. Остановил лошадь, командует: — А ну, привязывай Бурёнку, садись!
По пути им было. Продукты они везли из города в части свои. Километров пятнадцать проехала я. Свернули они к лесу. Я им молока надоила. Они мне хлеба, сахара дали. Один дядька пилотку с гимнастёркой подарил, и спичек коробок тоже дали, и соли насыпали. Речонка попалась. Покормила я корову, помыла её, напоила, сама обкупнулась, нарядилась в гимнастёрку, в пилотку. В воду погляделась — на солдатика похожа. «Ну, — думаю, — теперь мне никто не страшен, дойдём до своего дома».
Иду и вижу: хлеб на полях убирать стали. Там комбайн ползает, там жатки трещат. Бабы снопы вяжут, скирды кладутся. Через лес дорога тянется — и там подводы часто встречаются. Машина военная встретилась, остановилась. Лейтенант вышел ко мне, называет моим именем и фамилией, спрашивает, такая ли я. Успокоил:
— Не удивляйся, Оля. Мамка твоя встретилась, просила сказать тебе, чтобы ночью ты в деревнях ночевала, у председателей или бригадиров.
— А она не ругала меня? — спросила я.
— Нет, она тебя хвалила.
— Мамка не плакала?
— Не было слёз, не видел. Радостная была. Наказывала молоко отдавать людям, не выливать.
— А вам дать молока? — спросила я.
— Давно молока не пробовали, не откажемся:
Эти мне каши брусочек дали, сахару опять же и яичного порошка на омлет, научили, как делать его. Узнали, что я без ложки, — ложку свою лейтенант подарил, а шофёр ножичек дал. Стала я совсем к походу годная. Топаю себе день за днём. Сколько прошла — не сосчитать, сколько осталось — не ведалось. Только смотрю раз: тапочки мои распускаться стали, на пальцах пробились и с боков бахромки появились. Тапочки сама шила из суконки. Подошвы от валенка пришиты. Суконку-то от старой одёжи брали. Какая тут крепость для такой дороги? Берегла я их, до жары босиком шлёпала, надевала, когда подошву прожигать начнёт. И всё равно на всю дорогу их не хватило. Пошла босиком. Ноги к вечеру вот как нажигает, что и водой не отмочить. Приткнёшься где спать — долго иголками горячими подошвы прокалывает и косточки горят. «Нет, — думаю, — так много не пройдёшь». Решила рукава от гимнастёрки отрезать, концы завязать, прорезать дырки для ног, засунуть тапочки и в такие обуваться, да рука не поднялась портить гимнастёрку.
Пришла к одной деревне, на полдень время шло. Увидала на краю мусор на дороге, подмётка в мусоре старая. Стала смотреть под ноги. Ботинок нашла, стоптан, пересохший на солнце. Подобрала. В другой деревне туфля старая попалась на высоком каблуке — и её в мешок. На ночь в воду положила. Утром расправила, обулась и пошла. Только долго не прошагала в такой обужонке: ботинок высыхать стал, задираться, ногу заламывать, а туфля набок подвёртывается и так накрутила у щиколотки — опухлость появилась. Побросала обужу эту и надумала верхом на Бурёнке поехать. Усмотрела дорогу безлюдную, запрыгнула на спину. Бурёнка смотрит на меня — и ни с места. Прутиком её подстегнула. Она рванись — и понесла меня. Прыгаю на ней. Не удержалась. Куст на стороне у дороги. Бурёнка на куст свернула. Я с неё и прыгнула в овёс. Руку левую вывихнула, нос содрала. Лежу, плачу и не встать. Но подняла голову, вижу её у куста. Стоит и на меня смотрит, ждёт. Я и не посмела обижаться на неё — сама виновата. Не для езды корова содержится, а для молока. Обняла я её, прощения попросила и повела в поводу дальше.
На верёвке я узел вязала каждый день. Посчитала — одиннадцать узлов. Думаю: «Хватит ли верёвки на всю-то дорогу?»
В обед принялась доить Бурёнку, а левая рука не может, болит, опухолью стала облегать, под мышкой боль сказывается. Ещё горе. Шерстяную бы нитку — перевязать кисть, а её у меня нет. В село пришла, у сельсовета свернула к коновязи, собрала конского волоса на задирах. Вижу, в окно на меня люди смотрят. Подхватилась уходить, а мне кричит дядька, зовёт вернуться. От испуга меня холодом проняло. Зверья так не испугалась ни разу за всю дорогу. Вернулась. У меня слёзы на глаза.
— Зайди, — говорит дядька с пустым рукавом в гимнастёрке. — Мы тебя давно ждали и ждать уморились.
— Вот она, — сказал он, введя меня в помещение. — Посмотрите, героиня какая. Обтрепалась вся, на солнце сгорела, а идёт. Из такой настоящая медсестра вырастет, матерью родной солдату раненому будет. Только чего ты плачешь? Я затем тебя звал, что мать твоя просила нас, и военные тоже, помощь тебе оказать. Корову твою сейчас — в сарай, сена ей свежего, подоим, а тебя — в баню, нарядим, чтоб ты на себя была похожа, — и дальше пойдёшь.
— Бурёнку вы не подоите.
— Да ну, у нас такие доярки…
— Она только мне молоко отдаёт.
— Вот как? Тогда ты и подоишь. Ванька, вези травы, — скомандовал дядька парню, — да позеленее! К нам заскочи за подойником.
Вижу, тут ко мне со всей правдой относятся, слёзы утёрла, осмотрелась. Дядька спросил:
— А что у коновязи-то ворожила? Ты не колдунья случайно?
— Нет. Рука у меня развилась, жилки растянулись — волос брала перевязать кисть.
Взял он меня за руку, а я как крикну от боли.
— А ну, задержите Ваньку. К врачу её срочно. Тут если не вывих, то перелом. Развилась она у неё. Медичка какая, сама и диагноз поставила.
Посадили меня в телегу. Ванька сдвинул набок с курчавого чуба кепку, погнал лошадь по селу. Телегу трясёт. Рука болит, хоть кричи на крик. Закусила губу, терплю. Ванька глянет на меня, хлестнёт лошадь, спрашивает:
— Не больно?
Качаю головой, что не больно, слова не сказать.
— Я тебя встречать ездил и ночью с ребятами караулил, — сказал он. — А ты где руку сломала?
Я киваю ему и киваю, слов его почти не слышу. Здоровой рукой больную держу и света белого не вижу.
— Тпр-ру! — остановил Ванька лошадей. — Приехали…
В больнице, как руку правили, накричалась я. Дощечку мне к ней навязали, на шею подвесили на бинтик. Потом в бане меня тётка, жена дядьки-инвалида, мыла. Платье моё, гимнастёрку постирала. Ночевала я у них. На вечеринку меня звали хозяйские дочки, а меня так сморило, что за столом не высидела, заснула.
Утром мне обужонку нашли, сандалики. Носочки беленькие уговорили взять. Платье дали, заставили надеть, только я отказалась. Дядька — Иваном Егоровичем его звали — рассмеялся, когда узнал, почему я гимнастёрку надеваю, взял и ремень мне широкий дал подпоясываться, а от сельсовета справку написал, что корова со мной моя, и просил оказывать мне содействия всякие по пути. Только я опять сама никуда не ходила с этой бумажкой — стыдно было, а шла себе и шла на своих двоих. От Ивана-то Егоровича меня Ванька подвозил. Смотрел он всю дорогу на солнце, день надвое делил, чтобы ему засветло домой вернуться, — и проглядел всё на свете. Рассказывала я ему, как корову украла, — он смеялся, — как шла с ней, ночевала в сарае и ребят перепугала, а потом про нашу деревню басни сочиняла. Сказала, что у нас река большая и корабли по ней ходят. Он весь заёрзал, зачесался и говорит мне:
— Вот бы у вас на речке жить — я обязательно моряком стал бы. А тут озерко малое — дно видать.
— Да поедем к нам, — приглашаю его.
Вздёрнулся Ванька, кепку на другую сторону свернул, посмотрел на меня, подумал и ответил:
— А правда, поедем! Эх, жалко, что с коровой не разогнать лошадь, — мы в три дня докатили бы.
Стал он меня пытать, где жить у нас будет. Я ему хоромы барские нарисовала, сказала, что корабли под нашим берегом пристают, что садись и плыви в любой край. Ванька на солнце перестал смотреть, подёргивает вожжи, шаг прибавляет лошади. Вижу, Бурёнке моей трудно поспевать за телегой, головой мотает, потная и слюна не держится, говорю ему:
— Вань, потише можно ехать? Корова потом покрылась. Сверни к воде, покормим её, подою и дальше поедем.
— Долго так ехать придётся, — ответил Ванька. — Холод наступит, корабли перестанут плавать.
— У нас они круглый год плавают, — говорю ему.
Смотрю, мой Ванёк задумчивый стал. Я ему байки сказываю, самой смешно до ужаса, а он улыбнётся криво так и опять думает да вздыхает тяжко. А солнце садиться стало, он и говорит:
— Знаешь, Олька, я не поеду сейчас. Иван Егорович меня в тюрьму за лошадь посадит. — Колхозная лошадь-то у него.
— А она цела будет, — говорю ему. — Напишем письмо, пускай присылает нарочного и берёт свою лошадь, а ты останешься.
Уговариваю его, а сама мечтаю, как хорошо-то нам будет. Ванька хоть и не мужик пока, а на лошади работать годится. Огород пахать будет, дрова возить, сено. На корабль-то кто его возьмёт? Остановились ночевать за деревней у омёта. Легли на телеге головой к голове. Разговариваем. Первый раз я так спать под открытым небом устроилась и не боюсь никого. Ноги у меня не гудят. Корова только сразу легла и вздыхает, наморилась шибко. Много километров мы проехали.
Наговорились. Я помечтала, что теперь легко и скоро доедем, порадовалась и заснула. И не знаю, долго, нет ли спала, только слышу: будят меня. Проснулась. Темень ещё, прохладно. Ванька перед глазами.
— Вставай, Оль. Я домой вертаюсь. Во сне мать видел. Она подошла и сказала вернуться, потому что дядю Ваню из председателей сельсовета снимут, а ему с одной рукой другую работу нельзя исполнять. Ты, — говорит, — иди потихоньку, дойдёшь. А я весной к вам приеду сам. Ты только мне письма пиши.
Ни слова я ему не ответила, слезой зашлась, лица не показываю. Отвязала от телеги Бурёнку, взяла мешочек и пошла без оглядки. Он мне кричит:
— Оль, ты не обижайся! Я тебя отвёз бы, только так нельзя. Оль, ты напиши, когда дойдёшь. Сразу напиши…
Дотопала я до дома и без его помощи и Бурёнку довела в сохранности. Ничего с нами не сталось. Посчитала я узлы на верёвке. Двадцать один день, ровно три недели шла я до дома. Мать уж вся исплакалась. Иван-то Егорович ей телеграммой сообщил, что скоро я приду, а меня после того опять нет и нет. Всякие думы ей в голову лезли, рассказывала. Там-то край война не трогала, люди коров держали, а на нашей земле немец проклятущий всех порешил. «Ох, — говорит, бывало, — как подумаю, что ты не дойдёшь. Не коровы жалко, а только бы тебя дождаться». Как встретила-то, ругала меня и плакала, радовалась мне, а про корову и забыла. Сёстры мои всё висят на мне, прижимаются личиками, смеются и молочка просят. Мать на них с бранью: «Сестре родной отдохнуть не дадут, мерзавки». А я их жалею, меньшую на руки, тискаю, а она от меня рвётся, не признаёт за свою. Мать просит рассказать ей, как я шла, не пугал ли кто меня дорогой. А я и не знаю, о чём рассказывать. Будто я и не уходила из своего дома, не видала ни волков, ни цыган, ни ребят-драчунов.
— Хорошо, — говорю, — дошла. Меня то подвозили, то провожали.
— Замерзла, поди? Ночи холодные стали.
— И ни разочку не замёрзла, — отвечаю ей. — Меня Бурёнка своим теплом согревала.
— Неужели нечего тебе рассказать матери?
— Некогда мне, мам, — говорю. — Мне идти надо.
Спохватилась: что мелю-то я. От матери идти куда-то надо. Это дорога в голову засела. Мать рассмеялась и говорит:
— Не уйди смотри от меня ночью. Закрыть тебя надо под запор.
Корова моя ревёт. И не понять мне, радуется она или от своей деревни отчуждается. Сестрёнки мои траву ей несут, а она рогом на них замахивается. «Беды бы не было, — думаю. — Расскажу им, как она меня от ребят-драчунов спасла. Они опасаться будут».
И рассказала им. Шла когда я, уже после встречи с Ванькой чубатым, который моряком хотел стать на нашей реке, в одной деревне три чумазых поглядели на меня, спрашивают: «Эй, девка, ты чья?» Я иду себе и не гляжу на них. Один камнем швырнул, по ноге Бурёнке стукнул. Тут бабка встретилась, заругалась на них. Они её осрамили. «Ну, — думаю, — не отстанут они от меня, если старого человека не почитают». Иду и не знаю, что делать. Они как собаки: побежишь, увидят, что боишься их, — погонятся следом. Наступишь на них — испугаются сами. «Девка, отдай звёздочку, — требуют они, — не отдашь — с пилоткой отнимем».
За мной следом дядька верхом ехал. Бабка сказала ему заступиться за меня. Он отпугнул их. Спросил, откуда я и куда иду, поехал своей дорогой. А я вижу, что эти головорезы не унялись, мимо домов за деревню бегут. Не придумаю, что делать. Остановиться в деревне и ждать? День потерять. Решилась: пойду. Присмотрела палку суковатую на дороге, подобрала: иду, что будет. И как гадала, так и вышло: за деревней они на меня. В руках тоже хлобыстинки у них. «Отдавай пилотку!» — требуют. «Подойди только, голову размозжу!» — пригрозила я. «Нищая побирушка», — дразнят меня. «Тронете — из нагана стрельну, — пригрозила им. — Узнаете меня». Двое запутались, отстали на шаг, а самый задира ко мне. Я его по руке палкой. Он взвыл, отскочил и — с разбегу на меня. Я — Бурёнке под шею. Она как махнёт рогом по салазкам ему, как рявкнет и — на него. Рванула верёвку из вывихнутой-то моей руки. Рука хоть уже не болела, а досточку-то я не снимала. Вырвалась да за ним. Двое уж у крайнего дома, а третий рукой хватается за щеку, летит, падает. В канаву прыгнул. Бурёнка потеряла его, остановилась. Так вот и спасла она меня. А говорят, что коровы глупые, только и знают молоко давать. Рассказала я это своим девкам, бояться они стали и сколько времени прошло, пока привыкли.
Матери потом все дорожные страхи рассказала. Сперва про всё хорошее, а потом и о недобрых приключениях. Их мне тоже хватило. Сколько лет прошло с тех пор, а мать сойдётся с бабками и рассказывает им про эту историю и всё дивится, как это я в такие годы сумела довести корову и сама в живых остаться. И я теперь часто дивлюсь сама тому же.
Город какой-то я проходила, мужик один ко мне привязался, спросил, куда я путь держу, а я уж и забыла наказ деда Афони, сказала ему. Он и назвался попутчиком моим, повёл меня на ленинградскую дорогу, ведёт и заговаривает меня. Посмотрела я на него, а он как будто безглазый. Глаза есть, а пустые они. И руки нетерпеливые. Снуёт он ими, не знает, куда девать. Жутко мне стало. Спросила у него:
— А мы этой дорогой-то идём? Я спрошу…
— Не спрашивай. Этой. Не веришь дяде? Я по ней сто пар сапог стоптал.
Вроде поверила и не поверила. Вижу, улица хуже пошла, никакой дороги не видно. Колдобины на проезде и навоз всякий. Дома все за заборами, и людей не видно. Смотрю, дядька навстречу показался с сумкой, как у военных, в руках. Я к нему. А этот за руку меня цапнул.
— Куда, малютка? Не приставай к прохожим!
Не сказал он, а прошипел и как кожу содрал с меня. Я — кричать:
— Дяденька, дяденька, скажите мне: эта дорога на Ленинград?
Он свернул на нашу сторону, глянул на меня и сразу на этого.
— Скажи ей, неверующей…
— Скажу, — ответил дядька и спрашивает: — Она кто вам?
— Племяша, племяша родная, — отвечает попутчик. — На ленинградскую дорогу вывожу.
— Нет, дяденька, я не племяша. Я эвакуированная, в Ленинград иду. А он чужой. На улице встретился.
— Пройдёмте в милицию, — говорит дядька, показывает что-то и представляется: — Уполномоченный опергруппы.
— Ой, дяденька, я вам правду сказала, — заплакала я. — Не забирайте меня. Крест господний, я домой иду.
— Я тебя не забираю, — ответил он, а сам за тем следит и руку в карман опускает. — Идите, гражданин, вперёд.
— Да ты что, начальник, — завопил он. — Я живу тут. Меня каждый пёс знает. Какое ты имеешь право на улице задерживать честного человека?
— Я не задерживаю — приглашаю. Через пять минут вы будете отпущены. Разговор закончен, вперёд!
В милиции опрос с меня сняли. Я всё до словечка рассказала. Потом его привели и спрашивать стали. Он всё меня племяшкой называет, а потом и говорит:
— У меня привычка такая — всех маленьких племяшками звать. — Он заплакал и сказал: — Потому я такой нежный с ними, что у меня в блокаде племяши погибли.
Ему посочувствовали и увели, а меня на главную улицу проводили и за город на шоссейную дорогу вывели.
А ещё цыгане меня в табор свой зазывали. На четырёх подводах они ехали. Обогнали меня, а потом остановились и ждут. Назад вернуться — далеко, впереди деревни не видать тоже. Цыганки — ко мне и залопотали:
— Красавица, долго шла и далеко идёшь. Угости молочком, а мы тебя подвезём.
— Нету молока, — говорю им. — Я за деревней доила.
— Не лукавь, красавица. Коровка всегда молочко носит.
Вижу, бабка-цыганка идёт с ведром. А эти верёвку у меня отнимают.
— Садись в телегу, красавица. Ночевать с нами будешь. Мы люди добрые.
Слышу, ведро громануло и старуха кувыркается и орёт. Впереди какие были — махнула на них рогами Бурёнка. Отскочили они от меня, закричали. Два старых цыгана бегут. Я повернула назад. Хоть куда-то бежать надо. Они — за мной. Бурёнка тянется, не разогнать её. Вижу, цыгане остановились. А навстречу мне подводы едут, целый обоз. Вижу, военные на возах. От радости и сил лишилась. А цыгане — на телеги и к лесу погнали свои подводы. Кинулась я к первому, выпалила ему всё. Он винтовку схватил да стрельнул вверх сколько-то раз. Привязал Бурёнку за телегу, посадил меня на мешки — поехали. В самый Ленинград они зерно везли. Я с ними до города и доехала.
Ну, а от Ленинграда к нам много народу тянулось. И военные часто сновали по нашей дороге. Полтораста километров прошла без приключений, домой целёхонька явилась. Мать меня уже знамо как встретила. Стали мы жить с Бурёнкой в счастье да радости. Земля наша не пахалась, не сеялась. Травы много выросло. Мать хоть и не чаяла дождаться меня, а сенца накосила. А тут мы все взялись миром сено таскать — много наготовили. На молоко потом и хлебушек выменивали, и картошку, а грибов с ягодой сами насобирали. Зиму перезимовали, а весной свой огород подняли, выжили все.
А главное тут — коровка. Не привела бы я её — не знаю, как бы мать прокормила нас. И многим деревенским мы помогали. У всех были маленькие ребята, а коровы три осталось на тридцать дворов.
Поездка в Москву с живой коровой Быль
Бывают же незадачливые коровы! На моей памяти у нас не было такой ни раньше, ни после неё. Оказалась она у нас по одному случаю. Когда она была телёнком, наша корова, её мать, вдруг стала бодать овец: замахнётся острым рогом на овцу — бок и располосует. За лето не одну овцу ранила. Не любят таких коров в деревнях, какими бы они породистыми да молочными ни были. Поначалу таким колодку на рога насаживают, а потом выберут базарный день да сведут на базар и продадут. Не каждый может терпеть долго корову с деревянным брусом на рогах. Случится такое, злые языки и на смех поднимают, и в малейшей ссоре без упрёка не оставят, а то и наговорить могут, что ушибы причиняет корова колодой овцам. И пришлось нам расстаться с нашей кормилицей, отвести на базар, а дочку её оставить ей на смену.
Потужила мать, что канитель лишняя вышла. Раньше времени корову менять пришлось. И молочная была, и молодая. От новой-то не известно чего дождёшься. Но всё же принесла и она нам телёночка, бычка, маленького, красивенького. Мать моя обрадовалась, потому что примета такая есть: если корова первым бычка принесёт, то молоком зальёт, а придёт с тёлочкой — молоком не накормит. Примета хорошая, но, видно, не на каждую корову она приходится да не пришлась и на нашу. Пойдёт мать утром с подойником — вернётся с кружкой молока, что телёнку мало, начнёт вздыхать да богу молиться, а на второй день снова без прибавки. К деду-колдуну сходила, но не выколдовал и он лишнего молока.
Хороший хозяин такую корову и дня не держал бы. Может быть, и мы с матерью так же поступили бы, но кто её, такую молочницу, с руками, как говорится, возьмёт. Надо было продать, а другую купить. Но за ту цену, которая могла быть нашей коровёнке, лучшую не купишь, надо было доплачивать. А где взять доплату, когда прошло лишь два года с окончания войны, всё разрушено. Решили ждать осень. Мать рассчитала, что вырастим телёнка — вот и будут деньги на доплату.
Весна тогда была тёплая, погожая. Люди радовались жизни, а у нас одни вздохи. Телёнку молоко пополам с водой, самим и щи забелить нечем, а тут ещё надо было сдать в государство триста двадцать литров, а потом и телёнка законтрактовали в колхоз. Все наши расчёты и рухнули.
Лето мы прожили без молока. Да и хлеба не было. Питались подножным кормом, что в поле да в лесу найдём. А осенью нежданно-негаданно нам вдруг повезло. Приехали из Москвы шофёры на машинах вывозить зерно колхозное на элеваторы, узнали о нашем несчастье и вызвались помочь нам, отвезти нашу корову в Москву и продать. Сговорились, сколько денег будет отдано нам, а остальную выручку они берут себе.
Была глубокая осень, когда настал день отъезда в Москву. На машину наставили кузов из жердей. Досок тогда негде было взять. Корову завели по покатому настилу из дверей, закрыли борта, привязали её на старую верёвку, положили сена. На дорогу позавтракали. Мать благословила меня в дальнюю дорогу — пожелала удачи и счастливого пути — и проводила за порог.
Шофёров было двое. Мне место оставалось в кузове, чему я обрадовался, потому что из кузова смогу увидеть всё на пути от деревни до самой Москвы.
Мать стояла у избы, смотрела вслед машине и держала у глаз угол платка, вытирала слёзы, словно провожала меня на войну или ещё куда-то. В конце деревни дорога свернула влево, понеслись навстречу поля, перелески, деревни с посёлками, овраги и речушки. Дул встречный ветер в лицо, радовал быстрой ездой, обновлял думы новыми для меня картинами. Но больше всего меня занимало то, что я увижу Москву, куда я ехал впервые.
Деревни были убогие, ещё не отстроившиеся после сожжения немцами. Скотины было мало, и почти не было собак, потому что люди голодали сами и собак нечем было кормить. Попадались ещё землянки, в которых жили люди. Ребята встречались оборванные, будто беспризорные. Они даже не гнались за машиной, не цеплялись за борт кататься, — видимо, не хватало сил.
Мы ехали через Чернь. Меня ни разу не брали в этот город, дорога не была мне потому знакома, и я решил проехать её стоя, чтобы запомнить. Коровёнка поела сена, легла. Дорога её не беспокоила, как будто она всю жизнь разъезжала в кузове машины, привыкла к переездам.
Я смотрел на корову. Мне казалось, что она обижена на меня, что я увожу её от дома куда-то в Москву, где нет таких лугов, как в нашей Каменке, ручья, где в любое время можно пить светлую и вкусную воду. Мне стало жалко её. Пусть бы жила у нас, а для молока молочную корову завели бы. Я мечтал, как можно было бы на другую корову заработать денег: я всю зиму делал бы салазки на продажу, сани в колхоз, вязал бы оконные рамы, а весной насеял бы за дорогой у погреба табаку, вырастил бы, срезал, нарубил мешка два, продал бы в Москве или Туле — вот и деньги.
Мечтать всегда и легко, и просто, а исполнять мечты бывает трудно и невозможно, как невозможно было бы по законам держать двух коров, занимать землю, кроме отведённой под огород, рамы не из чего было вязать, а за сани в колхозе не платили деньгами — писали трудодни, на которые почти ничего потом не выдавали.
Мы проехали просёлочные дороги, выбрались на большак, добрались до булыжного шоссе и покатили быстрее, потому что не приходилось объезжать дорожные ямы и колдобины с грязью от осенних дождей.
Корова закрыла глаза, пережёвывала корм. При виде незнакомых деревень я сравнивал их со своей деревней, не находил в них ничего похожего и близкого и скучал, как будто уезжал я из неё навсегда.
С утра, когда мы выехали из дому, светило солнце. А теперь небо заволокли тучи, погода хмурилась. Над землёй собирался туман, и всё вокруг окрашивалось в серый цвет. Мне казалось, что такая скучная погода стоит лишь в чужих деревнях, а в нашей по-прежнему тепло и солнечно. Я вернулся бы назад, но приходилось ехать справлять порученное дело.
В одной деревне машина остановилась. Шофёры посмотрели в кузов, спросили, как дела, не замёрз ли я.
— Корова спит. А мне тепло, — ответил я.
— Вечером в кабину сядешь, а пока держись. Двадцать пять километров проехали. Скоро на хорошую трассу выберемся.
Машина снова тронулась в путь. Корова поднялась, встряхнулась и копнула сено, потом посмотрела за борт. Позади осталась деревня, проехали поле, спустились к речке и стали подниматься через другую деревню в гору. Машина двигалась медленно.
Корова вдруг мотнула головой, оборвала верёвку, попятилась и прыгнула, словно заяц через плетень в сад, за борт кузова. Я и глазом моргнуть не успел, как она оказалась за придорожным кюветом, приземлившись на все четыре ноги. Но тут же она всем туловищем подалась вперёд, припала на передние коленки и разом встала, оглянулась на машину, отъезжавшую от неё, и пошла по мокрой траве. Я в оцепенении смотрел на корову — спортсменку по прыжкам через барьеры, не сообразив сразу, что она может убежать, пропасть, а когда дошло до меня такое сознание, я заколотил изо всех сил по кабине.
Машина остановилась. Шофёр спросил:
— Что там? Не дал на гору выбраться. Живот, что ль, заболел?
— Корова… корова выпрыгнула!
— Куда она могла выпрыгнуть? — заглядывая в кузов, спросил шофёр. — Ты не шути.
— Я и не шучу. Вон она пошла, — показал я на выгон.
— И правда, Иван! — удивился шофёр. — Хватит дремать. Хватай верёвку, бежим ловить. Надо же на гнилой обрывок привязать!
Я вылез из кузова. Шофёры поспешили наперехват корове. Она остановилась, понюхала воздух, видимо, не почувствовала своего выгона, поняла, что деревня чужая, повернулась да и пошла к машине. Она подошла ко мне, лизнула мою руку и приткнулась лбом к моему боку.
— Держи её, не отпускай! — крикнул один из шофёров. — Ввязались мы в дельце. Никакой выгоды не возьмёшь от такой скотины. Через борт, на ходу выпрыгнула!
Они подходили с натянутой верёвкой. Я разглядел, какие они оба жадные и злые от жадности. Такие никому не сделают добра за так, бесплатно, за простое человеческое спасибо.
— Держи, чего ты её не держишь! — сказал старший.
Он обругал меня. А корова при его ругани толкнула меня в бок, словно заказала не связываться с ними, вернуться назад. Мне на глаза сбегались слёзы. Я пожалел, что согласился ехать в Москву, но назад уже было не вернуться. Шофёры набросились на корову, вдвое сложив верёвку, затянули петлёй на шее. Выбрали пологий съезд в кювет, сдали задом машину. Открыв борт, завели её снова в кузов и крепко привязали на прежнее место. Старший ударил корову по ребристому боку, сказал:
— Попробуй у меня ещё раз выпрыгнуть! — Он обернулся ко мне: — А ты что плачешь? Боялся, убежит? От нас не сбежишь.
До Москвы я не промолвил больше ни слова, сидя на мешках с картошкой, закрытых брезентом, сожалел, что корова не убежала домой, как-нибудь мы прожили бы и с такой. Я готов был не брать в рот молока, если бы она вернулась назад. А машина ехала быстро. Я не видел, как проехали Чернь, и не увидал Москву. Шофёры жили в каком-то подмосковном посёлке. Под утро они разделались в сарае с коровой, свезли мясо на рынок, потом, вернувшись, отсчитали мне деньги, выговаривая, что они оказались в большом убытке, чему я не верил, а потом услышал случайно разговор старшего с женой, что поездка их в колхоз оправдалась, что так жить можно, что в другой раз они будут искать корову помясистее, что малому можно было бы недодать сотню, запутать — деньги он считать не мастак, — да чёрт с ним.
Ехать с ними в машине в Москву на вокзал я отказался, ушёл на станцию и сел в электричку. В Москве купил билет и вернулся домой.
Мать встретила меня со слезами. Она спохватилась, что не узнала адреса шофёров, что они могли со мной сделать всё что угодно и негде было бы меня искать. И вырученные за корову деньги она приняла без радости, не похвалила меня за эту дальнюю поездку, забыла от переживаний. Двор наш некоторое время стоял опустевший без коровы. Казалось, что в её закуте кто-то поселился жить невидимый и страшный. Казалось, я слышал там иногда вздохи, чесание о дубовый столб и скрип сенной решётки, и не заглядывал туда, пока мы не привели с базара новую корову.
Коровий урок
У нас говорили, что брухачей корове бог рогов не дал. А ещё предсказывали, что комолая корова обязательно должна за свой век хоть одного человека, но забодать. Я этим присказкам не верил, и злили они меня, потому что у нас была комолая корова и говорилось всё это о ней, а она была такая смирная, послушная, что ни телёнка не боднула, ни овцу и тем более не трогала ничьих коров. Но предсказания сбылись.
Жила в деревне одна старуха, была она такая вредная, что её ни один человек не любил и за глаза не называл по имени, а всё по прозвищу — Сычихой. К ней не ходили ничего занимать, ни о чём её никогда не просили. Мало того что она всем во всём отказывала, ещё и срамила, будто её намеревались обмануть или обворовать. Она начинала кричать на всю деревню, ругала того, кто перед ней оказывался, ругала его и весь его род, наговаривала на беднягу столько прегрешений, что на исполнение их мало было бы целой жизни.
Мимо её дома взрослые проходили быстрым шагом, мальчишки проносились стрелой или обходили низом, за погребами. Если у её избы или ограды останавливалась скотина, то тоже поднимался крик, будто корова или овца очистила все её грядки. Тогда на улицу выскакивал её муж, старик Филя, вылетал он всегда с дубинкой — и корове попадало по рёбрам. Не щадил он и овец с телятами, а когда оказывалось, что кричала Сычиха на мальчугана, то старик замахивался и на него, хотя сдерживал руку, дубинку не бросал. Со всеми соседями Сычиха была в вечной ссоре и разладе.
Мы жили от неё через дом, но тоже не дружили, а по одному случаю и вовсе вдруг стали для неё врагами. А было так.
Однажды я гнал к дому свою Комолку. После пригона мы пасли коров ещё некоторое время на выгоне, подкармливали перед вечерней дойкой. Все ребята и девчонки уже пригнали коров, а я шёл за своей следом не спеша. Она не торопилась к дому, ела траву. Было сумеречно, деревня притихла. В такую пору хозяйки доили коров и собирали ужин. Я толкал корову идти быстрее. Мать не ругала, если поздно пригонишь корову, но была уже пора быть ей дома.
Мы поравнялись с амбаром Сычихи. Она всех прогоняла от него, и трава тут не была стравлена скотиной. Моя корова принялась поедать её, торопилась, жадничала. Вдруг с порога закричала бабка. Тут корова подняла голову, посмотрела на сварливую старуху, но снова нагнула комолую голову к траве.
Сычиха взяла палку и направилась к нам, грозя побить меня.
Комолка мотнула головой и пошла навстречу старухе.
— Куда, Комолка? — закричал я. — Иди домой.
Старуха узнала, кто мы и чьи, закричала ещё пуще. Корова угнула голову и пошла быстрее. Бабка попятилась. Корова потрусила за ней. Бабка бросила палку и — к порогу. Комолка настигла её, поддела под понёву и прижала лбом к стенке. Я не знал, что делать. Старуха кричала: «Разбой!» Корова знай чесала себе о неё лоб.
Я схватил палку и стал отгонять Комолку от Сычихи. На крик выходили соседи, смотрели, но заступаться за вредную старуху не шли. Сычиха охнула и замолчала, осела. Я заголосил, колотя корову по боку.
Но лишь прекратился крик, корова мотнула головой, освободилась от бабкиной понёвы, вздохнула глубоко, облегчённо и заспешила к дому. Бабка застонала, заплакала и поднялась на ноги. Держась за стенку, она подошла к двери и скрылась за порогом. Я понёсся к дому. Меня встретила мать с соседями, принялась спрашивать, что там случилось, загоревала, что теперь будет настоящий скандал, что придётся ещё и на суд идти.
Соседи смеялись, радовались и говорили, что комолая корова большой беды не сделает, попугала только, проучила вредную старуху.
Сычиха с той поры переменилась. На пользу пошёл ей урок комолой коровы. Но нам пришлось продать нашу Комолку. Хотя и молоко она давала хорошее, и смирная была, не разборчива в корме, а не могла она больше видеть бабку Сычиху: где ни увидит её, бросается — не отогнать. И даже перед сычихиной избой проходила — угнёт голову и промычит грозно.
— От греха надо на базар Комолку вести, — сказал однажды отец. — Закатает старую ведьму до смерти, отвечать за неё по закону придётся.
И однажды мы расстались с Комолкой. Вместо неё у нас появилась чёрная в белых яблоках рогатая Красавка, но тоже смирная, не бодливая. Я боялся, что и этой не понравится бабка Сычиха, и всегда прогонял её к дому над ручьём, далеко от бабкиного дома.
Бык с чугунным кольцом в ноздрях
Это было в войну. Наши войска выбили немцев с левого берега Зуши, прогнали к западу. И сразу же в наш колхоз прислали откуда-то племенного быка чудовищно огромного роста с чугунным, как сказали, кольцом в ноздрях. На этого быка, словно на чудо, потянулись смотреть все. Никогда такой огромной скотины у нас не водилось.
Бык был светлой масти, с бело-кровяными глазами, смотревшими на людей, как казалось, свирепо, с готовностью в ярости наброситься на первого встречного или махнуть рогом и пропороть насквозь любое живое существо.
Каждый, глядя на этого быка, думал или произносил вслух:
— Такой если начнёт катать, то от человека мокрого места не останется.
Но бык был так смирён, что никого и ничего не замечал. Если он брёл по дороге, то и глазом не поводил на встречного, просто шёл, не уступая дороги. А если его смело ловили за поводок на кольце, то он останавливался и смиренно следовал за поводырём, куда бы его ни повели. Он даже пасся лениво, отставал от стада и никогда не ревел вслед коровёнкам, так и не признавшим его вожаком стада. Потом он стал пастись один, далеко от деревни не отбивался, и о нём стали говорить:
— Ну и прислали скотинку! То ли он слепой, стадо не видит, то ли у него нюха нет? Кормить его только зря, сено даром переводить.
Но даром корм бык не переводил. Пришла рабочая пора, его попробовали в работе, он и оказался настоящим ломовиком. Лошадей у нас было мало. Ещё зимой нам были присланы монгольские степные лошадки, быстрые в беге, но малосильные на перевозку грузов. У нас на бригаду их оставалось две, запрягали их парой, потому что одна не одолевала в гору вытягивать пустую телегу. Была ещё одна лошадка, присланная откуда-то с юга, и всему тяглу тягло — ишак.
На быка мы сшили шорку, собрали побольше да покрепче телегу, сделали оглобли по его длине и однажды объездили его, сначала без груза. Правда, пока объехали деревню, все мальчишки с девчонками набились в телегу. Но для него это был не груз. Что она весила, эта орава шкетов, тощих от голода? Когда мы нагрузили на телегу полтонны ржи, он стронул воз с места без видимой натуги, добавили ещё триста килограммов — он и такую поклажу потянул легко и свободно, словно телега была пустая, без груза…
Мы каждое утро возили с поля на ток снопы. Они обмолачивались цепами, зерно провеивалось на ветру, насыпалось в мешки, а после обеда составляли обоз, и мы увозили обмолот на ссыпной пункт за десять километров. Мы были главными работниками в нашей бригаде. Самому старшему из нашей братии шёл пятнадцатый год. Он и был возчиком на головной бычьей повозке.
С начала рабочей поры бык с кольцом не знал отдыха ни днём ни ночью. На нём возили снопы, сено, зерно, лес, ездили за тридцать пять километров на базар и туда же возили зерно на элеватор. Бык был безотказен во всех работах, словно для этого только и был нам прислан. За лето и осень он сильно похудел. Если на лошадей в дальнюю дорогу возчикам давали зерна, сена, то о быке не пеклись, словно он мог быть сыт святым духом. Весной его подняли миром на ноги, выпихнули на молодую траву, в плуг не впрягали. Смотрели на него как на лишнее и никому не нужное существо. И только мальчишки занимались с ним. Они катались на нём верхом, садились разом человек по пять и уезжали то к саду, то в лес играть. Там была хорошая трава. И пока ребята играли, бык кормился. Снова наступила рабочая пора. Мальчишкам пришлось расстаться с быком. Его опять впрягли в телегу.
Осенью я уехал из деревни в Москву учиться в ремесленное училище. Зимой мне написали, что бык с кольцом протянул ноги, помер, и сообщалась причина: «Заездили его, а кормить не кормили». Я и сейчас ещё думаю: если бы не отбирали его у мальчишек, доверили бы им ухаживать за быком и ездить на нём в школу, он мог бы много лет прожить на пользу людям. Я вспоминал рассказ деда Якова и соглашался с его словами, что не умели у нас к редкостному с добром относиться, не приучены были. И мы не были приучены к заботам, школ таких тогда не было и малы были, от отцов науку эту перенять не успели — война помешала.
Своими руками Повесть
Дорога к депутату
Илья Лапшин отправился в сельский Совет сразу после школы. По литературе он получил двойку. По алгебре тоже могла быть двойка, но Надежда Викторовна не поставила отметку в дневник, сказала, что на следующем уроке вызовет его отвечать за два урока — и тогда не пощадит, если он споткнётся хоть раз.
Такого с Ильёй никогда не было, чтобы не знать ни одного урока. Если бы спрашивали по всем предметам, сегодня он действительно нахватал бы полный дневник двоек, но ему повезло, спросили только на двух уроках. Да и на этих он как-нибудь выкарабкался бы к троечке, хотя и не учил их, но слушал объяснения, а память у него была тренированная, и как-то ответить смог бы.
«А вот не мог, не мог, не мог!» — твердил он про себя, сдерживая слёзы, набегавшие от обиды.
Илья боялся с кем-нибудь встретиться, показать опухшее лицо. Но навстречу никто не шёл. Лишь со стороны окликнул Васька Трутнёв, бредший к дому мимо изб по пешеходной дорожке:
— Лапша, а ты куда? Заблудился, забыл, где живёшь? Твой дом в другой стороне.
Илья показал Трутнёву кулак.
— А, знаю… К Аньке идёшь.
На эти слова тоже был поднят кулак. Илья направился к однокласснику — тот заспешил к дому.
Илья сидел за одной партой с Анькой Князевой. Она три дня не приходила в школу, болела. Но Илья шёл не к ней, а на приём к депутату, её отцу, Фёдору Михайловичу Князеву, принимавшему всех в этот день в сельском Совете.
«И чего он тут принимает? При народе ничего не скажешь».
Илья шёл к депутату, наслышанный, что депутаты всем и во всём помогают, шёл с серьёзным разговором, с жалобой на отца и мать. Нет, они не били его, не обижали. Случилось совсем иное, на что он должен был пожаловаться, попросить у Фёдора Михайловича помощи.
Но на приём к нему Илья не попал. На сельсоветском крыльце была приклеена бумажка с надписью:
ПРИЁМ ДЕПУТАТА КНЯЗЕВА Ф. М.
ПЕРЕНОСИТСЯ НА СЛЕДУЮЩУЮ СРЕДУ
Илья обрадовался. В сельсовете за окнами было многолюдно. Разговаривать с Фёдором Михайловичем при свидетелях он стеснялся.
«Наверно, Фёдор Михалыч куда-нибудь уехал, — подумал Илья и решил: — Вечером домой к ним пойду. Все ходят домой — и я пойду».
Илья свернул в сад, ушёл к дальней от деревни канаве, побродил у вишнёвых зарослей, нашёл два яблока в листве под яблонями и устроился на солнышке под толстой ракитой.
Уже облетела с яблонь листва, земля была холодная, но на солнышке ещё пригревало. Илья любил тихие места, где никто не мешает мечтать. Он лежал, смотрел через ракитовые ветки на белые облака и думал, что хорошо стать лётчиком и летать под облаками. Только сперва надо вырасти большим, выучиться, а потом летать. Больше всего Илье хотелось стать взрослым. Если бы он теперь учился в восьмом или девятом классе, то отец советовался бы с ним, как советуется с Ленкой, с сестрой, не решал бы без него важные домашние дела.
Илья пригрелся, уснул и проспал до вечера.
«Вот это задал храпака, — подумал он. — Уже и доилка не работает».
Илья встал, отряхнулся от листвы, попрыгал для разминки, спрятал здесь же портфель, чтобы дядя Федя не подумал, что он, Лапшин, ещё не был дома после школы, не сделал уроки, и направился налегке через сад к дому Князевых.
К скотным дворам проехала молоковозка за молоком от вечерней дойки. Илья решил, что Фёдор Михайлович ещё не вернулся домой. Он всегда уходил с работы последним. Лучше его встретить на улице. Илья стеснялся Аньки: сразу спрашивает, к кому пришёл и по какому делу. «Схожу к клубу, а потом к ним, — решил Илья. — Посмотрю, что будет в клубе».
Илья трусил, когда подходил к дому Князевых, не знал, как начинать разговор с Фёдором Михайловичем, боялся заплакать от обиды на отца с матерью и на сестру, которая считает себя чуть ли не хозяйкой в доме, любит распоряжаться, указывать, только не работать. В восьмой класс ходит, а уже ногти красит и малюется вся, как трубочист в саже вымазана. Подушка чёрная от краски.
«Скажу: дядя Федя, я к вам по такому вопросу, — стал придумывать Илья речь. — А отец наш решил…»
Илья придумывал слова, переставлял их и так, и этак, но ладной речи, как ему казалось, не выходило. Он боялся, что Фёдор Михайлович не поймёт его просьбы, не поможет. А просьба была очень важная, секретная, знать о ней не должен был никто, кроме депутата, помогавшего людям во многих делах.
«Отец решил…» — подумал Илья, завидя освещённые окна Князевых. Поднимаясь на крыльцо, он оглянулся, взялся за скобку и зашептал:
— «Дядя Фёдор, у меня к вам такое дело…» Тьфу, привязалось это дело! «Дядя Фёдор, а дядя Фёдор…»
— Что? — отозвался из сенец Фёдор Михайлович. — Кто там? Заходи.
Илья прикусил губу от неожиданности, попятился, намереваясь бесшумно удалиться. Ему казалось, что он репетирует шёпотом, а слышно даже через дверь, вдруг растворившуюся перед ним. В сенях стоял Фёдор Михайлович.
— Дядя Федя, я к вам, — заговорил Илья.
— Я слышал, что ко мне. Заходи.
Илья переступил порог. Фёдор Михайлович спросил полушёпотом:
— Ты по секрету или как?
— По секрету, — ответил таким же тоном Илья.
У Фёдора Михайловича был в доме свой кабинетик, чего у других в деревне ни у кого не было.
— Пап, кто там? — услышал Илья Анин голос.
— Это ко мне, — ответил Фёдор Михайлович, взял от гостя курточку, повесил её на деревянную завитушку на стене и пропустил Илью в кабинет.
Илья не раз бывал у Князевых, считал, что тут у них чулан, а оказалось — кабинет с книжками. Глаза Ильи невольно забегали по полкам, по книжным корешкам, но сразу он прочесть не смог ни одного названия. Он лишь отметил, что в школьной библиотеке книг меньше и не такие они новые и толстые. Подумал, что Анька счастливая. Если бы у него в доме было столько книг, он из дому зря шагу не сделал бы, сидел бы и читал днём и ночью.
Фёдор Михайлович усадил растерявшегося посетителя на табуретку и сел сам у стола, заговорил:
— Ну, брат, выкладывай, что у тебя за секрет такой мучительный. Будем разрешать его. Или он неразрешим?
Илья сидя продолжал рассматривать книги, разобрал некоторые надписи, на одной старинной было выдавлено что-то мелкими буквами, что нельзя было прочесть, а ниже стояло: «Русский лес». Рядом на корешке Илья разобрал: «Бегство в города…»
— Давай сначала о деле толковать, а потом книжками заниматься, — снова попробовал привлечь внимание Ильи Фёдор Михайлович.
— Я пришёл, — сказал Илья, не отрывая взгляда от книг, — пришёл к вам…
— Вижу, что пришёл ко мне. А какая нужда пригнала?
Илье расхотелось говорить о своём деле, было желание пересмотреть все книжки, каждую подержать в руках, прижать к груди и бережно поставить на место. Он не знал, что книги имеют такую колдовскую силу, что не оторвать от них взгляда.
В углу кабинета затренькал звоночек.
— Ещё гость, — сказал Фёдор Михайлович и выглянул за дверь, но со стула не встал, сказал: — Обойдутся без нас — есть кому встретить. Ко мне сюда, — начал он рассказывать, — сигнализация проведена. Бывает, что все уйдут из дому, дверь закроют, стука не слышу, а звонок даёт знать. Потому и тебя встретил я неожиданно.
— А я и не звонил! — удивился Илья.
— Тебе и не надо было звонить, — сказал Фёдор Михайлович. — Стоит ступить ногой на последнюю ступеньку, как я уже слышу сигнал.
— Вот здорово! — поразился Илья. — А это сложно сделать?
— Проще простого. Требуется тонкий тросик или проволока, ролики и велосипедный звонок или колокольчик. Как-нибудь подойди к моему Ивану, он тебе покажет эту механику. А теперь о деле…
Дверь кабинета приотворилась. Иван заглянул и спросил:
— Пап, ты очень занят?
— Занят, как видишь. А что там?
— Ужин готов. Просим к столу.
— Уже? Кажется, только от обеда. Как времечко-то летит! И чем старше становишься, тем оно быстрее и быстрее несётся, ничего не успеваешь сделать. Так что, ребятки, жмите на дела во все лопатки сейчас, пока седина в висок не ударила. Ни на час, ни на день не давайте себе спуску. Встанете на ноги — потом можно и отдохнуть будет. Ну, а сейчас поужинаем… Да, у тебя как с уроками-то, сделаны?
— Почти, — нерешительно ответил Илья, снова обращая взгляд на книги.
— Стало быть, не сделаны. Неохота или помешали? — спросил Фёдор Михайлович.
— Помешали, — ответил Илья, потянувшись к книгам.
— Что интересного приглядел?
— А вот: «Бегство в города», — показал Илья на книгу.
— «Бегство в города и обратная тяга в деревню» называется эта книга. Интересная, но ты до неё ещё не дорос. Со временем прочитаешь. Ну а кто же тебе помешал делать уроки?
Илья надулся, соображая, как пожаловаться Фёдору Михайловичу на родителей и бухгалтершу, Веру Семёновну, уговорившую отца продать корову. «Невыгодно держать скотину. Молоко в магазине будет — сколько надо будет, столько и бери», — вспоминались ему слышанные от Веры Семёновны слова.
— А ты ужинал сегодня? — спросил Фёдор Михайлович.
— Ай… — Илья махнул неопределённо рукой.
— Не успел ещё? Пойдём к столу. На голодное брюхо какой разговор? — сказал Фёдор Михайлович и встал.
— Я не хочу, дядя Федя, — упёрся Илья. — Можно, я тут побуду?
— Тут бывать никому не разрешается. Боюсь, что ежа мне на сиденье подложат, — пошутил Фёдор Михайлович.
Илья рассмеялся. Он умел сразу представлять, что произойдёт при том или ином случае. Дядя Федя садится важно за свой стол — и с криком подскакивает до потолка, опять плюхается — и опять подскакивает…
— Пойдём, Илюша, там ждут. Позже ужинать вредно. — Фёдор Михайлович положил Илье руку на плечо и вывел из кабинета.
Жалоба
Стол был уже накрыт. Когда Илья вымыл руки — ему пришлось, стесняясь, много потратить мыла, очень грязными оказались руки, — подошёл к столу и был поражён белизной стола. На белой скатерти стояло всё-всё белое: булка на белой доске, белые ложки — деревянные, белые тарелки, белые чайные чашки, белая сахарница, белый кувшин — стеклянный, с молоком, белый творог в белой глубокой чашке. Было и ещё много чего, что Илья разом не рассмотрел.
— Стоять будем или сядем? — спросил Фёдор Михайлович. — Занимай табуретку и — за дело. У нас еда по вечерам только молочная. Так что ты уж извини, если не по вкусу придётся.
К столу подошли тётя Шура, Ванька и рыжая Катька из Илюшкиного с Анькой класса.
— Ой, Лапша тут! — удивилась она.
— Лапши нет, только творог, — сказал Ванька. — Здорово, Илюха! Чего мятый весь?
— Я не мятый, — оглядывая костюм, ответил Илья.
— А, это мне показалось, — сказал Ванька и стал ужинать.
— У нас, Илья, каждому уже положено, а если чего потребуется добавить — из общей посудины. К творогу соль, песок, сметана, сливки с молоком — на выбор и вкус, — объяснил Фёдор Михайлович. — Мне сладкое и солёное, как говорят, вредно, так я со сливками, со сметанкой, с молочком потребляю. Иван признаёт соль к молочному. У вас тоже такой порядок?
— Нет. У нас когда как, — ответил Илья и прослезился.
— А ты чего плачешь? — спросил Фёдор Михайлович.
— Посадил мальчишку к столу и с вопросами пристаёшь, — сказала тётя Шура. — Разве тут не заплачешь?
— Дело не в этом, — возразил Фёдор Михайлович. — Успокойся, Илюша. Перейдём ко мне — скажешь.
После ужина Фёдор Михайлович завёл снова Илью в кабинет, не усаживая спросил:
— Говори: что случилось?
— А отец корову продаёт, — ответил Илья.
— Что ты говоришь! — удивился Фёдор Михайлович. — Нашу с тобой корову продают? Когда я отдал вам телёнка, на меня сколько народу обиделось! Кому не хочется держать у себя такую молочную породу, как у вас? И сколько труда надо положить, чтобы выходить такую корову. Да и не было бы её, если бы не твой присмотр. Ты помнишь, как мы с тобой неслись на картофельное поле, когда тёлка заглотила картошку? Я еле поспевал за тобой, на бегу успокаивал, просил не реветь раньше времени.
— Помню, — ответил Илья. — Когда увидал, как она замотала головой и слюнями забрызгалась, о, как я летанул за вами! В одну секунду перехватил вас на дороге. А потом бежал и боялся: не успеем…
— Ты теперь знаешь, как надо поступать с коровой, если она подавится картошкой или яблоком, запомнил?
— На всю жизнь узнал. Только боялся руку ей в рот совать, думал, оттяпает она её. А как горячо у неё было в глотке, — казалось, обжечься можно.
— Ну, не печка там. Это руке с наружного холода жарко. А не подоспей мы тем часом — была бы беда. Осенью много скотины гибнет от картошки и яблок. Корова не может разгрызать круглое, как овца или свинья. Всё у неё проскакивает в глотку. И траву она непрожёванной глотает, а потом только пережёвывает. Мы с тобой — ладно, а матери сколько хлопот досталось вырастить из телёнка корову. И она теперь согласна её продать?
— Отец уговорил её. Он и эта, бухгалтерша. Она всё время матери талдычит: «Невыгодно держать корову. Молоко, — говорит, — в магазин будет поступать бесперебойно. Сколько надо, столько и бери без лишнего труда».
— Скверные, брат, дела, — сказал Фёдор Михайлович. — А сестрёнка как к этому относится?
— Ай, она в ПТУ собирается, а потом на фабрику. Всё время о городе мечтает. Там, говорит, театры, музеи. А тут один клуб.
— Чужие слова она говорит, — сказал Фёдор Михайлович. — В театры и в музеи мы тоже ездим, когда с делами управляемся. А каждый день и в городе по театрам никто не ходит. Ты, Илюша, если не хочешь расставаться с коровой, то и стой на своём.
— Я не хочу, да они разве меня послушаются, — ответил Илья. — Мать не совсем согласна продавать Берёзку… А меня корова за километр узнаёт, рёвом встречает — так привыкла ко мне… Ещё когда телёночком была, привыкла. А теперь её зарежут… Она даже на ленивую Ленку злится, рогом замахивается, а на меня нет. Я когда прохожу мимо, она промычит, а потом смотрит и смотрит, пока не скроюсь.
— Животные любят, кто к ним с лаской относится. Хоть и говорят, что они существа неразумные, но это, брат, враки. Есть у них свой разум и память на добро и зло, — сказал Фёдор Михайлович и, задумавшись, застучал по столу пальцами.
— Я пойду, — сказал Илья.
— Минуточку. Вместе выйдем. Мне надо к предсовета зайти, — сказал Фёдор Михайлович.
Илья было обрадовался, думал, что. Фёдор Михайлович пойдёт с ним и уговорит отца с матерью не продавать корову, а он по другим делам идёт. Верно, зря он приходил с жалобой? Останется их двор без коровы. Он и кормил её, и сам хотел научиться доить. Когда матери не бывает дома или болят у неё руки, смог бы заменить мать. Ленка ленится, совсем ничего не хочет делать, только и говорит о городе, собирается в ПТУ, хочет стать прядильщицей и работать на фабрике. Отцу помогает, в магазин сбегает, а сдачу присваивает. Избалованная…
— Такую корову, как ваша, жалко продавать. От неё самое молоко начинается. Четвёртым телёнком всего. Надо что-то придумывать. Матери тяжело, видно, одной. Сестра не помогает, наверное?
— Нисколечко, — ответил Илья. — Отцу помогает.
— А ты как?
— Я-то помогаю. Дрова рублю, воду с кормом ношу, навоз выбрасываю… Доить только не умею, — признался Илья.
— А учиться стал бы? — оживился Фёдор Михайлович.
— Стал бы, — согласился Илья.
— Ну так научимся! Откроем кружок. Сам обучу вас. Будете всё делать своими руками, тогда без вашего согласия не сведут корову на базар… Так и сделаем.
Они вышли из дома. Фёдор Михайлович направился к председателю, а Илья понёсся домой, но вспомнил, что в саду оставлен портфель, вернулся за портфелем.
Дояр Фёдор Михайлович Князев
Редко вспоминал Фёдор Михайлович свою детскую жизнь. Горькая она была, трудная, состояла из одних забот да хлопот, которыми живут только взрослые люди. И у детей бывают хлопоты и заботы, но только свои, детские. Жили по соседству с ними Громовы и Захаровы, дружки его. Просыпались они поздно, бездельничали, пока не собиралась кучка таких же бездельников, как звала тех ребят его мать, и не придумывали они себе какую-нибудь игру.
Его, Федино, утро начиналось рано, как и у взрослых. Шёл ему одиннадцатый год, был он старшим в семье ребёнком. Младше его были две сестрёнки и братишка. Отца не было.
Тогда шла война. Михаила Князева призвали защищать русскую землю, и писем от него не приходило. А мать заболела на втором году войны, сердце ослабло и опухли суставы рук и ног. Жила с ними бабушка, но и с ней беда приключилась: бомбил деревню фашистский самолёт, осколком ударило ей по надглазью, зрение у неё от этого повредилось сильно, только и могла она видеть свет дневной. Кое-что она делала на ощупь да наугад, но за её работой присмотр нужен был.
Федя, как старший, много дел справлял сам и присматривал за младшими. Он носил воду из колодца — два ведра на коромысле поднимал — и дрова в лесу готовил, дома сам колол их, рубил и в печку подкладывал, и сено для коровы готовил, и чуни ребятам плёл, ходил на пруд бельишко полоскать зимой и летом, и в колхоз на работу в горячую пору ходил, трудодни зарабатывал.
Знал Федя горькие слёзы. Позовут его ребята в лес или в луга играть, а ему некогда, не отойти от дома. Посмотрит он им вслед — горечью слёз глаза затянет; спрячется он от постороннего взгляда в сторонку, проглотит слёзы, глаза водицей промоет и за свои хозяйские дела принимается.
Но знал Федя и радости. Истопится печка, загребёт он кочергой угли с золой в угол под печные своды — приятно от чистоты пода, что самое главное дело сделано, с которого начинался каждый день. Истоплена печка, сготовлены завтрак, обед и ужин. Пока огонь в печке, и другие дела снимаются: корова подоена, ухожена, куры накормлены и дрова приготовлены для нового утра, чтобы положить их потом на просушку в печку.
Работу в колхозе Федя исполнял мужскую: больше возил корм лошадям и скотине, весной ездил за горючим для тракторов — словом, был возчиком. Люди хвалили Федю в глаза и за глаза. Но похвала смущала его. Он считал, что ничего особенного в его делах нет, что и не он главный работник в доме, а только помощник, что сестрёнка умывает и кормит мать и меньшего братца, бабушка тоже не сидит сложа руки, а в колхозе он работает наравне с другими мальчишками. И стоило Феде услышать о себе похвалу, он краснел, словно сделал что-то не то или не так, и старался уйти, спрятаться, чтобы не слышать этих слов.
В четвёртый год войны, осенью, когда стали падать с деревьев листья, Федина мать умерла. Больше всех о ней плакали бабушка и сестрёнки, но сестёр Федя скоро уговорил слёз не лить, сказал:
— Как-нибудь проживём. У нас ещё бабушка есть и корова. Будем все дружно работать — и проживём, не погибнем.
Бабушку Феде утешить не удалось. При его словах она больше расстраивалась, упрекала бога, что такой несправедливый, отнял у малых детей мать, что по порядку стоило бы сперва её, старую, прибрать, а то оставил слепую старуху в горе жить. Потому и бабушка стала скоро дряхлеть и всё больше прилёживать на печке.
Корову она доить не смогла. Родни у них в своей деревне не было. Федя несколько раз сходил к соседям, но одну из соседок корова не допустила к себе, а второй отдавала мало молока. Бабушка тужила при Феде:
— Горе-то какое нам. С коровой — и без молока сидеть будем. Была бы в твоих, Федюшка, летах Нюрочка, она сама смогла бы подоить Лыску. Беда на беде у нас в доме.
— Бабушка, а мужикам можно коров доить? — спросил Федя.
— Бывало, доили, — ответила бабушка. — Тоже по несчастью какому. Не принято у нас мужикам за это дело браться.
Нюра отозвала к порогу брата, пошептала ему:
— Федь, а Федь, ты не говори бабушке — я буду доить Лыску. Ладно?
— Ты маленькая. Она тебе не даст молока, — ответил тоже шёпотом Федя.
— А вот посмотришь — даст, — стояла на своём Нюра. — Я видала, как бабушка доила.
— Ладно, попробуешь, — закончил разговор Федя и занялся делами.
Вечером Федя не пошёл звать на помощь кого-нибудь из соседских женщин. Он налил в ведро тёплой воды, взял чистую тряпицу, чтобы после мытья обтереть вымя, вышел вместе с Нюрой в хлев. Корова ела сено. Федя дал ей мягкого, зелёного сена, чтобы она была добрее, подпустила бы к себе и отдала молоко маленькой доярке.
— На подойник, подмывай вымя, а я буду гладить Лыску, — сказал Федя сестрёнке.
Нюра нерешительно взяла подойник, со страхом стала подходить к корове. Лыска подняла голову, глянула на новую доярку и махнула по ней хвостом.
— Ой, она стегается, — сказала Нюра и отступила от коровы.
— Не бойся. Это она сперва так, — сказал Федя, поглаживая Лыске шею. — Она не привыкла к тебе или не узнала.
— Нет, Федь, боюсь. Она вон поднимает ногу, ударить хочет.
— Эх, бояка ты, — сказал Федя, выхватил у сестрёнки подойник и присел у коровьего вымени.
Наверное, Федя не осмелился бы подойти к корове, если бы не вызвалась на это сестра. Он считал, что заниматься этим делом мужчине стыдно, а теперь забыл о стыде, обмыл водой соски, вымя, обтёр тряпицей, вылил воду и принялся за дойку.
Он не ожидал, что польётся в подойник молоко, зазвенят струйки по ведёрному дну, что так скоро забелеет молочная пена.
Федя оглянулся. Сестрёнка стояла с раскрытым ртом, окаменевшая от изумления. Лыска переступила задними ногами, словно требовала освободить её до конца от накопившегося в вымени молока. Федя не перестал бы доить её, но ему свело судорогой пальцы. Он потряс кистями — и опять забулькало в подойнике молоко.
Когда Федя поднял подойник, то чуть ли не упал. У него от долгого сидения на корточках затекли коленки. Он отставил подойник, вернулся к корове, поласкал её.
Федя удивился, что сестры не было рядом с ним, ушла. Он почувствовал, что весь мокрый стал от пота, а тело обессилело и дрожит.
В сенцах он столкнулся с Нюрой. Она вывалилась из избы.
— Ой! Подоил! — воскликнула она. — И не пролил? Не стукнула она тебя?
— Не стукнула и не пролил, — ответил Федя и внёс молоко в избу.
Бабушка уже знала, что Федя подоил корову. От радости она поднялась, даже причесалась, собираясь слезать с печки.
— Родименький, желанненький мой, — причитала она, — и как же ты сумел-то? Сказали бы, я пошла бы сама, ничего мне не сделалось бы. Разленилась я, как на печку поднялась…
Федя был смущён, злился, что сестрёнка наболтала бабушке о дойке коровы, расстроила её. Сама шептала молчать об этом, а тут же и раззвонила. Он погрозил Нюре кулаком и подошёл к печке.
— Бабушка, ты лежи, не слезай. Я всё сделаю.
— И то всё делаешь на всех нас, а мы бока греем, кирпичи на печи протираем, — ответила бабушка. — Стыд нам за это. Надо не лежать, а хоть чуток да помогать тебе, родименький наш.
Бабушка слезла с печи, подошла к лавке, нащупала подойник и взвесила его на руке.
— Охохошеньки, да она тебе всё до капли отдала. А ручонки-то, поди, устали?
— Не, бабушка, — ответил Федя, скрывая правду. — Чуть-чуть пальцы покололо. Привыкнут. Это с первого раза.
Бабушка ужинала за столом. Молока съела больше, чем в другое время, хвалила вкус, как будто оно было от другой коровы. Но при этом не обошлось и без слёз. Опять, хотя и от радости, что Федя научился доить корову, поплакала. Бабушка сожалела, что мать не может порадоваться его новым делам.
Федя нахмурился, замолк. Он не любил, когда бабушка вспоминала о матери при них и плакала. От этого становилось всем грустно и одиноко сразу. Он сам всё время думал о матери и часто плакал о ней, но тайком от всех, не вслух.
После ужина Федя оделся и вышел на улицу, чтобы бабушка успокоилась без него. Зимний вечер был тихий и светлый. На небе загорались звёзды, а на деревню, как казалось Феде, накатывалась от горизонта круглая луна. В той стороне, где поднималась луна, было светло на поле. Это поле было с уклоном к деревне, казалось крутой горой. Феде захотелось покататься с той горы, но он знал, что она не так крута, какой кажется при лунном свете. Да идти одному туда было страшно. Ребята пробовали там кататься на лыжах-самоделках, но скоро ушли на крутую гору к лесу.
Ребята с салазками облазили уже всё, а ему не приходилось.
«Покатаюсь от своего погреба!» — решил Федя, взял салазки и побежал на горку.
Снег был пушистый. Салазки катились плохо, но раз от разу съезжали всё дальше и дальше. Федя увлёкся катанием, разогрелся, даже взмок весь от пота.
Луна поднялась высоко, светила ярче. Федя вдруг спохватился, что он один на горе, ребята сидят где-нибудь в тепле, смотрят, как играют большие в разные игры с девками. Он оставил на горе салазки и вошёл в избу.
— Федька, где ты был? — спросила Нюра.
— Будешь знать — скоро состаришься, — ответил Федя. — Одевайся, пойдём со мной… И Машку одень. Быстро только.
— Куда ты их в такую пору волокёшь? — спросила бабушка. — Спать им пора.
— Успеют отоспаться, — ответил Федя. — Дело им одно покажу.
— На ночь глядя кто дела затевает? — спросила бабушка.
— Я затеваю, бабушка, — сказал Федя. — Днём нам такими делами некогда заниматься.
— Сказал бы хоть, что за дела.
— Покатаемся на салазках от нашего погреба. Я гору сделал.
Сестрёнки заметались по избе в поисках обужи и одежды. И как бывает всегда, в спешке не находилось то одно, то другое. Через некоторое время Федя вывел их на гору, усадил на салазки и столкнул вниз. С радостным визгом они скатились с горы.
— Федь, а кто салазки повезёт? — спросила Нюра.
— Вы катались, вы и везите, — ответил Федя.
— Да, Машка не хочет везти, — пожаловалась Нюра. — Она волков и колдунов боится.
Федя сбежал вниз, взялся за верёвку и повёз в гору салазки, поучая сестёр:
— Дурочки, разве они есть, колдуны. Смотрите: месяц светит. Страшно бывает в самую тёмную ночь, когда ничего не видно. Я сейчас один катался — никого не видал.
— Да, а бабушка говорила: колдуны вечером начинают ходить, — сказала Маша.
Федя знал, что так пугают маленьких, чтобы они сами к ужину домой приходили, но сказал совсем другое:
— Я же тебе сказал, что они ходят, когда темно бывает, сейчас всё видно кругом.
Уговорил Федя сестрёнок не бояться, наползался с ними по горе до устали. Дома они, перебивая друг друга, рассказывали бабушке, как хорошо ночью на горе, что завтра они опять пойдут кататься.
Но на второй день подул ветер, понесло позёмку, а к вечеру зашумела метель и раскатанную горку занесло снегом. Федя попробовал прокатиться, но салазки уткнулись в сугроб, не понеслись вниз, как вчера.
Шла зима. Бабушка боялась, что корове не хватит до весны сена. Федя говорил, сколько осталось. Стожок на улице был выбран почти до последней охапки, только снежная крыша и стенки обманывали тех, кто не подходил близко, будто стог почти не тронут. Федя выбирал сено с погреба, в плохую погоду сбрасывал с настила в хлеву. Хотя был ещё корм на чердаке, но после бабушкиных переживаний Федя увидел, что не так уж и много его в запасе. Тогда он стал перемешивать сено с соломой, а однажды позвал Нюру и пошёл с ней к лесу, где раньше стоял стог, давно перевезённый к скотному двору.
Бабушка посылала Федю к председателю, но Федя стеснялся просить помощи, решил добывать корм, где можно добыть своими силами. Федя железным крюком принялся выдёргивать сено из-под снега, надёргал охапку, вторую. Нюра радовалась, говорила, что эту вязанку отвезут и ещё приедут, пока никто другой не обнаружил.
Но второй раз ехать не пришлось. Федя связал большую вязанку, и они с большим трудом дотащились до дома. Нюра сразу забилась в избу, разделась, залезла на печку. А Феде пришлось исполнять все домашние дела.
О том, что Федя сам доил корову, прознали в деревне. Ребята дразнили его, прозвали «дояркой», но взрослые ставили в пример другим.
Прошли годы. Вырос Федя, выросли его сёстры и брат, разъехались из родного дома. Только Федя остался в родительском доме. Учиться ему в своё время не пришлось — учил и кормил меньших, хозяйствовал и работал в колхозе. Звали его Фёдором, а потом и с отчеством стали звать, Фёдором Михайловичем, что означает почёт и уважение. Но это он заслужил тем, что все время честно работал.
Фёдор Михайлович с грустью и улыбкой вспоминал то время, когда его прозвали «дояркой». Он никому не давал спуска, когда его дразнили этим, казавшимся тогда почему-то оскорбительным словом. Он беспощадно лупил своих сверстников, кто обзывал его: силы у него и ловкости было много, их он развил работой. Теперь стыдно было за прошлое: как брал обидчика одной рукой поперёк, нёс его в сторону и купал в сугробе, пока тот не просил прощения, а летом мог швырнуть в пруд или положить в крапиву. Тогда он не понимал ничего, кроме обиды, а теперь знал, что сильный должен не обращать внимания на пустые слова, как слон из басни Крылова не обращал внимания на звонкий лай Моськи.
Но теперь мало кого из обидчиков мог встретить на улице Фёдор Михайлович: все разъехались, разбежались кто куда и только приезжают на лето, рыбачат, собирают грибы, ягоды, делают запасы и увозят в город. Встречаться ему с ними некогда, у него своя трудная работа — доение коров на колхозной ферме.
Федор Михайлович был не только дояром. Работал он на многих работах: трактором управлял — на специальных курсах не учился, некогда было, а перенял всю науку от старых трактористов, с которыми работал прицепщиком; комбайн надо было запустить на поле — запускал; работал в кузнице, плотничал, стены умел класть из кирпичами камня — словом, был, как в поговорке, «и в поле жнец, и на дуде игрец». Настоящий хозяин.
У людей Фёдор Михайлович был в почёте. В любом деле он мог каждому помочь, а молодого да неопытного в работе мог наставить на путь истинный. Люди не забывали о его безотказности и всегда на годовом колхозном собрании выбирали его то в члены правления, то в ревизионную комиссию. Был он и комсомольским секретарём, потом секретарём партийным. Стали его выбирать и народным депутатом, не раз уговаривали руководить каким-нибудь отсталым колхозом, но из своей деревни Фёдор Михайлович ни за какое золото уезжать не соглашался, а когда ему говорили занять должность председателя в колхозе — у него находились отговорки. Руководить хозяйством, доказывал он, нужно быть с талантом для этого, быть грамотным. И ещё он доказывал, что работящий человек при любом деле нужен.
В колхозе собирались разводить коровье стадо. Начинали ставить большую молочную ферму. Новые коровники оборудовали различными механизмами и устройствами, чтобы меньше людей занималось в животноводстве и не было бы тяжёлого ручного труда. В правлении говорили: «Городские железа разного навезли столько, что разобраться в нём ни у кого деревенских ума не хватит». Но нашёлся ум у одного человека — им оказался Фёдор Михайлович. Он второй год учился в сельскохозяйственном институте, умел разбираться в чертежах и знал все новые марки механизмов для животноводческих ферм.
Когда всё механизировалось, Фёдор Михайлович обучил доярок работать на доильной установке. Через несколько дней он должен был переходить на другую работу, но вдруг заметил, что одна доярка не чисто работает: не обмывает у коров вымя, кое-как ополаскивает баки, присоски и другие доильные принадлежности и не стирает полотенца, халат.
Фёдор Михайлович не смог не сказать ей об этом, и, как водится у дурных людей, она вместо благодарности в ответ обрушила такую ругань, что, будь на месте доярки мужчина, он взял бы его за шиворот и ткнул бы разок-другой в грязь, дал бы возможность отведать, съедобно ли это. Сдерживая гнев, он терпеливо выслушал все слова неряшливой доярки, в которых были упрёки, что поставил бы он на её место свою жену да учил бы её, как доить надо, что чужих учить нечего, что командовать всякий любит, а своих рук не замарает. Было сказано и ещё многое, что больно задело его за душу. Работала бы его жена дояркой, если бы не была больна.
Вечером Фёдор Михайлович разговаривав с зоотехником и председателем: сказал, что он оставляет все другие дела и идёт доить коров. Мужчины посмеялись над его решением, уговаривали забыть про обиду сварливой бабёнки, соглашались, что такой поступок будет хорошим уроком пустобрёхам и примером молодёжи, но пока острой нужды в доярах нет, можно повременить с переходом.
— Тогда перееду в другой колхоз, — заявил Фёдор Михайлович, — дояром.
Председатель знал: этот человек — хозяин своего слова, как скажет, так и поставит на своём, — и поспешил дать согласие на перевод мастера Князева на новую работу. Не терять же нужного колхозу человека.
Утром Фёдор Михайлович со спокойной душой явился на дойку в белом халате, пришёл раньше других, но не затем, чтобы раньше справиться с делом, а приучить к себе бурёнок, показаться сперва им, как бы представиться. С собой он принёс столько ломтей хлеба, сколько было в его стойле коров, и оделил всех. Каждую ласково потрепал по шее, погладил за ушами, сказал приветливое слово. Когда пришли все доярки, загудела доильная установка, Фёдор Михайлович принялся за работу.
Но в первые недели ему пришлось много потрудиться. Половина доставшихся на его долю коров были испорчены неряшливой дояркой, и из-за неё он немало познал хлопот. Некоторые коровы не отдавали машине молоко, как иные не отдают другим дояркам, — видно, их перепугали с первого дня доения, — у других были маститы (затвердения вымени) и раненые соски. Он не погнался за надоями, принялся лечить коров: делал массажи, смазывал раны заживляющими мазями, прикармливал дополнительно больных. И только на второй неделе работы он надоил молока вровень с передовыми доярками, а вскоре и обогнал их, стал справляться раньше всех с дойкой и время от времени прибавлял в своё стойло по одной-две коровы, стал работать за двоих.
Казалось, что Фёдор Михайлович забыл обо всём, занимался только на ферме: наводил порядок, следил за животными, добился, что молоко, словно по волшебному слову, само потекло по трубам в цистерны. Он обогнал доярок в своём колхозе, надаивал молока больше всех, потом прославился на всю область, о нём стали писать очерки в газетах, печатать его портреты.
Так Фёдор Михайлович стал знаменитым человеком, заслужил самую высокую и почётную награду — медаль Героя и легковую машину в придачу, заработанную своими руками.
Летом Фёдор Михайлович любил катать в машине мальчишек, возил их на летний загон и разрешал помогать ему в работе, учил их. Он-то знал, что любая наука всегда может пригодиться в жизни. Кто ничему не научится с детства, тот на всю жизнь остаётся несчастным человеком или бездельником.
Фёдор Михайлович обходился с ребятами словно со своими ровесниками, любил их и баловал, но подавал им добрые примеры. На работе он молча справлялся с делами, как будто никого и ничего не замечал вокруг, и только после работы шутил, веселил других и мог даже поддать ногой мяч, если ему подкатывали его к носку ботинка. Ребята — народ, конечно, хитрый. Многое они знали о Фёдоре Михайловиче, но при любом удобном случае спрашивали: а как он стал дояром; а правда ли, что он купается в молоке; а если ему подарят ещё одну машину, то куда он денет старую; а почему тётка Шура, его жена, не захотела доить коров; а Ванька, его сын, будет ли дояром; а откуда взялись коровы; а почему от чёрных коров молоко не чёрное, а тоже белое; а можно ли утонуть в сметане?..
Многие вопросы смешили Фёдора Михайловича, многие заставляли его задумываться, иногда и грустить. Грусть вызывали воспоминания о далёком сиротском детстве, что не пришлось ему своевременно учиться. Но он старался скрывать от ребят эту боль, всегда избавлялся от неё шутками.
— Спрашиваете, можно ли утонуть в сметане? — заговаривал он. — Кто не любит сметану, тот закупается в ней. Настоящая сметана густая, вязкая, попадёшь в чан — не выберешься. Выход один: съесть её и остаться на мели.
— А от сметаны ничего не будет, если много её съешь? — следовал вопрос.
— Не пробовал объедаться, — отвечал Фёдор Михайлович. — Пусть из вас кто-нибудь попробует, тогда и ответ всем будет.
Ребята начинали выбирать, кому пробовать проводить опыт со сметаной, затевали спор, смеялись, представляли, каким толстяком будет их друг, объевшийся сметаной.
— Счастливый дядя Федя, правда? — спрашивал кто-нибудь. — И орден ему дали, и Золотую Звезду, и машина у него.
— Пошевелись, как он, и ты героем станешь, — следовало возражение.
— И буду шевелиться! Думаешь, забоюсь? — загорался спорщик. — Вот школу закончу и покажу вам всем…
Фёдор Михайлович прислушивался к спорам мальчишек, радовался, что его тяжкое детство не повторится у этих ребят, и немножко завидовал, что так много у них впереди добрых дел. Ему хотелось стать таким же, вернуть детство, только не то прежнее, сиротское, а счастливое, как у этих заядлых спорщиков. Он знал, что этого никогда, ни при каком желании не случится, сожалея вздыхал.
Заячья смелость
Илюшка вошёл в сад и вспомнил, что опоздал смотреть кино по телевизору. Знал, что будет тринадцатое мгновение весны. Потому-то и в деревне тихо: все сидят у телевизоров. Потому-то Катька рыжая и осталась у Князевых. Васька теперь тоже егозит на стуле, переживает за своих разведчиков. Завтра будет перебивать всех, рассказывать, что было.
«Сделали бы сто серий, — подумал Илюшка, — а то только „Восемнадцать мгновений“. Или семнадцать? А еще лучше тысячу мгновений. Вот бы здорово было! Всю жизнь смотрели бы и смотрели…»
Илюшка вдруг остановился и замер. Кто-то, как ему показалось, протопал справа и затаился за яблоней. Ему сразу вспомнились все шпионские уловки и хитрости, их коварство и расчётливость с бесчеловечной хладнокровностью и жестокостями. Стали плестись картины, как его хватают сзади, зажимая рот и втыкая в спину кинжал, как набрасывают на шею петлю — быть сразу убитым ему не понравилось, — связывают, сажают в машину, вернее, запихивают, увозят на аэродром и самолётом: отправляют за границу…
Стараясь шагать бесшумно, Илюшка двинулся дальше, решив: «Листва шевелится. — Но вспомнил что деревья уже голые, подумал о другом: — Ветки качаются или мыши под яблоньками. Ага, мыши падаль грызут».
Он старался не думать о шпионах, но дальше углублялся в сад, и назойливее лезли в голову мысли, стало казаться, что за каждой яблоней стоит по шпиону, и даже смелость отважного разведчика Штирлица не помогала ему оставаться смелым.
Всё же Илья дошёл до канавы, оставалось найти ракиту, под которой он спал, как вдруг из темноты перед ним возникло огромное чудовище. Илья встал словно вкопанный. Мелькнула мысль: бежать. Оглянулся — и в это мгновение чудище разразилось душераздирающим криком. Затрещало, захлопало по кустам и деревьям. Илье показалось, что оно рассыпалось по саду, окружает его и накрывает сверху…
Так быстро Илюшка никогда не бегал. Он остановился у столба, на котором горела лампочка, и почувствовал, как у него стали отниматься ноги. Появись сейчас здесь это чудище, он не сможет и на шаг отступить от него.
Вдруг он уловил слухом знакомые звуки. Там, откуда принёсся с быстротой олимпийского чемпиона, каркали вороны и трещали сороки. Илюшка разом вспомнил на канаве густой куст боярышника. В нём ночевали сороки с воронами. От обиды за свою трусость его прошибла горькая слеза.
Но назад он всё равно не вернулся, устало поплёлся домой.
«Пускай двойки ставят сколько хотят. Пускай из школы выгоняют. Возьму и сам брошу учиться, — с обидой думал он. — К Фёдор Михалычу помощником пойду. Он возьмёт. А подрасту — сам буду доить коров или ещё что научусь делать. Пускай…»
Дома все досматривали кино. На Илюшку никто не обратил внимания. Он покосился на экран, где суетились эсэсовцы, поднималась стрельба, звучала музыка, прошёл в свою комнату, разделся и лёг спать.
Телевизор гремел на весь дом. Илюшка в обиде глотал слёзы и под этот шум уснул. Сквозь сон слышал голос матери, звавшей его ужинать, а потом до утра, словно кино, смотрел страшные сны, забывшиеся сразу, лишь открылись глаза.
Из дому Илья ушёл раньше времени, тайком от отца и сестры, чтобы они не спросили, почему он без портфеля. Отойдя от дома, оглядевшись, он нырнул в сад.
На яблонях бусинками светлели капли от утренней измороси. Трава была мокрая и холодная. Илья без труда нашёл портфель и подошёл к боярышнику. Куст был белый от сорочьего помёта. Илья не удержался от смеха, вспомнив, как он испугался и быстрее зайца нёсся по саду.
«И на яблоньку не налетел, — подумал он. — Весь лоб расквасил бы».
В саду было тихо и безлюдно. Одни яблони стояли вокруг, и по ним сновали озабоченные синички, добывали корм, радостно посвистывали. Илюшка весело шагал к школе. Никто его не видел вечером в саду и не видит сейчас, не будут смеяться.
Борисок — бухгалтершин сын
Его звали Борисом. Но в деревне все стали называть Бориском.
Он приехал с матерью-бухгалтершей из какого-то города к колхозному механику, Евгению Матвеевичу, бросившему свою первую семью с двумя ещё маленькими сыновьями.
Они поселились на втором этаже старинного кирпичного дома, называвшегося конторкой, потому что в нём когда-то была контора машинно-тракторной станции, потом колхозное правление.
Илюшка сперва дружил с Бориском, ходил к нему в дом, где они жили по-городскому, без скотины и птицы, квартиру устелили и увешали дорогими коврами и держали учёную собаку — бульдога Жданку.
Борисок и прозвал сразу Илюшку Лапшой, всем надавал прозвищ. Дома у себя он любил командовать, заставлял ребят носить из сарая дрова, мыть собачьи миски и пылесосить ковры, а сам надевал боксёрские перчатки, садился в кресло, словно на отдых после боя на ринге, и следил за работой друга. Иногда он показывал боксёрские приёмы: больно смазывал по скуле или давал под дых.
Илюшка в начале их дружбы не обращал внимания на выходки Бориска, но потом понял, что тот не друг, а наглец, раздружился с ним…
Борисок шёл к школе следом за Илюшкой, окликнул его:
— Лапша, стой! Откуда ты?
Илья не отозвался, подошёл к дверям школы, у порога встретился с рыжей Катькой.
— Илюшка, здорово, — пропела она. — Чего-то ты, как летом, нараспашку?
— А лето и есть. Не видала, мухи летают? — ответил Илья. — На нос тебе насели.
Катька замахнулась на Илью, но не ударила, спросила:
— Скажи, Илюш, что у тебя случилось? Ты из-за двоек вчера расстроился?
— Нашла ещё из-за чего! Подумаешь, две двойки, — ответил Илья.
— А не мне это надо знать, — сказала Катька. — Сам знаешь, кому интересно. Анечке твоей. Ладно, потом поговорим. Старый твой дружок идёт.
— Замшевый, — добавил Илья и подтолкнул Катьку в дверь.
— Лапша, задержись, — повторил Борисок.
— Некогда, Замшевый, — ответил Илья.
— Ну и пижон ты…
— Жуй свои подошвы, — проговорил Илья, захлопнув перед носом Бориска дверь.
Он готов был дать ему оплеуху, но побаивался его боксёрских приёмов, а подговаривать ребят отлупить зазнайку не хотел. Будут неприятности директору, как уже было раз. А было так.
Борисок однажды принёс в школу жевательной резинки, оделил ребят — и на уроке литературы началось жевание. Это было в пятом классе, весной. Галина Васильевна объясняла урок и вдруг увидела, что все перед ней жуют. Она говорит, а они жуют, жуют, молча глядя на неё бессмысленными глазами. Ничего в рот не кладут, а жуют, словно коровы жвачку.
— Ребята, вы чем заняты? — спросила Галина Васильевна.
— Жуём.
— Жвачку.
— Заграничная, — посыпались ответы.
— Хотите, Галина Васильевна, я и вас угощу? — спросил Борисок.
— Сейчас же идите и выплюньте эту гадость, — сказала Галина Васильевна. — На моём уроке чтобы этого не было. Вам в ум ничего не идёт.
— Ещё как идёт, — заверил Борисок.
Девчонки стали выходить из-за парт, выплёвывали в мусорную корзину резинку.
— Борис, тебя не касается? — напомнила Галина Васильевна. — Ребята, я жду.
Борисок в ответ выдул изо рта отвратительный розовый пузырь, похожий на безобразно распухший язык. В классе поднялся смех. Ребята, кто ещё не расстался с резинкой, занялись тоже выдуванием пузырей, не обращая внимания на слова учительницы.
Урок был сорван. На шум в класс пришёл директор и начал разбираться с ребятами. Галина Васильевна, обиженная, ушла из класса.
Николай Сергеевич молча смотрел на ребят. Все, кроме Бориска, прятали резинку: выплёвывали под рубахи, совали в карманы, в пеналы и учебники, прилепляли к партам. Борисок смотрел директору в глаза и жевал.
Николай Сергеевич молча стал ходить по классу, о чём-то думал, вдруг остановился и сказал рыжей Катьке сходить в учительскую за Галиной Васильевной.
Ребята встали и извинились перед Галиной Васильевной. Не встал и не извинился лишь Борисок.
— Садитесь, ребята, — сказал Николай Сергеевич. — Надо помнить, где чем можно заниматься. А ты, Борис, встань. Нам надо с тобой побеседовать отдельно.
Николай Сергеевич увёл Бориска в свой кабинет на беседу.
А через два дня в школу приехал из роно инспектор разбирать дело по жалобе матери Бориска, Веры Семёновны, о плохом обращении с её сыном в школе. Мальчик сделал добро для друзей, а его за это выгнали с урока и несправедливо обвинили в нарушении дисциплины.
Борисок в тот день ходил героем.
Илье не терпелось рассказать ребятам, что Аньки Князевой отец организует кружок дояров, но боялся, что об этом узнает Борисок, не даст насмешками проходу, отобьёт у ребят охоту заниматься в кружке и Фёдор Михайлович перестанет впредь доверять тайны. Но на первом же уроке Илья получил по немецкому двойку и обо всём забыл. Двойку по немецкому! На прошлом уроке он не слушал объяснение — из головы не выходило намерение отца продать корову. Дома не открывал учебник.
Бывало так: когда Илья Лапшин назубок знал уроки, его по неделе и дольше не вызывали к доске. Теперь же все учителя словно сговорились: первым отвечать Лапшину. В журнал вкатились, словно на новеньких великах, ещё две двойки, а когда на четвёртом уроке он с места отказался от ответа, его «потащили» к директору.
У Николая Сергеевича была особая привычка разговаривать с учениками. Он сажал провинившегося на своё директорское место, за стол, ходил по кабинету и вёл разговор. Илья тоже занял директорское кресло. Он отказывался садиться, но Николай Сергеевич вежливо за плечо подвёл его и заставил сесть.
— Ты, Лапшин, главное, не стесняйся, — сказал он. — Я с отвращением вспоминаю, когда мне приходилось стоя, как кол в классном журнале, торчать провинившимся перед старшим. Тем более сидя, как ты знаешь, я никогда не разговариваю с людьми, с достойными, разумеется.
— Я не стесняюсь, Николай Сергеевич, — ответил Илюшка, выползая из глубины кресла на самый краешек.
Николай Сергеевич остановился перед окном и засмотрелся на улицу. Илюшке захотелось тоже посмотреть, что там интересного. Но сейчас не встанешь, хотя и сидишь, как большой, за директорским столом, не подойдёшь к окну полюбоваться улицей.
— Герой наш, товарищ Князев, пожаловал, — сказал Николай Сергеевич. — Неугомонный человек, не правда ли?
— Правда, — ответил Илья, стыдясь разговаривать о Князеве после злополучных двоек.
— А вот ты как, не завидуешь ему? — спросил Николай Сергеевич.
— Завидую, — буркнул Илья.
— Ему многие завидуют. А чем человек взял свою славу? Трудом, Илюша. Честным трудом! Да-да! — ответил он на стук в дверь. — Войдите.
— У вас не заседание? — спросил Фёдор Михайлович, остановясь в двери.
— Нет, нет. Проходи, дорогой.
— Здравствуйте. — Фёдор Михайлович шагнул к столу, протянул руку Илье, подошёл к директору. — Что не заходишь? Чайку со сливками погоняли бы.
— Будет время, — ответил Николай Сергеевич, — на чаёк загляну. Как с молоком, с делами?
— А знаешь, начало хорошее. Удои выравниваются. Тревога была напрасная. Известно ведь, что с переходом на стойловый период, на зимний корм, у животных перестраивается организм, соответственно и с молоком колебания, Ну, а теперь о нашем деле.
— Надеюсь, не секретном? — спросил Николай Сергеевич.
Илья, подав руку Фёдору Михайловичу, остался стоять, насторожился на разговор о «несекретном».
— Илюша знает, о чём пойдёт речь. Мы с ним вчера об этом беседовали, — ответил Фёдор Михайлович.
— За чайком со сливками? — поддел теперь Князева и Николай Сергеевич.
— Был и чаёк, и сливки, и творожок со сметанкой.
— Да, теперь ясно, — глядя на Илюшку, проговорил директор. — Какие-нибудь новые идеи пришли в голову?
— А пришли, — ответил Фёдор Михайлович. — Мы решили… Ты, дорогой друг, только не пугайся. Это дело тебе, твоей успеваемости не повредит. Мы решили организовать кружок дояров…
— Что, что? — закричал испуганно Николай Сергеевич, обхватил голову, закрыв ладонями уши, и заходил по кабинету. — Ты решил окончательно погубить меня.
— Да послушай, отчаянная голова! — взмолился Фёдор Михайлович. — Не кипятись. Я объясню тебе, в чём дело, почему у Илюши срыв получился. Мне стало известно…
— А что мне от твоих знаний? Мне пятёрки нужны в журнал, а не объяснения за каждую двойку. Вы попили чайку со сливками, о кружках переговорили, а моему ученику двойки в журнал посыпались. Докатиться до такого… — Николай Сергеевич гневно взглянул на Илью. — Сидеть! — приказал он. — Сидеть и слушать!
— Не клокочи, Сергеич, — вмешался Фёдор Михайлович. — У него дело действительно серьёзное. Не вечный же он двоечник. Я от своей Аньки знаю. Они вроде за одной партой сидят.
— Ну, что там у него ещё за серьёзные дела? У бездельника серьёзные дела, — смягчился Николай Сергеевич.
— Видишь ли, дорогой, его батька решил продать корову. А Илюшке жалко, не хочет он оставаться бескоровным. Выхаживал её с телёнка — порода хорошая: от моей коровы потомство. Мальчуган переживал — отсюда и двойки.
— Они что, бедствуют, что корову продают, или более важная причина? — спросил Николай Сергеевич.
— Причина сверхважная. Видите ли, Вера Семёновна их настраивает на магазин, рекомендует переходить на городской образ жизни, — пояснил Фёдор Михайлович.
— И тут Вера Семёновна. — Николай Сергеевич зло махнул рукой, обратился к Фёдору Михайловичу: — Откуда вы такого работника выкопали? Ты знаешь, что она у меня организует кружок собаководства?
— Что ты говоришь? — удивился Фёдор Михайлович. — То-то моя Анька спрашивает у меня книжечек про собак, но не сказала зачем.
— Будем разводить собак. Вы не подсчитывали, сколько их у нас сейчас по селу?
— Много. А считать и в голову не приходило, — ответил Фёдор Михайлович. — Тявкают, брешут — и ладно.
— А я прикинул, — сказал Николай Сергеевич. — На каждого хозяина приходится по полторы собаки. Это же достижение в хозяйстве. А научимся разводить — удвоим или утроим поголовье, как крупного рогатого скота.
— Собака тоже дело хорошее, друг человека, предана ему, дом сторожит, сад. Но и корова не враг человеку. Так вот, дорогой Николай Сергеевич, пусть Вера Семёновна занимается собачьими науками, а я буду учить ребят своему делу. Надеюсь, они охотно пойдут в мой кружок. Правда, Илюша?
— Правда! — радостно отчеканил Илья, встав, словно за партой. — Я первый запишусь, и Васька Трутнёв пойдёт…
— А с учёным псом по улице прогуляться вечерком нет желания? — спросил Николай Сергеевич. — Вера Семёновна будет учить разводить породистых собак, не простых дворняг.
— Когда тут гулять? Просто так побегать некогда, — зачастил Илья.
— Вам забота — побегать, а на меня Вера Семёновна грозилась сочинить жалобу, что я против служебного собаководства. Понимаете, слу-жеб-ного! И сочинит, и пошлёт, если ещё не отправила… Да ладно с Семёновной и с её собаководством. Ты, Илюша, можешь идти на урок… Хотя… минуточку. Надо тебе охранную грамоту выдать.
Николай Сергеевич взял лист бумаги и написал:
«Прошу Лапшину Илье не выставлять в журнал отметок до будущей недели.
21/Х-80 г. Директор школы Н. С. Мерцалов».
— Пусть положат в журнал. До понедельника, надеюсь, ты подтянешься. И впредь не распускать нюни. Если что не так, заходи ко мне. Свободен.
Николай Сергеевич переставил к столу свободный стул, сел на него и показал депутату на кресло:
— Садись, Михалыч, поговорим. Есть серьёзное дельце.
— О дровах? — спросил Фёдор Михайлович.
Илье очень не хотелось уходить из директорского кабинета. Послушать бы их серьёзный разговор, а то живёшь и настоящего слова не слышишь, только и оговаривают: «Ты ещё мал взрослые разговоры слушать» или: «Любопытной Варваре в дверях нос оторвали». Но надо было возвращаться в класс, если приказано.
Великие страдания Лапшиных
Корову продать было решено окончательно. Отец-Лапшин сводил её на весы, взвесил. Вера Семёновна подсчитала барыши: сколько за неё дадут денег, если она пойдёт на сдачу через Заготскот, и сколько следует просить у частных покупателей. После работы она зашла по пути к Лапшиным, принесла вина.
Илюшка усиленно учил запущенные уроки и новые. Мать была на работе. Сестра где-то болталась. Отец уже пришёл с работы, сидел у телевизора.
— В этом доме гостей принято принимать или как? — спросила гостья, переступая порог.
Илюшка ни разу не слышал, чтобы Вера Семёновна постучалась в дверь. Такая у неё была привычка — заставать хозяев врасплох. Деревенские бабки и то долго нарочно громко топчутся на крыльце, шаркают ногами, а иная покашляет или поговорит сама с собой, потом дверью сенной хлопнет и поскребёт избяную дверь, будто не находит скобку. Он ходил со своей бабушкой в чужие дома — рванётся, бывало, с ходу к двери, а она его за полу: повремени, дай людям перед гостем оправиться, красоту навести.
— Верочка! — обрадовался отец. — Заходи, душа! Заходи, ласточка наша весенняя.
Илью от отцовского заискивания передёрнуло. Если бы отец знал всё про эту ласточку…
— А у нас что-то есть такое, чего не у всех найдёшь, — пропела гостья, поставила на стол сумку и плюхнулась на стул, глухо заскрипевший под ней. Она сразу закурила, сунула спичку в вазу со старыми цветами, которые давно пора было выбросить, но Илюшка назло не выбрасывал. Матери не до этого было, а Ленке с отцом в голову не приходило, глаза не замечали и носы не чувствовали, что из вазы несёт давно протухшей водой и окурками. Следом за брошенной спичкой Вера Семёновна стала стряхивать в вазу пепел.
— Так какие на горизонте, Лёшенька, новости? Здравствуй, Илюшенька, — бросила она Илье. — Говорят, взвешивал корову? Посчитаем, посчитаем…
Илья суматошно отправился убираться по хозяйству, сыпанул птице корму, задал корове с овцами сена и принёс в избу дров на утреннюю топку, наносил воды. Возвращаться в избу не хотелось. Вера Семёновна без конца курила, и вонь от её сигарет была для него невыносима. Но надо было ещё много учить уроков, ведь не на всю жизнь дал ему защитную грамоту директор школы. По геометрии двойку он исправил и получил четвёрку за новый урок. С геометрией у него ладилось. Хуже было с литературой и русским языком. Немецкий шёл легче.
Отец уже пировал с Верой Семёновной, по-прежнему ссыпавшей табачные искры в цветочную вазу.
— Илюшенька, голубчик, ты знаешь, что я открываю у вас кружок собаководства? Но ты не подумай, что это будет простой кружок. Он будет носить военный характер. Понимаешь, голубчик, служебное собаководство! А знаешь, сколько в прошлую войну собаки спасли раненых, подорвали гитлеровских танков и вообще какие это разумные существа?
— Умнее человека, — буркнул Илья.
— Да-да, голубчик, умнее. Вот наша Ждана — я вас с ней скоро познакомлю…
— Я сейчас уроки делаю, — буркнул Илья.
— Голубчик, и ты каждый день их делаешь? Мой Боренька дома никогда учебника не раскрывает. Он всё усваивает в школе.
— Он у вас способный, — сказал Илья, — гений.
— Очень, голубчик, способный. Ты напрасно не стал с ним дружить, не ходишь к нам. С ним тебе легче было бы учиться. Ты знаешь, о чём он сегодня разговаривал с вашим Мерцаловым?
— Не знаю. Я ушёл сразу из школы домой, — ответил вежливо Илюшка.
— Так он у Бореньки спрашивал, не отказалась ли я от кружка, и говорит, что если согласна вести, то только по субботам, сразу после уроков.
— По субботам не пойдёт, — заявил отец. — Он тебя надувает.
— Я, Алёшенька, без надувания толстая, — всерьёз ответила Вера Семёновна. — А примется надувать — сам лопнет.
— Надувает, — стоял на своём отец. — Суббота, банный день. Кто нам баню вовремя сготовит, если вы моего там будете оставлять дополнительно? И других тоже?
— Меня это, Алёшенька, не касается. Пусть только этот Мерцалов не создаст мне группу — я знаю, куда написать. Теперь на письма реагируют. Вот так, голубчик. И никто не имеет права запретить мне учить ребят ласково обращаться с животными, пусть это будет просто собака.
— Не имеют, — поддакивал отец. — Теперь с охраной природы строго стало. А собака — это тоже природа.
— Вот именно, природа. Золотые слова, Алёшенька, — радовалась поддержке Вера Семёновна.
Илья ушёл в сестрину комнату, сел за стол и попытался учить литературу, но в голову ничего не лезло. Через дверь из тонких досок доносился голос Веры Семёновны, её смех и кашель, до ненависти злившие Илью. Он закрыл учебник, хлопнул по нему рукой и лёг на диван, стал разглядывать потолок, оклеенный киношными журналами с артистами и артистками, а в глазах стояли слёзы.
Илье показалось, он задремал и проспал очень долго. За окном было темно. Из-за двери пробивался свет полосками между досок и овальными кружочками через дырочки от выдавленных сучков. В доме было тихо. Проснулся Илья от ужасного сна. Артист в шлеме с перьями превратился вдруг в быка, слез по стене на пол и боднул Илью, пропорол ему шею острым рогом и опрокинул ухом на что-то острое.
Сон Илья разгадал сразу. Артист оставался на месте. Просто от подлокотника заболела шея, а когда повернулся на бок, то придавил ухо и проснулся.
Спал он не долго, но гостья ушла. Отец дремал за столом, — как говорила мать, пахал носом клеёнку. Работал телевизор. На будильнике был восьмой час. Илья выключил телевизор, схватил вазу и, отворачиваясь, не дыша, вынес её на крыльцо. На улице чувствовался холод, морозило. Небо было многозвёздное. Илья поискал спутник, не нашёл. Любил он заглядывать туда, в высь, находить плывущую яркую точку и думать о космонавтах, желать им удачи.
На скотном дворе работала доильная машина, и её шмелиный гуд далеко разносился над землёй. Илья подумал, что звук этот должен быть слышен космонавтам и им от него радостно. Наверное, они и Фёдора Михайловича знают? Может быть, им и ордена вместе давали?
Илья услышал, что кто-то подходит к дому. Он спрятался, чтобы можно было видеть поднимавшегося на ступеньки, узнал сестру. И лишь она взялась за дверную скобу, рявкнул так, что Ленка влетела в дом, будто ею выстрелили из пушки. Когда он вошёл в дом, сестра набросилась на него и стала колотить по спине кулаками, вымещая за испуг.
— Кто шумит? — забормотал отец. — Прекратить сейчас же.
— Ой, папка, историю расскажу. Слушай. К Субочевой бабке «скорую» вызывали. А знаешь из-за чего? Из-за ихней Лариски. Внучка-то ихняя. Когда дед живой был, она и зимой и летом у них жила, а теперь её заставлять стали помогать слепой бабке с коровой, а Лариске это не понравилось. Она и говорит: «Чего эта бабка не продаст корову да не уедет куда-нибудь». Ну, знаешь, у нас люди какие — всё до словечка бабке передали. Она за сердце схватилась и чуть не померла. Жадная бабка, правда? Куда ей одной корова?
— А Лариска без молока будет? А отец её, мать — тоже без молока? — спросил Илья.
— Чего, им не купить в магазине или у соседей? — тоже спросила Ленка. — Легче купить, чем ломать горб всю жизнь на одну корову. Правда, пап?
— Чего ты там трещишь? Кого учить вздумала? — спросил отец.
— Своего балбеса, — ответила Ленка.
— А, его надо учить. — Отец встал из-за стола и направился к дивану. Скомандовал: — Сын, телевизор мне включи. Стой, стой, а куда ваза со стола делась? Ленка, ты убрала?
— Да ты что, пап? — удивилась Ленка. — Зачем она мне?
— Мать не вынесла цветы менять? — спросил отец. — А ну, включи там свет, выгляни. С водой оставит — размёрзнется, а она хрустальная.
— Да ну, пап. Цела будет ваза. — У Ленки была давняя привычка от всех дел отговариваться долго и упорно, пока от неё не отставали. Она терпела и не обижалась даже, если её ругали за отговорки. — Вон Илюшка пусть сходит. Мне поужинать ещё надо и в клуб спешить.
— Сын, выйди. Эту улитку не дослаться.
Илья вышел на крыльцо, взял вазу и вынес её на улицу. Выбрасывать из неё мусор за Верой Семёновной ему не хотелось и было противно. Вернувшись в дом, он сказал, что не нашёл вазу.
— Удивительное дело! Может, кто входил, захватил? Ваза денег стоит. Я её из Москвы привёз. Могла и Семёновна взять — от хрусталя тоже не откажется. Ты, Илюха, не видал, когда она уходила?
— Я спал, — ответил Илья.
— Так нет, погоди. Я же её провожал, — вспомнил отец. — Не видать у неё лишнего было. Спрятала разве? Будет нам от матери.
Ленка похватала из кастрюль, что подвернулось под руку, ушла в клуб. Отец стал ходить по дому в поисках вазы, сокрушаясь, куда она могла деться. Илья сел за уроки.
Мать сразу обнаружила пропажу вазы. Вернувшись с работы, она вошла в дом и, не раздеваясь, спросила:
— А ваза где? Вымыли?
— Да какой тебе вымыли, — запричитал отец. — Понимаешь, как дело вышло. Семёновна зашла. Посчитали мы с ней, сколько корова нам может дать выручки. Потом хватился, а вазы нет. И никого посторонних не было. Ребята не брали… Оказия и только. Настоящее ЧП.
Мать долго смотрела на стол, повернулась, взяла подойник и ушла доить корову. Отец поворчал со вздохами. А Илья улыбался, как говорится, в усы. Он решил до утра о вазе не говорить.
Илья ужинал всегда с матерью, после её прихода с работы. Он подавал на стол еду, тарелки с ложками. За ужином рассказывал о школьных и деревенских новостях. В этот раз отец тоже присел к столу и заговорил:
— Семёновна посчитала, что мы можем взять за нашу Лыску от государства рублей тысячу двести — триста. Продать кому-нибудь — возьмём все полторы тысячи.
Мать молчала, о чём-то думала. Илюшка понял и обрадовался, что матери этот разговор не интересен.
— Я решил сразу купить тебе шубу, — продолжал отец. — Поедем в Москву — купим.
— Из искусственного меха, — заметила мать.
— Да ты что! Из настоящего, — вскипел отец. — Чтобы ты да ходила в искусственной шубе…
— На хорошую шубу не одну корову надо. Теперь шуба дороже дома стала, а не то что коровой обойдёшься, — сказала мать.
— Не может этого быть! — возразил отец. — Когда это корова так дёшево стоила? На корову дом покупали, семья обувалась-одевалась вся с ног до головы. На неё можно было целый год прожить…
— А с коровой всю жизнь люди горя не знали… Знаешь, что я слыхала? С Нового года на закупку цены прибавят. Люди говорят, что мы спешим и прогадываем. Я думаю: не подождать ли нам?
— Ерунда, — возразил отец. — На копейку прибавят, а она к тому времени вес скинет и сена поест на двести рублей. Решили: продаём! Семёновна говорит…
— Перестань ты со своей Семёновной, — оборвала мать. — Ты лучше спросил бы у неё: она когда-нибудь хоть мизинцем притрагивалась к корове, хоть раз каплю молока выдоила, парным молоком дышала?
— Так ты на попятную? — спросил отец.
— И на попятную. Стоит повременить, — ответила мать. — Я ещё одну новость узнала. С Нового года будут давать участки под сено. Имеешь корову — получай участок на лугу и коси. Не надо будет сшибать по жомке, когда где урвёшь.
— Враки, — заверил отец. — Такого никогда не будет. Завтра иду в сельсовет и беру справки на сдачу.
— Дело твоё, — ответила мать. — Только потом не тужи.
— А чего нам тужить? Возьмём и другую купим, если надо будет, — сказал отец.
— Все, кто продали, других не купили и не собираются. В одних заботах можно век прожить, а наживать их заново вряд ли кому захочется…
Интерес к материнским словам у Ильи пропал, лишь она произнесла «дело твоё». И сразу после ужина Илюшка побежал к Фёдору Михайловичу, сказать ему о намерениях отца.
На дорожке под окнами захрустела под ногами листва, ложился мороз.
С неба глядели звёзды, — казалось, что и на них мороз. Илюшка не обратил на эту погоду внимания, побежал к Князевым и лишь у их дома вспомнил, что замёрзшая вода разрывает всякую посуду — разорвёт вазу. Он хотел вернуться, вылить из неё тухлятину, но махнул рукой: пусть что будет.
Князевы заканчивали ужин. Фёдор Михайлович пригласил Илью за стол, но он отказался.
— Дядя Федя, я к вам только на одно словцо. Мне некогда.
— Если срочные дела, не будем неволить. Говори, — сказал Фёдор Михайлович. — Я выяснил, что твоя мать неохотно расстаётся с коровой. Сбивает её отец, а его, в свою очередь, наша всеми уважаемая Вера Семёновна Борисюк.
— Отец завтра пойдёт в сельсовет, договариваться сдавать корову, дядя Федя, — сообщил Илья.
Фёдор Михайлович улыбнулся чему-то, вытер салфеткой руки, заговорил:
— В сельсовет ему идти уже бесполезно. Я вчера выяснил, что заготконтора пока не принимает скот от колхозников: запретила ветслужба. И никому частным порядком пока продать не удастся. Главное — оттянуть, умерить горячку, а там время само покажет, как поступить. Так что ты успокойся, Илья Алексеич. Завтра я буду у вас в школе, проведём наше первое занятие, — как говорится, сдвинем воз с места, а дальше он сам покатится.
Илья радостным бежал домой. Трава с листвой похрустывала под ногами сильнее. У дома он отыскал несколько стеблей обмёрзшей крапивы, взял вазу, вывалил из неё содержимое в канаву, сходил к колодцу, вымыл с крапивой и внёс чистую в дом.
— Берите вашу вазу, — сказал Илья, ставя её на стол.
— Смотри, отец, ваза, — сказала мать. — Где ты её, сынок, нашёл?
— На улице у крыльца стояла. Я сходил её вымыл. Только больше окурки в неё не бросать, — предупреждал Илья. — Меня от них чуть не вырвало, когда я её мыл.
— Да это вот батюшка гостью себе приобрёл, — показала мать на отца. — На неё смотреть противно, когда она сосёт эти сигареты. Теперь мужики не все к куреву тянутся, а она пристрастилась. После неё три дня дом не проветрить.
— Отчего она курит? Растолстеть боится, — стал оправдывать отец Веру Семёновну.
— Чтобы не толстеть, надо больше работать, земле кланяться, — возразила мать. — День на стуле просидеть, вечер — у телевизора без движения — тут хоть искурись, не спасёшься от ожирения.
— Вот и ты, мам, растолстеешь, когда корову продашь, — сказал Илья.
— Да, уж я об этом подумала, — ответила мать. — Скучно без коровы будет. Словно нищие сразу станем…
— И двор тогда не нужен будет, — добавил Илья.
— Прекратить разговоры! — потребовал отец. — Сиди и смотри кино, отдыхай. О делах моей голове думать.
Утро было морозное. Трава, кусты и деревья стояли в сказочном инее. Похоже было на зиму. Илья уходил в школу по морозному утру. На лужах хрустел и трещал лёд, но пруд ещё не замёрз, по нему плавали чьи-то гуси.
В школе Илья прочитал два объявления. В одном сообщалось, что в этот день сразу после уроков будут занятия кружка машинного доения коров, занятия будет проводить Герой Социалистического Труда дояр колхоза Князев Ф. М. Второе объявление призывало ребят записываться в кружок служебного собаководства, вести этот кружок будет главный бухгалтер колхоза Борисюк В. С. Занятия кружка будут проводиться по субботам.
У доски объявлений стояла с тетрадью Ленка и призывала каждого записываться в кружок собаководства. Когда Илья читал объявления, сестра терзала Катьку рыжую, звала учиться разводить собак.
— Зачем они нужны мне, твои собаки? — спрашивала Катька.
— Дурочка, пойдёшь куда вечером — тебя с собакой никто не тронет.
— А меня и так не трогают, — отговаривалась Катька. — А тронут — я и сама могу цапнуть кого угодно. Время тратить, да ещё по субботам. Я в этот день дома убираюсь и баню топлю. Тебе, Ленка, можно с собаками возиться, за тебя всё братец делает, а у меня его, к сожалению, нет.
— Эй, Трутень, а ты записываешься? — кинулась Ленка к Ваське Трутневу, вышедшему из класса.
— Трутень молочко любит, — ответил Васька, — а собачки не дают молочка.
— Обжора ты, Трутень. Не зря у тебя и фамилия такая: Трутнёв, — сказала вербовщица и пошла по классам.
— Лапшу запиши, — крикнул Васька вслед Ленке.
— Он записан, — ответила Ленка.
— Какое ты имела право меня… — Илья, возмущённый, направился за сестрой. — Я в другом кружке. В собачьем сама учись…
На улице повалил густой, шапками, снег. Илья, взглянув за окно, обрадовался настоящей зиме. Наконец-то теперь можно покувыркаться в сугробах, наделать снежных крепостей, баб, устроить снежную войну и накататься на лыжах, на салазках и коньках. Но засматриваться на постороннее было некогда. Фёдор Михайлович стоял у карты с указкой и рассказывал о коровах. Ему помогала рыжая Катька, прикалывала на карту рисунки коров.
— С севера, где созданы северные породы крупного рогатого скота, перенесёмся на юг, — говорил Фёдор Михайлович и поставил указку у самого Каспийского моря. — Тут Азербайджанская ССР. И породы скота разведены и разводятся уже другие. Сейчас вы увидите совсем иных животных — азербайджанский зебу.
Катька взяла со стола листок и приколола его у южной границы. Ребята засмеялись. На рисунках были корова и на втором — бык с горбами.
— Рогатые верблюды, — сказал Васька.
— Ну и чудо!
Илья сказал:
— Катька, чего ты в Иран коров своих запустила? Верни.
— Тихо, — помахал Фёдор Михайлович руками. — Я уже сказал: это азербайджанский зебу…
— А грузинский есть? — выкрикнул Васька.
— Разводят зебу и в Грузии. Но это не основная порода, — продолжал Фёдор Михайлович. — К основным относится кавказская бурая порода. Разводятся там и малокавказская, и триалетская. А что касается замечания Илюши Лапшина, то Катя не нарушила границы. В Иране тоже разводят зебу, но о породах других стран мы поговорим позже, узнаем о шароле, лимузине, редполе и многих других. На одно лишь перечисление пород потребуется много времени. Сейчас их в мире больше тысячи. Представляете?
Фёдор Михайлович закончил рассказ. Ребята не бросились, как с обычных уроков, к раздевалке, обступили карту.
— Фёдор Михайлович, а когда же будем учиться доить коров? — спросил Илья.
— Скоро, Илюша. — Фёдор Михайлович ласково положил руку Илье на голову. — Надо нам и науку пройти, узнать, что же это за животное: «четыре четырки, две растопырки, седьмой вертун»?
— Четыре четырки — ноги, — сказал Васька, — две растопырки — рога, вертун — хвост…
Уже по снегу Илья спешил домой. Ребята остались у школы, завязали войну в снежки, разогнали девчонок и влепили снежок ему в спину. Торопился он домой не обедать, а скорее узнать, что сказали отцу в сельсовете о сдаче на убой коровы, его любимой Берёзки.
Дома были мать с Ленкой.
— О, доярка наша пришла! — насмешливо воскликнула сестра. — И сколько надоил?..
— Замолчи! — приказала мать. — Над работой, какою бы она ни была, не смеются умные люди.
— А она не умная, — сказал Илья. — Думает, я слушаю её тяв-тяв.
— Чему учились, сынок? — спросила мать.
— По географии был урок, — ответил Илья. — Дядя Федя рассказывал, где какие породы коров разводятся. Ой сколько их, мам! В одной нашей стране: печорская… — Илья открыл тетрадь и стал читать: — Алатауская, бестужевская, бурая латвийская, бушуевская, казахская белоголовая, азербайджанский зебу, с горбами, как верблюд.
— Да что ты говоришь! — удивилась мать. — Интересно как. А тут думаешь, что коровы везде одни, как наши, чёрно-пёстрые.
— Ну, мам, есть ещё и белые в Сибири, белоголовые, красные. Это всё породы такие.
— Учись, дело не плохое. Слушайте дядю Федю, — одобрила мать.
— Мам, а ты спроси, на кого она записалась учиться, — сказал Илья. — Собак хочет разводить.
— Собак?! — удивилась мать. — Ленка, правда ли?
— Чем-то я должна тоже заниматься, — ответила Ленка. — Не всем же коров доить.
— Ты сдурела, девка! Собаки сами себя разводят. Если бы не топили да не зарывали кутят, у нас их давно бы больше скотины было. Кто это вас на такое дело настроил?
— Сами настроились, — соврала Ленка.
— Ай, сами, — возразил Илья. — Бухгалтерша настояла. Ей делать нечего — она и придумала. Хочет, чтобы мы все с собаками гуляли по селу. И чтобы в доме они жили, на одной постели с нами спали, как у неё.
— Не болтай, — прикрикнула Ленка. — Ничего она этого не хочет. Она любовь к животным прививает. А собака — друг человека.
— Она ненормальная, что ль? — удивилась мать. — Раньше помещики псарни держали — так они охотились, зверя добывали, забавы себе устраивали, — выговаривала мать. — А тут с делами не успеваешь — ещё собак нам в дом. Сидит она в будке на цепи — и пусть себе сидит.
— Ты, мам, ничего не понимаешь в жизни, — заключила Ленка. — Отсталый элемент. У нас же скоро не будет деревни, все в домах городских будем жить.
— Вот ты что поняла своим цыплячьим умишком. Деревни не будет. Живите по-городскому, а деревню не трогайте. Князевы, наверное, так не рассуждают. У них вон все учатся на сельских работников, по отцовым стопам идут, а ты к городу нос воротишь.
— Мам, я книжку тебе дам посмотреть, — сказал Илья, подавая книжку о коровах. — Дядя Федя мне дал. Посмотри, а я пообедаю. Вы не будете?
— Мы обедали. Тебя не дождались, — ответила мать, отложив вязанье. — Отец пришёл голодный да злой, где там ждать? Скорее бы накормить.
— А чего он злой? — спросил Илья.
— Корову, говорят, не принимают. Колхоз тоже отказался купить. В район поехал, объявление на продажу в газету повёз. Кто-нибудь купит.
Илья наспех пообедал, быстро оделся и побежал к Князевым с новым сообщением.
Фёдор Михайлович встретился на дороге, остановил машину, спросил:
— Что случилось, Илюша?
— Отец в газету корову повёз…
— Как — в газету корову? — в недоумении перебил Фёдор Михайлович.
— Не… корову, — возразил Илья. — Объявление повёз — корову продавать.
— Объявление — другое дело, — ответил Фёдор Михайлович, посмотрел на часы, подумал и сказал: — Садись, вернёмся к телефону. Трудная борьба нам предстоит. Но надо выигрывать бой. Выиграем?
— Не знаю. Ему бухгалтерша помогает, — ответил Илья.
— Надо верить в победу — всегда победишь. Как там говорил Александр Невский?
— На том стояла, стоит и стоять будет земля Русская, — ответил Илья.
— То-то же! — Фёдор Михайлович остановил машину у дома. — Зайдём на минуту.
Он взял телефон и позвонил в редакцию:
— Алло, товарищ главный? Иван Григорьевич? Князев беспокоит. Здравствуй, дорогой. С просьбишкой к тебе. Один наш товарищ, Лапшин Алексей Федотыч, повёз в вашу газету объявление на продажу коровы. Сделай милость, притормози… Как не имеешь права? Ты же главный! Дело в том, что сынишка его против продажи… Сколько ему лет? Какая разница — сколько. Он с телёнка выхаживал её и теперь кормит, чистит, пасёт… Нужда какая у них? А никакой. Сбивают мужика, а он — мечтатель о лёгкой жизни… Мать колеблется. Но сбить кого угодно можно. Мальчишка скоро сам доить станет свою Березку, учится у меня в кружке. Мы должны таких поощрять… Опять не можешь! Написать тебе о кружке? Напишу, если посодействуешь… Подумай, подумай. И до свидания. Извини за беспокойство, поговорил бы, но спешу на работу.
Фёдор Михайлович положил трубку, встал и направился к двери. В машине снова заговорил:
— Действительно, была бы нужда объективная продавать корову. При нужде мы не хлопотали бы, верно? А с пустой блажью надо бороться.
Фёдор Михайлович остановил машину у дома Лапшиных, простился с Ильёй и покатил к скотным дворам. Илья смотрел вслед машине, пока она не скрылась за поворотом.
Отец вечером вернулся из района радостный, рассказывал, как сдал в газету объявление — обещали напечатать, — и мечтал о скором появлении покупателей:
— Такую корову с руками оторвут. Хороший хозяин и за ценой не постоит…
Объявление в газете появилось через две недели. Отец был на седьмом небе, обрадовался, что его фамилия обойдёт весь район, что завтра же могут явиться покупатели и сторговать корову. Но на второй день он готов был рвать на себе волосы. Над его объявлением все смеялись. Посмеялась и мать вместе с Ильёй. В объявлении говорилось:
Продаётся молочная корова, стельная по 14 телёнку.
Обращаться по адресу: Каменский с/совет, с. Каменка.
Лапшин Алексей Федотович.
Кому нужна в хозяйстве корова с четырнадцатым телёнком? У такой зуба во рту не отыщешь с фонарём. Ей траву нечем сорвать — какое от неё молоко? Купишь скотинку — на погост оттащишь.
Отец Ильи снова подался в редакцию, где ему обещали исправить объявление. Прошло ещё две недели, и в газете появилась поправка к первому объявлению, с сообщением, что по вине сотрудника редакции в объявлении в газете была допущена опечатка. «Следует читать: продаётся молочная корова, не стельная по 4 телёнку».
Газеты принесли до прихода отца с работы. Илья прочитал объявление, попереживал, думая, что теперь пойдут покупатели — и он простится с коровкой, будет с бидончиком ходить к кому-нибудь за молоком или стоять в очереди в магазине, ждать, когда привезут из районной торговой сети бидоны с молоком. Ленка-то не пойдёт, всяко отвертится, давно научилась все дела спихивать на него: младший, мол.
Прежнюю газету с объявлением отец хранил, как драгоценность, показывал гостям и клеймил позором сотрудника редакции, допустившего опечатку.
— А ещё, наверное, пять или шесть годов в институте учился? — вопрошал отец и выдвигал воспитательные меры для невнимательного сотрудника. — Его за такую опечатку, — горячился он, — на ферму годика на три загнать — узнал бы, что за корова по четырнадцатому отёлу.
Илюшка перечитал старое объявление, перечитал поправку и никак не мог сообразить какого-то тайного смысла. Из обоих текстов получался ребус. Он наложил поправку на объявление и расшифровал, составил новый текст, с новой и смешной опечаткой. Получилось, что корова не стельная по четвёртому телёнку, не телилась четыре года подряд. Ну, такую корову только на мясо и сдавать, кто перекупит её, чтобы на этом деле выгадать?
Отец мечтал:
— На мою корову настоящего маклера — он хороший куш заработал бы и мне тысчонка с хвостиком отвалилась бы.
Илюшка узнал, кто были такие маклеры: люди, помогавшие выгодно продать или купить скотину, но выговаривали себе определенную часть денег, — и он радовался, что их, маклеров, не стало.
Отец пришёл с работы и первым делом спросил:
— Где газеты?
Илья подал отцу газеты. Он взял районную и стал читать поправку. На лице его просияло довольство.
— Ну вот! — произнёс он. — Они думали, что я отступлюсь от них. Я за это им деньги платил — так будьте добры, отработайте мне без опечаток. А то он мне представился: «Василий Иванович Скреблов». Скреблов — так скреби как положено! Тебя учили этому делу. Никто не заходил, не приходил? — спросил он.
— Никого не было, — ответил Илья, сдерживая улыбку и в то же время жалея отца за недогадливость.
— Ты теперь не убегай из дому. После уроков сразу домой. Покупатель может явиться… Корову продадим — я тебе куплю что-нибудь интересное. Чего бы ты хотел?
Илья пожал плечами, склонил набок голову: мол, не знает, что ему надо.
— Ленка сапоги запросила, — продолжал отец. — Она знает, что ей требуется. Только таких сапог у нас не бывает, надо в Москву ехать. Заграничные требует, как у Веры Семёновны. Да скатаем и в Москву. Разбогатеем, что нам? Верно?
— Не знаю, — ответил Илья и ушёл от отца, чтобы не рассмеяться при нём, а тогда уж и не скрыть будет о новой опечатке. Пусть кто-нибудь скажет ему об этом, а может быть, и никто не заметит.
Но заметила это мать. Она прочитала поправку и стала смеяться долгим безудержным смехом.
— Чего ты хохочешь? — спрашивал отец. — Смешинка в рот попала?
— Читай, читай своё объявление. — Мать отдала ему газету.
— Прочитал. Что дальше?
— Не понял? Тогда ещё раз прочитай.
— Два раза прочитал. По четвёртому отёлу. Всё как требовалось. Товарищ Скреблов проработал правильно.
— Да уж так проработал… Она теперь у тебя по четвёртому году без телёнка, — объяснила мать. — Алёша, ты всё-таки ленив.
Илья видел, как отец снова уткнулся в объявление и побелел, а потом почернел от возмущения. Он бросил взгляд на висевшую на стене двухстволку, проскрипел зубами, словно у него из-под выстрела ушёл ценный зверь, собрался и быстро ушёл куда-то с газетами.
— Не судьба, видать, оставаться нам без коровы, — сказала мать, глядя на Илью. — Я решила не лишаться пока скотины. Пусть отец побегает — он, верно, к советчице своей понёсся. У них там телефон, и ходы она разные знает.
— Жалобу ещё напишут, — сказал Илья. — Мам, не продавай корову. Я научусь, сам доить её буду. Дядя Федя с одиннадцати годов доил. Он нам рассказывал…
— Вам рассказывал, а я сама помню. Он и женатым сам с подойником на полдень ходил. Были бы все такими мужиками, жизнь на земле райская наступила бы. А ты учись, учись, ни на кого не смотри. Могут и посмеяться, а ты внимания не обращай. У девки нашей дурью голова забита. Спит и город видит. А в городе тоже работать надо. Я попала утром в толчею в Москве, когда все на заводы едут, так не знаю, как мне рёбра не поломали. А одноклассница-то твоя, Князева, тоже учится у отца?
— Анька тоже учится, — ответил Илья. — Она говорит: «А дома папка так интересно и не рассказывает, некогда ему».
Твёрдое решение матери не продавать корову обрадовало Илью, и на отца он перестал обращать внимание, но слышал, когда он вернулся, что Вера Семёновна взялась сама решить вопрос с объявлением.
В банный день
Наступил и ожидаемый банный день, суббота. За пятнадцать минут до звонка, взглянув в окно, Илья увидал идущую к школе со своей собакой Жданкой Веру Семёновну. Собака шла важно, под стать её хозяйке. Казалось, что она и глаза так же щурит, словно прицеливается, на кого бы ей наброситься. Илье мерещилось, что Жданка поднимает переднюю лапу с сигаретой, хочет дыхнуть дымом.
— Посмотри, к нам гости, — шепнул он соседке по парте.
Анька привстала и фыркнула. Все ближние к окнам уставились в сторону улицы, зашептались. Дальние от окон вставали, тянули шеи, спрашивали, что там такое. Илья пошутил:
— Две новые учительницы идут.
От парты к парте пошёл шепоток, словно эстафетная палочка в спортивной игре: «Две новые учительницы». Навстречу шёл другой шепоток: «По какому они, по какому?» Кто-то сострил: «По ав-ав». Видевшие Жданку с Верой Семёновной смеялись шутке, другие были в недоумении. Шёл урок математики. Учитель объяснял новое задание, поворачивался к доске, делал записи. Он вдруг стал лицом к классу, спросил:
— Ребята, что случилось? Почему такая суматоха?
— Двух новых учительниц нам прислали, Юрий Владимирович, — сказал Васька Трутнёв.
— Откуда и зачем? У нас полный штат, — удивился учитель.
— Ав-ав преподавать, — последовал ответ, снова вызвавший смех.
— Прошу оставить шутки. Я должен закончить объяснения…
И лишь прозвенел звонок, ребята дружно бросились к раздевалке, где их встретила Вера Семёновна словами:
— Мальчики, девочки, всем остаться на занятия кружка.
— А мы не записывались, — раздались дружные голоса.
— Мы у Фёдора Михайловича занимаемся.
— И у меня будете заниматься, — властно сказала Вера Семёновна. — Особенно мальчики. Вам это пригодится, когда пойдёте в армию.
— Нет, мы не можем, нынче бани топить.
— Успеете истопить бани и ещё печки, щи сварить, — ответила с явной насмешкой Вера Семёновна. — Баня вон колхозная есть, — добавила она.
— Колхозная — у кого своих нет, — сказал Васька Трутнёв.
— Ну, мои дорогие, не будем спорить. Вы все остаётесь на мой кружок. Вас всё равно отсюда не выпустят, если вы не останетесь по-хорошему, — предупредила Вера Семёновна. — Ждана, покажи работу.
Илья первым направился к выходу, за ним пошли Аня с Васькой. У дверей никто не стоял, лишь в сторонке лежала Жданка. Она вдруг вскочила и зарычала на приближавшихся школьников, заставила их остановиться.
— Смотрите, рычит, — сказал Илья, обернувшись к друзьям.
— Она её сторожить оставила, — сказал Васька.
— Разорвёт ещё, — предположила Анька.
С улицы отворилась дверь, вошла школьная уборщица Вера Тимошина.
— Вернись, разорвёт! — в один голос закричали ребята.
Вера затворила за собой дверь, взглянула на собаку и прошла мимо неё без опасений. Жданка и не взглянула на уборщицу.
— Не трогает, — сказал Илья. — Это она спросонок на нас накинулась.
Он шагнул снова к двери, но его встретил ещё более злобный рык.
Анька в испуге схватила Илью за рукав, потянула назад. Ребята отступили.
— Надо удирать, — шепнул Илья дружкам.
— Она собаку поведёт, а мы отстанем и убежим, — сказала подошедшая Катька рыжая.
— Думаешь, Вера Семёновна глупее нас? — спросил Васька. — Она под конвоем своей собаки нас погонит в класс.
— Васька, айда за мной, — пригласил Илья. — В нашей уборной окно открывается.
— А нас? И нам ведь бани топить, — попросила Анька.
— Айда и вы с нами, — ответил Васька.
Через несколько минут ребята были на улице, за ними, как горох из решета, посыпались другие. Они уже не видели директора, вышедшего встречать Веру Семёновну, не слышали их разговора и её угроз, что за срыв занятий он должен будет объясняться в другом месте. И не слышали главного — директорского ответа:
— Ну что ж, Вера Семёновна, я сам иду к вам, обсудим будущие занятия. Вдруг да что-нибудь придумаем…
С чего начинается Родина
Время — самое быстролётное из всех крылатых существ. Летит оно и нигде не присядет на отдых, не споёт соловьём, не прокричит сорокой. Но не безголосо оно. Прислушайся весной к шуму половодья. Это время шумит в быстром устремлении вдаль. Летом звон стоит над лугами. Не время ли распростёрло свои невидимые крылья, совершая полёт над земными просторами? Шорохи жёлтой листвы в садах, шум холодных дождевых капель, хруст первой изморози на травах — это всё шаги времени. Придёт холодная зима. Вой метели, треск деревьев, льда на прудах и озёрах, скрип снега под полозьями — это всё приметы времени, вечного его размеренного, безостановочного движения.
Вот и по Каменке загулял февраль метелями. И уже на несколько часов прибавился день. Солнце стало приглядываться чаще и внимательнее к жизни на земле, словно решало: а не пора ли погреть землю, деревья, людей и всё живое, вернуть зелень полям и лугам, украсить цветами сады и разбудить певчих птиц?
Было воскресенье. Илья взял лыжи и направился к Князевым за Анькой. Ещё в субботу в школе они договорились кататься на лыжах. Он справил свои школьные и домашние дела, отобедал и выбрался на отдых.
Илья направился через сад. По яблоням мелькали синицы. Их совсем мало стало появляться в садах у домов. Илья подсыпал корм в кормушки, но его почти не клевали. И даже воробьи в погожие дни лишь под вечер кормились даровым кормом, на день исчезали.
«Вот бы сейчас весна ударила, — желалось Илье. — Хорошо так было бы! Ждёшь — и не дождаться её, а придёт — и пройдёт скоро».
Катька рыжая была уже у Князевых, словно она у них жила приёмышем. Девчонки сразу вышли из дома, стали надевать лыжи. Следом за ними вышел Фёдор Михайлович, спросил:
— Ну что, мальчуганы, решили снег потрамбовать на горах? Надо, надо. Не всё мозги сушить книжками да копошиться в доме, надо и душу пускать на прогулки. Эх, я с удовольствием бы с вами отправился, да некогда.
— Поедем, пап! — обрадовалась Анька.
— Что ты, дочь. На носу сессия Совета. Надо нам с мужиками обговорить дела общие, важные дела. Открою один свой план: хочу на лето организовать вам туристическую поездочку за ваш труд на ферме, за успешные занятия в кружке. Только не по тем местам, где лишь глазеют на городские диковины, а побываем в профтехучилище, где учат на наши деревенские профессии: на дояров, механизаторов, цветоводов…
— Собаководов, — добавила Катя.
Фёдор Михайлович погрозил ей пальцем, сказал:
— Не остри, рыженькая. Есть учебные заведения, где и на звероводов учат, тоже нужная профессия.
— Дядя Федя, а цветоводы-то нам зачем? — спросила Катька.
— Ну вот, возьми её за рубль двадцать, — развёл руками Фёдор Михайлович. — Цветоводы зачем? А замуж пойдёшь — как без цветов свадьбу играть будем? Мы обязательно кого-нибудь направим обучиться цветы выращивать, с колхозной стипендией направим, чтобы у нас круглый год на важный случай живые цветы имелись. А вдруг в один прекрасный день на нашей земле космонавты приземлятся. С чем мы их встречать выйдем?
— С хлебом-солью, — ответила Аня.
По лицу Фёдора Михайловича пробежала улыбка. Он перевёл взгляд на Аню, сказал:
— Да, дочь, с хлебом-солью. Такая уж у нас традиция. И пока хлеб будет родить наша земля, мы эту традицию не забудем. И к хлебу с солью — цветы.
— Дядя Федя, а куда ещё вы нас повезёте? — спросил Илья.
— Пока не скажу, в какие места, но побывать стоит на больших животноводческих комплексах, на птицефабрику завернуть, в пчеловодческом хозяйстве побывать, на молочном заводе, посмотреть на наши молочные реки, ну… и в зоопарк заглянуть, посмотреть на живых предков наших домашних друзей. В музеи, в театры сбегаем.
— Ну-у, — протянула Катька. — Вот покатаемся-то!
— Вы это заслужили, ребятки. Только учиться по-настоящему, не сдавать позиций.
— Нет!
— Не сдадим! — в один голос ответили ребята и пошли к саду.
Фёдор Михайлович стоял на крыльце, провожал их взглядом, с горечью в душе вспоминал своё прошлое и думал, что интересная жизнь стала у ребят. Только бы они не заленились. Балуют их всё же. Лыжи у каждого фабричные — а он сам мастерил. Зимой дубок на морозе вдоль колол, запаривал в печке, загибал концы, а потом тесал, строгал — и было на чём с гор сползать. Самое трудное было прибить ремень самодельными проволочными гвоздями. Не каждый заводской гвоздь в дуб вбивается, а из проволоки — все пальцы отобьёшь молотком, пока как-нибудь ремень прикрепишь. Теперь всё готовое. Крепления шурупами привинтил и — пошёл.
Ребятишки молодцы. Надо только с ними заниматься и заниматься, самим взрослым хороший пример показывать, не жалеть времени учить и учить. В этом вся суть…
Ребята скрылись под гору, скатились на пруд. Фёдору Михайловичу вспомнилось, как он катал поздним вечером своих сестрёнок с этой же горки. Старшая, Нюра, запомнила это, а у Машки выветрилось из памяти, маленькая была. Фёдора Михайловича расстроили воспоминания далёкого детства, на глаза набежали слёзы. Словно в тумане, увидал он за прудом ребят, уже пересекавших выгон, вздохнул и направился в сельский Совет на разговор о неотложных делах.
Илья с Васькой шли рядом. Девчонки следовали за ними. Катька напевала приставшую к ней песню: «С чего начинается Родина?». Аня подпевала ей. Ребята разговаривали.
— А здорово будет, если мы отправимся путешествовать. Правда? — спросил Васька.
— Ещё как здорово! — ответил Илья. — В Москве побываем. Театры только в Москве. Катька, — Илья остановился и обернулся, — поступай на цветоводку. Будешь цветы разводить.
— Для вас, что ли? — спросила Катька. — Для себя и так развожу. У меня на Восьмое марта тюльпанчики будут цвести.
— Илюхе подаришь? — спросил Васька.
— Дудочки. Сама буду красоваться, — ответила Катька и запела снова: — «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…»
Васька допел:
— С доенья коров на заре…
— А что, Трутень, и с коров. Мы спим самым сладеньким сном, а дядя Фёдор с доярками уже молочка надоили, — приняла Катя присочинённые на новый лад слова к песне. — Ты, может быть, поэтом заделаешься? Только к чужим песням не прилаживайся, свои сочиняй.
— Ладно, рыжая, сочиню, — ответил Васька и замурлыкал что-то под нос.
Илья остановился. От сада была видна «главная» сторона деревни. Он прошёлся взглядом по каждому дому, по высоким деревьям, сказал:
— А красивая наша деревня. Интересно, вот в Холмах и речка течёт, а я там ни за что не согласился бы жить. Почему так?
— Где родился, там и сгодился, — ответила Катька.
— Нет, там воздух совсем другой, — сказала Аня. — У них от речки туман раньше ложится и сходит позднее, и от этого от цветов аромата меньше.
Васька ушёл вперёд. Он остановился на спуске от сада, дождался остальных и встретил их с улыбкой.
— Чего, Васька? — спросил Илюшка.
— Отойдём, скажу чего, — пригласил Васька Илью в сторону от девчонок. Отойдя, зашептал: — Знаешь, я стих сочинил про Катьку. Послушай:
В саду не кукуют кукушки, Цветочки зимой не цветут, И только у Катьки веснушки Ромашками густо цветут…— А дальше? — спросил Илья.
— Дальше не сочиняется, — ответил Васька.
— Коротко. Как частушка и не совсем складно, — оценил Илья. — Ты не говори ей, а то она обидится. Ты лучше про сад или про снег сочини.
— Ай, неохота. Давай кататься. Они без нас под гору не съедут. — Васька развернулся на лыжах, подошёл к девчонкам. — Ну, что дрожите? Давно бы накувыркались.
— А вы чего секретничали? Так не делают, — сказала Аня.
— Мы не про вас, — ответил Васька, оттолкнулся и понёсся вниз.
— Катись теперь ты, Илюшка, — сказала Катя.
— Я за вами покачусь, — ответил Илья. — Охранять вас с тылу буду. Марш, марш вперёд!
Катька пронеслась по крутизне, а на ровной заснеженной лужайке, где разом сбавилась скорость, носом пропахала снег. Анька свернула, чтобы не наехать на подружку, и тоже распласталась на снегу. Илья с весёлым победным криком пронёсся между ними и поспешно повернул назад, вместе с Васькой стал поднимать их на лыжи.
— Как же ты, Катюха-лаптюха, шлёпнулась? — спросил Васька.
— А я посмотрела на тебя и подумала, что хорошо было бы, если бы ты упал, — и сама кувыркнулась.
— Из-за тебя и Анька хлопнулась, — сказал Илья. — В другой раз другим не желай беды. Поняла?
— Поняла теперь. Посмотри, я нос не ободрала об снег?
— Раз, два, три… семь… тринадцать…
— Чего ты считаешь? — удивилась Катька.
— Веснушки. Одной или двух не хватает, стёрлись об снег.
Катька замахнулась на Илью палкой.
— Я сейчас тебе посчитаю!
— Не буду, не буду, — сдался Илья. — Пойдём в другое место. Вы первые покатитесь.
— И покатимся, — ответила Аня. — Думаете, всё падать будем? Правда, Катюшка, не будем?
Расходились по домам уже при месяце, вывалянные все в снегу, уставшие. Они прикатали весь овражный склон до деревни и перешли за деревню, добрались до дубняка, преградившего им гору. За лесом был более глубокий овраг, круче горы, но туда идти было поздно, решили отложить на другой раз. К деревне подходили с огородов.
— До завтра, — попрощался Васька, свернув к своему саду. — Я дома.
Илья с девчонками пошли дальше. Аня спросила:
— Илюш, о чём вы шептались?
— А, так, — отстранился Илья от ответа.
— Нет, не так. Вы долго шептались.
— Правда, Илюш, скажи, — пристала Катька.
— Вот привязались… Только не говорите, что я вам сболтнул… Васька стих сочинил.
— Ну! Расскажи.
— Ай, не интересно. Про Катьку.
— Рассказывай! — потребовала Катька.
— Я плохо запомнил. И ты обидишься.
— Вот уж никогда, Илюшечка, я не обижаюсь, — ответила Катька. — Обижусь, если плохо сочинил.
— Тогда слушай. В лесу… Нет. «В саду не кукуют кукушки, цветочки зимой не цветут, и только у Катьки веснушки ромашками густо цветут». И всё.
— Ну, какие же это стихи. То не цветут, то цветут, — оценила Катька.
— А сперва хорошо, Кать, — одобрила Аня. — «В саду не кукуют кукушки». Как Пушкин. «И только у Катьки веснушки ромашками густо цветут». Ещё бы чего-нибудь.
— Илюш, сочини ты лучше что-нибудь, — попросила Катька. — Только складно, как песни. «С чего начинается Родина?». Ладно?
— Я не поэт. Не умею, — ответил Илья.
— А ты попробуй. Васька-то умеет. Хоть про мои веснушки, что я рыжая. Как хочешь обзывай — не обижусь. Попробуешь? — требовала ответа Катька.
— Не знаю.
— Ну, не про меня — про Аньку сочини что-нибудь.
— Сочиню, — ответил Илья. — До завтра.
Они стояли у калитки, растворённой с осени и забитой до верхней перекладинки снегом. Деревня была в вечернем затишье. Только тявкали кое-где собаки. А на ферме гудела доильная установка.
— Пойдём к нам, — пригласила Аня. — Отец приедет — ужинать будем.
— Дома поужинаю, — ответил Илья. — Мне ещё повторить надо литературу и физику. А вчера, знаешь, собачьего кружка-то не было. Вера Семёновна к нам зашла — злющая. Ругала всех бросивших её кружок служебного собаководства.
— И правильно сделали, что бросили. А то по земле все ходят, а какая трава растёт под ногами, многие не знают. Ты какую траву знаешь? — спросила Аня.
— Пырей, одуванчики, пастушью сумку, лопухи, крапиву, полынь, лебеду… А какую же ещё-то? А, клевер… Больше не вспомнить.
— Ну вот. А траву-мураву знаешь как называют? Спорыш. А гусиную траву? Лапчатка. Только трава — это всё вместе, а отдельно — растения. Так растений разных на земле, как звёзд на небе, многое множество — и все не сосчитаны. Отец скоро будет рассказывать о растениях. Я ему книжки подбираю. А хочешь, я тебе расскажу, как два чудака луг делили?
— Ты не простудишься? — спросил Илья. — У меня спина застывает.
— И у меня. Но я скоро. Знаешь, достался двум чудакам на двоих один луг. Пришли они делить его. Глядят, а трава разная на лугу. На одной половине высокая, густая, как лес, а дальше меленькая. Стали они спорить, кому какую часть взять. Спорили они, спорили — и подрались. Сильный поборол слабого и забрал себе что получше, скосил быстро, высушил и к дому перевёз, довольный ходит. А напарник его махал косой, махал, насилу управился со своим сенокосом.
Дождались они — зима пришла лютая-прелютая. Стали скотину свою кормить. Силач даёт бурёнкам с овечками корм, а они не едят. Другой сколько ни положит, всё уминают и добавку ещё просят. Этот чудак рад-радёшенек, а тот сам не свой. Но голод не тетка. Не дождались его животинки другого корма, с голодухи наелись даденного, порадовали хозяина… Только утром, когда он вышел на двор, увидал всё своё стадо мёртвым…
— От чего это? — спросил Илья.
— А он накосил-то на лугу знаешь чего? Че-ме-ри-цы, — растянула Аня название растения.
— От чемёрки подохли? — удивился Илья.
— Представь себе, от неё. Она такая ядовитая, что даже и хорошее сено, если чемерица попадёт в неё, тоже ядовитым делается, — объяснила Аня.
— Ну и ну! — ещё больше удивился Илья. — А я и не знал.
— Вот знай теперь.
Доильная машина выключилась, и сразу стало тихо-тихо. Даже не лаяли собаки. И вдруг послышался Катин голос. Она пела:
С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре…Илья с Аней рассмеялись.
— Катька помешалась, наверное. Вчера, представь себе, ужинаем. Она задумалась с ложкой во рту, загляделась на ягодное варенье с молоком и запела: «С чего начинается…» Все засмеялись. Только отец не улыбнулся даже, а сразу стал рассказывать про войну. Знаешь, он всю войну помнит. Говорит, что, когда за Холмами, за речкой немцы стояли, тут нигде не пахалось и по всем полям земляника с клубникой выросли. Они вёдрами носили её и ели каждый день с молоком… Ладно, пойдём. Я продрогла. Полезу на печку отогреваться. До завтра, если к нам не идёшь…
Самые удивительные события
В марте повеяло весной. Илья в тёплые солнечные дни выводил свою Берёзку на улицу, давал ей сена и чистил гребёнкой и щёткой, проводил её для разминки ног и опять ставил в хлев. Однажды к нему подошла Вера Семёновна, заговорила:
— Вот так Илюшенька, вот так молодец! Шёрстку к шёрстке причесал. Покупатели рты раскроют… — Вера Семёновна тронула Берёзку за кострец. — Упитанность… — Она отпрянула от коровы, словно обожглась. Берёзка махнула хвостом и ударила маклерше по лицу. — Фу, Илюшенька, какая она глупая. Такую я и дня держать не стала бы. — Вера Семёновна платком обтирала жирные щёки. — Илюшенька, мальчик, ты за моей Жданочкой так же поухаживай, а я тебе Боренькин костюмчик джинсовый подарю.
— А пускай Борисок и чистит вашу собаку, — сказал Илья.
— Что ты, детка. Ему совершенно некогда. Он заканчивает курс английского языка. У вас в школе немецкий, а он в английской школе был. Я хочу его сделать настоящим полиглотом…
— Живоглотом? — спросил Илья, невнимательно слушавший собеседницу, мешавшую его занятиям.
— Да нет, детка. Ты даже не знаешь, что это такое. Полиглотом называют того, кто знает много иностранных языков, — объяснила Вера Семёновна.
— А зачем ему много-то? — спросил Илья.
— Ну, мальчик, если такие вопросы задавать…
— А я всё равно не буду, — заявил Илья.
— Илюшенька, я же не даром тебя приглашаю, а честно заработать.
— Мы на ферме заработали, на практике. Фёдор Михалыч сказал, нам скоро заплатят…
— Детка, да разве Фёдор Михалыч распоряжается бухгалтерскими делами? Чтобы вам заплатить, нужна подпись главного бухгалтера, моя подпись. Понимаешь? А я, дорогой голубчик, ещё посмотрю, есть ли статья расходов для оплаты ваших забав. Такой статьи, насколько я помню, нет…
Васька, когда Илья передал ему слова Веры Семёновны, опешил и потом возмутился неожиданной наглостью и самоуправством бухгалтерши.
— А что, Илюш, она может и не дать нам деньги. Мой отец с ней знаешь как спорил. Законную премию не хотела отдавать… Да, сюрпризик, — пробормотал в раздумье Васька и вдруг схватил Илью за руку у локтя. — А знаешь что? Я пойду чистить её Жданку. Я что-то придумал.
— Скажи: что?
— Секрет. Потом сам догадаешься, — ответил Васька. — Сразу из школы и пойду.
— Без неё нельзя. Только когда она с работы придёт.
— Так, значит, надо пропускать работу в коровнике. Не годится. Завтра пойду. Это дело мы обделаем. — Васька присвистнул с еле скрытым злорадством. — Собачка будет — не узнать!
— Смотри, чтобы не тяпнула, — предупредил Илья, подозревая за другом недоброе замышление.
— Можешь не беспокоиться, — гордо ответил Васька.
К вечерней дойке ребята появились на скотном дворе, разошлись по своим местам. Сперва они все готовы были помогать в работе только Фёдору Михайловичу, но он распорядился иначе, объяснил, что на него могут обидеться матери, которые работали в коровнике, и потому надо практиковаться у разных доярок, помогать всем. Илья в этот вечер работал с матерью, но руки ему повиновались скверно: не выходила из головы угроза бухгалтерши, что она не заплатит денег ребятам и ему, денег, которые они заработали, как говорил Фёдор Михайлович, своими руками. Он всё думал: сказать об этом Фёдору Михайловичу или не говорить. Решил молчать. Ещё сочтут его жадным на деньги. А он никогда и не думал о них и не подумал бы, если бы о них не сказала сама Вера Семёновна.
— Сынок, ты что-то ленив у меня. Не захворал? — спросила мать у Ильи.
— Нет, я здоров, — ответил Илья.
— Здоров, так шевелись, а то последними пойдём из коровника. Не сказал: в школе-то всё ладно?
— А, в школе порядок, — ответил Илья.
— А всё же с чего-то ты задумчивый. Набедокурили где? — допытывалась мать.
— Да нет, мам, ничего не было. Работаю я, как всегда работал.
Васька ходил в школе весь день важный, что-то замышлял. Если кто к нему приставал, он отмахивался рукой и ни на какие вопросы не отвечал. Илье это не понравилось. Он в перемену спросил у него:
— Васька, чего-то ты нос задираешь. Может скажешь, чего задумал?
— Потом, Лапша, узнаешь, — ответил Васька и, глядя в потолок, пошёл от него по коридору.
«Что же он затеял? — гадал Илья и обижался. — Не скажет. Друг тоже называется».
Под вечер Васька направился к Вере Семёновне обхаживать Жданку. В кармане он нёс скребок-гребёнку и одёжную старую щётку. Ещё у него в кармане был кусок свежего мяса, завёрнутый в тетрадную бумагу. В мясе и заключался секрет, хранимый Васькой даже от лучших друзей.
Веру Семёновну Васька встретил далеко от её дома, очень вежливо поздоровался. Она заговорила первая, спросила:
— Васенька, дружочек, ты к моему котёнку, Бореньке приходил?
— Нет. Я к вам иду, — ответил Васька. — Вы, Вера Семёновна, говорили почистить Жданку. Я пришёл…
— Спасибо, радость моя. А Бореньки нет дома?
— Я не заходил, вас ждал, — ответил Васька.
Жданка встретила их грубым, громкоголосым лаем.
— Фу, Жданка! Свои. Сейчас твои бочка почешут, почистят шёрстку. Будешь у меня праздничной.
Из Борисковой комнаты слышалась иностранная речь. Вера Семёновна сняла шубу и показала Ваське на вешалку у двери.
— Раздевайся, детка. Курточку на ту вешалочку повесь и помой с мыльцем ручки. Я сейчас приготовлю Жданочку.
Васька шустро осмотрелся, куда бы бросить мясо.
За дверью лежал, словно старая шляпа, спущенный мячик.
Вера Семёновна направилась искать что-то по комнатам. Васька выхватил из кармана свёрток, сунул мясо под мячик и юркнул на кухню, принялся мыть руки с душистым мылом. И Веру Семёновну он встретил вооружённый скребком-гребёнкой и одёжной щёткой. Собака была на поводке, в строгом ошейнике и в наморднике.
— Деточка, а что это у тебя в правой руке? — щуря глаза, спросила хозяйка. — Никак ты думаешь ржавой железкой чистить моё нежное сокровище. И щётка какая ужасная. Твои принадлежности здесь не годятся. Жданка не корова и не лошадь. Это такое же нежное существо, как и мы с тобой.
— Нет, я не такой. Я не нежный, — не согласился Васька. Ему вдруг захотелось дать задний ход.
— Ну, это тебе только кажется, что не такой. А ты такой. Сейчас, детка, я найду её щёточку — и приступим.
«Ещё, может, зубной щёткой такую собачищу чистить?» — подумал Васька и, не успела Вера Семёновна скрыться с собакой на кухне, сдёрнул куртку, шапку в охапку и мигом оказался на улице.
Илюшка подумал, что его друг натворил в квартире Веры Семёновны невесть что или же его по-собачьи приветила Жданка. Тот бежал по снежной целине, проваливался, падал и снова бежал, оглядываясь, словно за ним была погоня.
— Всё, Лапша, избавились мы от её собаки! Ну, что будет теперь. Семёновна знаешь что напевала? Говорит: «Собака не корова, собака нежная, как мы с тобой…»
— Я-то при чём тут? — спросил Илья.
— Да не ты, а она нежная и я. Доходит? А чистить её знаешь чем надо было? Щёточкой, зубной… Но будет ей за наши денежки зубная щёточка… Скажи: иголка проглоченная через сколько дней до сердца дойдёт?
— Ты иголку ей дал? — спросил Илья с испугом.
— Дал, Лапша. Ух как это ловко было обделано!
Васька остановил Илью в широком проулке, огляделся и рассказал подробно, как он проделал диверсию с мясом, начинённым смертоносной иголкой.
— Ну и дурак же ты, Васька! Ты знаешь, что ты наделал? Собака-то учёная, редкой породы. Не дворняга какая-то. За неё судить нас будут.
— А кто узнает? Кто узнает-то? — залепетал Васька.
— Ветеринар узнает, вот кто. Разрежет и найдёт твою иголку. Надо было сказать, прежде чем делать это, — выговаривал Илья.
Васька опустил крылья, задёргал носом, спросил:
— А что за это будет?
— Не знаю что, а будет нам, Васенька, ой как будет! Можно было что-нибудь другое придумать.
— А что другое? — спросил Васька с надеждой исправить сделанное.
— Теперь об этом поздно голову ломать. Пойдём лучше к дяде Фёдору и всё ему расскажем. Он что-нибудь посоветует, — предложил Илья.
— Нет, я не пойду, — отказался Васька.
— Боишься? Эх ты. То был смелый, ни с кем разговаривать не хотел, а теперь нос повесил.
Илья всё же уговорил Ваську пойти к Князевым.
Фёдор Михайлович с серьёзным видом выслушал ребят и сказал:
— Глупость вы совершили непростительную. Мне стыдно за ваши дела. Если вам чем-то насолила Вера Семёновна, то в чём же вина собаки? Вы об этом подумали? А теперь скажите: у кого в нашей округе есть такой умный пёс? Ни у кого нет. Надо отдать должное, что это редкая порода, а всё редкое следует охранять. И ещё скажите, откуда у вас такая жестокость — убивать животное медленной, мучительной смертью. Вы, когда готовили ваш смертоносный снаряд, не укололись?
Илья вопросительно посмотрел на Ваську. Он качнул втянутой в плечи головой, проговорил:
— Это я один делал. Не укололся. Я осторожно…
— Боялся всё же уколоться, а собаке даёшь глотать на верную смерть. Она при тебе сожрала это мясо?
— Нет. Я положил ей под мячик за дверью, — ответил Васька, глядя в пол.
— Тогда лишь одна надежда, что собака не бросится на мясо из чужих рук без разрешения хозяйки. А та проверит, что за мясо подложено для её пса. Но надежды надеждами, а я считаю, что вам сейчас же надо пойти туда и предупредить Веру Семёновну, забрать мясо, если оно ещё на месте.
— Ладно, — решительно дёрнул Илья Ваську за рукав, — пошли. Натворили — надо отвечать.
От Князевых они вышли уже в потёмках. Илья решительно направился к дому Веры Семёновны, обернулся, а Васька стоит на месте.
— А ты что отстаёшь? — спросил Илья.
— Иди, я не пойду, — заявил Васька.
— Ну, знаешь что? Тогда ты трус после этого. Дядя Федя сказал нам идти, а ты… не думай, что я без тебя, один не схожу, — разошёлся Илья. — Не побоюсь…
— И на меня скажешь? — спросил Васька.
— Нужен ты мне — говорить на тебя. На обоих скажу… А вообще-то, на одного себя. Я не такой трус…
Илья не стал больше уговаривать друга, решительно пошёл дальше. Через несколько домов он оглянулся. Васька плёлся следом в отдалении от него. Илья хотел остановиться, позвать его, но передумал. Трусов надо учить. До дома Веры Семёновны Васька так и не попытался догнать Илью, шёл, прячась от него. А когда Илья возвращался обратно, Васька уходил от него впереди, думал, что его не заметили и не видят теперь…
Ночью Васька спал беспокойно, вскакивал на постели и глазел в темноту, словно лунатик. Ему казалось, что приходила Вера Семёновна. Вместо собачьего поводка в руке у неё была толстая плеть. А то мерещилась Жданка, вставала на задние лапы, подходила к нему и хрипела прокуренным голосом хозяйки: «Детка, за что же ты меня так жестоко казнил? В чём я перед тобой провинилась?»
А Илья спал спокойно. Когда он поднялся на площадку к квартире Веры Семёновны, то увидел у дверей кошку, дожиравшую мясо. Завидев чужого человека, кошка с оставшимся куском скрылась на чердак. На полу Илья заметил блеснувшую иголку, наклонился и поднял её, поискал ещё и, не найдя больше ничего, вышел из подъезда.
Всё произошло, как и предполагал Фёдор Михайлович. После побега Васьки из квартиры Веры Семёновны Жданка, освобождённая от намордника, к удивлению хозяйки бросилась в угол, схватила мяч, перенесла его на новое место и рыкнула. На её рычание появилась кошка и бросилась к мясу. Схватив лакомый кусок, кошка прошмыгнула за дверь следом за Верой Семёновной, искавшей Ваську, и избавила собаку от неминуемой гибели, а Ваську с Ильёй от позора…
На второй день Васька не пришёл в школу. Утром он не мог встать с постели. У него заложило горло, поднялась высокая температура. Илья с нетерпением ждал Ваську, весь первый урок сидел словно на иголках, настораживался на шаги в коридоре, смотрел в окно на прохожих и шептал о Ваське Аньке, мешал ей слушать объяснение урока. В перемену он сбегал к Трутнёвым домой и узнал о случившемся. Васька при виде друга испугался, но Илья успокоил его, рассказал ему о мясе и кошке.
Не пришёл в школу и Борисок. Все сочли, что он тоже заболел, но он вдруг появился перед школой со Жданкой на поводке, без портфеля. Никто не мог понять, что за демонстрация: не больной и не в школе, прогуливается по улице на виду у всех. На уроках ребята перешёптывались о Бориске, строили разные фантазии и на каждой перемене только и заводили о нём разговор, высказывали каждый своё, спорили. И только Ленка знала, что больше Борисок в их школу ходить не будет, что он с матерью уезжает из их колхоза в город, куда Вера Семёновна мечтала попасть давно и теперь её мечта осуществилась…
Вечером Илья впервые подоил свою корову. Мать утром, собираясь на дойку, охала от боли в руках. Илюшка знал, что мать много лет доила коров вручную, когда не было доильной установки, надорвала руки. Он решил помочь матери, освободить её от домашней дойки. И до её прихода домой успел разлить молоко по кубанам, сполоснул подойник и поставил его на место, потом сходил к стогу за сенной трухой парить матери руки.
Мать вернулась с работы уставшая. Было видно, что она страдает от боли, что ей через силу надо идти доить свою корову, она готова была бросить всё, все дела, отдыхать. Ни отца, ни Ленки дома не было. Мать поворчала на дочь, что болтается где-то, бездельничает, вместо того чтобы заменить мать по дому. Илья улыбался «в усы», наблюдал за матерью. Со вздохом она взяла подойник и вышла в сенцы, заговорила с отцом, явившимся откуда-то с припозданием. А через несколько минут мать вернулась в дом и в испуге сказала:
— Отец, с коровой беда случилась!
— Что ещё? — Отец шагнул к буфету, схватил нож-резак, скомандовал: — Идём! Что там?
— Да ножик-то брось. Молока кружки не надоила. Утром нормальный был удой… А сейчас с пустым выменем встретила.
— Я думал, что другое, — облегчённо вздохнул отец.
Илья не выдержал, рассмеялся.
— Ах ты пострел, — обернулась к нему мать. — Это ты подоил? А я потянула. Вымя пустое — и корова от меня в сторону. И невдомёк, что ты мог подоить. Подумалось бог знает что… И смирно она стояла, когда доил?
— Как вкопанная! — гордо ответил Илья, скрыв, что нелегко далось ему молоко. — Ты теперь не дои, мам. У тебя от колхозных руки болят. Я тебе трухи от сена принёс. Сейчас вода согреется, руки парь себе.
— А ты и плиту топишь! — радовалась мать. — Помощничек ты мой дорогой… А та стрекоза — погоди она у меня!
— Молодчина, сын! — похвалил и отец. — Теперь мы не пропадём ни при какой ситуации. Подарок тебе сообразим какой-никакой к лету.
— Не надо, — отказался Илья. — Подарок я сам себе соображу. Летом нас Фёдор Михайлович куда-нибудь повезёт, показывать нам другие края будет. И в город, в Москву, наверное, поедем…
Ведомость на ребят за работу на ферме Вера Семёновна не подписала. Она неожиданно уволилась из колхоза, распродала в срочном порядке все домашние вещи и уехала, но толком никто не знал, куда она подалась. Одни говорили — в другое место, в богатый совхоз, другие — в город, работать по своей специальности (у неё не было бухгалтерского образования, когда-то она закончила торговую школу на продавца промтоваров и курсы повышения по торговой части), третьи гадали: Вера Семёновна укатила к прежнему мужу, увезла Бориска к отцу.
Уезжала Вера Семёновна днём. Ребята выходили из школы и увидали остановившийся напротив школьного подъезда автобус. В дверях показалась Вера Семёновна и пропела:
— Мальчики, девочки, подойдите попрощаться с Боренькой. Всё же вместе учились, были друзьями. Леночка, детка моя, мы пришлём тебе адрес, будем писать — отвечай нам. Подойди, я тебя поцелую.
Илья схватил сестру за полу куртки, удержал на месте. Ленка оглянулась, но вырываться не стала. От школы подбежала Анька со снежком в руке, хотела залепить Ваське за то, что он спрятал в чужую парту её портфель, но снежок не бросила, спросила у Ильи:
— Чтой-то тут происходит?
— Прощание. Бориска от нас увозят, — ответил Илья.
— Боренька, — закричала Вера Семёновна, — подойди, скажи своим друзьям на прощание словечко.
В дверях автобуса появился Борисок, ступил на подножку, оглядел всех высокомерно и, подняв руку, произнёс:
— Прощайте, аборигены[3].
Борисок не договорил. Анька Князева залепила ему рот снежком. Он рванулся с подножки, но Вера Семёновна удержала его. Шофёр закрыл дверь и включил скорость.
— Молодец, Князева! — закричали ребята.
— Ловко ты ему. Прямо в рот.
— Пускай не лопочет, если люди не понимают, что он говорит.
— Обзывался, наверное?
— В другой раз не обзовётся.
Автобус, переваливаясь на колеях, удалялся от школы. Отъезжавшим никто не помахал на прощание рукой.
— А Жданка-то, как человек, в окно смотрела, — сказал Васька. — Ей, наверное, жалко уезжать было.
— В тебя влюбилась, — сказал Илья, взглядом напомнив другу о забытой истории…
Своими руками
Через несколько дней Илья принёс домой полученные в колхозе деньги и все отдал матери.
— Спасибо, сыночек! Спасибо, кормилец наш дорогой! — обрадовалась мать. — Своими руками заработал. — От радости у неё на ресницах появились слёзы. Она спросила: — А может быть, сын, ты себе на эти деньги подарок купишь?
— Нет, мам, не надо, — отказался Илья. — У меня всё есть. И я ещё заработаю. — Он с улыбкой взглянул на свои ладони, добавил: — Своими руками заработаю.
— Ну, спасибо тебе, сынок! И Фёдору Михалычу спасибо!
Примечания
1
Ворок — летний загон для скота, ограда из жердей.
(обратно)2
Провизор — поставщик, тот, кто запасает съестные припасы.
(обратно)3
Аборигены — коренные жители какой-либо местности.
(обратно)
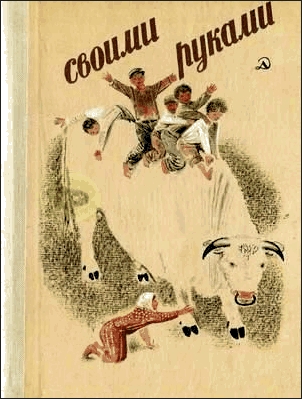





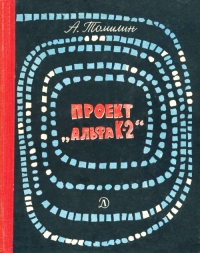

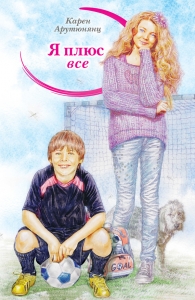




Комментарии к книге «Своими руками», Алексей Данилович Леонов
Всего 0 комментариев