Светлана Кудряшова Друзья с тобой: Повести
Писательница С. Кудряшова относится к тому отряду литераторов, которые навечно скрепили свою творческую судьбу с юными героями. Юные герои привлекают писательницу своей непосредственностью, фантазией, играми, похожими на жизнь. Глубоко анализируя внутренним мир своих героев, писательница показывает их не только в «детском мире», но и в трудном, настоящем «мире взрослых».
В этом суровом, взрослом мире происходит самая жестокая война — Великая Отечественная. Война никого не щадит, не минует она жестокостью и детей. Писательница не боится этого сложного мира. Она внимательно и тревожно прослеживает опаленную войной судьбу своих юных героев.
В этой книге собраны две повести писательницы — «Друзья с тобой» и «Дай руку твою».
Даже в самих заглавиях звучит тема дружбы, товарищества — замечательный принцип: «Человек человеку друг, товарищ и брат». И действительно, перечитывая повести С. Кудряшовой, видишь, как настойчиво и целеустремленно писательница отыскивает в этом взрослом, трудном мире людей, на которых можно опереться, которые спешат на помощь в беде. Эти люди не только облегчают жизнь юным героям и делятся с ними своим теплом, они помогают детям преодолевать трудности и при этом не озлобиться, не уйти в себя, а вступить в будущее со светлым взглядом, с любовью к людям.
Нет ничего дороже на свете, чем настоящее товарищество. Этой истине учат юного читателя две повести, составляющие книгу.
Когда‑то Гайдар говорил, что книги должны не перевоспитывать детей, а наполнять их души хорошим. Эта книга наполнит души читателей великой человеческой ценностью — дружбой.
Юрий ЯКОВЛЕВ
© Издательство «Советская Россия», 1975 г., иллюстрации.
ДРУЗЬЯ С ТОБОЙ
РОДНОЙ СЕВЕРНЫЙ КРАЙ
Бабушка Марфа Тимофеевна очень рассердилась на Федю и старого Тойво: пошли в лес едва загорелась утренняя заря, обещали к обеду вернуться и пропали. Бабушка так тревожилась за них, что все валилось у нее из рук. То и дело поглядывала она в окно, выбегала за ворота. Не идут ее охотники, хоть плачь!
Явились друзья поздним вечером и, не раздеваясь, кинулись к бабушке, протянули ей убитую рыжую лисицу, взмолились:
— Смени гнев на милость!
Виноваты не они, виновата хитрая лиса. Гонялись они за ней по лесу, пока не завела она охотников в Чертово болото.
Бабушка ахнула: неужто в самом болоте были?! Да как же выбрались? Оттуда обратной дороги нет.
Дороги нет, а тропка нашлась. О ней слышал Тойво еще в юности от своего деда–следопыта. И вот пригодилась. Полдня искал он эту стежку, сколько пришлось по болоту поползать!
— Оно и видно, что ползал, батюшка. Полюбуйся‑ка на себя: на кого похож‑то?
Серые бабушкины глаза потемнели и сердито сверкали.
Тойво закряхтел, низко опустил седую, точно поросшую светлым лесным мхом голову.
Кое‑как умилостивили бабушку, и только тогда вздохнули спокойно, когда по–обычному ласково засияли ее серые глаза, прозрачные и светлые, как вода в Онежском озере.
Не успели охотники раздеться да умыться из умывальника свежей осенней водой, как на столе запел свою мирную песню старый самовар. Вышел из‑за печи кот Степан, уселся на пол у Фединых ног и замурлыкал.
— Ох и устали мы, бабушка! — сказал Федя, наливая в блюдечко крепкий горячий чай.
— Пей, батюшка, —сказала бабушка ласково, — пей, а тогда ужо про странствия расскажешь.
И вышла в сени покормить лайку Кирюшку. Тойво предостерегающе взглянул на Федора: гляди, парень, не сболтни лишнего. Тот понимающе улыбнулся: обойдется, дед, не трусь.
Бабушка вернулась вместе с Кирюшкой и позволила ей лечь у порога погреться. Небось намерзлась на болоте‑то! Потом повернулась к Феде: мол, рассказывай.
…Началось все с того, что увидели они пустой капкан, длинный заячий обглоданный хребет и аккуратные лисьи следы на земле, устланной промерзшими темными листьями. Тойво сказал, что далеко лиса уйти не могла: следы свежие. Пошли с Кирюшкой по следу, зашли в чащобу и там, под густой старой елью, за кучей можжевеловых веток и пожухлых листьев, увидели огненно–красную спину. Вскинули охотники ружья, бросилась лайка с хриплым лаем, но поздно: зверь метнул пушистым хвостом в сторону, а сам кинулся в другую. Помчалась лисица к болоту. Они — за ней. Пробирались краем осторожно, все шли по следу, и, как уж в то болото забрели, сами не помнят. Загнали они лису в топь и вместе выстрелили. Потом уж Тойво определил, что именно Федин выстрел свалил зверя.
На радостях не заметили охотники, как и сами оказались в ловушке: куда ни ступят — топь. Почесав за ухом, Тойво пробормотал:
— Леший водит…
Поставил он Федю на сухое место, строго–настрого приказал не двигаться, а сам с Кирюшкой пополз тайную тропу разыскивать. Долго искал. Стемнело, а дед все не шел. Забеспокоился Федя, стал звать Тойво, а он тут как тут — сам пожаловал и сосен молодых приволок, чтобы до тропы добраться. Так вот и вышли…
Федя замолчал, оглянулся на деда. Тот незаметно кивнул: хватит, мол. Все, что надо, сказано.
Бабушка недоверчиво покачала головой.
— Легко же отделались, охотники!
«Не очень‑то легко!» — усмехнулся про себя Федя. Но про то бабушке знать не надо, как стоял он в сумерках один среди огромного болота, как хлюпала под сапогами болотная вода, как вспоминал свою бабушку, теплый, уютный дом. Вспомнил он и про пионерский сбор в школе, на который, конечно, уже опоздал. Вот тебе и звеньевой!.. А когда совсем стемнело, лес встал сплошной черной стеной. Кто‑то там завыл, кто‑то закашлял. Федя поднял ружье. И не рад уже он был ярко–рыжей пушистой шкуре, что лежала у его ног.
Наконец в темноте зачавкала болотная топь — бежала Кирюшка, следом послышалось кряхтенье Тойво.
— Дед! — закричал Федя, кинулся тому на шею и вдруг заплакал. Конечно, от радости.
Тойво покачал головой.
— Худо!
Федор слезы вытер и попросил никому о них не говорить. Дед обещал.
И повел Федю по сосновым бревнышкам к тропе…
— Дивлюсь, — сказала бабушка, — вы словно два лесовика — из лесу не вылезаете. Смотри, Федюшка, от товарищей в ученье не отстань.
— Что ты, бабушка! У меня и троек‑то нет. А в лесу весело, привольно.
Напившись чаю, Тойво собрался домой. Но бабушка сказала:
— Погоди, дед, у тебя, чай, изба не топлена. Полезай‑ка лучше на печь.
И дед полез. А Федя улегся в свою постель, сладко потянулся и, засыпая, счастливо пробормотал:
-— Спокойной ночи, бабушка.
Бабушка поправила у него подушку, пригладила растрепавшиеся каштановые волосы, вздохнула и почему‑то покачала головой.
Утром первым проснулся кот Степан. Вылез из‑за печи, зевнул, выгнул горбом спину и уселся на белый пол умываться. Мылся долго, старательно. Вылизал всю пушистую светлую грудь, потом полосатые дымчатые бока и, наконец, помыл лапкой усатую темную морду. Увидел проснувшуюся бабушку и приветственно мяукнул.
— Не спится, старинушка? — спросила бабушка. Выглянула в окно и обрадовалась: — С первым снежком тебя, Степушка!
Слез с печи дед Тойво, пригладил свои мшистые волосы, принес бабушке с озера два ведра чистой и холодной онежской воды и позвал Кирюшку домой. Но бабушка велела ему дождаться чаю, а сама достала из темного комода письмо, надела очки.
— От Николая Егорьевича. Хочет Федюшку к себе забрать. Извещает: мол, жену хорошую нашел.
Бабушка пристально посмотрела на сладко спящего Федю, тихо прочла письмо и спросила:
— Ну, что присоветуешь?
Дед закряхтел, похлопал по спине лежащую на полу Кирюшку.
Бабушка сокрушенно вздохнула: с тобой, молчуном, посоветуешься! И, как бы про себя, задумчиво произнесла, что пусть Федюшка сам это дело решит.
В это утро Федя едва не опоздал в школу. Он долго любовался шкурой лисицы, которую Тойво подвесил к потолку в сенях. Первый Федин охотничий трофей! Узнав за завтраком, что отец зовет его к себе на юг, очень обрадовался и все расспрашивал бабушку, скоро ли поедет и как там люди живут} так ли, как на Севере, или по–другому?
— Так же, — ответила бабушка. — Везде советские люди, что на севере страны, что на юге. И в школе так же учат, и в пионерских отрядах занимаются.
Закадычные друзья Арсений и Иванка поджидали Федю у ворот новой, еще пахнущей смолистым лесом школы.
— Лисицу пристрелил? — крикнул еще издали Иванка, уже как‑то узнавший о Фединой удаче.
Тут же на дворе Федя рассказал про приключения в лесу и про свой скорый отъезд к отцу. Друзья не успели выразить свое мнение — прозвенел звонок. Но они были явно взволнованы и не столько победой над лисицей, сколько отъездом Феди на юг.
В классе, усаживаясь за парту рядом с Федей, Арсений вдруг сказал:
— Не езди, Федюха. Все равно лучше нашего северного края нет.
Федя не ответил — начался урок.
ОТЕЦ
Южная зима обманчива и мимолетна. Снег растаял так же внезапно, как и выпал. Улицы, еще недавно белые и уютные, от непрерывного дождя стали унылыми и серыми. Темные, некрасивые деревья печально опустили свои мокрые голые ветви над сырыми тротуарами.
Сидит Федя у окна, смотрит на улицу, а мысли его далекодалеко отсюда. Вспоминаются ему родные северные края да добрые друзья, что остались там. Вспоминается ему бабушка Марфа Тимофеевна, ее ясная улыбка и ласковая рука. Кто‑то колет теперь ей дрова и возит воду с озера? А кто катается на Фединых лыжах? Очень хорошие лыжи, настоящие финские сделал ему дед Тойво. И отличные сани смастерил он для Феди. Бывало, мчится Федя вниз по укатанной зимней дороге только ветер обжигает лицо да снежная сухая пыль лет) следом. Сильнее всего грустил Федя по бабушке. Уезжать с Севера она наотрез отказалась:
— Что ты, Федюшка! Век здесь прожила, здесь и кончать его буду. А ты, батюшка, поезжай, посмотри белый свет.
Приехал Федя к Черному морю. Живет и удивляется: вместо январских морозов дождь и такой ветер, что шапку с головы рвет. Не поймешь — то ли весна, то ли осень… А Тойво бродит сейчас по заснеженным лесам с лайкой Кирюшкой. Знает он все заповедные места в Старом бору, все тайные тропы в болотах. В прошлую осень водил он Федю к дальнему бурелому, и видели они там лосиху с лосенком.
А на гранитной скале у Черного озера медведица поселилась. Тойво и Федя ходили летом к скале. Поросла она серым мхом, а на вершине ее три сосны неба касаются. Каждой — по сто лет. Сбили они плот и поплыли вокруг скалы, но ни с чем вернулись: висит скала над озером и нигде к ней не подступишься. Так до сих пор и живет старая медведица спокойно и привольно в том заскальном краю. Собирались охотники наведаться к медведице зимой, но не успели: приехал за Федей отец. Явился он под самый Новый год, радостный, шумный. По всему бабушкиному домику раздавались его смех и восклицания. Вечером отец и Федя украшали елку, которую старый Тойво срубил в тайге.
— Где ты нашел, дед, такую царевну лесную? — радостно удивлялся отец.
— Полон лес таких царевен, — ворчал Тойво.
— Рыжик! — не успокаивался отец. — Ты посмотри, какая красота!
Он накидывал на темно–зеленые ветки цветные бусы и отходил полюбоваться. И отец, и сын замирали от восторга, глядя на развесистую красавицу в ожерелье из бус. Нечаянно отец разбил два больших красных шара. Федя ахнул от огорчения. Николай Егорович виновато смотрел на сына:
— Рыжик, не сердись! Бьется к счастью!
К счастью так к счастью. Рыжик смеялся и танцевал с отцом польку.
В самый Новый год подняли бокалы с прозрачным светлым вином и отец торжественно сказал:
— С Новым годом, с добрым и счастливым, мои дорогие друзья!
Затем наклонился к Феде:
— За наше новое счастье, Рыжик!
Федя кивнул и повернулся к бабушке — посмотреть, как она. Но бабушка отвернулась к самовару. Феде надо было обязательно увидеть ее глаза, убедиться, что они ясные. Он наклонился к самому столу и заглянул‑таки в них. Они смеялись.
— От тебя не скроешься, проницатель этакий! — ласково сказала бабушка и растрепала Федины волосы. Он успокоился и весело смотрел, как отец танцевал с Тойво вальс. Дед топтался на месте, подпрыгивал неожиданно, наступал отцу на ноги.
— Сущий медведь! — смеялась бабушка. — Сейчас остальные шары побьете.
Отец расшалился и потянул бабушку танцевать кадриль. Но она отказалась:
— Уволь, батюшка, из годов вышла.
Все окончилось благополучно. Допили вино, доели маринованные белые грибы, розовую соленую семгу и улеглись спать. А утром чуть свет отправился Федя в тайгу на лыжах. И у Черного озера побывал, и в Старый бор заглянул, а потом взошел на высокую Дивью гору и долго глядел на Онежское засыпанное снегом озеро. Вилась по снежной равнине проезжая дорога, а по бокам ее стояли сторожевые вехи — сосны да ели, чтобы не сбиться с пути в темную вьюжную ночь.
Так в то утро накатался Федя, что и нитки сухой на нем не осталось. Прикатил домой и залег на печку греться. Грелся–грелся и уснул. Разбудил кот Степан — провел пушистым хвостом по носу. Федя проснулся и сразу вспомнил, что сегодня поедут они с отцом в далекий южный город, где растут яблоки и виноград и откуда рукой подать до теплого Черного моря. Он радостно улыбнулся и погладил Степана по спине.
А на столе в это время кипел самовар, отец с бабушкой пили чай и ели праздничные пирогн с черникой. Федя тоже захотел чаю и пирогов. Но только собрался спуститься с теплой печки, как услышал…
— Хороша ли жена у тебя, Николушка? — спрашивала бабушка.
— Красоты на двоих хватит! — засмеялся отец.
— Не про то спрашиваю, — перебила бабушка. — Сердце‑то каково у нее? Полюбит ли она Федюшку?
Отец ответил не сразу.
— Полюбит, — наконец сказал он. — Я для Рыжика и семью завожу, хочу с сыном жить. Растет парень без матери, отца видит редко. Будто сирота…
— Лаской я его не обделяла, батюшка, — тихо сказала бабушка. — По правде, по совести говорить — больше, чем тебя, лелеяла. И не дай бог, если Тамара Аркадьевна Федю обижать будет!
— Полно! — перебил отец. — Рыжик — самое дорогое для меня на свете.
Сердце у Феди колотилось как у того зайчонка, что однажды попал в капкан, и Федя пожалел его и выпустил. Федя посидел на печке, пока отец допил чай, потом слез и подсел к бабушке. И уж больше не отходил он от нее. Все думал: как же без бабушки жить‑то будет? Не остаться ли ему здесь?.. Но тогда опять будет Федя скучать по отцу и считать дни до его приезда…
Наступил вечер. Попросили в колхозе Карьку, и повез дед Тойво в санках с расписными боками Федю с отцом на станцию.
Бабушка долго стояла на крыльце и махала им вслед платком. Федя тоже махал красной варежкой, хотя плохо видел бабушку от слез, застилавших ему глаза.
…Три дня и три ночи мчался на юг скорый поезд. Вначале бесновалась метель и начисто залепила снегом вагонное окно. Наконец поезд вырвался из вьюжной полосы. Замелькали за окном елки и сосны, плотно укутанные снегом, пролетали села и деревни. А лес все редел и редел и в конце концов исчез. И деревянные дома тоже исчезли. Пошли белые хаты, пошла заснеженная степь без конца и без края.
К вечеру третьего дня отец сказал:
— Ну, вот и Кубань. Смотри, Рыжик, сады фруктовые. Смотри!
Низкорослые, приземистые фруктовые деревья с голыми темными ветвями Феде не понравились.
— Понравятся, когда зацветут. А фрукты на них увидишь — полюбишь, — уверял отец.
Приехали рано утром. Тамара Аркадьевна встречала их на вокзале. Она радостно смеялась и долго целовала отца, потом повернулась к Феде, обняла, заглянула в его лицо черными большими глазами:
— Здравствуй, цужичок–лесовичок!
— Здравствуйте, — тихо ответил Федя и чуть не заплакал— так ему вдруг захотелось обратно к бабушке, к Тойво.
— Рыжик, улыбнись! — шептал ему отец.
Но Федя не улыбнулся — не смог. Тамара Аркадьевна слегка нахмурилась, взяла отца под руку.
Дома отец показывал сыну квартиру.
— Вот здесь, Рыжик, ты будешь спать. Тебе нравится эта кровать? Нет, ты посмотри, какой я тебе купил стол! Ящиков‑то сколько! Сегодня же пойдем за настольной лампой. Сразу после завтрака, хорошо?
Феде все понравилось. Он развеселился, поел с аппетитом. Отец то и дело подкладывал ему моченые яблоки, соленые помидоры, маринованные сливы — вкусные южные яства.
После завтрака отец с сыном долго бродили по городу, Купили новые учебники, пионерский галстук, лампу, заглянули в кино. Пришли усталые и вдвоем улеглись на диван передохнуть. Тамара Аркадьевна присела к ним, осторожно пригладила Федины волосы. Он закрыл глаза: пусть подумает, что спит. Он еще не знает, о чем с ней разговаривать, и очень смущается, когда она его обнимает или гладит по голове. Ему сразу вспоминается бабушка, ее добрые серые глаза. Если бы у Тамары Аркадьевны были такие...
— Рыжик, спишь? — тихонько спросил отец.
Федя кивнул и крепко сжал веки.
— Ах ты жулик! — ласково усмехнулся отец. Не открывая глаз, улыбнулся и Рыжик. Он не видел, как нахмурилась Тамара Аркадьевна.
— У Феди, кажется, трудный нрав, — сказала она негромко.
Федя насторожился, Отец приподнялся, приглушенно сказал:
— Нет, нет, он очень добрый. Его все любили на Севере.
Тамара Аркадьевна промолчала. Федя чуть приоткрыл глаза и встретил взгляд, испытующий, тревожный, совсем не похожий на бабушкин. Феде опять стало грустно и неприютно, опять захотелось вернуться в родной северный край. Но вернуться можно было только летом, когда в школе закончатся занятия, — ждать надо было почти полгода. Чтобы не было так тоскливо, Федя стал мысленно рассказывать бабушке, как доехал, какой большой город, в котором он теперь живет, сколько фруктовых садов, но пока о них ничего не скажешь, потому что зимой они совсем некрасивые. Потом Федя вспомнил про красный велосипед, который они видели сегодня с отцом в большом магазине. Феде велосипед очень понравился. Если бы у него был такой, он стал бы ездить на рыбалку к самому дальнему лесному озеру. Стоп! А как же Тойво? У него нет велосипеда…
Как быть с Тойво, Федя так и не решил, заснул, Во сне он что‑то шептал. Николай Егорович наклонился к нему, прислушался.
— Бабушка, — шептал Федя, — бабушка, ты не бойся, я скоро приеду…
Николай Егорович неслышно ходил по комнате, и лицо у него было задумчивым и немного печальным.
Вот и сбылась его давняя мечта — Федя с ним. Мечта, которую Николай Егорович вынашивал долгие годы, даже тогда, когда не знал, где Рыжик и что с ним. И только бы Федя полюбил Тамару Аркадьевну, только бы полюбил!
Так думал Николай Егорович Горев, и все ходил и ходил по комнате.
Стемнело. На улице зажглись фонари. А он все ходил, все думал. Потом он подошел к Тамаре Аркадьевне и увел ее в другую комнату — он решил ей рассказать то, о чем только однажды рассказывал своей матери — Марфе Тимофеевне.
ТЯЖЕЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ
Это было давно, в страшные тяжелые дни ленинградской блокады. В ту первую военную осень Горев защищал Ленинград в воздухе. В городе у него были жена и маленький сын — мальчуган восьми месяцев от роду с длинными рыжими кудрями и очень серьезными темными глазами. Жили они в большом доме на Литейном проспекте. Николай Егорович ходил к ним между боями в короткие часы отдыха.
…Стояли погожие сентябрьские дни. Николай Егорович входил во двор своего дома, и сейчас же шумная ребячья ватага с радостным криком бежала ему навстречу. Мальчишки дрались за право стоять с ним рядом, держать его за руку. Перебивая друг друга, юные ленинградцы требовали немедленного рассказа о совершенных Горевым на фронте подвигах.
Последним всегда подбегал маленький Коля. Неизвестно как, но он всегда оказывался у самых ног Николая Егоровича.
— Пробился, кроха? — наклонялся к Коле Горев и брал малыша на руки. Кроха с восторгом заглядывал летчику в лицо и, счастливый своим высоким положением, спрашивал:
— А ты сегодня сколько немцев сбил? Много?
— Одного.
— А чего так мало? — с откровенным разочарованием тянул Коля.
— Трудное, брат, дело, — виновато оправдывался Николай Егорович.
Ребята провожали летчика до самого подъезда и стояли там до тех пор, пока он не входил в квартиру. Мальчишкам из соседнего двора они хвастались:
— А у нас летчик живет. Герой! Ага?!
…Наступили холода. Урезали скудный ленинградский паек. Ребята на дворе притихли. Они больше не бежали навстречу Гореву. Однажды он увидел их на скамье в глубине двора.
Он остановился, прислушался к негромкому ребячьему разговору.
Черноглазая первоклассница Варенька хвасталась:
— А я в госпитале вчера была. Стихи всякие раненым читала. Они мне сахару дали. Вот такой кусок!
Варенька показала маленькую ладошку.
— И меня раненые угощали тоже. Я им сказки рассказывала. Только я у них ничего не беру. Мама говорит, им усиленное питание нужно, — тихо говорит большеглазая, с темными кругами под глазами девочка.
— Госпиталь — что! — авторитетно перебил высокий тоненький мальчишка с бледными губами. — А вот наша Маша с другими студентами баррикады на правом берегу Невы строит. Баррикада скоро с дом будет. Маша и меня возьмет строить.
— С дом баррикад не бывает, Петух, — возразила большеглазая девочка, — и маленьких на них не пускают.
— Бывает! — упрямится Петух. — И меня все равно пустят!
Маша там бригадир. Им кокосовое масло дают. Вкусное!
Петух облизывал бледные губы при воспоминании о вкусном кокосовом масле.
«Притих вояка! — горько подумал Николай Егорович. — Какой спокойный стал, а ведь громобоем был!»
Маленький Коля был тут же. Он смирно сидел на коленях у сестры. Голова его была повязана теплым платком, и от этого его прозрачное лицо казалось совсем крошечным. Он равнодушно смотрел на Горева. Горев подошел:
— Ты что, брат, загрустил? Не узнаешь меня?
Горев заглядывал в Колины серьезные глаза, старался говорить весело.
— Узнаю, — медленно отвечал Коля. — Ты летчик.
Летчик не выдержал, подсел к ребятам, достал из вещевого мешка хлеб, настоящий черный хлеб, с таким трудом сбереженный для Рыжика и его матери.
Увидев хлеб, Коля заволновался, протянул к нему руки — маленькие, худые, плохо вымытые руки.
— Дай слебуска! — жалобно просил он, не спуская глаз с черных, уже почерствевших кусков.
Николай Егорович искал в кармане нож. Девочка с большими глазами, та, что не брала у раненых угощения, неслышно подошла к Гореву.
— Крошится… — прошептала она с сожалением.
Хлеб действительно крошился. Был он несвежим, да и Горев резал его торопливо, неровно.
— Подвинься! — Растолкав девочек, Петух встал перед Николаем Егоровичем. —Это вам в полку дают? Вкусный? Ой, а Варвара у вас крошки взяла!
Варенька опустила голову, а кулачок с крошками спрятала за спину.
— Варенька, садись‑ка, девочка, рядом!
Горев усадил Вареньку на скамью, взял на руки легонького Колю, и начался пир. Коля откусывал такие куски, что они не вмещались в его маленький рот.
— Николай, подавишься! — останавливала Колю сестра. — Давай покормлю.
Но только она дотронулась до хлеба, как Коля залился жалобными, отчаянными слезами и прижался лицом к шершавой горевской шинели.
— Не тронь его. Ешь лучше сама. — И Горев протянул девочке кусок.
Варенька сначала украдкой съела крошки, а потом уже принялась за хлеб. Скорее всех разделался с угощением Петух. Большеглазая девочка съела половину, а вторую, несмело посмотрев на Горева, завернула в носовой платок. Прежде чем спрятать завернутую половину в карман, она тихо спросила:
— Можно… я маме?
Снова, как бывало в сентябре, ребята проводили Горева до подъезда. Опять он нес на руках маленького Колю, который все еще ел свой хлеб.
— А вы еще когда придете? — спрашивал Петух, с явным сожалением расставаясь с Горевым.
— Жив буду — через месяц явлюсь, — отвечал Николай Егорович, передавая Колю сестре.
Ну, вот он и дома. Здравствуй, Рыжик! Отец разглаживал мягкие каштановые кудряшки, прижимал к щекам маленькие пальцы сына.
— Улыбнись, сынище!
Но крохотный худенький сынище не улыбался. Не улыбалась и его мать, У Горева сжалось сердце: как осунулись, побледнели они за эти дни! У матери Рыжика, Анны, спадает с пальца кольцо.
Николай Егорович торопливо выкладывал на стол остатки хлеба, несколько кусочков сахару, концентрат пшеничной каши с маслом. Он рубил стул и топил маленькую железную печь. Когда комната нагрелась, с Феди сняли многочисленные обертки, покормили кашей и разрешили «погулять». Гулял он тихо, без озорства, смотрел на слабый огонек керосиновой лампы и сосал свой палец. Плакал Рыжик редко. Обычно тогда, когда уходила за хлебом мать и посмотреть за ним приходила Варенька. И еще тогда, когда ему долго не давали соевого молока. Рыжик не боялся воя сирены, возвещающей о воздушной тревоге, не пугался взрывов фугасок и грохота артиллерийских обстрелов.
— Почему ты не хочешь сидеть? — огорченно спрашивал Горев сына, тщетно пытаясь его усадить. Но сын молчал, безмятежно глядел на отца темными глазами и тотчас падал на бок, как только Горев переставал его поддерживать.
Угасала печурка. Комната быстро остывала. Мать брала на руки закутанного Федю и тихо его баюкала:
Ветер после трех ночей Мчится к матери своей. Ветра спрашивает мать: «Где изволил пропадать?»Глухая ночь опустилась на город. Темень... Тревожная тишина...
Отвечает ветер ей, Милой матери своей: «Я дитя оберегал, Колыбелечку качал».И вдруг: «Воздушная тревога! Воздушная тревога! Воздушная тревога!»
Часто–часто, без перерыва забили зенитки. Значит, фашистские самолеты прорвались к городу и кружат над ним. Горев уже слышит гул приближающихся самолетов. Все громче, громче… Противный, вызывающий содрогание всего тела свист падающих бомб. Горев крепче прижимает к груди Рыжика, наклоняется над ним. Спасти, уберечь!
Грохот близкого разрыва. Качнуло под ногами пол. Зазвенели стекла, выбитые воздушной волной. Снова взрыв, но дальше: и вот уже совсем далеко гудят самолеты–смертоносны.
…В декабре город замели метели, затрещали морозы, усилились артиллерийские обстрелы.
В один из мглистых декабрьских дней Горев дома не нашел. Гора из развалин лежала на его месте. Горев оцепенел, задохнулся.
— Да очнитесь же, лейтенант Горев! — тряс его за плечи старик сосед. — В госпитале они. Понимаете, в госпитале! Идите гуда. Здесь стоять нечего.
— Здесь стоять нечего, — машинально повторил Горев.
И вдруг понял: в госпитале! Значит, живы! Он побежал.
— Не туда! — закричал старик. — Толкую же вам: в госпитале на Мойке. Где раньше институт Герцена был, педагогический. Да шапку‑то возьмите!
Старик поднял с развалин оброненную Горевым шапку и сам надел ее на его голову.
В госпиталь Николай Егорович опоздал. Анна умерла, а Рыжика, живого и невредимого, отнесли в детский дом. В детский дом Горев не пошел: ему надо было похоронить Анну, отпуск кончался к утру.
В тот же вечер седой, с почерневшим от горя лицом Николай Егорович вернулся в свой полк. Ночью в кромешной тьме к городу подкрадывались фашистские бомбардировщики.
— В город не пускать! — приказал командир, поднимая полк в бой.
Истребители настигли врага на подступах к Ленинграду.
— Не пройдешь! — прошептал Горев и бросился на фашиста.
Бомбардировщики действительно в эту ночь не прошли. Два из них пылали на невском льду. Остальные повернули обратно.
Самолет Николая Егоровича приземлился на аэродроме, но выйти из него летчик не мог. Его вынесли и отправили в госпиталь. Он был тяжело ранен в голову и ноги.
* * *
Николай Егорович перенес несколько сложных операций в далеком тыловом госпитале. Он поправлялся медленно, трудно. Волноваться и читать ему было запрещено. Но как только он пришел в сознание, мысли о Рыжике не покидали его. Он попросил палатную сестру Шурочку написать в Ленинградский детский дом. Как там Рыжик? Жив ли, здоров ли? Наверное, уже ходит…
Из Ленинграда долго не отвечали. Но Шурочка упорно писала туда. И ответ, наконец, пришел. Она принесла ему серый треугольник утром, после завтрака.
— Письмо из Ленинграда! — радостно сообщила Шурочка. — Прочесть?
Николай Егорович взволновался, попросил только развернуть конверт. Он прочел и сразу же начал читать опять.
— Нашелся? — осторожно спросила Шурочка.
— Еще нет. Но обязательно найдется. — Горев поднял на Шурочку потеплевшие глаза.
— А почему вы не улыбаетесь?
— Сейчас улыбнусь!
Он снова принялся за письмо. Дочитав, протянул Шурочке и улыбнулся.
Письмо было написано крупным неровным почерком.
«Лейтенант Горев!
Я случайно увидел Ваше письмо в почтовом отделении, куда хожу за ресточками от сына. Письма от вас все приходили и приходили, а их никто не брал. Оказалось, что детский дом, куда вы адресовали их, эвакуировался из Ленинграда.
Тогда я решил прочесть письма и постараться помочь. Я долго не мог ответить вам: за справками надо было идти в районо, а я не надеялся благополучно дойти. Пришла весна, подбодрила старика. Я пошел, но в районо никого не нашел: кто болен, кто умер. Очень мне хотелось помочь вам найти маленького Федю, и через несколько дней я отважился пойти снова.
Очень рад сообщить вам: дети эвакуированы на север, в Архангельск. Пишите туда, и пусть счастье сопутствует вам!
А. А. Рыбаков».
— Какой хороший этот ваш Рыбаков! — взволнованно сказала Шурочка.
— Шурочка, — Горев говорил мягко, ласково, — Шурочка, это не мой Рыбаков. Я его никогда не видел… Это просто… ленинградец!
В тот же день в Архангельск ушло письмо. Горев и Шурочка высчитали, что ответ придет через три недели. Ответ пришел через пять. Николай Егорович уже начал ходить, раны его заживали. Он подумывал о выписке из госпиталя.
— Николай Егорович, танцуйте! — Сияющая Шурочка держала в руке письмо. Горев помахал костылем —это означало танец — и жадно впился в письмо.
— Зря танцевал, —хмуро бросил он, прочитав. — Феди, оказывается, уже нет в детском доме, и никто сейчас не знает, где он.
Медицинская сестра из ленинградского госпиталя, та, что приняла Федю из рук умирающей матери и отнесла в детский дом, снова взяла его к себе — усыновила. Фамилия сестры — Воронцова. И маленького Феди тоже. Настоящей фамилии мальчика до сих пор никто не знал.
— Николай Егорович, — прервала его горестные размышления Шурочка, — выписывайтесь и поезжайте в Архангельск.
Там вы обязательно найдете Рыжика, обязательно! Вам же обещают помочь!
Горев так и решил: поеду! Он считал дни до выписки и ссорился с врачами. Но почему‑то рана на ноге открылась, повысилась температура, и выписку Николая Егоровича из госпиталя отложили.
В это время под Сталинградом разгорелась небывалая битва, завершившаяся героическим наступлением Советской Армии на гитлеровцев. И Горев, выписавшись из госпиталя, выехал прямо на Сталинградский фронт.
* * *
Три года воюет Горев, а Рыжик так и не нашелся. Большой уже мальчишка — четыре года человеку. Где он? Что с ним?
Однажды в день рождения Феди Николай Егорович встретил в небольшом румынском городе мальчугана, очень похожего на Рыжика. И остановился.
— Как тебя зовут? — спросил Горев, изрядно коверкая румынские слова.
Темноглазый малыш внимательно осмотрел русского летчика. Видимо, ему понравились боевые ордена Горева — он долго не спускал с них восторженных глаз.
— Михай, — ответил малыш наконец.
— Пойдем‑ка мы с тобой, Михай, погуляем, — предложил Николай Егорович.
— Пойдем, — охотно согласился Михай.
— Давай‑ка мы игрушку тебе купим.
— Купим! — радостно улыбнулся малыш.
Но магазин игрушек оказался закрытым — жизнь в городе только налаживалась. Горев, расстроенный неудачей, осторожно постучал в закрытую дверь магазина. Потом постучал погромче. Еще постучал. Дверь все‑таки открылась, и старик румын удивленно взглянул на нежданных гостей.
— Пожалуйста, — сказал Горев, — пожалуйста, извините нас, но нам очень нужна игрушка.
— Лошадь, — пояснил Михай.
Старик молча переводил недоверчивые глаза с Михая на Горева. Что за странные покупатели!
— Я вас очень прошу, — горячо сказал Горев. — Очень!
Старик покачал головой, наклонился к Михаю и спросил, какая ему нужна лошадь.
— Большая–пребольшая! — поспешно ответил Михай. — Чтобы сама катала…
Старик принес лошадь больше самого Михая. На ней было роскошное седло, стремена и уздечка. Михай сейчас же влез на коня и издал воинственный клич. Николай Егорович осторожно толкнул лошадь. Михай натянул вожжи. Ему казалось, что конь скачет во весь опор. Он смеялся от счастья, и Горев смеялся вместе с ним.
…Когда в Румынии отцветали каштаны, Николай Егорович получил отпуск и поехал в Архангельск искать Рыжика.
Весна в Архангельске только начиналась. Широкие деревянные тротуары были мокры от таявшего снега. Лед на Двине почернел и потрескался. День–другой — и он тронется, поплывет к морю. Долго не темнело, приближались белые ночи.
В этом северном городе не было следов войны. Так славно пахнуло на Горева мирной жизнью от чистых светлых витрин, от необшитых досками памятников, от этих детсадовских малышей, важно шествующих по набережной на прогулку! Идут не спеша, без излишнего шума и гама, с достоинством поглядывая вокруг. Видно, все народ серьезный, дисциплинированный. Но так и норовит какой‑нибудь укутанный шарфом товарищ деловито пройтись по лужам или забрести в снег, что еще сохранился по обочинам.
Повстречались Николаю Егоровичу ребята с портфелями. Эти, не в пример детскому саду, шумели, тузили друг друга портфелями и смеялись. У Николая Егоровича защемило сердце — вспомнились ему ленинградские дети Коля, Варенька, Петух… Живы ли? Научились ли смеяться? А его Рыжик? Как он? Найдет ли Горев его здесь или снова поиски, мучительные раздумья, надежды, сменяющиеся отчаянием?
Чем дальше шел Николай Егорович, тем учащеннее колотилось его сердце. Он подставлял свежему двинскому ветру горячее лицо, вдыхал воздух, напоенный ароматом весны, и березовыми почками, и тающим льдом, и рыбацкими застоявшимися сетями.
В детский дом, с которым Федя приехал из Ленинграда, Горев вошел не сразу. Несколько раз прошелся мимо крыльца— успокоиться — и, наконец, позвонил. Его впустили, провели к заведующей. Он шел по чистым половицам коридора и чутко прислушивался к детским звонким голосам, наполнявшим большой деревянный дом. Он твердо знал: Рыжика здесь нет. Он пришел сюда, чтобы узнать адрес медсестры Воронцовой. Ему это обещали в письмах. И все‑таки… все‑таки ждал: не услышит ли голос сына?
В кабинете заведующей Горева радушно усадили, раздели, заставили съесть с дороги тарелку каши с киселем. Его уверяли, что Федя обязательно найдется, удалось узнать адрес родственников Воронцовой. Горев спросил адрес и попрощался.
После долгих блужданий по городу Николай Егорович разыскал нужный ему дом. Он вошел во двор и остановился.
— Дяденька, вам кого?
Девочка в ватном пальтишке подбежала к Гореву, с любопытством смотрит на него. Он не успел ответить, а уже откуда‑то появились двое белокурых мальчуганов и с готовностью предлагают ему свои услуги. Из глубины двора к нему еще спешит товарищ в красном капоре, в оленьей шубке, розовощекий и толстый. Не дойдя двух–трех шагов до Горева, он споткнулся и упал.
— Вот разиня! — засмеялась девочка. — Он часто падает, толстяк.
— А ты бы меньше толкалась! — Один из белокурых мальчиков сурово смотрит на девочку.
— Она всегда толкается, Лялька… Пихнет и убежит, — пожаловался он Николаю Егоровичу.
Гореву стало жаль часто падающего «разиню». Он подошел к нему, помог подняться, поправил сбившийся набок капор, заглянул в глаза. И сразу же у Горева перехватило дыхание: такими родными, такими знакомыми были эти большие темные глаза! В смятении, еще не веря, присел Николай Егорович перед мальчуганом, жадно всматриваясь в его лицо. Темно–каштановые колечки выбились из‑под капора на высокий лоб, тонкие брови удивленно поднялись над карими лучистыми глазами — уж что‑то слишком долго разглядывает его незнакомый летчик!
— Анна! — прошептал Горев. — Анна…
— Дяденька, вы чего? — удивленно спросила Лялька.
Мальчики подозрительно оглядели Горева и о чем‑то зашептались.
Николай Егорович взял в руки маленькие ладошки, еще мокрые после недавнего падения на сырую весеннюю землю, и притянул малыша к себе.
— Как… как тебя зовут?
Тот освободил свои руки из горевских, отстранился и независимо ответил:
— Федор Петрович.
— А фамилия? Фамилия как? — Голос Горева прерывался.
— А фамилия Белкин, — с достоинством сказал Федор Петрович.
— Не может быть! — горячо вырвалось у Горева. — Не может этого быть! Ты — Воронцов. Ну, вспомни!
Федор Петрович вспоминать отказался. За него вступились белокурые мальчики. Федюха точно Белкин, а Воронцовых у них во дворе нет.
Что бы ему ни говорили, но Николай Егорович твердо знал, сердцем чувствовал, что вот этот темноглазый краснощекий мальчуган — его сын, его Рыжик! Смеясь от радости, Горев взял малыша на руки, целовал его щеки, глаза, завитки на лбу.
— Не челуйтесь, вы чужой… — запротестовал Федор Петрович. Но Николай Егорович все равно целовал и говорил, что нет, не чужой, а его отец, что они очень похожи. Пусть спросят у ребят.
Удивленные странным поведением незнакомого летчика ребята пристально всматривались в него и Федю и вдруг закричали, что да, похожи. Но Лялька запротестовала:
— Он же рыжий, Федор, а вы седой!
Федя обиженно надулся и сейчас же отвернулся от Ляльки. Подумаешь, рыжий! Горев его утешал — он и сам был таким когда‑то. Потом он осторожно спросил Федю про мать. Нет, у Федора Петровича матери нет, у него тетя Клава. Раньше она сражалась на войне, а Федя жил в детском доме, но потом тетю Клаву ранило, и теперь они живут вместе.
Николай Егорович вздохнул с великим облегчением.
— Но она все равно как мама, — добавил Федя. —Но сейчас тетя Клава ушла, и квартира замкнута.
Тогда Горев недолго думая пригласил всю компанию в кафе «Арктика» угощаться мороженым. Предложение было принято единодушно. Окруженный ребятами, Николай Егорович шел но деревянным тротуарам, держал за руку Рыжика и… улыбался. Горев был счастлив. Он с наслаждением слушал Федин рассказ про настоящую Арктику, которая находится за Белым морем. Там, оказывается, живут белые медведи и нерпы. Нет, Горев этого, конечно, не знал. Выяснилось, что дома у Федора Петровича на полу лежит белый медведь. Но пусть Горев не боится — это только медведица шкура. Она не кусается и ничего не говорит. Горев обещал не бояться.
Мороженое ели долго. Съев свою порцию, белокурые мальчуганы начали старательно облизывать блюдечки. Горев им это запретил и купил по второй порции. Федя поспешно доел свое мороженое и тоже попросил вторую порцию. Но Лялька сказала, что ему больше давать нельзя, потому что он может заболеть ангиной.
— Горев, Лялька врет, —пробормотал обиженный Федя. Бросив на Ляльку уничтожающий взгляд, он добавил: — Тогда и ей не покупай! У нее тоже была ангина.
Компания вернулась домой в самом хорошем настроении. Николая Егоровича и Федю ребята проводили до самых дверей квартиры тети Клавы, или, как они называли ее, Клавдии Акимовны. Они даже предлагали Гореву войти в дом вместе с ним и подтвердить, что он самый настоящий Федин отец. В этом теперь никто уже не сомневался!
Горев поблагодарил и отказался. Он опять был взволнован, перестал улыбаться и не спускал с Феди тревожных глаз. Сжав Федину руку, он решительно постучался в дверь.
Молодая женщина с короткими пышными волосами, в гимнастерке, перетянутой ремнем, открыла дверь.
— Тетя Клава, это Горев, — объявил Федя. — Он теперь мой папа!
Тетя Клава отступила назад, пристально взглянула на Горева.
— Что ты выдумываешь? — недовольно сказала она.
— Правда! Ты не бойся его, — Федя ободряюще ей улыбнулся. — Он хороший, Николай Егорович. Он мороженое…
Тут Федя запнулся, сморщил жалобно толстенький нос и оглянулся на Горева за поддержкой. Но тот не заметил его взгляда. Почему‑то прерывающимся голосом спросил;
— Ваша фамилия… Воронцова?
Федя раскрыл рог сказать, что они с тетей Клавой Белкины. Почему Горев не хочет этому верить? Но, к его удивлению, Клавдия Акимовна сказала;
— Да, была. А теперь Белкина.
Николай Егорович громко, радостно засмеялся и воскликнул:
— Здравствуйте, Клавдия Акимовна, дорогая! Я действительно Федин отец.
…Так у открытой двери они и стояли. Говорили про Ленинград, про госпиталь на Мойке, про детский дом, в котором жил маленький Федя всего несколько месяцев. Наконец тетя Клава взглянула на Федю, встрепенулась, сказала Гореву, чтобы прошел в дом, а Феде велела еще погулять во дворе. Он нехотя согласился, попросил Николая Егоровича не уходить без него, а Клавдии Акимовне посоветовал:
— Ты дай Гореву чай с шаньгами.
Гулял Федя недолго. Вечерело, во дворе, кроме Ляльки, с которой он после случая с мороженым не разговаривал, никого не было, и уж очень он боялся, как бы Горев не раздумал быть его отцом. Он осторожно вошел в комнату. Тетя Клава и Николай Егорович сидели за столом. У Горева было очень печальное лицо. На широкой ладони он держал маленькое кольцо, и Феде казалось, что большая его рука дрожит. Кольцо это Федя хорошо знал; оно называлось «маминой памятью» и бережно хранилось в шкатулке. Он подошел к столу, спросил:
— Ты отдала ему кольцо? Насовсем?
Клавдия Акимовна кивнула и, притянув Федю к себе, крепко обняла. Потом она встала и ушла в кухню ставить самовар.
Федя развлекал гостя. Сначала он показал Гореву медвежью шкуру. Тот рассеянно похвалил — видимо, шкура ему не понравилась. Тогда Федя принес свое деревянное поломанное ружье и велел Гореву починить. Николай Егорович чинил долго, больше смотрел на Федю и на дверь в ожидании Клавдии Акимовны. Федя с откровенным недоверием спросил:
— А ты умеешь?
— Я стараюсь… Ты его здорово отделал.
Ружье Горев все‑таки починил. Федя великодушно похвалил:
— Ты молодец! — и пошел показать Клавдии Акимовне. Она стояла около самовара и не замечала, что он давно кипит. Глаза у нее были скучные, задумчивые.
— Феденька, — сказала она, — вот и нашелся твой папа… Было непонятно, почему не радуется тетя Клава папиному возвращению. Он спросил ее об этом.
— Я от радости в себя прийти не могу, — возразила она. Федя внимательно всмотрелся в ее лицо — искал радость, но так и не нашел.
* * *
Было решено, что Федя поедет к бабушке, матери Николая Егоровича, и будет там до тех пор, пока не закончится война. Николай Егорович и Клавдия Акимовна вернутся на фронт. Он — в свой полк, она — в госпиталь, где хирургом работает ее муж Петр Белкин.
Вскоре Горев и Федя провожали Клавдию Акимовну. Через Двину на вокзал они ехали на ледоколе, и Рыжик оживленно рассказывал, как недавно здесь ездили по льду на оленях. Горев слушал внимательно и не спускал с Феди глаз. Федя задумался. Потом спросил серьезно:
— Ты всегда будешь папой?
— Теперь уже всегда. Больше ты, Рыжик, не потеряешься.
— Тогда меняемся ремнями?
Николай Егорович сказал, что дома сделает в своем ремне новые дырочки и вручит его Рыжику.
На вокзале Клавдия Акимовна крепко обняла Федю.
— До свидания, Федор Петрович! Ты не забудешь меня?
— А когда ты приедешь? — Федя подозрительно потянул носом.
— Скоро. Закончится война — сразу к тебе. А ты… ты не забывай меня. Каждую неделю присылай мне свои рисунки.
Клавдия Акимовна ласково заглядывала в карие Федины глаза. Он сказал мрачно:
— Ты зачем едешь? Ты лучше со мной будь.
— Нельзя, — вздохнула она. — Там раненые. Их перевязывать надо.
Она поднялась на подножку вагона, но все смотрела на Федю, улыбалась ему нежно. Горев снял шапку и взволнованно сказал:
— До свидания! В добрый путь! Ждем вас обязательно…
И тут Рыжик заревел громко, басовито. Крупные слезы покатились по пухлым щекам. Клавдия Акимовна кинулась к нему, взяла на руки, толстого, неуклюжего, вытерла ему слезы.
Николай Егорович растерянно смотрел на сына. Он предлагал ему пойти есть мороженое в «Арктику», сейчас же надеть его, отцовский, ремень. Ничего не помогало. Рыжик плакал безутешно, уткнувшись в плечо Клавдии Акимовны.
— Я… я без нее… без нее… не хочу–у…
Тогда очень серьезно она дала Феде слово, что в конце лета приедет его проведать. Рыжик плакать перестал, посмотрел вокруг исподлобья и вытер слезы ладошкой.
— Я тебе сейчас ледокол «Дежнев» нарисую. И еще оленей. Хочешь?
…Слово свое он сдержал: ледокол и оленей сел рисовать, как только вернулся домой с вокзала. У оленя долго не получались рога. Горев хотел ему помочь, но Федя категорически отказался. Он испортил тетрадь и сломал не один карандаш, но нарисовал оленя очень хорошо. Потом положил рисунок в конверт и попросил отца написать адрес.
— И еще, чтобы скорее приезжала. А то я сердитый–пресердитый. Зачем она уехала?
Николай Егорович посадил его к себе на колени, рассказал о ленинградских детях, о нем самом, маленьком Феде, которому очень трудно жилось в окруженном врагом Ленинграде.
— А чего же вы их, всех фашистов, не прогнали? — возмутился Рыжик.
— Скоро сказка сказывается, да не сразу дело делается, — невесело усмехнулся Николай Егорович. — Вот собрались с силами и прогнали.
Федя задумался. Он слез с горевских колен и долго шарил под кроватью, где хранились его игрушки. Он вытащил оттуда самодельный пистолет очень сложной конструкции и тряпичного слона Сеню. Пистолет он запихал за ремень, а Сеню взял за полуоторванный хобот и подошел к Николаю Егоровичу.
— Горев, — сказал Федя решительно, — ты поезжай воевать, и я тоже с тобой поеду. Видишь, какой у меня пистолет? Только пулев нету. Ты мне дашь? А слона мне тетя Клава подарила, когда я был маленький. Я его тоже возьму.
Через несколько месяцев Клавдия Акимовна приехала проведать Федю в деревню, где он жил с бабушкой Марфой Тимофеевной. Они провели вместе неделю. Рыжик познакомил Клавдию Акимовну с бабушкой, дедом Тойво, котом Степаном и лайкой Кирюшкой. Тете. Клаве очень понравились Федины друзья и его жизнь. Она сказала, что приедет еще. Но больше Рыжик ее не видел. Бабушка часто читала ему письма от Клавдии Акимовны. Потом письма приходить перестали.
— Она очень далеко заехала, Федюшка, — объясняла бабушка и вздыхала.
Он по–прежнему часто рисовал для Клавдии Акимовны и отдавал рисунки бабушке — отправить на фронт. Но однажды нашел их в ящике комода. Федя рассердился, ушел в угол к коту Степану и целый вечер просидел там. Бабушка все ходила вокруг него и вздыхала. Но он сидел надутый и от нее отворачивался. Спустя несколько лег Федя узнал, что зря сердился на Марфу Тимофеевну: ей некуда было посылать его рисунки — Клавдия Акимовна погибла при штурме Берлина.
ПОЧЕМУ ОН НЕ ДЕРЕТСЯ?
Симочке приснился замечательный сои. Неизвестно, по какому случаю подарили ей множество всяких хороших вещей, столько, что она и пересмотреть‑то все не успела. Но кое‑что она все‑таки разглядела: свою любимую книжку про голубую чашку, которую разбили злые мыши, а у девочки Светланы и ее отца из‑за этого были крупные неприятности, блестящие новенькие коньки и маленькую плюшевую обезьяну. А больше Симочка ничего рассмотреть не успела, потому что часы пробили половину восьмого, и мать подошла к дочке, чтобы разбудить ее — пора было собираться в школу.
Симочка долго не открывала глаз — надо же досмотреть такой интересный сон. Не так уже часто получаешь столько подарков.
Дочка не просыпалась и мать сказала огорченно:
— Так ты и снег проспишь.
Симочкины глаза сразу открылись.
— Какой снег? — спросила она недоверчиво. — Где?
— За окном, — улыбнулась мать. — Где же ему еще быть?
Ну, конечно, снег — это получше всяких интересных снов!
Миг — и Симочка у окна.
— Зима, зима пришла! — кричит она в восторге.
— Симка, не мешай спать! — сердится в соседней комнате брат.
— Вставай, Максимушка, — ласково уговаривает мать. — В школу пора.
Пока Максим, сердито сопя, одевался, Симочка собирала книги и пела веселую песню про снег, грлубое небо и дым, который столбом идет вверх. Наконец брат и сестра вышли во двор.
— Вот здорово! — вырвалось у Максима, когда он увидел засыпанную снегом улицу. — Симка, слушай, может, не идти в школу, а покататься на санях?
Симочка укоризненно посмотрела на брата.
— Опять мама расстроится, — напомнила она.
— Даже зиме человек не может порадоваться! — проворчал Максим и зашагал г. о сугробам к воротам.
А Симочка чинно идет по узкой дорожке. Думаете, ей не хочется залезть в снег и протоптать свою дорожку? Не хочется взять в рот самую капельку белого прохладного снега? Как бы не так! Но она оглядывается на окна и ничего этого не делает. Закрылась калитка, и Симочкиной скромности как не бывало— мама теперь не увидит! Она решительно сворачивает в самый большой сугроб и, провалившись чуть не по колени, весело смеется. Вот под этим деревом можно слепить снежного человека. Вместо глаз вставить угли, вместо носа — морковку. Но снежного человека лепить долго, еще на урок опоздаешь. А на первом уроке диктовка. Ну что ж, нельзя человека — можно снежки. И пусть полетят эти меткие снежки по всем направлениям: и в то дерево, и в этот забор, и в незнакомою мальчишку, что идет по дороге в серых валенках. Он и не подозревает, что замышляет против него хитрая Серафима!
Задумано — сделано. Бац! Дерзкий снежок угодил незнакомцу в спину. Он удивленно оглядывается, ищет невидимого врага. А вот и враг — стоит под деревом в голубой шапочке, с пушистыми светлыми косами и бессовестно хохочет. Мальчишка только и сделал, что погрозил Симочке кулаком в красной варежке.
Однако пора в школу. Симочка с сожалением выбирается из сугроба, запихивает в карман мокрые варежки и чинно идет по тротуару, словно и не она только что бросала во все стороны снежки, будто и не у нее мокрые чулки и варежки. Она уже думает о безударных гласных, существительных и глаголах. Ничего удивительного — сегодня диктовка.
Вот уж правду говорят, что жизнь полна неожиданностей! Повернула к школе и нос к носу встретилась с осмеянным мальчишкой. Симочка встревожилась, но нахмурилась и сказала строго:
— Иди своей дорогой.
Тот никуда не пошел — стоял и рассматривал Симочку. Ей стало совсем неприятно.
— Ну чего ты? — жалобно протянула она.
Незнакомец шмыгнул носом и сказал:
— Глупая ты, вот что!
Симочка обиделась. Она покраснела до слез и в замешательстве стала натягивать на руки мокрые варежки.
— Ну и пусть… ну и пусть глупая… Подумаешь! Снежками все бросаются, — бормотала она и исподлобья осторожно поглядывала на мальчишку. Кто его знает, что у него на уме? А он постоял, снял красную варежку и... начал отряхивать снег с ее пальтишка.
Ну и дела! Встречаются же на свете такие удивительные мальчишки! Интересно, почему он не дерется?
Удивительный мальчишка не спеша очистил Симочку от снега, встряхнул свою красную варежку, надел ее и пошел.
Симочка окликнула его:
— …Как тебя зовут?
— Федором, — спокойно ответил тот, не оборачиваясь.
— А в какой ты школе учишься?
— В пятой, в четвертом «А».
— Ой, врешь! — закричала изумленная Симочка. — Это я учусь в пятой школе, в четвертом «А»!
Тут удивился и Федор. Повернулся к Симочке, недоверчиво, спросил:
— Нет, правда?
— Честное пионерское! — отозвалась она и прямо взглянула Федору в глаза. Она долго не отводила глаз от его, лица. Федор даже смущенно моргнул.
— Слушай, Федя, а у тебя в глазах солнечные лучики. Ой, у тебя брови каштановые! — Она стояла с раскрытым ртом и рассматривала удивительного Федора. А он рыл снег носком серого валенка и молчал-. Тут Симочку осенило:
— Ты новенький? Я тебя поведу!
— Не в лесу, не заблужусь, — сказал Федя, но пошел рядом с ней.
По дороге выяснилось, что он приехал с далекого–предалекого Севера, что там у него остались бабушка и дед Тойво, охотник и следопыт, а еще охотничье ружье и шкура лисицы, которую он сам застрелил на Чертовом болоте.
Симочка слушала, восхищенно поглядывала на Федю. Очень он ей понравился! Она до того засмотрелась, что споткнулась и обязательно бы упала, если бы Федя ее не поддержал.
Они вошли в школьный двор, застроенный снежными до–тами и траншеями. У снежных крепостей стояли мальчишки и о чем‑то горячо спорили. Симочка повела Федю в раздевалку и познакомила с тетей Пашей.
— Он с Севера, — сказала она гордо. — Он на лисиц охотился.
Тетя Паша одобрительно улыбнулась:
— Видать, парень самостоятельный.
Потом Симочка повела Федю в класс. Но рассказать о нем ребятам она уже не успела, потому что прозвенел звонок и в класс вошла учительница Анна Васильевна. Она увидела новенького, сидящего рядом с Симочкой, и сказала ребятам, что Федя Горев приехал к ним из далекой Карелии, где растут непроходимые леса и лежат среди них бесчисленные озера. Федя хорошо учился в сельской школе, отлично ходил на лыжах и был хорошим товарищем.
Все смотрели на новенького, а он, смущенный, не спускал глаз с классной доски. Потом Анна Васильевна взяла в руки листок, на котором была написана диктовка, и начала ее читать.
Про Федю все забыли, и только один мальчишка, краснощекий, с озорными круглыми глазами, все еще насмешливо посматривал на него.
Симочка успокоилась: диктовка оказалась нетрудной. Это был короткий рассказ про осеннюю ночь в избушке рыбака. В избушке жил еще и ручной заяц, который спас рыбака во время лесного пожара. Симочка задумалась о том, каким мудрым был этот удивительный заяц. Из задумчивости ее вывел Федя, тихонько шепнув:
— Чего же не пишешь?
Симочка благодарно ему улыбнулась и принялась старательно выводить буквы в тетради. Время от времени она искоса поглядывала в тетрадку Горева. Он писал крупным четким почерком. Вдруг Симочке бросились в глаза две ошибки. Быстро взяв промокашку, она написала на ней два слова: «камыш» и «рассказывать». Промокашка тихо легла на парту около Фединой руки. Он сначала не обратил на это никакого внимания. Но Симочка осторожно толкнула его локтем и глазами указала на промокашку. Горев заметил ее, нахмурился, но мягкий знак в слове «камыш» зачеркнул жирной чертой, а пропущенную букву в слове «рассказывать» аккуратно надписал сверху.
ПЕЧАЛЬ ЛЕНЫ СОФРОНОВОЙ
Лена Софронова на всю жизнь обиделась на Симочку. Три года Лена и Сима были верными друзьями. Они дня ие могли прожить друг без друга. В школе сидели на одной парте, дома вместе готовили уроки, вместе читали и без споров решили, что самые интересные книжки написал писатель Гайдар. Ссорились они редко и только из‑за мальчишек — у Симочки вечно были с ними какие‑то дела. Т© она воевала с Лешкой Кондратьевым, который никогда не учит уроков дома, а списывает их в школе у Коли Сомова. Как ни билась Симочка, она ничего не могла поделать с этим задирой и лодырем. Лешка сказал, чтобы она отстала от него, а не то он ее поколотит.
Потом Сима подружилась с мальчишкой из музыкальной школы и каждое воскресенье ходила с ним слушать музыку в филармонию. Когда Сима поссорилась с мальчиком из‑за того, что ему не нравилась «Неаполитанская песня» Чайковского.
Лена обрадовалась, но, как видно, рано: пока она тяжело болела, Симочка подружилась с Горевым, новеньким.
Вчера Симочка пришла к ней и предложила дружить втроем — она, Лена и Федя Горев. Лена наотрез отказалась. С мальчишками она никогда не дружила и не будет дружить! Симочка нахмурилась, наскоро рассказала больной Лене уроки и ушла. Лена сидела одна, плакала от обиды и ругала противного Федора Горева, которого еще никогда не видела. Поплакав, Лена решила, что долго дружить с Горевым Симочка не будет. Разве он будет любить Симу, как Лена? Разве отдаст ей половину мороженого? А если у Симочки заболит горло, кто тогда будет сидеть с ней?
Две недели болела Лена вирусным гриппом. Она очень соскучилась по девочкам, учительнице, рыбкам в аквариуме, за которыми она ухаживала.
Наконец Лена пришла в школу. У ворот ее встретила собачонка Шпонька, которую уборщица тетя Паша называет Пустолайкой. Шпонька так радостно визжала, что Лена раздобрилась и отдала ей один бутерброд.
Лена вошла в раздевалку.
— Аленушка! — радостно воскликнула тетя Паша. — Поправилась?
Лена смущенно улыбнулась, кивнула и, поскорее раздевшись, побежала в класс. По коридору навстречу ей бежал толстый Миша.
— Хо? — вскрикнул он удивленно и остановился. —Ленка пришла!
Он тут же повернулся назад и пошел рядом с Леной.
— Ас Симкой новенький сидит, Горев, — сообщил он.
— Ну и что ж? — Лена сделала вид, что это ей безразлично.
В классе все было по–старому. Хотя нет, на окнах уже зацветали в горшках цикламены, а в аквариуме появились новые красные рыбки. Интересно, кто менял воду у рыбок, пока Лена болела?
— Ну, наболелась? —» поинтересовался, подходя к ней, Лешка Кондратьев. — Тут за твоими рыбками Горев смотрел, новенький.
Надо же так! Везде этот Горев! Сразу видно, что выскочка.
«Это, наверно, он и есть, — подумала Лена, увидев незнакомого мальчика. — Ой, он рыжий!»
Лена злорадно улыбнулась.
— Федор! — закричал Кондратьев. — Ленка поправилась, и ты с ее местечка уматывай! Садись ко мне. Хорошо?
— Чтобы задачи у него списывать? — язвительно спросила Надя Асафьева. Она сердито сверкнула черными глазами и потребовала, чтобы Лешка показал ей домашнюю задачу.
— А вот и не покажу! — крикнул Лешка и дернул Надю за длинную черную косу.
— Ничего, Лешка, Лешка–картошка, мы тебя на сборе звена обсудим, — обиделась Надя.
В классе появилась Симочка — председатель совета отряда 4 «А». Она строго оглядела класс и сразу приметила в дальнем уголке Зою. Неспроста она там. Опять списывает уроки!
Но поговорить с ленивицей ей не пришлось — на глаза попался Лешка. Симочка вскипела:
— Опять без галстука? Сколько раз буду говорить!
Кондратьев презрительно фыркнул:
— Не приставай! — и повернулся к ней спиной.
Она очень рассердилась, шагнула к Лешке, и кто его знает, чем бы все это кончилось, если бы к Симочке не подошла Лена. Увидев ее, Симочка забыла про Лешку и радостно кинулась подруге на шею. О недавней размолвке с ней было забыто.
— Ну как, тебе понравился Федя Горев? — осведомилась Симочка после первых приветствий.
Лена с досадой пожала плечами. Да что это такое! Парень в классе без году неделя, а только о нем и говорят!
— Обыкновенный мальчишка, — кисло улыбнулась Лена.
Симочка встрепенулась. Ой, что Лена говорит! Пусть лучше посмотрит на Федю. Ведь он‑то как раз и необыкновенный— храбрец, охотник. А задачи как решает! Даже лучше самой Серафимы.
Но Лена на Федю смотреть не захотела, даже отвернулась и пошла к парте, где она сидела с Симочкой до своей болезни. Та растерянно наблюдала, как Лена села, как открыла портфель и достала аккуратные тетрадки. Симочка поискала глазами Федора. Лешка вел того к своей парте.
«Ну вот, — подумала Симочка, — ну вот, я и не буду больше сидеть с Федей».
В класс вошла Анна Васильевна. Ой, Серафима даже не слыхала звонка! Вот так задумалась! Она поспешно уселась на свое место. Весь урок не обращала на Лену никакого внимания, зато несколько раз оглядывалась на Федю — он с Лешкой сидел за последней партой.
Горев сидел спокойно, хотя Кондратьев вертелся и часто шептал что‑то ему. Всякий раз, когда Симочка поворачивалась, Лешка ехидно улыбался и, наконец, показал ей язык. Симочка надулась, но оборачиваться перестала. На перемене она решительно подошла к учительнице.
— Анна Васильевна, Горева надо пересадить. Кондратьев ему мешает.
— Она врет! — закричал Лешка. — Она все врет. Сама ему мешает, а на меня сваливает. Симка с Федором сидеть хочет, вот что!
Симочка покраснела до слез. Впрочем, не одна она — и Лена Софронова тоже. Пока Симочка что‑то сбивчиво и путано объясняла учительнице, Лена взяла свой портфель и пошла к Анне Васильевне.
— Можно я с Надей сяду?
Лена наклонила голову, и Симочке показалось, что в глазах ее блеснули слезы. Вконец расстроенная, Симочка виновато потупилась.
Анна Васильевна незаметно смахнула слезинку с Лениной щеки и разрешила ей сесть к Наде. Гореву она сказала, чтобы сам решил, где ему лучше сидеть.
Всю перемену Федя простоял у аквариума. Прозвенел звонок. К Феде подошел Лешка.
— Толково сидеть на последней парте, скажи? — весело спросил он.
— Ага, — ответил Федя неуверенно и вдруг удивленно раскрыл глаза: Симочка несла к себе его портфель.
— Кондрат тебе мешает, — решительно объявила она Феде. — Будешь сидеть со мной.
Лешка энергично фыркнул, вытер нос рукавом рубашки и презрительно бросил в сторону Симочки!
— Выскочка!
СБОР
Таня вбежала в школьный двор и остановилась: один за другим летели к воротам снежки. Они глухо шлепались в забор и в дерево, что росло рядом с воротами. Бросался этими снежками не кто иной, как Лешка Кондратьев, известный буян и озорник из 4 «А».
— Перестань! — крикнула Таня. — Слышишь?
Но Лешка не перестал, хотя Таня училась в восьмом классе и была членом учкома.
— Я не в тебя, — сказал он и бросил в дерево три снежка.
— Таня, — отчаянно донеслось из‑за дерева, — Таня, скажи Лешке, чтобы не кидался снежками!
За деревом всхлипнули. Таня смело шагнула туда и погрозила Кондратьеву пальцем, но тут же получила удар снежком в грудь. Она рассердилась, подбежала к Лешке и схватила его за руку. Она хотела сейчас же отвести озорника к учительнице, но он простодушно взглянул на нее круглыми серыми глазами и искренне сказал:
— Я нечаянно…
Возмущенная Таня крикнула, что Анна Васильевна во всем разберется.
— Ей не надо разбираться, — серьезно возразил Лешка. — Она расстроится… А я больше не буду. Я с Зинкой играл. Чего же она не защищается?
Танин гнев неожиданно погас. Она отпустила Кондратьева ненаказанным. Из‑за дерева высунулось испуганное лицо Зины, потом вышла она сама, маленькая, кудрявая, с шапкой в руках.
— Лешка сбил!
Таня проводила малышку за ворота.
На другой день в школе Таня увидела Лешку. Про Зину он уже забыл. Только пренебрежительно махнул рукой. Он с девчонками не знается, от них одни неприятности. Вот пусть Таня скажет, что им от Лешки надо. Вчера Асафьева на него кричала за то, что он не показал ей домашнюю задачу. А чего ради он должен ей показывать? Подумаешь, звеньевая! Сегодня Симка Левина накинулась, зачем пристает к новенькому— Федору Гореву. А Лешка совсем и не приставал, а только слушал, как тот рассказывал про охоту. Потом они решили побороться — кто сильнее. Но Симка вдруг заорала, что Кондратьев бьет Федора, и побежала фискалить учительнице. Спасибо, сам Горев в это дело вмешался.
Нет, пусть‑ка Таня побудет на Лешкином месте! Долго не выдержит, он ручается.
Кондратьев сердито сплюнул, но тут же улыбнулся и сказал, что теперь жить ему стало немножко легче, потому что Федя Горев, очень толковый пацан, дружит с Лешкой. Но опять беда — Симка лезет и лезет к Гореву. Даже не дала Лешке сидеть с Федей.
Тут Кондратьев хлопнул себя рукой по лбу: у них с Федором дела, а он здесь прохлаждается! Он сорвался с места и помчался к выходу, но в дверях обернулся и приветливо помахал Тане рукой. Она тоже махнула Лешке, и что‑то жаль ей стало задиру и озорника. Ведь и правда совсем не веселая у него жизнь!
Таня подумала–подумала и пошла посоветовать председателю совета отряда Симочке Левиной поменьше ругать Лешку. Таня разыскала ее в библиотеке — председатель выбирала из «Пионерской правды» всякие интересные рассказы, чтобы потом прочесть на сборе. Таня тихонько подошла к ней, заглянула через плечо. Веселые девушки смотрели на нее с газетного листа. Ну, конечно, это первые целинницы! Таня вздохнула: ей тоже хочется поехать в далекую Сибирь. Ей тоже хочется строить дома или сеять весной хлеб на новой земле. И еще она научилась бы там ходить на лыжах. Но мама сказала, что Таня никуда не поедет, потому что ей всего пятнадцать лет и она еще не закончила школу. Только и остается ей пока что мечтать о целине и лыжах!
Симочка заметила Таню и сказала с завистью про целинниц:
— Счастливые они, правда?
Таня кивнула. Оказалось, что Симочка тоже очень хочет покататься на лыжах. Вон Федя Горев здорово ходит на лыжах. Рассказывал, что может и с гор, может и по лесу. Жаль, что в их городе не продаются лыжи. Но Федя обещал написать деду Тойво — это самый лучший лыжный мастер. Между прочим, Кондрат решил сам сделать лыжи с Фединой помощью.
Таня вспомнила про Лешку. Но едва она заговорила про него, Симочка моментально наморщила маленький вздернутый нос. Ох, пусть лучше Таня не заступается за Кондрата! Пусть придет на сбор и посмотрит на его проделки или раскроет его тетрадки и полюбуется двойками. Весь класс мучается с этим Лешкой. Только и дружит с ним новенький Федя Горев, но и то потому, что еще не знает Кондрата.
Таня с сомнением покачала головой. Так уж и плохо все? Ой, что‑то ей не верится.
— Поверится, если сама с ним помучаешься, — проворчала Симочка.
— Хорошо, помучаюсь, — вздохнула Таня. И объяснила удивленной Симочке, что комитет комсомола назначил ее вожатой в отряд 4 «А».
. — Что же ты молчала? — возмутилась Симочка.
Таня призналась, что очень сомневается, будут ли мальчишки ее слушаться.
— Будут! Надо только быть с ними суровой и почаще их ругать, — авторитетно заявила Симочка. Таня сказала, что ругать не умеет.
— Научишься, — успокоила Симочка.
Вечером Симочка потащила Таню к Анне Васильевне — поговорить про отрядные дела. Они сидели за круглым столом, пили чай и говорили про Лешку, Мишу, что вечно не ладит с Кондратьевым, про Надю Асафьеву, очень строгую звеньевую, Колю, который делает маленький тепловоз, но у него почему‑то ничего не получается.
Таня никогда не думала, что так трудно составить план работы для отряда. Все, что ни предлагала она, уже много раз делали: ходили в театр, устраивали утренники в школе, собирали железный лом. Вот только не пробовали еще переплетать книги.
Симочка сразу попросила Таню показать, как это делается. Но у Анны Васильевны не оказалось клея. Она в это время рассматривала в журнале какой‑то снимок. Любопытная Симочка заглянула и равнодушно отвернулась: обыкновенный тепловоз.
Но тепловоз оказался не обыкновенным: был он сделан из старого железа, бронзы и меди, которые собрали пионеры.
— Ах вот как! — Симочка придвинула к себе журнал. Но снимок был серый, темный. Попробуй различи, где здесь бронза, где медь. А это интересно: из старого–престарого металла новенькая машина!
— Мы тоже соберем лом на тепловоз, — решительно сказала Симочка. — Очень даже просто.
— Да нет, не так просто, — задумчиво произнесла Анна Васильевна. — Очень много надо лому. Даже дружине одной не справиться.
— А если вся школа? — спросила Таня.
— Тоже трудно.
Анна Васильевна посоветовала показать ребятам настоящий тепловоз, сходить на железную дорогу.
Кроме экскурсии на станцию, было решено провести воскресенье всем вместе. Таня предложила погулять, сходить в кино, почитать интересную книжку. Симочка с сомнением покачала головой: вряд ли все пойдут в кино. Зина, Зоя целыми днями сидят и вышивают. И Кондрат тоже не пойдет, потому что все деньги тратит на марки. А еще он воспитывает собаку Дика. Это огромная собака, и не его, а Ермиловны, соседки. Ермиловна сердится, гонит Лешку со двора, а он все равно приходит.
— Это у Ермиловны Алексей в прошлое воскресенье стекло разбил? — спросила Анна Васильевна.
Симочка кивнула.
— Он Дику кости через забор бросал, а попал в окно.
«Ох, будет мне горя с этим Лешкой!» — тревожно подумала Таня. Вспомнилось ей, как Кондратьев кинул в нее снежком и не смутился, как недавно на утреннике хитрый толстяк Миша незаметно развязал бант в Таниной косе и долго смеялся, довольный, что Таня ничего не замечает. Вряд ли что получится у Тани с этим озорным народом.
Но, взявшись за гуж, не говори, что не дюж! Таня вздохнула украдкой и задумалась, как бы повеселее провести воскресенье. Может быть, собраться у Симочки? У них рояль и большая квартира.
На том и порешили.
На другой день после окончания уроков Таня пришла в 4 «А» проводить свой первый сбор. Симочке понравился белоснежный прозрачный воротничок на Танином коричневом платье. И бант в косе у нее был новый.
«Ишь как нарядилась!» — подумала Симочка и оправила свое форменное платьице.
Пока в классе была Анна Васильевна, все шло хорошо. Правда, Кондратьев бурно выразил свой восторг, узнав, что Таня — их вожатая.
— Сила! — закричал он. — Теперь сборы будут толковые!
Но, заметив строгий взгляд Анны Васильевны, замолчали попытался слушать Танин рассказ о том, чем они будут заниматься на сборах. Скоро, однако, Лешка соскучился. Он осторожно оглядел класс. Учительницы не было. Лешка довольно ухмыльнулся, повертелся на парте, потом перегнулся к Коле Сомову и что‑то зашептал ему на ухо. Оба прыснули в кулаки. «Начинается!» — тревожно подумала Таня и, сдвинув брови, строго посмотрела на мальчиков. Но Кондратьев не унялся, наоборот, встал и направился к парте, за которой сидела Симочка.
— Уматывай, — приказал он, —я с Горевым посижу.
Но Симочка «уматывать» не хотела и велела Лешке сесть на свое место.
— Ага, сейчас! —усмехнулся Кондратьев и протянул руку к ее косе. Но дернуть не удалось — помешал Горев.
Таню перестали слушать, зашумели, засмеялись. Симочка встала и застучала по парте карандашом. Таня замолчала.
Тогда Кондратьев сел на свое мест, посидел со скучающим видом несколько минут и, услышав, что Таня рассказывает про воскресенье, которое проведут всем отрядом у Симки, закричал:
— Я буду танцевать. Пиратский танец…
Он сейчас же показал, как будет танцевать. Тут даже Таня не могла удержаться от смеха, так неуклюже и комично прыгал Кондратьев.
Кто его знает, сколько бы еще танцевал пиратский танец и смешил класс этот озорник Лешка, если бы Миша не подставил ему ногу. Кондратьев споткнулся, упал, но быстро вскочил и кинулся на Мишу. Он яростно тузил его своим обтрепанным портфелем.
— Таня! Ой!.. Уйми Кондрата! — вопил толстяк.
«Драка! — в ужасе подумала Таня. — На сборе — драка!»
— Алексей! — крикнула она. — Кондратьев!
Рассерженный Лешка ничего не слышал. Таня, красная, расстроенная, кинулась разнимать дерущихся, но ее опередили. Федя Горев, сердитый, стоял перед взъерошенным Кондратьевым. ДТиша поднимался с пола, всхлипывал и вытирал слезы кулаком.
— Толковый сбор, нечего сказать, — укоризненно сказал Федя Лешке.
— А при чем я, если толстый ножки ставит? — оправдывался Лешка хмуро. Он мельком, виновато взглянул на Таню и отвернулся. «Эх, ты! —говорили Танины глаза. — Ты действительно скверный мальчишка!»
Скверный мальчишка притих. Сидел и слушал, как Горев что‑то тихо выговаривал ему. Наконец сказал сокрушенно:
— Ну вот! Опять я один виноват.
Но на него уже не обращали внимания. Говорили о сборе старого металла. Опять собирать железный лом? Так уже собирали. Много раз.
— Таня, ты лучше расскажи нам что‑нибудь интересное. Ну, про шпионов хотя бы, — предлагает Коля Сомов.
— Про шпионов потом. Ты тепловозы видел? — неожиданно спрашивает Таня. Коля их видел. Он даже пытался сделать маленький тепловоз из дерева, но у него не получилось. Трудно.
— Ия видел тепловозы! — кричит Миша. — Только на картинке.
— Подумаешь, на картинке! Такие все видели. А вот настоящие бы посмотреть, — говорит Надя.
— Пойдемте, — предлагает Таня, — на железную дорогу.
— Когда? Сейчас? — вскакивает Лешка. — Пошли!
Мальчишки поднялись, уже готовые немедленно отправиться на станцию. Вот здорово! Это интересно.
Они были разочарованы, что экскурсия не состоится сегодня. Очень жаль. Тогда пусть Таня расскажет им про эти машины. Таня забыла неудачное начало сбора. Она сидит за партой, перед ней раскрытый журнал, ребята вокруг. Никто больше не шумит, никто не озорничает.
…Вот они, тепловозы, красивые, огромные, несутся по стальным путям в тайгу, в степь, в пустыню. Ух, как мчатся они! Ведут за собой тепловозы тяжелые длинные составы. Такие не потянет ни один паровоз, даже самый сильный. В пять-шесть раз сильнее их тепловозы. Везут они пассажиров, везут груз на далекий север, на жаркий юг. А на самом красивом из них сверкающая надпись: «Пионерский». Читают люди и радуются: вот так пионеры! Ну и молодцы! Настоящие патриоты!
Решили не откладывать дела в долгий ящик — сейчас же начать собирать лом. Они тоже хотят иметь пионерский тепловоз. Лешка Кондратьев сказал, что надо позвать на помощь дружину имени Александра Матросова. У него там есть знакомый пацан. А дружина эта знаменитая: в прошлом году больше всех в городе собрала железа.
С Лешкиным предложением согласились. Он победно оглядел класс и сунул руки в карманы. Коля Сомов предупредил:
— Смотри, Кондрат, мы будем самыми главными. Чтобы матросовцы потом не обижались!
Лешка сиял. Наконец‑то его не ругают. Наконец‑то. слушают и смотрят с уважением. И на радостях он выпалил:
— Я соберу лому больше всех!
— Где тебе, — пренебрежительно усмехнулась Надя Асафьева. — Болтаешь. В прошлый раз совсем ничего не собрал, звено за тебя собирало. Хвастун! Таня, переведи Кондрата к Сомову. И Горева тоже. Нам их не надо. От них толку мало.
Надя еще не закончила, а Лешка уже был около нее. Таня успела положить руку ему на плечо.
— Я все равно ее стукну! — пообещал Кондратьев и, повернувшись к Гореву, сказал:
— Ты'ее не слушай, Федор. Ты плюнь!
Федя плевать не стал, но долго не поднимал глаз от парты. Какая злая эта Асафьева. С Леной Софроновой они часто смеются над Федей, над цветом его волос. Они называют его Симочкиным хвостиком. Пока он терпит, помнит бабушкин наказ: девочек не обижать. Но... Федино терпение очень скоро может кончиться.
В это время раздался радостный возглас Кондратьева — Таня назначила его ответственным за сбор лома в звене и не стала никуда переводить. Он торжествовал. «Что, Наденька, съела?!» — откровенно говорили Лешкины глаза.
Наденька отвернулась с презрительной гримасой. Лешка тут же и забыл про нее — его единогласно выдвинули делегатом отряда в дружину имени Матросова договариваться о совместном сборе лома для тепловоза. Вот так денек сегодня!
Старое железо теперь казалось всем таким драгоценным, что хранить его на школьном дворе под открытым небом нечего было и думать. Зина предложила складывать у нее в сарае.
Но чем же еще будет заниматься отряд?
— Лобзиком! — кричит Коля.
— Надоело! — протестует Кондратьев. — Лучше рисованием.
— А что для девочек? — спрашивает Зина.
— Для девочек куклы, — предлагает Коля, и все мальчишки хохочут.
Симочка встревожена: почему смеются? Почему вспомнили про куклы? Уж не видел ли кто‑нибудь ее дома с куклой? Но с тех пор как ее избрали председателем совета отряда, она в куклы не играет.
— Нам куклы не нужны, —говорит она, подозрительно поглядывая на мальчишек. — Что мы, маленькие?
Когда Анна Васильевна вошла в класс, Таня, окруженная ребятами, записывала в тетрадь все дела, которыми решили заниматься пионеры. Записаны были экскурсия на железную дорогу, веселое воскресенье у Симочки, чтение и переплетение книг, утренники, прогулки, занятия лобзиком и вышиванием, И каждый день пионеры будут собирать лом — до тех пор, пока не соберут на тепловоз. Свой пионерский тепловоз ребята вручат лучшему машинисту на дороге.
МАКСИМ
Таня идет взволнованная, в расстегнутом пальто.
Ну и Лешка Кондратьев! Ну и буян! Кажется, Симочка права — трудно с ним. А вот Федю Горева, темноглазого мальчугана с каштановыми волнистыми волосами, Таня видит впервые. Хорошие у него глаза — лучистые, серьезные.
«Славный мальчишка», — думает Таня, вспоминая, как он успокаивал Кондратьева, как остановил драку. И вдруг впереди Таня увидела этого самого Горева. Шагает вместе с Си–мочкой не спеша, несет Симочкин портфель и, если встречается лужа, ловко перепрыгивает через нее. Симочка по обыкновению вертелась, подпрыгивала, то и дело тормошила Федю, что‑то рассказывала.
И вспомнился Тане важный Федор из «Голубой чашки» писателя Гайдара. Она улыбнулась, представив себе того хитрого Федора, который ходил без штанов и прятал в капустные грядки чужие пряники. Тот Федор был маленький и белобрысый, а этот — рослый мальчуган с каштановыми волосами. Но все равно они очень похожи друг на друга — оба степенные, серьезные, попусту не улыбнутся, зря слова не скажут. Тане захотелось поближе рассмотреть нового Федора.
— Симочка, подожди! — крикнула она.
Та остановилась, а Федя поспешно скрылся.
— Почему он ушел? — огорченно спрашивает Таня.
— Он смутительный, — авторитетно поясняет Симочка и принимается увлеченно рассказывать про Федю. Она перечисляет все его достоинства, бессовестно преувеличивает его охотничьи удачи. Таня поражена. Симочка, поняв, что переусердствовала, оставляет Федю в покое и рассказывает про его отца, отважного летчика. Потом лукаво смотрит на Таню:
— Если хочешь знать, это Федя Кондрата успокоил. Лешка его слушается, потому что Горев рассказывает ему про охоту и занимается с ним арифметикой. Только никто об этом не знает…
Тут Симочка прикусила язычок — проговорилась. А Феде обещала молчать. Слово дала. Ой, что теперь делать? Таня умеет хранить тайны?
Таня обещала свято хранить тайну.
Неожиданно к ним подбежал Лешка. За собой по лужам и мокрому снегу он волочил старую толстую цепь.
— Таня! — закричал он. — Я уже собираю железный лом. Вот!
Кондратьев показал ржавую цепь, мокрую, грязную. Потом критически взглянул на Симочку и велел ей уйти.
— Иди сам! — обиделась она. — Мы с Таней шли, а ты прилез и командуешь.
Тане Лешка объяснил, что хотел с ней посоветоваться.
— Советуйся, — сказала Таня.
Дело было в том, что на сборе так ничего и не решили относительно рисования. Лешка очень любит рисовать.
Таня задумалась. Потому и не решили на сборе, что она не знает, как быть с рисованием. Сама она совсем не умеет рисовать. Можно бы попросить Максима, брата Симочки — всем известно, что он будущий художник, — но у него тяжелый характер. Таня хорошо это знает — учится с ним в одном классе. Они почти не разговаривают. Правда, может быть, это из-за алгебры…
По алгебре у Максима была тройка, очень нетвердая, и учительница велела Тане заниматься с Максимом алгеброй. Таня подошла к нему на перемене договориться о занятиях, но Максим отвернулся и пробормотал:
— Еще чего! Я сам…
И ушел от Тани.
Она разобиделась, перестала с ним здороваться. А он мало печалился от этого и совсем не замечал Таню.
Перед Новым годом Максим с учителем рисования украшали школьный актовый зал. Они развешивали по стенам нарисованных на ватмане большеглазых нарядных зайцев, лисиц в пестрых сарафанах, добродушных новогодних медведей и прочих лесных жителей. Таня зачем‑то вбежала в зал и остановилась очарованная. Чудесно пахло лесом от огромной темно–зеленой елки, от кучи хвойных веток на полу. И Тане показалось, что попала она в сказку… За елкой стоял расписной теремок. Она шутя постучалась в окошко:
— Терем–теремок, кто в тереме живет?
— Я живу, — неожиданно вышел из теремка Максим. Был он весь измазан краской и клеем.
— Это ты сделал? — спросила Таня восхищенно и почему-то засмеялась. Он кивнул, сказал, что еще не закончил и не посоветует ли она, какой краской покрасить крышу терема.
Крышу они докрасили вместе ярко–красной краской. Потом Максим показал Тане незаконченные рисунки. Был тут и малыш Новый год, был престарелый Дед–Мороз, был Иван–царевич. Рисунки Тане очень понравились. Максим настоящий художник! Ей не хотелось уходить, но в классе ее ждали. Вместе они дошли до дверей. Уже взявшись за дверную ручку, Таня спросила:
— Максим, почему ты не захотел заниматься со мной алгеброй?
Она смотрела на него доверчиво, говорила искренне, но Максим нахмурился и сказал уже знакомое:
— Я сам…
И отошел. На Таню он больше не обращал внимания. Она постояла в недоумении и вышла.
Все шло по–прежнему, В классе Таня и Максим не разговаривали, встречаясь утром, еле кивали друг другу. Но когда на алгебре его вызывали к доске, Таня волновалась. Максим отвечал медленно. За это ему снижали оценку. Таня огорчалась больше самого Максима.
Сейчас Таня стояла и думала: идти к Максиму или нет? Лешка ждал.
— Алексей, —сказала Таня, — пойдем вместе, а?
Алексей моргнул и сказал, что пусть лучше Таня идет одна, он ее подождет. Лешка хорошо знаком с Максимом!
Совсем недавно в 4 «А» выпускали стенгазету. После долгих уговоров и пререканий с Симочкой Максим согласился помочь. Он очинил цветные карандаши и начал ими рисовать, но Симочка все ходила вокруг него и жалобно просила, чтобы красками. Она специально для газеты купила замечательные краски в тюбиках. Максим ее не слушал. Симочка залилась горькими слезами. Брат не обращал на нее внимания и, конечно, сделал бы по–своему, но пришла мать. Опа‑то сразу заметила слезы дочки и велела сыну красить красками.
— Ладно, — буркнул Максим, — пусть красками. Но больше меня не просите. Больше не буду!
В это самое время явился помогать Максиму Лешка Кондратьев. Максим был сердит и заставил Лешку мыть кисточки и менять в блюдечках воду. Кондрату это не понравилось. Он сказал, что хочет рисовать, а не заниматься всякой чепухой.
— Делай, что велят, — прикрикнул Максим.
— Хоть одну букву дай покрасить, — клянчил Лешка.
Максим не удостоил его ответом. Тогда Кондратьев самовольно взял карандаш и начал рисовать Кремль.
— У вас в отряде все такие неслухи? — спросил Максим.
— Нет, — вздохнул Лешка, — половина тихих.
Максим улыбнулся, сказал, что Лешка за словом в карман не лезет, и взял в руки резинку. Симочка и Кондратьев затаили дыхание: неужели сотрет такой красивый Кремль?
Но Максим стирать его не стал, только подправил и велел Лешке раскрашивать.
Газета получилась великолепная. Симочка бурно радовалась.
— Так запомни, — повторил Максим, вытирая руки, — запомни: больше не проси. Больше рисовать не буду.
Лешка это запомнил и идти к строптивому Максиму отказался. Даже Симочка сомневалась в успехе. И, пожалуй, не зря: Максим и головы не поднял от книги, когда девочки вошли в комнату.
— Встань и поздоровайся с Таней, — приказала Симочка.
Максим встал, кивнул и снова уткнулся в книгу. Таня тоже кивнула и принялась пристально рассматривать рисунки, которыми была увешана вся стена над столом Максима. Симочка фыркнула: нашла время любоваться Максимкиными художествами!
Все молчали, но Симочка долго молчать не любила. Она решительно спросила, будет ли Таня разговаривать с Максимом.
— Буду… буду. Подожди.
Но Симочка ждать не хотела. Она взяла Таню за руку и подвела к брату:
— Разговаривайте! — приказала она. — Лешка ждет.
Максиму и Тане вдруг стало очень смешно. Они так весело смеялись, что не удержалась и Симочка, хотя смеяться‑то было не над чем.
Наконец Таня рассказала Максиму про рисование. Он задумался, молчит. Очень плохой у него характер, даже мама говорит, что он трудный человек.
И вот трудный человек неожиданно поворачивается к сестре:
— Слушай, председатель совета отряда, поклянись, что не полезешь в это дело!
Синие глаза председателя обиженно суживаются. А когда она лезла не в свое дело? У нее и без того нет времени, у нее…
— Знаем, знаем и тебя и твои дела, — перебивает Максим. —Таня, если Симка не будет командовать, то уж так и быть…
Симочка пожимает плечами. Пожалуйста, она больше не будет с братом даже разговаривать!
— Вот и хорошо, — улыбается Максим и с книжкой уходит из комнаты. Таня не успела его и поблагодарить.
— Не обращай на него внимания, — утешает ее Симочка. — Он у нас невоспитанный, — грустно вздыхает она.
ЭКСКУРСИЯ
— Вот это тепловозик! Скажи, Федя?
Восхищенными круглыми глазами Лешка взглянул на Федора. Тот оторвался от книги, мечтательно кивнул. Тепловоз действительно был великолепным. Несколько минут Федя вспоминал сегодняшнюю экскурсию на железную дорогу. Но сумерки за окнами стали густо–лиловыми, а к занятиям друзья только–только приступили. Федя встревожился: успеют ли они с Лешкой сегодня выучить все уроки? Он дал слово отцу, улетевшему на несколько дней, честно выполнять все задания.
— Пиши, — бросил он Кондратьеву и сам склонился над тетрадкой.
Но Лешка писать не мог. Как можно заниматься какими‑то упражнениями по грамматике, когда два часа назад он собственными глазами видел настоящий тепловоз! Он трогал всякие сложные приборы и рукоятки из меди, бронзы и никеля, с помощью которых управляется тепловоз, смотрел в широкое зеркальное окно кабины машиниста. Как хорошо все видно вокруг! Лешка приподнялся на носках и на минуту представил себя настоящим бывалым машинистом. Рука его твердо держит рукоять управления, его зоркие глаза впились в бесконечную даль…
«Вперед, водитель тепловоза Алексей Кондратьев! Вперед, путь открыт!»
И Алексей Кондратьев совсем позабыл, что он не машинист, а только четвероклассник Лешка. Он повернул ручку, и...
— Стоп, малыш! Отчаливай‑ка от управления! — строго сказал машинист товарищ Железнов. — Бедовый ты парнишка, — добавил он уже помягче.
Лешка отчалил, но обиделся на машиниста. «Малыш»! Какой он малыш, когда ему ровно одиннадцать с половиной лет! Он хотел сейчас же сообщить об этом товарищу Железнову, но его уже плотным кольцом окружили девчонки и благоговейно слушали, как надо управлять тепловозом. Лешке стало досадно, что машинист теряет время на девчонок. Что они там понимают?
Федя в это время пристально разглядывал приборы в сверкающих оправах и решал важный вопрос: что лучше — самолет, на котором летает его отец, или тепловоз?
Лешка тихонько ткнул Федю кулаком в бок.
— Видал? Я же говорил…
Собственно, он ничего определенного о тепловозах не говорил, потому что до последнего часа имел о них довольно смутное представление. Поэтому он закончил так:
— Я же говорил, что соберу для тепловоза лому больше всех! И бронзы тоже, и меди…
Федя, так и не решив, которая из двух машин лучше, сразу спросил:
— А где ты возьмешь медь и бронзу?
Федя не знал, где в этом городе можно найти лом.
Лешка, не задумываясь, ответил, что найдет хоть под землей, хоть на луне.
— Леш, — тихонько попросил Федя, — давай вместе собирать, а?
— Идет, — немедленно согласился Кондратьев. — Но ты и сам присматривайся, не зевай.
Тут Таня велела всем собираться домой, и Лешке так и не удалось поговорить с товарищем Железновым. Прямо с железной дороги Лешка хотел отправиться в дружину имени Матросова. Раз решили, нечего откладывать! Надо быстро собирать лом и получать тепловозы. Лешкино воображение уже рисовало тот желанный час, когда их отряд будет вручать железнодорожникам сверкающий новенький тепловоз. Впереди всех будет стоять Лешка. Именно ему пожмет руку этот самый товарищ Железнов, который сегодня так неудачно назвал Кондратьева малышом. Вдруг у Лешки мелькнула тревожная мысль: как быть с двойками, которых у него на сегодняшний день две — по арифметике и по истории? Не помешают ли они в деле с тепловозами? Но тут он вспомнил про Федора и успокоился. С Горевым не пропадешь, он обязательно поможет. Очень хорошо, что Федя приехал со своего Севера.
Однако ехать Кондратьеву куда бы то ни было, кроме дома, Таня не разрешила. Лешка напомнил ей, что он ответственный по сбору металла, но и это не помогло. Тогда он попробовал улизнуть, но Таня, оказывается, не спускала с него глаз и в конце концов взяла за руку, как маленького.
Пришлось идти домой, пообедать и затем пойти заниматься к Феде. Они сразу же горячо заговорили о приборах, виденных на тепловозе, поспорили о качестве бронзы, наконец Лешка под строжайшим секретом сообщил, что окончательно и бесповоротно решил стать машинистом. Федя в свою очередь поведал приятелю свои сомнения: что зсе‑таки лучше — самолет или тепловоз? На этот вопрос даже такой бывалый парень, как Лешка, затруднился дать точный ответ. И так как Николай Егорович был в полете, вопрос остался нерешенным. Скоро к друзьям подошла Тамара Аркадьевна и спросила, занимаются ли они или просто разговаривают.
— Занимаемся, — ответил Лешка и сообщил солидно: — Знаете, я ведь ответственный по лому!
Она скептически посмотрела па ответственного и велела учить уроки, а не болтать.
Лешка придвинулся поближе к Феде и стал переписывать упражнение по грамматике из его тетради в свою. Он очень старался, но все равно делал ошибки почти в каждой строчке.
— Хоть бы списывал правильно, — упрекнул Федя.
Тогда Лешка сложил свои тетрадки и решил пойти домой.
С грамматикой ничего не получается. Лучше уж он пойдет и поищет что‑нибудь для тепловоза. А задачи он завтра в школе у Феди перепишет.
— Ты допереписываешься, — проворчал Федя. Но Лешка сказал, что это в последний раз, что у Федора очень‑то не спишешь— сам же заставляет Лешку думать, думать… Но, так и быть, он теперь начнет думать и попытается решать задачи самостоятельно, но только с завтрашнего дня.
На другой день Кондратьев изнывал и томился — так медленно тянулись для него уроки. Уже весь отряд знал, что сразу после занятий он идет в дружину имени Александра Матросова. Да что там отряд! Знали об этом чрезвычайном событии и в 4 «Б», и в пятых, и в шестых классах. Короче говоря, знала вся дружина. Каждую перемену Лешка стоял окруженный ребятами и репетировал речь у матросовцев. Речь будет краткой и горячей. Девочки поглядывали на Кондратьева с уважением и советовали ему причесаться и вынуть руки из карманов мятых брюк. Симочка строго потребовала, чтобы Лешка выгладил галстук, потому что он опять носил его в кармане и галстук измялся. Но Кондратьев категорически отказался — ни о каком глаженье не может быть и речи, так как домой он заходить не собирается, и вообще пусть Симка от него отстанет и не портит настроение. В плохом настроении хорошей речи не скажешь. Симочка молча надела ему на шею свой галстук.
Когда закончились уроки, появилась Таня и заявила, что поедет с Кондратьевым — дело уж очень ответственное.
Лешка надулся, хотел плюнуть, но вспомнил, что в классе Анна Васильевна, и сдержался. Но от Тани отвернулся и сердито засопел.
Таня наклонилась к самому уху Лешки и зашептала:
— Леша, ты не обижайся. Ты все равно будешь самым главным. Я‑то просто так… для важности. Понимаешь?
Кондратьев не понимал. Надутый, как пузырь, он грозно морщил нос и кривил губы в пренебрежительной улыбке. Но Таня все шептала, поправляла Лешке воротничок, очищала мел с рукава его рубашки. Наконец Кондратьев не выдержал, улыбнулся, согласился и предложил взять с собой и Федора.
Надя Асафьева, которая почему‑то оказалась рядом, протянула:
— Ну уж нашел кого! Таня, возьмите лучше меня.
Но Лешка о Наде не хотел и слышать. Тогда он не поедет. Пусть едет одна Асафьева. Но только у нее ничего не получится, потому что только у Лешки есть в матросовской дружине знакомый парнишка.
Таня кое‑как успокоила Кондратьева и охотно согласилась взять с собой Федю.
Наконец послы отправились. Симочка их проводила, успев шепнуть Феде, чтобы он зашел к ней и все рассказал.
Пришла она домой задумчивая, села за стол, придвинула к себе небольшие настольные часы и стала ждать.
— Еще чего придумала? — осведомился брат.
— Жду, — коротко бросила Симочка.
— Кого?
— Федора.
— Кажется, ты, кроме Федора, уже никого не видишь!
— Всех вижу, — сердито возразила Симочка. — И тебя тоже.
— Очень рад, — ехидно усмехнулся Максим и ушел к себе.
Симочка еще повозилась с часами, походила по комнатам. Мамы не было дома, Симочка быстро соскучилась. Вдруг она подумала: не поискать ли в чулане старых железок? С осени она туда не заглядывала, и, наверно, там скопилось немало всякого добра. Она повеселела и немедленно отправилась к чулану, захватив с собой коробок со спичками — электричества там не было. Симочка бойко открыла дверь и… задержалась на пороге — что‑то очень темно. Она зажгла спичку. Из темноты показалась полка с керосиновой лампой, хранящейся на всякий случай, старые заржавленные коньки–снегурки, доставшиеся Симочке по наследству от Максима, и кипа прошлогодних газет.
Спичка погасла. Непроглядная тьма снова воцарилась в чулане. И Симочке вспомнилась мрачная пещера, в которой заблудились Том Сойер и Бекки. Несколько секунд она простояла в задумчивости, вспоминая это страшное приключение. Но так как конец был благополучным, она облегченно вздохнула и снова зажгла спичку. Она внимательно всматривалась в слабо освещенные дальние углы чулана. Ей не грозило заблудиться. Единственной опасностью для Симочки были мыши. Кроме брата и мамы, никто не знал, что она очень боится мышей. Всяких — и серых, и темных. Правда, в чулане уже давно никто не скребется и не шуршит старыми газетами. Симочка иногда подолгу стоит у дверей и прислушивается. Тишина… Наверно, в чулане уже и нет никаких мышей. А может, и есть. Мыши ведь очень хитрые. Они всегда замирают, когда слышат шорох. Они, конечно, думают, что это кот.
Симочка постояла и, набравшись мужества, сделала шаг вперед, держа горящую спичку в вытянутой руке. Тихо. Она шагнула еще, еще… Что‑то треснуло под ее ногой. Она выронила спичку и опрометью кинулась из чулана, споткнулась о порог, упала и заревела на весь дом. Прибежал встревоженный Максим, помог сестре подняться. Узнав, в чем дело, он прислонился к стенке и захохотал так, что слезы навернулись ему на глаза. Смущенная Симочка стояла рядом, вытирала передником мокрые щеки и нос и бормотала, что, кажется, видела в чулане крысу, большую, кусачую… Она жалобно посмотрела на брата и попросила его пойти с ней в чулан и поискать железных вещей. Максим наотрез отказался. Чего ради он будет пачкаться в пыли?
Он ушел, Симочка постояла, повздыхала и отправилась В кухню.
Скоро явился Федя. Симочка обрадовалась ему и велела немедленно все рассказывать по порядку. Федя начал рассказывать, но она ежесекундно его перебивала—бурно выражала то восторг, то возмущение. Тогда Федя неодобрительно посмотрел на нее и замолчал. Она поняла его взгляд, притихла. Федя медлил, и Симочка попросила вкрадчиво:
— Ну же, Федя… Я ведь молчу.
Оказалось, что Кондратьев едва не подрался со своим знакомым матросовцем. Пионеры встретили послов приветливо, внимательно выслушали Лешку и согласились без проволочек помочь отряду собирать железо, медь и даже бронзу. Но при условии, что их тоже возьмут на торжественную передачу тепловоза железнодорожникам. Матросовцы тоже хотят пожать руку машинисту тепловоза товарищу Железнову, о котором Кондрат успел много наговорить. Услышав такое требование, Лешка закричал:
— Ага! Привет! Это наш отряд придумал. Мы — самые главные!
— Ну и идите, собирайте одни, главные! — сказал Лешке знакомый пацан.
— Соберем, раз вы такие, — горячился Лешка. — Подумаешь!
Матросовцы зашумели, заволновались. Кондратьев раскричался, сказал, что матросовцы выскочки и несознательные. Тогда их председатель дружины сделал Лешке замечание. Таня потянула Лешку от ствола, он упирался. Тогда она что‑то тихо ему сказала, взяла за руку и увела в сторону, а Феде велела поговорить с ребятами по–хорошему. Федя растерялся. Тут растеряешься, когда вот так, с бухты барахты заставляют выступать перед целой дружиной, да еще чужой! Федя ждал, что Таня поможет ему хоть начать, но Таня отчитывала Лешку в дальнем углу. Тот стоял злой, красный, с опущенной головой и что‑то ворчал. Подошел Лешкин знакомец и тоже стал выговаривать Кондрату. Незаметно от Тани Лешка показал приятелю кулак.
А Федя все еще топтался у стола. Матросовцы посмеивались, глядя на него, шептались. Наконец председатель дружины спросил Горева, долго ли он будет молчать и топтаться. Матросовцы дружно рассмеялись. Федя обиделся и сказал, что смеяться нечего. Пусть лучше они сами сходят и посмотрят тепловоз. Он такой красивый, что Федя до сих пор не решил, что лучше — тепловоз пли самолет. А на самолете летает Федин папа. В войну он защищал от фашистов Ленинград.
Матросовцы перестали смеяться, прислушались. Кто‑то спросил, много ли орденов у Фединого папы, кто‑то сказал, что самолет все же лучше тепловоза — в воздухе интереснее. Федя ответил, что посоветуется с папой, когда тот вернется из полета. Потом он сообщил, что в этом городе живет недавно и поэтому не знает, где собирать лом. У себя на Севере он бы нашел старого железа сколько хочешь, хоть целую гору.
— Заливаешь! — уверенно перебил Федю Лешкин знакомый. Матросовцы с ним согласились. Но вот Федя объяснил, что в далекой Карелии за Дивьей горой сохранился с военных времен старый блиндаж. Порос он кустарником и мхом, черничными и брусничными кустами, наполовину развалился, но в мрачной его глубине много валяется всякого добра: железных ржавых касок, цепей, есть части от разбившихся в тайге вражеских самолетов и танков. Короче говоря, завален весь блиндаж. Одна беда — добираться туда трудно. Летом лежат на пути лесные болота, а зимой засыпают тайгу глубокие снега.
Матросовцы слушали Федю внимательно, смотрели на него с уважением, а Федя готов был хоть весь день рассказывать про свой любимый Север. В конце концов к Гореву подошел Лешкин знакомый и заявил, что так и быть, матросовцы помогут Фединой дружине собрать лом и пусть они сами вручают свой тепловоз. Но когда вручат, то должны помочь дружине Матросова собрать металл для нового тепловоза.
— Только по–честному! — предупредил Лешкин приятель. — А то я Кондрата знаю!
Хозяева любезно проводили послов до дверей, потом до ворот, договорились о встрече, дружелюбно распрощались и разошлись.
Когда отошли от школы на почтительное расстояние, Таня повернулась к Кондратьеву, необычно молчаливому и тихому. Видимо, он все еще переживал свое неудачное выступление в матросовской дружине. Таня подняла его опущенную голову и сказала, смеясь:
— Ты не Лешка, а Буян Буянович! Хорошо, что мы с тобой поехали.
Тот в ответ только дернул носом…
Симочке такие новости показались совсем хорошими. Она сказала, что Федя молодец, и повела его к чулану, сообщив, что здесь есть кое‑что для тепловоза, затем сунула ему в руки коробок со спичками и остановилась в нескольких шагах от чулана.
— Федя, ты не боишься?
Федя, конечно, не боялся. Он смело шагнул в чуланную тьму и только там зажег спичку.
— Федя! — голос Симочки звучит виновато и тревожно, — А может, там мыши, Федечка?
Но храбрый Федя не боялся и мышей.
— Слушай, — сказал он из самой глубины чулана, — слушай, тут чайник. Серебряный, что ли…
Симочка стала объяснять ему, что чайник не серебряный, а никелированный и что мама, наверно, разрешит его взять. Но Федя ее перебил, радостно сообщив о новой находке, — большом медном умывальнике. Потом он нашел железную банку из‑под джема и еще потемневшие вилки.
Симочка, стоя у двери, настороженно прислушивалась к каждому звуку в чулане, подозрительно всматривалась в темноту, освещенную слабым спичечным огоньком, и готова была каждое мгновение задать стрекоча.
Федино исследование чулана закончилось благополучно. Мыши, если они и были, сидели тихо. Они, наверно, испугались шума и дребезжания, с каким Федя волочил по иолу находки. Довольная Симочка сейчас же великодушно предложила Феде половину всего добра. Но он… он отказался! Хотя в глубине души все больше и больше тревожился, где ему искать старое железо.
Вечером честно, как обещал отцу, Федя выполнил все уроки, потом сел писать письмо на далекий Север. Он подробно описал экскурсию на железную дорогу и сообщил, что их отряд решил собирать лом на тепловоз.
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛОМ И АРИФМЕТИКА
Тамара Аркадьевна сидела с книжкой на диване. Федя два раза прошел мимо. Она его не замечала. Он присел на стул у дивана и стал ждать, не оторвется ли она от книжки — ему надо было поговорить с Тамарой Аркадьевной.
Он один из всего звена не принес в Зинин сарай ни одной железки, ни одного гвоздика. Надя Асафьевна открыто смеется над ним. И Федя решился — пошел в кладовку Тамары Аркадьевны. Он нашел таз и медную кастрюлю. Были они еще целые, но явно старые. Если добавить к ним моток заржавленной проволоки, которую Федя нашел во дворе, будет неплохо. Он сказал об этом Лешке.
— Чего же ты ждешь? Бери кастрюльку и тащи к Зинке, а то твоя Тамара Аркадьевна куда‑нибудь ее денет, — посоветовал Лешка. Но Федя сказал, что подождет отца.
— Ну, как хочешь! — досадливо махнул рукой Лешка. — Я вот сегодня в сарай такое приволоку! Приходи смотреть.
Идти смотреть с пустыми руками неприятно, и Федя решил поговорить с Тамарой Аркадьевной. Он сидел и думал, с чего начать разговор. Не рассказать ли про тепловоз? Но Лешка уже пытался однажды, она и слушать не захотела — она машин не любит. Может быть, про Север? Но она всегда вздыхает, когда он рассказывает ей про Карелию.
— Какой суровый край! Тяжело там жить людям.
Федя горячо протестовал. У них богатый колхоз, рыбаки вылавливают много рыбы — сига, лососей. А лес какой! На Дивьей горе сосны в небо упираются. Говорят, что у Черного озера так же красиво, как в Швейцарии.
Он как‑то принес ей бабушкины письма и прочел, как прошел в сельском клубе смотр самодеятельности, на котором Иванка лучше всех сыграл на баяне старинный северный вальс. Федя тоже играет на баяне, но до Иванки ему далеко. А в школе ребята поставили спектакль про Незнайку. Очень интересно! Потом он рассказал Тамаре Аркадьевне про старого Тойво. Он лучше всех в округе делает лыжи и финские сани. Недавно колхозники наградили Тойво новым охотничьим ружьем за то, что он поймал большую росомаху.
У Феди горели глаза, но Тамара Аркадьевна оставалась равнодушной. Она никак не могла понять прелести густых, непроходимых лесов, красоты скал, поросших мхом и лишайником, ясной тишины белых ночей. Что хорошего в маленьком деревянном сельце, раскинувшемся на берегу Онежского озера? Почему Федя так любит его?
Федя задумался. Наверно, потому, что живут там бабушка и Тойво, Арсений и Иванка. Потому, что стоит там уютная бревенчатая школа, где так хорошо, так радостно было Феде. И еще потому, что плещется у села светлое Онежское озеро, по которому летом весело кататься на лодке, а зимой на лыжах.
Тамара Аркадьевна в сомнении качала головой. Глухо там. Тоскливо. Ну, еще летом, может быть, ничего. Можно побродить по лесу, но зимой… Нет, она бы не могла там жить. Федя рад, — что приехал к ним?
Да, ему нравится здесь, но на Севере лучше.
В конце концов Федя перестал рассказывать ей про бабушку и Тойво, перестал показывать письма с Севера. И про школу говорить Федя опасался: Тамара Аркадьевна не любила Лешку Кондратьева и запрещала Феде дружить с ним.
— Что ты здесь сидишь? — удивилась она, заметив Федю.
Он сбивчиво начал объяснять про железный лом и кастрюлю, которая в кладовке.
— Ой! — воскликнула она. — Ты, конечно, опрокинул банки с вареньем! — И побежала в кладовку.
Банки, к счастью, оказались целы. Но кастрюльку и таз она не дала.
— Вы бы учились лучше, — недовольно сказала она, — О ломе больше, чем об учебе, думаете. Кондратьев — ответственный, а без двоек не живет.
Федя хотел возразить: у Лешки на этой неделе двоек не было, но передумал — ее все равно не убедишь.
Расстроенный неудачным разговором с Тамарой Аркадьевной, он вышел во двор. Постоял, подумал: с чем же идти к Зине? Потом вытащил из‑под крыльца моток проволоки и медленно побрел.
— Это ты столько принес? Так мало?! — воскликнула Зина.
Федя только вздохнул. Подошел Миша. Взвесил в руке моток, пренебрежительно сказал:
— Хо, совсем легкий!
В ворота сильно постучали, и громкий голос Лешки Кондратьева прокричал:
— Эй, Зина–корзина! Открывай ворота!
Зина ворота открыла, но Лешке сказала недовольно:
— Подумаешь… Лешка–картошка!
Кондратьев не обратил никакого внимания на Зинины слова. Он хлопотливо вкатил в ворота тачку, прикрытую мешком.
— Ого, сколько привез! —Миша ревниво оглядел тачку. — Что это у тебя, Кондрат?
Лешкины щеки горели ярким румянцем, глаза радостно сияли.
— Задний мост, вот что!
— Ты что‑то опять врешь, — недоверчиво сказала Надя. — Задних мостов не бывает.
Лешка не удостоил ее ответом, только взглянул с сожалением.
— Горев! — закричал он. — Давай помогай! Ух, и тяжелый мостище!
Лешка заставил мальчишек тащить поклажу в сарай. Он оживленно рассказывал, что мост ему дал знакомый шофер, хороший человек. Миша сейчас же спросил, нет ли у этого человека еще какого‑нибудь моста. Лешка уверял, что нет, но Миша выпросил адрес и сейчас же ушел.
— Побежал передний мост искать, — засмеялась Зина.
Она была довольна Лешкой: каждый день приносит лом.
Их звено собрало больше всех. Она миролюбиво посмотрела на Кондратьева и в знак расположения предложила ему книжку — почитать.
Тот мимоходом спросил, о ком книжка. Ах, про девочек! Нет, таких он не читает. Девчонки ему и в школе надоели.
Лешка занялся своим мостом и забыл про Зину. А у нее от обиды дрожали губы. Феде стало жаль ее, и он сказал, что книжка «Девочка из города» — интересная, они с бабушкой читали.
— Тут лома мало, а они про книжки, — недовольно заворчал Лешка. — Вот собралось звено — девчонки одни! Только на сборах умеют кричать.
— Иди и собирай, если мало, — сказала Надя.
Кондратьев рассердился и пошел со двора. Девчонки еще будут им командовать! Пусть попробуют без него.
Лешка шел мрачнее тучи. Старается человек для звена, для тепловоза, а его никто не ценит. Так старается, что даже задачи не успевает решать.
Лешка искоса посмотрел на шагавшего рядом Федю и предложил пойти решать задачу вместе. Но Федю ждала Тамара Аркадьевна, и пришлось Лешке решать одному.
Он долго морщил лоб, хмурил брови, сопел, а толку не было. Сеет колхоз свеклу, сажает картофель и капусту. Ну и сажал бы всего поровну. Так нет, понадобилось картофеля в два раза больше, чем свеклы, а капусты в три раза меньше, чем картофеля.
— Поехали с орехами! — расстроенно проворчал Лешка. — Больше, меньше…
Долго думал он над задачей, даже спать захотелось, а придумать так ничего и не придумал. И лежит перед Лешкой чистая тетрадка, и никто тому Лешке не поверит, что он битый час мучился с колхозными овощами и колхозной землей.
Рассердился Лешка: хватит мучиться! Он быстро разделил всю колхозную землю на три равные части — пусть всего будет поровну: и свеклы, и картофеля, и капусты. Так и решил задачу одним действием.
Под вечер пришел Федя, заглянул в Лешкину тетрадь и поразился: вместо десяти частей — три, вместо пяти действий — одно.
-— Все перепутал! — огорчился Федя. — Эх, Лешка!
Он сел и стал объяснять Кондратьеву задачу. Объяснял до тех пор, пока тот наконец ее понял и решил сам.
Лешка долго любовался ответом, который был точь–в-точь таким же, как в задачнике. Настроение у него было превосходным. Засунув руки в карманы, он походил по комнате, очень довольный собой и Федей, потом многозначительно взглянул на него и под строжайшим секретом сообщил, что знает местечко, где целая гора всякого лома. И что самое главное —есть медь и даже бронза. Если Федя хочет, он может сейчас же показать это место. Федя, разумеется, хотел.
КОМАР
Приятели перелезли через высокий забор и спрыгнули на грязный двор. Тотчас с громким лаем кинулся к ним лохматый пес. Федя предусмотрительно задержался у забора, а Лешка бесстрашно шагнул навстречу псу.
— Дик, Дикарище! Ты чего, не узнал?
Лешка говорил тихо, настороженно оглядывался. Собака лаять перестала, завиляла хвостом. Кондратьев положил руку на свирепую собачью морду, ласково потрепал.
— Вон сарайчик кривой, видишь? — обратился Лешка к Феде. — Шагай туда, а я Дика пока привяжу.
Федя с уважением посмотрел на Лешку: до чего храбрый!
На двери покосившегося темного строения висел огромный поржавевший замок. Подошел Лешка, шепотом поведал Феде, что в этом сарае, который принадлежит старой Ермиловне, полно всякого железа. Есть здесь и позеленевший помятый самовар, есть медные спинки от старинных кроватей, такие тяжелые, что едва поднимаешь, бронзовые подсвечники и керосиновые медные лампы. А тазов и кастрюль не счесть. Потом Лешка повел Федю к задней стене сарая, отодвинул трухлявую доску и предложил посмотреть.
— Видишь? — неторопливо спрашивал Кондратьев. — Видишь?
Федор ничего не видел.
— Темнота одна, — бормотал он. — Ага, что‑то вижу… Бревна, что ли…
— Да ты в другую сторону смотри, вот дурной! — кипятился Лешка.
Федор посмотрел в другую сторону, да задел отодвинутую доску, она упала и больно ударила его по носу.
— Смотри сам, — с досадой сказал Федя и отошел от сарая. И чего смотреть без толку? Надо пойти спросить у Ермиловны разрешения и забрать все добро.
— Так она тебе и даст, жди! — ехидно бросил Лешка. — Ермиловна — зловредная, даром старого гвоздя не дает. Без Комара не обойтись.
Оказалось, что Комар — бывалый парень и знает подход к Ермиловне. Жил он по соседству. К входной двери его дома жеваным хлебом была приклеена бумажка:
«Меняю старые монеты и марки. Спросить Комара».
Комар вышел на Лешкин свист, ведя на веревке маленького пушистого щенка. Свободной рукой Комар придерживал сползавшие штаны. Кондратьев впился в щенка загоревшимися глазами. Он сразу позабыл и про железный лом, и про Федора.
— Комар, где ты взял собаку?!
— Выменял!
Комар с нескрываемой гордостью оглядел свое сокровище.
— Чистокровная овчарка! — сообщил он.
Лешка жестоко завидовал Комару. Он протянул руку, погладил мягкую спину щенка, потрепал его за уши.
— Комар! — неожиданно воскликнул Лешка. — Ты влип!
Огромные черные глаза Комара тревожно взглянули на Лешку.
— Это не овчарка, — торжественно объявил Кондратьев, — это переродок.
Потрясенный Комар бессильно опустился на ступеньку. Несколько секунд он растерянно переводил глаза с Лешки на щенка и обратно. Наконец пришел в себя, вскочил, решительно подтянул штаны и шагнул к Кондратьеву.
— Что ты врешь! — закричал он возмущенно. — Что ты все врешь! Не видишь, что ли, какой хвост?
— А что твой хвост, когда уши главнее! Ишь, болтаются, как тряпки.
Комар стремительно наклонился к щенку, схватил его и дернул за уши. Собачонка жалобно завыла. Комар поднялся.
— Иди отсюда! — грозно сказал он Лешке. Его губы дрожали от негодования. Он вплотную придвинулся к Лешке.
— Иди, говорю, гуляй! — выразительно повторил он.
-— А, что с тобой связываться! — не очень уверенно сказал Лешка. — Уйду. Только ты сначала монеты отдай.
— А ты их на марки променял или нет? —-возмутился Комар.
— Марки твои дрянь, забирай обратно.
Терпение Комара лопнуло. Он спустил щенка на землю и заорал:
— Сигнал, взять его!
Щенок трусливо прижал уши, перевернулся на спину и поднял все четыре лапы. Сигнал сдавался без боя!
Убитый собачьей глупостью, Комар потерял всю воинственность. Федор, смеясь, наклонился к Сигналу и потрепал его пушистую мордочку.
— Ты, наверно, медвежонок, а не овчаренок, — приговаривал Федя, лаская щенка.
— Слушай, — встрепенулся Комар, — может, он медвежьей породы?
— Сам ты медвежьей породы! — расхохотался в лицо Комару Лешка. И Федя смеялся от души, глядя на маленького, худощавого, расстроенного Комара. А тот, оскорбленный, засунул щенка под мышку и пошел прочь. И тут Лешка вспомнил, зачем они пришли к Комару. Он догнал незадачливого хозяина Сигнала, как ни в чем не бывало дружески хлопнул его по плечу и изложил суть дела.
— Ничего не выйдет, — пренебрежительно ответил Комар. — Ермиловна уже и котят не берет, полную хату их развела.
Но Лешка горячо просил Комара отвести Федю к старой Ермиловне и помочь ему войти к ней в доверие. Комар слушал молча, почесывая у щенка за ушами, потом у себя в носу… И тут Федю осенило: он предложил Комару в благодарность за знакомство с Ермиловной выучить Сигнала охотничьему делу.
Заряд попал в цель. Комар сразу согласился, но затем с недоверием посмотрел на Федю и спросил:
— А сам‑то ты понимаешь что‑нибудь в охоте?
— Да он же с Севера приехал, — сказал Лешка, с сожалением глядя на Комара. — Он же там всех лисиц перестрелял!
Федя смущенно дернул Лешку за руку. Но тот только отмахнулся и продолжал нести про друга такие небылицы, что у Феди загорелись щеки. Зато грозный хозяин Сигнала поглядел на Федю с явным уважением.
— Кондрат, — спросил он очень серьезно, — а почему Горев рыжий?
— Сам ты рыжий! — сердито оборвал Лешка. — Не видишь, что ли, Федя — каштановый. Поди хоть Симку спроси.
Спрашивать Симку Комар не пошел — поверил так. Он поручил щенка Лешке и предложил Феде сейчас же идти к Ермиловне. Но тут же, сурово глядя на обоих друзей, предупредил, чтобы не жулили, а не то… И Комар показал маленький грязный кулак.
ССОРА С ЛЕШКОЙ
Комар осторожно постучал в низкую темную дверь и тонким голосом спросил:
— Можно?
Дверь открыла сгорбленная седая старуха.
— Чего тебе? — недовольно спросила она Комара. — Сказано было: больше ничего не дам. Кого это ты привел?
Старуха недружелюбно оглядела Федю маленькими бесцветными глазками.
— Бабушка Ермиловна, — вкрадчиво заговорил Комар, — этот пацан привез с Севера сибирского котенка.
Федор тихонько охнул. Старуха недоверчиво оглядела его и ввела гостей в сумрачную грязную кухню. Но дальше порога не пустила. Пока Комар плел Ермиловне про несуществующего котенка редкой рыжей масти с фантастическими полосами на спине, Федя рассматривал Ермиловну и ее неприютное жилище. На кровати с засаленным темным одеялом спали три кошки. Бегали по кухне, задирая друг друга, озорные котята, прыгали на стулья, оттуда на стол и убегали, едва к столу подходила Ермиловна и замахивалась на них грязным полотенцем.
Наконец Комар так заврался, что Ермиловна его остановила, сердито прикрикнув:
— Не обманывай!
Тогда Комар, спасая положение, поклялся, что говорит одну правду, и призвал в свидетели Федю. Тот молчал. Комар пихнул его в бок локтем и возмущенно шепнул:
— Да говори же!
Федя совсем не знал, что говорить. Он отступил от наседавшего Комара да угодил ногой в блюдце с молоком, стоявшее на полу. Блюдце зазвенело, опрокинулось, по полу разлилась молочная лужа. Подбежали три пушистых котенка и, задрав хвосты, принялись лакать молоко из лужи.
Федя испуганно смотрел на лужу. Ермиловна закричала, что они хулиганы и чтоб немедленно убирались с ее глаз.
Присмиревший Комар притащил из сеней тряпку и старательно вытер лужу. Чтоб задобрить рассерженную старуху, он предложил принести дров. Пусть только она даст им ключ от сарая.
Но Ермиловна ключи им не дала, а велела идти на двор и ждать ее там.
— Чую, за какими вы дровами, — ворчала старуха, открывая сарай:
— То вам труба нужна…
— Труба? — недоверчиво переспросил Комар. — Какая труба?
— А про то тебе знать не надо! — отрезала Ермиловна. Она не отходила от дверей, то и дело окликая Комара, шнырявшего по всему сараю. Быстрый и зоркий Комар все–таки успел рассмотреть за бревнами большую медную трубу. Он восхищенно вздохнул и поманил Федю.
— Гляди, — шепнул ему Комар, — это получше подсвечников и кроватей!
Федя в этом не сомневался! Однако долго им любоваться трубой не пришлось: Ермиловна велела им выходить из сарая и нести дрова в кухню.
Дрова сложили у плиты. Запрыгали по поленьям веселые котята. Ермиловна турнула их, а мальчишкам велела уходить. Комар потоптался у порога и спросил нерешительно, надо ли приносить бабушке необыкновенного сибирского котенка.
— Принеси, погляжу, — смилостивилась Ермиловна.
— А вы нам за него трубу дадите, хорошо? — выпалил Комар необдуманно.
— Ишь, чего захотел! И не мечтай! — отрезала старуха. Той трубе цены нет. А он — отдай!
Федя понял, что Комар успеха не достигнет.
— Бабушка Ермиловна, — осторожно начал он, — дайте нам, пожалуйста, хоть подсвечники. Мы собираем медь на тепловоз… Они очень сильные, тепловозы, они…
— Много вас здесь ходит! А до ваших тепловозов дела мне нету. И больше не приходите. И котенка вашего мне не надо.
С этими словами старуха захлопнула дверь, чуть не прищемив Комара, и закрыла ее на щеколду.
— Вот тебе и Ермиловна! — огорченно вздохнул Федя. — Ничего не вышло.
Федины ясные глаза печально смотрели на белый свет. А на белом свете в это время было тоже что‑то невесело: тусклые сумерки да холодный мелкий дождь. Очень бы нужно сейчас Феде посоветоваться с бабушкой — посидеть рядом и поговорить. Рассказать ей и про Ермиловну, и про Тамару Аркадьевну — никак не подружится он с нею, никак не выполнит бабушкин наказ: жить с Тамарой Аркадьевной в любви и согласии да отца не огорчать. А про Ермиловну бабушка сказала бы:
— Уйди‑ка, Федюшка, от греха!
Тут уйдешь от греха, как же! Лешка Кондратьев сразу же на смех поднимет, а Надя ругать будет, что лому не несет. А где Федор этот лом возьмет, где?
— Ну! — закричал Лешка и побежал навстречу возвращавшимся послам. — Дала вам бабушка железячки?
— Что ты, Ермиловны не знаешь! — бросил на него Комар мрачный взгляд.
— Значит, не дала? — опечалился Лешка и бросил на землю щенка.
— Не дала, — уныло подтвердил Федя.
Лешка плюнул. Его круглое краснощекое лицо выражало глубокое презрение.
— Эх, вы!
Комар возмутился. Он ли не старался, он ли не ублажал эту ехидную Ермиловну! И про котенка врал, и дрова носил! Если бы Федор в молоко не влез, Комар не вернулся бы с пустыми руками.
— В какое молоко? — удивился Лешка.
— В котячье, в какое же? — огрызнулся злой Комар.
Федя вмешался и рассказал Лешке, как врал Комар про какого‑то сибирского котенка, которого он и в глаза не видывал. Но Лешка не удивился, не возмутился. Подумаешь, велика беда! Комар для них старался. Лишь бы Ермиловна согласилась меняться, а котенка они всегда достанут. У них на дворе три бродят. А сибирские они или нет — трудно сказать. Ермиловна и сама, наверно, не знает — она ведь в Сибири не бывала.
Комар вдруг вспомнил про трубу. Узнав про такое дело, Лешка заявил, что надо снова идти к Ермиловне, что медь для тепловозов — самое нужное и что такого богатства они больше нигде не найдут. Лешка пошел бы сам и делал все, что она прикажет. Но она его и на порог не пустит, потому что в прошлое лето он обрывал с ее яблони незрелые яблоки, а нынче осенью подкинул ей на порог дохлую крысу. Ермиловна рассердилась на него на всю жизнь.
Выходило так, что Феде и Комару снова придется отправиться к старухе. Но Комар от этого категорически отказался: бесполезно. Федя горячо поддержал Комара.
— Тогда и без Ермиловны возьмем железячки! — Лешка решительно провел рукой в воздухе.
— В сарай, что ли, к ней влезешь? — недоверчиво спросил Комар.
— И влезу!
— К Ермиловне?!
— Да что вы рты раскрыли? Что та Ермиловна — леопард?
— Ну и лезь сам, — решительно сказал Федя, — а я к ней ни за что не полезу.
— Струсил, охотник? — с убийственным презрением спросил Лешка, — И без тебя обойдусь. А ты… ты Сигнала воспитывай! Пошли, Комар!
ТАМАРА АРКАДЬЕВНА СЕРДИТСЯ
Федя постоял перед дверью своего дома, прислушался. Дверь неожиданно открылась. Отец улыбался, ласково смотрел на Федю.
— Ты где это пропадал, блудный сын?
— Папа, ты прилетел?! Ты долго дома будешь?
От радости Федя забыл свои печали. Стоял, не спуская сияющих глаз с отца, и держал его за руку.
— А у нас сбор был, и мы решили строить тепловоз… Завтра контрольная по арифметике…
— Рыжик, давай сбор временно отложим. Борщ стынет.
Так вот чем так вкусно пахнет! Ой, он едва живой от голода. А руки мыть обязательно?
Они вместе пошли к умывальнику, вместе вымыли руки и весело уселись за стол. Отец подвинул сыну тарелку с ароматным борщом.
— Рыжик, а хлеб? — напоминает он.
Ах, хлеб! Ну, чтобы не огорчить отца, можно и с хлебом.
Федя ест вкусный борщ и вспоминает бабушкины северные щи. И отец их помнит? Разумеется, помнит! Вот наступит лето, отпустят Федю на каникулы, и опять махнут они к Онежскому озеру. Будут с Тойво ездить на рыбалку, на охоту пойдут…
Но Тамаре Аркадьевне не нравятся разговоры за столом, поэтому они заканчивают обед молча.
— Федя, — говорит Тамара Аркадьевна, и в голосе ее слышится сдерживаемое раздражение, — ну никак ты не научишься сидеть за столом! Не горбись, не разваливайся… Ты уже не в деревне живешь.
Отец укоризненно взглянул на Тамару Аркадьевну, низко склонился над тарелкой.
После обеда сын садится заниматься — завтра контрольная по арифметике. Отец подсаживается к нему, выбирает самые трудные задачи.
— Как, Рыжик, одолеешь?
Рыжик морщит чистый лоб, пишет на черновике решение, задумывается, зачеркивает, снова пишет. Готово!
— Да ты быстрее меня решил! — радуется отец.
Федя доволен. Расплылся до ушей в широчайшей улыбке. Морщится толстенький нос, лучатся карие глаза. Как хорошо, когда отец дома! Если бы он реже бывал в своих полетах!
Феде очень хочется рассказать отцу про Ермидсшу и ее сарай, полный самого лучшего лома. Но он побаивается, что услышит Тамара Аркадьевна и рассердится — зачем он ходит по чужим дворам. Она еще не видела его промокшее пальто… И про Лешку, и про Комара надо обязательно рассказать отцу. Очень разобиделся Федя на Кондрата. Отец, конечно, в этом деле сразу разберется… Хорошо, если бы Тамара Аркадьевна куда‑нибудь пошла. А она и правда куда‑то собирается. Надевает перед зеркалом шляпу, достает из сумки перчатки. Федя подвигает свой стул ближе к отцовскому, заглядывает ему в глаза. Они понимают друг друга. Они сейчас поговорят, по–мужски.
Вот тебе и поговорили! Вот. и рассказал отцу про свои дела! Зовет его Тамара Аркадьевна гулять, а Феде сидеть дома одному весь вечер…
— Рыжик, ты как? — нерешительно спрашивает отец.
Феде хочется сказать: «Не уходи, папа, пожалуйста, не уходи! Я очень соскучился по тебе. Я не знаю, как быть с Ермиловиой и Лешкой и где брать железо для тепловоза».
Но Федор молчит и прячет глаза от отца: если тот заглянет в них, сейчас же поймет, как опечален сын, и сам огорчится. А бабушка не велела отца огорчать.
Вдруг отец решительно говорит:
— Куда там идти в такой дождь! И у Рыжика завтра контрольная…
Федя улыбнулся довольный — очень приятно слушать такие слова. Ему‑то приятно, а Тамаре Аркадьевне не очень! Лицо ее обиженно вытянулось. Она выходит из комнаты, отец за ней. Федя не слышит, о чем они говорят, но знает, что ссорятся. Ссорятся из‑за него.
Кажется, зря он уехал от бабушки. Лешка на него кричит, Тамара Аркадьевна сердится. А вчера обиделась до слез. Подарила Феде очень красивую книжку про мальчика Никиту. Федя искренне сказал:
— Большое спасибо!
И сейчас же раскрыл книгу.
— Ну какой ты, Федя, неласковый. Ты бы хоть раз поцеловал меня! Я с таким трудом купила эту книжку.
А Федя снова сказал:
— Спасибо.
И потупился. Не умеет он целоваться, хоть плачь! И говорить много не умеет. Бабушка как‑то сказала:
— Вы с Тойво не сродственники, а друг на дружку схожие: неразговорчивые оба. Лесовики!
Тамара Аркадьевна вошла молча, раздраженно сняла шляпу и раскрыла книгу. Отец походил по комнате, пока не разгладились морщины на лбу, потом подсел к сыну. Они вместе решили все задачи на части, какие нашлись в задачнике, написали диктовку, в которой Федя сделал три ошибки.
— Ох, Рыжик, — обеспокоенно покачал головой отен, — накрутил ты, братец!
Решили ежедневно заниматься грамматикой и пошли вместе ставить утюг, чтобы погладить Федин пионерский галстук. Время от времени отец поглядывал на Тамару Аркадьевну, но она не отрывалась от книги. Когда Федя взялся за иголку, чтобы подшить разлохматившиеся края галстука, она подняла, наконец, голову, посмотрела на него озабоченно и сказала, чтоб оставил, не портил, она сама сделает.
Федя обрадовался, что лицо у нее уже несердитое и больше она с отцом не будет ссориться. Он сказал, надеясь сделать ей приятное:
— Я сам подошью. Я умею… Меня бабушка научила.
Он подошел к ней, чтобы показать, как шьет, но она, не глядя, сказала:
— Ну, сам так сам. Чего смотреть?
И отвернулась от него.
Вечер прошел скучно. Федя рано улегся спать, так и не рассказав отцу про свои заботы, — не нашел подходящей минуты. Решил сделать это завтра. Но утром отец разбудил сына.
— Рыжик, — шептал он, — Рыжик, проснись! Я опять далеко улетаю. Пожелай мне удачи, сынок!
Федя кинулся отцу на шею.
— Прилетай скорее. Я тебе про Ермиловну не рассказал… — И от всего сердца: — Ни пуха ин пера, папа!
ПОХИТИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОГО ЛОМА
Лешка царапал парту ногтем и тоскливо смотрел вокруг. Он совсем не знал, с чего начинать решение задачи.
— Не теряй времени попусту!
Анна Васильевна остановилась возле Кондратьева.
— Прочти задачу внимательно, вдумайся.
«Хоть сто раз читай и весь день думай, толку не будет», — пробормотал про себя Лешка.
Скрипели перья. Шелестела бумага. Все решали, а Лешка сидел и страдал. Федя взглянул на него, но сразу же отвернулся: вчера они поссорились из‑за Ермиловнина железа. Федя заметил унылый Лешкин вид и забеспокоился. Опять Кондрат двойку получит!
Он снова осторожно обернулся и быстро показал шесть пальцев. Лешка недоуменно пожал плечами: ничего, мол, не понимаю.
— Шесть частей, — еле слышно прошептал Федя. — Задача на части.
Лешка долго смотрел на него, затем, вспомнив что‑то, радостно улыбнулся.
Когда он снова принялся за задачу, то прочел ее именно так, как советовала учительница.
Елки–палки! Да тут сложить всю пшеницу и разделить на шесть частей! Ну, как это он не догадался раньше?!
На перемене Лешка как ни в чем не бывало подбежал к Феде.
— Давай сегодня вечером к Ермиловне смотаемся… Я уже все приготовил.
— Кондрат! — взмолился Федя. — Брось ты эту Ермиловну!
Лешка сказал, что обязательно бросит, вот только заберет трубу, самовар и подсвечники. Ведь для тепловозов медь очень нужна, а Ермиловне совсем ни к чему. Если бы Федя с ним пошел, они бы больше набрали всяких старых тазов и кастрюль. Все равно рано или поздно Ермиловна их выбросит.
Тут разговор прервался, потому что зазвенел звонок.
— Так я за тобой зайду вечером, — шепнул Лешка. — Жди.
В сумерках он три раза свистнул под окном Феди. Тот беспокойно посмотрел на Тамару Аркадьевну и незаметно проскользнул в дверь.
Как же не хотелось Феде идти в ненавистный Ермиловнин сарай! Однако, если он не пойдет, Лешка отправится туда один. И ведь для звена старается человек, для всего отряда в конце концов! Федя вздохнул тяжело и спустился с крыльца.
Эх, был бы дома отец, сейчас бы все рассказать ему. Вместе и решили бы, как быть.
Лешка неслышно подошел к Феде.
— Скорее, Комар ждет.
Федя колебался.
— Давай лучше завтра, — робко предложил он.
— Завтра! — Лешка сердито засопел. — К ней уже девчонки из другой школы приходили. Комар сам видел. Вот посмотришь, она им все отдаст!
И Федя решился.
…Темнота и спокойствие царили на улице и на Ермиловнином дворе.
Лешка осторожно свистнул. Комар вынырнул из темноты сердитый. Что, Лешка захотел разбудить бабушку? Ишь, рассвистелся!
Мальчишки осторожно перекинули через забор принесенные Лешкой мешки и веревки. Лезть во двор Комар решительно отказался, лучше он останется у забора и будет принимать мешки с железяками.
Только Лешка влез на забор, как во дворе залаял Дик. У Феди захватило дух, а Комар моментально исчез. Честно признаться, Феде очень хотелось последовать его примеру, но не бросишь же Лешку одного на заборе! А тот громким шепотом увещевал Дика и даже бесстрашно прыгнул во двор.
— Комар! — тихонько позвал Федя. — Да иди сюда! Уже испугался…
— Кто испугался? Я просто в сторону отошел.
Федя тоже перебрался во двор. Мальчики неслышно прокрались к сараю, ощупью нашли место, где сдвигалась трухлявая доска.
— Сдвинуть вторую, и порядок, — прошептал Лешка. Он достал из кармана толстый гвоздь, подсунул в щель и нажал. Доска затрещала, заскрипела, заворчал Дик.
Зачем Федя сюда пришел? Знала бы бабушка, знал бы отец…
— Лешка, — прошептал он взволнованно, — ну его, этот сарай… Точно жулики какие! Давай обратно, пока Ермиловна не вышла.
— Так и знал!
В голосе Лешки было столько негодования, что Федя поежился.
— Возьми платок и вытри слезы, — сурово предложил Лешка. — Бабушкин внук!
Он попыхтел, возясь с доской.
— Осел ты дурной, вот кто! Мы металл для тепловоза достаем, а он — жулики!
Федя молчал, удрученный. Лешка наконец отодвинул доску, протиснулся в щель. Федя последовал за ним.
Долго блуждали они в кромешной тьме сарая, больно натыкаясь лбами на бревна и шесты, но упорно продолжая поиски. Потом, по предложению Лешки, обшарили руками земляной пол. Все безрезультатно.
— Да что она, эта ехидная Ермиловна, перепрятала, что ли, железяки?! — забыв про осторожность, воскликнул Лешка, и Феде послышались слезы в его голосе. Удивиться этому он не успел: загремело железо, неистово залаял Дик, жалобно, тихо застонал Лешка.
Федя стоял в темноте не дыша. Он с ужасом ждал появления Ермиловны. А может, она уже здесь? Может, уже схватила Лешку? Но вокруг снова тишина, темнота. Потом рядом он услышал Лешкино дыхание.
— Федор, где ты? — долетел до его слуха громкий шепот. — Вот они, железячки…
Они спешно набивали мешок ломом. Сначала в руки лезли миски, тазы, кастрюли, а уж за ними нащупали желанный самовар и целый десяток бронзовых подсвечников. Лешка ликовал; радовался и Федя, отбросив все свои сомнения. Оставалось отыскать медную трубу. Но она пропала. Ну провалилась сквозь землю, и все! Нечего делать — пришлось отказаться от трубы. Взвалили мешки на плечи, с трудом вытащили их из сарая, соблюдая величайшие предосторожности. У забора едва слышно окликнули Комара.
Молчание. Тьма. Черное беззвездное небо нависло над притихшей землей.
Комар не откликнулся ни на зов, ни на свист.
— Сбежал! — с горьким презрением бросил Кондратьев и пообещал расквитаться с Комаром в недалеком будущем.
Но вот уже трудная и опасная переправа мешков через высокий забор позади. Мальчишки вздохнули с облегчением. Отойдя подальше от Ермиловнина двора, они остановились передохнуть.
— Федя, посмотри‑ка, что у меня на лбу? — попросил Лешка.
Горев подвел Лешку к фонарю.
— Ого, вот так шишка! Пятак приложи, — посоветовал он сочувственно. Пятака не было, у Феди нашлись три копейки. Он потер ими Лешкину шишку. Но Лешка сказал, что ничего не помогает и лучше бросить это лечение и идти к Зинке, потому что наступила ночь.
У Феди заныло сердце; что он скажет Тамаре Аркадьевне? Ночью он еще никогда не возвращался. Теперь она обязательно пожалуется на него отцу. Совсем недавно отец уже расстроился из‑за негок Федя вбежал в дом — торопился взять книгу, Симочка ждала у ворот — и забыл вытереть ноги, а Тамара Аркадьевна только что вымыла пол. Федя ничего не заметил; ни чистого пола, ни своих грязных следов на нем. Он схватил книгу, побежал к двери и тут столкнулся с Тамарой Аркадьевной.
— Ну что за мученье! — воскликнула она чуть не плача. — Сегодня наследил, вчера разбил чашку и вытерся чайным полотенцем!
— Я вытру… я сейчас вытру, — еле слышно произнес он. Она, наверно, не расслышала его слов — ушла рассерженная. А он стоял с книгой в руках и растерянно смотрел на свои грязны^ следы. Как это у него получается все не так? Он очень старается быть хорошим!
Пришел отец.
— Рыжик, как же это ты, братец?
Федя молчал.
Он отдал книгу Симочке и вернулся. Еще в передней Федя услышал громкий голос Тамары Аркадьевны. Федя снял ботинки и в одних носках стоял на чистом сыром полу, Стоял долго — все не решался войти в комнату. Устал, сел на маленькую скамеечку, пригорюнился. Так его застал отец.
— Ты тоже обиженный? — невесело усмехнулся он.
— Стоп! — прервал Федины печальные размышления Лешка. — Пришли.
Мальчуганы с надеждой всматривались в закрытые ставнями окна Зины. Так хотелось увидеть хоть маленькую полоску света, один–единствениый лучик! Но ставни закрыты наглухо, и томительная тишина царит и на улице, и за ставнями.
— Вот вредная! — возмутился Лешка. — Сама же напросилась со своим сараем, а подождать немножко не может!
Неужели их треволнения, их неимоверные старания пропадут даром? Если Зинка спит, куда они денут свои мешки с ломом! Ни Феде, ни Лешке дома с ними показываться нельзя.
Кондратьев осторожно оттянул ставню. Показалось или действительно блеснул свет? Лешка дернул ставню, и изумительная, чудесная полоска света ясно засветилась под ней.
— Я всегда думал, что Зинка самая толковая девчонка в классе! — горячо шепчет Лешка.
Федя не согласен, — самая лучшая не она, самая лучшая — Симочка. Но возражать не стал — не до этого.
Лешка прижался к ставне и тихо позвал.
— Зина!
Молчание.
— Зинка, — погромче произнес Кондратьев.
Никакого ответа.
— Зинка!!! — рассердился Лешка.
Наконец‑то его услышали!
— Кто там? — спросил тихий Зинин голос за закрытой ставней.
— Это я, Кондратьев. И Горев еще… Мы лом принесли.
— Ты не кричи, ты бабушку разбудишь, — жалобно попросила Зина. — Вы чего так поздно? — полюбопытствовала она, открывая сарай.
Лешка закашлялся, Федя засопел.
— Пока собирали… — пробормотал Федя.
— А где вы собирали?
— Везде, где попало, — небрежно ответил Лешка. — И чего ты пристала? Ты лучше открывай скорее.
ВЕСЕЛОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Совет отряда 4 «А» принял единогласное решение провести предстоящее воскресенье у Симочки. Анна Васильевна посоветовала пригласить Николая Егоровича Горева. Договорились, кто будет петь, кто танцевать. Таня обещала прочесть отрывок из рассказа писателя Носова «Дружок».
Когда ушли с совета звеньевые–мальчики, Таня таинственно посмотрела на девочек и предложила устроить в воскресенье чаепитие. Предложение было встречено о восторгом, и было решено скрыть все от мальчишек и Анны Васильевны до последней минуты.
На другой день девочки собирались на переменах кучкой, шептались, загадочно поглядывали на мальчишек, Лешка презрительно улыбался, но цочему‑то все время находился вблизи шепчущихся девочек. Те его прогоняли. Лешка независимо говорил, что ходит, где хочет, а до девчонок ему никакого дела нет. Наконец он не выдержал, отозвал в сторону Федю и шепотом спросил:
— Ты не знаешь, чего они?
Федя не знал. Лешка предложил допытаться у Симки. Федя попытался, но она коротко ответила:
— Потом узнаешь. В воскресенье.
Ждать до воскресенья было очень долго, Федя и Лешка отправились за выяснением к Тане. Она смеялась и говорила, что в воскресенье мальчишек ждет что‑то интересное.
Мальчишки сгорали от любопытства, а девочки с откровенным удовольствием посмеивались над ними. Тогда мальчики обиделись, но девочки не обращали на них внимания. Им было не до мальчишек —в субботу было решено стряпать пирожные для воскресного чаепития. Как это делается, никто не знал, кроме Тани.
Наступил субботний вечер. Стол в кухне у Симочки был ваваден всякой снедью: вареньем, маслом, яйцами, орехами, мукой. Девочки суетились, опрокинули банку с вареньем, к счастью, на стол. Просыпали муку. Пришла Таня, велела всем девочкам надеть передники и повязать косынки. Каждой она дала задание: Лена размешивала муку с маслом, Зина толкла орехи в большой медной ступке, Надя растирала желтки с сахаром. Девочки очень старались: стряпать всем нравилось. Совсем, как большие!
А Симочка в это время смотрелась в зеркало. Когда Таня, заколов ей на затылке толстую косу, чтобы не мешала, взглянула на нее и воскликнула: «Симочка, как тебе хорошо с прической!» — она не утерпела — побежала к зеркалу посмотреть!
Посмотрела прямо, потом сбоку, потом попыталась заглянуть сзади, наконец поднялась на носки и важно прошлась перед зеркалом, заложив руки в кармашки белого домашнего фартучка. Так ее и застала Таня.
— Бесстыдница! Она в зеркало смотрится, а у нас тесто пе получается! — Таня говорит сердито, а глаза ее смеются.
Симочка покраснела, виновато пробормотала:
— Ой, Таня, какая я…
И убежала.
Тесто действительно не получалось. Лена устала перемешивать муку с маслом и для облегчения налила туда воды. Таня узнала — всплеснула руками: все пропало! Девочки бросили свою работу, окружили Таню и Лену. Надя, сердито сверкая черными глазами, наступала на Лену:
— Что теперь делать? Что?
Бедная Лена готова была заплакать, да в кухню вошла Симочкина мама.
— Ничего страшного, — сказала она и обещала быстро исправить ошибку Лены.
Изумительный запах шел из духовки — румянился бисквит. А один уже стоял на столе, прикрытый белоснежной салфеткой. Высунув кончик языка от старания, Симочка толкла сахарный песок с мандариновыми корками — для украшения бисквита.
В кухню заглянул Максим. Удивленно остановился у порога— что за пир готовится? Узнав, потоптался около Симочки и тихонько спросил, нет ли чего‑нибудь попробовать. Симочка дала ему кусок подгоревшего кренделя. Он съел и попросил еще. Но ему больше не дали, зато пообещали, что завтра угостят на славу. Он будет у них почетным гостем.
Ну вот все и готово! На верхней полке буфета красуется изумительно вкусное печенье. Девочки расходятся по домам.
…Сумеречно в комнате. Горит ночник на мамином столике. Симочке не спится. Она тихонько встает с постели и босиком крадется к буфету — еще раз полюбоваться на изделия своих рук.
Вот этот красивый кренделек она положит Феде Гореву. Нет, как замечательно Таня все придумала! А мама так много помогла им… Она, кажется, даже не пообедала...
Симочка неслышно подходит к матери. Спит?
— Мамочка…
Она произносит это едва слышно, но мать открывает гла* за. Симочка юркнула к ней под одеяло, нашла материнскую руку и крепко сжала в ладошке ее указательный палец.
— Мамочка, ты устала? — шепчет Симочка.
— Немножко, — так же тихо отвечает мать.
Дочка приподнимается на локте и тревожно заглядывает в материнское лицо. Даже в полумраке Симочка видит темные круги под глазами матери.
Ой, пусть мама спит завтра подольше. Серафима все сделает сама: сварит суп, приготовит жаркое, приберет квартиру.
Симочка помолчала минутку и снова зашептала. Завтра мама увидит Николая Егоровича Горева. Симочке он очень нравится. Недавно она пришла к Феде, стала снимать в передней калоши и вдруг слышит, как Николай Егорович в комнате говорит:
— Феде любовь нужна, теплота сердечная, а не морали и нотации. Ты же видишь, что тоскует он по бабушке, по родному краю. Приголубить его надо.
— Его и приголубить‑то трудно, —возразила Тамара Аркадьевна. И вспомнила, как Федя еще на вокзале отвернулся от нее, а дома притворился спящим. Это, говорит, на Севере его настроили против нее.
Николай Егорович перебил Тамару Аркадьевну, заговорил горячо, укоризненно. Наверно, очень огорчился. Симочка поспешно надела только что снятые калоши и шагнула к входной двери. Но все‑таки услышала, как Николай Егорович сказал, что на таких женщинах, как Марфа Тимофеевна, белый свет держится, что в колхозе она самый уважаемый человек и большая, беззаветная ее любовь к людям сделала счастливым Рыжика и сейчас греет всех, кто рядом с ней. Дальше Симочка уже не слышала —она тихо вышла и прикрыла за собой дверь.
— Спи, полуночница! — сказала недовольная мать, —Все ты перепутала, ничего не поняла… И что за манера входить к людям без стука.
Симочка хотела оправдаться, сказать, что стучалась, но очень захотелось спать. Она прижалась покрепче лицом к маминой щеке и сладко уснула.
Утром ее разбудила Таня. Мама давно хлопотала на кухне, даже Максим помогал, а она спит. Ой, почему ее раньше не разбудили? Симочка вскочила, наскоро оделась и забегала по комнате. Пришел Максим.
— С добрым утром, председатель! — миролюбиво сказал он.
— С добрым… Иди к себе. Не до тебя.
Она торопливо заплетала косы. Но со своей помощью Симочка опоздала — мать и Таня все сделали.
Пришел Федя. Симочка едва дала ему раздеться и повела к буфету смотреть бисквиты, крендельки и сухарики.
— Красивые? — гордо спросила она.
Федя, восхищенный, ответил, что очень красивые. Минуту Симочка молчала. Она так старалась сдержаться и не раскрыть тайны чаепития, но не смогла! Улыбаясь и морща вздернутый нос, она сказала ему на ухо:
— Это для Анны Васильевны и для вас, мальчишек.
Федя был изумлен. Федя был очень рад. Симочка поняла это по его лучистым глазам. Он сказал:
— Вот это да!
Федю позвала Таня — надо было приколотить большой красивый плакат «Добро пожаловать на наше веселое воскресенье!».
Он приколачивал, Таня подавала гвозди, а Симочка прыгала вокруг них и пела веселую песню, которую тут же сочинила. В песне говорилось, что Максим нарисовал замечательный плакат; который прибил хороший человек Федя Горев, и сейчас начнется веселое воскресенье.
Гости начали сходиться задолго до назначенного срока. Но предусмотрительные хозяева были готовы к встрече. Лешка Кондратьев явился в новой белой рубашке и выглаженном пионерском галстуке. Держался он степенно, зря не смеялся, на болтающих веселых девочек смотрел с явным неодобрением. Миша пришел радостный: бабушка сшила красивый костюм для матросского танца. Уж он станцует его отлично, раз есть костюм! Он сразу же переоделся, надел круглую шапочку с пушистым помпоном.
Коля Сомов пришел с баяном. Наконец прибыли Николай Егорович и Анна Васильевна. Ребята притихли. Тут притихнешь, когда рядом с тобой высокий седой человек в парадном военном кителе, увешанном орденами и медалями. Федя сидел рядом с Лешкой и восхищенно смотрел на отца: «Ты совсем замечательный, папа, и очень мне нравишься», — говорили его глаза.
Николай Егорович рассказывал о своем быстром самолете, на котором за час он пролетает больше тысячи километров. Он попросил лист бумаги и начертил схему управления. Мальчишки окружили Горева, без передышки расспрашивали, как переключить скорость, как идти на посадку, как набирать высоту. Когда девочкам удалось пробиться к Николаю Егоровичу, они стали расспрашивать его о городах, в которых ему довелось побывать. В конце концов Анна Васильевна увела Николая Егоровича, усадила на удобный диван и велела ребятам оставить его в покое.
Таня подала Коле знак. Тот взялся за баян. Миша поправил шапочку, оглядел костюм и вышел на середину комнаты.
Сомов проиграл вступление, первый такт, второй, а Миша все не начинал танца. Коля удивленно взглянул на него.
— Ты чего? — громким шепотом спросила Таня Мишу.
— Места мало, — пробормотал тот.
Раздвинули стулья, убрали тумбочки с цветами, вынесли стол. Снова заиграл Коля веселое «Яблочко». Миша оглянулся на Таню, улыбнулся и сорвался с места.
— Ай да танцор! — воскликнул Николай Егорович, наблюдая, как Миша старательно отбивал чечетку. Услышав похвалу, Миша пустился вприсядку, да так лихо, что чуть не сбил с ног подвернувшуюся Надю Асафьеву.
— Рыжик, — Николай Егорович просительно взглянул на сына, — тряхни стариной — сыграй‑ка северную плясовую!
Все повернулись к смущенному Феде. Как, он умеет играть на баяне? И молчал?!
Коля уже тащит Феде свой баян, Симочка подвигает стул. Нечего делать — придется играть. Но он уже давно не играл.
Федя взял в руки баян и притих, вспоминая песню, что ли-, лась белыми ночами над озером, над лесной поляной, где собирались девушки и парни с гармошкой.
…Вдруг запахло черемухой. Вот они, мокрые от весеннего дождя черемушные белые гроздья заглядывают в окошко. А вот и песня, негромкая, спокойная, донеслась до крылечка, где Федя сиживал с Иванкой длинными летними вечерами. Точно шептались в лесу деревья. Точно мягко похрустывал мох. А вот побежала быстрая лесная речка, бурливая, своенравная. Упала со скалы и бежит дальше. Звенит, смеется…
Звенит, смеется баян, и кажется Феде, что он снова в родном селе…
— Ну, Рыжик, — сказал Николай Егорович благодарно, — удружил, братец. А ну‑ка веселей!
Горев вышел на середину комнаты, и дробно застучали каблуки его сапог, зазвенели медали и ордена на груди. Тряхнул он головой и запел песню о том, как ловили рыбаки рыбу, а молодушки красны девушки их ждали и плели сети.
Ему бурно аплодировали. Он сел на диван, улыбаясь, вытирая платком лоб. Симочкина мать заиграла на рояле старую пионерскую песню про картошку и костер. Анна Васильевна запела, ребята подхватили. Они уселись вокруг Николая Егоровича— на диване, на коврике около дивана. Симочкина мама поглядывала на ребят, и глаза у нее были мечтательные, ласковые. Дочка знала, что мать вспоминает сейчас свою пионерскую юность. Она ведь тоже когда‑то была пионеркой и мечтала у ярких пионерских костров о героическом будущем. Таня незаметно позвала Симочку — пора накрывать на стол.
Вскоре к ним присоединилась мать Симочки. Она кое‑что переставила, кое‑что добавила. Велела Тане поставить на стол вазу с мимозами, которые принес Николай Егорович, Симочке — положить на каждую тарелку бумажную салфетку и после этого разрешила позвать гостей к столу.
Анна Васильевна не поняла: какой стол? Таня показала — вот какой! Стряпали девочки. Пусть Анна Васильевна попробует и оценит.
Шумной гурьбой ввалились мальчишки, ведя за руки Николая Егоровича. Сзади скромно шли девочки. Они предвкушали радостное удивление, с которым мальчишки остановятся у стола.
Учительница тут же, у красивого стола, поблагодарила девочек, Таню, Симочкину маму.
— Мальчики, вы со мной согласны? — спросила Анна Васильевна. Они, конечно, были согласны!
— Вот чего они шептались! — догадался Лешка, — Федор, помнишь? А толково придумали! — И Лешка первый уселся за стол.
Федя и Лешка сидели рядом, уписывали пирожные и крендели.
Лешка все спрашивал у Зины:
— А это ты пекла? А это?
Зина гордо отвечала, что пекли все вместе.
Симочка разливала чай и громко приговаривала:
— Чай, настоящий краснодарский чай! Самый вкусный в мире!
Наверно, чай был на самом деле очень вкусен, потому что Симочка не успевала его наливать в чашки. Вазы с бисквитами быстро пустели. Анне Васильевне и Тане то и дело приходилось их пополнять.
— Сима, а правда вы сами? — недоверчиво спросил Коля.
Симочка даже обиделась. Не верит? Пусть спросит у Тани, у мамы, у Максима, наконец.
И тут Таня оглядела сидящих за столом и вышла из комнаты. Любопытная Симочка немедленно последовала за ней. Таня прошла в кухню. Там у стола сидел в одиночестве Максим. О нем все забыли. Вот тебе и почетный гость! Конечно, стенгазета им сейчас не нужна.
— Чего ты здесь прячешься? — немножко виновато спросила Таня. — Пойдем к нам.
— Не пойду…
Таня подошла, взяла Максима за руку, потянула. Он нехотя встал, нехотя сделал шаг, другой. Так Таня довела его до двери.
Подбежали девочки, без разговоров схватили строптивого Максима за руки и со смехом повели в столовую.
— Максим! — крикнул Лешка. — Садись с нами.
— Нет, лучше иди к нам, — предложил Коля. — Здесь пирожные близко.
Максим, смущенный всеобщим вниманием, поспешно уселся рядом с Федей и склонился над стаканом. Впрочем, о нем опять забыли: Таня читала смешной рассказ о мальчишках, которые везли в дачном поезде в чемодане собаку Дружка. Щенок выл; чтобы заглушить его вой, мальчишки всю дорогу читали по очереди стихи. Когда все стихи были прочитаны, мальчуганы принялись декламировать песни. Таня так забавно показала, как они это делали, что все громко и долго смеялись.
Расходились, когда уже кончался зимний недолгий день.
ПИСЬМО С СЕВЕРА
На сером конверте крупными буквами было написано: «Получить Федору Гореву. Лично».
Федора Горева дома не было, и почтальон вручил письмо Тамаре Аркадьевне. Она положила его на стол Феди на самое видное место — к чернильнице.
Письмо было от друзей — Арсения и Иванки.
Как только узнали они про Федину печаль, призадумались, посоветовались с Тойво, рассказали ребятам в школе, что в далеком южном городе решили пионеры собрать старого металла на тепловоз, а их земляк Федя Горев не знает, где искать лом. Боится он подвести свой новый пионерский отряд.
В то время как Федя мучился — идти или не идти ему с Лешкой в сарай Ермиловны, его северные друзья в одно из воскресений встали на лыжи и отправились на разведку к старому блиндажу. Ребячий отряд вел дед Тойво, вел не обычным путем, а никому не ведомым. Места были глухие, темные.
— Дедушка Тойво, —с беспокойством спросил Арсений, — а ты не забыл, где старый блиндаж?
— Молчи, парень. Вон за тем косогором твой блиндаж, — буркнул дед.
Арсений с Иванкой переглянулись недоверчиво: что‑то не припомнят они у блиндажа никакого косогора. Но спорить с Тойво было бесполезно — старый охотник и следопыт никогда ни с кем не спорил, но всегда поступал по–своему. Ошибался Тойво редко.
…В небо поднимаются корабельные сосны. Солнце едва пробивается сквозь их темно–зеленые вершины. Сумрачно в лесу, тихо. Только потрескивают от мороза деревья да изредка сорвется с заснеженной ветви мягкий ком.
Тойво идет впереди — прокладывает лыжню. Нет–нет да и наклонится рассмотреть след.
— Заячий? — Иванка внимательно разглядывает мелкие русачьи следы.
— Его, — одобрительно кивает дед. А вот и куний, малозаметный, недолгий, — перешел хитрый, зверь на дерево и ушел по веткам без следа.
Открылся косогор. Вот и низина за ним. Где же блиндаж? Арсик в недоумении останавливается. Тойво сердито взглянул из‑под нависших заиндевевших бровей. Плохой из Арсения охотник, ох плохой! Вон пригорок за соснами, это и есть старый блиндаж.
Иванка сорвался с места, понесся вниз с крутизны, подобрав палки, наклонившись вперед. И следом за ним по сверкающему нетронутому смежному насту несутся вниз темные ребячьи фигурки. Звенит, раскатывается эхо по застывшему Старому бору.
Попробуй найди вход в блиндаж под глубоким снегом! Но Тойво подъехал к пригорку с правой стороны, уверенно ткнул в снег длинной лыжной палкой.
— Здесь!
Запылали на пригорке костры. Растопили чистый лесной снег. Показалась полусгнившая дверь. Дернул ее Арсик, а она и распалась. Заглянул он в щель и радостно крикнул:
— Все цело!
Ворошить Железных обломков, однако, не стали. Путь далек— на себе не унесешь, а короткий зимний день кончается. Снова заскрипел под лыжами снег. Возвращаться легче — лыжня была основательно укатана.
Целую неделю не ходил на охоту дед Тойво — мастерил нарты, чтобы везти сокровища из старого блиндажа. Только вечером приходил он к Марфе Тимофеевне пить чай да слушать рассказы про Федю.
Пришло воскресенье. На рассвете к домишке Тойво съехались все ребята. Вышел дед, выволок из сарая нарты, привязал к ним несколько веревок и встал на лыжи. И навстречу утренней заре потянулись к лесу шумные, веселые лыжники.
Несколько воскресений подряд оживал Старый бор. Много укатанных лыжней вело к блиндажу, и еще одна — широкая колея от легких и быстрых нарт, сделанных Тойво.
Наконец походы в лес закончились. Арсений и Иванка явились к бабушке Марфе Тимофеевне, уселись за Федин стол, который так и стоял у окна, будто Федя по–прежнему жил в маленьком домике, и принялись писать письмо. Они рассказали Феде про свои походы за ломом, про то, что уже сдали на приемный пункт три тысячи килограммов металлолома. Квитанцию они высылают Федору, чтобы он показал ее Наде Асафьевой и рассказал, как северяне старались для пионерского тепловоза. Всему отряду 4 «А» они передавали пламенный пионерский привет. «Ежели еще в чем нужда, сообщай, Федюха, пособим», — приписал в конце письма Иванка.
Письмо лежало, ждало Федю, а он не шел. Тамара Аркадьевна поглядывала на часы, несколько раз выходила на крыльцо, наконец не выдержала и отправилась в школу. Но и в школе Феди не оказалось. Тамара Аркадьевна вернулась домой озабоченная.
А Федя и Симочка в это время шагали по главной улице в самом прекрасном расположении духа. Симочка показывала Феде город. Город был большой и красивый, гораздо больше деревянного северного городка, в котором Федя иногда бывал с бабушкой. Все дома здесь были каменными, тротуары тоже. Улицы усажены деревьями, о которых Федя и не слыхал‑то до сих пор ничего. Но пока что он удивлялся только названиям деревьев — катальпы, каштаны. Были они голые, серые, некрасивые. Федя пожалел, что не растут здесь вечнозеленые ели и сосны.
— Посмотришь, какими эти деревья весной будут, — пообещала Симочка.
Солнце, яркое не по–зимнему, подсушило тротуары. Федя расстегнул свое теплое, на меху, пальтишко, сдвинул на самую макушку треух.
— Весна, что ли, начинается?
Действительно, совсем не по–февральски голубело высокое ясное небо; не по–февральски зеленела молодая трава в скверах, где совсем еще недавно лежал снег.
В феврале — весна! Но Симочка утверждала, что здесь такая зима. Скоро опять выпадет снег и через несколько дней обязательно растает. И так будет еще не раз. Настоящая весна придет в конце марта, может быть, в начале апреля. Тогда совсем потеплеет и зацветут фруктовые деревья. Это так красиво, что Симочка не может передать. Лучше пусть Федя посмотрит сам. Федя кивнул.
Они зашли в сквер, и Симочка показала Феде маленькие почки на розовых кустах. Кустов было много, и Симочка пояснила, что здесь растут всякие розы: красные, белые, даже чайные. Они уселись отдохнуть на скамью, нагретую удивительным февральским солнцем. Симочкины ноги повисли в воздухе — не могли достать до песчаной дорожки, на которой стояла скамья. А Федины достали. Он снял треух и пригладил пышный чуб. Солнечные лучи сейчас же запутались в его каштановых волосах, и, наверно, от этого весь он был розовый и сияющий.
Симочка сидела и болтала ногами, сколько хочется. Потом стала рисовать человечков на песке носком маленькой черной калоши. Вдруг она вскочила!
— Пошли на Кубань?
Федя с сомнением взглянул на нее: кажется, они далеко ушли от дома. Но если эта Кубань недалеко…
Симочка наморщила лоб, усиленно вспоминая дорогу на реку. Дело в том, что она еще никогда не ходила туда без мамы. Если бы пойти на Кубань от дома, она без сомнения нашла бы верный путь. В какую же сторону все‑таки повернуть?
Пока Симочка раздумывала, Федей все больше и больше овладевала тревога. Отец просил сына не ходить по городу без старших. Сын обещал… и не выполнил. А может быть, Серафиму можно считать старшей?
— Сима, тебе сколько лет?
Ей было десять лет, и была она ровно на полгода… младше его. Он почувствовал себя совсем виноватым и сказал, что надо скорее идти домой. Тамара Аркадьевна, наверно, тревожится.
Симочка это знала. Если Федя задерживался в школе, Тамара Аркадьевна всегда приходила за ним. Домой она вела Федю за руку. Лешка ухмылялся, глядя на них, а Федя мрачнел, но отнять руку у Тамары Аркадьевны не решался. Однажды, когда Кондратьев откровенно прыснул, Федя осмелел и вежливо попросил Тамару Аркадьевну не приходить за ним в школу и не брать за руку — он не маленький.
Она обиделась, сказала, что Федя бессердечный и совсем не ценит ее забот. Он молчал. Он ничего не мог ей ответить— он и сам теперь не знал, сердечный он или бессердечный. Бабушка говаривала, что у Федюшки доброе сердце, называла Федю своим утешением. Тамара Аркадьевна говорит другое.
В глубине души он думает, что Тамара Аркадьевна тоже не очень‑то сердечная. Она часто бывает несправедлива к Феде. За обедом заставляет его все съедать, не оставлять ни кусочка. На Севере он никогда не ел томата и никак не может привыкнуть к нему. Но Тамара Аркадьевна говорит, что томат полезен для здоровья, и заставляет Федю пить еще и томатный сок. Но Федя пить его не мог ни с солью, ни без соли. Тамара Аркадьевна сердилась, негодовала: какой упрямец! Если дома бывал отец, Федя переливал сок в его стакан, знаками прося отца молчать. Когда отец был в полете, Федя пытался напоить злосчастным соком кота Додона. Но противный кот пить сок не хотел. Однако мясо в томатном соусе, которое Федя перекладывал в его чашку украдкой от Тамары Аркадьевны, кот съедал. В конце концов Тамара Аркадьевна перестала мучить Федю соком. Несколько дней они жили мирно, но вдруг нежданно–негаданно пришла новая беда: Федя посадил большое чернильное пятно на новые брюки. От огорчения он заплакал. Рядом оказалась Симочка. Она раскрыла рот от удивления, когда заметила его слезы.
— Ты плачешь, Федечка? — едва слышно спросила она.
Федя сейчас же вытер слезы рукавом суконной рубашки и сказал, что нет, не плачет, и спросил, не знает ли Серафима, как выводить чернильные пятна.
Она вспомнила, что пятна выводят нашатырным спиртом иди хлорной известью. Она сейчас же предложила отправиться к ней домой и попробовать свести пятно. Федя уныло согласился.
Дома Симочка позвала на помощь Максима, но тот рисовал и, не поднимая головы от стола, проворчал, что ничего не понимает в пятнах. Симочка и Федя отправились в кухню, потерли пятно тряпкой, смоченной в горячей воде с мылом, но — увы! — безрезультатно. Нашатырного спирта не оказалось, и Симочка разыскала хлорную известь, которой мама моет раковину и ванну. Хлорная известь делала чудеса: пятно бледнело на глазах, но… вместе с ним бледнело и сукно! Скоро вместо чернильного, на брюках появилось белое пятно.
Перепуганная Симочка потащила Федю к брату. Она назвала брата Максимушкой, миленьким, пообещала целую неделю мыть за него посуду, лишь бы он помог их беде. Максим, взглянув на Федино колено, присвистнул и сочувственно протянул:
— Натворили вы дел, друзья–товарищи!
Друзья–товарищи испуганно смотрели на Максима. Он сжалился над ними, развел серую краску и подкрасил пятно.
— Почти незаметно, — уверяла Федю Симочка.
Когда краска высохла, сукно на коленке стало жестким, негнущимся. Может быть, Тамара Аркадьевна не заметила бы злосчастного пятна, но к вечеру брюки на колене расползлись. Тамара Аркадьевна всплеснула руками, велела сейчас же снять брюки и уселась их штопать. Она штопала и говорила, что с Федей настоящее мучение и скоро она зачахнет от огорчений и забот о нем. Феде стало жаль ее. Он сказал виновато и печально, чтобы она больше не заботилась о нем, не расстраивалась, уж как‑нибудь он сам проживет. Тамара Аркадьевна покраснела, бросила брюки на стул и молча ушла в другую комнату. Он слышал, как она там всхлипывала и сморкалась. Он и сам чуть не плакал.
Тамара Аркадьевна не успела забыть про брюки, а Федя провинился снова: ушел без разрешения гулять с Серафимой. Но, честное слово, они не собирались идти далеко! Они хотели только до угла. Но на следующем углу был красивый Дворец пионеров, еще через квартал — городской театр, в который они собираются завтра на утренник, а немногим дальше—-красивый большой сквер.
Федя решил обо всем рассказать Тамаре Аркадьевне.
Увидев его, она облегченно вздохнула. Федя осторожно заглянул в ее глаза. Тревожные, они постепенно теплели. Она улыбнулась, и Федя улыбнулся тоже. Но Тамара Аркадьевна тут же прогнала улыбку с губ и строго спросила, где он был.
Федя чистосердечно рассказал о своей прогулке с Симочкой, и в глазах его, искренних, виноватых, был робкий вопрос: вы не сердитесь? Нет?
Кажется, она не сердилась, но все‑таки укоризненно покачала головой и строго сказала, чтобы больше так не поступал. Вдруг она вспомнила:
— Путешественник, а ты письмо видел?
Путешественник, забыв обо всем на свете, кинулся искать письмо. Он сразу узнал почерк Иванки.
Федя сидел на диване в пальто, читал письмо, улыбался. Тамара Аркадьевна подошла к нему, велела раздеться и пообедать: потом дочитает свое письмо, а сейчас стынет обед. Углубленный в чтение, он не слышал ее слов. Она повторила громче. Федя поднял сияющие глаза, кивнул:
— Ага… Да, да… — И снова углубился в чтение.
Он прочел письмо, засмеялся от радости, вскочил, закричал!
— Тамара Аркадьевна! Тамара Аркадьевна! Они были в старом блиндаже… Они…
С письмом в руках он вбежал в столовую. Тамара Аркадьевна выливала из тарелки остывший борщ. Сколько раз его подогревать? Научится ли Федя когда‑нибудь вежливости?
Она ушла в кухню, недовольная. Он так и остался с письмом один. Было неприятно и горько. Почему рассердилась Тамара Аркадьевна?
Но все равно сердце теплело от радости. Радость эта была— письмо с далекого любимого Севера. Казалось, все Федины друзья сейчас рядом с ним — и угрюмый Тойво с добрыми глазами под седыми нависшими бровями, и светлоголовый кудрявый Арсик, и румяный, всегда смеющийся Иванка, и все–все мальчишки из маленькой бревенчатой школы, шумные, смелые, добрые…
Вечером он не вытерпел и, улучив минутку, побежал к Лешке. Он влетел во двор так стремительно, что едва не сшиб Лешку с ног.
— Кондрат! — воскликнул Федя. — Они все вывезли! На нартах.
Лешка непонимающе уставился на Федора. Что вывезли? Какие нарты?
От радости Федя говорил бессвязно и непонятно и все размахивал квитанцией перед Лешкиным лицом. Наконец тот понял.
— Вот толковые пацаны! — закричал Лешка в восторге и выхватил квитанцию из Фединых рук. Но в темноте он не мог рассмотреть, что на ней написано. Он велел Феде подождать его на дворе, а сам пошел в дом. Лешке надо было обязательно убедиться, что Федя не ошибся. Лешка неслышно отворил дверь и проскользнул в нее, и Федя понял, что Лешка отправился на вечернюю прогулку тайком от матери. Через минуту он выскочил на крыльцо с меньшими предосторожностями и сдержанно крикнул:
— Точно! Три тысячи килограммов! Федор, пошли к Асафьевой!
Лешка пританцовывал на месте в избытке чувств, радостно крича, что Наденька сейчас попрыгает перед ними. Ведь весь отряд не соберет столько лому, сколько сдали за Федю северные ребята!
Но Федя к Наде не пошел — ему не особенно хотелось видеть, как та будет перед ними прыгать, и еще ему надо было забежать к Симочке и рассказать про квитанцию. Лешке он, разумеется, об этом не сообщил. А тот подвинулся к Феде и приглушенным голосом сказал, что как раз сейчас он, Лешка, собирался проведать Дика и так и быть возьмет с собой Федора. Кондратьев показал карманы, полные сахару.
Идти к Дику сейчас самое подходящее время. Стемнело, Ермиловна закрыла ставни и ничего не увидит.
Но Феде не хотелось к Дику. Лешка с сожалением посмотрел на него, однако, прощаясь, дружелюбно толкнул его плечом и еще раз сказал, что на Севере живут подходящие пацаны.
В коридоре у Симочки Федя услышал громкое пение. Пела, конечно, Симочка и не только пела, но и пила чай, и рассказывала матери, как сегодня утром она гуляла с Федей по городу.
Федю тоже усадили пить чай. Он сел и широко улыбнулся.
— Ты чего? — осведомилась Симочка и тоже улыбнулась.
Федя протянул ей квитанцию. Она сначала не поняла, в чем дело. Пришлось объяснить, то есть подробно рассказать, как ребята с Тойво ходили на лыжах к старому блиндажу. Ни у Симочки, ни у Феди теперь не было никаких сомнений в том, что скоро их отряд получит новенький, невиданной красоты тепловоз. Радостная Симочка без умолку тараторила. Она рассказала Феде, что, расставшись с ним, пускала корабли в дальнее плавание по луже–озерцу, что около их крыльца.
— Правда, толковая лужа? —'Спросила она Федю.
Лужа ему нравилась, особенно тогда, когда бывала замерзшей и по ней можно было кататься. Но сегодня по этому маленькому озерцу гуляли голубые волны. Покачивались на волнах корабли из коробок и щепок с красивыми цветными парусами. А на берегу озабоченно хлопотали юные капитаны, направляя суда по фарватеру. Труден путь: здесь — подводный камень, там — острые рифы.
Если Федя хочет, они завтра пустят на воду целую флотилию. Федя хотел, и они решили построить свои корабли.
Пришла Тамара Аркадьевна. Симочкиной маме она пожаловалась, что сегодня целый день ищет Федю, что не может теперь и минуты жить спокойно.
Федя больше не улыбался. Он сразу стал одеваться. Ему было стыдно, что она жалуется на него, да еще в присутствии Симочки, Мать Симочки смотрела на Федю то ли с сочувствием, то ли с укоризной. Федя обиделся на Тамару Аркадьевну.
МАРКА ИЗ ГОРОДА ПУНА
Комар шел в школу не торопясь. Напевал песню о веселых друзьях–танкистах и грыз большой кусок сахару. Настроение у Комара было превосходное: вчера он неожиданно выменял редкую индийскую марку. Целый месяц мечтал Комар об этой марке с изображением белого красавца слона. Хозяин марки, приятель Комара, менять ее наотрез отказался. Марка не простая — прислал ее из далекого и чудесного города Пуна мальчик Чанди.
Чем только Комар не соблазнял приятеля! Предлагал английскую марку с портретом королевы. Тот сказал, что королев не собирает и Комару тоже не советует. Тогда Комар предложил французские и испанские марки с изображением рыцарей. Приятель отмахнулся с пренебрежением. Наконец Комар решился и принес владельцу желанной марки редкую бронзовую монету шестнадцатого столетия. Впрочем, столетие точно установлено не было, так как монета была истертая и темная.
Приятель взял монету, с сомнением посмотрел ее.
— Может, ты врешь, что она бронзовая?
Он подержал монету на ладони, возвратил Комару и почесал затылок. Тот рассердился, плюнул и ушел. Но все равно не мог забыть индийскую марку.
Комар похудел, получил двойку по письму. Мать серьезно предупредила его, что сожжет все марки, если он не начнет добросовестно заниматься.
Комар выслушал угрозу и с сердцем, полным невысказанной боли, ушел во двор. Там он сел верхом на Сигналову будку. Щенок вылез из конуры и дружелюбно потерся пушистой мордочкой о грязные штаны Комара. Очень печальный, Комар поднял щенка и прижал к груди, приблизительно к тому месту, где было сердце. Так сидели они до тех пор, пока во двор не вошел курносый человек, по–видимому, одного с Комаром возраста. Он остановился у крыльца и начал читать объявление о монетах и марках, приклеенное Комаром.
— Эй! — крикнул Комар. — Чего тебе здесь надо?
— Не твое дело, —бросил курносый человек и продолжал читать.
— Как не мое дело?! — вскипел Комар. — Отвали от крыльца!
Он решительно слез с будки и с грозным видом направился к пришельцу.
Человек вдруг как ни в чем не бывало попросил:
— Пацан, вызови того Комара!
— Да вот он я, — ткнул себя в грудь удивленный Комар.
— Вот да! А ты меня уже лупить хотел, — рассмеялся мальчуган.
Комар, насупившись, пробормотал, что пока еще не хотел, только собирался. Гость достал пакет с марками, сел на ступеньку и осторожно высыпал на ладонь кучу марок — менять. Комар разглядывал их пренебрежительно, мрачно. Эта венгерская с видом озера Балатон у него есть. Немецкая с портретом Шиллера тоже. Марки с королевами ему даром не нужны. Эта… Комар вдруг задохнулся: на его ладони лежала индийская марка с великолепным слоном! Но Комар был парень не промах. Он прищурил глаза, чтобы мальчишка не прочел в них его восторг, и сдержанно сказал:
— Эту можно выменять.
Комар хотел принести свою марочную коллекцию, заранее обдумывая, какие марки надо припрятать, чтобы не соблазнить мальчищку. Но тот крикнул вдогонку Комару, что редкие марки он меняет только на монеты. Комар вздохнул, но принес монеты. Долго рылся в них гость, наконец выбрал серебряный русский рубль.
— Ого! — воскликнул Комар. — Не жирно ли будет?
Гость молча начал складывать марки обратно в пакет.
Когда очередь дошла до индийской марки со слоном, Комар не выдержал — отчаянно махнул рукой и протянул рубль мальчугану. Мена состоялась.
Комар был счастлив. Он с удовольствием пообедал и сел учить уроки, положив перед собой свое сокровище. Он то и дело поглядывал на марку, но уроки все‑таки выучил. На другой день Комар своевременно отправился в школу, и в кармане его курточки лежала в особом конверте бесценная марка.
Беда нагрянула неожиданно. Только что Комар вытащил конверт и остановился полюбоваться слоном, как кто‑то схватил его за шиворот. Комар резко повернулся, готовый дать достойный отпор, но тут же побелел от страха: перед ним стояла сама Ермиловна. Он понял: Лешкина затея с сараем раскрылась. Позабыв про драгоценную марку, испуганными, жалкими глазами смотрел КомаР на Ермиловну и пытался улыбнуться.
— Здравствуйте, бабушка Ермиловна! Я… я в школу иду.
Ермиловне не было никакого дела до того, куда шел Комар. Пришло время расплатиться за все грехи — за подкинутую на порог дохлую крысу, за сбитые яблоки с ее единственной яблони, за бессовестное похищение из сарая самовара, подсвечников и всякого другого добра.
— Что?! — завопил Комар. — Яблоки и крыса? Ого! Так то ж не я…
Он чуть не сказал, что все это дела Лешки Кондратьева, но вовремя прикусил язык, В его черных, как ночь, глазах загорелась обида на такую несправедливость. Но Ермиловна не заглядывала в его глаза. Она не любила мальчишек. Они доставляли ей одни неприятности. Они не давали ей покоя даже на собственном дворе. Главный враг Ермиловны — Лешка — приучил к себе ее собаку Дика и теперь спокойно разгуливает по двору в любое время дня и ночи. И только к одному Комару питала она некоторое доверие. Только его одного пускала к себе в хату и в награду за приносимых котят и расколотые дрова давала иногда ему старые истертые монеты, которые находила в своих рассохшихся сундуках.
Но Комар совершил подлое предательство. Отныне нога его не ступит на порог хаты Ермиловны, и весь белый свет узнает о его коварстве. Она пойдет в школу, пойдет к Комару домой.
— Ой–ой–ой! — заревел несчастный Комар. — —Меня же дома драть будут! А за что?
— За дело! —крикнула Ермиловна и приказала немедленно вернуть все, что утащил из сарая.
— Нету у меня! — провыл Комар. — Нету–у„.
Ермиловна сердито оттолкнула Комара. От неожиданности тот взмахнул руками и задел конвертом, по–прежнему зажатым в руке, лицо старухи. В сердцах вырвала она конверт и разорвала на мелкие клочки.
Ужас застыл в глазах Комара, полных непролившихся слез. Он кинулся к обрывкам. Увы! Марка навсегда погибла… Комар собрал ее остатки, сел на сырой тротуар и громко, отчаянно зарыдал.
— Из самой Индии марка! Из самой… Со слонами, — горестно причитал он. — А я яблоки не рвал… и крысу не подкидывал… Я только у забора постоял, пока Лешка с Федором в сарай лезли.
— Вот кто! — воскликнула Ермиловна. — Опять этот разбойник Лешка. Опять он, мучитель!
Проговорился! Комар закрыл лицо руками и перестал плакать — такое беспросветное отчаяние заполнило его разбитое сердце. Жизнь потеряла для него интерес: марка разорвана, Лешка беспощадно отомстит.
Долго сидел Комар на мокром тротуаре. В школу он уже опоздал. Домой идти рано. Сидел он и горько думал о несправедливостях и обидах, которые так безжалостно обрушила на него жизнь.
НЕОЖИДАННАЯ ГРОЗА
— Ой, какой упрямый мальчишка! Я же говорила тебе: надень передник.
Таня огорченно смотрит на Мишу. Так извозиться в клее! Ведь не три же года человеку.
Миша виновато оглядывает испачканную курточку. Он сам не понимает, когда это он успел. Он так старался, оклеивая картон вот этой красивой синей бумагой. А здорово получилось! Издали совсем хорошо. Тане нравится?
Но Таня смотрит не на картон, а на бархатную коричневую курточку в клеевых пятнах. Она сердито говорит, что Мишина мама больше не пустит его на занятия кружка. Расстроенный Миша плюет на ладонь и старательно трет белые пятна на рукаве. Вот и сходит! Вот, пожалуйста, пусть Таня посмотрит. Надо только побольше поплевать.
Но Таня плевать категорически запретила и повела Мишу к крану. Здесь она велела ему снять курточку и принялась оттирать тряпкой засохшие следы клея. Миша стоял смущенный и виноватый и пытался скоблить ногтем пятна на брюках.
— Таня… — несмело сказал он, — Таня, мама не ругается, когда я испачкаюсь. Она только вздыхает.
— Тебе, видно, очень нравится ее вздыханье, — упрекнула Таня.
Нет, оно Мише совсем не нравится. Это он говорит для того, чтобы Таня не сердилась. А на занятия его все равно пустят.
Подбежала Лена Софронова показать Тане только что переплетенную книжку. Правда, хорошо? Миша вытянул шею, увидел книжку. Она ему понравилась, однако он закричал:
— Нет, ничего не хорошо! У меня лучше…
— Тебя никто не спрашивает, гречневая каша! — отрезала Лена и предусмотрительно подвинулась к Тане. Но Миша не успел перейти в наступление — к крану явился Лешка Кондратьев.
— Леша, — улыбнулась Таня, — а я что‑то знаю!
Кондратьев настороженно взглянул на Таню. Неужели про сарай?! Нет, она улыбается… Что бы такое она могла знать?
— Потанцуй! — приказывает Таня.
«Что‑то хорошее», — думает Лешка и с готовностью танцует пиратский танец.
— Ну хватит, хватит, — смеется Таня. — Лешенька, у тебя четверка за контрольную по арифметике!
Круглое краснощекое Лешкино лицо расплылось в счастливой улыбке. Миша подозрительно прищурил глаза.
— Лешка, а ты не содрал?
— Сам ты содрал! — возмутился Лешка. Но тут же заулыбался, затанцевал вокруг Лены.
— Ленка, ага? У меня четверка!
Лена сейчас же повернулась к Кондратьеву спиной. Какое ей дело до его четверки?
Лешка сказал:
— У, ехидина!
Но сердиться сейчас он не мог —очень уж радовался. Он спросил у Тани, что получил Горев, и, узнав, что пятерку, весело засмеялся. Какой удивительный сегодня день! Солнца нет, а кажется, что весь коридор залит солнечным теплым светом. Вот идет Анна Васильевна. Лицо у нее задумчивое. Она еще не видит Лешку. Сейчас увидит и обязательно улыбнется. Но что такое? Она смотрит на Кондратьева строго и неприветливо… Или она забыла, что Лешка получил сегодня первую четверку по арифметике? Может, она его не узнает?
Сердце у Кондратьева сжалось от дурного предчувствия. Зимний день сразу стал серым и скучным.
— Кондратьев, — сказала учительница, — пойдем‑ка поговорим. Таня, позови ты мне и Горева.
Анна Васильевна вместе с Лешкой направилась в учительскую, а Таня отдала Мише замытую куртку и пошла в класс.
Федя сшивал потрепанные листы старой зачитанной книги про Тома Сойера. Сейчас он вместе с Томом плыл к необитаемому острову. Таня сказала, что его ждет в учительской Анна Васильевна.
— Зачем? — удивился Федя. — Зачем в учительской?
Таня пожала плечами.
— Вы не подрались? — неуверенно спросила она.
Нет, они не дрались. И вдруг в карих лучистых глазах зажглась тревога. Не сняв передника, Федя идет мимо Тани, в коридоре он останавливается, о чем‑то думает. Таня подошла, сняла с него передник, спросила шепотом:
— Набедокурили, братья–разбойники?
— Лом собирали.
— За лом не ругают.
Таня подвела Федю к учительской, на секунду задержалась у дверей, затем решительно вошла туда вместе с ним.
Миша и Лена все еще стояли у крана. Когда закрылась дверь в учительскую, они многозначительно переглянулись и со всех ног кинулись в класс. Первый влетел Миша:
— Ну, теперь Лешке будет! И Гореву тоже!
— Почему? За что? — посыпалось со всех сторон.
— Не говори глупостей! — строго остановила Мишу Симочка.
Но Лена с готовностью подтвердила Мишины слова.
Симочка опечалилась. Она так и знала, что Лешка не доведет Федю до добра!
— Может быть, они стекло где‑нибудь разбили? — предположила Надя. — Помните, Мишку тоже в учительскую водили, когда он стекло разбил?
Миша недовольно присвистнул: вспомнила! Уж сто лет прошло! И если бы стекло, Анна Васильевна не смотрела бы на Лешку так строго. Он показал, как смотрела учительница на Кондратьева, — сдвинул светлые брови, вытянул толстые губы.
— Что такое? Разве смешно? Нашли над чем смеяться…
Не смеется одна Симочка — тревожится за Федю. Ей хочется пойти к Анне Васильевне и рассказать, какой он хороший, как много занимается с Лешкой. Но говорить об этом нельзя: Федя запретил.
А между тем в классе идет оживленное обсуждение чрезвычайного события.
— Лешка — что! —-задумчиво говорит маленькая Зина. — Он уже сколько раз в учительской был. А вот Горев…
В светлых Зининых глазах искреннее сочувствие Фединой беде. Даже Надя Асафьева предложила пойти заступиться за него. И только Лена, одна Лена Софронова радуется, что мальчишкам попадет.
— Тебе тоже скоро попадет, — пообещал Коля Сомов, — Придет Лешка и вздует тебя хорошенько. Чтобы меньше болтала.
Лена обиженно надулась, повернулась к Симочке за сочувствием. Но та взяла свой портфель и молча вышла из класса. Лена, обеспокоенная ее молчанием, побежала за ней. Как хочется ей помириться с Симочкой! Как хочется опять вместе учить уроки, читать книги…
— Симочка, подожди! — крикнула Лена.
Та не остановилась, наверно, не слышала. Лена догнала ее в коридоре.
— Пойдем вместе домой? — дружелюбно предложила она.
Но у Симочки холодные, равнодушные глаза. Она отрицательно качнула головой:
— Нет, не пойду.
И быстро сбежала с лестницы, даже не попрощавшись с Леной.
…Очень горько, когда тебя обидит друг. А Лена все еще считала Симочку своим лучшим другом. Она терпеливо ждала, когда Симочке надоест этот рыжий противный Федор. А Симочка… Симочка, кажется, перестала замечать Лену.
Слезы застлали Ленины глаза. Она поспешно отвернулась к окну и долго и печально смотрела, как падают на землю крупные снежные хлопья, как весело играют в снежки мальчишки на белом школьном дворе. Постояла, вздохнула, вытерла глаза и побрела по коридору. Дверь в учительскую была приоткрыта, Лена заглянула туда и увидела стоящих перед учительницей Федора и Лешку.
— Так вам и надо. Так и надо! — прошептала она и притаилась за дверью.
СУД СТРОГИЙ, НО ПРАВЕДНЫЙ
Федор и Лешка стояли с низко опущенными головами. Уныло рассказывал Лешка, как уговаривали они Ермиловну отдать им старые вещи из сарая, как сердито прогнала она Федю и Комара и как он, Лешка, залез в ее дряхлый сарай. Все ее подсвечники, медный самовар, тазы и кастрюли никуда не годились, а для тепловоза были очень нужны. Да, они влезли через забор. Да, отломали гнилую доску от стенки старая. Но ведь не для себя же они старались, не себе же тащили лом! Если бы они знали, что из‑за этих старых железяк Анна Васильевна будет расстраиваться, что Ермиловна будет так кричать, честное пионерское, никогда близко не подошли бы к этому трухлявому сараю!
Анна Васильевна очень огорчена. Нет, она не ждала от них таких дел. Она радовалась их дружбе, просила Тамару Аркадьевну разрешить Феде дружить с Лешкой. Надеялась, что Кондратьев распрощается с двойками и будет вручать тепловоз железнодорожникам, а теперь…
— Что теперь, что? —спросил Лешка, чуть не плача. — Теперь уже и нельзя?!
Он засопел и отвернулся в сторону.
Федя знал, как Лешка мечтал о тепловозе, знал, что ради этого события он даже научился решать задачи на части. И хотя Федя очень тревожился, чем кончится эта история с ломом, и боялся, чтобы не узнала о ней Тамара Аркадьевна, но уж очень ему стало жалко Лешку. Он сказал, что весь лом можно отнести обратно и Ермиловна не заметит, как все снова будет в ее старом сарае. А лому у них теперь много: его друзья сдали за пионерский отряд 4 «А» три тысячи килограммов старого металла. И пусть уж Кондратьев вручает тепловоз, когда они его получат.
У Анны Васильевны посветлело лицо. Лешка заметил, пробормотал, оправдываясь:
— У нас в звене девчонки одни… Они лом собирать не умеют. Вот мы и старались… А отнести, конечно, можем. Хоть сейчас.
— Анна Васильевна, — вдруг решительно объявила Та–ня, — это я виновата. Это я им велела собирать старое железо.
— Батюшки, какие заступники! — воскликнула учительница, — Федя — за Алексея, Таня — за обоих.
И по тому, как она это воскликнула, было понятно, что она больше не сердится. Таня сейчас же подсела к ней и принялась твердить, что мальчишки больше не будут, что они хорошие…
— Очень хорошие! — перебила Анна Васильевна. — Ну и пусть эти хорошие исправят, что натворили! вещи отнесут, сарай починят и, самое главное, получат от Ермиловны прощение.
Федя и Лешка переглянулись: трудное дело! ‘А ну как не захочет она их прощать!
— А если не простит? — осторожно спросил Кондратьев.
— Тогда придется родителей ваших звать, вместе с ними к Ермиловне идти…
— Зачем?! — закричал Лешка. — Никого не надо звать. Мы сами пойдем.
Он взял Федю за руку и сейчас же направился к двери.
— Уже и пошли?, — удивилась Анна Васильевна.
— Пошли, — кивнул Кондратьев. — Вот только мешки свои заберем у Зинки.
У ворот дома Ермиловны сидел Дик, При виде Лешки пес завилял хвостом.
— Ишь, Дикарище, узнал!
Лешка покопался в кармане и вытащил замусоленный кусок сахару. Когда пес сгрыз его, Кондратьев грустно сказал:
— Ну, Дик, зови бабушку.
Дик негромко тявкнул.
— Смотри, — изумился Лешка, — понимает.
Он обнял за шею огромного зубастого пса, прижался головой к его мохнатой морде и замер. Дик скосил черный глаз и осторожно лизнул Лешку в щеку.
Вышла Ермиловна. Лешка храбро направился к ней, волоча за собой по снегу мешок.
— Вот, — сказал он, глядя в сторону, — вот они, ваши железячки. В целости, в сохранности…
Подошел Федя. Положил свой мешок рядом с Лешкиным. Постояли. Лешка шмыгнул носом и сказал, чтобы Ермиловна дала им молоток и гвозди —они будут чинить сарай. Она все это дала, приговаривая ворчливо, что шила в мешке не утаишь, видно, стыд ребятам глаза жжет — не могут они на Ермиловну смотреть.
Лешка сразу взглянул на нее и заявил, что ему глаза ничего не жжет.
Мальчуганы работали очень старательно. Накрепко приколотили оторванные доски. Починили ветхую дверь сарая, расчистили снег во дворе. Ермиловна поверила в конце концов в их искреннее раскаяние и ушла в хату. Но все‑таки поглядывала в окошко.
И вот вколочен последний гвоздь. Осталось сделать самое трудное — попросить у Ермиловны прощения. Это потруднее, чем забивать гвозди в доски, колоть дрова и расчищать снег. Это даже тяжелее, чем слушать ее воркотню и обвинения в самых страшных грехах.
Они вошли в дом, встали у порога и уныло поглядели друг на друга. Кто его знает, с чего начинать, чем кончить…
— Ну? — спросила Ермиловна. — Так вы до вечера простоите. Чего вам еще?
Лешка пробормотал, что ничего особенного. Просто так… И вдруг упрекнул:
— Уж и старого железа пожалели на тепловоз! Все равно выбросите…
Ермиловна рассердилась. Нет, она ничего выбрасывать не будет. Она починит свой самовар и станет из него пить чай.
— Да вы же отравитесь и погибните! Самовар же весь зеленый! —воскликнул Лешка. — Лучше вы нас простите и самовар отдайте нам. По собственному желанию…
— Сначала простите, — попросил Федя, который решил было, что Кондратьев все испортил и бабушка их теперь ни за что не простит.
В это время озорные котята влезли на стол и принялись пить молоко из миски. Ермилов–на кинулась к столу, хлестнула самовольных котят грязным полотенцем. Они спрятались под кровать и осторожно выглядывали оттуда. Лешка не удержался — фыркнул.
Старуха повернулась к мальчишкам. Минуту она задумчиво смотрела на них.
— А про котенка тогда вы врали?
— Врали, — покраснел Федя.
Она покачала головой, опять задумалась. Кондратьев затоптался и осведомился нетерпеливо, будет ли бабушка их прощать.
— Идите, — махнула рукой Ермиловна. — Прощаю… Да самовар уж заберите. Но подсвечников не трогайте — ценные вещи.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Лена едва успела отскочить от учительской, как дверь открылась и вышли Федя с Лешкой. Она постояла в тени, пока мальчишки прошли, и побежала в раздевалку.
Как жаль, что ребята разошлись и некому сообщить такую ужасную новость! Прежде всех хочется рассказать об этом Симочке. Вот на кого променяла она Лену! Вот какой этот Федор!
Но идти к Симочке она не хотела — обиделась на нее.
Лена повертелась в раздевалке, раздумывая, не сообщить ли тете Паше о происшествии.
— Аленушка, чего тебе? — спросила та.
— Ничего, — ответила Лена. — Варежки надеваю… А у нас… — начала она и вдруг запнулась. Вдруг тетя Паша спросит, откуда Лена это знает? Ведь не скажешь, что подслушивала у дверей.
Лена вздохнула и отправилась домой. Было очень досадно, что никто не знает о проделках Горева и Кондратьева. Хоть бы их исключили из школы… Ей их не жалко. Но Анна Васильевна не очень‑то сердилась, а Таня все время только и делала, что защищала мальчишек. Может быть, их уже простили? Может, никто и не узнает об их… их воровстве? Нет уж, Лена постарается, чтоб узнала вся школа, чтобы все их дразнили:
— Воры! Воры!
И Лена, конечно, будет дразнить больше всех.
Ей представились Лешка и Федя с опущенными от стыда глазами, с поникшими головами, молчаливые. Нет, ей их не жалко! Лена сейчас же пойдет к Наде и расскажет ей, откуда Кондрат таскал лом. А его‑то хвалили! Таня даже в пример ребятам ставила.
Лене стало смешно! Что‑то теперь будет говорить Таня про своих любимцев? А бедная Симочка, как ей будет стыдно! Но Лена великодушно ее простит, и снова будут они дружить. Поскользнувшись, Лена падает в мокрый снег. Домечталась! Кто‑то помогает ей подняться, поправляет сбившуюся на глаза шапочку, подает выпавший из рук портфель.
— Спа…
Но Лена не договорила слов благодарности, так и осталась с раскрытым ртом—перед ней стояла Тамара Аркадьевна!
— Ушиблась, девочка? — заботливо спрашивает она.
Лена молчит и не спускает глаз с Тамары Аркадьевны.
«Сказать или нет? Сказать или нет?» — смятенно думает она. А Тамара Аркадьевна уже отходит от нее. Сейчас уйдет и не узнает, что наделал Федор. И ничего ему не будет, ничего…
— Тамара Аркадьевна! — кричит Лена и бежит к ней. — Я вам… я вам… что‑то скажу…
Лена рассказывает быстро, не поднимая глаз.
— Они воры, их даже из школы могут исключить. Их все теперь будут дразнить…
Она еще говорит, а Тамара Аркадьевна уже пошла. Куда это она? В школу?!
— Там никого нет! — отчаянно кричит Лена. — Уроки закончились…
Тамара Аркадьевна вернулась, молча прошла мимо Лены, сумрачная, сердитая. Лена постояла, посмотрела ей вслед и тихонько побрела домой. Она уже раскаивалась в том, что рассказала Горевой про мальчишек. Теперь все узнают, что Лена подслушивала, что разболтала, да еще и приврала. И зачем только встретилась ей Тамара Аркадьевна, зачем помогла ей подняться? Завтра войдет Лена в класс, а все от нее отвернутся, никто не захочет разговаривать с ней.
— Доносчица! — крикнет Миша.
— Шпионка! — добавит Надя.
Симочка презрительно посмотрит на Лену. Больше никогда они не будут дружить. Никогда…
«Что я наделала? Что наделала…» — шепчет Лена в ужасе. Она стоит посреди тротуара, стоит и плачет. Что теперь с ней будет? Может, это ее исключат из школы?
Падает на Ленины плечи пушистый снег. Вот уж и воротник и шапка побелели, маленький сугроб вырос на плечах. А она все стоит, все думает.
— Мамочка, ой, мамочка! — всхлипывает она. И вдруг срывается с места и бежит домой.
Вот и знакомое крылечко, вот и мама встревоженно встречает ее: что случилось? Какая беда пришла к Леночке?
А Леночка громко плачет и прячет лицо в добрых материнских руках.
— Я упала… я ногу ушибла…
БАБУШКА, МИЛАЯ БАБУШКА!
В это время Федя и Лешка весело шагали домой. Весело потому, что были они прощены и в награду за искреннее раскаяние неожиданно получили самовар и мешок всякого же–лезного хлама. Лешка уверял, что, если бы Федя не увел его от Ермиловны, он выпросил бы у нее и подсвечники и, возможно, медную трубу.
Дома Тамары Аркадьевны не было. Федя взял хлеб, холодную котлету и сел к столу с книжкой про Никиту, которую недавно подарила ему Тамара Аркадьевна.
Как хорошо, что с Ермиловной все закончилось благополучно! А ведь не зря ему так не хотелось лезть в этот сарай...
Тамара Аркадьевна быстро вошла в комнату… Ух, какое гневное у нее лицо! Губы вздрагивают, черные брови сошлись в одну прямую линию. Федя еще не видел ее такой. Он сразу почуял недоброе, встал, тревожно спросил:
— Что, что случилось?
Она воскликнула:
— Подумать только: докатился до воровства!
Почему‑то в комнате потемнело. Наверно, опять дождь…
Или это от черных сердитых глаз Тамары Аркадьевны…
— Нет… нет… — почти шепотом произнес Федя. — Мы не воровали… мы собирали железный лом…
— Воровали! — гневно крикнула она. — Воровали!
Низко–низко опустилась каштановая голова. Упали на глаза волнистые волосы, не видно Тамары Аркадьевны, только слышен ее голос, полный негодования.
Разве плохо Феде живется дома? Кто его обижает? Что ему еще надо? О Лешке Кондратьеве не заботится так родная мать, как она, Тамара Аркадьевна, о Федоре.
Она резко открыла шкаф, достала красивую голубую рубашку и бросила на стул. Это она сшила для Феди — в подарок. Теперь можно отдать кому‑нибудь, хоть Лешке. Ей все равно…
— Завтра прилетит Николай Егорович, — сказала она устало. — Тогда и решим.
— Что решим? — поднял Федя голову, померкшими глазами взглянул на нее. — Что?
Она не ответила.
Феде вспомнился отец, когда он возвращался из дальних полетов. Он шумно входил в дом, кричал:
— Рыжик, где ты?
Федя мчался на этот зов, смеясь от радости. Он бросался отцу на шею, крепко обнимал, гладил его седые волосы, щеки:
— Ты очень устал, папа? Очень?
Отец никогда не жаловался на усталость. Он требовал, чтобы ему немедленно рассказали, как жили без него.
— Не ссорились? — спрашивал он, пытливо всматриваясь в лицо Рыжика и Тамары Аркадьевны. Они, не сговариваясь, кивали: нет, не ссорились, жили дружно. Отец бурно радовался. Обнимал сразу двоих и кричал:
— Да здравствует мир!
Теперь он так не закричит. Теперь не обрадуется. Но все равно, все равно пусть скорее приезжает. Феде очень плохо без него, совсем плохо… Отец все поймет, во всем разберется. Он никогда не поверит, что его Рыжик — вор.
Горечь на сердце не проходила. Очень нужно, чтобы кто-нибудь поднял Федину голову, заглянул ласково в глаза, сказал, как говаривала бабушка, когда с Федей случалось что-нибудь неприятное:
— Не печалься, батюшка, все образуется!
Бабушка далеко. Она ничего не знает, а Тамара Аркадьевна рядом. Может быть, она успокоилась, может, послушает Федю, поверит… И скажет ему что‑нибудь доброе, хорошее, скажет, что не сердится больше.
Федя осмелился, шагнул к ней.
— Тамара Аркадьевна… — прошептал он.
Она обернулась, суровая, чужая.
— Иди спать.
Он покорно пошел. Он больше ничего не сказал — уже не хотелось.
В кровати из‑под матраца достал Федя бабушкины письма. Они всегда разгоняли печаль, всегда радовали.
«Милый мой Федюшка! Соколик мой ненаглядный! Шлет привет тебе с далекого Северного края любящая тебя бабушка Марфа Тимофеевна. Будь всегда здоров и светел, не хмурься, не печалься по–пустому. А еще не забывай. ты, дитятко мое милое, свою старую бабушку. Чай, сладкое тебе житье в ваших южных местах, что редко шлешь нам письма. Дед Тойво ждет тебя не дождется, чтобы идти к Черному озеру следить за медведицей. Нынче ходил он туда на лыжах. К самым трем соснам взобрался и даже перевалил на ту сторону, да Кирюшка завязать стала в снегу, пришлось старику вернуться.
Сей год снегу у нас неслыханно много. Березу у нашего крыльца занесло наполовину, да и крыльцо намедни засыпало совсем. Спасибо, пришел дед Тойво, откопал, и ладно еще, что Иванка с Арсением подоспели да помогли старику, а то бы так и сидеть мне в снежном терему.
Иванка выпросил твои финские лыжи и ходит на них в тайгу, куропаток стреляет. А ружье твое, Федюшка, я никому не даю —Тойво не велит, боится, как бы не поломали его парни.
На Онеге–озере ребята расчистили снег и катаются на коньках. Иванка с Арсением прибегают проведать меня да про твое житье–бытье порасспросить. Нынче с задачами‑то им труднехонько приходится, все тебя, ягодка, поминают. Летом пойдут они с Василием Васильевичем походом в Заонежье, наказывали, чтобы ты поспешил сюда без промедления. И девочку Серафиму тоже привози — ужо научу я ее вышивать на пяльцах редкие узоры, ежели она до рукоделия охотница.
А пока мы с котом Степаном вдвоем вечеряем и ждем вешних дней, ждем тебя, цветочек лазоревый. Степан изленился и перестал мурлыкать. Верно, по тебе скучает.
Будь же умницей, Федюшка. Не забывай и не печаль свою старую бабушку — отписывай чаще. А она желает тебе здоровья богатырского, удачи и молодечества. Почитай родителей, уважай товарищей.
Вечно любящая тебя твоя бабушка Марфа Тимофеевна. Кланяйся низко Тамаре Аркадьевне и целуй отца своего Николая Егоровича».
Разогнали письма черные тучи. Посветлели глаза, залучились по–обычному. А вот и солнышко из‑за туч выглянуло — улыбнулся Федя, прошептал:
— Спокойной ночи, бабушка!
Заснул Федя с бабушкиным письмом в руках. Снились ему родные северные леса, Тойво и его собака Кирюшка. Тойво рассматривал следы на снегу, потом они долго шли по следу. Кто‑то звал Федю в лесу. Он остановился, прислушался. Да это отец! Федя побежал ему навстречу и… проснулся.
Была глубокая ночь. Никаких звуков не доносилось ни со двора, ни с улицы. Федя раскрыл сонные глаза, сразу же вспомнил горький разговор с Тамарой Аркадьевной, вздохнул и отвернулся к стенке. Скорее заснуть и снова вернуться в тайгу к Тойво и Кирюшке. Вдруг он услышал голос Тамары Аркадьевны. С кем это она могла говорить ночью? Жалуется на него. Рассказывает про Ермиловнин сарай…
— Потише, —глухо произнес голос отца.
Федя вскочил с постели в смятении: отец дома! Он хотел бежать к нему, но услышал жестокие слова:
— Он стал вором.
Федя остановился и долго стоял в темноте босиком, в майке и трусиках.
Он стал вором! Так сказала Тамара Аркадьевна. Но почему отец молчит? Почему он молчит? Разве он согласен с ней?
Отец молчит, а говорит Тамара Аркадьевна. В ее голосе слышны слезы. Она просит, умоляет отца отвезти Федора к бабушке. Хоть на время, пока она подумает, решит, как дальше его воспитывать. Мальчишка сбивается с пути, он не слушает ее, смотрит волчонком. Не знает она, как, с какой стороны к нему подойти. Отец в беспрерывных полетах. Пусть поживет Федя у бабушки; ее он любит, слушается.
«Папа сейчас скажет… Он сейчас скажет! «Больше всего на свете я люблю Рыжика!» — ждал Федя всем сердцем отцовской защиты.
Но отец молчал. У Феди потемнело в глазах. Он упал на постель, уткнулся лицом в подушку и горько заплакал.
Проснулся Федя раньше обычного. Но завтракать не стал и уроки не повторил. Он тихонько прокрался мимо дивана, на котором спал отец, осторожно закрыл за собой дверь и спустился с крыльца.
За ночь подморозило. Ясное небо обещало погожий день. Соблазнительно свисали с ворот и заборов длинные крепкие сосульки. Но если человеку горько, его не прельщают сосульки, какой бы величины они ни были. Он идет и думает свою невеселую думу.
Мелькнула впереди голубая пушистая шапочка, раздался веселый смех. Это выбежала из ворот Симочка и громко радуется морозному утру.
— Доброе утро, Федя–медведя! Спорим: прокачусь по луже и не упаду!
И она лихо мчится в маленьких новых валенках по ровному льду.
— Ага? Не упала! А я и на коньках могу!
Симочка подошла ближе.
— Ты чего?
— Ничего.
— Нет, не ничего! — хмурится Симочка.
Федя насупился, отвернулся, но она велела ему сейчас же все рассказать. И он покорно начал свою печальную повесть. Да откуда ни возьмись появился Лешка Кондратьев и закричал:
— Привет!
Лешка парень, конечно, хороший, но рассказывать при нем о событиях минувшей ночи почему‑то не хотелось, и Федя замолчал. Втроем они направились в школу. Там уже было шумно и весело.
— Ну, охотник, как дела? — приветливо спросила тетя Паша.
Федя улыбнулся. И то ли от вопроса тети Паши, то ли от веселого школьного шума, но стало ему веселее. Когда же он увидел Анну Васильевну и в ответ на свое приветствие услышал ласковое! «Доброе утро, северянин!»то почувствовал, что печаль и мрак, заполнявшие его сердце, уходят и ему очень хорошо в школе вместе с учительницей, Симочкой, тетей Пашей и всеми ребятами.
Но школьный день закончился, и Федя снова загрустил. Не хотелось идти домой, встречаться с отцом и с Тамарой Аркадьевной, не хотелось ни думать, ни говорить о надоевшем Ермиловнином сарае. Он с удовольствием принял Лешкино приглашение — отправиться обедать к нему.
Дома Лешка первым делом заглянул в кастрюльки.
— Порядок! — удовлетворенно сообщил он Феде. — И борщ и каша есть. Ты любишь сладкую кашу?
Сладкую кашу Федя любил. Они с Лешкой съели ее по две тарелки, после чего Кондратьев принялся чинить велосипед. Велосипедом Лешка ужасно гордился: он не простой — он гоночный! А что подержанный — это пустяки, даже лучше, потому что объезженный. Велосипед мать купила у соседа. Лешка просил у нее еще ружье, чтобы летом охотиться вместе с Федором в тайге, но она сказала, что от покупки ружья пока воздержится. Впрочем, Лешка был очень рад и велосипеду. Он сразу же разобрал его. Но почему‑то сломалась педаль и погнулись спицы. Лешка сам не понял причи-, ны, очень огорчился и даже ночью во сне говорил про свой гоночный велосипед. В школе в диктовке написал вместо «спички» — «спицы». Федя помнит, как над ним тогда все смеялись.
«Эх, Лешка, Лешка! — вздохнул про себя Федя. — Ты счастливый и веселый. И одна–единственная у тебя забота — поскорее починить свой гоночный велосипед. А у него, Феди, теперь совсем плохие дела — не знает он, что ему делать, как жить».
Сосредоточенный и молчаливый, надел Федя пальто и печально попрощался с Кондратьевым.
— Фу–ты ну–ты! — закричал Лешка, И все‑то он переживает, все квасится! Сама Ермиловна нас помиловала, значит, и делу всему конец.
Федя махнул рукой и вышел. Шел медленно, расто останавливался, задумывался. Вот он дом — рукой подать. Там отец и Тамара Аркадьевна. Сидят и разговаривают о том, какой плохой человек Федор и что зря они взяли его от бабуш–ки, Отец, наверно, хмурится, ходит по комнате, может быть, не соглашается с Тамарой Аркадьевной. Ну, конечно, он спорит с ней и даже сердится — зачем она дурно говорит о Рыжике. Ну, конечно!
Федя улыбнулся и на сердце стало легче от такой хорошей мысли.
Быстро и решительно идет Федя к своему дому. Быстрой решительно поднимается на крыльцо и… останавливается — дверь закрыта на замок. Дома никого нет. Никто не ждет Федю, никто не беспокоится о нем. Никто больше не любит его в этом доме.
Федя постоял, посмотрел на замок, подергал дверь, потом медленно спустился с крыльца и побрел куда глаза глядят.
ЧЕСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ
Знаете ли вы «Неаполитанскую песенку» Чайковского? Симочка говорит, будто она про море, солнце, про серебряные искры, что ослепительно сверкают на голубых волнах, когда солнце стоит в зените.
Прозрачно море в ясную погоду. Лежат на дне его разноцветные камни — красные, желтые, голубые. Будет ветер — будет прибой, и выбросит волна цветные камни на песчаный берег. Собирай, сколько хочешь.
Неслышно и бистро плывет к берегу стая маленьких проворных рыб. Вот остановились, замерли… Греются. Грейтесь, грейтесь хорошенько! Нежьтесь в теплой прибрежной водичке.
Но вздохнул теплый ветер, мелкие частые рябинки побежали к берегу — и рыбок как не бывало! Только колышутся тонкие веточки водорослей да застыл, прижавшись к зеленому от тины камню, старый пятнистый краб.
Стукнула дверь. Симочка оторвалась от клавиш, досадливо оглянулась — кто это мешает ей вспоминать про море?
Ах, Федя! Симочка довольно улыбнулась.
— Ты любишь «Неаполитанскую песенку»? — спросила его Симочка. Федя ее не знал. А слушать ему некогда, потому… потому что он сегодня уезжает к бабушке.
Федя сказал это очень решительно. Симочка забыла про море, про песню. Она уже стоит около него и недоверчиво всматривается в его лицо. Он шутит, конечно?
Нет, Феде не до шуток. Совсем померкли карие глаза. Симочка не видит в них смелых светлых лучиков. И самой ей что‑то грустно стало. Она садится рядом с ним и жалобно говорит, что одному ему ехать нельзя. Дети не ездят в поезде без старших.
Но Федя ее не слушает. Он сейчас пойдет на вокзал и купит себе настоящий билет. Деньги возьмет из бабушкиных — она зашила их в курточку на всякий случай.
Феде не хотелось рассказывать историю с Ермиловниным сараем. Теперь уж все равно.
Симочка необычно долго для нее молчала. Светлые брови сдвинулись, губы вытянулись трубочкой. Уедет Федя, а она останется. Будет ходить в школу, снова к ней за парту сядет Лена Софронова. Нет, с Леной она больше сидеть никогда не будет. И дружить тоже не хочет. Совсем разонравилась ей Лена.
— Федя! — вдруг встрепенулась Симочка. — А как же тепловоз?
Он грустно сказал, что уж как‑нибудь обойдутся без него. И если у них не хватит лому, пусть напишут. Он знает еще одно местечко, подальше, чем старый блиндаж.
Симочка не любила печалиться. Она не хотела, чтобы Федя уезжал. Она решила все ясно и просто: он может жить у них. Мама его будет любить. Она уже его любит. Максим — тоже.
— Як бабушке хочу. Мне без нее плохо, — признался Федя. — А ты приезжай к нам летом. Тебя бабушка редкие узоры научит вышивать. Приедешь?
Симочка согласилась. Федя повеселел, представив себе, как Симочка приедет к нему в село, как познакомит он ее с бабушкой, Тойво, ребятами. Он спросил, хочет ли она пойти с ним к Черному озеру выслеживать бурую медведицу, что живет у трех сосен. Она откровенно призналась, что побаивается медведицы. Лучше куда‑нибудь в другое место.
Федя охотно согласился. Хорошо, тогда они поедут с Тойво рыбачить на дальние Онежские острова.
Когда Федя жил у бабушки, отец каждое лето приезжал к ним. Они сразу отправлялись рыбачить на просмоленной тяжелой лодке Тойво. Якорь бросали перед закатом у острова, заросшего березами и шиповником. Долго ловили рыбу удочками. Догорала в небе вечерняя заря. Приходил с богатым уловом сигов дед Тойво. Он раскладывал костер на поляне, окруженной березами, такими развесистыми и пышными, что по ветвям можно было переходить с одного дерева на другое. В большом закопченном котелке Тойво варил уху. Время от времени он пробовал ее большой деревянной ложкой, подсыпал соли, убавлял огонь, что‑то пришептывал. Кто его знает, оттого ли, что сигов Тойво укладывал в котел не очищенными от чешуи, или от его таинственного шепота, но уха была до того вкусна, что от нее невозможно было оторваться. Ели ее с зеленым луком деревянными крашеными ложками.
Вспомнив все это, Федор замолк, пригорюнился. Молчала и Симочка. Федя встал, взял свой портфель.
— Уже уезжаешь? — всполошилась Симочка. — Ну подожди немножко!
Он подождал — посидел несколько минут на диване и встал.
— Сима, — сказал он очень серьезно. — Дай честное пионерское, что никому про меня не скажешь. Даже маме.
— Я и так не скажу. Зачем пионерское?
— Ну, пожалуйста! Если пионерское дашь — точно не скажешь. А так можно и проговориться.
Симочка торжественно прижала руки к груди.
— Честное пионерское!
СИМОЧКА ПЛАЧЕТ
Максим получил пятерку по истории. Хорошо жить на свете, когда получишь пятерку! Как он рассказывал о Георге Вашингтоне и его отважных отрядах!
Максим шел домой в прекрасном настроении. Он напевал песенку, которую часто играет на рояле Серафима. Кажется, песенка называется «Неаполитанской». Одним прыжком Максим влетел на крыльцо.
— Мама!!!
Никто не ответил. Значит, мама в кухне. Не сняв калош, Максим влетел в кухню. Пусто. Ни мамы, ни Серафимы.
Странно! Ну, мама задержалась на работе — она часто засиживается со своими девчонками, которых она учит музыке. А где же Симка? Очевидно, опять у своего Федора.
Максим вздохнул: в кои веки получишь пятерку и некому о ней рассказать! Огорченный, он попробовал остывший суп прямо из кастрюльки. Суп понравился, и Максим, скинув пальто, решил, не откладывая, пообедать. Вдруг до него донеслись странные звуки: кто‑то тихо и горько всхлипывал.
Максим встал и заглянул за дверь. На маленькой скамейке сидела Симочка и, уткнувшись носом в колени, тихонько плакала. Плечи ее вздрагивали от рыданий, светлые косы растрепались. Сердце Максима сжалось при виде такого печального зрелища. Однако он сказал сердито:
— Вот козлиха!
Симочка ничего не ответила на эти обидные слова. Брат постоял, подумал, чего бы сестре реветь. Двоек у Серафимы не бывает. С Лешкой, что ли, подралась?
— Ну чего ты? — Максим сурово нахмурился, чтобы скрыть овладевшее им беспокойство.
Симочка молчала. Максим обиделся и отправился дообедывать. Из‑за двери время от времени доносились тяжкие вздохи, всхлипывание и сморканье. Покончив с супом, Максим строго посмотрел на дверь, за которой скрывалась сестра, и сказал:
— Кончай реветь. Я буду сочинение писать.
Он пошел было заниматься, но по пути осторожно заглянул в угол. Сестра размазывала слезы по лицу. Вид у нее был очень несчастный, а на коленях лежала старая испачканная кукла Анюта с отбитым носом и мокрыми от Симочкиных слез щеками. Максим понял, что плохи у сестры дела, если старая Анюта вытащена на белый свет.
— Эх ты, председатель совета отряда! Опять за куклы?!
Она сейчас же спрятала куклу за спину и угрюмо взглянула на брата красными от слез глазами.
Сердце не камень! С откровенной тревогой брат наклонился к сестре и участливо спросил:
— Ты чего, а?
В ответ хлынул целый ливень горючих слез.
Ни–че–го... Про–осто… так…
Тогда Максим опустился на корточки рядом с сестрой, помолчал, поглядывая на нее, и вдруг протяжно, басовито завыл.
Симочка моментально подняла мокрое лицо, испуганно взглянула на брата.
— Максимка, что?
— Ни–че–го! — провыл Максим. Но не выдержал и рассмеялся.
Смеялась и Симочка, даже не вытерев слез с лица.
— Прошло? — дружелюбно спросил брат. — Наревелась?
— Нет, — отрицательно покачала головой сестра. — Не прошло…
— Двойку получила?
Симочка вздохнула, накручивая на палец кончи–к светлой косы.
— Нет.
— Ну, выкладывай. У меня сочинение.
Серафима завздыхала, засморкалась.
— Мне нянчиться с тобой некогда, — обиделся брат. — Реви, если нравится!
Он уселся за свой стол и раскрыл том Белинского. Сочинение было очень серьезным — про Евгения Онегина. Максим уже два раза читал статью Белинского и даже начал понимать, почему Онегин был эгоистом поневоле. Чтобы понять это окончательно, необходимо было прочесть статью в третий раз. Но читать мешали вздохи сестры. Максим встал из‑за стола и, сдерживая накипевшее возмущение, спросил, кончит ли Симка сегодня реветь и вздыхать.
В это время послышались быстрые шаги и в комнату вошла мать. Она сразу все поняла. Симочка в углу, за дверью — значит, пришло к дочке горе.
— Симочка! — позвала мать.
Дочка не откликнулась. Тогда мать вопросительно взглянула на сына: не ты ли, мол, братец, причина горьких слез сестры? Но братец отрицательно покачал головой, прямо глядя в материнские глаза. Обеспокоенная мать вернулась к всхлипывающей дочке.
— Помочь могу? — Она наклонилась к Симочке, приглаживая ее растрепавшиеся волосы.
Серафима уныло посмотрела на мать и пробормотала, что рассказать ничего не может, потому что дала честное пионерское слово.
— Кому? — осторожно спросила мать.
— Кому‑то…
Мать задумалась, а в это время Максим вспомнил про свою пятерку по истории и закричал:
— Мама!
Она испуганно обернулась.
— Я получил пятерку! Посмотри!
— Ох, разве можно так пугать?! — укоризненно сказала мать, но тут же радостно улыбнулась и взяла в руки Максимкин дневник. Выведенная красными чернилами, там стояла красивая пятерка. .Максим принялся снова рассказывать про Георга Вашингтона, а затем объявил, что идет заниматься — готовиться к сочинению.
Мать предложила дочке вместе пообедать. Но Серафима опять скрылась за дверью и пробурчала:
— Не могу… Я расстроенная…
Немного погодя бочком вышла из своего угла и уселась за стол рядом с матерью. Ела она нехотя, часто задумывалась. Мать незаметно наблюдала за дочкой, но спрашивать не спрашивала.
ОШИБКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ОТРЯДА
Сочинение о Евгении Онегине хотя с трудом, но продвигалось. Была в третий раз с карандашом в руках прочитана статья Белинского. Был составлен план и выбран эпиграф. На все ушло много времени. Максим встал, потянулся после трудов праведных и только теперь увидел, что совсем темно и давно пора закрывать ставни. Он вышел из своей комнаты и натолкнулся на сестру. Симочка стояла в пальто перед часами и внимательно смотрела на стрелки.
Максим бы в хорошем настроении — дело с сочинением ладилось. Он легонько дернул сестру за конец длинной толстой косы и отскочил: Симочка должна была перейти в наступление. Но она не двинулась с места, только подняла на брата серьезные глаза и спросила почему‑то шепотом:
— Максимка, ты… не знаешь, где вокзал?
Брат удивился. Зачем ей вокзал?
— Ну чего ты пристал? — жалобно протянула Симочка. — Я спрашиваю просто так…
Опять просто так! Максим вспыхнул и заявил, что ничего ей не скажет. Он вышел на улицу. Ветер гонял и крутил по дороге снежную пыль. Начиналась метель. Пока Максим закрывал ставни, его свитер запорошило снегом. Ему это очень понравилось, он подставил ветру голову, зажмурил глаза, стал ловить ртом колючие мелкие снежинки. Когда у него замерзли уши и нос, он набрал полные пригоршни снега и побежал в дом. «Попугаю Симку!» — решил Максим, уже забыв о размолвке с сестрой.
У самых дверей он неожиданно столкнулся с высоким летчиком в теплой кожаной куртке. Да это Горев! Николай Егорович! Максим вежливо поздоровался, раскрыл перед гостем двери.
Взглянув на Горева, Симочка тотчас же опустила глаза и пролепетала в крайнем смущении:
— Здравствуйте… Николай Егорович…
Горев наклонился к ней и спросил, где Федя. Симочка только вздохнула и опустила светлую голову. Но Горев все повторял свой вопрос и не спускал тревожных глаз с лица Симочки. А у той подбородок уже коснулся груди — ниже опускать голову некуда.
— Что же ты молчишь? — не выдержал Максим. — Говори, когда спрашивают!
Но сестра молчала… Николай Егорович рассказывал матери про то, как Федя и Лешка забрали без разрешения желез–ный лом у какой‑то бабушки, как потом вернули его и что сегодня Федя ушел в школу и больше не возвращался домой.
Горев говорил быстро, негромко, часто поправлял рукой седые волосы и все посматривал на Серафиму.
Максиму было совершенно ясно, что Симка знает, где Федя. Ишь, как отворачивается от Горева! Ишь, как поджимает губы, а сама, хитрющая, нет–нет да и кинет искоса настороженный взгляд на Николая Егоровича! И плакала она в углу неспроста, и из дому хотела удрать незаметно тоже недаром.
Мать вдруг вспомнила, что стоят они все еще в передней, извинилась и предложила Николаю Егоровичу пройти в комнаты. Он отказался. Он пойдет искать сына — час поздний. Но вот задача — где его искать? В школе нет, Анна Васильевна после уроков Федю не видела, от Кондратьевых он ушел давно.
Максим подошел к сестре.
— Говори, чего ты на вокзал собиралась? Сейчас же говори!
— Я… я не собиралась… — чуть слышно произнесла Симочка. Тогда Максим резко повернулся к Гореву и закричал:
— Николай Егорович, подождите, не уходите. Она все знает, знает!
Горев положил руки на Симочкины плечи, попытался заглянуть в ее глаза. Да разве заглянешь, если они прикрыты длинными темными ресницами!
— Симочка, не молчи! — умоляюще попросил он. — Ведь с Федей, может, случилась беда…
Симочкино сердце не могло больше выносить таких мучений и страданий. В полном и безвыходном отчаянии она села на пол и громко, безутешно заплакала.
— Ох, Федя–медведя! И что только… ты… наделал!.. И за-ачем… зачем я… я дала тебе честное–е… пио–онерское! А то бы… то бы ты не поехал… на свой далекий Север…
Мать и Горев переглянулись. Максим опять закричал:
— Вот видите! Видите!
На лбу побледневшего Николая Егоровича появились крупные морщины. Он взглянул на часы и открыл входную дверь. Уже с крыльца запоздало донеслось:
— До свидания!
— Подождите! Я с вами!
Максим схватил пальто и кинулся вслед за Горевым.
Мать наклонилась к дочке, вытерла ей нос и попросила подняться с пола. Симочка посопела, повсхлипывала, но встала и отвернулась к стенке. Она долго стояла так, старательно отрывая пуговицу от пальто. Оторвав одну, она принялась за другую.
— Может быть, хватит одной? — спросила мать.
Симочка молчала. Мать подошла к ней и миролюбиво предложила:
— Давай‑ка разденемся! — И сняла с пушистых белокурых Симочкиных волос голубую шапку.
— Мама… Мамочка, — жалобно протянула Серафима. — Ведь я им ничего не сказала, правда?
— Не сказала, не сказала, — успокоила мать. — Ты только плакала. На целый год сегодня наплакалась.
— А… а они найдут… Федю?
— Должны найти.
Тут мать стала объяснять дочке, что она плохой друг. Отговорить Федю надо было от поездки, а если не слушался — приказать. Ведь она же председатель совета отряда, а совсем не понимает, как должна поступать.
Симочка молчала, расстроенная. Выходило, что она виновата в Федином бегстве. А разве она его не отговаривала, разве она его не просила не ехать? И если она плохой председатель совета отряда, пусть ее переизберут.
Вот как получается: Федя мучается, Николай Егорович расстраивается, и Симочка наплакалась досыта. Мама тоже беспокоится: сидит за книгой, а сама почти не переворачивает страниц — все прислушивается к шагам во дворе.
Симочка взяла маленький стул, поставила рядом с маминым и уселась с Анютой на коленях. Но все равно было грустно. Она попробовала пересесть, но легче не делалось. Тогда она взяла мамину руку и положила себе на голову. Мать улыбнулась, погладила дочкины волосы, и Симочке стало легче.
Максим не шел. Симочка не могла больше томиться в неведении и предложила матери сходить вместе к Горевым. Может, Федя с отцом пришли.
Мать с сомнением покачала головой, но пойти согласилась. Они оделись и вышли из дому. Пороша с воем кинулась им в лицо, ветер злобно рванул Симочку за пальто. Она взяла мать за руку и смело шагнула во вьюжную тьму.
Дома у Горевых их встретила Тамара Аркадьевна. Она была одна и очень обрадовалась гостьям, упросила раздеться, пройти в комнаты. Мать рассказала ей, что Федя на вокзале, что Николай Егорович и Максим поехали туда за ним, их можно ждать с минуты на минуту. Тамара Аркадьевна слушала мать сумрачно, не перебивала. Она несколько раз подходила к окну — посмотреть, не идет ли Николай Егорович с Федей, не утихла ли вьюга. Симочка заметила, что за занавеской она тихонько вытирала глаза.
«Плачь, плачь! — с неприязнью думала Симочка. — Это все из‑за тебя!»
Время шло. Никто не приходил. Тамара Аркадьевна тревожно советовалась с матерью: не поехать ли ей тоже на вокзал?
— Разъедетесь, — уверенно сказала мать, —Вы — туда, они — сюда.
Тамара Аркадьевна предложила гостьям чаю. Но Симочке ясно было, что делает она это из вежливости: даже не дослушав отказа матери, опять отошла к окну.
Звонок раздался неожиданно. Тамара Аркадьевна вздрогнула, растерянно взглянула на мать, а та уже спешила открыть дверь. В переднюю занесенная снегом вошла Анна Васильевна. Она не удивилась, увидав Серафиму и ее мать.
— Нашелся? — спросила учительница вместо приветствия.
Тамара Аркадьевна кивнула и передала рассказ матери. Симочка отряхивала Анну Васильевну от снега и хорошо видела, как она помрачнела. И когда ее строгие глаза с явным осуждением остановились на Тамаре Аркадьевне, Симочке показалось, что та сейчас расплачется.
Но никто не расплакался. Анна Васильевна сказала:
— Что ж стоять да у моря погоды ждать! Пойду им навстречу.
— В такую метель? Да вы их и не найдете. Они могут трамваем, могут троллейбусом… — несмело возразила Тамара Аркадьевна.
Но учительница все равно пошла. В дверях она вдруг повернулась.
— Я к вам еще приду, — сказала она Тамаре Аркадьевне. — Завтра.
Симочка с матерью пошли вместе с Анной Васильевной. Метель утихала. Лишь время от времени ветер, набравшись сил, дунет, поднимет снежную пыль, бросит в лицо прохожим и сникнет. На темно–синее небо из‑за облаков медленно выплывала тусклая луна.
Около дома они увидели Максима.
— Федор нашелся! — крикнул он еще издали. Тут же на улице Максим подробно рассказал, как увидел Федю на площадке вагона.
Максим бежал по перрону от вагона к вагону, поспешно разглядывая пассажиров в окнах, в тамбурах. Он пробежал уже половину состава, как поезд тронулся. Максим остановился, отчаявшись найти Федю, провожая глазами проходившие мимо вагоны. Улыбались за окнами проплывавших вагонов дети. Вытирала глаза платочком девушка, стоявшая на верхней ступеньке одного из вагонов, а парень бежал рядом и махал ей шапкой. В ту секунду, когда шестой вагон поравнялся с Максимом, за плечом проводника мелькнуло Федино заплаканное лицо.
— Федор! — заорал Максим и побежал за вагоном. — Федор, стой! Куда ты?
Федя его не слышал. Максим сразу отстал — поезд набирал ход. Тяжело дыша, Максим оглянулся, в отчаянии закричал:
— Николай Егорович! Да где же вы?!
— Здесь я, — отозвался Горев, выбегая из темноты.
— Федор уехал! Он в шестом вагоне. Я видел!
Последние слова Максим крикнул Гореву в спину. Мимо проходил последний вагон. Горев на ходу вскочил в него.
Все обрадовались, заставили Максима повторить свой рассказ, а потом пошли провожать Анну Васильевну. Симочка все время твердила:
— Теперь уж он найдется. Обязательно найдется!
В ДАЛЬНИЙ ПУТЬ
Наконец‑то в южный город пожаловала северная метелица! Со свистом пролетела она по улицам, закручивая за собой снежные вихри, накидала белых хлопьев на деревья и крыши, завалила город снегом и умчалась прочь.
На улицах стало тихо и светло от высоких сугробов, от горевших в темном небе ясных зимних звезд.
Чем не северная зима?
Но опоздала метелица порадовать Федю. Стоит он, одинокий и печальный, на перроне, ждет скорый поезд, что повезет его к бабушке. Хранит он в красной варежке билет в шестой вагон и думает, думает… И о бабушке, и об отце, который разлюбил его, и о Симочке, и о Лешке…
Остановился у перрона поезд с ярко освещенными окнами. В нем тепло и уютно. А Федя что‑то замерз. Едут в поезде счастливые люди. Весело выглядывают они из светлых окон, спрыгивают с подножек и бегут к киоскам и буфету.
А Феде совсем невесело.
К шестому вагону подошел Федя с опасением: ну, как не впустит его проводник в вагон? Что тогда делать Феде? Он приподнимается на носках, чтобы казаться выше, и вспоминаются ему бабушкины слова: «Богатырь ты, Федюшка». Но проводнику Федя не кажется богатырем.
— Ты с кем? — спрашивает он строго и приподнимает фо–нарь, чтобы лучше рассмотреть маленького пассажира.
Федя молчит. И вдруг:
— И ты здесь?
Женщина в теплом платке улыбается ему. И он улыбается ей, как доброй знакомой. Это она помогла Феде купить билет на поезд дальнего следования.
Проводник уже не смотрит на Федю подозрительно. Он возвращает ему билет и пропускает в вагон.
Федя сел к окну в полутемном купе. Он уже не знает, чего ему больше хочется: ехать на Север или вернуться домой к отцу.
Неприятно, пронзительно прогудел паровоз. Поезд тронулся.
— Поехали, — сказала женщина, снимая теплый платок. — Ну, в добрый час!
«Поехали! — тоскливо сжалось Федино сердце. — Папа, как же я без тебя? Как же ты без меня?»
И вдруг, неожиданно для себя, Федя кинулся к выходу, перепрыгивая через чемоданы, корзины, свертки, еще не убранные пассажирами из узкого вагонного прохода. Он выскочил в тамбур, хотел спрыгнуть на перрон, но на подножке вагона стоял проводник с фонарем в руках.
Поезд шел все быстрее и быстрее. Скрылся ярко освещенный вокзал. Кончился перрон. Поезд вошел в темноту.
Федя стоял в тамбуре, и слезы текли по его лицу. Он их не вытирал.
Быстро промелькнул зеленый свет семафора, и побежали навстречу огоньки окраинных домов. И вот уже степь, широкая, ночная, заснеженная, заглянула в окна вагона.
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Горев торопливо пробирался по вагонам. И, как нарочно, на пути его то и дело встречались неловкие, медлительные пассажиры, попадались баррикады из чемоданов. В одном купе его попросили поднять на верхнюю полку большую тяжелую корзину. Он молча, поспешно поднял и быстро ушел, не дослушав слов благодарности.
Темные холодные тамбуры, где оглушительно, раздражающе стучали колеса, сменялись теплом и дорожным уютом вагонов. Здесь мирно, по–домашнему пили чай женщины. Там шумно играли в домино мужчины. У окна в коридорчике стояла девушка и читала книгу. Нет, не читала — закрывала книгой заплаканные глаза. Тоже беда, может быть — горе.
Тихо в шестом вагоне. Полутьма. Ни в первом, ни во втором купе Феди не оказалось. Когда Горев не нашел его и в третьем, он тоскливо подумал, что Максим ошибся.
В последнем купе Николай Егорович вдруг увидел сына. Горев зачем‑то снял шапку, расстегнул куртку и, опершись рукой на полку, где кто‑то*спокойно спал, стоял и смотрел на Рыжика. Тот не замечал отца. Сидел в темном углу, низко опустив на грудь голову. Лица его не видно.
Маленьким и несчастным показался сын отцу. И Горев сразу забыл обиду, свои волнения, мучительное беспокойство. Ему захотелось обнять Рыжика, прижаться к его родной, самовольной голове.
Николай Егорович шагнул к Феде, наклонился к нему. Да он спит! Отец садится рядом, тихо, осторожно. Пусть Рыжик спит, а он посидит, подумает.
На разъезде поезд дернуло.. Федя открыл глаза, увидел отца, протянул руку и осторожно дотронулся до отцовской щеки.
— Настоящий, не сомневайся, — успокоил его Николай Егорович.
— А как ты сюда попал?
— Да так же, как и ты: сел в поезд и вот еду.
— А куда ты едешь?
— Еще не решил. А ты?
Федя опустил глаза.
— Як бабушке.
Заглядывает в окна ночь. Спят пассажиры. Только Николай Егорович и Федя бодрствуют. Отец рассказывает сыну о матери, о ее гибели, о том, как три с лишним года искал си Рыжика и как помогли ему в этом душевные русские люди.
Вот старенький, слабый от голода Рыбаков бредет по притихшему Ленинграду, чтобы узнать, где маленький Федя, что с ним. Сделает старик несколько шагов и остановится, отдышится и опять тихо идет дальше. Вот юная медсестра Шурочка пишет письма за раненого Горева и в Ленинград, и в Архангельск, волнуется, когда ответы задерживаются, до слез огорчается, что ничего точного о Феде не удается узнать. А вот дорогая Клавдия Акимовна, принявшая Федю из рук умирающей матери, согревшая своей искренней любовью его первые детские годы. Все старались, все хотели, чтобы Федя нашелся, чтобы всегда был с отцом. И выходит, зря старались.
«Нет, не зря! Папа, не зря!» — хочется крикнуть Феде, но он молчит. Надо объяснить, почему поехал к бабушке и даже не попрощался с отцом. А как это сделать, как объяснить, он не знает. Только одно знает сейчас Федя, что нет для него в мире ничего дороже и нужнее, чем отцовская любовь.
Стучали колеса, мелькали в степи далекие огни, спали пассажиры. Не спали Федя и отец. Сидели и молчали. Но не просто молчали: крепко прижался Федя к доброй отцовской руке. Не было больше мрачных, тяжелых дум, не было горя.
— Рыжик, — отец наклонился к сыну, — давай‑ка сойдем сейчас. Чего нам ехать дальше? А летом вместе махнем на Север. Ты не возражаешь?
Рыжик крепче прижался к отцовской руке.
— И Серафима поедет, — неуверенно говорит Федя.
— А Максим? — спрашивает отец. — Ну и Лешку Кондратьева бери.
Федя поднял голову: шутит отец? Нет, он вполне серьезен.
В это время поезд замедлил ход. Огни большой станции осветили купе. Прошел проводник. Гулко хлопнула дверь. Остановка.
…Домой отец с сыном добрались глубокой ночью. Они осторожно постучались. Дверь сразу открылась — Тамара Аркадьевна их ждала. Она взяла у Феди мокрые варежки и положила их на теплую печку. Он настороженно поглядывал на нее, ждал, что она скажет. Она сказала, чтобы скорее шли пить чай.
— С дороги всегда чай пьют.
Стол был накрыт. В корзиночке лежали Федины любимые сухари с изюмом и конфеты барбарис. Федя с удовольствием выпил чашку душистого чая и, пока Тамара Аркадьевна наливала вторую, положил голову на край стола — что‑то устал он сегодня.
Он уже не слышал, как она подвинула ему чашку с чаем, — он спал, и так крепко, что не проснулся, когда отец отнес его в постель, а Тамара Аркадьевна раздела и укрыла теплым одеялом. Несколько минут она задумчиво стояла около его кровати.
— Ох ты, мужичок–лесовичок! — прошептала она.
Глаза у нее были усталые, добрые.
ЭПИЛОГ
Лайка Кирюшка лежала у порога и умными желтыми глазами смотрела на деда Тойво. Тот, что‑то ворча себе под нос, щепал узким и длинным финским ножом лучину из березового полена — на растопку. Лучина получалась тонкая, длинная и ровная. Нащепав целую гору, Тойво сложил ее на большую русскую печь сушиться.
Вот уже третью неделю хозяйничает дед в маленьком домике Марфы Тимофеевны, а сама хозяйка не поднимается с постели.
— Старость свалила, — невесело улыбаясь, говорила она ребятам, приходившим проведать ее да привезти с озера свежей воды. Слыша такие слова, Тойво сердито кряхтел и ворчал, что никакая не старость, а сердечная тоска. Он, Тойво, на двадцать лет старше Марфы Тимофеевны, а поди‑ка попробуй свалить его! Скоро он еще и на медведя пойдет к трем соснам. Вот тебе и старость!
Марфа Тимофеевна очень загрустила, запечалилась, когда уехал ее Федюшка в южные края. Только и веселеет, когда приходят от него письма. Каждое знает наизусть, сама пишет внуку веселые письма и строго–настрого запретила ребятам и Тойво сообщать о своей болезни Феде и Николаю Егоровичу.
Сердится дед, но спорить с бабушкой не смеет. Однажды все же не вытерпел — ослушался бабушкина приказа. Дождался, когда задремала она, и уселся писать письмо на юг. Сначала дед долго чинил финским ножом карандаш, потом задумчиво смотрел на Кирюшку и все время кряхтел и вздыхал так, что чуть не разбудил Марфу Тимофеевну. К ночи письмо было готово. Спрятал старик его в свой полушубок, чтобы ненароком не попалось на глаза бабушке, а утром сказал ей, что идет с Кирюшкой в лес, но далеко не пошел, а в перелеске за околицей уселся на поваленную сосну и развернул свое письмо. Однако прочитать его Тойво не смог: давно не держал он в руках карандаш, и получились у него вместо букв непонятные закорючки. Вздохнул дед сокрушенно, сдвинул седые брови и тут же в лесу порвал письмо.
Вечером, напоив Марфу Тимофеевну калиновым крепчайшим чаем, жарко истопив печку, отправился он к Арсению. Лайка тоже шла рядом. Иногда Тойво останавливался, с сомнением смотрел на Кирюшку: не повернуть ли обратно? Ох, как бы не узнала про их проделки Марфа Тимофеевна!
Лайка нерешительно помахивала хвостом.
Потоптавшись у крыльца, Тойво толкнул дверь и вошел в теплую кухню.
— Э, парень, — сказал он удивленному Арсению, — надобно Николаю Егоровичу письмо отписать.
Дальше кухни Тойво не пошел. Он снял свой огромный заячий треух, заплатанный на макушке куском волчьей шкуры, сел на чистый некрашеный табурет и, сдвинув мохнатые седые брови, молча ждал, пока Арсик принесет из горницы ученическую тетрадь и чернильницу–неразливайку. Тргда дед откашлялся, пожевал губами, но вдруг махнул рукой й велел Арсику писать как знает, лишь бы Николай Егорович скорей приезжал.
Когда письмо было написано, Тойво встал, надел треух, приказал Арсику помалкивать и сам понес письмо на почту. Он долго стоял перед почтовым ящиком, и Кирюшка тоже стояла. Наконец дед крякнул и осторожно опустил письмо в ящцк.
Тойво и Кирюшка пошли к домику Марфы Тимофеевны окольными путями: боялся дед, как бы не разгадала бабушка обман по его смущенному лицу.
Наступил апрель. Днй стали ясными и длинными. Начались оттепели. Они подтачивали высокие сугробы у тротуаров. Сугробы медленно оседали. А ночью с севера пробивался мороз и К утру покрывал ледяной коркой сугробы, проезжую дорогу и проруби на Онежском озере. Но все чаще и чаще ветер приносил из тайги запах разогретой на солнце хвои, запах весны.
„.А на Кубани в это время расцвели фруктовые деревья.
Утром, солнечным, теплым, Федя вышел на крыльцо и остановился восхищенный: вчера еще голые абрикосовые деревья вдруг волшебно преобразились — нежно–розовые, некрупные цветы распустились на них. Деревья из сказки.
Федя встал на скамью близ одного из абрикосов и долго рассматривал ветку, усыпанную нежными цветами. Потом осторожно притянул ее к себе и понюхал. Цветы не пахли. Было удивительно, что они расцвели на ветвях, лишенных листьев, Было удивительно, что такие красивые, они не имели аромата. И все равно они Феде очень нравились. Нравилось ему и это ясное апрельское утро, розовое от солнца, от цветущих абрикосов.
Утро сегодня было необычным. И не только потому, что зацвели фруктовые деревья, о которых Федя столько слышал, но еще и потому, что сегодня отряд 4 «А» пошлет на завод тепловозов письмо — железный лом собран!
Железный лом собран. Собирала его вся дружина, в которую входил отряд 4 «А», собирали матросовцы, собирали пионеры из многих других городских школ.
Удивительные произошли дела!
Как‑то в школу явились незнакомые ребята. Они спросили Лешку Кондратьева. Лешка вместе с Максимом готовил стенгазету. Им помогала Таня.
— Кондрат! — закричал Миша, врываясь в класс. — Тебя зовут!
У Миши было встревоженное лицо.
— Кто? — удивился Лешка.
— Кто его знает. Не говорят. Совсем незнакомые пацаны.
Мишка предполагал, что Лешка натворил чего‑нибудь и придется теперь ему держать ответ.
— Нет, Таня, я ничего… — пожал плечами Кондратьев на Танин вопросительный взгляд. И пошел выяснять, в чем дело. Миша тоже пошел за ним.
— Вот они! — указал он издалека на мальчуганов, стоявших у дверей библиотеки, и предусмотрительно отошел в сторону.
Мальчиков было четверо. На всех были аккуратные белые рубашки и пионерские галстуки. Лешка с независимым видом шагнул к ним.
— Это он, — подтвердил один из незнакомцев. — Мне Комар его показывал.
Пришельцы окружили Кондратьева. Миша испугался* пропал Кондрат! Четверо на одного! И побежал за помощью к Тане. Но следом за ним явился Лешка, довольный, улыбающийся.
— Это из десятой школы. Они лом собрали и просят принять его на тепловоз.
Пораженный Миша сел на скамью.
На экстренном сборе отряда было решено просьбу новых знакомцев удовлетворить — лом принять и считать пионеров десятой школы в числе строителей пионерского тепловоза. Лешка вместе с Федей были направлены в десятую школу Посмотреть и оценить накопления новых участников.
— Ничего, — кивнул Кондратьев сдержанно, хотя лому было очень много. — Подойдет, — милостивее сказал он. — Правда, меди маловато.
Новые товарищи смотрели на Лешку тревожно и почтительно. Ходят слухи, что он собрал огромное количество металла. Говорят, что собирал он преимущественно медный и бронзовый лом и что именно Кондратьев поедет за пионерским тепловозом. Сам Лешка далеко не был в этом уверен, хотя двоек больше не имел даже по арифметике, но слухов не опровергал, только пожимал плечами, загадочно улыбался и великодушно разделил лавры своей славы с Горевым. Он указал на Федю, скромно державшегося в стороне, и сказал, что тот собрал больше трех тысяч килограммов старого железа. Верить этому отказались даже самые отчаянные мальчишки. Тогда Кондратьев подробно рассказал историю со старым блиндажом. Федя Горев становился знаменитостью.
Слава о пионерах, собиравших лом на пионерский тепловоз, разнеслась по городу. Дружины и отряды присоединялись к ним. Почти ежедневно в 4 «А» приходили делегаты из Школ и просили:
— Примите нас!
Однажды в школьном дворе появился человек в низко надвинутой на лоб кепке и длинных, подметающих тротуар штанах. Человек вкатил во двор погнутую истрепанную детскую коляску, нагруженную пробитыми заржавленными ведрами, железными обручами и прочим металлическим хламом. В это время Лешка Кондратьев распоряжался на дворе погрузкой лома на грузовую машину. Он всмотрелся в человека, швырнул в кузов большую железную банку, которую держал в руках, и подбежал к пришельцу. Тот ниже надвинул на лоб кепку.
— Комар?! Прибыл, друг? — ехидно спросил Лешка, заглядывая под козырек.
Комар подтянул штаны и ответил неуверенно:
— Прибыл…
Лешка снял с Комара кепку. Тот вытер нос ладонью и прямо взглянул на Кондратьева. И хотя черные глаза Комара были полны отваги и решимости, в самой глубине их все‑таки таилось серьезное опасение. Лешка стоял, широко расставив ноги, заложив руки в карманы брюк. Вид у него был грозный. Комар еще раз подтянул штаны и спросил как ни в чем не бывало:
— Куда барахлишко?
Лешкина воинственность пропала. Он озабоченно оглядел привезенное «барахлишко» и велел сваливать прямо в грузовик— лом подходящий. Комар энергично подкатил коляску к грузовику, в два приема залез в кузов и крикнул:
— А ну, давай подавай!
И Лешка начал подавать. Не время, конечно, было сводить с Комаром старые счеты. Они поговорят потом. Но, погрузив лом из своей коляски, Комар продолжал принимать все, что ему подавали ребята. Работал он без передышки, только иногда останавливался и подтягивал сползающие штаны.
— Ну и трудяга! — восхищенно сказал шофер.
У трудяги гордо вспыхнули глаза, и он лихо спрыгнул вниз. Шофер закурил папиросу «Казбек» и отдал Комару пустую коробку. Тот раскрыл ее, понюхал.
— Для марок пригодится, — решил он.
Машина уехала. Лешку срочно позвали в класс. Проходя мимо Комара, он остановился.
— Донес Ермиловне! Не утерпел…
Лешка говорил укоризненно, но без сердца.
— А я доносил?! Я проговорился… Она мне марку со слоном порвала…
— Индийскую?!
— Индийскую…
— Врешь?!
Комар только уныло махнул рукой. Мрачный огонь горел в его огромных глазах.
Лешка больше не сердился на Комара. Потерять индийскую марку —это действительно удар. Кондратьев потоптался около удрученного Комара и чистосердечно посоветовал:
— А ты плюнь.
Затем дружелюбно хлопнул его по плечу и убежал.
И вот железный лом собран. Письмо на завод написано. Подписали его все члены совета отряда, и Таня отправила письмо авиапочтой. В письме рассказывалось, как собирался железный лом, упоминались фамилии особо отличившихся пионеров (разумеется, и Лешки Кондратьева), упоминалась и дружина Александра Матросова, собравшая старого железа немногим меньше самих инициаторов, не забыли и северян.
Федя спешил домой рассказать отцу и Тамаре Аркадьевне про эти важные дела. Но дома на полу он увидел раскрытый чемодан.
— Ты опять уезжаешь, папа? — огорченно вырвалось у него. Отец отрицательно покачал головой. Нет, он не уезжает. Это Тамара Аркадьевна.
Федя вздохнул с облегчением. Тамара Аркадьевна вошла в комнату с одеждой в руках и склонилась над чемоданом.
— Ну вот, мужичок–лесовичок, ну вот и я увижу твой северный край.
— Как?! — воскликнул изумленный Федя. — Как увидите?
Отец подошел к сыну, обнял его, сказал, что бабушка немного прихворнула и трудно стало ей справляться с хозяйством. Вот Тамара Аркадьевна и едет помочь Марфе Тимофеевне. Он говорил что‑то еще, но Федя уже не слышал, что.
— Больна… Бабушка больна, — повторил он шепотом, И вдруг слезы хлынули из его глаз. — Папа, она поправится? Поправится, да? — спрашивал Федя и с мольбой заглядывал в отцовские глаза.
— Рыжик, —растерялся Николай Егорович, — ну что ты, дружок! Ясно, поправится. Ну полно, полно!
У Феди кривились губы, и слезы текли и текли из глаз но щекам. По давней детской привычке он закрыл рот ладошкой, стараясь унять рыдания. II тут рядом вдруг увидел лицо Тамары Аркадьевны. Она вытирала ему слезы и шептала ласково, умиротворяюще, что бабушка, наверно, уже и поправилась, — ведь письмо идет почти неделю. Тамара Аркадьевна будет очень беречь Марфу Тимофеевну, а потом приедет сам Федя и, конечно, все бабушкины болезни как рукой снимет. Уж она-то знает!
Тамара Аркадьевна усадила Федю, попросила рассказать, как добраться ей до их села. Он всхлипнул, высморкался и стал подробно описывать старинный бревенчатый вокзал на станции, где Тамаре Аркадьевне следовало сойти с поезда, лесную дорогу, по которой надо ехать, и домик бабушки.
Тамара Аркадьевна внимательно слушала и задумчиво перебирала Федины волосы, совсем порыжевшие от весеннего яркого солнца.
Очень странно: оказывается, глаза у нее не черные, а темно–серые. Оказывается, они ласковые.
Вдруг Тамара Аркадьевна спохватилась: время идет, а она не готова к дороге. Федя встал, сказал, что пойдет покупать бабушке чай. Она очень любит крепкий чай. И Тойво тоже.
Они пошли вместе— Федя и Тамара Аркадьевна. Они купили чай, красивую коробку с конфетами и яблоки для бабушки, а табак «Золотое руно» для Тойво. Федя сам уложил все это в чемодан и еще книжки для Арсика и Иванки. За чаем он много рассказывал про бабушку, просил Тамару Аркадьевну не позволять ей рано вставать и носить дрова из сарая.
Вечером Николай Егорович и Федя усадили Тамару Аркадьевну в скорый поезд, который шел до самого Мурманска. В маленьком купе горела настольная лампа под зеленым шелковым абажуром, и конечно, от этого глаза Тамары Аркадьевны опять стали темными. «Пусть темные, пусть, — успокаивал себя Федя. — Все равно она добрая».
После второго звонка она протянула к нему руки:
— Рыжик, до свидания!
Первый раз Федя искренне и горячо обнял Тамару Аркадьевну и от всего сердца пожелал ей счастливого пути.
ДАЙ РУКУ ТВОЮ
Письмо от Волшебника приходит рано утром в день рождения Алеши. Проснувшись, он видит зеленый конверт на своем столе. На конверте сияет золотая печать с цифрой семь посредине. Справа и слева нарисованы походные башмаки, компас и рюкзак.
Волшебник написал письмо крупными печатными буквами. Видимо, он знает, что Алеша сможет прочесть только такой шрифт.
«С праздником, Алеша, смелый капитан Шел! В большой волшебной книге я прочел, что наступает день твоего рождения. Я разбудил ночной ветер и приказал домчать меня к твоему дому. Я знаю твое главное–преглавное желание: стать путешественником. Потому‑то ты и зовешься капитаном Шелом. Я исполню твое желание, Алеша! Ты добрый, веселый, справедливый человек и часто помогаешь мне, старому Волшебнику. Не веришь? А кто так красиво нарисовал тайгу и геологов и ночью положил рисунок на мамин стол? Когда Таня–Кнопка потеряла фланелевого зайца, кто слепил из красного пластелина кота в сапогах? А что у тебя в углу за бурым медведем (у него еще недостает одной плюшевой лапы)? Конфеты «Тузик»! Ты прячешь их для друга — капитана Рика, с которым решил путешествовать по белу свету. Так слушай, капитан Шел! Когда зацветут душистые катальпы, ты отправишься в далекий лесной край. Там в Старом Бору за непроходимым буреломом живет могучий Лось. У скалы, заросшей медовым мхом, течет речка Голубинка. Лось ходит туда пить живую воду и слушать сказки о Серебряном озере и просмоленном корабле. Капитан! Тебе предстоят на этом корабле дальние плавания. Штормы. Приключения.
Уже гаснут звезды. Сейчас проснется утренняя заря. Прощай, Алеша. Не забудь записать свое, заветное желание моим волшебным карандашом. Оно обязательно исполнится. Твой верный друг Добрый Волшебник».
Сомнений в том, что приходил Волшебник, нет. Кроме письма, он оставил свой прозрачный карандаш, который пишет красным цветом, и большие следы на полу от своих волшебных туфель. Следы ведут в коридор и теряются в передней. Очевидно, Волшебник — настоящий.
Телеграмма из тайги лежит рядом с письмом Волшебника: «Леха, таежный привет и сердечное поздравление с семилетием от геологов, медведей, белок и лисиц. Твой отец».
Мать озадаченно смотрит на карандаш и письмо.
— Кто бы это мог быть?
— Волшебник, конечно! — не сомневается Алеша. И немедленно принимается писать красным карандашом свое заветное желание — путешествовать.
Вскоре является Алешин друг Ришка. Понюхав конверт и рассмотрев его на свет, Ришка задумчиво роняет:
— Кто его знает… Вообще‑то волшебников уже давно нет.
К вечеру приходит гость — доктор Федор Степанович, большой друг Алеши и Ришки. Узнав о таинственном посетителе, доктор вспоминает, что накануне вечером встретил у дома Алеши человека в темном плаще.
— С бородой? Похож на Волшебника? — замирает Алеша.
— Пожалуй…
— Вам показалось, — перебивает мать. — Волшебники живут только в сказках.
Доктор пожимает плечами. С матерью он никогда не спорит. Он манит Алешу в угол, где сидит плюшевый медведь, и достает из кармана перочинный ножик с двумя лезвиями, ножницами и оранжевой ручкой.
— В походе пригодится. А письму ты верь. По всему видно, что приходил Волшебник.
— Я буду давать тебе ножик, — шепчет счастливый Алеша Ришке. — Когда захочешь.
Ришка хочет сейчас же. Друзья отправляются пробовать остроту ножа на перилах крыльца.
— Подходящий, —кивает Ришка. — А ну‑ка, Лешка, дай мне твой волшебный карандаш. Сейчас напишу свое желание: хочу тройку по письму.
У Ришки двойка по русскому языку. И еще он плохо ведет себя в классе. Учительница говорит: Ришка позорит октябрятскую звездочку. Если он не исправится, его оставят на второй год. А Ришка не знает, как исправляться.
Он записывает желание на грязном бумажном клочке и сует его в карман на груди.
— Ага! — вспоминает он и вытаскивает конверт. — На, Лешка, бери. Это подарок. Только доктору не показывай.
В конверте марки с порванными краями. Алеша вздыхает.
— Это ничего, края можно запросто подровнять.
— Надо, чтобы зубцы были. А чей это петух?
— Французский. Ага!
— А где ты его взял?
— Мало ли где, — морщится Ришка. — Никогда не спрашивают, откуда берут подарки.
— Хорошие марки. И замки, и верблюды. Ришка, а твое желание сбудется. Федор Степанович говорит — Волшебник опытный. Старый…
— В этой тройке по письму все и дело. Перейду — мама купит мне путевку в лагерь к морю. Лешка, я еще не видел моря… А он точно приходил, твой Волшебник?
— А следы? Что ли, сами наследились?
Закончить разговор мешает мать. Она уводит их к столу и угощает пирогом с начинкой из сушеных абрикосов. Алеша считает его самым вкусным из всех пирогов на свете. Конечно, вначале надо съесть сочную кисло–сладкую середину, а потом верхнюю корочку, сладкую, светло–коричневую. Ну, а нижнюю, бледную, можно не есть. Он не успевает вылизать начинку, как в коридоре раздается негромкий треск. Дверь распахивается, и в комнату что‑то стремительно влетает — игрушечный самолет или дирижабль. Он взмывает к потолку, стукается о светильник и пикирует на пирог.
— Корабль — спутник Земли приземлился в заданном районе!
К столу подбегает невысокий растрепанный мальчик. Щеки и нос у него густо забрызганы розовыми веснушками. Это Санька Петушков, звеньевой из 6 «Б». Он учится вместе с Сашей, Алешиной сестрой.
— Не очень‑то в заданном. Опять ты, Санька, все испортил!
Саша снимает корабль с пирога, а Санька шумно доказывает, что ничего не испортил, только немножко недоделал. Надо было вовремя предупредить, когда у Лешки день рождения, а не в последний час. И недоделан самый пустяк, и Лешка запросто справится сам.
Алеша смотрит на Саньку веселыми глазами. И охотно соглашается.
— С Ришкой исправим…
— Да, Леха! — перебивает Санька. — Мы тебя поздравляем, весь отряд поздравляет с… семилетней годовщиной. Вот тебе спутник — будь космонавтом! А галстук от нашего звена.
Санька ставит спутник у Алешиной чашки с чаем и завязывает галстук на его груди. Потом он протягивает Алеше руку. Но у того пальцы в липком джеме. Алеша краснеет и прячет руки за спину. Сейчас, конечно, все будут смеяться… Но Санька тут же берет корабль и объясняет всем, как его надо доделать.
И вот Алеша и Ришка доделывают спутник.
— Хороший корабль. Ты, Лешка, открути‑ка лучше колеса. Спутнику они не нужны. Мы их приделаем к луноходу. Не можешь? Ну ладно, давай я отвинчу… Порядок!
Темнеет. Алеша выходит на крыльцо и всматривается в вечерний двор. В конце концов бывают на свете какие‑нибудь Волшебники или нет?
Кругом все обычно. В окнах напротив загорается огонь и видно, как возится на полу с куклами девочка с длинными желтыми волосами. Это Лариса. Алеша отворачивается от окна. Очень уж она злая, эта Лариса! На соседнем крыльце хнычет маленький круглый Яша. Наверно, опять не хочет ложиться спать. А дальше темнеет акация. За ней старый каштан. Как будто там прячется кто‑то… Алеша уже не видит светлых Ларисиных окон. Не слышит Яшиного плача. Он идет к акации. А вдруг… Но у ствола пусто. Только сумерки. Ни Волшебника, ни его следов.
С крыльца спускается доктор. Он идет к акации.
-— Алеша…
— Откуда вы знаете, что я здесь?!
— Догадался.
— Как это вы обо всем догадываетесь?
— От старости, наверно.
— Но вы же… — Алеша приподнимается на носки, рассматривая лицо доктора, — вы же еще не старенький.
— Не очень. А я знаю, кого ты здесь ищешь! Волшебника!
— Тогда… тогда догадайтесь, правду ли он написал в своем волшебном письме?
Доктор наклоняется к Алеше и говорит на ухо;
— Чистую правду!
* * *
Алеша давно дружит с пионерами из 6 «Б». Митя Семин, председатель совета отряда, объявил ему благодарность за работу в зоне пионерского действия. В зоне в большом новом доме на первом этаже живет старая одинокая учительница Вера Павловна. Пионеры и Алеша заботятся о ней — ходят за продуктами, моют пол в комнате, приносят свежие газеты.
Вера Павловна обычно сидит в большом и глубоком старом кресле и читает книгу — описание какого‑нибудь путешествия или страны. Больше всего она читает о космосе.
Не так давно Вера Павловна преподавала в школе географию. У нее хранится много географических карт, атласов и тяжелых старинных книг с картинками. На картинках нарисованы папуасы, индейцы, путешественники, чукчи, меховые чумы и северное сияние. Над письменным столом висят три картины, рассказывающие о путешествии Христофора Колумба. Недалеко от Колумба большие стенные часы. Каждые полчаса они медленно и сердито бьют. Алеше всегда кажется, будто это отбивают склянки на кораблях с картин. Самым большим богатством старой учительницы Алеша считает небольшую бронзовую бригантину. Едва он дотрагивается до маленького темно–желтого рулевого колеса на палубе, как он уже не Алеша, а капитан Шел, отважный и гордый, твердо шагающий по палубе бригантины.
— Полный вперед! В Индийский океан.
…Скрипят высокие мачты. Бьют о борт зловещие темные волны. Надвигается буря. Капитан Шел поднимает глаза на барометр. Он предсказывает шторм.
— Якорь за борт! — четко и хладнокровно приказывает капитан. — По правому борту земля.
— Капитан, — отрывается от книги Вера Павловна, — в Индийском океане сильные течения, много подводных рифов.
— Второй якорь!
…В конце концов бригантина благополучно проходит вдоль африканского берега и пристает к мысу Доброй Надежды.
…Мыс Доброй Надежды. Так называют еще и комнату Веры Павловны. Все началось с журнала «Космический луч».
Половина 6 «Б» пишет стихи. Санька Петушков и Сережа Корень рисуют. Однажды на классном собрании Митя Семин предложил выпускать журнал. Литературно–художественный, Учительница математики, классная руководительница Лия Семеновна, сказала:
— Семин внес ценное предложение. Я его поддерживаю.
Тут же выбрали главного художника журнала — Саньку Петушкова. И главного редактора — Митю Семина. В редколлегию вошли Саша и Коля Грач.
С классного собрания редколлегия отправилась к Вере Павловне. Ее комнату объявили главной редакцией «Космического луча». По совету Веры Павловны первый номер журнала поместил лучшее в классе сочинение Коли Грача о том, как он провел летние каникулы. Сочинение называлось «Тайна Мастаканских Полян».
…Летом Коля жил у знакомого егеря на Черноречеиском кордоне в заповедных кавказских лесах. Они путешествовали верхом на лошадях, привыкших к горным перевалам и тропам. Душистые травы альпийских лугов заглядывали Коле в лицо, стлались по плечам. Сладко пахло отцветающими рододендронами. Эти стелющиеся горные розы скрывались где‑то за стеной широких и крепких папоротников, борщевиков и желтых дельфиниумов. По горным склонам привольно бродили зубры. Неслышно появлялись и исчезали на дальних скалах горные туры. А на лесных тропах оставляли свои следы дикие кабаны.
Однажды егерь привел Колю на высокогорные Мастаканские Поляны. Егерь снял старую войлочную шляпу. Коля поспешно скинул соломенный бриль. Здесь, на Мастаканах, много лет назад русские солдаты насмерть бились с фашистской горной дивизией «Эдельвейс». Ни один солдат после боя не спустился в долину. Старые егеря с ближних к Полянам кордонов помнят о страшной битве. Но никто не знает имен погибших героев, никто не знает, как они сражались и погибали. Одни березы знают тайну Мастакан.
На горных склонах у Мастакан Коля нашел помятый черный солдатский котелок, пустые пулеметные гильзы и воинский медальон. Время стерло на нем все знаки и буквы.
Саня долго расспрашивал Колю о мастаканских березах, о холодной и прозрачной речке Мастык, в которой моментально до боли мерзнут пальцы, о молчаливых соснах, загораживающих спуск с Полян. А вечером у Веры Павловны Саня рисовал Мастаканы акварельными красками.
Утром в школе Коля изумленно рассматривал рисунок.
— Ты, что ли, тоже там был? —спросил он Саню.
— Теперь уже кажется, что был…
Рисунок Мастаканских Полян стал обложкой первого номера журнала «Космический луч». Дальше шли рисунки Сережи Корня «Школьные спортсмены» и «Листопад в школьном саду». Это к стихам Мити и Лизы. Журнал был тонким, но взволновал школу. На переменах в 6 «Б» было теснее, чем в буфете.
— Левитан! — говорили старшеклассники о Саньке.
Через день по школьному радиоузлу объявили: 6 «А» тоже решил выпускать свой журнал. Он будет называться «Веселый трубочист».
Весь 6 «Б» остался после уроков. К столу вышел Санька.
— Самое главное теперь — тайна! Ни одного слова о «Луче». Они, конечно, подошлют к нам шпионов. Они ж ничего не понимают в журналах. Молчите! Понятно?
«Космический луч» по–прежнему делали у Веры Павловны. У нее были большой удобный стол, ватман и пузырьки с тушью. Вера Павловна помогала придумывать названия к стихам и рассказам, исправляла ошибки — она «болела» за 6 «Б». Раза два к ней заглядывала классная руководительница Лия Семеновна. Она благодарила Веру Павловну за помощь, хвалила Саньку и ругала Сережу — из‑за двойки по алгебре.
Редколлегия «Луча» даже у Веры Павловны соблюдала предосторожности. Саша приводила с собой Алешу и оставляла во дворе.
— Если увидишь кого‑нибудь из «А», бей тревогу.
Бить тревогу — значило постучать палкой по железному карнизу окна Веры Павловны. Однажды во двор вошел Рома Громов, главный редактор и художник «Веселого трубочиста». Алеша подал сигнал тревоги. Стол с новой обложкой «Луча», изображающей созвездие Гончих Псов и спутник, накрыли теографической картой Европы. Саша спрятала пузырьки с тушью и страницы со стихами. Санька убежал мыть руки. Вера Павловна неодобрительно покачала головой, но сказать ничего не успела — в комнату вошел Громов. Он улыбался.
— Старики, покажите вашу новую обложку.
Саша и Митя переглянулись с откровенным изумлением.
— Вам, конечно, хорошо, — понял их взгляды Рома. — У вас Санька…
— А он… он еще не делал обложки, — перебил его Митя.
— Свистало! — рассердился Громов. — Вон под Европой ваш новый «Луч».
Рома ушел сразу, обиженный и гордый. Вера Павловна его окликнула. Он не услышал.
В этот вечер Вера Павловна рассердилась на редколлегию. Из‑за Громова. Но Саша упорно доказывала:
— Почему мы должны показывать им свой новый журнал? Почему мы должны им помогать? Мы же сами все придумывали. Пусть и они тоже.
Неожиданно с Верой Павловной согласился Санька:
— А может, покажем, а?
— Но ты же сам говорил, чтобы тайна, — удивился Митя.
— Не перерисуют же они ваших Гончих Псов! — возмути–лась Вера Павловна. — Завтра приходите ко мне с Громовым.
Редколлегия «Космического луча» не собиралась два дня. А на третий в 6 «А» вышел первый номер «Веселого трубочиста». Обложку рисовал Рома Громов. На зеленой крыше у кирпичной трубы сидел маленький веселый трубочист. Рядом стояло ведро, набитое двойками. В номере было восемь страниц. Половину занимал рассказ «Майор Пронин в школе».
Даже старшеклассники заинтересовались и заглянули в 6 «А».
— Ничего, — сказали они про обложку. — Подходяще.
Но о рассказе заявили: Ромка где‑то сдул.
Тогда Громов честно признался, что «Пронина» написал его брат, студент. И рисунок для обложки придумал тоже он.
Второй номер «Космического луча» встретили в школе без большого шума и восторга. Видимо, уже начали привыкать к литературно–художественным журналам. Когда нужно было приступить к выпуску третьего номера «Луча», Митя заболел.
Санька ходил расстроенный. На переменах он уговаривал Колю и Сашу выпустить третий номер без Мити.
Но выпускать было нечего. В школе начались четвертные контрольные, и шестиклассники занимались геометрией, алгеброй и физикой. Даже к Вере Павловне заглядывали только по воскресеньям. А Саньке не хотелось заниматься ни физикой, ни алгеброй. Саньке хотелось рисовать. В домашнем задании он перепутал квадрат суммы с суммой квадратов. Лия Семеновна посоветовала ему выбросить из головы журнал и заняться формулами. Санька выслушал ее молча и побрел по школе — куда глаза глядят. Так он пришел в школьный спортивный зал. Восьмиклассники играли в настольный теннис, а Громов «болел».
— Сань, а чего ваш «Луч» закрылся? — подошел к нему Рома.
Санька пожал плечами и отвернулся. Но Громов не отстал:
— А мы второй номер готовим. Пойдем, старик, посмотришь. Краски у нас — сила! Знакомый художник прислал из Ленинграда.
И Санька пошел к Роме смотреть ленинградские краски. Пока Громов плел про «знакомого» художника, Санька не утерпел, взял кисточку и попробовал краски. Да, настоящие акварельные! В тот же вечер Санька постучал к Саше.
— Когда же будем выпускать «Луч»? — спросил он на пороге.
— Я с геометрией не разберусь, и мне не до «Луча», — отрезала Саша.
— А я хочу рисовать! Понимаешь?
— Чего ты кричишь? — возмутилась Саша. — Лучше бы…
Но Санька не слышал, что лучше бы. Он спрыгнул с крыльца и убежал в темноту. Санька снова вернулся к Громову и уселся в углу, растрепанный, сердитый. И глаза у него были не солнечные, а просто желтые, злые.
— Слушай, ну, хоть посоветуй немного! — подошел к нему Громов с листом ватмана.
Санька хотел сказать: с какой, мол, стати? Но вместо этого взял из Ромкиных рук ватман… В этот раз на обложке «Веселого трубочиста» были нарисованы смешные гномы. Они тащили на плечах пятерки и четверки. Гномы направлялись к школе.
Санька возвращался домой по притихшей, сонной улице. Его провожали Ромка и его брат — студент.
— Ну, старик, завтра весь 6 «А» за лапу тебя…
— Иди ты, Ромка, в баню! — вскипел Санька. — Нужны мне ваши лапы!
Он вбежал в ворота своего дома, не попрощавшись, и долго стоял в подъезде. Санька очень тревожился, как посмотрят на него в классе, когда узнают, кто рисовал обложку «Трубочиста».
— Сами виноваты… Сколько просил! Сколько уговаривал! — бормотал Санька и сердито кашлял.
В классе с Санькой перестали разговаривать. Никто не хотел слушать его объяснений.
— Иди к «трубочистам». Иди! Предал класс!
После большой перемены Санька ушел из школы. Полдня он бродил по глухим аллеям городского сада, а к вечеру явился к Вере Павловне. Она с Алешей только что закончила путешествие по Африке. Вера Павловна уже знала Санькину историю от Сережи и Саши. И Алеша тоже знал. Он сразу подошел к Саньке.
— Ты не бойся, — шепнул он, — ничего не бойся. Вера Павловна за тебя заступалась. Она даже рассердилась на Сережу из‑за тебя.
Санька молчал. Он сам не мог понять: виноват или нет перед классом. Он подошел к Вере Павловне.
— Я же рисовать хотел! Я же их так уговаривал! И никого я не предавал. Честное пионерское!
— И сказал бы ребятам: помогу редколлегии «Трубочиста».
Санька горестно вздохнул в ответ. Да ведь он и не думал помогать. Получилось все само собой…
— Нельзя, чтобы само собой получалось.
Потом в 6 «Б» было классное собрание. Обсуждали Санькино поведение. Он, как всегда, сидел рядом с Сашей.
На собрание пришла Вера Павловна. Когда встал Сережа, Санька насторожился и оглянулся на Веру Павловну — она сидела вместе с Лией Семеновной. Сережа сказал, что Петушков подвел класс. И Лиза, староста класса, — она вела собрание— согласилась с ним. Да, да! Из‑за Петушкова не выпустили третий номер «Космического луча». И тогда поднялся Митя. Он только поправился после болезни.
— Нет, не из‑за Сани. Я болел и не написал рассказ об Артеке. Да и никто ничего не написал. Выпускать‑то было не чего.
— Да, — подтвердила Саша. — Нечего. — И рассказала, как Санька приходил к ней вечером.
Класс притих. Лия Семеновна велела Саньке объяснить, как было дело.
— А чего объяснять… Я очень хотел рисовать. У нас «Луч» так… законно получался! Но Митя болел, и никто без него не хотел. И стихов не было… и ничего. Я пошел посмотреть, как там у Ромки делают «Трубочиста». Просто так пошел… А Ромка говорит: давай, Санька, помоги, хоть немножко…
— Правильно! Говорил! — раздался Ромкин голос в широкую дверную щель. — И Санька здорово помог нам с обложкой.
Тут дверь распахнулась, и все увидели красного и сердитого Громова.
— И чего вы все на одного накинулись? Ваш Санька не виноват. Прятались от нас со своим «Лучом», вот и допрятались!
Лиза хотела закрыть собрание, но Вера Павловна попросила обождать. Она напомнила про первый номер «Космического луча». Пожалуй, он сразу полюбился в школе за короткий рассказ Коли о безвестных героях, погибших на Мастаканах в далекие военные годы.
А что, если продолжить этот рассказ? Попытаться найти хоть маленький след незабываемых дней. Совершить поездку в те места, увидеть землю, где совершился подвиг, послушать мастаканские березы…
Вера Павловна предлагала поход через заповедные кавказские леса к высокогорным Маотаканским Полянам.
— И выпустить «Луч» под этими березами! — встал Саня.
— Выпустить! Верно, Санька! — повернулся к нему Сережа.
— Пойти в поход и выпустись!
— П написать коллективный рассказ о Мастаканах в наш «Луч».
— Мы идем на Мастаканские Поляны!
— «Космический луч» не погаснет!
* * *
По двору гуляет маленький Яша, Крошечные ноги в красных башмачках заплетаются. Яша то и дело покачивается, и бабушка подхватывает его на руки. Но Яша орет на весь двор и толкает бабушку в грудь толстыми кукольными руками.
— Да–да–да! — кричит он возмущенно, Кричит до тех пор, пока бабушка не поставит его на землю. Тогда он вдруг смолкает, широко раскрывает вишневые глаза и решительно, сопя, поднимает маленькую ногу; топ–топ… И на бок.
Алеша любит Яшу, Этот малыш всем ласково улыбается и охотно протягивает кулачок.
— На! — великодушно предлагает он.
В кулачке бывает всякое. Иногда раздавленная конфета или кусок яблока, иногда бывает камешек, подобранный во дворе и еще не отнятый бабушкой. В другой руке Яша обычно сжимает нос изодранного, помятого Буратино. Яша с ним гуляет, спит и обедает. Яша — маленький хитрец. Когда бабушка кормит его кашей, он послушно открывает рот, но глаза его пристально следят за блюдцем, которое бабушка держит поодаль. Она знает, что внук так и норовит сунуть длинный Буратинин нос в кашу. Бабушка этого не любит. Нос у Буратино запущенный и исковерканный. В изломах и трещинах засохла грязь. Она не отмывается и во время купания. Может быть, потому, что и в ванне Яша держит своего друга за нос. Даже тогда, когда ему моют голову. В это время Яша плачет басом и бьет по мыльной пене все тем же незаменимым Буратино.
Яшина бабушка говорит, что и спать Яша ложится с куклой. Ночью, не открывая глаз, он шарит вокруг рукой в поисках своего любимца.
Однажды Алеше тоже подарили Буратино. Вероятно, подумали, что Алеша еще маленький! Он сразу отнес куклу Яше. Тот? заканчивал обед и слушал сказку про глупого барашка. Щеки у Яши были вымазаны киселем. Верный друг его Буратино смирно лежал на Яшиных коленях. Пока бабушка разговаривала с Алешей и любовалась новой куклой, Яша проворно усадил своего друга в тарелку с недоеденным киселем.
— Ах, разбойник! — спохватилась бабушка. А Яша довольно улыбнулся: Буратино удалось пообедать.
Новую куклу Яша рассматривал долго и недружелюбно.
— Это тебе, — сказал Алеша. — Насовсем. — И, пока Яша рассматривал новую куклу, Алеша потихоньку потянул к себе старика Буратино.
Яша сейчас же отвернулся от новой куклы.
— Серчает, — покачала головой бабушка.
Алеша побежал к двери, унося старика.
— Дай! — вдруг пронзительно закричал Яша и швырнул нового красавца Буратино на пол. — Дай–дай–дай.
Больше старого Буратино у Яши не отнимали.
Топ–топ–топ… и на бок. Так по двору гуляет Яша.
— Здравствуй, — протягивает ему указательный палец Алеша. Яша сжимает его палец в толстой ладошке и бесстрашно устремляется вперед. Алеша знает, куда рвется этот маленький человек — в конец двора. Там густо растут сирень и жасмин, увитые колючей и мелкой розой, поднимаются кусты сентябристов, которые только осенью станут высокими и покроются мелкими лиловыми цветами. А сейчас в невысокой весенней траве горят желтые и красные огоньки диких тюльпанов. Летом здесь непроходимые заросли. Алеша и Ришка называют их джунглями. Во дворе ходят слухи, будто в этом глухом месте водятся большие сердитые пауки и ядовитые змеи. Паука Алеша сам видел, поэтому в сумерки он избегает заглядывать сюда. А змею никто не видел. Только слышали — и Алеша, и Ришка, и даже Лариса, — как она шуршала где‑то в траве. Но Ришка говорит: может, это ящерица. Или крот. Их он не боится. Бегает босиком и рвет тюльпаны.
— Дай–дай! — просит Яша цветы.
Ришка идет к нему с алыми тюльпанами в руках. Он тоже любит Яшу. Он улыбается и протягивает руку — погладить кудрявую Яшину голову, но вдруг отскакивает и бежит в джунгли. К Яше спешит его бабушка. Ришка ее не любит. С давних пор, трудно теперь. и вспомнить с каких, бабушка ненавидит Ришку. Она ругает его за все. Однажды он громко пел свою любимую песню про парней, которые должны уберечь землю от военного пожара.
— Чего орешь‑то? Делать нечего? Так подмети двор, — выглянула она из окна.
Ришка послушно бросил пение и взялся за метлу. Но через несколько минут она сердито закричала:
— Заставь дурака богу молиться — так он и лоб расшибет! Пыль поднял на весь город.
Ришка пытался ей объяснить, что пыль поднимается сама, но бабушка ничего не хотела слушать.
— Брось метлу, разбойник, и убирайся с глаз долой!
— Никакой я не разбойник!.Это вы раз…
01! не договорил и с завидной проворностью помчался со двора: бабушка перешла в наступление.
Весна разгоралась ранняя, дружная. Вернувшись из школы, Ришка сбрасывал надоевшие старые ботинки и бегал босой по первой мягкой траве. Глядя на Ришку, и Алеша как‑то скинул в джунглях башмаки и чулки. Но скоро он заболел ангиной. Яшина бабушка объявила всему двору, будто во всем виноват Ришка, будто он заставлял Алешу снимать обувь.
— Врете вы! —обиделся Ришка. — Лешка сам захотел. Такая старая, а врете.
За грубость бабушка отшлепала Ришку и не велела играть с Яшей.
А однажды Алеша и Ришка поспорили: кто быстрее добежит от джунглей до ворот. У ворот Ришка вырвался вперед и закричал:
— Ура–а! Первый!
— С цепи сорвался! — отпрянула входившая в калитку бабушка. — Сказился, босяк! А ноги‑то, ноги!
Ноги у Ришки были босые и грязные. Он наклонился, счищая приставшую грязь. Бабушка плюнула в ярости:
— Растет бродяга…
Ришка позабыл о победе. Он понял: дело совсем не в грязных ногах. Яшина бабушка за что‑то ненавидит его. Она никогда не будет к нему добра. Сколько ни старайся. С тех пор Ришка обходит ее стороной. Он захлопывает уличную калитку крепко–накрепко, чтобы бабушка не смогла ее открыть. Когда она несет во двор выстиранное белье, Ришка закидывает подпорку для веревки в джунгли и, довольный, наблюдает из укромного уголка, как она ищет подпорку и сердится. Его большие шоколадные глаза темнеют: теперь и он ненавидит бабушку.
* * *
С легкой бабушкиной руки Ришка слывет во дворе хулиганом. Когда у Ларисы, самой примерной девочки во дворе, исчезает новый красный мяч, все думают на него.
— Он, — кивает Яшина бабушка. — Больше некому.
Ришка ничего не знает о тяжелом подозрении. В самом мирном настроении подходит он к Ларисиным цветам. Чего здесь только нет! Цветут гиацинты, нарциссы, распускаются фиалки, прорезываются из темной пушистой земли острые листья ирисов.
— Можно понюхать?
— Отдай мяч, бессовестный! —с сердитым презрением отступает от него Лариса.
— А я брал?!
— Кроме тебя, некому. Все говорят.
Ришка краснеет.
— Ну… ну, доказчица, ну, козлиха…
И вдруг врывается в палисадник. Сейчас он ей выдаст, рыжей вралихе. И затопчет все ее цветы… и… и разорвет белые банты!
Кто‑то берет его за шиворот.
— Попробуй дотронуться до нее! Попробуй подойти еще к цветам! — кричит мать Ларисы, выталкивая его из палисадника.
— Попробую… — бормочет он, отбегая, —Вот попробую…
Ришка скрывается за сараем. Узкий неприметный ход, прикрытый разросшейся вишней, ведет па небольшую лужайку-тайник. Только трое знают о ней: Алеша, Ришка и его верный школьный друг Миша. Здесь под темной фанерой хранятся боевые доспехи: деревянные самодельные мечи, кортики и пики, обернутые фольгой. В углу шесты, именуемые веслами, и парус из старых маек — розовой Ришкиной и белой Алешиной. Под этим парусом происходят чудесные превращения: Ришка и Алеша здесь суровые капитаны Рик и Шел, а Миша — бывалый шкипер Шим.
Ришка вытирает рукавом нос, плюет через плечо — подумаешь, раскричалась! — и ступает в тайник. Он находит свой кортик, размахивает им.
— Ну, ладно, шпионка, ладно! Теперь узнаешь!
Вечером, когда в окнах Ларисы гаснут огни, он пробирается в палисадник. Утром там больше не Цветут нарциссы и гиацинты. Красивая зеленая скамейка, на которой Лариса рассаживает своих кукол, изрезана ножом.
В тот же день родители Ларисы в сопровождении Яшиной бабушки идут жаловаться Ришкиной матери. Ее нет дома. Сам Ришка закрывается на все запоры и наотрез отказывается отпереть дверь.
— Не открою, хоть лопните, — твердит он в замочную скважину.
Вечером мать узнает о его преступлении и порет Ришку его же школьным ремнем. После порки он прячется под кроватью, всхлипывает и режет свой ремень Алешиным перочинным ножиком.
Весь следующий день — воскресенье — Ришка отбывает наказание в чулане. Время от времени мать подходит к чулану и велит ему попросить прощения у Ларисы и ее родителей. Ришка отказывается.
— Ну и сиди в чулане!
Не дождавшись Ришку в джунглях, Алеша собирает свои конфетные запасы и отправляется к чулану. Он осторожно стучит в стенку условным стуком: один длинный, два коротких.
— Лешка, чего? — завозившись в чулане, бормочет Ришка.
Алеша, прижавшись губами к щели, тихо объясняет, что принес конфеты. «Тузик».
— Бросай в форточку!
Но до форточки высоко. Конфеты падают на землю.
— Вот растяпа! — возмущается Ришка. — Мотай за Шимом.
Шим является по первому зову.
— Ришка, а ты убеги, — советует он в щель.
— Как маленький! — сердится Ришка. — Что ли, замка не видишь?
— А ты в форточку. Давай мы тебе веревку закинем!
— Уже пробовал… Голова не лезет. Ты давай конфеты!
Шим забрасывает «Тузика» в форточку. У него получается — попадает с первого раза.
Последнюю конфету он берет себе. За труды.
Походив вокруг чулана, Шим предлагает Алеше:
— Идем на шпагах сразимся?
— Нет, — качает головой Алеша. — Я еще подожду. Может, Ришку выпустят.
Ришку выпускают в сумерки. Вместе с Алешей он скрывается в тайнике и придумывает для Ларисы месть.
— Давай, Лешка, выкопаем яму у ее крыльца, и пусть она туда завалится!
Копать яму Алеша отказывается и напоминает Ришке про чулан и порку.
Утром Ришка находит мяч в джунглях. Он бежит к Ларисе, радуясь и волнуясь. Он протягивает ей мяч.
— А ты на меня валила!
— Так ты его и закинул в джунгли.
— Я?! — отступает Ришка.
— Ты, — кивает она. — Утянул и закинул…
Мяч летит в ее большой белый бант. Поганый бант! Мяч сбивает его и ударяет в окно. Звенит разбитое стекло. Сыплются осколки… Ришка в ужасе мчится домой. Но у крыльца вспоминает последнюю порку и круто поворачивает к Алеше.
Задыхаясь от бега и страха, Ришка налетает на доктора. Федор Степанович молча пропускает его в дом и плотно закрывает дверь.
Выяснив подробности, доктор отправляется на переговоры с Ришкиной матерью. Он долго не возвращается.
Ришка томится и вздыхает в передней, прислушиваясь То к шагам во дворе, то к тому, как в комнате громко читает по-английски Алешина мать. Она всегда занимается, пока Алеша в детском саду.
Наконец возвращается Федор Степанович.
— Дал слово твоей маме, что стекол бить и драться больше никогда не станешь. Если что —спросится с меня.
— Ладно, не буду… А мне попадет?
— Выговор, очевидно, получишь.
Больше Ришку не дерут и в чулан не запирают. Но несколько воскресений подряд он сидит дома. А его класс ходит то в кукольный театр, то ездит на прогулку в весенний лес за Кубань.
* * *
Темнеет среди бела дня. Кто‑то сильно стучит по крыше и барабанит в стекла.
Уличная дверь с шумом открывается, грозовой ветер швыряет в нее пригоршню дождевых брызг, охапку свежего вкусного воздуха и мчится дальше.
— Это ты, хлывень?! Подожди! — выбегает Алеша за ним на крыльцо. Тотчас же тяжелые водяные плети хлещут его по лицу и плечам. Дождь куда‑то торопится. Он спешно льет воду на дом, деревья и землю. Он пускает по двору ручьи и реки. Они бурлят и несутся темными сердитыми потоками к воротам. А дождь то и дело догоняет их, кидается и звенит и пузырит воду. Он буйно веселится.
Но вот он начинает уставать. Перестает шуметь и что‑то шепчет акации, потом быстро–быстро рассказывает ступенькам.
— Ты уходишь, хлывень? — с сожалением спрашивает Алеша.
Дождь что‑то тихо бормочет и сыплет на Алешино лицо мелкие, уже не холодные капельки. Нагулялся. Пора и честь знать!
По небу плывет огромный темно–серый лев. Из‑под его когтистой лапы просачивается солнечная полоска. Лев светлеет у Алеши на глазах и превращается в пронизанные розовым светом клочья. Дождь пугается этого света и бежит за деревья, сверкая длинными золотистыми нитями. Он ворчит там в листве и, видно, заблудившись, замирает.
Внезапно на крыльцо, на Алешу льется–яркое и чистое тепло. Над высокими островерхими тополями вырывается на небо солнце. Мокрые тополиные листья сверкают ослепительно и разноцветно: зеленые, фиолетовые, желтые лучи вспыхивают маленькими молниями в дождевых каплях. Это солнце заглядывает в них и улыбается. И в темной воде, подступающей к крыльцу, сияют десятки трепетных звезд. Это в воде купаются солнечные лучи…
Сверкающие волны мягко плещутся о ступени. Волны выбрасывают к Алешиным ногам белые и розовые лепестки, опавшие с фруктовых деревьев, поникший мокрый красный тюльпан и бумажный измятый клочок… Таинственная записка?! Алеша спускается на последнюю, залитую водой ступеньку. Поднимая бумажку, он ощущает волшебное дуновение теплого, пахнущего, конечно же, джунглями ветра. Тополь у крыльца радостно вздыхает, встречая ветер, и сыплет с листьев свои лучезарные капли.
Размытые крупные цифры на листке в клеточку. Скорее всего… Да–да! Эти цифры указывают курс корабля, попавшего в беду. Может быть, потеряно рулевое управление… Возможно, поломаны мачты и сорван парус… Он где‑то близко, этот корабль.
Алеша поднимается на маяк (верхнюю ступеньку) и в воображаемый бинокль осматривает окрестности. Стоп! Под старым каштаном колышется голубое судно…
— Полный вперед! В залив Старого Каштана!
Алеша с ходу в сандалиях бесстрашно прыгает в воду. Он не ощущает прохлады и досадует только на то, что море мелковато и вода в самом глубоком месте доходит ему до пояса.
В заливе Старого Каштана действительно скрывается легкий корабль. Его бело–розовый парус намок и валяется на палубе. Веселый капитан с озорными шоколадными глазами, в коротких грязных штанишках ловко бросает подоспевшему спасителю конец бельевой веревки.
— Капитан Шел! Прошу помощи. Перенес шторм в 10 баллов.
— Ого! — изумляется капитан Шел. — Сила штормяга! Капитан Рик! — спохватывается он. — Прибыл в ваше распоряжение.
Капитан Рик узнает таинственную записку. Ну да, это он бросил в волны листок, вырванный из тетради по арифметике.
Очень скоро на голубой бригантине трепещут паруса из розовой и белой маек. Капитаны с помощью длинных шестов — весел выводят ее в открытое море.
Конечно, это сияющее и безбрежное море фантазии. Если брызги его волн попадают в глаза, случается удивительное: на самой обычной земле возникают коралловые рифы и бухты с зеленой прозрачной водой. Расцветают на горизонте тропические прекрасные страны. Капитаны в свои воображаемые бинокли видят кокосовые пальмы, гигантские фикусы и даже баобабы.
Бригантина входит в узкий пролив. Она плывет мимо вишни, с которой слетают белые лепестки. Под вишней стоит девочка. У нее длинные желтые волосы и удивленные голубые глаза. Капитан Рик отворачивается от нее, потому что это — Лариса.
— Алеша! — срывается вслед за кораблем Лариса. — Алеша, возьмите меня!
— Нет! Мы не возьмем тебя. Ты ехидная. И мы с тобой не играем.
— Дураки! — всхлипывает Лариса. — Сами вы злые и презлые.
— Полный ход из пролива Ехидной доказчицы! — громко командует капитан Рик.
— По правому борту — неизвестный остров, — докладывает Алеша. — Там шкипер Шим. Он просит пристать.
Шкипер стоит по колени в воде и ест бутерброд с колбасой. Свободной рукой он ловко схватывает конец веревки и привязывает ее к каштану. Потом он достает из кармана мокрых, высоко закатанных штанов три зеленые палочки (на них первоклассники учатся считать) и протягивает капитанам. Это трубки мира. Капитаны с трубками во рту отправляются за Шимом в джунгли. По пути они срывают с деревьев ананасы и бананы (весенние каштановые листья) и гладят маленьких обезьянок.
— И никакие это не обезьяны, а котята! —кричит от своей вишни Лариса. — Все вы врете.
Капитаны не обращают на нее внимания. А Шим громко и весело говорит:
— Может, посмотрите маленьких слонят?
Под широким баобабом (капитан Шел принял его было за цветущий абрикос) шкипер Шим останавливается и таинственно оглядывается.
— Здесь зарыт пиратский клад! — шепчет он.
— Сейчас откопаем! — немедленно решает Рик.
Но ни Шел, ни Шим не согласны. Так запросто выкопать пиратский клад?! Надо произнести клятву. Отмерить три шага от дерева. И потом — куда им деваться с этим кладом, когда выкопают?
— Ясно, куда! — опять с ходу решает Ришка, —Отвезем в Чили!
— Точно! — соглашается Шим. — Отдадим чилийским патриотам.
Клятву придумывают здесь же под баобабом и произносят ее шепотом. Первым начинает капитан Рик.
— Мы, отважные морские волки Рик, Шел и Шим, ищем клад старых пиратов. Грозные пираты! Откройте нам вашу тайну!
— Клянемся морской волной и сломанной мачтой — мы вас не выдадим, — вторит шкипер Шим.
— Клянемся! Железно!
После этого капитаны дружно плюют (для закрепления клятвы) и берутся за свои пики. Шкипер Шим отмеряет от абрикоса три широченных шага. Рик вонзает пику в землю, около босой ноги Шима. Шел со своей пикой сейчас же присоединяется к нему. Шкипер Шим ковыряет пушистую землю большим ржавым гвоздем. Крак! — скрежещет что‑то под гвоздем. Крак! — капитаны замирают: клад?!! Шим вытаскивает из земли грязный бутылочный осколок. Он обтирает его рукавом и кладет на траву. Все‑таки первая находка! Но больше никто ничего не находит. Первым скисает шкипер Шим. Может быть, неверная клятва? Может, они не так плюнули?
— Ты сам не так отшагал, — начинает сердиться Ришка.
— Это мой остров! — вспыхивает Шим. — Как хочу, так и шагаю.
Из‑за ссоры они едва не попадают в беду: Яшина бабушка незаметно появляется у раскопки пиратского клада.
— Неприятель! —ужасается капитан Шел и бежит на корабль. Капитан Рик и шкипер Шим не отстают от него. Но бригантина не выдерживает тяжести трех мореходов — она идет ко дну. Тогда Рик приказывает Шиму вернуться на берег и отвлечь неприятеля на себя. Дело в том, что легкий и быстрый корабль капитана Рика не что иное, как голубой резиновый надувной матрац. Рик взял его покататься после дождя с крыльца маленького Яши. Разумеется, без разрешения его бабушки.
Неприятель на берегу бранится и негодует. Вокруг него собирается народ. Шкипер трусит и прячется за абрикосом.
— Она орет, чтоб сдавались в плен, — усмехается Рик, — пусть подождет.
Но к капитанам решительно направляется Ларисина мать. Тогда Рик берет Шела за руку.
— Уплываем, но не сдаемся! — кричат капитаны и дружно прыгают в воду.
Очевидно, наступает час отлива. Недавнее море на глазах превращается в мелкую лужу. Капитаны и присоединившийся к ним шкипер скрываются в джунглях и молча страдают: они смотрят, как бабушка и Лариса, завладев голубой бригантиной, срывают парус и выбрасывают мачту. Выпускают из бригантины воздух. Голубая вялая резина ничем не напоминает радостного корабля.
Капитан Шел пробирается домой окольными путями. У него синие губы, мокрые штанишки и ледяные ноги. Он стучит зубами и никак не может объяснить сестре, где так вымок. Саша не ругает дрожащего капитана. Она надевает на него теплую куртку, шаровары и поит его горячим чаем с малиновым вареньем.
* * *
Но чай с малиновым вареньем не помог. Алеша просыпается ночью от шума волн, тропической жары и головной боли. С трудом приподняв веки, он видит перед собой тревожное лицо матери.
«Это я, наверное, заболел…» — догадывается он и вспоминает недавнее плавание на бригантине. На мгновение появляется беспокойная мысль о невыкопанном пиратском кладе. Но боль и жар так сильны, что думать ни о чем не хочется.
— Дай мне твою руку, мама, — просит он чужим голосом и крепко сжимает ее пальцы обеими руками. Мать прислоняется прохладной щекой к обжигающему Алешиному лбу, и боль сразу отступает. Он засыпает, не отпуская ее пальцев. Но скоро опять донимает жара. Шум не дает ни минуты покоя. Кто-то возится в комнате, чем‑то шуршит… Алеша приподнимает с подушки тяжелую голову:
— Кто там? Кто?
Ночник над кроватью тускло освещает лицо матери, столик и графин с лимонной водой. Дальше темнота. Там стоят сердитые сонные вещи. Они недовольно шепчутся, потрескивают и не дают заснуть.
— Замолчите! — приказывает Алеша строго и громко. — Ночь. Я хочу спать…
Он долго всматривается в темноту широко открытыми блестящими глазами. Оказывается, за вещами скрываются Яшина бабушка и Лариса. Они идут к Алеше и оглушительно кричат.
— Капитан Рик! — вскакивает он. — Полный, самый полный вперед! Неприятель…
— Алешенька! — обнимает и укладывает его в постель мать. Он, обдавая ее горячим дыханием, взволнованно что‑то объясняет про корабль, про капитана Рика.
Мать вытирает его жаркое лицо влажным полотенцем. Алеша смущенно улыбается.
— Приснилось…
Ему очень хочется пить, и мать догадывается и подносит к сухим губам его чашку с лимонной водой.
— Это живая вода? От нее поправляются?
— Конечно!
— К утру я буду здоров? И без уколов, да? — встрепенувшись, вновь приподнимается он на постели.
— Ты сильно охладился в дождевой воде. Но Федор Степанович вылечит. Ты же знаешь…
Алеша всхлипывает и отворачивается от ночника. Видимо, от него‑то так жарко и душно.
Добрые руки гладят его голову, пылающий лоб.
— Ты не уходи, — успокаивается он.
— Нет, что ты! Я всегда с тобой.
Утром приходит доктор Федор Степанович. Он выслушивает Алешу, закрыв глаза. Седая голова доктора склоняется к самой Алешиной груди. На лице Федора Степановича много глубоких морщин. Большой шрам пересекает правую щеку. Доктор кажется старым усталым человеком. Но вот он открывает глаза и улыбается. И от старости не остается следа. Серые глубокие глаза смеются так озорно и весело, будто доктор только что сотворил какую‑то большую шалость.
А шалости он выдумывает без передышки. Под большим секретом мать рассказала Алеше, как доктор кудесит в своей детской больнице. Он приносит в палаты конфеты и игрушки и незаметно подсовывает больным детям под подушки и в карманы халатиков. А то положит потихоньку кому‑нибудь в тумбочку книжку с картинками и надписью: «Со скорым выздоровлением. Старик Хоттабыч».
Все ахают от удивления, стараются проследить, кто же этот таинственный Хоттабыч и когда он проникает в палаты. Сестры и врачи из детской больницы догадываются, чьи это проделки, но посмеиваются и молчат.
Однажды Алеша пожаловался доктору, что больше не может пить горькое лекарство, которое называется хлористым кальцием. На другой день Федор Степанович принес в кармане другое лекарство, и они с Алешей благополучно переменили бутылки.
— Помалкивай, а то мне несдобровать, — предупредил доктор. — В сущности, это снадобье не менее полезно, чем твой хлористый кальций. Но как на это дело посмотрит мама — вопрос. Скорее всего, отрицательно.
Новое лекарство оказалось вкусным, и Алеша напоминал матери, когда она забывала вовремя дать ему питье.
Мать радовалась и удивлялась. Но вскоре она застала Алешу с бутылкой в руках.
— Хотел попробовать, не испортилось ли… — смутился Алеша.
Тогда мать сама попробовала лекарство и озадаченно посмотрела на сына. Глаза ее сердито сузились.
— Федор Степанович? — только и спросила она.
Алеша жалобно сморщился и спешно начал что‑то искать в кармане штанишек. Он вытащил оттуда бумажку от шоколадной конфеты «Тузик», гладко оструганную новым перочинным ножиком палочку и стеклышко для игры в классы. В кармане больше ничего не было, но Алеша продолжал шарить в нем.
Случилось так, что в это самое время явился Федор Степанович.
— Расплата за грехи? — посочувствовал он Алеше, не подозревая, что история с бутылками раскрылась.
Мать строго прервала доктора и велела Алеше идти играть, пока она поговорит с Федором Степановичем.
— О чем? — с тревогой спросил Алеша. — О лекарстве?
Он повернулся к доктору и сказал жалобно:
— Я помалкивал. Она сама догадалась. Что теперь с вами будет?
Доктор сейчас же опустил голову и сложил на груди руки:
— Простите нас великодушно!
Мать очень рассердилась и прощать их отказалась. Алеша и Федор Степанович весь день ходили за ней и угадывали ее желания. Они купили к чаю клубничного варенья, вымыли посуду и полили старую пальму. Они заглядывали в глаза матери с искренним раскаянием и просили сменить гнев на милость.
Наконец мать простила Алешу, а доктора нет. Она сказала, что теперь он вышел у нее из доверия.
Вероятно, Федору Степановичу долго бы пришлось снова входить в доверие, но заболел Алеша, и мать сразу подобрела.
Выслушав и выстукав больного Алешу, доктор потихоньку спрашивает:
— Болтался в дождевой воде, конечно?
Алеша приподнимает с подушки пудовую голову, чтобы рассказать про бригантину и двух отважных капитанов Шима и Рика. Но слова не идут с языка, глаза сами закрываются.
— Перестарался, приятель, — укоряет доктор. — Для начала пробежался бы разок по луже и хватит. Ты ведь у нас тепличное создание.
— Ох, Федор Степанович! Когда вы, наконец, повзрослеете? — с досадой говорит мать.
— Всю жизнь с малолетним народом вожусь, вот и перестал быть взрослым.
Алеша открывает глаза:
— Но вы хороший…
* * *
Мать больше не уезжает по утрам в институт учиться. И не занимается вечерами за своим письменным столом. Она не отходит от Алеши ни днем, ни ночью. Федор Степанович говорит, что мать стала бледнее Алеши.
— Идите спать, — велит ей доктор и подсаживается к Алешиной постели. — Дать лекарство и проверить пульс я смогу не хуже вас.
— Еще бы! Но я не засну… без Алешки. Я подремлю рядом, — виновато просит мать.
— Тогда извольте спать днем, — хмурит седые брови Федор Степанович. — Хоть немного.
На следующее утро Саша по приказу доктора приходит в спальню к брату.
— Иди, мама, иди! — говорит она матери строго. —Будешь спать, пока не разбужу.
Но мать еще долго не расстается с Алешей: укрывает, поправляет подушку, измеряет температуру.
— Когда же она наконец упадет? — расстроенно шепчет она, глядя на термометр.
Саша начинает сердиться:
— Я позвоню доктору, что ты не спишь.
Мать уходит.
Разговаривать Алеше запрещено: от этого поднимается температура. Слушать чтение ему тоже нельзя: утомительно. В первый раз он лежит спокойно и молчаливо. Почему‑то у него не сбито одеяло. Почему‑то подушка на месте…
— Лешка, почему ты так быстро дышишь? — не выдерживает Саша.
Ему лень шевелить губами, и он молчит.
— Лешка, почему ты такой? — она с откровенным страхом подходит к нему.
— Болею… Не видишь… — недовольно, нехотя бормочет он. Он говорит так, будто он старший брат, а Саша младшая сестра. Но она не обижается. Она опускается на колени перед кроватью и заглядывает в его полузакрытые, потемневшие от жара глаза.
— Ты поправляешься, Леха? Правда?
— Поправляюсь… — вяло соглашается он.
— А что у тебя болит?
— Лоб… — шевелит он губами беззвучно.
Но она угадывает. Меняет на его голове согревшееся полотенце, дует на лицо.
Приходит короткий сон. Он приводит к Алеше отца. Его быстрые твердые шаги раздаются в коридоре, дверь открывается…
— Здравствуй, Леха!
— Наконец‑то ты приехал, — счастливо смеется во сне Алеша.
— А я за тобой. Нас ждут в тайге.
Алеша отбрасывает одеяло и, тяжело дыша, пытается встать. Он оглядывает комнату воспаленными глазами.
— Уже ушел! Ты же обещал подождать… Ах, папа, папа!
Он плачет навзрыд.
— Лешенька, — пугается его слез Саша, — тебе все приснилось. Папа в тайге. Не плачь, пожалуйста, мама может проснуться.
Он закрывает ладонями глаза и силится справиться с рыданиями.
— Леха! Что ты ревешь, как маленький Яша? Открой глаза. Я тебе что‑то подарю. Я дам… дам…
Он приоткрывает заплаканный глаз.
— Ну, че–его да–ашь? — он всхлипывает и открывает второй глаз.
Минуту Саша колеблется.
— Альбом! Мой альбом с марками! — говорит она решительно.
— Насовсем?! — спрашивает потрясенный такой щедростью Алеша.
— Насовсем! Если ты, конечно, не будешь реветь и начнешь поправляться.
— Честное пионерское?! — не верит он.
— Честное пионерское.
— Неси! Я уже поправляюсь.
Алеша садится в постели. Но как только дверь за сестрой закрывается, бессильно валится на подушки и закрывает глаза. Когда Саша входит с альбомом, он робко спрашивает:
— Ты не во сне? Ты настоящая?
На всякий случай он прячет альбом под подушку и уверяет ее, что голова у него не болит. Почти…
Вечером, как всегда, приходит Федор Степанович. На этот раз Алеша встречает его без радости, задумчивым молчанием. Доктор украдкой бросает на Алешу тревожные, испытующие взгляды.
— Ему стало хуже? Вам так кажется? —с убитым видом спрашивает мать.
— Лучше! Ему стало лучше; Варенька. С чего бы это?
— С альбома, — честно признается Алеша и требует: — Колите! Мне надо быстро поправиться.
Алеша переносит уколы пенициллина молча и мужественно. «По–мужски», — как говорит доктор. Но от иглы он все‑таки отворачивается и всякий раз кладет руку на альбом.
* * *
Алеша поправляется. Доктор разрешает ему слушать сказки. Саша и мать читают ему про горячий камень и гадкого утенка, крошечную Дюймовочку и веселого Чиполлино. Алеша может слушать сказки бесконечно, но мать боится, что от напряжения у него поднимется температура. Она читает понемногу.
Оставшись один, Алеша разговаривает с Дюймовочкой и Ивашкой. Потом он рассказывает о них молодым тополям, что весь день шепчутся под окном. И про Волшебника, что таинственно и незаметно приходил в дом в день рождения, тоже рассказывает.
— Он поддельный, твой Волшебник! Ничего не действует его волшебный карандаш, — раздается вдруг из зеленой тополиной гущи.
— Ришка! Капитан Рик!
Ришка спускается с ветки на подоконник.
— Ну как, наболелся?
— Наболелся. А теперь поправляюсь. Видал?! — показывает Алеша альбом с марками.
— Видел. Сашин?
— Мой! Насовсем!
— Не свисти…
— Она дала честное пионерское. Мой, точно!
— Толковый альбом. Ты будешь мне давать?
— Обязательно!
— Знаешь, Лешка, я, наверно, на второй год останусь…
— Как?! А записка?
— Чепухня! И записка та размокла от дождя. Я ее давно выбросил.
— Вот в этом все и дело!
— А! Говорил, чепухня твой Волшебник.
В коридоре раздается голос Федора Степановича. Ришка мгновенно исчезает в тополиной густой листве.
— Ну, хватит валяться. Завтра встанешь.
— Завтра?!
Подушка летит на пол. За ней спускается белым облаком простыня. Алеша марширует на постели и тонким счастливым голосом поет.
— Совершенно здоров, — усмехается доктор. — И телом, и духом.
* * *
От отца пахнет дымом и лесом. Он держит сына на руках и повторяет:
— Силен ты болеть, Леха. Ну и силен!
Отец обветренный и бородатый. Он стал еще выше и сильнее. Алешу он запросто поднимает одной рукой. Выше своей головы! В столовой Саша разливает чай. Посредине стола стоят цветы — букет мелких голубых незабудок. Они немного увяли в дальней дороге, но все равно красивые. Отец собрал их на берегу лесной шумной речки Голубинки в карельской тайге. Там он ищет медную руду среди болот, скал и лесных озер. Геологи уже нашли большой медный валун. Но это оказался только осколок. Откуда он оторвался — неизвестно.
— Ясно одно, — отец с наслаждением пьет крепкий чай, — ясно, что этот медный камень приволок откуда‑то Скандинавский ледник. С него и надо спрашивать.
— Спохватились! — смеется доктор. — Ищи теперь ветра в поле!
— А мы все равно найдем и спросим! Мы по валунному методу: пойдем по тайге тем же путем, что шел ледник.
— И я тоже пойду по тайге тем же путем, — говорит Алеша.
Отец, смеясь, наклоняется к нему:
— Вместе бродить будем, Леха. Вместе костры жечь.
— Подожди, Сережа, — доктор с опаской поглядывает на мать. — Пусть Леха подрастет…
— Я подрос! — пугается Алеша. — И закаляюсь. А в волшебном письме написано: меня ждет просмоленный корабль.
— Поедем… — голос у отца неуверенный. — Варенька, можно?
— Совершенно несерьезный разговор! Взрослые люди дразнят больного ребенка.
Губы у Алеши дрожат. Он закусывает их и придвигает к себе цветы. Он прячет в них расстроенное лицо.
— Леха, что ты разнюнился? — шепчет ему на ухо отец. — Все будет отлично! Хочешь, я тебе расскажу сказку. Слушай. Представь себе, что мы в тайге, где растут лиловые высокие мхи и высится скала, которая называется Скалой Медового Мха.
Месяц в тот вечер впервые сошел с облака над Сосновым Бором. Он приготовился сиять ослепительно и долго. Сил в нем было предостаточно.
Но, как нарочно, вечер был светлым, и Месяц был чуть заметен на чистом небе. Он плыл над засыпающим лесом и ждал наступления ночи. Не спала в лесу одна быстрая речка. Она куда‑то торопилась и ворчала, что одна должна маяться в такую теплую тихую ночь. Точно Серебряное Озеро обмелеет, если речка немного поспит.
— А где же ночь? — спросил ее молодой Месяц.
— Разве ты не знаешь, что летом на Севере стоят белые ночи? — пробормотала речка.
Месяц сильно огорчился: никому не нужен его ясный свет!
Он одиноко поплыл по небу и вдруг увидел огонек на лесной поляне.
— Ты тоже не очень‑то ярок в белую ночь, — посочувствовал Месяц огню.
У костра стояли палатки и спали люди. Но вот из‑за сосен вышел юноша. Он шел к огню усталым, медленным шагом.
— Самгго! Наконец‑то. Ну, нашел ты халькопирит? — поднялся навстречу седой человек.
— Пока нет, — неохотно ответил Сампо. — Я устал и хочу спать.
— Ты, конечно, ошибся в расчетах. Медной руды здесь нет.
— Есть! —упрямо возразил Сампо. — Я проследил по рудным валунам, как шел Ледник. Где‑то здесь скрывается огромная медная гряда.
— Искать больше негде. Обошли все: лес, скалы, болота….
— Все равно медь где‑то рядом!
— Хватит фантазировать, Сампо! Завтра уйдем отсюда на Олений остров.
Сампо молчал. Месяц заглянул в его лицо. Сампо был молод и хорош. Но очень печален.
— Что поделаешь! — вздохнул Месяц. — У каждого свои огорчения. Хотелось бы мне тебе помочь.
Сампо не лег спать. Он ушел к реке и долго сидел там, глядя в воду.
— Ну, хоть бы ты раскрыла загадку медных валунов! На твоих берегах я нашел пять мелких камешков халькопирита. Откуда они'взялись?
— Не знаю, не знаю, — всполошилась река и зашептала что‑то про сон и усталость.
Сампо взглянул на небо.
— Месяц! Что это ты вздумал гулят^ по небу белой ночью? Тебе одиноко там, приятель? Спускайся ко мне. Вдвоем веселее.
Месяц уселся на ивовую ветку.
— Поверь мне, Месяц, что рядом затаился огромный медный камень.
Месяц качнулся.
— Веришь?! — обрадовался Сампо, —Тогда послушай, друг, тебе все видно сверху, загляни в ущелья и буреломы, пошарь в болотах поглубже, и ты найдешь халькопирит. Но ты обязательно расскажи мне, где он скрывается. Он так нужен людям! Я почувствую себя самым счастливым, если ты отыщешь этот камень.
— Так вот, значит, в чем счастье! — удивился Месяц, — Делать то, что нужно людям.
Он поплыл к лесу. Не велик труд осмотреть сверху землю. Сампо провожал его до Скалы Медового Мха. Здесь он остановился и крикнул:
— Я буду очень ждать тебя. Желаю удачи!
Месяц долго скитался над самыми глухими уголками Бора. Но медного камня нигде не увидел. В одном мрачном ущелье он заметил мерцавшую звезду.
Вот к чему приводит неосторожность! Упала с неба, конечно. Придется помочь ей подняться.
Он стал спускаться, да зацепился за ветку древней высохшей сосны.
— Сорвешься в пропасть, — пробормотала она спросонок. — Берегись, там на дне Озеро Злой Старой Рыси.
Но Месяц не боялся Старой Рыси и перебрался еще ниже, на удивительное коричневое дерево. На нем не было ни листьев, ни хвои. Одни мягкие бархатные ветки.
— Как тебя зовут? — спросил любопытный Месяц. — Что-то я не видел таких смешных деревьев.
— А я вовсе и не дерево. Я Северный Олень из Лапландии. Ты уселся на мои рога. А зачем ты спускаешься к Озеру Злой Рыси?
— Я хочу поднять из пропасти упавшую звезду.
— Это не звезда, Месяц. Это медный камень. Люди называют его халькопиритом.
— Медный камень?! — воскликнул обрадованный Месяц. — Так его‑то мне и надо!
— Поднимайся‑ка ты подобру–поздорову к себе на небо, пока не пронюхала о тебе Старая Рысь да не запихала в глубокие мхи.
— Как бы не так! — засмеялся Месяц. — Я ослеплю ее свои–ми лучами. Знаешь, я какой яркий? А медный камень очень нужен людям.
— Тебе все равно не проникнуть к Озеру. Посмотри, какие острые вершины у дремучего ельника на обочинах.
— Я узкий, я пролезу! — крикнул Месяц и поплыл к пропасти.
— Стой же, упрямец! — подбежал к нему Северный Олень. — Раз так, цепляйся за мои ветвистые рога. Есть там одна тропа, но знает ее только Белая Ночь. Скоро она придет гулять на Скалу Медового Мха. Спросим ее.
Они мигом домчались до лиловой Скалы.
— Чувствуешь, как запахло черемухой? Это идет сюда Ночь.
В лесу стало совсем тихо и неподвижно. Не вздыхали древние ели. Замерла быстрая речка Голубинка. Только засыпающий шиповник то и дело ронял румяные лепестки на мягкий мох.
Белая Ночь неслышно и медленно шла по очарованному Бору, и с сарафана ее сыпались цветы черемухи и земляники. Словно таинственные лесные озера, мерцали ее прозрачные синие глаза, а в серебряных волосах искрились красные гранитные каменья и вспыхивали жемчужные мусковиты.
— Здравствуй! — поклонилась она лесу. — Здравствуй, добрый батюшка.
Лес ответил ей радостным эхом.
— Здравствуй, сестрица–красавица! — поклонилась Белая Ночь речке Голубинке. А та ответила ей легким всплеском.
Опустилась Белая Ночь со Скалы и долго смотрелась в зеркальную воду Голубинки.
— Пора, — вышел Олень из‑за плакучей березы. Белая Ночь тотчас увидела их отражение в недвижной воде и обернулась.
— Не спится, добры молодцы? — улыбнулась она.
— Где уж спать, — вздохнул Олень и сразу рассказал про Сампо и медный камень.
— Есть туда одна тропа, Северный Олень, — сказала Белая Ночь. — Вон там, за рябиновой рощей, берет она начало. Не шибко крута и камениста, да стережет ее Старая Рысь пуще глаза. Медный камень — ее богатство.
Тут Ночь уселась на мох и задумалась.
— Вот что, добры молодцы, — встрепенулась она, — ступайте той тропой. У тебя, Олень, ноги крепкие, копыта острые. А я расплету свои косы да распущу их по пропасти. Не заметит вас за ними старуха. А вам светло бежать будет.
Расчесала Белая Ночь березовым гребешком длинные и густые волосы да закинула их в пропасть. Сразу посветлело там, прояснилось. Олень и Месяц помчались по тропе вниз. Старая Рысь выползла из своего логова и завыла от злости. Свирепо хватала она черными когтистыми лапами серебряные пряди и пыталась оборвать. Но было их такое множество и такой ясный свет струился от них, что страшные рысьи глаза закрылись, а когти запутались в волосах Белой Ночи. Тем временем Олень и Месяц спустились по узкой тропе к Озеру. Пустынны и мрачны были его берега. Это Старая Рысь перегрызла корни деревьев и трав. И только бесцветный серый мох густо устилал землю.
— Старуха натаскала его со Ржавого Болота, — сказал Олень. — Это она укрывает свое сокровище — медный камень.
Он разгреб копытами мох и сухую траву. Множество желтых звезд замерцало в бездне и отразилось в черной воде. Медная гряда простиралась по пропасти и уходила на дно мрачного Озера.
— Эту каменную глыбу занес сюда Скандинавский Ледник. Он отколол от нее несколько осколков и расшвырял по Сосновому Бору, — сказал Северный Олень и насторожился: — Слышишь, Месяц, как отвратительно скрежещут о камень рысьи когти? Это она гонится за нами. Пора нам восвояси. Насмотрелся на желтый камень? Запомнил путь–дорогу?
— Спасибо тебе! — растроганно ответил Месяц. — Как‑то Сампо проберется сюда…
— Как‑то мы еще выберемся отсюда, — перебил Северный Олень. — Побежим к Полярной Скале. Оттуда есть тайный ход.
Прощаясь, Месяц благодарно прижался к бархатным рогам Северного Оленя и затем поднялся в небесную высь. Он благополучно проплыл над пропастью и направился прямо в древний бурелом к Старому Мудрому Лосю.
Огромные мертвые сосны, сваленные пургой, преградили ему путь. Месяц с трудом протиснулся меж их стволами и под седым валуном увидел Лося.
— Я пришел просить вас помочь Сампо прогнать из ущелья Старую Злую Рысь, — осмелился заговорить Месяц.
Лось, видимо, дремал.
— Что нужно вам в ущелье? — открыл глаза Лось.
— Медный камень! Это для людей.
Лось опять долго молчал.
— Так где твой Сампо? — вдруг спросил он.
— Совсем рядом — в Сосновом Бору! — обрадовался Месяц.
Лось встал с мшистого ложа и тряхнул ветвистыми рогами.
Месяц отлетел в сторону. Посыпались сосновые и еловые шишки и хвоя. Шумно в стороне вздохнули березы, задрожали осиновые листья. И все стихло.
…Кончался летний день. В Сосновом Бору люди тушили костры и свертывали палатки. Они уходили на Олений Остров. Лось тихо раздвинул кусты и долго смотрел на людей умными добрыми глазами. Сампо сидел в траве. Перед ним лежала карта Соснового Бора.
—« Только в это ущелье и не смог я пробраться, — говорил он, указывая на пропасть Злой Рыси. — Товарищи, подождите меня. Я попытаюсь еще раз.
— Полно, Сампо! Кроме утесов и мрака, там ничего нет.
Лось стукнул рогами о звонкий сосновый ствол. Певучий звук оторвался от сосны и покатился над Бором. И Сампо увидел Лося.
— Зачем ты пришел в лагерь, старик?
Лось поднял голову к небу. Там висел бледный узкий Месяц.
— Это он тебя послал? — догадался Сампо. — Вы нашли медный камень?!
Лось побежал к ущелью. Сампо спешил за ним. У пропасти Старой Рыси они остановились. Сампо заглянул в нее и увидел слабое мерцание медного камня.
— Я знал, что он здесь!
И вдруг в черной глубине загорелись рыжие злые огни — глаза Рыси.
— Вот кто стережет медную гряду! — понял Сампо, но бесстрашно устремился вниз. Дико заголосила Старая Рысь. Громко зафыркала и застучала когтями по камням. Прыгнула на тропу. Крадется к Сампо…
— Сампо! Погибнешь! — в ужасе крикнул Месяц, повиснув на сосне. На тропе вырос могучий Лось. Он поднял Рысь на рога и со страшной силой отшвырнул в мертвую трясину посредине Ржавого Болота. Потом поднатужился и сдвинул с пути Сампо крутую скалу. В пропасти стало светло. Сиял ликующий Месяц. Лился свет из радостных глаз Сампо. И лучистый спокойный взгляд Старого Лося разгонял тьму, притаившуюся в уступах скал.
…Сампо откапывал медный камень из травы и мха и пел песню, которую тут же слагал сам. Он пел о радости победы, о юном благородном и мужественном Месяце, о могучем Лосе. На весь бор пропел Сампо хвалу старику Лосю и повернулся к нему, чтобы поклониться и сказать спасибо. Но Лося не было. Тогда Сампо пошел в бурелом. Ложе, устланное травами, пустовало.
— Он ушел к Серебряному Озеру пить целебную воду, — прошелестели березы. — Лось устал от похожа и борьбы. Он ведь очень стар…
У Серебряного Озера Лося тоже не было. Следы его вели в непроходимую тайгу. Пробиться туда Сампо не смой. Но до сих пор помнит он старого доброго Лося.
В Сосновом Бору люди достают из пропасти медный камень и отправляют на заводы. Когда Месяц встречает в небе летящие ракеты, он кивает им и улыбается. Он ведь здорово постарался для того, чтобы они родились!
* * *
Сказку сложили, а медного камня не нашли. Поэтому отец опять собирается в дорогу.
Перед отъездом отец приходит за сыном в детский сад. Алеша, увидав его, спрыгивает с лесенки, где тренируется в вечерние часы, и бежит навстречу. Но розовая Таня–Кнопка уже стоит перед его отцом.
— Как здоровье твоей куклы, Таня? — спрашивает он.
Кнопка протягивает отцу куклу с разбитым носом.
— Жаживает!
Отец требует пластилин. Он долго возится с куклой. Нос получается толстым и большим. Но Кнопке нравится. Она доверчиво и благодарно смотрит на отца Алеши синими глазами–бусинками.
Не успел отец распрощаться с Кнопкой, как появляется Алешин друг Петрусь. У него ссадина на лбу и разбитое колено. Петруся в детском саду зовут Летчиком. Он то и дело падает с крыльца, с кровати во время тихого часа, растягивается на ровной садовой дорожке. Когда он мчится по двору или коридору, малыши предостерегающе кричат ему хором:
— Упадешь, Петрусь!
И Петрусь падает. И сердится на малышей:
— Все из‑за вас!..
— Он шегодня уже упал. Шо штупенек, — сообщает Кнопка отцу.
— Замолчи, Кнопка! — грозно хмурится Летчик. — И совсем не упал. Это я прыгнул.
— Пвыгнул?! — поражается Кнопка.
— Ну, иди, иди, играй! — нетерпеливо подталкивает ее Алеша.
За калиткой детского сада он с радостным ожиданием за–глядывает в лицо отца. Но по тому, как отец смущенно отводи? взгляд, Алеша чувствует недоброе.
— Не получается… — жалобно говорит отец. — До следующего раза, Леха.
— Значит, не возьмешь…
Голос у Алеши дрожит и срывается.
— Леха, на будущий год. Честное слово!
— Я не хочу на будущий… Мне его не видно. Я готовился, я закалялся… Каждый день делал зарядку и обливался холодной водой. Думаешь, не холодно? Думаешь, не трудно… Только один Федор Степанович никогда не обманывает, — говорит Алеша с отчаянием. — Только один…
Дома Алеша скрывается в углу у бурого медведя с тремя лапами. Отец укладывает чемодан и время от времени поглядывает в медвежий угол. Но Алеша сидит спиной ко всему белому свету, всхлипывает и отрывает медведю вторую лапу.
* * *
И вот серый чемодан собран. Он наполнен доверху и готов в дальнюю дорогу. Отца нет. Алеша выходит из своего угла и долго неприязненно смотрит на чемодан, словно он виноват в отъезде отца. Потом он сильно царапает ногтем серую кожу и бьет кулаком по замку.
— Да ломайся же ты наконец! Может, тогда он не поедет…
Замок наконец погнулся, а из пальца тонкой струйкой полилась кровь. Тогда Алеша сует палец в рот и опять уходит в свой угол. Он сидит там и грустно думает, что Ришка прав, что никаких Волшебников на свете нет. Ничего не сбывается!
Но тут он вспоминает доктора. Мать иногда называет его Волшебником или Стариком Хоттабычем.
— Старик Хоттабыч, — тихо говорит Алеша, — иди ко мне!
Дверь открывается, и входит доктор.
— Вы взаправдашний Волшебник?! — ахает Алеша.
— Домашний.
— Вы угадали, что я вас зову?
— Я угадал, что ты ушиб палец. Покажи‑ка… Пустое. Йодом смазать, и к утру пройдет.
Алеша качает головой. Никакого йода ему не нужно.
Доктор не настаивает. Он отходит к чемодану и пытается исправить замок.
— Не надо, — останавливает Алеша. Голос его звучит безнадежно и глухо. — Не надо… Пусть так. Может быть, он не поедет.
Доктор задумывается. На его лоб набегают глубокие мор–щины. Глаза прищуриваются и тускнеют. Алеша этого не любит. Такой доктор подолгу молчит и смотрит в пол.
— А вы старенький! Вы совсем старенький… — огорченно трясет его за руку Алеша.
— С вами постареешь! — вдруг вскипает доктор. — То простужаются, то режутся, то ссорятся, а мне за всех отдувайся. А ну‑ка, приятель, давай лапу! Я тебе ее сейчас йодом смажу.
Алеша мгновенно прячет руку назад. Но Федор Степанович решительно достает из шкафа йод.
— Через марлю! Через марлю, — кричит Алеша.
— Командуй, командуй, — уже миролюбиво приговаривает доктор, осторожно смазывая ранку. — Я тебе все потом припомню…
— Забудете! Вы уже столько перезабыли!
Потом доктор все‑таки чинит замок на чемодане. Алеша стоит рядом и горько жалуется:
— Он меня не берет… Он думает, что я маленький.
— Справедливо. Пока маленький.
— Но я все могу! Делать зарядку… Обливаться холодной водой и… кипятить чайник!
— Только и всего? — усмехается доктор. — Маловато для походной жизни.
Тогда Алеша опять отправляется в медвежий угол. Никто, никто не понимает, как ему горько!
— Полно! — обнимает его Федор Степанович. — Грустить в такие молодые годы! Идем‑ка пить чай.
Алеше теперь все равно. В столовой он не смотрит на отца и садится рядом с Федором Степановичем. Алеша забывает положить в чашку сахар, пьет невкусный чай и нехотя отвечает отцу, когда тот спрашивает, какой сделать бутерброд:
— Все равно… Хоть с сыром… хоть с чем…
И вот тут‑то доктор, значительно взглянув на Алешу, громко говорит;
— Слушайте все! Я еду на Север! В июне. К тебе, Серега. И… с Лешкой. На отдых.
— Нет, нет! — вскакивает Алеша. — Не на отдых. На путешествия. К Серебряному озеру. К речке Голубинке!
— Федор Степанович! Честное слово, вы как маленький! — возмущается мать.
— Варенька, — доктор стойко выдерживает гневный взгляд матери, — Варенька, осенью привезу вам Леху, здорового, как поросенка. Слово!
— Молодец! — вскакивает восхищенный отец. — Молодец, Старик Хоттабыч! Варенька, ему‑то можно верить: он доктор!
За столом кипит жаркий спор. Чаепитие забыто. Отец и доктор, поддержанные Сашей, наступают на мать. Она не еда' ется и сердится. Но вот ее глаза встречаются со светлыми Алешиными. Надежда в его глазах смешалась с отчаянием, радость с печалью. И мать замолкает на полуслове.
— Что же это делается?! — восклицает она.
— Разрешила! — кричит Алеша ликуя. — Она отпустила!!!
Он смеется так счастливо и неудержимо, что мать тоже улыбается, бессильно опустив руки на колени.
— » Лешка едет на Север! Лешка едет на Север! — поет Саша и кружится вокруг стола. — А я на Мастаканы.
Алеша подбегает к матери и взбирается к ней на колени.
— Я буду тебе рисовать. Речку и медведей.
— Я тоже. Озера и лисиц, — кротко говорит доктор. — Только не сердитесь, Варенька.
Но мать отворачивается от него. Подумать только, какое предательство в ее собственном доме!
Так было принято решение об Алешиной поездке в далекие лесные края. Оставалось дождаться июня и уложить вещи. Свой походный мешок Алеша уже давно собрал. В нем самое нужное для похода: перочинный ножик с двумя лезвиями и ножницами, волшебный карандаш, черные купальные трусики с ремешком и деревянная ложка для ухи.
Подходит час расставания с отцом. Теперь‑то ненадолго!
— До скорой встречи, Леха!
Отец и сын пожимают друг другу руки, потом обнимаются. И вот тут‑то Алеша едва не плачет. Однако он вовремя сдвигает светлые брови и опускает глаза. Никто, конечно, не замечает одиноких слезинок на его щеках. Хорошо, что свет еще не зажжен и все слушают Сашин рассказ о походе в Кавказский заповедник. Но вот Саша внезапно смолкает. Это отец, прощаясь, кладет ей руку на плечо.
— Как же так? — тихо говорит она, и в голосе ее звучат недоумение и печаль. — Ты не увидишь, как мы пойдем на пионерский парад? Наш отряд лучший в дружине и пойдет первым.
— Знаешь что? Я в это утро буду петь вашу песню «Пусть всегда будет солнце».
— Ладно, пой, — разрешает Саша. — И еще скажи там, в тайге: лучшему отряду — салют!
— Так скажу, что до вечера в бору будет эхо греметь!
Мать и доктор едут провожать отца на вокзал. Алеша и Саша стоят у дома, пока не исчезают вдали красные огоньки машины, увозящей отца. Потом они медленно возвращаются. Алеша на пороге прислушивается к темной сонной тишине комнат. Не нравится ему такая тишина.
— Ты зажги свет везде, —просит он сестру. — Как будто опять все дома.
Перед сном Алеша достает письмо в зеленом конверте. Улыбаясь, он рассматривает золотую печать.
— Ты правильно предсказываешь. Ты — настоящий Волшебник, — благодарно говорит он.
* * *
Ришка играет в камешки у каштана. Он подбрасывает вверх сразу два, три и даже четыре камня. И все ловит. Лариса стоит и смотрит, как летают камни в Ришкиных руках.
У Ларисы тоже есть камешки. Они пахнут соленой волной, водорослями и солнцем. Лежат камни на ладони, словно большие морские капли: голубые, зеленые, синие.
— Ришка, — подвигается к каштану Лариса, — научи меня так играть.
Он молчит и еще выше бросает свои серые камни.
— Ну, научи! Я дам тебе поиграть моими морскими. На! — Сыплет Лариса на примятую траву рядом с Ришкой камешки: — Играй!
-— Я с доказчицами не вожусь, — отворачивается Ришка.
— У–у, Карабас–Барабас!
На всякий случай она отшагнула к крыльцу. Может, он будет драться…
Топ–топ — спешит к Ларисе Яша в красных башмачках.
— На! — разжимает он кулачок. Ладошка у Яши розовая и липкая от раздавленной карамельки.
— Объел, а потом дает, — отталкивает Лариса кулачок. Яша, покачнувшись, тяжело садится в траву и роняет свою карамельку.
— Ты! — вскакивает Ришка, —Чего толкаешь? Он же маленький. На, Яша, играй, — придвигает он морские камешки.
— Он сам упал. Ага! Отдай! Не твои…
— Нет–нет! — сердится Яша. — Дай.
— Отвали! — Перед Ларисой грозный Ришка. Он наступает на носки ее новых желтых туфелек босыми пыльными ногами.
— Сейчас пойду отберу у него камни! — кипит, отступая, Лариса. — Сейчас скажу про тебя маме!
— Наплювать!
— У, Карабас–Барабас!
— Нюня!
— И нет… И нет…
А слезы уже звенят в голосе и подступают к глазам. И все из‑за Ришки. Стоит себе и улыбается, как барин!
— Вот тебе, Карабасшце! — плюет Лариса в Ришкино лицо. Миг — и она на крыльце. Второй — и дверь захлопывается, едва не прищемив нос оплеванному, растерянному Ришке.
Он прыгает с крыльца и бежит, низко наклонив голову. А по загорелым щекам текут слезинки.
Яша тоже хочет заплакать. Он раскрывает круглый рот и морщится, да мешает воробей: усаживается в траву и клюет карамельку. Яша поднимается с сопением, вздохами и, покачиваясь, шагает к воробью и протягивает морские камешки.
С сердитым криком бросает воробей карамельку и улетает на каштан. Там он что‑то быстро рассказывает птицам. Яша стоит под каштаном, слушает его и запихивает в толстый маленький нос круглый морской камешек, похожий на голубую каплю.
…Алеша возвращается из детского сада, когда Яшу увозят в детскую больницу. Он смирно сидит на руках у перепуганной бабушки и смотрит на Алешу печальными вишневыми глазами.
— Яша, ты простудился? — подбегает к нему Алеша.
— Нет, — плачет бабушка. — Беда с ним…
— Это из‑за Ришки, — шепчет Лариса. — Это он отобрал у меня морские камешки и отдал Яше.
Они провожают машину с Яшей до ворот.
— Ты не играй с Ришкой. Это из‑за него Яше будет операция. Ты со мной играй. Ладно, Алеша?
— Ты опять что‑то врешь. Сейчас пойду к Ришке и все узнаю.
— Я из окна все видела. Яша взял камень и запихал себе в нос. Такой круглый голубой камешек…
— Что же ты смотрела?! — отступает потрясенный Алеша. — Федор Степанович сколько раз говорил: нельзя ничего запихивать в нос.
— Меня Ришка бить хотел… Он у крыльца стоял… Ты не ходи к Ришке, Алеша.
Алеша находит Ришку в тайнике.
— Она… она меня оплевала! — поднимает на друга заплаканные глаза Ришка. — Она…
Но Алеша перебивает его и рассказывает про Яшу. Ришка тут же забывает о своей обиде.
— Она все видела! — твердит ему Алеша.
— Она фашистка!!! — решает Ришка.
— Фашистка… — не сразу соглашается потрясенный Алеша, — Фашистка, — уверенно повторяет он. — И мы больше не будем с ней разговаривать. А когда поспеют во дворе абрикосы, мы не собьем ей ни одного!
— Что там твои абрикосы! Мы ей… Я ее…
Ришка не может в пылу гнева придумать наказание, достойного поступка Ларисы.
Вечер они проводят в тайнике. Пробуют играть то в космонавтов, то в мушкетеров. Но игра не клеится. Оба все время вспоминают Яшу. Как‑то там его операция…
— Федор Степанович его вылечит. Вот посмотришь! — то и дело успокаивает себя и Ришку Алеша. Когда он уже лежит в постели и дремлет, звонит телефон. Мать слушает, склонившись над трубкой. Потом тихо, растроганно говорит:
— Спасибо, Старик Хоттабыч! Большое спасибо от всех!
— Он вылечил Яшу?! — вскакивает с постели Алеша. — Я так и знал! — Он бежит к матери и берет у нее трубку, но от волнения ничего не может сказать. Только смеется.
— Леха, ты чего? — раздается в трубке удивленный голос доктора.
— Я радуюсь. Понимаете?
— Понимаю, — соглашается доктор. — Я тоже! — громко говорит он, но тут же смолкает, очевидно, вспомнив, что в детской больнице шуметь нельзя.
* * *
Ришка сидит в сквере на скамье и ждет Алешу. От нечего делать Ришка болтает голыми ногами, уже загоревшими на весеннем солнце. Растоптанные сандалии валяются в траве.
Рядом с ним на скамью тяжело опускается седая старая женщина. К спинке скамьи она прислоняет небольшую коричневую палку. На ручке ее вырезана собачья морда. Судя по длинным ушам —охотничья.
Ришка сейчас же придвигается к палке.
— Возьми посмотри, — приветливо улыбается женщина, — сильно истерлась от старости, но рассмотреть еще можно. Ты учишься или ходишь в детский сад?
— Учусь… — неохотно отвечает Ришка. О школе он рассказывать не любит.
— А как ты поживаешь?
Ришка настораживается, исподлобья разглядывает незнакомку. Не похожа ли она на Яшину бабушку? Кажется, нет…
— Поживаю… Ничего себе, — роняет он негромко.
— Давай познакомимся? — дружелюбно предлагает она. — Как же тебя зовут?
Вот этого Ришка совсем не хочет! Чем больше всяких там знакомых, тем больше неприятностей. Он прислоняет палку к скамье и опять болтает ногами. Вдруг пятка его задевает что-то мягкое и теплое. Ришка спрыгивает со скамьи. В траве сидит маленький, черный, как сажа, щенок. Он ворчит, а сердитые глаза его похожи на маленькие пуговки.
— Пес?! —Ришка радуется, словно нашел клад. —А ну‑ка, давай вылезай.
Щенок вылезать не хочет. Он упирается, рычит и даже пытается хватить Ришку за палец.
— Подожди, — заглядывает под скамью незнакомка. — Мы его сейчас уговорим.
Она достает из вязаной старенькой сумочки кусочек сахару и ласково зовет:
— Иди, иди сюда, маленький строптивец.
И строптивец вылезает, тонко тявкнув на Ришку, и берет сахар.
— Ну и трубочист к нам пожаловал! — Незнакомка пожимает крохотную черную лапу. — Здравствуй, Вакса!
— Точно, Вакса! — соглашается Ришка. — Знаете, у меня как раз нет собаки. Я ее возьму.
Мимо мчится на самокате Шим. Он круто тормозит у скамьи и дает позывной звонок: Ришка, сюда!
— Видал?! — Счастливый Ришка вертит притихшую Ваксу. — Нет, ты в глаза ей посмотри. А лапы‑то какие! Ага?!
Ваксу усаживают на самокат и катают по аллее. От страха она закрывает глаза и прижимает к затылку уши.
— Трусовата, — качает головой Шим. Но в глазах его откровенная зависть.
— Мала еще. Ничего, я ее воспитаю.
Когда самокат минует скамью, где была найдена Вакса, Ришка вспоминает про незнакомку.
— А где же…
Он осматривает сквер. Где же она? Кажется, там, у клумбы. Он бежит по скверу и'заглядывает в лицо склонившейся над цветами женщины. Нет… не она.
— Вот какая, — бормочет огорченный Ришка. — Взяла и ушла.
* * *
Дома Ришка дает Ваксе молока и делает подстилку из старой фланелевой рубашки. Вакса послушно ложится на подстилку и засыпает. Она ведь маленькая! Она устала!
Ришка смотрит на нее. Все в ней нравится ему: и короткие уши, и тупой черный нос, и мягкие толстые лапы.
Вечером он показывает щенка матери.
— Дворняжка, — равнодушно отворачивается мать.
— Породистая — обижается он и прижимает щенка к груди. — Ма… Пусть Вакса живет у нас… А?
Мать не отвечает — она занята. Что‑то перекладывает в шкафу. Господи! Неужели это такое важное дело? Главнее Ваксиной судьбы?
— Ма! — следит он за ней тревожным взглядом. — Ну, ма…
Вакса дремлет на Ришкиных руках. Он ласково тормошит ее: проснись и покажи, как ты умеешь громко лаять и смешно ходить. Но Вакса ни ходить, ни лаять не хочет. Она хочет спать. Широко зевнув, она переваливается к своей подстилке. На полу за собой она оставляет мокрый длинный след.
— С ума сошла… — пугается Ришка.
После долгих уговоров и мольбы мать соглашается оставить Ваксу на ночь. В коридоре.
— А завтра куда же ее?
— Отдай кому‑нибудь.
Ночью Ришка не может спать. Он вертится и бесконечно сует руку под кровать. Там тайно от матери спит Вакса. Он слышит, как она посапывает и вздыхает во сне. Такая маленькая, а все понимает!
В конце концов мать встает и шлепает к нему босыми ногами:
— Что с тобой? Почему ты все время вертишься и сопишь? У тебя опять болит живот? — Она садится к нему на кровать.
— Сердце… — шепчет Ришка.
Мать зажигает свет и велит показать, где это у него болит сердце. Он водит рукой по груди. У него действительно что‑то ноет.
— Глупости, — хмурится мать. Но глаза у нее встревоженные. Матери Ришка побаивается. Она неулыбчивая и строгая. Она не любит собак.
— Ма! — Он садится в постели. — Если ты… прогонишь Ваксу, я… я разболеюсь без нее!
Она долго молчит. Потом наклоняется и заглядывает под кровать.
— Вакса здесь?
Ришка опускает глаза.
— Тебе письмом заниматься надо, а не собакой…
— А я буду! — вскакивает он. — Вот посмотришь. Только оставь Ваксу!
— Ты ее так любишь? — удивляется она.
— Очень! Ну, очень!
Она оглядывается в раздумье:
— Где же ей поселиться?
— Давай я будку построю! Вакса будет сторожить наш дом. Ладно?!
— А что сторожить‑то? — усмехается мать.
— Тогда давай подпилим пол и выкопаем тайный ход. Вакса будет по нему ходить…
— Спи ты, выдумщик! Завтра что‑нибудь придумаем.
Она укрывает его и вдруг прижимается щекой к его лицу.
— Спи, Ришка–мальчишка!
Ришка ждет, пока заснет мать. Тогда он, не дыша, вытаскивает Ваксу и баюкает под одеялом:
— Спи, спи, Вакса. Ты хорошая, породистая. Спи…
Утррм мать будит Ришку.
— Придумала что‑нибудь? — сразу вспоминает он.
— Придумала, — недобрым голосом отвечает мать. — Посмотри!
Ришка вскакивает. Пол под столом испачкан и замочен. Ваксы не виднд.
— Вакса! Сюда! — орет он, уже не чая увидеть ее.
— Не кричи, — морщится мать. — В коридоре твоя Вакса. Да, она сидит за дверью. При виде Ришки виляет хвостом и визжит. Он не может сердиться и ругать ее. Он утешает и гладит. Вакса ведь маленькая.
— Ма, — врывается Ришка в комнату. — Это из‑за меня! Это я забыл с ней погулять вчера. Ты подожди еще денек, я ее быстро воспитаю.
— Я твою Ваксу на работу возьму. Завхозу щенок нужен.
— Нет… — Ришка бледнеет. — Ма, нет!
— Смотри, Ришка. Ох, смотри! —сдается мать.
— Буду! Железно!
После уборки комнаты Ришка ведет Ваксу на прогулку. Она покоряет всех ребят во дворе.
— Классный щенок! — не устает восхищаться Шим.
— На бульдога смахивает, — прищурившись, рассматривает Ваксину широкую мордочку Алеша.
— Нет, на овчарку, — решает Ришка. — Взгляд какой умный, замечаешь?
— Замечаю, замечаю, — кивает Алеша.
— Й я замечаю, и я! —спешит заглянуть в Ваксины черные пуговки Шим. Подходят девочки с соседнего двора.
— Ришка, покажи! Дай погладить!
— Ух, какой щеночек черненький!
— Породистый, — скромно роняет Ришка.
Одна Лариса не подходит к Ваксе. Она возится с цветами, но Ришка отлично видит, как украдкой она посматривает на щенка. И ей, конечно, хочется его погладить. Ришка ревниво закрывает Ваксу рукой и отходит подальше от палисадника.
И вся ребячья ватага тянется за ним. Теперь Ларисе совсем не видно Ваксы. И она не выдерживает одиночества, бросает цветы и бежит к Ришке.
— Не подходи! — останавливает ее Ришка. — Пес тебя разорвет. Вакса, взять!
— Куси ее, куси! Она доказчица, — подталкивает Ваксу Шим.
— И она хотела выкопать наш пиратский клад. Вчера. Я видел, — шепчет на ухо Ришке Алеша.
— Теперь не выкопает, — фыркает Ришка. — Теперь ей от Ваксы никуда не деться.
А сама Вакса сидит у Ришкиных ног и сердится: все жмут ей лапы, все гладят ее. А она устала и хочет спать. Потому она ворчит и скалит крошечные зубы.
* * *
Несколько дней все идет благополучно. Ришка учит уроки и воспитывает Ваксу. Строить ей домик мать пока запретила, а велела заниматься письмом. Ришка привязывает Ваксу возле своего крыльца. Она скулит. Он подолгу утешает ее. Теперь после звонка Ришка не задерживается в школе. Он спешит к Ваксе. Она слышит его шаги и рвется к нему, задыхаясь от натянувшейся на шее веревки.
— Подвезло тебе с собакой, — откровенно завидует Шим. — Верная.
Вакса действительно верная. Она лежит на Ришкиных коленях, пока тот готовит уроки. Она идет за ним по двору след в след и время от времени лает: ничего не бойся, я тебя охраняю. Ришка и так ничего не боится. Даже Яшиной бабушки и Ларисиной матери. Он просто избегает их — так меньше крику. Но Ваксина верность трогает его сердце. Он редко доверяет Ваксу даже Алеше и Шиму. Ришка не хочет, чтобы она привыкала к другим.
Из остатков своего школьного ремня (он изрезал его после порки) Ришка делает поводок. Длинный, черный, блестящий. Но однажды поводок пропадает. Ришка обыскивает весь дом, но поводок как в воду канул. Видимо, сработала Вакса.
— Куда ты его затащила? — спрашивает в сотый раз Ришка. Вакса сердится: ей надоели допросы. Тогда он находит кусочек ремня и приказывает Ваксе;
— Ищи!
Она бежит под кровать. Там она долго возится, ворчит и не обращает внимания на Ришкин зов. Приходится самому лезть под кровать и выволакивать Ваксу, Никакого поводка там нет. У подстилки лежит старый чувяк и кость от вчерашнего обеда.
— Что же ты обманываешь? — обижается Ришка. — Ищи!
Теперь Вакса выбегает на крыльцо, оглядывается на Риш–ку и спускается по ступеням. Ясно: она взяла след! Кажется, эта Вакса никакая не овчарка — она потомок ищеек!
Ришка начисто забывает про школу и уроки. Он кружит по двору со своей ищейкой и наконец останавливается у крыльца Ларисы. Вакса тонко и сердито тявкает.
«Что ли, Лариса утянула поводок?! — ошеломленно думает Ришка. — Когда же она успела?»
Очень кстати выходит Шим.
— Точно, Ларка, — соглашается он. — Она все может!
Как это могло случиться? Очень просто: ночью.
— Ну уж ночью… — недоверчиво бормочет Ришка. — Как она могла?
— Очень просто: через окно. Вы ведь с открытыми окнами спите? Да?
— А зачем ей поводок? — раздумывает Ришка.
— Зачем?.. Хочет приручить. Вот зачем.
— Кого приручить?!
— Ваксу, ясно. Не тебя же.
— Я ей приручу! — вскипает Ришка. — Эй, отдавай поводок!
В окно выглядывает Лариса.
— Убирайтесь отсюда и дворняжку свою уводите.
— Ты сама дворняжка! — кричит оскорбленный Ришка.
— Дураки!
Лариса показывает язык и захлопывает окно.
Тут Ришка вспоминает о школе. До звонка на урок остается полчаса. Он торопливо надевает школьный костюм, запихивает книги в портфель без замка и ручки.
Как быть с Ваксой? Поводок выкраден. Веревку мать натянула во дворе и развесила на ней белье. Где‑то в шкафу лежит отцовский ремень. Ришка никогда его не берет. Даже старается не глядеть на него, на этот коричневый, с серой полосой посредине красивый ремень. Даже крепко–накрепко сжимает векй, когда замечает его среди одежды, и отворачивается. Но все равно ремень рассказывает об одной–зимней ночи, без луны й звезд. И без снега. Ришка тогда замерз и проснулся. В комнате кто‑то плакал —всхлипывал и сморкался. Ришка лежал тихо и смотрел в темноту. У окна он различил мать. Это она плакала. «Они опять поссорились…» — понял Ришка и потянул на голову одеяло.
— Ришка… ты не спишь? — шепотом спросила мать.
— Сплю… — пробормотал он под одеялом.
Потом она укрывала его своим теплым платком и еще долго стояла у кровати. Ришка согрелся и заснул. А утром меть сказала: отец уехал в другой город. По делам. Он долго Не возвращался, и Ришка забеспокоился.
— Он не приедет! — рассердилась мать, когда Ришка спросил об отце. — Никогда не приедет…
Ранней весной Ришка увидел отца на улице, но испугался и спрятался за чьи‑то ворота. Когда отец прошел, он поплелся следом. Отец, оказывается, жил в их городе. Только на другой улице и в другом доме…
Ришка раскрывает дверцы желтого шкафа. Придется взять для Ваксы отцовский ремень. Ришка торопится и бессовестно раскидывает вещи. Падает с полки теплая рубашка. Валится коробка с новыми серыми туфлями матери. Вот наконец и ремень. Ришка берет его и задумывается.
…За небольшим столом у окна отец вечерами разбирал свой транзистор. Что‑то у него там все ломалось.
С ремнем в руках Ришка подходит к столу. Он смотрит на стул, словно на нем опять сидит высокий черноволосый человек с трубкой во рту. Его отец…
… — Ты к нам еще придешь когда‑нибудь?
… — А транзистор твой больше не ломается?
Вакса беспокоится и тянет Ришку за штаны. Ремень падает из его рук и лежит на полу, изогнувшись, как та змея, которую он видел прошлой осенью в лесу за Кубанью. Ришка не успел ее рассмотреть — змея бесшумно исчезла среди опавшей листвы.
Ришка переступает через ремень и порывисто наклоняется к Ваксе.
— Ты хорошая…. породистая. Посиди здесь. Я скоро.
В знак согласия она кладет маленькую черную лапу ему в ладонь.
* * *
Вернувшись из школы, Ришка быстро открывает дверь и радуется встрече с Ваксой. А Ваксы не видно. Но Ришка слышит ее тихий визг.
— Ты где? Эй, Вакса!
Откуда она притащила эту старую туфлю? Он отшвыривает ее в дальний угол, но тут же поворачивается и пристально разглядывает. Туфля кажется Ришке знакомой. Где‑то он видел ее… Измятая и пустая коробка, в которой мать хранит свои новые туфли, валяется на полу. Рядом лежит одна светлая туфля. Второй нет. Вторую изжевала Вакса…
У Ришки слабеют ноги. Он садится на пол. Рядом с коробкой и рубашкой, рядом с ремнем. Он закрывает глаза.
Вакса лижет его ладонь. Кажется, она плачет. Ришка устало приоткрывает глаза.
— Вакса… Что теперь с нами будет?
Она. не знает. Она просит его защиты и извиняется: лижет руки и ложится на спину. Глаза у нее влажные и печальные.
Ришка осматривает изжеванную туфлю, Может быть, ее починить? Отнести к знакомому сапожнику и взять с него железное слово молчать. Он притягивает к себе то, что осталось от изящной новой туфли, и морщится. И Вакса отворачивается.
— Козлиха! Ну, сгрызла бы мою рубашку. Или его ремень. И зачем только я тебя нашел!
Они сидят и горюют до тех пор, пока Ришка не вспоминает про обед. Обедают они вместе. Потом Ришка осторожно поднимает испорченную туфлю и укладывает ее в коробку рядом с новой. Куда бы спрятать? Подальше от материнских глаз. Вдруг она забудет про эти туфли! Вдруг возьмет и купит новые!
Он уносит коробку в сарай и прячет в дровах. Здесь ее никто и никогда не найдет. Законное местечко!
Ришка бродит по двору, молчаливый и хмурый. Вакса плетется рядом с опущенным хвостом.
— Эй, капитан Рик! — трубит в кулак шкипер Шим.
Ришка не отвечает.
Шим догоняет его и заглядывает в лицо.
— Ришка, двойка?
— Подумаешь, двойка! — бормочет Ришка. Но вдруг с откровенным отчаянием говорит: — Вакса туфлю сгрызла. Начисто…
…Капитан Шел ведет воображаемый корабль на космической скорости. В заливе Старого Каштана он видит Рика и Шима и подает им сигналы. Но мореходы не принимают их. Тогда он бежит к ним. Что‑то случилось…
— Вакса—-дура, — сообщает Шим. — Она туфлю сгрызла.
Молчаливый несчастный Ришка ведет их в сарай. Он вытаскивает из‑за поленьев раздавленную коробку. Алеша и Миша морщатся.
— Давай выбросим их в Кубань. Пусть думают, что воры украли, — предлагает Миша.
— А я за тебя заступлюсь. Хочешь, скажу, что это я? — обнимает Ришку Алеша.
— Туфлю сгрыз? — хохочет Миша.
Слабая улыбка появляется на Ришкином лице и сразу вянет.
— Туфли надо купить новые, — решает Миша.
— А где деньги взять? — со слабой надеждой спрашивает Ришка. — Их много надо. Полный кошелек.
— Накопим! —Миша вытаскивает из кармана штанов круглый черный кошелек и высыпает на ладонь мелочь. — Вот, — протягивает он монеты Ришке, — пятьдесят копеек.
— А у меня совсем нет копеек, — огорчается Алеша.
— Ты, Лешка, спроси у матери, у этого вашего доктора, — советует Миша.
— Лешка, — пугается Ришка, — Лешка, ты не выдашь? Доктор, он хитрый…
— Клянусь поломанной мачтой! Железно!
— Только бы она их не хватилась, этих туфель, — ежится Ришка. — Только бы забыла про них. Она по праздникам их надевала. Два раза.
— Ну, до праздников далеко, — утешает Миша. — Первомай прошел. Накопим!
Ришка возвращается домой и садится за уроки. Он раскрывает «Русский язык для первого класса». Но на колени к нему карабкается Вакса, и он долго рассказывает ей, какие верные у него друзья.
— Попробуй только сгрызть еще что‑нибудь, и я отдам тебя завхозу, — предупреждает Ришка Ваксу.
Она виновато прячет нос в его коленях.
Упражнение Ришка делает наспех, перед самым приходом матери.
* * *
Кнопка спускает большой голубой автобус с деревянной горки. Он мчится с сумасшедшей скоростью и попадает под самокат, на котором Петрусь–Летчик спешит к детсадовскому космодрому. Петрусь — капитан корабля, впервые улетающего на Луну из детского сада.
Из‑за Кнопки космический полет сорван. Летчику достается за сломанный автобус, поцарапанную краску на новом самокате и даже за собственное разбитое колено. Кнопка от всего отказывается.
— Он шам нашкочив, — говорит она сопя.
Летчик, покорно отсидев в одиночестве положенное для наказания время, разыскивает Алешу. Они отправляются на малышовскую площадку объясняться с Кнопкой. Та смирно стряпает песочное печенье.
— Кнопка, — подходит Алеша, — ты зачем все на Петруся сваливаешь?
Кнопка делает большие глаза. Она ничего не сваливает.
— Ты ехидная, Кнопка, — высовывается Летчик из‑за Алеши. — Я больше не дам тебе черешен. Никогда!
Кнопка, всхлипнув, ревет басом. Младшая группа бросает песочное строительство и спешит к ней. Дольше на площадке оставаться опасно. Алеша и Петрусь поспешно укрываются в виноградной беседке. Они по опыту знают: малышей обязательно оправдывают.
— Ты не бойся, — утешает Алеша Летчика. — Пионеры починят автобус. Мы ведь в их зоне.
Летчик не боится. Он просто хочет справедливости.
За беседкой раздается шорох. Сквозь виноградную лозу кто‑то долго лезет. Наконец среди листьев показывается Кнопкино лицо.
— Я больше не буду… Ты дашь мне чевешни?
— Уйди, Кнопка, — отворачивается обиженный Летчик. — Я больше с тобой не играю.
— Почему?.. — Кнопкины губы расползаются, а глаза грустнеют.
— Она сейчас заревет, — тревожно предупреждает Алеша.
— Не реви! — грозно хмурится Летчик.
Кнопка сопит и крепко сжимает толстые губы. Ее грустные синие глаза наливаются слезами.
— Ладно уж… — не выдерживает Алеша ее страдальческого взгляда. — Он с тобой играет, — гладит он кудрявую, светлую, как солнце, Кнопкину голову. — Правда, Петрусь?
Летчик дергает носом, но молчит. Из Кнопкиных покрасневших глаз проливаются круглые слезинки. Она молча растирает их по щекам ладошкой и… улыбается. Она верит в прощение! Размазав слезы, она наклоняется и шарит в виноградных листьях. Летчик нетерпеливо заглядывает в кусты через ее плечи. Что еще запрятала там глупая Кнопка? Наконец она вытаскивает свою куклу —старую Катю. Ту самую, которой Алешин отец слепил пластилиновый нос. У нее опять нет носа и еще правой руки. Кнопка прижимает к себе Катю и робко уточняет:
— Теперь чевешни дашь?
— Даст, даст! Правда, Петрусь? — спешит Алеша опередить ответ явно недовольного Летчика. — А ты опять отломала у куклы нос! — огорчается он.
— Он шам… — уточняет Кнопка. — Взял и отпал.
Алеше жаль старую куклу–калеку, потому что ее чинил отец. Он тянет к себе куклу. Кнопка мрачнеет и упорствует.
— Да не бойся ты! Мы ее в отряд отнесем. Там починят. И автобус тоже. Только в последний раз, — спохватывается Алеша. — Правда, Петрусь?
На этот раз Петрусь снисходительно кивает. Но Кнопка ему надоела.
— Правда, правда. И ты иди, Кнопка, гуляй. Нам больше некогда.
Куклу и автобус Алеша с Летчиком прячут в шкафчик с одеждой. Няня, Татьяна Ивановна, узнав, что пионеры починят сломанные игрушки, собирает Кучу исковерканных паровозиков, самолетов, грузовиков и потрепанных кукол. В конце дня Алеша и Петрусь отправляются за Санькой Петушковым — он отвечает в отряде за работу в зоне.
* * *
— Лешка! — сердится Санька при виде груды изломанных игрушек. — У нас скоро контрольная по алгебре. Опрос по истории. Когда же нам заниматься этой чепухой!
— Это не чепуха, — темнеют от обиды Алешины глаза. — И мы в вашей зоне…
— Ладно уж… Помоги хоть собрать звено.
Звено собирается в полчаса — по цепочке. Как всегда, у Саши. Помогать приходят Алеша и Ришка. Игрушки делят: девочкам — куклы, мальчикам — самолеты, автомобили и прочая техника.
— Ришка, — вспоминает Санька, выпрямляя погнутый кузов голубого автобуса, — ты зачем в школу собаку приводил?
— Показать. Хороший пес!
— А за что тебя учительница в коридоре ругала?
— За русский…
— Чего же ты его не учишь? — отрывается от своего паровоза Сережа Корень.
— А я знаю, как его учить? Я пишу всякие слова, а они неправильно пишутся…
— Ты не слова пишешь, а по улице бегаешь, — прерывает Ришку Коля Грач, — останешься на второй год. Законно!
Ришка вдруг бросает кисточку — он красил ею в желтый цвет длинный трамвай — и быстро идет к двери.
— Да ну вас!
— Ишь какой?! Граф Монте–Кристо! — удивляется Санька.
— Пусть топает. Санька, а за мороженым кто пойдет?
Услышав о мороженом, Ришка останавливается в дверях.
Звенят монеты — их высыпают на стол из карманов брюк и передников. На Ришку никто больше не обращает внимания, и он незаметно — шажок за шажком, вдоль стенки — возвращается к своему месту, рядом с Алешей. Алеша смотрит на кучу светлых монеток.
«Ух ты, сколько много! — удивляется он про себя. — Наверное, хватило бы на туфли».
Он догоняет Саньку у ворот.
— Знаешь… знаешь, мне сейчас совсем не хочется мороженого. Совсем… Я завтра захочу. Ты мне дай, пожалуйста, копеек.
— Ты что, Лешка, опять болеешь?
— Нет, нет. Я же сказал: захочу завтра.
— Ох, мутишь ты что‑то, Лешка! Ну бери свою долю.
Доля — два гривенника — разочаровывает Алешу.
— Столько мало?!
Санька прибавляет гривенник — от себя. И убегает.
Алеша несет маленькие туманные монетки в дом и радуется: это его первый взнос на туфли.
— Вот, — протягивает сияющий Алеша ладошку с монетами.
— Где ты взял?
Рншка удивляется еще больше, когда узнает, что Алеша отказался от мороженого.
— А может, ты хочешь?
— Не очень… — откровенно признается Алеша. — Совсем немножко…
Санька приносит в сетке мороженое, раздает и вдруг замечает Ришкин взгляд.
— На, — протягивает он заиндевевший брикет в серебряной бумаге.
Ришка сдержанно улыбается. Санька ничего себе парень.
— Лешка, давай пополам?
Он делит брикет на две равные части Алешиным перочинным ножиком. Они, наслаждаясь, облизывают снежные кубики. Мороженое тает, течет по рукам. И руки тоже облизываются: мороженое — оно ведь вкуснее всего на свете!
Днем, как всегда, после работы заходит Федор Степанович. Он подсаживается к Алеше, и они говорят о своем путешествии на Север. Ришка отодвигается — он опасается глядеть доктору в лицо. Он побаивается разговаривать с ним: Лешка говорит, будто Федор Степанович умеет читать по глазам. И Ришка тревожится, как бы он не разгадал про туфли.
Ришка встает.
— Я пойду… У меня скоро контрольная диктовка.
— Правда, — подхватывает Алеша и, дождавшись, когда за Ришкой закроется дверь, шепчет: — Если он получит двойку, то останется на второй год. И его мама выгонит Ваксу и не пустит Ришку в лагерь.
— А двойку он, пожалуй, получит, — задумчиво говорит Федор Степанович.
— А можно так сделать, чтобы без двойки? — Алеша приподнимается на носках и заглядывает в глубокие серые глаза доктора:. — Вы думаете, да? О Ришке?
Федор Степанович не отвечает, Он встает и направляется к Саньке Петушкову.
— Саня, в зоне действия вашего отряда — ЧП.
У Саньки недоверчиво–встревоженное лицо. Притихшие ребята ждут, что скажет доктор.
— Ришка обязательно запорет контрольную диктовку!
— Ой, я так испугалась, а это Ришка! —облегченно вырывается у Саши.
— Он все равно останется на второй год, — ворчит Сережа, И потом — первый класс прикреплен к другому отряду. Ришка не в нашей зоне.
— Этот Ришка не учится, а собак гоняет.
— Со всеми ссорится, да еще дерется!
— Только с Ларисой, — вмешивается Алеша. — Я бы ей сам так дал!
— С девочками не дерутся. Им помогают, — говорит доктор.
— Даже если они ехидные? — поражается Алеша.
— Даже тогда. А Ришку надо воспитывать. Вашему отряду.
— Так он же не в нашей зоне, — напоминает Санька.
— При чем тут зона, если человеку помочь надо? — хмурится доктор. — Я вам сейчас расскажу про зону.
…Ночью дежурил я в своей больнице. Привозят в машине мальчишку, такого, как Ришка. Совсем был плох. Даже не плакал, когда я ему пункцию делал. Менингит у него. Ты знаешь, Санька, что такое пункция? Нет? А ты, Серега? Тоже нет! Желаю вам и дальше не знать и не ведать. Так вот, принесли его в операционную, и вдруг он заговорил...
— А меня Костей зовут… Я поправлюсь, доктор, да? Только вы не уходите…
Всю ночь мы с дежурной сестрой его у смерти отвоевывали. Кололи, поили всякими снадобьями, кровь вливали. Он все терпел. Только повторял:
— Вы не уходите…
Утром Костя, мне улыбнулся. Глазами только, но улыбнулся! Температура немного спала, и он заснул. Сижу я у его кровати, смотрю, как он дышит все ровнее, и радуюсь. И не шевелюсь, чтобы не разбудить Костю —он меня за руку держал. И тут вдруг говорят, что Костя — чужой. Не нашего района, и по ошибке в нашу больницу попал. А я обрадовался: хорошая это ошибка, раз вовремя человека лечить начали. Теперь‑то Костя обязательно поправится и жить будет. А вы говорите — зона… И Ришка останется на второй год, пока вы разберетесь, в чьей он зоне и какой отряд ему помогать должен. Ты, Саня, звеньевой, что же ты в сторону отходишь?
— Я ничего… Я не отхожу…
— Алеша, с письмом Он горит? — спрашивает Саша.
— С письмом, с письмом, — кивает Алеша.
— Мы, наверное, успеем с ним разобраться до его контрольной диктовки. Да, Саша? — неуверенно оглядывается на нее Санька.
— Если Саша с Санькой за него возьмутся, Ришка перейдет, — восклицает Серега.
— Смотря как браться! Парень он суровый, — напоминает Федор Степанович.
— Что ли, мы все с одним суровым Ришкой не справимся?!
— Он и не суровый совсем. Он законный, капитан Рик. Он только никого не боится, — говорит с гордостью Алеша.
— Федор Степанович, вы больше не беспокойтесь о Ришке. Вы Костю лечите, — подходит к доктору Саша.
— Ну, держись теперь, капитан Рик! — смеется Сережа.
* * *
— Алеша, — спрашивает Саша, — эта ваша Вакса кусается?
— Нет, что ты! Она же ищейка. Она след берет. Ришка ее воспитывает.
— Больше не будет. Сейчас мы с Санькой за него возьмемся.
— Сейчас?
Алеша бежит к другу предупредить о нежданных гостях. Ришка сидит на полу и держит в руках узкий черный ремешок.
— Лешка, она нашла поводок! Она сама запихала его за шкаф, а сегодня вытащила. Умная собака! Я вот развиваю у нее ищейские способности. Видишь: понюхает букварь, а я спрячу. Потом она сама найдет его.
— А ну! А ну! — загорается Алеша и присаживается на пол. Ришка сует Ваксе в нос затрепанный букварь. Она обиженно отворачивается.
— Нюхай! — приказывает Ришка.
Вакса нюхать не хочет.
— Наверно, устала, — догадывается Ришка. — Мы уже давно с ней тренируемся. Пусть отдохнет.
Вакса уходит отдыхать под кровать.
— Ришка, значит, мы зря за поводок на Ларису валили?
Ришка не испытывает угрызений совести. Хо! Что той Ларисе от этого сделалось? А сколько раз его драли из‑за нее? И если бы Вакса не запихала поводок за шкаф, Лариса обязательно бы стащила.
Тут Алеша вспоминает, зачем пришел.
— Чего им от меня надо? — вскакивает Ришка. — Придут тут командовать…
Сегодня на арифметике он бросал бумажные шарики. Разве он мог знать, что Шим наклонится и шарик упадет учительнице на стол? Ришку с позором выгнали из класса и как раз в тот момент, когда по коридору шел дежурный по школе Митя Семин. И скорее всего сейчас не учение будет, а душемотание. Нет, надо уходить!
— Эй, Вакса! Вылезай скорее…
Но на Ваксу напала строптивость. Она ворчит и лает под кроватью. И когда Ришка наконец вытаскивает ее оттуда, в комнату входят гости. Санька с ходу приступает к делу.
— Октябрин! Мы обещали Федору Степановичу заниматься с тобой. У вас контрольная по письму. Давай показывай, как готовишься.
— Он, конечно, не готовится, — вздыхает Саша. — Он опять с собакой…
— Кто не готовится… — бормочет Ришка.
— Ясно… Садись, Октябрин. Саша с тобой заниматься будет.
— Не надо, не надо… — мрачно отказывается Ришка. — Лучше я сам.
Ришка боится строгой Саши. Он и к Алеше заглядывает, когда ее нет дома.
Но Вакса подходит к ней и приветливо тявкает.
— Дай лапу! — просит Саша.
И Вакса послушно дает.
— У тебя хорошая собака, — оживляется Саша.
Ришка дивится: Вакса не очень‑то любезная собака. Даже Алеше и Мишке она дает лапу по настроению.
— Саша, — морщится Санька, — ну что ты там с собакой!
— Риша, доставай свои тетрадки, — садится Саша за стол.
Ришка и с места не трогается.
— Я еще не встречал такого несознательного человека! — возмущается Санька. — Честное пионерское!
— Ришка, ты учись… — шепотом просит Алеша. — Ты же получишь двойку!
Саша осторожно берет Ришку за руку и подводит к столу. Вакса идет следом.
— Я много писать не буду, — сдается Ришка. — Мне захлебом надо…
— Я схожу, я схожу! — предлагает Алеша.
Ришка нехотя держит изгрызанную голубую ручку.
— Ну, чего там писать? — кисло спрашивает он.
Саша читает диктовку:
— «Моя семья». Мой папа рабочий. Мы с ним друзья...
— Не буду писать, — перебивает Ришка, — Плохая диктовка. Лучше про космонавтов или о лагере.
— Придется вызвать тебя на совет справедливых, —решает Санька и разводит руками. Но Саша его останавливает: у нее как раз есть про космонавтов.
Наконец Ришка пишет. Однако вскоре ему приходится сменить перо — к перу все время цепляется всякая дрянь. С нового, переполненного чернилами пера срывается клякса. Диктовку начинают сначала.
Убедившись, что Ришка занимается, Санька уходит.
— Вот и хорошо, — бормочет Ришка. — А то командует…
Диктовку он дописывает старательно. Но у Саши тускнеет лицо, когда она читает его каракули.
— Плохо? — настораживается Ришка.
Но Саша замечает надежду в его черных глазах, вспоминает, как старательно он выводил последние строчки.
— Не–е очень… Так себе.
Он оживляется. Хо! Не так уж плохо это «так себе».
— Где я там наврал?
Саше хочется сказать: везде! Но она опять сдерживается.
Алеша приносит хлеб и кладет его на край стола. Пахнет теплым и вкусным. Словно из горячей духовки с румяными пирожками. Янтарная корочка потрескалась с боков…
Ришка отодвигает тетради. Хватит учиться. Устал. Он отламывает кусок, делит его с Алешей и, поколебавшись, предлагает Саше:
— Ешь… Вкусный. Ошибки я потом исправлю.
Втроем они съедают половину каравая и запивают холодным чаем. Пока Ришка кормит Ваксу, Саша собирает книги.
— Ты завтра придешь? — спрашивает Ришка, не поднимая головы.
— Обязательно! Знаешь, мне так хочется, чтобы ты хорошо написал контрольную днктовку…
Ришка вскакивает:
— Я исправлю ошибки. Железно!
Отойдя от Ришкиного крыльца, Саша говорит брату:
— Леха, а твой Ришка не такой уж страшный разбойник.
— Он никакой не разбойник, — радуется за Ришку Алеша. — Он совсем хороший.
* * *
Ришка каждый день занимается с Сашей. Он сам приходит к ней после обеда. Вместе с Ришкой приходит Вакса. Он привязывает ее у крыльца и старательно вытирает ноги о тростниковую подстилку в передней. Потом он терпеливо сидит за Алешиным столом и ждет, когда Саша оторвется от своих учебников. Она решает сложные задачи и примеры. Иногда они долго не получаются. Тогда Саша велит Ришке повторять правила. Он теперь знает их наизусть и повторяет шепотом. Алеша шепчет вместе с ним.
Однажды к ним подсаживается доктор. Он тихонько расспрашивает Ришку, как там у него школьные дела и как поживает ищейка Вакса. Ришка рассказывает охотно: дела теперь ничего себе. Но он по–прежнему опасается Федора Степановича. Ришка всякий раз думает о туфлях. Деньги на них копятся медленно. Дома он следит за матерью — не ищет ли туфли? Когда она открывает шкаф, сердце его так колотится, словно он только что пробежал триста метров. К счастью, мать возвращается с работы поздно и очень усталая. Строительство многоквартирного дома, где она красит окна, стены и двери, заканчивается. Бригада решила сдать его досрочно.
Сегодня Ришка долго ждет, пока освободится Саша. Он уже два раза успел прошептать правила и объяснение исправленных ошибок.
— У нее квадрат суммы не получается, — сообщает доктору Ришка и с уважением смотрит на Сашу.
— Федор Степанович, проверьте у Ришки уроки. Я сейчас, — просит Саша.
Ришка неохотно протягивает доктору тетрадь. Лучше Саши в письме никто не разбирается. И потом ошибки… Откуда они берутся? Он знает правила, пишет по слогам… Тут уж он никак не виноват.
Доктору нравится его работа.
— Красиво! — любуется Федор Степанович.
Ришка скромно опускает довольные глаза. По скоро доктор находит три ошибки.
— Это много или мало? — задумывается он.
— Мало! — убеждает Ришка. — Можно и больше.
— Мало, —улыбается Саша. — На той неделе Ришка делал пять или шесть.
— Тогда с успехом! — протягивает доктор большую руку с длинными, очень чистыми пальцами.
Ришка жмет ее и торопливо прячет в карман свою, испачканную чернилами и землей. Он забывает об осторожности и смотрит доктору прямо в глаза и радостно рассказывает, как учительница удивляется Ришкиным ответам по русскому. Сегодня она вызывала его к доске, думала будто ему подсказывают. А он все равно получил за устный ответ четверку!
Учительница сказала:
— Наконец‑то Октябрин за ум взялся!
Он честно объяснил ей, что это Саша взялась за него.
— Как‑то ты, Октябрин, напишешь контрольную диктовку! Ты ведь все‑таки запущенный… — покачала головой учительница.
— Напишешь! — перебивает Ришкин рассказ Саша, отрываясь от своего квадрата суммы.
— Запросто! — восклицает Алеша.
Теперь Ришка и сам думает, что напишет.
Накануне контрольной работы Саша диктует Ришке несколько предложений. В них слова с буквами «е» к «ё», сочетания «жи» и «ши» и слоги, в которых легко написать вместо «а» — «о» и наоборот.
Они занимаются уже два часа. Саше хочется повторить все правила. Ришка пишет чисто, ошибается мало. Но неожиданно выясняется, что он не знает переноса.
Саша торопливо втолковывает ему правило. Но Ришка устал. Он смотрит на нее пустыми глазами и ничего не понимает.
— Последнее предложение, Ришенька, постарайся! — умоляет Саша.
Ришенька старается: переносит мягкий знак и собственное имя пишет с маленькой буквы.
— Ты переучился! — пугается Саша и велит ему гулять и ни о чем не думать.
Он добросовестно гуляет и с Ваксой и без Ваксы. О диктовке он больше не думает. Возвращается из детского сада Алеша, они усаживаются под акацией. Ришка усталый и спокойный. И акация усталая и спокойная. Листья на ней чуть шевелятся, утомленные длинным жарким днем. В них прячется вечернее солнце. И кажется, будто в самой гуще листвы таится ровный зеленый огонь.
— Это волшебный свет, — шепчет Алеша и замирает, прислушиваясь к едва слышному шороху листвы.
Ришка жмурится от зеленых лучей и снисходительно улыбается.
— Почему ты не веришь Волшебникам? — огорчается Алеша.
— Потому, что их не бывает.
— Но мой Волшебник тебе помог. Теперь ты не получишь двойки.
— Эго не Волшебник. Это Саша.
— Федор Степанович тоже умеет волшебствовать…
— А я знаю, — неожиданно соглашается Ришка. — Он такой.,.
— Но он старенький, — вздыхает Алеша. — Ему обязательно нужен горячий камень.
— Опять ты, Лешка, выдумываешь!
— Правда! — обижается Алеша. — Доктор сам говорил. В лесу. Он за мной на дерево полез, но сразу спрыгнул. Говорит; «Годы, Леха, не те. Скинуть бы мне десяток, потягался бы я с тобой, старик». Ришка, ты никому не скажешь?
— Железно!
— Доктор в плену у фашистов был. А его дочка Катенька умерла в войну. И с тех пор у него никого нет.
— Он, что ли, совсем один, доктор?
— Нет, что ты! Он с нами.
— А дома он один?
— У него там есть большой портрет Катеньки.
— Лешка, идем к нему! — вскакивает Ришка.
— Нельзя, — качает головой Алеша, — Он сейчас в детской больнице. Туда здоровых не пускают. Доктор завтра к нам придет. Он все время думает, как ты свою диктовку напишешь.
— Напишу. Законно!
Акация тускнеет. Вечернее солнце уходит от нее, но долго еще румянит темнеющее лиловое небо.
* * *
Ришка сидит за первой партой и внимательно слушает диктовку. Она Ришке нравится. В диктовке говорится о лагере и березовой роще. И Ришка представляет палатки, пионеров, костер и тропинки, уходящие в лесной сумрак.
Ришка очень старается. Красоту письма портят большие буквы. Они получаются то слишком маленькими, то чересчур крупными. Он подправляет пузатое «Б», и оно выглядит толстым и сердитым. Это огорчает Ришку, и он пишет без особого старания, да вдруг вспоминает доктора и Алешу; как они расстроятся, если Ришка напишет плохо! И он снова выводит буквы.
— Это ничего, если одна строчка так себе, — утешает он себя шепотом. — Если все строчки красивые, то одна и неза–метйа. — Из‑за поправки и размышлений он отстает. Некогда теперь думать «е» или «и» писать в слове березы. Ои наугад ставит «и». Потом разберется. Но следом идут слова, над которыми надо поразмыслить и вспомнить правило. Он так и делает. И опять отстает от класса и уже на целое предложение. Он, беспокойно поглядывая на учительницу, поднимает руку.
— Солнышкин Октябрин! Опусти руку и пиши, — велит учительница.
Дежурный идет по классу и собирает тетради.
— Отвали! — сердится Ришка и сам идет к учительнице.
— Ох, Октябрин! — перебивает она его объяснение. — Вечно с тобой что‑нибудь случается!
— Можно… я допишу? — глаза у него потемнели от волнения. — Можно?
Учительница велит сесть за ее стол и диктует пропущенное предложение. Потом она укладывает его тетрадь в стопку на своем столе. И тут Ришка вспоминает, что березы так и остались с буквой «и».
— Кто их знает, эти березы, как они там пишутся? — останавдивается он у парты Шима.
— Конечно, с «е»!
У Ришки колет в груди. Едва звенит звонок, он уходит из класса. В коридоре он ищет Сашу. Она и сама спешит к нему.
— Наврал… — говорит он виновато. — В березах.
— Только раз? Ну, это не беда! — утешает она.
Но тут выясняется, что в диктовке есть исправление. И еще… еще он дописал предложение.
Саша молчит, ее глаза избегают Ришкиного взгляда.
— Погорели?! — подбегает Санька. Ему не отвечают.
Санька решительно входит в класс и вежливо здоровается.
— Я из 6 «Б». Я насчет Октябрина. Как он там, справился?
— Он был рассеянным и даже пропустил предложение, — недовольно говорит учительница.
Ришка ждет, что она еще скажет. Ему очень хочется, чтобы она похвалила его. Ну, хоть немного! Но, видно, Ришкины двойки и проделки не забылись.
— Слишком он озорной и ленивый, — вздыхает учительница. —Но в последнее время как будто исправляется. Посмотрим, посмотрим… — уклончиво говорит она.
На большой перемене Ришка не играет в пятнашки и не рассказывает мальчишкам про ищейку Ваксу. Он залезает на большой старый клен, что растет у ворот, и, нехотя жуя сладкую булку, посматривает из‑за резных крупных листьев, что там делается во дзоре.
Во дворе делается то, чему положено в большую перемену. Девочки из 3 «А» крутят скакалку и парами прыгают через нее. Обычно он им мешает. Ыо сегодня не до них. Мальчишки гоняют мяч для разминки. Без счета. Ришкино место справа, в защите. Оно кем‑то занято… Наплевать!
На волейбольной площадке играют шестиклассники. 6 «А» с б «Б». Подает Ромка из б «А». Мяч летит в аут. Но Серега Корень зачем‑то берет его!
— На свою голову, — нервничает Ришка.
И точно: мяч ударяется в сетку и падает.
— Мазила! — злится Санька и треплет волосы. — Зачем брал?!
— Чего же вы не отбили? От сетки.
— Подаю! — кричит Ромка и бьет по мячу.
— Не брать! Не брать! — орут на площадке б «Б».
— Хорош!!! — надрывается Серега, кидаясь к мячу. — Хорош!
— Хорош! — вопит Ришка па своей ветке.
— Не брать! — приказывает Митя, и Сережа с ходу останавливается с поднятыми руками. Мяч падает на площадку у самой черты.
— Эх, вы! — Сережа не находит слов от обиды и возмущения. — Эх вы! Мусорщики!
— Эх вы, слабаки! — поддерживает его Ришка на дереве.
— Кто мусорщик? — угрожающе спрашивает Санька. — Кто?
— Подаю! — снова кричит Ромка. — Вот счастливая подача!
— Саня! — доносится с крыльца голос Саши. — Скорее!
— Иду, сейчас! — отбивает мяч Санька и бежит, не спуская с него глаз.
«Куда это он? — удивляется Ришка. — И не отыгрался!» — Он спрыгивает с ветки и бежит за Санькой.
— А, Ришка! Идем за тебя болеть, — говорит Санька.
Ришка входит вместе с ним в класс и останавливается далеко от стола, за которым сидит учительница. Она читает Ришкину диктовку. Вот она обмакивает перо в чернильницу с красными чернилами — контрольную всегда исправляют красным — и что‑то зачеркивает.
— Это она березы, — томится Ришка. Потом рука учительницы спокойно лежит на столе. Ришка, воспрянув, подвигается к столу. Но вдруг рука поднимается и опять что‑то зачеркивает. Он отступает к двери.
— Ришка! — оглядывается от стола Саша. — Опять одну букву перенес!
— О чем ты думал, когда писал? — оборачивается к нему недовольная учительница. — О собаке?
— О правилах… — бормочет он. — Я от дум даже предложение прозевал.
Он сделал в диктовке две ошибки. Так мало у него никогда не было. Учительница удивляется и… хвалит его! Она не снижает оценку за пропущенное предложение. И Ришка получает за контрольную диктовку четверку. Первый раз в жизни!
— Считай, что ты уже второклассник, — хлопает его по плечу Санька. — Быстро мы тебя воспитали, Солнышкин Октябрин!
— А вы не передумаете? — трепетно спрашивает Ришка учительницу.
Тогда она еще раз обводит четверку красными чернилами и ставит рядом жирную точку.
— Железно! — смеется Ришка и, круто повернувшись, вприпрыжку, бежит из класса. Но вдруг он вспоминает о Саше. Он оглядывается и видит ее у окна в коридоре. Ришка подбегает и снизу заглядывает в ее глаза. В темной глубине их он видит веселые огоньки. Он уже знает, что огоньки загораются тогда, когда Саша довольна Ришкой.
* * *
По городу гуляет душистый май и усыпает деревья и землю цветами. Он рано просыпается, прогоняет ночь и принимается за свое дело. Вот май подхбдит к сирени, и она раскрывает крошечные лиловые бутоны. Он улыбается каштану, и на темных ветвях в зеленых подсвечниках вспыхивают белые свечки. Они светятся весь долгий жаркий день и меркнут с сумерками. Нежно–зеленые, как утреннее море, сарафаны акаций май украшает множеством светлых маленьких сережек. Но в одно очень теплое майское утро акации надевают на свои зеленые сарафаны душистые белые платья. Это распускаются сережки и наполняют улицы тонким и сильным ароматом.
В нарядный и душистый майский день в детский сад прибегает Саша: Алешу зовут в школу. Его не хотят отпускать — в детском саду строгий порядок — но, когда узнают, что Алешу требуют на совет справедливых, соглашаются и тревожно поглядывают то на него, то на Сашу.
Няня Татьяна Ивановна отправляет Алешу вымыть с мылом шею и уши, хотя они совсем чистые.
— Он там ничего… не накудесил? — испытующе взглядывает она на Сашу.
— Что вы! Наоборот.
Алеша тоже волнуется — он побаивается совета. Летчик ему завидует и жалостно просится вместе с ним на совет. Он немилосердно вертится у всех под ногами, падает и ссорится с Кнопкой.
— Что же ты вштал? Мне ничего не видно, — то и дело дергает Летчика за рукав сердитая Кнопка.
Вся старшая группа провожает Алешу за ворота.
— Ты у нас парень самостоятельный, — говорит Татьяна Ивановна. — Мы на тебя надеемся.
Отойдя, он робко спрашивает Сашу, что на совете с ним будут делать.
— Увидишь, — бросает озабоченная сестра. — Давай шагай пошире.
Алеша так старается шагать широко и четко, что едва переводит дух. Перед классной дверью они останавливаются. Саша велит ему обождать. Она входит в класс и говорит почтительно:
— Митя, Алеша пришел.
В приоткрытую дверь он видит, что Митя сидит за учительским столом. Митя выглядит строгим и важным. И Алеша робеет. «Ух, какой ты, Митя….» А тот подходит к двери и говорит, улыбаясь:
— Входи, входи, Алеша!
Совет справедливых заседает в полном составе. Многих Алеша знает. Но сейчас все задумчивые и важные и кажутся Алеше чужими.
— Здравствуйте… — говорит он тихо.
От волнения и беспокойства Алеша крутит лямку на штанишках.
— Перестань, — хмурится Саша. — Не маленький.
Алеша прячет руки за спину и исподлобья поглядывает на членов совета справедливых. Лиза знакомо улыбается, а Санька смотрит что‑то строго. Все слушают Митю.
— Я считаю, — говорит он, — что Алеша Славин достоин вместе с нами идти в колонне на парад.
— С вами? — лепечет Алеша. — На парад?!
— С нами, — кивает Митя и велит ему рассказать о своей общественной работе.
— А у меня нет обчественной… — теряется Алеша.
Но оказывается, искать старые газеты, собирать лом и навещать старенькую Веру Павловну и есть его общественная работа.
— И еще он связной от нашего звена в детском саду, — напоминает Лиза. — Это тоже наша зона.
— Не ясно, — морщит лоб Рома Громов, — совсем не ясно.
Очень ясно, — перебивает Саша. — Он выполняет наши поручения: приносит для починки игрушки и запоминает желания.
— Какие желания? — удивляется Рома.
— Малышовские.
Но Рома не унимается:
— У вас родственные отношения.
— Пусть родственные! — вспыхивает Саша, — Пусть. Но лому он собрал больше, чем ты, Ромка! Он отдал нашему отряду свой трехколесный велосипед.
Алеша крутит пуговку па штанишках. Сердитый Рома не хочет пускать его на парад...
— Ромка! — поднимается Санька. — Ромка, что ты все выдумываешь? К человеку придираешься попусту.
— Кто за то, чтобы Алеша Славин шел с нами в строю? — спрашивает Митя.
За это голосуют все. Даже Рома Громов поднимает измазанную чернилами руку.
Алеша смеется — от счастья, но ловит строгий Сашин взгляд и прикрывает смеющийся рот руками.
На лестнице Алешу догоняют Санька и Рома.
— Леха, ты Грома не бойся. Он просто хочет, чтобы все говорили, будто он строгий. Верно, Гром?
Строгий Ромка дергает плечом и говорит деловито:
— Смотри, Алексей, не проспи на парад.
— Нет, что ты, Рома! Я… я совсем не лягу.
— Ну, это ты зря. Лучше выспись хорошенько, чтобы весело было.
— А мне и так весело!
Алеша смотрит на Ромку сияющими глазами. И Громов не выдерживает и хлопает Алешу но плечу.
— Ты и правда подходящий парень, Лешка!
* * *
Вечером Саня, Серега и Саша пишут рапорт о добрых делах пионеров отряда 6 «Б». Алеша беспокоится: дел было множество, хватило на весь год, а умещаются они на одном небольшом листке.
— Вы про все рассказали? — в десятый раз спрашивает он у Саши. — Вы что‑то забыли…
— Лешка, не мешай! — начинает сердиться та. Тогда Алеша отходит к Сереге и смотрит, как под его кисточкой разгорается на ватмане пионерский яркий костер. Ниже идут написанные тушью слова о том, что в отряде все учатся на хорошо и отлично. Потом о работе в зоне. Это про Веру Павловну и Алешин детский сад. Но какая же это работа?! Вот искать железный лом — дело. Соседние дворы очищены сборщиками-пионерами. И однажды, не найдя ни одной железки, Алеша отдал отряду свой старый, но исправный велосипед.
Накануне Митя Семин сказал на сборе:
— Успеваемость и дружба у нас есть, но железного лома — курам на смех. Через неделю подведут итоги, и мы погорим. Сходите посмотрите, что делается в 6 «А». Горы лома. Около двух тонн.
Сережа Корень и Коля Грач ушли со сбора искать лом. К вечеру они вернулись, обнаружив россыпи из старого железа в Черемушках на развалинах мастерской, где когда‑то чинили примусы, керосинки и чайники.
Отряд был собран по цепочке. Экспедиция 6 «Б» отправилась в Черемушки. На следующее утро стало ясно, что 6 «А» со своими двумя тоннами остался позади. Его обогнали на сорок семь килограммов.
Потом собирали старую бумагу. В дружине говорят, будто б «Б» вышел на первое место по макулатуре из‑за коляски Петруся–Летчика.
Летчик живет в соседнем с Алешей дворе. В узкой щели за гаражом он прячет разбитую коляску. Семейное предание утверждает, будто в этой коляске выросла мать Летчика, его старший брат и наконец сам Петрусь. Коляска древняя, темная и важная. Она скрипит, кряхтит и вздыхает, когда Летчик заставляет ее двигаться. Но, разбежавшись, коляска не хочет останавливаться. Тогда во дворе стоит беспрерывный треск и тарахтение. За это мальчишки очень ценят древнюю коляску и называют уважительно тачанкой. Время от времени они разыгрывают во дворе баталии. Главнокомандующие обеих мальчишеских армий по очереди выезжают на тачанке к месту сражения и отдают приказы.
Однажды Алеша, вернувшись после удачного боя домой — он был ординарцем командира, — нашел Сашу расстроенной.
— Никто не хочет приносить макулатуру, — пожаловалась она брату. — А Санька сказал, чтобы я за нее отвечала.
Алеша немедленно отправился в чулан.
— Там уже ничего нет, — успокоила его сестра.
Он все‑таки полез в дальний угол и вытащил свои пыльные тетради для рисования.
— Кто там? — заглянула в чулан мать. — Паук или Алеша?
— Я–я, — выглянул Алеша, — не бойся. — Он снял с лица паутину. — Совсем у нас мало этой му… ма…
— Макулатуры, — подсказала мать. И неосторожно добавила: — У Федора Степановича в больнице много этого хлама.
— Что же ты молчала?! Это ведь на тетради идет. Понимаешь?
Пыльный Алеша взял мать за руку и повел к телефону. Доктор охотно согласился помочь. А как у Алеши с транспортом? Вот тут он и вспомнил о коляске и побежал к Летчику, Скоро он подкатил ее к дому вместе с Ришкой. К крыльцу подходил Санька Петушков.
— Вот это «Волга»! — опешил он и сразу согласился участвовать в бумажном походе.
В больничном дворе коляску до половины нагрузили линялыми исписанными листами и пожелтевшими подшивками газеты «Медицинский работник».
— Полный вперед! — привычно скомандовал Ришка, и они втроем сдвинули тачанку. На скрип и тарахтение из окон и ворот выглядывали люди. Санька останавливал «Волгу» и смущенно объяснял, что коляска дребезжит так от старости.
— Мы везем в школу старую бумагу, — добавлял Ришка, — ее переварят на тетради. Может, у вас что‑нибудь тоже есть?
Им выносили исписанные ученические тетради, кипы прошлогодних газет и журналов. В конце пути тачанка не могла вместить всю макулатуру.
Весть о Петрусевой коляске распространилась в отряде, Звеньевые приходили к Алеше и под честное слово брали ее в бумажные походы. На школьный двор она въезжала доверху нагруженная бумажным хламом. Приходил к Алеше и Рома Громов из 6 «А» за тачанкой. Но, видно, люди уже привыкли к ней. Или 6 «Б» начисто обобрал чуланы у жителей соседних улиц. Только макулатуры пионеры из 6 «А» собрали вполовину меньше.
В рапорте ничего не пишется и про Лизину болезнь. Зимой ее увезли в больницу. Весь класс собрался в больничном дворе. Сережа Корень говорил, что аппендицит — пустяковая болезнь. Но у Лизы она оказалась не пустяковой.
— Что же ты наврал? — накинулся на Сережу Митя. — Мы тебе поверили, а надо было профессора звать.
— Вот звонарь! — взорвался и Коля Грач.
Сережа скис. Но вышла дежурная сестра и велела всем идти по домам — операция закончилась благополучно.
К Лизе ходили каждый день. Носили яблоки — их покупали на деньги для завтраков и кино. Скоро Лиза смогла заниматься, и ей стали носить учебники и уроки. Когда ее выписали из больницы, Алеша вместе со всеми встречал Лизу во дворе. Хирург, который делал ей операцию, сказал:
— Верные у тебя друзья, Лиза.
…Мать не сердится на Сашу, когда та засиживается с Колей и Сережей. Они занимаются алгеброй. Иногда Саша с ними ссорится. Это когда они не могут решить задачу. Что было однажды! Саша их закрыла на ключ. Сережа и Коля долго стучали в дверь, но Саша все равно не открывала. Она спросила в замочную скважину, какой ответ.
— Опять напутали в знаках! Ну и сидите, пока не разберетесь.
Они спрашивали ее через дверь про плюсы и минусы и еще про что‑то. Она не отвечала и ушла в другую комнату. Тогда мать отложила свои книги, взяла учебник алгебры и тихим голосом стала читать мальчишкам правила. Но Саша застала ее на месте преступления.
Сережа и Коля решили задачу, и Саша их выпустила. Алеша ждал, что мальчишки будут ругать ее, но Коля только напомнил про Горячий Ключ.
Прошлым летом Саша потерялась там в Фанагорийской пещере, а Коля ее нашел.
— Я ее по всей пещере искал. Чуть не заблудился!
— А я бы и сама вышла, — перебила Саша.
— Ну и выйди в следующий раз. Выйди! Больше не пойду искать такую… вредную.
— Ладно уж, — Сережа примирительно улыбнулся. — Ладно, Грач. Она же для нас старалась.
— Для нас?! Вот придумал! Для звена.
— А мы и есть звено, — ухмыльнулся Сережа.
В конце рапорта всего три строчки. о журнале «Космический луч», а под ними юный барабанщик с поднятыми кленовыми палочками.
* * *
Нежданно–негаданно Алеше удается внести крупный вклад в Ришкину кассу. 6 «Б» готовит последний в этом году школьный вечер. Отвечает за него Санька Петушков.
На перемене в коридоре Санька поднимает руку.
— Кто придумает для вечера небывалое, тому — премия!
— Премия! — несутся с криком по коридору малыши. — Петушков раздает премии!
Вокруг Саньки толпа, Саша пробивается к нему и дергает за рукав.
— Где ты возьмешь премию?
Санька машет рукой.
— Подумаешь, дело! Давайте думайте! — приказывает он ребятам.
На каждой перемене Петушкова окружают и предлагают фокусы, юмористические рассказы, танцы. Санька советуется с Митей и все отвергает. Про вечер и премии узнают Алеша и Ришка. На другой день они приходят в школу вместе с Ваксой.
— Давайте Рншка вместе с Ваксой выступит, — уговаривает Алеша Саньку. — Она умеет искать след и подавать лапу.
Вакса всем нравится. Ришку ведут на сцену и устраивают репетицию. Но Вакса сразу позорится: она пугается темного зала, скулит и отказывается брать Алешин след. Алеша и Ришка уходят сконфуженные.
— Она, наверно, не ищейка, твоя Вакса, — неодобрительно разглядывает щенка Алеша.
— Она козлиха! — злится Ришка и гонит Ваксу прочь. Вакса раскаивается и униженно лижет Ришкины босые ноги. Он не выдерживает и прощает ее.
— Давай что‑нибудь еще придумаем, — предлагает Ришка.
Весь вечер они думают впустую, а утром в детском саду на музыкальном занятии Кнопка играет на скрипке веселую песенку. Вот тут‑то к Алеше и приходит счастливая мысль.
— Кнопка, —подбегает он к ней, — пойдем в наш отряд. Ты сыграешь там свои песни.
Она опускает скрипку.
— А чевешни дадут?
— Железно! Дадут, дадут, —поправляется Алеша, вспомнив, что маленькая Кнопка не понимает мужской речи.
Саня, Митя и весь совет отряда принимают Алешино предложение. Кнопку выпрашивают у родителей и приводят на репетицию. Кнопка сцены не боится. Она выходит на середину и важно поднимает скрипку. Играет она спокойно и все время всматривается вдаль.
— Куда ты смотришь? — оглядывается в пустой зал Алеша.
— Я не шмотвю. Я шлушаю.
— Нет, — восторгается Санька, — нет, такая мелкота, а как играет! Кнопка, покажи руки!
Руки у нее маленькие и толстые. Обычные малышовские руки.
Скоро Алеша и Ришка отправляются в школу — смотреть Кнопку. Она Стоит на сцене и играет весеннюю песенку. Ришка недоумевает: где же это поют птицы?
Кнопкина игра всем нравится. Ей шумно аплодируют и топают. А Кнопка от такой бури восторга скисает. Она замечает в первом ряду Алешу и тянется к нему.
— Алеша… Алеша…
Толстые Кнопкины губы ползут книзу. В зале начинают смеяться и утешать ее. Алеше жаль Кнопку. Он лезет на сцену.
— Не реви, Кнопка, — шепчет он ей на ухо и берет руку.
Но она упирается — с перепугу, не хочет уходить и не отпускает Алешкиной руки. А в зале почему‑то думают, что они будут петь.
— Давай, Леха, пойте! — кричит Рома Громов.
Санька подбегает к сцене.
— Законно придумал! Молоток!
«Что ли, правда надо петь с Кнопкой?» — недоумевает Алеша. Но дело в том, что он никогда не выступал. Он только поет в детсадовском хоре песню про небо и солнце. Иногда он поет ее дома. В хорошем настроении. Из‑за кулис показывается Саша.
— Ну пой, раз на сцену вылез, — пожимает она плечами.
Алеша держит Кнопкину руку и запевает тонким голосом.
Пусть всегда будет солнце…На секунду он прерывает пение и приказывает шепотом:
— Пой!
Кнопка послушно поет вместе с ним:
Пушть вшегда будет небо…Песню подхватывает Саша, за ней — Санька, Лиза, Сережа и весь зал. Теперь петь Алеше весело и легко. И опять Кнопка пугается аплодисментов и хнычет. К ней бегут из зала Лиза, Митя и даже Рома Громов — утешать. Но глупая Кнопка ничего не понимает. Она ревет басом и зовет свою маму.
Саша отнимает ее у ребят и несет домой. По дороге их догоняет Митя и дает Кнопке кулек с желтыми черешнями.
А в школе Санька вручает Алеше премию за предложение. Премия — самая красивая книга из отрядной библиотеки — «Волшебник изумрудного города».
Ришке книга не нравится: желтоволосая девочка, нарисованная на обложке, очень похожа на Ларису.
— Про Ларку, — отодвигает он книгу. — Лучше… лучше давай продадим ее. На туфли!
Алеша колеблется. Жалко премию!
— Ну… продавай…
Ришка уносит книжку под рубашкой и продает за рубль знакомому мальчишке из соседнего двора.
* * *
Вот и пришел этот майский день, праздник пионерской организации Советского Союза.
Алеша и Ришка входят в школьный двор. Будто лагерь раскинулся сегодня у школы: красно от алых галстуков, флагов и солнца. Поют отрядные горнисты, бьют барабанщики. Школьный духовой оркестр играет новую песню.
Горны трубят, и бьют барабаны, Сотни прохожих смотрят на нас: Эй, мореходы! Эй, капитаны! Самых высоких, Самых далеких, Самых больших Космических трасс.— Салют, капитаны! — пробегает Сережа Корень со своим горном. — Леха, в строй. Сейчас начнется.
Ришка смотрит в сторону. Только Лешку совет справедливых решил пустить в строй. Грустно, конечно, Ришке, но что же поделать: он ведь только недавно исправился.
— Иди, — подталкивает он Алешу. — Чего же ты?
Алеша не отпускает Ришкиной руки. Он не хочет разлучаться с ним в такой красивый день.
— Саша, —останавливает он сестру. —Саша, пустите и Ришку в строй, на парад. Он уже хороший. Может быть, он будет отличником.
— Ты! — перебивает Ришка. — Чего ты врешь?!
Но Саша велит ему обождать. Она идет к старшей пионервожатой. Алеше не слышно, о чем они говорят, но, конечно, о хорошем. Потому что вожатая смотрит на Ришку и улыбается. Алешу и Ришку ставят в строй рядом с Сережей и барабанщиком Колей Грачом.
— Порядок! — улыбается Ришка. — Ты молоток, Лешка.
Взвейтесь кострами, Синие ночи… —поют трубы духового оркестра, и из школы выходят знаменосцы. Впереди со знаменем — Митя. Строгий и спокойный. Вся дружина поднимает руки в торжественном салюте.
Тишина… Только гулкие шаги знаменосцев да удивленный шелест кленовых деревьев. И вдруг просыпаются горны. Поют–заливаются!
…Слышите? Песня о картошке! Видите в лесу костер? Это пионерский. А вон и речка с серебряной водой. И качаются на волнах пионерские корабли. Сейчас отплываем!
Мы — ка–пи–та–иы, Мы — мо–ре–хо–ды… —возвещают всему свету барабаны. Вздрагивают кленовые листья. Трепещет залитое солнцем знамя.
Мы, юные ленинцы, С весною и солнцем дружны...…Идут по городу пионерские дружины. Светлеют улицы от белоснежных рубашек, ясных глаз и радостных улыбок. Порою Сережа отрывает от губ горячий горн, И тогда Алеша гладит певучий горн и тихонько просит!
— Пой еще, пой!
И горн выполняет просьбу — поет снова и снова.
В колонне за Алешей шагает Санька Петушков. Вдруг он поднимает Алешу над колонной.
— Смотри, капитан, как нас много. Смотри, сколько знамен, и барабанов, и горнов. Споем, капитан!
Небу ясному — салют, Флагу красному — салют, Пионеры в день рождения идут!Алеша видит: все улицы, весь город — пионерский. Вот когда он настоящий капитан Шел! Огромный белый корабль с алыми парусами плывет по узкой улице–реке. А вокруг берега с белыми пахучими акациями. Стоят на берегах люди и машут кораблю:
— Доброго пути! Счастливого плавания!
Открывается впереди широкая солнечная площадь — залив.
В центре, среди огненных роз, стоит большой могучий гранитный человек.
Санька обрывает песню и опускает Алешу.
— Ленин… Ленин! — летит по колонне.
— Ленин! — узнает Алеша.
Замирает колонна на площади.
— Салют!
Оглушительно и весело бьют по барабанам кленовые палочки: знайте, знайте, знайте! Мы — юные ленинцы! Мы выполняем заветы Ильича. И это к нашему, пионерскому знамени приколот орден Владимира Ильича Ленина.
Вечером Санька приносит Ришке пионерский галстук.
— Теперь ты наш, отрядный. И мы будем тебя воспитывать настоящим пионером.
* * *
Алеша и Миша — шкипер Шим — сидят на «космодроме», так они называют лужайку под каштаном, и ждут Ришку. Сегодня у них тренировка на невесомость. Она заключается в том, чтобы, прыгая с широкой ветки каштана, успеть перевернуться в воздухе хоть раз, прежде чем свалиться в траву. Трава сейчас уже густая и мягкая. В ней растут высокие маки.
Ришка не идет, и друзья прыгают без него. Шим успевает перевернуться в воздухе и даже взмахнуть руками. Алеше удается только поднять вверх руки. Он очень переживает свое неумение, сейчас же вскакивает и лезет снова на каштан. Алеша готов прыгать до бесконечности, лишь бы достичь желаемого. И наконец, ему удается перевернуться! Он тут же падает на бок. И неудачно: сильно ушибает локоть. Тренировку приходится прекратить — Алеша не может от боли поднять руку. Но не плачет!
— Пустяки! — утешает его Шим. — У меня хуже было.
Он садится на траву к Алеше и вспоминает всякие трагические случаи из своей жизни. Весной, например, он разбил себе нос. Кровь лила ручьем, замочила рубашку и даже оставила след на полу. У мамы дрожали руки, когда она промывала его нос. А он хоть бы что!
— Ну уж… — отрывает взгляд Алеша от своего локтя, чтобы взглянуть на его нос, — как будто и ручьем…
— Ага! Сейчас, ясно, зажил. Ты лучше спроси у Ришки. Он видел. А когда я летел из окна, ты был сам. Что я, испугался, скажешь?
— У вас окна невысокие.
— Ага, невысокие! Я так треснулся боком, и сейчас больно, — он тычет себя в бок кулаком, ища боль. — Хотя зажило. Даже на пользу пошло. И на тебе заживет.
Шим действительно здоровый. Щеки у него толстые и красные, а серые глаза круглые и хитрые. Он говорит, что съедает за обедом по две тарелки борща с хлебом. Алеша разглядывает его с завистью. У Алеши нет таких широких, сильных ладоней, таких твердых мускулов. Щеки у него бледные, а ноги тонкие. Придется, видимо, есть тоже по две тарелки борща. Давиться, но есть.
— А борщ точно помогает?
— Верное средство.
— Обязательно две тарелки?
Шим не отвечает. На «космодроме» появляется Вакса и за ней — Ришка.
— Смотри, — протягивает ему Алеша свой локоть, — здорово треснулся!
Но Ришка не смотрит на посиневший вздувшийся локоть. Он садится на траву и сует в рот твердый стебелек.
— Она спрашивает… Она туфли ищет…
Ришка говорит таким глухим голосом, что Алеша забывает про свой локоть.
— Сколько у нас там денег? — деловито спрашивает Шим.
— Три рубля пять копеек.
Цену туфель Ришка знает — двадцать пять рублей. Он видел ее в магазине на точно такой же паре.
Алеша подходит к Ришке. Он так хочет его утешить и помочь, но не знает как. А Шим раздумывает, широко расставив сильные ноги и заложив руки за спину.
— Давайте что‑нибудь продадим, — предлагает он. — Давайте отнесем на базар и продадим.
— Что? — поднимает голову Ришка.
— Что‑нибудь…
Ришке продавать нечего. Ни игрушек, ни книг у него нет. Все имущество состоит из потрепанного портфеля, букваря, Родной речи и двух замызганных учебников — по арифметике и русскому языку. Есть еще самодельные удочки и грузило из старой бронзовой монеты. Но разве их кто‑нибудь купит?
А Шим, пожалуй, придумал, что продать. Свой самокат, вот что! Новенький, на резиновых шинах и с блестящим мелодичным звонком. Но он еще не решил окончательно. Он еще подумает… Он искоса поглядывает на Ришку: не догадается ли тот про самокат? Ришка, обняв верную Ваксу, молча ждет, что готовит ему злая судьба. Шим предвидит, что: страшную порку — раз, не поедет к морю — два.
«Отдам! — решает он, поежившись. — Подумаешь, самокат!» Но тут же представляет пустой угол в передней, где стоит его красавец. Представляет, как по аллее сквера несутся на самокатах мальчишки.
«Нет, — малодушно думает Шим, — нет, лучше что‑нибудь другое. Лучше заводной грузовик».
Но заводной грузовик поломан и никому давно не нужен.
«Ага, а самокат подарил отец в день рождения. А дареного не передаривают и не продают. Это каждый знает».
Шим вырывает высокий мак, жует его и говорит:
-— Ничего не придумывается…
Ришка крепче прижимает к себе Ваксу и молчит.
— Придумал! — кричит Шим. —Придумал. Лешка, неси альбом. Марки знаешь сколько стоят?! С ходу купят. Только подойди к магазину.
— Как? Продать альбом? Насовсем? — ужасается Алеша.
…Альбом стоит на Алешиной книжной полке. Но выносить его из дому и брать из него марки запрещено. Саша и Алеша любят альбом и совершают с ним путешествия в далекие страны. Недавно они рассматривали французские марки, и Саша рассказала брату о парижских букинистах. Они продают книги, какие только есть в мире, на набережной реки Сены. И кладбище Пер–ля–Шез он знает благодаря альбому. Там в дни Парижской коммуны расстреляли французских коммуна–ров. Зимой и летом у стены, где погибли герои, лежат свежие цветы.
Больше всех Алеша любит марки с портретом Чапаева. Алеша знает его подвиги и часто играет с сестрой в чапаевцев.
Теперь все марки надо отдать.
— Саша не позволит… — лепечет Алеша.
— Ты дурак, — презрительно фыркает Шим, —Ты, что ли, говорить ей будешь?! Ты возьми потихоньку.
— Тебе жалко альбома? — пронзительно смотрит Ришка.
Алеша низко опускает голову.
— Да… — еле слышно говорит он. — Жалко...
— Вот жмот! Я бы не пожалел. Я бы отдал. Запросто! — горячится Шим.
— Я бы… отдал. Но Саша же! — чуть не плачет Алеша.
— Она же уходит в поход, — напоминает Ришка.
— Да мы тебе откупим! — снова подступает к Алеше Шим. — Подкопим еще денег и откупим. Такой точно, правда Рик? Пока твоя Саша в поход ходит, мы и отдадим, А тебе жалко!
— Уже не жалко… — шепчет Алеша.
— Тогда тащи! — приказывает Шим. — Быстро!
И Алеша идет. Медленно и понуро шагая, доходит он до акации и устало садится на траву. В акации опять прячется вечернее солнце, и зеленые мягкие лучи шарят по двору. Но Алеше не до них… Надо взять незаметно от Саши и матери альбом и отдать Ришке. Тогда Ришка развеселится, купит эти противные туфли. И опять они будут играть в космонавтов, биться на шпагах и бегать с Ваксой по двору.
Потом накопят денег и купят альбом. Точно такой же. И через много дней, ну, хотя бы перед елкой, Алеша все расскажет маме. Про альбом, про туфли и про Ваксу. Она, конечно, не рассердится. Она улыбнется.
Немного успокоенный, он выходит из‑за акации. На крыльце стоит мать. Почему‑то Алеша прячется за толстый ствол каштана. Но она его видит, Она смеется и стучит ладонью по перилам крыльца.
— Вижу, вижу! Чур, за Алешку!
Тогда со всех ног он бежит к ней, сжимая непослушные губы.
— Леха, ты чего? — тревожно наклоняется к нему мать.
Он вспоминает о разбитом локте и плачет у нее на плече.
Не из‑за локтя, конечно…
Как маленького, мать несет его домой. Саша дует на ссадину. Мать перевязывает. Потом его кормят малиновым вареньем. Саша приносит его любимое топленое молоко.
— Раненый, тебя напоить? — ласково заглядывает в заплаканные глаза сестра.
Он захлебывается молоком.
— Не надо… не надо… — бормочет он, кашляя, и спешно выходит из‑за стола.
Алеша скрывается в спальне. Он долго стоит у полки с книгами и смотрит на альбом. Прощайте, аравийские верблюды и индийские слоны! Прощайте, космические корабли и ракеты!..
— Лешка, ты что, заснул?
Шим сидит на подоконнике и беспокойно смотрит на дверь в столовую.
— Ну, даешь альбом? Сам же сказал…
Алеша берет с полки альбом и медленно идет к окну, Там, зажмурившись, он протягивает его Шиму и несколько мгновений стоит с закрытыми глазами. Он слышит, как прыгает с подоконника Шим и топает по тротуару… Тогда он открывает печальные, потемневшие от горя глаза и еще долго стоит у окна, Просто так, ему скучно…
Вечер Алеша сидит в углу за шкафом вместе с бурым безлапым медведем.
* * *
Доктор Федор Степанович идет по скверу и нетерпеливо поглядывает по сторонам. Обычно здесь'его встречают Алеша и Ришка. Но сегодня их нет.
— Разбойники! — вслух возмущается доктор.
Он поворачивает во двор. Мимо на большой скорости проносятся мальчишки. Однако доктор успевает заметить коричневые босые ноги и рыжие трусы.
— Капитан Рик!
Но тот скрывается в джунглях. Доктор сразу догадывается, что произошло какое‑то ЧП, и отправляется следом.
— Здравствуйте, молодые люди!
Вместо ответа^Шим так проворно лезет на крышу сарая, так испуганно оглядывается на доктора, что Федор Степанович с изумлением спрашивает растерянного Ритку:
— Что с ним?
Ришка, молча, отступает и что‑то прячет за спиной.
— Что там у тебя?
Ришка замирает, прижавшись к стене сарая, Тогда доктор сам шагает к нему и заглядывает за спину.
— В чем дело? Почему ты не хочешь показать мне Алешин альбом?
— Лешка сам его отдал. А теперь доносит! — возмущается на крыше Шим.
Пока Федор Степанович ищет взглядом Шима на крыше, Ришка украдкой запихивает альбом в траву.
— Слезай! — велит доктор Шиму. — Сейчас разберемся.
Но тот ни слезать, ни разбираться не хочет и на всякий случай перекидывает ногу через край крыши.
Доктор садится на траву, куда Ришка только что пихнул альбом.
— Тут нельзя сидеть… — тоскливо говорит Ришка. — Тут… колючки…
Федор Степанович сует руку в траву и вытаскивает альбом. Он рассматривает его долго и внимательно.
— У тебя день рождения? — спрашивает он наконец у Ришки.
Тот удрученно качает головой.
— Значит, у Михаила?
— Уже прошел, — сообщает тот с крыши. — Вместе с елкой.
— Чудак Леха! — искренне удивляется доктор. — Кому же он подарил свой альбом?
— Он не дарил… он так дал, — отворачивается Ришка.
— И мы ему откупим! — кричит с крыши Мишка.
— Что случилось, Ришка? — заглядывает ему в глаза доктор. Ришка рвется из джунглей. Но доктор его задерживает.
Прибегает Вакса. Она лает на доктора и тянет его за брюки.
— Ты, Вакса, не вмешивайся. Ты ни при чем. И ты уходи, — говорит доктор Шиму. — Ты товарища в беде бросил, значит, ты трус. И у меня с тобой разговора не будет.
Громко трещат ветки. Шим слезает с крыши, но держится от доктора на внушительном расстоянии.
— А вот и не трус! Я за Ришку здесь переживаю. Это Лешка нас бросил, да еще и донес.
— Я Алешу сегодня не видел, и он мне ничего не доносил.
— А как же вы узнали про альбом? — поражается Ришка.
— Догадался.
Доктор мягко, но твердо притягивает к себе Ришку и близко заглядывает в лицо. Тот не сразу осмеливается поднять глаза. Шрам, оказывается, начинается у доктора под мохнатой, седеющей бровью и пересекает щеку. Ришке вспоминаются Алешины слова: «Это фашисты в плену избили его за то, что он лечил и спасал детей». А глаза у Федора Степановича серые, добрые и говорящие: «Ришка, что там у тебя случилось?»
Доктор держит Ришку за плечи. Руки у него легкие. Они не давят, они поддерживают. С отчаянной решимостью он смотрит доктору прямо в глаза. Пусть разгадывает Ришкины тайны! Да он и сам все расскажет.
— Я вам скажу про туфли… Ладно?
— Давай, — соглашается доктор.
Ришка долго кается, подробно и чистосердечно. Первый раз в жизни. Дойдя до происшествия с альбомом, он смолкает и виновато смотрит на доктора.
— Давай, давай! — беспощадно приказывает тот.
Ришка бормочет, морщась и сморкаясь в рубашку. У Федора Степановича темнеют глаза и хмурятся брови. Он сердится, но пока молчит. Ришка жалко оправдывается.
— Брось! Ты сам знаешь, что скверно, — прерывает доктор.
— Знаю…
Потом Ришка ведет Федора Степановича в сарай смотреть туфлю. Доктор сразу соглашается: спасти ее нельзя. Но продавать альбом запрещает. Он велит отнести его обратно.
— Лучше пусть Михаил…
— Несправедливо. Он принес — ты отнеси…
Ришка поднимает альбом. Лицо у него зареванное. Вакса прыгает и лижет его в нос.
— Брось, Вакса, — стонет он.
Вакса все понимает. Она плетется сзади с опущенным хвостом. В конце концов виновата во всем именно она.
— Федор Степанович, — чуть слышно говорит Ришка, — а как же с туфлями?
— Пойдем вместе к твоей маме и…
— Тогда я убегу! Вместе с Ваксой. Насовсем.
— Эка ты, брат, хватил! Ну, предположим, предположим… — говорит доктор в раздумье, — туфли мы купим.
— Нет, — тоскливо бормочет Ришка, — нет, не купим. Нам не накопить столько много.
— Ришка! — не выдерживает доктор. — Ришка, — ловит он его несчастный взгляд, — мы их купим! Сколько они там стоят?
— Двадцать пять…
— Купим. И никто не узнает.
Ришка начинает краснеть. От радости. От мучительной неловкости.
— Да! Давай заключим с тобой договор. Тайный. Деньги отдашь из первого заработка. Не забудь!
— Нет, что вы! Только… я ведь еще не очень большой. Вам долго ждать.
— Я подожду. Мне не к спеху.
— Вы не бойтесь. Вы не думайте. Я — железно!
* * *
Ришка мнется в дверях.
— Алеша уже спит, —говорит Саша, —Тебе что‑нибудь надо, Ришка?
— Да… Нет...
— Ты какой‑то странный, Ришка, У тебя что‑нибудь случилось?
— Не…
— Тогда спокойной ночи!
— Саша, подожди! Я… я немножко у вас погреюсь.
— Ты замерз в такую теплынь?! Ты заболел! Иди, я дам тебе горячего чая.
Он ждет, пока она скроется в кухне, и крадется в спальню к Алеше. Босые Ришкины ноги неслышно ступают по полу. Вот Лешкин столик… Вот полка с книгами. Альбом становится на свое обычное место.
— Ришка… — раздается в темноте неуверенный голос Алеши. Он стоит на коленях в постели й тянет к Ришке руку.
— Лешка… Твой альбом на полке. Видишь? Нет? Ну, все равно он стоит. Понял?
— Понял! — радуется Алеша. — А завтра он тоже будет?
— Будет. И туфли будут. Понял? Я пошел…
Алеша вскакивает и бежит к полке. Да! Стоит! Он берет альбом, несет его в постель и устраивает под подушкой.
* * *
Ришкина мать находит коробку с туфлями у себя под кроватью.
— Как они туда попали? — дивится она.
Но раз туфли нашлись, не так уж важно, как они туда попали. Мать надевает туфли.
— Совсем новые! —улыбается она: — Видишь, как я аккуратно ношу. Самой удивительно.
Ришка возится с Ваксой и в разговор не вступает. Он и радуется, что мучительная история с туфлями наконец закончилась, и побаивается, как бы мать не догадалась о подлоге. Хорошо, что доктор велел Ришке потереть о ступеньки каблуки и подошвы.
— Она ничего не заметит, — уверял его тогда Ришка. — Она их только два раза надевала.
— Ох, Ришка! — огорчился доктор, когда они вместе зани–мались этой операцией. — Ох, разбойник! И я‑то с тобой обманщиком стал!
Ришка оставил туфлю и подошел к доктору.
— Федор Степанович, вы никакой не обманщик… Вы...
Он хотел сказать, что доктор самый замечательный человек на земле, но не нашел слов.
„.Мать ходит по комнате в новых туфлях и то и дело взглядывает на ноги. Ришка не смеет поднять голову. Он в четвертый раз снимает с Ваксы ошейник и тут же снова надевает.
— Красивые, — говорит мать добрым голосом. — Правда? — останавливается она около Ришки.
— Хорошие… — уклончиво соглашается он.
Туфли действительно красивы. Они плотно сидят на ногах, а маленькие бантики уютно лежат на носках.
— Ма, — оживляется Ришка, — ма, ты носи их все время.
— Что ты! — улыбается она. — В них только танцевать, а не работать. С такими каблуками быстро с лестницы слетишь.
Она надевает платье в голубой горошек, расчесывает длинные светлые волосы и свертывает их в большой узел на затылке.
Такой мать Ришке нравится. Он смотрит в угол, где висит на гвозде ее серая рабочая куртка. Она застирана до белизны, но все равно зеленые и синие пятна не отмылись. Это накапала на куртку краска, когда мать красила двери и стены в больших домах.
— Ты выбрось эту куртку, —советует Ришка. — Ты купи себе новую.
— Вот еще! — смеется мать. — —Она совсем крепкая. И заслуженная. Я в этой куртке знаешь сколько квартир покрасила?!
Она вдруг наклоняется к Ришке и говорит весело:
— А сейчас я иду на собрание, и мне выдадут премию. Вот!
— Ма! — вскакивает Ришка. — Ма, ты мне ласты купи.
— Какие там ласты! Путевку в лагерь —раз. Учебники к новому году —два. И… — она озабоченно оглядывает его, — и штаны с туфлями — три. Вторые штаны за год. Надо же!
Из глаз ее исчезает теплота и появляется обычное строгое выражение. Штаны у Ришки действительно никуда не годятся. А ведь он их берег. Сначала. Снимал, когда приходил из школы, чистил щеткой и даже однажды погладил. Из глаженья ничего путного не получилось: на штанине появилась подпалина. После стирки она побледнела. Но след виден и сейчас. Такие штаны Ришке разонравились. Он перестал их беречь.
Он надеялся, что мать купит новые. Но она не покупала. Она ругала Ришку, зашивала дырки и выводила пятна бензином. Она выкидывала из карманов мотки проволоки, гвозди и металлические шарики. Приходилось потом все это выбирать из мусорной корзины и перепрятывать.
— Ласты нужнее, —скорбно говорит Ришка.
— Потерпи, — смягчается мать. — Вот премируют еще раз, И я куплю тебе ласты. И портфель.
— А когда? Скоро?
— Осенью. Школу сдадим досрочно. Я уж постараюсь!
— Ого, так долго ждать!
Ришка и Вакса провожают мать до ворот. Потом бесцельно бродят по двору. Лучше бы не начинать разговор о ластах. Только расстроился.
Идет с работы отец шкипера Шима. Кроме портфеля, в руках у него большая коробка. А вдруг настольный теннис?! Конечно, для Шима. Хо–хо! Сейчас они сыграют…
Ришка вертится у крыльца, заглядывает в окна, но войти в дом не решается — мать Шима не очень‑то жалует его. Ришка велит Ваксе полаять. Она добросовестно лает. Но Шим все равно не показывается. А только что слышался его голос.
— Вот жмот!
Ришка подозревает, почему скрывается Шим. Струсил тогда при докторе, отсиделся на крыше, а теперь стыдно.
— Козел, — ворчит Ришка. — Выносил бы теннис…
Почему‑то ему никто не подарит ни теннис, ни ласты. Отец, например. Почему‑то он никогда ничего не дарит и не приходит. Яшина бабушка говорит: потому что Ришка хулиган и разбойник. А он уже давно и не хулиган! Он давно и не дерется! Сама учительница сказала, что Ришка исправился, и перевела его во второй класс. Отец ничего не знает. Поэтому и не дарит.
— Вакса, он же не знает!
Они уходят на «космодром». Ришка садится в траву и неподвижно смотрит вдаль большими шоколадными глазами. Ему видится: во двор входит отец. С ластами! Они сразу же уйдут на Кубань купаться. Возьмут Лешку. Ну, уж ладно, и Шима. А Ларису — никогда! Пусть посмотрит, как Ришка с отцом пройдут мимо ее цветов. И с ластами!
— Такая ехидная! У нас никто с ней не играет, — скажет громко Ришка отцу.
— Ее никогда не примут в пионеры, — строго взглянет на Ларису отец.
— Она дразнит меня босяком и наврала, будто я утянул у нее мяч.
У отца от возмущения сдвинутся в одну линию черные широкие брови.
— А ну‑ка, девочка, пойдем в милицию!
Лариса, конечно, заревет и убежит домой. Но мать ее не посмеет ругать Ришку и гнать со двора. Он будет стоять рядом с отцом….
— А вы говорили, у меня нет отца, — скажет он Яшиной бабушке. — Вот он!
Тут Ришка возьмет отца за руку…
— У «космодрома» останавливается Лариса с новым желтым обручем. Ришка мрачнеет. Какие ехидные голубые глаза! Какие противные желтые косы! Длинные, толстые… Он плюет в траву.
— Пойдем, Вакса! — вдруг решительно поднимается Ришка. — Пойдем к моему отцу. Й все расскажем…
* * *
Ришка надевает чистую рубашку. Потом мочит тряпку и трет белые истертые носки потерявших цвет туфель. Носки темнеют. Туфли выглядят ничего себе. Подумав, он берет из шкафа чистый носовой платок. Остается причесаться. Он долго смотрит в зеркало. Лето только началось, а он уже черный, как Вакса. Почему‑то солнце больше всех жарит Ришку. Почему‑то Лешка ходит белый и красивый.
Он отворачивается от зеркала. Что поделаешь, такой уж уродился! Ну, он готов…
…Федор Степанович встречает Ришку с Ваксой далеко от дома. Задумчивый Ришка не замечает доктора. А Вакса замечает — лает и бежит к нему.
Ришкино лицо светлеет.
— Федор Степанович!
Доктор хитро щурится:
— Как обстановка? Туфельная тайна сохраняется?
— Железно!
— Что‑то ты, друг, парадный?
Ришка отвечает не сразу.
— Я иду к нему…
— Я провожу тебя. Можно?
Некоторое время они шагают молча.
— Может быть, я приведу его домой. Может быть, он купит мне ласты. — Голос у Ришки задумчивый, мягкий.
Вакса не дает им разговаривать. Она без толку забегает вперед, натягивает поводок, крутится и ни с того ни с сего бросается доктору под ноги.
— Почему она такая бестолковая? — расстраивается Ришка.
— По–видимому, от малолетства, — пожимает плечами доктор.
— Может быть, она вовсе не породистая? — останавливается Ришка.
— Какая разница? Хорошая собака!
— Хорошая! — радуется Ришка. — Не беда, что не породистая.
На тихой улице он подходит к деревянным, покрашенным в зеленую краску воротам. Его смуглое лицо бледнеет. Ришка волнуется. Очевидно, он пугается встречи с отцом.
— Вы погуляйте пока с Ваксой…
Он передает доктору поводок.
Небольшой, заросший травой и виноградником двор. Кирпичная дорожка ведет к дому с голубыми ставнями.
«Хороший двор, — рассеянно думает Ришка. — Здесь и в футбол можно, и на шпагах…» Он оглядывает себя. Обтрепанные носки туфель, натертые дома мокрой тряпкой, высохли и стали еще белее.
— Ох вы!
Он торопливо наклоняется и плюет на носки.
Стучит дверь. Ришка поднимает голову и… забывает про туфли. Душа у него уходит в пятки и несколько долгих мгновений томится там. На крыльце стоит отец. Он, конечно, не узнает Ришку. Господи, сколько не виделись! «Вот в кого я уродился!» — думает Ришка, разглядывая отца.
— Здравствуй…те! — спохватывается он.
— А–а-а! Это ты! — наконец узнает отец сына. И улыбается. Ободренный улыбкой, Ришка подвигается к крыльцу. Даже поднимается на ступеньку. Хотя отец не зовет его в дом. Но зато он спускается сам. Надо, не откладывая, все рассказать.
— Па, я перешел во второй класс!
— Я так и думал. Молодец.
Ришка вспоминает воображаемый разговор на «космодроме».
— Па–Разговор не клеится. Они так и стоят на ступеньке опрятного крыльца. Отец кладет руку на Ришкино плечо и спускается с ним на дорожку. Вдруг Ришка вспоминает о ремне.
— Па! Вы… ты забыл у нас ремень. Принести?
— Не стоит. Возьми лучше себе.
Они медленно идут к воротам по узкой чистой дорожке. Рука отца на плече мешает Ришке идти. Скорее бы ворота. На прощание отец протягивает ему деньги.
— Купи учебники, раз перешел. И крючки.
«Лучше ласты», — хочется сказать Ришке. Но отец уже прощается с ним.
На улице Ришка вспоминает, что отец так ничего и не узнал о Ларисе и Яшиной бабушке. Значит, все остается по-прежнему. Он не может с этим мириться. Он возвращается, подбегает к отцу — тот медленно идет к дому по дорожке — и заглядывает в его лицо умоляющими черными глазами.
— Ты ведь когда‑нибудь придешь к нам? Да?
— Постараюсь… Дело в том, что я на днях уезжаю… — —Договорить с отцом не дает Вакса. Она все‑таки удирает от доктора, врывается во двор и с лаем прыгает вокруг Ришки.
За воротами Ришка долго смотрит в щель. Отец стоит задумчивый… Поправляет виноградную лозу… С крыльца сбегает худая белобрысая девчонка. Она машет отцу длинной рукой.
— Сейчас, Милочка, — кричит он ей. — Иду!
Она ждет его у черешни, густо покрытой красными ягодами. Отец подходит и высоко поднимает ее. Девчонка визжит и цепляется за него. Ей страшно, козлихе!
Ришка краснеет от обиды и злости. Он отходит от ворот, ищет взглядом доктора. Вот он, Федор Степанович!
Ришка бежит к нему и берет за руку. В другой руке он сжимает Ваксин поводок.
* * *
Алеша и Ришка сидят на сборе отряда теперь уже 7 «Б». Последний сбор перед дальним походом на Мастаканские Поляны. Митя Семин объявляет: отряд к походу готов. Сережа с Верой Павловной начертили карту маршрута. Коля достал компас. С минуты на минуту Санька Петушков принесет высотомер.
— Алеша, — говорит Митя, — тебе и Солнышкину поручаем нашу Веру Павловну. Справитесь?
— Справимся, справимся, — кивает Алеша. Ришка молчит.
Митя с сомнением поглядывает на Ришку. Вдруг дверь в пионерскую комнату открывается и в нее просовывается длинная узкая доска с черными делениями. Потом входит Санька.
— Высотомер! — кричит он.
Все хотят подержать высотомер, а Санька рассказывает, как трн дня выпрашивал его у знакомого метеоролога. Тот уговорам поддавался плохо. Тогда Санька уселся в его кабинете и сказал, что без высотомера не уйдет. Метеоролог терпел два часа. Потом вздохнул и пошел в склад. Отыскал старый поломанный высотомер. Они чинили его полдня, и теперь высотомер лучше нового.
После сбора Саша с Алешей и Ришкой идет к Вере Павловне. На всякий случай Ришка берет с собой табель, в котором перечислены отметки за год и сказано, что Солнышкин Октябрин переведен во второй класс. Ришка сомневается, поверит ли незнакомая Вера Павловна на слово, что у него нет двоек. Табель он завертывает в газету, складывает и прячет в карман. С собой Ришка ведет Ваксу.
У двери в квартиру Веры Павловны Саша велит ему оставить Ваксу. Ришка боится, что Ваксу уведут. Она теперь большая и красивая. Но Ришка не спорит.
Вера Павловна радуется гостям. Она встает с кресла, идет навстречу.
— Это Ришка, — говорит Алеша, подталкивая друга. — Он теперь будет к вам ходить и все делать.
— А мы с тобой старые знакомые, — разглядывает она Ришку.
— Я вас сразу узнал, — улыбается Ришка. — А где ваша палка?
Палка с набалдашником в виде собачьей головы благополучно стоит в углу. Вера Павловна усаживается в глубокое кресло и подзывает Ришку. Она несколько раз проводит небольшой морщинистой рукой по черным жестким его волосам.
— А я тебя вспоминала. Как поживает твоя… Вакса?
Ришка приводит Ваксу. Она послушно дает Вере Павловне лапу и — по приказанию Ришки — пытается найти Алешин след. Потом Ришка показывает Вере Павловне табель с отметками. Он даже признается, что по письму имел двойку, но «при конце очень постарался, вместе с Сашей», и получил за контрольную четверку. Теперь Ришка собирается к морю. Возможно, у него будут ласты.
Саша что‑то убирает, складывает и все время не дает покоя Ришке. То велит собрать журналы, то подколотить расшатавшиеся гвозди, на которых держится вешалка.
А Ришке не хочется отходить от Веры Павловны.
Он возится с вешалкой и слышит, как Вера Павловна называет его «славным». Ришка сейчас же заглядывает в зеркало над вешалкой. Но ничего славного в мальчишке с черными сердитыми глазами нет. А быть «славным» сильно хочется. Поэтому Ришка говорит тихим голосом и, когда обращается к Вере Павловне, прибавляет «пожалуйста». Как Лешка.
* * *
Ришка часто навещает Веру Павловну. Он знает ее хозяйство. В большом шкафу на верхней полке стоят книги о путешествиях. Внизу толстые тома «Жизнь животных». В тумбочке, на которой стоит бронзовая бригантина, лежат атласы и толстая папка. В ней хранятся портреты героев Великой Отечественной войны. Недавно Вера Павловна и Ришка оклеивали разлохматившиеся края папки синим сатином, и Вера Павловна рассказывала ему о Саше Матросове и Сереже Тюленине.
Иногда утром Вера Павловна и Ришка отправляются на прогулку. Она надевает полотняную панаму и берет в руки сумочку, плетенную из толстых ниток. Ришка ждет ее в дверях и протягивает палку с набалдашником в виде собачьей головы.
Обычно они прогуливаются по скверу. Там малыши катаются на трехколесных велосипедах, деревянных лошадках и строят песочные города. Все они хорошо знают Веру Павловну и бегут к ней здороваться. Малыши бесцеремонно оттесняют Ришку. И он бредет сзади, пока она здоровается с этими писклятами и выслушивает их новости. Глупости, конечно. Когда у Ришки лопается терпение, он пробивается к ней и дергает за плетеную сумочку. Вера Павловна идет с ним в маленький домик в конце сквера — «Хрустальный башмачок». Она пьет там кофе, а Ришка ест мороженое. Пломбир. Ленинградский.
Однажды Вера Павловна повела его в городской сад. Там много цветов, красивых подстриженных деревьев и большой фонтан. И тихий пруд за старыми липами. На темной воде пруда покачиваются белые лодки. Ришке очень захотелось сесть в лодку и поплыть к острову, на котором живут снежные лебеди. Хорошо бы поставить на лодке парус…
— Давайте я вас покатаю, —предлагает он Вере Павловне.
— Вряд ли я смогу пробраться в лодку. А ты умеешь грести?
— Запросто! Что трудного? Давайте я один поеду.
Она откровенно признается, что боится за него. Ришка сразу сникает.
— Знал бы — не пошел в этот сад…
Вера Павловна усаживается на скамью под черемухой и зовет его к себе. А ему до этой, единственной в саду черемухи, как до лампочки! Он спускается к воде и долго смотрит вслед счастливым лебедям. Он обрывает с ветки кленовые листья. Листья уплывают за птицами. Ришка бьет ладонью по теплой воде и подставляет лицо брызгам. Его сердитые, темные, словно пруд, глаза оживляются.
Ришка слышит свое имя и отрывается от воды. Он видит Ларису и вскакивает. Он протирает глаза кулаком… Лариса и ее мать разговаривают с Верой Павловной?! Ясно, о нем! Врут там про него всякое.
Он поспешно поднимается вверх и бежит по аллее, усаженной высокими тополями. У большой клумбы с розами он останавливается — не идет ли за ним Вера Павловна?
Аллея пуста. Все понятно: она поверила этим…
Ришка шагает к выходу, заложив руки в карманы. Ногами он разбрасывает камешки, сложенные у обочины аллеи. Они летят в цветы, в подстриженную траву. Наплевать! Пусть летят.
— Ты чего хулиганишь? Маленький, да озорной!
Старик с большими садовыми ножницами поднимается из цветника и сердито смотрит на Ришку.
— Ты зачем сюда пришел?
— Гулять… — пугается Ришка и поскорее сворачивает подальше от старика. Почему‑то Ришку все не любят. Почему‑то его все время ругают и гонят…
И тут он слышит, как Вера Павловна зовет его. Но Ришка не отзывается, он прячется за широкой туей. Он видит ее взволнованное лицо. В руках у нее только палка, а сумочки нет.
— Вы что, потеряли сумочку? — выскакивает он из‑за туи. — Вы, наверное, забыли ее под этой… черемухой.
Ришка мчится к дереву. Навстречу поднимается светловолосый парень. В руках у него сумочка.
— Салют, Ришка! Меня зовут Олег. Хочешь поплавать, старик?
Олег отдает Вере Павловне сумку, и они садятся в лодку. Ришка — на весла, Олег — за руль.
«Полный вперед!» — шепчет Ришка, и лодка с космической скоростью несется к Лебяжьему острову.
— Парус бы нам, капитан.
Изумленный Ришка перестает грести. Откуда Олег знает, что Ришка — капитан?
— По глазам!
Ришка плюет на палец и поднимает руку над головой.
— Откуда ветер? — спрашивает Олег.
— С моря! Бриз.
Когда у Ришки от усталости вываливаются из рук весла, Олег направляет корабль к берегу. Там ждет их Вера Павловна. Не так давно она учила Олега в школе географии.
* * *
Ришка привязывает Ваксу на лестнице и стучит в комнату Веры Павловны. Ответа что‑то нет. Он стучит громче, потом, приоткрыв дверь, смотрит одним глазом в щелку.
Вера Павловна сидит в кресле. Видимо, дремлет. Стенные часы с сиплыми вздохами бьют десять раз.
Странно, они не будят Веру Павловну. Ришка на носках крадется по комнате и садится на скамейку у кресла. Он сидит смирно, рассматривает ее седые пышные волосы, маленькие морщинистые руки б опухшими суставами, И рукй и волосы Ришке нравятся.
Рука Веры Павловны соскальзывает с коленей и свешивается. Но Вера Павловна не просыпается…
— Вот спит! — со смутной тревогой шепчет Ришка и близко Заглядывает ей в лицо. Оно спокойное и белое. Очень белое. Глаза плотно закрыты. Ришке не нравится это спокойствие. Особенно бледные–бледные губы. Вчера они были другими.
— Вера Павловна, вы… что ли, спите? Вера Павловна! — пугается он. — Ну, скажите хоть что‑нибудь! — Ришка трясет 6е за плечо.
Она не просыпается. Ришка выбегает в коридор и барабанит в соседнюю дверь. Никого нет. Тогда Ришка выскакивает на лестницу и отвязывает Ваксу.
Они бегут к доктору Федору Степановичу в детскую больницу.
— Уже скоро, Вакса… — задыхается от быстрого бега Ришка. — Скоро…
Он врывается в приемный покой и требует Федора Степановича. Он никому не хочет говорить, что случилось.
— Где доктор? Позовите! — умоляет он.
Наконец выходит Федор Степанович.
— Она умирает! Она уже ничего не говорит… — плачет Ришка.
— Но я же детский врач, Ришка! Я не лечу взрослых.
— Все равно. Вы все можете.
Доктор и Ришка садятся в машину. В поликлинике они забирают врача и едут к Вере Павловне.
В комнату к ней Ришку долго не пускают. Он и Вакса стоят в коридоре. Ришка спокоен: у Веры Павловны самый лучший доктор на свете — Федор Степанович.
Доктор выходит в коридор. Седые брови не прикрывают его глаз. И по тому, как смотрят эти серые теплые глаза, Ришка понимает: с Верой Павловной все хорошо.
— Я же знал, — Ришка говорит усталым спокойным голосом, — я же знал, что вы ее спасете.
— И совсем не я, выдумщик!
Ришка не спорит. К чему лишние разговоры! Он пробирается в комнату и устраивается за книжным шкафом. Прижавшись щекой к стенке шкафа, он смотрит на Веру Павловну и улыбается.
* * *
Мать протягивает Ришке конверт.
— Ришка–мальчишка, здесь твоя путевка к морю!
— Ма! Я буду… буду хорошо вести себя в лагере. Вот посмотришь!
— А я получила премию! Давай купим тебе штаны и сандалии.
Она надевает серые туфли и платье в голубой горошек. Они идут по магазинам и выбирают штаны. Они хотят купить самые красивые. Но вот серо–голубые штаны завернуты в плотную бумагу. Ришка примеряет белые сандалии.
— Какие! Сколько ремешков! Я их буду беречь! — обещает он продавцу.
Теперь Ришка — счастливейший из смертных. Он спешит домой — показать покупки Алеше и Вере Павловне. Что теперь ему Яшина бабушка и Лариса со своей матерью?! Он больше никогда не подойдет к ним.
Мать входит в спортивный магазин. Удивительно, что ей там надо? В другое время он сам не прочь посмотреть мячи, кубки и красивые бамбуковые удочки. Но вдруг он забывает о штанах и сандалиях. Надувная резиновая лодка… Серая, широкая, спокойно лежит на полу.
— Идем, — тянет мать к прилавку. — Идем, пока я не передумала. — А он не понимает, куда и зачем она зовет. — Ришка, да взгляни же!
Он не сразу отрывает взгляд от лодки, не сразу соображает, что она держит в руках.
— Ласты?! Мне? Насовсем?
Как во сне, он надевает голубые ласты.
— Пожалуй, немного великоваты… — сомневается продавец.
— Нет, нет! Не великоваты совсем, — пугается Ришка.
— Можно подтянуть ремешки, — наклоняется к нему продавец, а Ришке хочется обнять его.
Он передает матери пакет с брюками и коробку с сандалиями. Он прижимает ласты к груди и спешит увести мать из магазина. Ришка очень боится: вдруг мать передумает?
* * *
В новых сандалиях он является к Вере Павловне. Она сразу замечает его обновку и просит несколько раз пройтись по комнате — надо же ей полюбоваться. Потом он рассказывает про ласты и брюки и обещает привезти ей с моря редкие ра–ковины. Теперь‑то он может нырять на самое глубокое дно и даже уплывать к горизонту. У него есть ласты!
Ришка прыгает перед ее кроватью на одной ножке, но приходит медицинская сестра — сделать Вере Павловне укол, ион отправляется в коридор. Он снимает сандалии и стирает ладошкой пыль с носков. Мировые мокасины!
— Мальчик, — подходит к нему сестра, — ты посидишь с ней? Только не разговаривай много. Вера Павловна очень больна.
Ришка тускнеет, забывает про мокасины и ласты.
— Разве она не поправляется?
— Пока нет. Сердце у нее усталое. Так не уходи. Вере Павловне нельзя одной.
Он садится у ее кровати.
— Когда я уеду в лагерь, с кем вы останетесь?
— Сама с собой. А потом ко мне приедет племянница.
— Вам нельзя сама с собой. Вы больная.
— Мне не так уж плохо. И в старости всем нездоровится. Лучше давай почитаем.
— Нет, вам нельзя.
— Тогда я расскажу тебе про Тура Хейердала и его плот Кон–Тики.
— Вы уже рассказывали, — непреклонен Ришка. — Тур со своими уехал с Таити. Они даже бросили в воду белые венки.
Ей приходится покориться. Она дремлет, а Ришка варит кофе и мажет маслом хлеб. Приходит Федор Степанович. Ришка манит его в сторону. Скоро ли поправится Вера Павловна? Трудно сказать… Ей нужен покой и… и добрый друг. Скорее бы приезжала ее племянница.
— Тебе же надо собираться в лагерь, — вспоминает доктор. — Иди, Ришка.
«Ей нужен добрый друг…» — думает он, прощаясь с Верой Павловной. Он открывает дверь на лестницу. Стоп! Едва не забыл новые мокасины!
Дверь в комнату приоткрыта, и слышно, как доктор уговаривает Веру Павловну лечь в больницу. Она отказывается: дома стены помогают. День–другой, и она поднимется. Но доктор протестует: не день и не два, а много больше. Ей нужны внимание и забота, а он, Федор Степанович, и Алешина мать могут приходить к ней только вечером.
— Вот и спасибо. А днем мне хорошо — пока у меня есть друг.
Что такое она говорит? Ришка — ее друг?! Она поправляется от его забот, оттого, что он приходит и рассказывает про Ваксу, ласты и свои капитанские дела! И Ришка, оказывается, очень способный и будет отлично учиться. Надо бы познакомиться с Ришкиной матерью...
— Вам о сердце думать надо! — Видимо, Федор Степанович очень недоволен.
— В нем‑то Есе и дело, — говорит Вера Павловна мягким тихим голосом. — Так уж не гоните меня в больницу!
Потом они говорят о племяннице. Еще новость? никакая она не племянница, а ученица Веры Павловны. У нее умерла мать, когда она была маленькой школьницей, и Вера Павловна взяла ее к себе. Она учится в Ленинграде и скоро приедет.
Ришка слышит: доктор ходит по комнате. Останавливается у двери.
— Ришка скоро уедет в лагерь, и днем вы будете одна. Годы у вас немолодые. Мало ли что может случиться…
— Что может случиться? Что? — распахивает Ришка дверь.
— Ничего! Ты почему не ушел? — наступает на него Федор Степанович.
— Я… я забыл сандалии… — он поднимает их с пола и, не надевая, выходит.
Вечерняя заря раскрыла в небе огромный алый парус. Он расплывается между лиловыми облаками и медленно меркнет. Вспыхивают маяки — маленькие голубые звезды. Если подольше посмотреть в темнеющее небо, можно увидеть плывущие к маякам светлые корабли.
Ришка провожает корабли взглядом. Но думает не о них — он тревожится о Вере Павловне.
— Ей нельзя сама с собой… И ей нужен друг, — бормочет он. — Что ли, не ехать? Пока она не поправится… И Ваксу тогда не надо отдавать Шиму. Вакса ведь сильно привязчивая.
Пахнет розами. Это от Ларисиных грядок. Ришка останавливается. Вера Павловна любит цветы. Розы…
Он перемахивает через низкий заборчик и находит крупную розу. Роза колет пальцы, цепляется за рубашку и царапает ладони. Все равно Ришка срывает ее. Он благополучно выбирается из палисадника и видит в освещенном окне Ларису. Странно: обычная ненависть не просыпается в его сердце. Желтые косы не внушают отвращения. Он думает о Вере Павловне: она обязательно обрадуется, когда увидит розу. А Федор Степанович говорит, будто радость помогает выздоровлению.
* * *
Ришка входит в дом, пряча розу за спиной. Мать укладывает в чемодан его имущество. Сверху лежат новые голубые штаны, Ришка гладит их исцарапанной рукой.
— Наконец‑то ты увидишь море! — радуется мать.
— Не увижу… — тихо говорит он.
— Ришка, что случилось?
— Ничего… Только я не поеду в лагерь.
— Перестань болтать глупости! — сердится мать.
— Ма.„ я останусь с Верой Павловной, — говорит он не совсем твердо. — Она больна. И ей нужен друг.
— Господи, какой из тебя друг?!
Ришка исподлобья посматривает на мать. Ему ее жаль… И море тоже жаль. Но… но Вера Павловна пропадет без него!
— Ришка, для кого я покупала путевку? — Она направляется к нему. Он знает, чем это кончится и отступает к двери.
Мать замечает розу.
— Опять! — кричит она. — Опять сорвал у Ларисы! Убирайся! Сию же минуту убирайся вон! И не приходи, пока не вернешь розу.
Ришка не идет к Ларисе. Он выбегает за ворота и поворачивает к дому Веры Павловны. Вакса бежит рядом.
Окно Веры Павловны светится слабым светом. Значит, горит ночник, она спит. Несколько минут Ришка раздумывает под окном, потом поднимается на карниз и осторожно опускает розу в открытую форточку.
…Мягкий глухой звук. Это роза упала на подоконник. Завтра Вера Павловна увидит ее и обрадуется…
Они не спеша выходят на темную улицу. Ришка и Вакса. Она останавливается, беспокойно оглядывается и негромко лает. Она не узнает дороги. Она хватает Ришку за штанину и тянет назад. Она думает, что он позабыл дорогу домой.
— Нет, Вакса, я не хочу домой. Мы идем к Федору Степановичу.
Ришка стучится к доктору в такой поздний час, что тот спрашивает удивленным голосом, кто там?
— Это мы… Я и Вакса.
— Что случилось? — распахивает дверь Федор Степанович.
— Я просто так, —успокаивает его Ришка.
Доктор ведет их в комнату. В углу за шахматным столиком сидит стриженый мальчик с бледным лицом.
— Ришка, это Костя. Он выздоровел.
Костя подходит к Ришке. Он выше Ришки на голову.
— Я знаю тебя. И Ваксу знаю. А ты умеешь в шахматы?
— Нет… совсем не умею.
— А ты придешь завтра? Мы пойдем гулять. А потом я поеду домой, в станицу.
Ришка качает головой: нет.
— Ах да! — вспоминает доктор. — Ты же собираешься в лагерь.
— Я не еду в лагерь, — бормочет Ришка. И шепотом, оглядываясь на Костю, рассказывает, почему не едет в лагерь. И о сорванной розе тоже.
— Опять заварил кашу! — кручинится доктор.
— Я все равно не поеду, — предупреждает его Ришка.
— Мал ты еще так командовать!
— Сами же говорили, что ей нужен друг… — Ришка поднимает на доктора мрачные глаза. — Говорили же?
Он идет к двери. Его новые сандалии шумно ступают по паркету. Вакса плетется, опустив хвост.
— Стой! — Костя подбегает к нему. — Слушай, Риша, если ты не хочешь в лагерь, приезжай в нашу станицу. У нас речка есть. Ты рыбу удишь?
Костя начинает нравиться Ришке.
— А ты на шпагах можешь? — спрашивает Ришка.
— Я на кулачки здорово!
— На кулачки всякий может, — усмехается Ришка.
Но доктор велит Косте ложиться спать и надевает пиджак.
— Идем, Ришка, я тебя провожу. Час поздний.
Ришка плетется еле–еле. Он очень устал, поэтому берет доктора за руку. И Вакса устала тоже. Но чем ближе к дому подвигается процессия, тем беспокойнее Ришка.
— Поезжай, Ришка, — просит доктор. — К Вере Павловне приедет племянница.
— Мало ли что может случиться, пока она приедет!
Доктор поднимается на крыльцо и негромко стучит в дверь Ришкиного дома. Сам Ришка стоит в тени. Дверь распахивается, мать сразу находит взглядом Ришку.
— Полуночник, наконец‑то! — облегченно вырывается у нее. —Ой, здравствуйте, доктор!
Грозы не будет. Ришка смело идет в дом и ведет Ваксу. Он с трудом раздевается и, коснувшись головой подушки, видит сон: морской прибой несет на берег разноцветные камни.
Мать провожает доктора к воротам. Она жалуется на Ришку. У него тяжелый характер, самовольный и грубый. Он не слушается и не любит ее. И еще новое дело: он не хочет ехать в лагерь.
— Любит! — останавливает ее доктор. — И вас, и Веру Павловну. А характер у него твердый, у капитана Рика. Пожалуй, мы что‑нибудь придумаем с его каникулами.
— А что, если… — говорит он задумчиво, — что, если Ришка поедет с нами в тайгу, а?
Ришка спит, а доктор и мать еще долго обсуждают новый план летнего отдыха капитана Рика.
Утром Ришку будит шкипер Шим. Путевку отдали ему. Он едет к морю!
— Мне купили чемодан! — захлебывается восторгом Шим, не замечая Ришкиной мрачности. — Желтый, с карманом!
— Ну и мотай со своим чемоданом!
— Чего ты орешь? Не выспался…
Ришка и сам понимает: орет он зря, да очень уж противные у Шима жирные щеки. Как это раньше он не замечал? И зачем мать отдала ему путевку? Лучше кому‑нибудь другому…
— Козел, отдавай путевку!
— Ага! Мы уже деньги заплатили. А ты… ты сам отдавай мои пятьдесят копеек. Забыл, как на туфли брал?
Ришка вскакивает. Он ниже Шима, и кулаки у него не такие широкие. Но Шим пятится…
— Чего лезешь? Ну! — выбегает он на крыльцо. — Хулюган!
Тр аххх! — катится Шим со ступенек. Он кричит противным голосом. Ришка стоит на крыльце и хохочет, и вытирает слезы на глазах смуглой маленькой рукой.
Всхлипывая и причитая, Шим садится в траву и плюет на сбитые колени.
— Сейчас скажу… и про туфли, и что… дерешься…
— Я тебе скажу! Только попробуй!
— Отдавай деньги! — ревет Шим.
Ришка скрывается. Через минуту перевязанная бечевкой папиросная коробка, в которой он хранит монеты, летит из окна.
Шим подбирает ее и пересчитывает деньги. Он бросает косые взгляды на Ришкино окно — в коробке оказываются лишние монеты. Шим колеблется: надо бы отдать… Но колени ноют и обида на Ришку растет. Шим срывает широкие листы подорожника и слюной приклеивает к ссадинам. Расстроенный, обиженный, он ковыляет домой. Его дружбе с Ришкой приходит конец.
* * *
Белая роза стоит в кружке на столике у кровати Веры Павловны. Она так и не знает, откуда взялась роза. Ришка отводит в сторону глаза и закусывает расползающиеся в улыбке губы. Довольный, он прохаживается по комнате.
Но мысли о лагере на берегу Черного моря не дают покоя. И еще этот толстый Шим, оказавшийся трусом и предателем. Из‑за этого Ришка рассеян и молчалив. Из‑за этого он проливает кофе на штаны, роняет пузырек с лекарством и вместо булок покупает бублики.
— Мама здорова? — пытается понять причину Ришкиного расстройства Вера Павловна.
— Она никогда не болеет. Она на работе, — нехотя отвечает он.
Через день Шим уезжает, и Ришка забывает о путевке. А Вера Павловна не забывает.
— Когда ты едешь в лагерь? Кажется, пора.
Он долго смотрит на барометр. Стрелки прочно стоят у слов «великая сушь». Вера Павловна спрашивает снова. Ришка мучительно придумывает, что бы соврать. Но, взглянув в ее лицо, неожиданно для себя говорит правду.
Она приподнимается, опираясь на локоть.
— Ты не поехал из‑за меня?!
Она бледнеет от огорчения, и Ришка пугается: как бы не разболелась.
— Вы. не переживайте… Вы поправитесь, и мы пойдем на Кубань. Я поплаваю в ластах. Там тоже классная водичка!
Вера Павловна молчит. Она смотрит на Ришку, словно видит его впервые.
— Ну… если хотите… я поеду.
— Конечно, хочу! — словно просыпается она. — Теперь я скоро встану…
— Не особенно скоро, — входит в комнату Федор Степанович. Он всегда приходит вечером проведать Веру Павловну. Ришка радуется: доктор выручит!
— Я чайник поставлю, — убегает он.
Когда Ришка возвращается, Вера Павловна и доктор разговаривают. Лицо у нее веселое, ясное. Ришке она нравится. Федор Степанович выходит на средину комнаты и торжественно говорит:
— Капитан Рик! Путешественники, направляющиеся на Север, — капитан Шел и его друг старый Волшебник, — принимают тебя в свой отряд. Собирайся в дальний путь, капитан! Экспедиция отправится, как только к Вере Павловне приедет племянница.
— В путь?! К Серебряному озеру?!
Потрясенный, обрадованный, Ришка садится на скамейку, но тут же вскакивает.
— Что ли, правда бывают волшебники? Федор Степанович, — это вы?! А как же вы превращаетесь?
— Тайна. До поры до времени открыть не могу.
Ришка наклоняется к Вере Павловне.
— Знаете, я буду доктором. Когда вырасту. Я хочу, как Федор Степанович.
* * *
Катальпы распускаются в знойный июньский день. Белые цветы поднимаются из широких круглых листьев, словно крупные жемчужины. Апельсиновое солнце жжет лепестки, а цветы не увядают. Они раскрываются и наполняют воздух тонким, чуть сладковатым ароматом.
В такой день Алеша, Ришка и Федор Степанович прощаются с южным городом и друзьями. В походных башмаках, с рюкзаками за плечами стоят они на перроне и ждут скорый поезд.
Вера Павловна раскрывает свою плетеную сумочку и достает барометр. Тот самый, что висел в ее комнате на стене над каравеллой.
— Он старый, но очень верный. Он вовремя предупредит вас о буре и урагане. Но чаще он предсказывает ясную погоду.
Ришка заглядывает в материнские глаза.
— Ма… ну, я поехал! Ты мне напишешь о Ваксе?
— Напишу, Ришка–мальчишка…
Легкая грусть прокрадывается в Алешино сердце, когда мать наклоняется к нему. Но капитан Шел гонит грусть прочь ц протягивает матери тонкую руку.
— До свидания…
Показывается скорый поезд. Тепловоз издалека спрашивает:
— Вы готовы? Я иду–у-у…
— Готовы, готовы! — кричит Ришка. Он бежит к подножке. Прыжок — и он на ступеньке. За ним Федор Степанович поднимает Алешу.
Поезд трогается. Алеша и Ришка смутно видят родные лица. Они уже в далекой и близкой стране волшебства, радости и приключений. Старинный барометр будет предсказывать им ясную погоду и солнце. Но иногда и грозу с дождем и молнией. Потому что без бурь и ливней на свете тоже скучно.

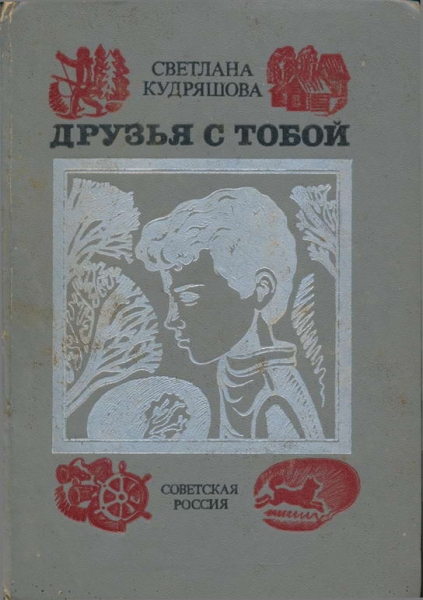







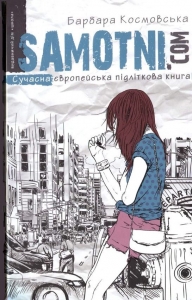

Комментарии к книге «Друзья с тобой: Повести», Светлана Владимировна Кудряшова
Всего 0 комментариев