Annotation
Сюжет захватывающего психологического триллера разворачивается в Норвегии. Спокойную жизнь скандинавов всё чаще нарушают преступления, совершаемые эмигрантами из неспокойных регионов Европы. Шелдон, бывший американский морпех и ветеран корейской войны, недавно переехавший к внучке в Осло, становится свидетелем кровавого преступления. Сможет ли он спасти малолетнего сына убитой женщины от преследования бандой албанских боевиков? Ведь Шелдон — старик, не знает норвежского языка и не ориентируется в новой для него стране. Проявить всю свою волю и силу духа ему помогает память о погибшем во Вьетнаме сыне. Ветерану корейской войны Шелдону уже 82 года. Его сын погиб во Вьетнаме, да и самого его до сих пор преследуют мучительные воспоминания. Как больно осознавать, что жизнь не просто близится к завершению, но и не принесла счастья ни ему, ни близким! Рядом не осталось никого, кроме внучки — она недавно вышла замуж за норвежца и перевезла деда в незнакомую ему страну. Шелдон одинок и живёт воспоминаниями, которые то таятся в дальних уголках памяти, то всплывают так ярко, что почти неотличимы от реальности. Он еще не знает, что очень скоро ему придется проявить всю свою волю и решимость, вспомнить навыки спецназовца и взвалить на плечи ответственность за судьбу маленького мальчика, которого преследует банда убийц.
Дерек Миллер
Часть I
Глава 1
Глава 2
Глава 3
Глава 4
Глава 5
Глава 6
Глава 7
Глава 8
Часть II
Глава 9
Глава 10
Глава 11
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Часть III
Глава 15
Глава 16
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Глава 22
Глава 23
Благодарности
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Дерек Миллер
Уроки норвежского
Часть I
59-я ПАРАЛЛЕЛЬ
Глава 1
Все вокруг по-летнему ярко. Шелдон Горовиц сидит в складном кресле в тенистом уголке парка Фрогнер в Осло, у его ног расстелена скатерть для пикника. На коленях Шелдон держит бумажную тарелку, на ней надкусанный сэндвич с карбонадом, который он счел несъедобным. Указательным пальцем правой руки он задумчиво водит по запотевшему стеклу бутылки с пивом. Он начал было пить его, да потерял интерес. Шелдон качает ногой, словно школьник, только его ноги двигаются медленней, в его-то восемьдесят два. И амплитуда поменьше. Шелдон ни за что не признается Рее или Ларсу, что так и не может отделаться от навязчивого вопроса: что он тут делает и как быть дальше.
На расстоянии вытянутой руки от Шелдона сидят его внучка Рея и ее муж Ларс, который в этот момент делает большой глоток пива и выглядит таким жизнерадостным, таким милым и веселым, что Шелдону хочется вырвать у зятя из руки хот-дог и ткнуть ему в нос. Рее — она сегодня какая-то бледная — это совсем не понравится, и Шелдону опять придется выслушивать лекции про социализацию («чтобы ты смог приспособиться»), а ему это порядком надоело. Впрочем, Ларс и не заслуживает маневра с хот-догом.
Овдовевший Шелдон переехал в Норвегию из Нью-Йорка, только поддавшись на уговоры Реи, и теперь чувствовал себя старым и несуразным. В сочувственном отношении Ларса он усматривал лишь подавляемое желание позлорадствовать.
А может, он и несправедлив к парню…
— А вы знаете, почему хот-доги так называются?
Шелдон задает вопрос вслух со своего капитанского мостика. Если бы у него была трость, он бы помахал ею в воздухе, но трости нет.
Ларс внимательно смотрит на него. Рея же беззвучно вздыхает.
— Первая мировая война. Мы разозлились на немцев и в наказание переименовали их даксхунды. Но это еще ничего, — продолжил он. — Во время Большой войны с террором мы разозлились на террористов, а наказали французов, переименовав свою собственную еду.
— Что вы имеете в виду? — недоумевает Ларс.
Шелдон замечает, что Рея толкнула мужа ногой и приподняла брови — ее взгляд как раскаленная кочерга: Ларсу не следует поощрять подобные тирады, эти выходки, эти отвлечения от происходящего здесь и сейчас. Все то, что может быть отнесено к проявлениям столь горячо обсуждаемой деменции.
Предполагалось, что Шелдон не должен заметить этот тычок, но он заметил и начал наступать с новой силой:
— Фридом-фрайз! Я говорю про фридом-фрайз. Прощайте, френч-фрайз, да здравствуют фридом-фрайз[1]. И эту дурь придумали в Конгрессе! А моя внучка считает, что это я теряю рассудок. Позвольте мне сказать вам кое-что, милая барышня. Это не я пересекаю границу безумия. Это граница безумия пересекает меня.
Шелдон смотрит вокруг. Тут не бывает внезапных движений толп случайных незнакомцев, как в американских городах, — людей, которые не только тебе незнакомы, но и друг друга не знают. Здесь все между собой знакомы, все высокие, похожие друг на друга, как братья, доброжелательные, улыбающиеся, все одеты в стиле унисекс, и как он ни старается, ему не удается взять их на прицел.
Рея. Имя титаниды. Дочь Урана и Геи, неба и земли, жена Кроноса, матерь богов. Сам Зевс был вскормлен ее грудью, это из ее тела появился существующий мир.
Так назвал ее сын Шелдона, ныне покойный Саул. Он хотел возвысить ее над повседневностью, сквозь которую сам пробивался во Вьетнаме вместе с речной мобильной группой ВМС в 1973–1974 годах.
Он приехал домой отдохнуть и расслабиться месяцок перед второй командировкой. Это было в сентябре. Над Гудзоном и в окрестностях Беркширса кружили опавшие листья. Мейбл, покойная жена Шелдона, хорошо разбиравшаяся в подобных вопросах, считала, что Саул и его девушка во время его побывки переспали лишь однажды. Тогда и была зачата Рея. На следующее утро у Шелдона с Саулом состоялся разговор, изменивший их обоих. После этого Саул вернулся во Вьетнам.
Два месяца спустя во время ничем не примечательной операции по поиску сбитого летчика он подорвался на мине-ловушке, ему оторвало ноги, и еще до того, как катер доставил его в госпиталь, он истек кровью и умер.
«Назовите ее Рея», — писал Саул в последнем письме из Сайгона. Тогда Сайгон еще был Сайгоном, а Саул был Саулом. Может, ему полюбился греческий миф из школьной программы, и поэтому он решил именно так назвать дочь. А может, он влюбился в обреченную героиню романа Станислава Лема «Солярис»[2], который читал под одеялом, пока его боевые товарищи крепко спали.
Вероятно, польский писатель вдохновил американского еврея, и тот назвал свою дочь в честь греческой титаниды, а потом его убили вьетнамцы. Он хотел порадовать своего отца-морпеха, некогда бывшего снайпером в Корее — и, без сомнения, до сих пор преследуемого северными корейцами в скандинавской глуши. Да, даже тут, среди зеленой листвы парка Фрогнер солнечным июльским днем, когда у него было так мало времени, чтобы расплатиться за все содеянное.
«Рея». Здесь это имя ничего не значит. Так по-шведски называют распродажу в универмаге. Вот, собственно, и всё…
— Дед? — зовет его Рея.
— Что?
— Что ты об этом думаешь?
— О чем?
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Об этом районе. О парке. О соседях. Как только мы продадим наше жилье в Тойене, мы сюда переедем. Конечно, это не Грамерси-парк, я все понимаю.
Шелдон молчит. Рея поднимает брови и разводит руками, как будто этот жест может спровоцировать его на ответ.
— Осло, — заключает она. — Норвегия. Свет. Эта жизнь.
— Эта жизнь? Ты хочешь узнать, что я думаю об этой жизни?
Ларс хранит молчание. Шелдон поглядывает на зятя в надежде на поддержку, но тот не с ними. Он смотрит в глаза старику, но мысли его далеко. Он зачарован тем, как общаются между собой дед и внучка, заворожен словесной дуэлью, в которой сам не способен участвовать и вмешиваться в которую, по его мнению, было бы невежливо.
Все же и тут находится место жалости. На лице у Ларса одно из тех универсальных выражений, которое знакомо всем мужчинам, означающее примерно следующее: «Я только что женился на этих разговорах, так что не смотри на меня». В этом Шелдон видит некое сходство между ними. Но есть в Ларсе и нечто сугубо норвежское. Что-то такое отстраненное, что постоянно раздражает старика.
Шелдон оглядывается на Рею, женщину, на которой Ларс умудрился жениться. Ее волосы цвета воронова крыла собраны в шелковистый хвост. Голубые глаза сверкают, как Японское море перед битвой. Шелдону кажется, что с беременностью ее взгляд приобрел глубину.
Эта жизнь? Если бы он только мог сейчас протянуть руки к лицу внучки, провести пальцами по ее скулам и стереть слезинку, которую выдул у нее из глаз сильный ветер, он бы наверняка разрыдался, обхватил Рею и прижал к груди, положив ее голову себе на плечо. Жизнь продолжается. Только это имеет значение.
Она ждет ответа на свой вопрос, но ответа нет. Дед смотрит на нее не отрываясь. Может быть, он забыл вопрос. Она расстраивается.
Солнце сядет только после десяти. Здесь повсюду дети, люди вернулись с работы пораньше, чтобы насладиться летней погодой, наградой за тьму зимних месяцев. Родители заказывают сэндвичи и кормят ими детей, отцы кладут пластиковые бутылочки в дорогие детские коляски с экзотическими названиями.
Квинни. Стокке. Бугабу. Пег Перего. Макси-Кози.
Эта жизнь? Пора бы ей уже понять, что эта жизнь есть результат целой череды смертей. Марио. Билла. Мейбл, бабушки Реи. Она умерла восемь месяцев назад, и только поэтому Шелдон переехал сюда.
После гибели Саула жизнь пошла наперекосяк.
Мейбл похоронили в Нью-Йорке, несмотря на то что и она, и Шелдон были приезжими в этом городе. Он родился в Новой Англии, она — в Чикаго. Они в конце концов осели в Нью-Йорке: сначала были гостями, потом жителями, а много лет спустя получили шанс стать настоящими нью-йоркцами.
После похорон и поминок Шелдон в одиночестве отправился в кофейню в Грамерси, недалеко от их дома. Было часа три дня. Обеденное время уже прошло. Скорбящие разошлись по домам. Шелдону полагалось соблюдать шиву и позволить общине ухаживать за собой, кормить и развлекать в течение семи дней. А вместо этого он поедал черничные маффины, запивая их черным кофе. Рея прилетела на похороны одна, без Ларса. Она заметила, что дед потихоньку ушел с поминок, и нашла его здесь. Она присела к нему за столик.
На ней был отличный черный костюм, волосы распущены. Ей исполнилось тридцать два, и взгляд у нее был решительный. Шелдон неправильно истолковал этот взгляд, полагая, что она начнет упрекать его за несоблюдение шивы. Когда же она заговорила, он чуть не поперхнулся кексом.
— Переезжай к нам в Норвегию, — сказала она.
— Прекрати!
— Я серьезно.
— Я тоже.
— Район называется Фрогнер. Там замечательно. В квартире есть отдельный вход в полуподвальное помещение. У тебя будет полная независимость. Мы еще не въехали, но собираемся — ближе к зиме.
— Сдай его троллям. У них ведь там тролли? Или это в Исландии?
— Мы не хотим его сдавать. Знаешь, как-то странно ощущать, что у тебя под ногами живут люди.
— Это потому что у вас нет детей. Но к этому можно привыкнуть.
— Я считаю, что ты должен переехать. Что тебя держит здесь?
— Помимо черничных маффинов?
— Ну хотя бы.
— А что еще может сдерживать человека моего возраста?
— Не отказывайся от такого варианта.
— А что я там буду делать? Я американец. К тому же еврей. Мне восемьдесят два, и я пенсионер-вдовец. Морпех. Часовщик. У меня целый час уходит на то, чтобы помочиться. Там что, есть какой-то клуб, о котором я не знаю?
— Я не хочу, чтобы ты умер в одиночестве.
— Рея, ради всего святого!
— Я беременна. Срок еще маленький, но это точно.
При этих словах — о великий день! — Шелдон взял ее руку и поднес к губам. Закрыл глаза и постарался услышать новую жизнь в ее пульсе.
К тому времени, как скончалась Мейбл и Шелдон согласился на переезд, Рея и Ларс жили в Осло почти год. Ларс нашел хорошую работу — дизайнера компьютерных игр, а Рея начала карьеру архитектора — пригодился ее диплом нью-йоркского архитектурного колледжа «Купер-Юнион». Население Осло постепенно перебиралось подальше от города в горные коттеджи, а она, напротив, решила остаться здесь.
Ларс — кто бы сомневался — был настроен оптимистично, очень радовался способности жены адаптироваться и вписаться в местную жизнь и всячески ее поддерживал. Норвежцы, верные своей натуре, предпочитают размножаться на родине. В результате Осло населяют аборигены, вступившие в брак с разношерстной публикой — их супруги напоминают туристов, которых водят по музею восковых фигур.
В 1992 году родители помогли Ларсу приобрести в Тойене двухуровневую квартиру, стоимость которой теперь поднялась до трех с половиной миллионов крон. Для района, который у Шелдона ассоциировался с Бронксом, это было немало. Ларс с Реей скопили еще пятьсот тысяч наличными и взяли ипотеку, что было нагрузкой, хоть и не бог весть какой. Они задумали переехать в трехкомнатную квартиру во Фрогнере. По меркам Шелдона, эта часть города соответствовала престижному Централ-Парк Вест.
Место было довольно консервативное, но Ларсу и Рее надоело ждать, пока реконструируют Тойен, да и наплыв мигрантов выдавливал состоятельных людей в другие районы, что сказывалось на качестве школ. Здесь селилось все больше выходцев из Пакистана и с Балкан. В соседнем парке собирались, чтобы пожевать кхат, сомалийцы, а местный совет принял мудрое решение перенести пункт выдачи метадона в ближайший торговый центр, что привлекало сидящих на героине наркоманов. Рея и Ларс все еще пытались утверждать, что у Тойена было «свое лицо». Шелдон же видел во всем этом лишь угрозу безопасности.
Однако, к счастью, тут не было северокорейцев, этих маленьких узкоглазых ублюдков. А если они появятся, то будут заметны в толпе. Трудно спрятать северокорейца в Норвегии. Вот в Нью-Йорке это запросто — все равно что прятать дерево в лесу. Они стоят на каждом углу, продают цветы или управляют бакалейными лавками, отслеживают своими глазками-бусинами все твои перемещения по улицам и засылают шифровки в свой Пхеньян.
Они преследуют его с 1951 года — Шелдон в этом не сомневался. Нельзя убить двенадцать человек с фамилией Ким, защищающих дамбу в Инчхоне, и рассчитывать на то, что тебе это простят и забудут. Только не корейцы: у них терпение, как у китайцев и страсть к вендетте, как у итальянцев. И они умеют маскироваться. Еще как! На то, чтобы научиться чувствовать корейцев, распознавать их присутствие, ускользать от них и обманывать, у Шелдона ушли годы.
Здесь же дело обстоит по-другому. Здесь они не способны слиться с толпой. Ни один злодейский мерзавец не способен. К каждому зомбированному психу приставлен другой зомбированный псих на случай, если первый начнет страдать вольнодумством.
Шелдону хочется прокричать им: «У меня для вас новость, ублюдки! Это вы начали войну! И когда вы об этом узнаете, вам придется долго просить прощения». Но он по-прежнему считает, что обманутые не несут ответственности за свои поступки.
Мейбл никогда не понимала его антипатии к корейцам. Она полагала, что у него поехала крыша, то же самое подозревал и врач. Жена говорила, что пора прислушаться к голосу разума и признать, что в Пусане он был не легендарным снайпером, а заурядным клерком, и что северные корейцы вовсе его не преследовали. Ни в кого он не стрелял. Да и вообще, даже в запале за оружие не хватался.
Она говорила об этом всего за несколько месяцев до смерти.
— У тебя маразм, Донни.
— Нету у меня маразма.
— Ты изменился. Я же вижу.
— Ты болеешь, Мейбл. Естественно, это влияет на меня. Ты твердишь мне это с 1976 года. А может, меняюсь не я, а ты? У тебя всего лишь выработался иммунитет к моим чарам.
— Я не виню тебя. Тебе уже за восемьдесят. Рея говорила, что после восьмидесяти пяти больше двадцати процентов людей страдает Альцгеймером. Мы должны это обсудить.
— Нет, не должны.
— Тебе стоит есть побольше рыбы.
— Нет, не стоит.
Оглядываясь назад, он понимал, что ответил Мейбл как ребенок, но с другой стороны, в споре это был убойный аргумент.
Его воспоминания с возрастом становились только ярче. Время повернуло вспять. Когда не остается будущего, мозг обращается на себя. И это не деменция. Можно сказать, это единственная разумная реакция на неизбежность.
И еще один немаловажный вопрос — что стоит за этими воспоминаниями?
Он заблудился в Корее в сентябре 1950 года. В силу ряда обстоятельств, которые имели смысл только в тот момент, он оказался на борту австралийского военного корабля «Батаан», действовавшего в составе 91-го Оперативного формирования, задачами которого были организация и поддержка блокады, а также обеспечение прикрытия для высадки на берег американского контингента. Там и полагалось тогда быть Шелдону, но он оказался на «Батаане». В те годы Шелдона называли Донни, он должен был действовать в боевой группе 5-го полка морской пехоты, которая подплывала к «Красному пляжу», но во время переназначения он потерялся — такое порой случается в армии.
Пока шла Вторая мировая война, он был слишком молод. И когда через пять лет случилась Корея, он и мысли не допускал, что может пропустить и ее. Он тут же завербовался на службу и в результате попал в компанию малограмотных фермеров, — вот ирония судьбы! — не желавших одолжить ему лодку, чтобы он мог доплыть до берега и начать стрелять в людей, как это ему и полагалось.
— Извини, друг. Самим надо. Их всего четыре. Судно маленькое, пушек много, пули градом. Ты же понимаешь?
Тогда он решил взять лодку у своих австралийских хозяев без разрешения — он намеренно не использовал слово «украсть». Вообще говоря, он думал, что у них был резон не расставаться со спассредством во время масштабной штурмовой десантной операции. Но нужды у людей не всегда совпадают, так что приходится делать выбор.
В тот момент Донни Горовицу было двадцать два. У него была ясная голова и твердые руки, а большая родинка на плече формой напоминала Германию. Армия должна была всего лишь правильно подобрать для него роль в этой войне и потом обеспечить соответствующим заданием. Его назначили разведчиком-снайпером. Заданием стал Инчхон.
Это была тактически очень сложная операция. За полтора месяца северные корейцы ослабили свои позиции по пусанскому периметру, и генерал Макартур решил, что настало самое подходящее время обойти их с флангов и занять порт Инчхон. Однако на подступах к городу побережье было слишком мелководным и пологим, поэтому возможности наступления ограничивались временем приливов.
Ослаблявшая оборону Инчхона бомбардировка с моря велась уже двое суток. И не было ни одного человека, который не вспомнил бы «День Д». Ни одного, кто не думал бы о том, что произошло на «Омаха-Бич», когда американские бомбардировщики ударили мимо целей, а танки затонули на подходах к побережью, оставив американцев без броневой защиты и огневой поддержки на суше. И без воронок от снарядов, в которых можно было бы прятаться, как в окопах.
Донни ни за что на свете не упустил бы возможности оказаться на передовой линии этого наступления.
В то утро 3-й и 5-й полки морской пехоты, двигаясь сквозь дым и артиллерийский огонь и метавшихся туда-сюда в этом хаосе птиц, прорывались к «Зеленому пляжу» на баржах, груженных танками «Першинг». Донни спустил шлюпку по борту «Батаана», проскользнув вслед за ней, и начал грести к берегу навстречу артиллерийскому огню.
На «Зеленом пляже» северные корейцы защищали дамбу, на которую по лестницам карабкались десантники. Наверху дамбы находились стрелки, пытавшиеся обезвредить американцев, южных корейцев и всех тех, кто сражался под флагами ООН. Над головой пролетали ракеты. Северокорейцы использовали зеленые трассирующие пули, поставляемые их китайскими союзниками. Их траектории пересекались с красными трассирующими пулями союзных сил.
По Донни вели огонь прямой наводкой. Сначала казалось, что летевшие в него пули приближались медленно, а потом, ускоряясь, они пролетали мимо и с фонтаном брызг падали в воду или попадали в борт шлюпки.
Шелдон частенько размышлял над тем, что могли подумать корейцы, будучи суеверным народом, когда увидели одинокого солдата, плывшего навстречу обстрелу, освещенного красными, зелеными, оранжевыми и желтыми огнями, которые отражались в воде и облаках утреннего неба. Маленький голубоглазый демон, неуязвимый для их обороны.
Одна из очередей сильно повредила шлюпку Донни. Четыре пули пробили нос и днище. Хлынувшая в лодку вода плескалась о его сапоги. Морпехи уже достигли берега и выдвигались к дамбе. Над его однополчанами низко пролетали зеленые огоньки.
До берега было еще далеко — не меньше четырехсот метров, шлюпка постепенно наполнялась водой. Никудышный пловец, Шелдон решил, что лучше уж использовать по назначению это чертово оружие, чем потонуть вместе с ним.
Шелдону — щуплому, невысокому, со слишком нежными для парня руками — никогда не приходилось заниматься физическим трудом или поднимать тяжести. Он вел бухгалтерию в обувной мастерской отца и мечтал лишь о том, чтобы забросить мяч подальше в левое поле «Грин Монстер», играя за «Ред Сокс». Когда они с Мейбл были в кино, смотрели какой-то фильм с Хамфри Богартом и Лорен Бэколл, Шелдон впервые сунул руку в лифчик своей подружки, и она сказала, что пальцы у него мягкие, как у девчонки. От этого признания он завелся больше, чем от любой когда-либо виденной картины.
В армии его зачислили в снайперы. Они видели, что он уравновешенный, спокойный, смышленый. Худощавый, но сильный. В нем кипела ярость, но была и способность направлять ее в нужную сторону.
Многие считают, что оружие — это грубая вещь в руках мужланов. Но искусство владения винтовкой требует величайшей чувствительности — как прикосновение любовника или часового мастера. Между пальцем и спусковым крючком существует особая связь. Нужно строго контролировать дыхание. И каждый мускул должен обеспечивать неподвижность телу. Даже самый слабый ветерок, ласкающий щеку, заставляет слегка приподнять ствол, словно от жара, источаемого свежеиспеченным черничным пирогом зимним вечером.
И сейчас, стоя в воде, Донни сосредоточился на крохотных фигурках, мелькавших в тумане на дамбе. Его не беспокоил артиллерийский огонь. Вода, заливавшая сапоги, ничего не значила. Птица, ударившаяся в его бедро в суматохе и дыму, была всего лишь ощущением. Он ушел в себя, и до сих пор, когда он вспоминает тот день, в его голове звучит музыка, которая слышалась ему тогда: Бах, Сюита для виолончели соло № 1 соль мажор.
Наступил момент глубочайшего спокойствия и полнейшего умиротворения, и Шелдон внезапно расстался с юношеским гневом. Накопленный против врагов яд истек из его вен вместе с музыкой, туманом, водой.
И в тот благословенный миг Донни совершил убийство.
Меньше чем за тридцать секунд из стрелявшей необычайно метко винтовки «М-1 Гаранд» Донни выпустил три обоймы бронебойных патронов калибра 7,62. Он убил двенадцать человек, убрав их со стены с расстояния четырехсот метров, что позволило американским морпехам овладеть высотой без единой потери.
Его действия были как брошенный в спокойную воду бассейна камешек, волны от которого исказили отражение ночного неба. Хотя сам Шелдон в это время истекал кровью от касательного ранения в ногу.
Разумеется, он не стал сразу рассказывать об этом Мейбл. Когда же наконец рассказал, то было уже поздно — она не поверила. Им сейчас следовало заботиться о сыне, а героизм — это личное дело Шелдона. Поэтому утвердилась версия, что он служил офицером по тылу, далеко от боевых действий, намного южнее, чем на самом деле. А ранение? Да это он просто невнимательно шагнул в сарай с инструментами и напоролся на острые грабли. «По сравнению с этими граблями я был туповат», — обратил он все в шутку.
Насколько он помнил, за участие в десантной операции ему вручили «Благодарственную медаль за службу в ВМС» и медаль «Пурпурное сердце». Но куда он их положил — вот вопрос! Он владел антикварной лавкой с часовой мастерской. Медали могли оказаться где угодно, в любой щели. Эти награды были единственным реальным доказательством того, что крыша у него еще не поехала. Но теперь не осталось ни магазина, ни того, что в нем было. Коллекция, которую он так тщательно собирал и сортировал, нынче распалась. Попав в руки других коллекционеров, все эти предметы станут частью новых собраний, а когда и эти коллекционеры уйдут в небытие, они снова будут разбросаны по миру.
Для чего была эта жизнь? Что за вопрос! Никто на самом деле не хочет знать ответа на него.
В этой жизни мое тело превратилось в скрюченный пень, а когда-то я держался прямо. Я смутно припоминаю покрытые буйной растительностью холмы и буковые леса Новой Англии за окном детской. Со мной рядом родители.
В этой жизни я ковыляю, как старик, а ведь когда-то я парил над сомнениями и спорами.
В этой жизни воспоминания разъедают мне глаза, словно дым.
В этой жизни я вспоминаю о былых страстях, которые ушли навсегда. Когда-то мои глаза для влюбленной Мейбл были самыми голубыми, глубже, чем у Пола Ньюмена, и ярче, чем у Фрэнка Синатры.
Эта жизнь! Она подходит к концу без всяких объяснений и извинений, и каждая частичка моей души или луч света, проглядывающий сквозь темную тучу, могут быть последними.
Эта жизнь была как обрывок страшного сна, который я увидел в предрассветные часы субботнего утра, когда восход солнца отразился в зеркале над туалетным столиком Мейбл, оставив меня безмолвно смотреть, как мир теряет все свои краски.
И даже если кто-то захочет услышать ответ, некому будет его дать.
Глава 2
В несусветную рань Шелдон голый стоит в ванной их тойенской квартиры. Ларса и Реи нет дома. Они уехали посреди ночи, не сказав ни слова, и отсутствуют уже несколько часов.
Свет выключен, в ванной темно. Одной рукой он упирается в кафельную стенку над унитазом, а второй изо всех сил пытается прицелиться. Он ждет, когда простата даст наконец возможность помочиться и вернуться в постель, где ему и место. Если, паче чаяния, в эту секунду его сердце остановится, его обнаружат лежащим мертвым на полу с членом в руке. И парочка двадцатилетних медсестричек будет злословить насчет его обрезанной крайней плоти и «еврейского счастья».
Но мешает сосредоточиться не только простата. Наверху скандалят мужчина и женщина. Они ругаются на каком-то балканском языке, грубо и желчно. Это может быть албанский. Или нет. Шелдон не знает. Но язык этот злой, антисемитский, коммунистический, крестьянский, фашистский и развратный одновременно. Каждый его звук, выражение и интонация полны горечи. Люди скандалят громко, и что-то в их ругани приводит Шелдона в первобытный ужас.
Старик ударяет пару раз в стенку, но его протест оказался слишком вялым.
Он вспоминает надпись в туалете военного училища: «Старые снайперы не умирают, они просто не успевают разрядиться».
Крики женщины переходят в громкие рыдания. Шелдон шаркает обратно в постель, натягивает на плечи одеяло и впадает в неглубокий беспокойный сон.
Просыпается он, когда, как и ожидалось, наступило воскресенье. Комнату заливает яркий свет. В дверях стоит крупный мужчина — явно не кореец.
— Эй? Шелдон? Ау-у! Это Ларс. Доброе утро.
Шелдон трет глаза и смотрит на часы. Всего лишь начало восьмого.
— Привет, Ларс.
— Хорошо спали?
— Где вас черти носили?
— Мы вам расскажем за завтраком.
— Ваш сосед — балканский фашист.
— Правда?
Шелдон хмурится.
— Мы собираемся готовить яичницу. Присоединитесь к нам?
— Так ты тоже это слышал? Это мне не показалось?
— Приходите завтракать.
Квартира расположена в кирпичном здании на Сарсгате рядом с парком Тойен. Полы в доме из широких досок, не покрытых лаком. Шелдону это слегка напоминает нью-йоркские лофты. Отец Ларса снес стены между кухней, гостиной и столовой, и получилось большое открытое пространство с белыми полами и потолками. Две спальни примыкают к общему пространству, и еще одна, которую теперь занимает Шелдон, находится на нижнем уровне.
У Шелдона больше нет предлогов избегать начала дня, и он встает, надевает халат, шлепанцы и бредет в гостиную. Утреннее солнце светит в окно, словно лампочка на допросе. Но это не проблема. С летним норвежским светом можно бороться при помощи очков-авиаторов. Он извлекает их из кармана и надевает.
Теперь ему все видно, и он направляется к обеденному столу, на котором апельсиновый сок, козий сыр, сыровяленая свинина, паштет из печени, лосось и свежий черный хлеб, только что купленный в соседнем магазине «Севен-Элевен».
Босая и ненакрашенная Рея стоит, опершись на раковину, с чашкой горячего кофе в руках. На ней выцветшие джинсы «Левайс» и легкая голубая атласная блузка из Н&М. Волосы собраны на затылке.
— Доброе утро, дед.
Рее хорошо знаком утренний взгляд Шелдона, и она готова к его традиционному приветствию.
— Кофе!
В ответ она протягивает ему чашку.
Худые и безволосые ноги Шелдона, которые торчат из-под бурого фланелевого халата, сохранили форму и мышцы. Годы высушили его, но он по-прежнему мускулист и держится прямо, благодаря этому кажется выше, чем есть на самом деле. Старик шаркает, жалуется и командует, но плечи его расправлены и руки не трясутся, когда он несет кофейную кружку с надписью «Пентхаус», заказанную по каталогу из журнала в далекие семидесятые, судя по изображенной на ней голой девице.
Рея умоляла деда расстаться с кружкой, но безуспешно.
Выйди Шелдон в этом прикиде за пределы квартиры — и его немедленно арестуют. Рея никак не могла понять, почему Ларс согласился приютить у них в доме это жалкое существо, которое Рея так любит.
Хотя ответ, конечно, был очевиден. Она обожает Ларса, его мягкость и теплоту, его сдержанный юмор, спокойный характер, и знает, что он отвечает ей тем же. Его мужественность не видна на публике, но проявляется в интимной обстановке — уютный бурый мишка превращается в хищника.
Рея относит это за счет воспитания мужа, а не только его характера. Словно норвежцы научились управлять необузданным мужским началом и скрывать его на людях, пряча острые углы от постороннего глаза, но раскрывая его щедро и всеобъемлюще в моменты близости. Ларс такой нежный, но при этом — охотник. С детства отец брал его с собой в лес пострелять оленей. У Реи в морозилке хранится годовой запас оленины. Она пыталась, но так и не смогла представить себе, как муж нажимает на спусковой крючок, вспарывает ножом оленю брюхо и потрошит добычу. И тем не менее он это делает.
Но Ларс — больше чем продукт своего общества. Он обладает той глубинной добротой, которой так не хватает самой Рее. У нее нет его способности прощать. Ее эмоции, разум и личность гораздо более переплетены друг с другом и вовлечены в вечный диалог о смысле, форме и содержании. Ею движет потребность высказать и разъяснить, сделать окружающий мир понятным, хотя бы для себя самой.
Оставить все как есть, двигаться дальше, обойти молчанием — не для нее.
Зато все это свойственно Ларсу. Он живет в согласии с человечеством, таким, какое оно есть. Он выражает себя не через поток слов, идей, не через разрушение отношений, не через откровения и нервные срывы, а благодаря неизбывной, постоянной готовности к тому, что произойдет дальше. То, чего Рея достигает волевым усилием, для Ларса — просто жизнь.
Они хотели детей. Правда, только с недавнего времени. Рее нужно было время, чтобы обрести свое место, убедиться в том, что ее американская душа вписывается в норвежскую матрицу. А потом, когда противозачаточные таблетки закончились, она просто не пошла к врачу за новым рецептом.
Она помнит тот день. Это была суббота в декабре — незадолго до Рождества, но после Хануки. Должно быть, один из самых темных дней в году, но их квартиру ярко освещали огни рождественской елки и меноры. Они играли в слова, которые ассоциировались с праздниками детства.
Гвоздика. Корица. Хвоя. Марципан.
— Нет, марципана не было.
— О, здесь у нас много марципана, — сказал Ларс, — в шоколаде.
— Так, теперь чья очередь?
— Твоя.
Бубенцы. Свечи. Пирог. Яблоки. Лыжная мазь…
— Правда? Лыжная мазь? У нас тоже. Здорово!
— Я жульничаю, Ларс.
— Ой.
По три слова за раз. Иногда по четыре. Вот сколько у них было общего. Достаточно, чтобы заводить ребенка.
Рея потягивает кофе с молоком и смотрит на Ларса, читающего первую полосу «Афтенпостен». На ней фотография праздника в Косове, отделяющемся от Сербии, что-то про Брэда Питта и низкоуглеводные диеты.
Нет, она не сказала Ларсу, что хочет забеременеть. В этом не было необходимости. Как будто он и так это знал. А может, в браке ему это и не надо было знать. То, к чему в Нью-Йорке принято относиться как к священнодействию, здесь сопровождалось лишь объятием, при этом его пальцы двигались по ее волосам, собирая их в кулак.
Ларс читает газету как нормальный человек, Шелдон же держит газетный лист на просвет, словно ищет водяные знаки. Рея, как всегда, не может понять, почему он это делает. Пытается привлечь к себе внимание, словно ребенок? Или это от старости? Или же он занят чем-то, что при ближайшем рассмотрении окажется вводящим в заблуждение, безумным и логичным одновременно? Когда все три его ипостаси — личность, состояние и рассуждения — проявляются таким образом, бывает невозможно отделить одно от другого.
Шелдон живет в Норвегии уже третью неделю. Они хотели, чтобы он обрел здесь дом, устроил свою жизнь. Все они понимают, что назад пути нет: Шелдон слишком стар, квартира в Грамерси продана, возвращаться ему некуда.
— Я не попадусь на удочку, — говорит она.
— Что?
Ларс и Шелдон поднимают свои газеты повыше — один прячется, другой провоцирует.
— Говорю тебе, я не попадусь на твою удочку. Мне совершенно неинтересно, почему ты разыскиваешь в газетном тексте код да Винчи.
— Норвежский звучит как английский задом наперед. Я хочу убедиться, также ли ончитается. Проверить это я могу, если поднять газету против света и читать статью, напечатанную на обороте. Но слова на этой стороне загораживают текст на обороте, так что я не могу определить.
Голос Ларса:
— Погода опять будет хорошая.
— Я думаю, нам стоит выйти на улицу. Как насчет прогулки, дед?
— О, разумеется. Они будут очень довольны, не так ли?
— Корейцы?
— Ты произнесла это с особой интонацией. Я слышал.
Рея ставит пустую чашку в раковину, споласкивает пальцы под струей холодной воды и вытирает их об джинсы.
— Мы должны кое-что тебе сообщить.
— Сообщите здесь.
— Я бы предпочла выйти на улицу.
— А я нет. Мне тут хорошо. Еда рядом. Вся эта свинина. Я ей нужен.
— Мы можем выйти через заднюю дверь.
При этом обе газеты резко опускаются.
— Здесь есть задняя дверь? — спрашивает Шелдон.
— Для велосипедов. Про это мало кто знает. Это секрет.
— Приму к сведению.
— Такие мелочи могут спасти жизнь.
— Ты надо мной смеешься. Я знаю, ты смеешься. Я понимаю, что к чему. У меня пока еще крыша на месте. И фамильные драгоценности есть, и кое-что на счету — остатки гонорара за книжку. Мне ведь за восемьдесят. А это что-то да значит.
— Так мы идем на улицу или нет?
— А что происходит у твоих соседей? — Шелдон меняет тему разговора.
— Ты о чем?
— Похоже, что этот фашист бьет жену.
— Мы уже вызывали полицию.
— Так вы тоже это слышали?
— Да.
— У вас есть оружие? Ларс, у тебя есть оружие?
— Не здесь.
— Но оно у тебя есть, так? Я хочу сказать, ты ведь не бегаешь голым по лесу с развевающимися на морском ветру волосами и не бьешься с оленем голыми руками, выставив свою мужественную грудь? Ты ведь не рвешь их зубами? Мягкая бородка, пропитанная кровью? Широкая ухмылка? Тут ведь участвует винтовка, так?
— В летнем домике. Винтовок две — Моисей и Аарон. Заперты в шкафчике за сауной. Одна из них сломана.
— У вас еврейские винтовки?
Ларс улыбается.
— Да нет. Винчестер и ремингтон. Их назвали в честь двух пушек, которые потопили немецкое судно во время войны в Дробаке. Во фьорде.
— У Норвегии есть уничтожающие нацистов еврейские пушки?
— Ну, я никогда в таком ключе об этом не думал.
Брови Шелдона ползут вверх. Он разводит руками, как бы говоря: как еще можно воспринимать две пушки, которые назвали Моисей и Аарон и которые потопили нацистское судно в Норвегии?
— Ну да, у Норвегии есть еврейские пушки, которые убивают нацистов, — идет на попятный Ларс.
— Но здесь-то оружия нет. Моисей и Аарон где-то бродят.
— Они в летнем домике.
— Это ничего. Я уверен, мы сможем победить их в драке на ножах. Ну что балканская мафия может понимать в драках на ножах по сравнению с нами тремя?
— Кстати, домик находится недалеко от шведской границы. Там действовало норвежское сопротивление. Мы называли их «лесными парнями». Отец рассказывал, что дед прятал их у себя в сауне. Многие носили на лацканах канцелярские скрепки. В качестве протеста против оккупантов.
— И операция «Канцелярская скрепка» была эффективной, да? — кивает Шелдон. — Должно быть, она стала последней каплей. Ну кто станет терпеть подобное неповиновение?
— Дед, — встревает в разговор Рея. — Я думаю, тебе нужно принять душ и надеть что-нибудь соответствующее — может, даже нижнее белье, — а за это мы выйдем через задний ход.
Шелдон меняет тему разговора.
— Ты знаешь, почему я ношу эти часы?
— Чтобы знать время? — предполагает Рея, поддаваясь на отвлечение.
— Нет. Для этого подойдут любые. Вопрос в том, почему я ношу именно эти часы. Раньше я носил часы с сердцем твоего отца. Я потом когда-нибудь об этом расскажу. Но, учитывая вашу новость и то, что я собирался переехать в страну синевы и льда, я потратился и купил новые. И знаешь, какие часы я выбрал? Не «Омегу». Не «Ролекс». Я скажу тебе, что я выбрал. Часы марки «Дж. С. Уотч энд Компани». Никогда про такие не слышала? Я тоже. Узнал про них случайно. Их делают в Исландии. На полпути между Старым и Новым Светом. Четверо парней, живущих у подножья вулкана посреди Атлантического океана, пытаются заработать деньжат, изготавливая изысканные и утонченные часы, потому что они любят свое дело. Потому что они понимают, что часовой механизм — это конструктивный и творческий результат инженерного искусства и красоты, противостоящий безжалостной структурной функциональности и формализму. Это как жизнь в ответ на смерть. Мои к тому же — просто загляденье! Посмотри!
— На улицу. Мы идем на улицу.
— У меня нет ключей от дома. Это лишает меня автономности.
— Мы закажем тебе ключи. Ну так что?
— Когда твой отец был ребенком, он принципиально не желал надевать вещи, которые подходят друг другу. Это был акт протеста против отца-диктатора. Тогда мы купили ему «Левайс» — джинсы, названные именем израильского племени, которые волшебным образом сочетаются с любым верхом. С варенками, с клеткой, полоской, камуфляжем. Все можно носить с джинсами «Левайс». Так я перехитрил твоего отца. В результате мы вырастили парня без чувства стиля.
— Я думаю, завтрак окончен.
— Знаешь, он ведь есть в книге.
— Дед, я в курсе.
— И твоя бабушка там есть.
— Знаю.
— И целая куча рассерженных европейцев.
— Угу.
— И собака.
— Точно.
Книга. Эта книга была единственным притязанием Шелдона на славу. В 1955 году, все еще немного потерянный после войны и не слишком стремящийся определить новое место в жизни, Шелдон вдруг решил, что хочет быть фотографом. И как потом выяснилось, весьма преуспел в этом. Задолго до наступления эпохи иллюстрированных книг для журнальных столиков Шелдон решил снимать портреты и отправился в путешествие. К несчастью, имея талант к работе с фотоаппаратом, он был лишен определенных социальных навыков, а это создавало проблемы: чтобы получился портрет, необходимо согласие модели.
Надо отдать должное Шелдону: даже из этого он смог извлечь пользу, изменив согласие модели на несогласие. Для этого у него были все данные. Так родился проект «Портреты несогласных моделей».
К 1956 году Шелдон объехал двенадцать городов в пяти странах и наснимал ни много ни мало шестьсот тринадцать человек, до последней степени разозлившихся на него. Более двухсот снимков были включены в книгу. Остальные лежали в коробках, которые он бережно хранил и никому не показывал. Никто даже и не подозревал, что они вообще существуют, пока Саул случайно не наткнулся на его тайник. И все же Шелдон продолжал прятать их от всех.
В книге были портреты орущих женщин, грозящих кулаком мужчин, рыдающих детей и даже собак, которые набрасывались на него с оскаленными клыками. Полная безыскусного сарказма книга нашла респектабельного издателя и внушительную аудиторию. Называлась она «Что?!»
В кратком интервью журналу «Харперс» его спросили, что он делал, чтобы так разозлить своих моделей.
— Все, что приходило в голову, — ответил он. — Я дергал их за волосы, обижал детей, дразнил собак, выхватывал из рук стаканчики с мороженым, перебивал стариков, уходил из ресторана, не расплатившись, перехватывал перед носом такси, выпендривался, уносил чужой багаж, делал женщинам двусмысленные комплименты, жаловался на официантов, влезал без очереди, сбивал шляпы и никогда никого не ждал в лифте. Это был лучший год в моей жизни.
Саул был на первой странице. Шелдон отобрал у мальчика конфету и начал снимать его со вспышкой, что окончательно рассердило ребенка. Мейбл, бодрая и фотогеничная, — на второй.
У Реи в гостиной лежал экземпляр этой книги. Она показывала ее Ларсу. Их любимым был постановочный портрет по снимку Робера Дуано «Поцелуй у парижской ратуши», напечатанному в журнале «Лайф». Шелдон прочувствовал символичность этого снимка, сделанного в переломный момент истории. В версии Шелдона влюбленные были засняты во время поцелуя. Они держатся за железные перила моста, и женщина швыряет в фотографа винную бутылку. День был яркий, и Шелдон выставил минимальную диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости, благодаря чему почти весь кадр оказался в фокусе. Черно-белый снимок с превосходной композицией запечатлел не только рассерженное лицо женщины — ее рука все еще выпрямлена после броска, лицо искажено, тело чуть наклонено над перилами, словно она сама бросилась на камеру, — но в кадр попала и летящая бутылка (Шато Бешевелль 1948 года, Сен-Жюльен, Бордо). Это была поистине великолепная фотография. А в 1994 году, когда Дуано признал, что его кадр был постановочным, — женщина со снимка захотела получить деньги за сорок лет использования ее образа и подала на фотографа в суд, заставив признать, что он нанял ее, и развеяв миф об оригинальности фото, — Шелдон тогда совсем спятил и объявил себя великим мастером.
«Оригинал оказался подделкой, а подделка — оригиналом!» В 1995 году снимок Шелдона был переиздан, что принесло ему целую неделю славы и возможность покрасоваться на семейных сборищах. Для Шелдона это был момент триумфа!
— Одевайся. Мы идем на прогулку, — говорит Рея.
— Идите. Я вас догоню.
Ларс и Рея переглядываются.
— Дед, мы хотим поговорить с тобой о том, что произошло вчера вечером. Пойдем с нами.
Шелдон смотрит на Ларса, который с невинным видом кладет ломтик селедки на черный хлеб.
— Вы не хотите, чтобы я болтался один. Вам нужно держать меня под контролем. Поэтому вы собираетесь повесить на меня мобильный телефон. Но я отказываюсь от него.
— Мы хотим побыть с тобой.
— Твоя бабка манипулировала мною лучше, чем вы двое. Пока вы не исправитесь, я отказываюсь плясать под вашу дудку.
— Хорошо, ладно, я ухожу. Кто со мной?
Ларс поднимает руку.
— Ларс! Замечательно! Кто-нибудь еще? — она осматривает комнату. — Больше никто не идет?
— У меня кое-какие дела, — замечает Шелдон.
— Какие же?
— Это личное.
— Я тебе не верю.
— Ну и что?
— Погода хорошая, я хочу, чтобы ты погулял.
— Ты знала, что у меня было восемь фотоаппаратов, пока я делал эту книгу? Шесть из них безжалостно разбиты моделями — первой была камера Марио, одну я уронил в Гудзон, еще одну сожрала собака. Мне больше всего понравилось, что пес разозлился на камеру, а не на меня. Вид его пасти изнутри на тридцать седьмой странице. Ну и, разумеется, раз пес нажал на кнопку, права на снимок принадлежат ему.
— Чего ты добиваешься?
— Забавно, что ты считаешь, будто я чего-то добиваюсь.
Она хмурится. Шелдон улыбается. Ларс объявляет, что идет одеваться. Завтрак окончен.
Рея остается с Шелдоном.
— Что с тобой? Я же сказала, что мне надо кое-что тебе сообщить.
— Иди со своим мужем. Поезжайте в летний домик. Займитесь любовью на шкуре. Поешьте вяленой лосятины. Выпейте своего скандинавского самогону, который несколько раз пересек экватор. Двести лет назад евреев изгнали из этой страны. А теперь ты нашла себе хорошего парня, он тебя любит, и у вас будут чудесные детки. Я никуда не денусь, буду вас ждать здесь.
— Порой мне кажется, что внутри тебя живет еще один человек, а другой раз я думаю, что это всего лишь ты.
— Одевайся и иди. Я сам помою свою кружку.
Рея скрестила руки и смотрит на Шелдона, как будто решаясь на что-то. И затем низким от злости голосом произносит:
— У меня был выкидыш.
Дед молчит, но его лицо преображается. Мышцы оживают, и на мгновение она видит его настоящего. Становится заметен его возраст. На губы и лоб ложится печать страшной усталости. Рея тут же сожалеет о сказанном. Ей надо было действовать по уговору с Ларсом. Преподнести эту новость по частям. Подготовить почву.
Шелдон спокойно встает и запахивает халат. И затем идет к себе в комнату и там рыдает, как будто слезы были наготове.
Спустя несколько часов, в два пополудни, Шелдон остается в квартире один. Когда они вновь пригласили его на прогулку, свое нежелание идти он выразил совсем уже иным тоном, однозначно дав им понять, что должен побыть в одиночестве. Так что они ушли.
Надев джинсы, рубашку с воротником на пуговицах и ботинки на шнуровке и вернув себе душевное равновесие, он вытянулся на диване с книжкой Даниэлы Стил.
Наверху опять начался скандал.
Ему и раньше приходилось слышать домашние разборки соседей: сначала они орут друг на друга все громче и громче, что-то швыряют на пол, потом дело доходит до драки и рыданий. Но здесь совсем другое дело — не те модуляции. Нет поочередных выступлений разъяренных участников. Мужчина кричит и кричит, женщина же на этот раз не произносит ни звука.
Но она должна быть там, думает Шелдон.
Нет пауз, как при телефонном разговоре. Обличительная риторика чересчур прямолинейная, явная. Голос звучит как будто совсем рядом.
То обстоятельство, что Шелдон не понимает ни слова, не мешает ему почувствовать посыл. Он достаточно хорошо знает людей, изучил все проявления гнева, чтобы понять, что там на самом деле происходит. В мужском голосе чувствуются злоба и жестокость. Это не просто перебранка. Это начало битвы.
Затем раздается громкий удар.
Шелдон откладывает книжку и садится. Он весь внимание, брови нахмурены.
Нет, это не выстрел. Недостаточно резкий звук. В жизни и во сне он слышал немало выстрелов. Возможно, это грохнула дверь. Потом приближающиеся шаги, быстрые и четкие. Скорее всего, женские. Женщина либо крупная, либо в сапогах, либо несет что-то тяжелое. Она спускается по лестнице. Сначала один пролет, потом, после короткой паузы на лестничной площадке, — второй.
Пока она спускается, Шелдон успевает подойти к входной двери и посмотреть на незнакомку в глазок.
Ага, вот она. Источник, центр и даже причина происходящего. Это молодая женщина, лет тридцати, она стоит прямо перед дверью Шелдона. Стоит так близко, что он может разглядеть ее только по пояс. На ней дешевая кожаная куртка коричневого цвета, темная майка и вульгарная бижутерия, а волосы политы таким количеством лака, что с легкостью преодолевают силу притяжения.
По ней сразу видно, что она с Балкан, сразу понятно, какой образ жизни она ведет. Непонятно только, что она делает в Осло. Но это как раз объясняется практикой предоставления политического убежища. Она, должно быть, из Сербии, или из Косова, или из Албании. А может, румынка. Кто знает?
В первый момент он испытывает жалость. Не к ней, а к обстоятельствам, в которых она оказалась.
На смену жалости приходит воспоминание.
С нами поступали так же, думает он, глядя в глазок. И тогда жалость испаряется, и ее место занимает раздражение — постоянный фон его повседневной жизни и причина резких комментариев.
Европейцы. Почти все они в то или иное время подглядывали в глазки — маленькие рыбьи глазенки смотрели, как их соседи прижимали к груди детей, пока за ними по всему дому гонялись вооруженные бандиты, словно настал день уничтожения человечества. Одни зрители испытывали страх, другие — жалость, третьи кровожадно ликовали. Они все находились в безопасности, потому что не были жертвами — например, евреями.
Женщина оборачивается и что-то высматривает.
Что? Что она хочет увидеть?
Скандал разразился всего лишь одним этажом выше. Разъяренное чудовище будет здесь через секунду. Почему она остановилась? Почему медлит? Что ее держит?
Монстр шурует там и раскидывает вещи в поисках чего-то. Он готов свернуть горы и стены, готов на все, лишь бы получить искомое. В любой момент он может броситься за ней и потребовать то, что ищет.
— Спасайся, дурочка, — бормочет себе под нос Шелдон. — Дуй в полицию и не оглядывайся. Он же убьет тебя.
Наверху раздается громкий удар. Такой же, как раньше. Это распахнули дверь, и она ударилась о стену.
— Беги, тупица, — произносит Шелдон уже вслух. — Ну что ты стоишь как вкопанная?
Тут Шелдон оборачивается и смотрит в окно. Вот и ответ. На улице припаркован белый «мерседес», в котором сидят мужики в дешевых кожаных куртках и курят. Они преграждают ей выход.
Круг замыкается.
Спокойно, медленно, но без колебаний Шелдон открывает дверь.
То, что он видит, сбивает его с толку.
Женщина держит в руках дешевую розовую шкатулку размером с обувную коробку. И она не одна. Ее обхватил маленький мальчик, лет семи или восьми. Он явно напуган. На нем непромокаемая зеленая куртка, синие резиновые сапожки-веллингтоны с нарисованными по бокам мишками. Вельветовые брючки аккуратно заправлены в обувь.
Наверху грохочут шаги. Слышен голос, зовущий по имени: Лора? Клара? Вера, быть может? По крайней мере, имя точно из двух слогов. Выкрикнутое. Отхаркнутое.
Шелдон запускает беглецов в квартиру, прижимая палец к губам.
Вера бросает взгляд наверх, потом выглядывает из двери. На Шелдона она не смотрит. Она не рассуждает над его мотивами и не дает ему шанса передумать, ища в его глазах ответ. Она подталкивает мальчика вперед, вглубь квартиры.
Шелдон очень тихо закрывает дверь. Женщина поднимает на него взгляд, на ее широком славянском лице написан заговорщический ужас. Они сползают вниз по двери и ждут, когда чудовище пройдет мимо.
Шелдон снова прикладывает палец к губам.
— Тсс, — выдыхает он.
Нет больше нужды смотреть в глазок. В этот момент, сидя бок о бок с незнакомкой и ее ребенком, Шелдон перестает быть одним из тех, кого презирал всю жизнь. Он готов выйти с мегафоном на середину футбольного поля и прокричать всему старшему поколению европейцев: «Что в этом, мать вашу, было сложного?»
Но внешне он молчалив. Собран. Спокоен. Старый солдат.
Когда ты крадешься за человеком, чтобы его зарезать, — объяснял шестьдесят лет назад сержант-инструктор, — не смотри на него. Люди чувствуют, когда кто-то пялится им в затылок. Я не знаю, как и почему. Просто не смотри на голову. Смотри на ноги, быстро подходи и действуй. Двигайся все время вперед, не назад. Он не должен узнать о твоем присутствии. Если хочешь, чтобы он умер, убей его. Не вступай с ним в переговоры. Велика вероятность, что у него другие планы.
С этим у Шелдона проблем не было. Он никогда не размышлял, не подвергал сомнению стоящую перед ним задачу, не обсуждал полученное задание. Перед тем как он заблудился и попал на австралийский военный корабль «Батаан», как-то ночью его разбудил Марио де Лука. Марио был из Сан-Франциско. Его родители эмигрировали из Тосканы с целью прикупить земли под виноградник к северу от Сан-Франциско, но почему-то так и застряли в городе, так что Марио попал под призыв. В то время как у Донни глаза были ярко-голубыми, а волосы светлыми, Марио был черноволос и темноглаз, как и подобает сицилийскому рыбаку. А говорил он так, словно ему ввели сыворотку правды.
— Донни? Донни, ты не спишь?
Донни молчал.
— Донни? Донни, ты не спишь?
Минуты шли, он не отступал.
— Донни? Донни, ты не спишь?
— Если я тебе отвечу, мне это не поможет, — отозвался Донни.
— Донни, я не понимаю, зачем нужен этот десант. Я не понимаю, зачем нужна эта война. Я не знаю, чего от нас хотят. Что мы тут вообще делаем?
На Донни была надета неуставная пижама.
— Ты сходишь на берег. Стреляешь в корейцев. Возвращаешься обратно на корабль. Что тут непонятно?
— Середина, — объяснил Марио. — Но теперь, когда я задумался, мне и первая часть непонятна.
— А как насчет третьей части?
— Нет, с третьей все кристально ясно.
— А как же первые две?
— Моя мотивация? В чем моя мотивация?
— В тебя будут стрелять.
— Тогда в чем их мотивация?
— Ты будешь стрелять в них.
— А если я не буду в них стрелять?
— Они все равно будут в тебя стрелять, потому что другие будут стрелять в них, а они не различают нас. Так что ты захочешь их остановить и будешь стрелять в ответ.
— А если я попрошу их не стрелять?
— Они слишком далеко и говорят по-корейски.
— То есть мне нужно подойти поближе и взять с собой переводчика?
— Точно. Но ты не можешь.
— Потому что они в меня стреляют.
— В этом проблема.
— Но это же абсурд!
— Так и есть.
— Этого не может быть!
— Многие вещи одновременно и правильны, и абсурдны.
— Но это ведь тоже абсурд.
— И все-таки…
— Это может быть правильно. Господи, Донни. Я не смогу заснуть всю ночь.
— Если ты не будешь спать, — прошептал тогда Донни, — то завтра не наступит. И виноват в этом будешь ты.
Шаги монстра останавливаются за дверью. Но теперь это не грохочущие и топающие шаги преследователя — теперь он ступает мягко. Озирается в поисках жертв, словно они могут притаиться в тени или за лучом света. На улице громко хлопает дверца машины. Потом другая. Слышна быстрая речь на сербском, или албанском, или каком-то там их языке. Легко представить происходящий разговор.
— Куда они подевались?
— Я думал, они с тобой.
— Они должны были выйти из парадной двери.
— Я ничего не видел.
А дальше, из-за того что они непрофессионалы и из-за того что они идиоты, они набрасываются друг на друга и отвлекаются от главного.
— Это потому, что ты курил и опять думал про ту шлюху.
— Но это ты должен был их привести. Я всего лишь ждал.
И так далее.
Одного звука будет достаточно, чтобы выдать себя. Одного радостного восклицания ребенка, который думает, что все это такая игра, или хныканья — если от неподвижного сидения у него затечет нога. Он может просто испуганно вскрикнуть — что будет даже более естественным, чем рыдать от страха.
Шелдон смотрит на него. Мальчик, как и Шелдон, сидит спиной к двери, подняв колени. Он обхватил их руками и смотрит в пол. Весь его вид говорит о покорности и бесконечном одиночестве. Шелдону тут же становится ясно, что он не впервые оказывается в подобной ситуации. Он будет молчать. В его мире, где правит насилие, иначе нельзя.
Затем перебранка на лестнице заканчивается. Двери «мерседеса» хлопают, заводится мощный мотор. Через пару секунд машина трогается с места.
Шелдон вздыхает, растирает руками лицо, чтобы стимулировать кровообращение, и с силой массирует голову. В его представлении мозг подобен ядру земли, состоящему из расплавленного металла. Тяжелое серое вещество находится в постоянном движении, создавая собственное поле притяжения, оно аккуратно балансирует на шейных позвонках, как Земля балансирует в космосе на спинах черепах.
События, подобные происходящему, имеют тенденцию замедлять течение расплавленного металла или даже запускать процесс вспять, что может привести к ледниковому периоду. Однако обычно легкий массаж возвращает серое вещество в норму.
На этот раз Шелдон закоченел весь.
Он пристально смотрит на своих гостей, все еще сидящих у входа в квартиру. Женщина выглядит еще более болезненно бледной, приземистой и толстой, чем когда он увидел ее в глазок. Тонкая кожаная куртка кажется еще тоньше. Вульгарная майка — еще более вульгарной. Весь ее облик выдает принадлежность к низшему слою балканских иммигрантов. Мужчину за дверью он никогда не видел. Он только может представить себе потного толстяка в китайском адидасовском костюме с белыми лампасами на рукавах и штанинах. Его компаньоны, такие же вонючие и коротко стриженные, скорее всего, одеты в плохо сидящие псевдодизайнерские пиджаки из кожзаменителя поверх темных рубашек с расстегнутыми верхними пуговицами.
Все это настолько безнадежно предсказуемо. Все, кроме мишек на синих сапожках мальчика. Кто-то нарисовал их с любовью и фантазией. Сейчас Шелдон почему-то готов признать, что авторство принадлежит этой невзрачной бабенке, что сидит у него на полу.
Машина уехала, поэтому Шелдон обращается к мальчику:
— Отличные у тебя веллингтоны.
Мальчик поднимает голову и молча смотрит на Шелдона. То ли он не знает, что ответить, то ли вообще не понимает языка. А, собственно, почему он должен знать английский? Если не учитывать, что нынче все говорят по-английски.
Нет, ну правда. Зачем говорить на каком-то другом языке? Из упрямства. Вот зачем.
Шелдону также приходит в голову, что для мальчика спокойный и подбадривающий тон мужского голоса — штука редкая и незнакомая. В его мире все мужчины грубы, да и все мальчишки тоже. Подумав об этом, Шелдон не может не повторить попытку.
— Красивые мишки, — говорит он, показывая на мишек и поднимая вверх большие пальцы.
Мальчик смотрит вниз на сапоги и поворачивает ногу, чтобы увидеть их. Он не может взять в толк, что именно говорит Шелдон, но понимает, о чем идет речь. Он без улыбки смотрит на Шелдона и снова утыкается лицом в согнутый локоть.
Женщина поднимается и начинает что-то быстро говорить. Судя по ее интонациям, она благодарна и извиняется, что в подобных обстоятельствах кажется вполне уместным. Слова звучат невнятно, но Шелдон, слава богу, говорит по-английски, который понимают везде.
— На здоровье. Да. Да-да. Слушайте, я стар, поэтому примите мой совет. Бросайте своего мужа. Он фашист.
Бормотание продолжается. Всем своим видом она вызывает раздражение. У нее выговор, как у русской проститутки. Такая же гнусавая самонадеянность. Такой же поток невыразительных слов. Ни секунды она не тратит на то, чтобы собраться с мыслями или подобрать правильное выражение. Говорит почти без пауз, лишь изредка переводя дыхание.
Шелдон с трудом поднимается, отряхивается и вскидывает руки:
— Не понимаю. Не понимаю. Я даже не уверен, что мне это надо понимать. Просто идите в полицию, а своему сыну купите молочный коктейль.
Но она не прекращает свои излияния.
— Молочный коктейль, — повторяет Шелдон. — В полицию.
Шелдон решает, что женщину зовут Вера. Он видит, как Вера указывает на мальчика, и кивает ей. Она указывает и кивает. Кивает и указывает. Она складывает ладони в молящем жесте. Она крестится, что заставляет Шелдона впервые поднять брови.
— В таком случае, почему бы вам не остаться? Выпейте чаю и переждите часок здесь. Ждать — это разумно. Он может вернуться. Вам не стоит возвращаться к себе в квартиру. Поверьте.
С минуту он размышляет. В украинской части Бруклина было какое-то слово. Да. Чай. Это по-русски. Он делает вид, что отпивает из чашки, и повторяет слово. Чтобы окончательно убедиться, что его правильно понимают, он оттопыривает мизинец и начинает громко прихлебывать.
— Чай. Нацист. Молочный коктейль. Полиция. Мы друг друга поняли?
Вера не реагирует на его пантомиму. В раздражении Шелдон всплескивает руками. Все равно что уговаривать дерево сдвинуться с места.
Она продолжает что-то говорить, мальчик сидит на полу, а Шелдон слышит знакомое урчание немецкого дизельного двигателя — автомобиль медленно выворачивает из-за ближайшего угла.
— Они возвращаются. Нам надо уходить. Быстрее. Может быть, они не такие уж идиоты, как кажется. Давайте. Пошли-пошли-пошли, — показывает он, но когда машина останавливается и ее дверцы хлопают, он понимает, что время деликатничать прошло.
С большим усилием Шелдон наклоняется и поднимает мальчика, поддерживая его под попу, как маленького. У него не хватает сил на то, чтобы свободной рукой ухватить Веру за рукав. Все его силы уходят на мальчика. Чтобы заставить ее шевелиться, у него есть только сила убеждения. Но он знает, что его возможности весьма ограниченны.
— Пужалцда, — говорит он.
Это единственное русское слово, которое он знает.
С мальчиком на руках он направляется к лестнице, ведущей в его комнату.
В дверь начинают долбить.
— Пужалцда, — повторяет он.
Женщина все время говорит, пытается объяснить что-то очень важное. Он не в состоянии понять ее и поэтому принимает решение, которое бы принял солдат, — простое и безупречно логичное.
— Я тебя не понимаю и не собираюсь этого делать. У входа стоит человек, настроенный весьма решительно. Поэтому я ухожу через заднюю дверь. Пацан со мной. Если ты пойдешь с нами, тебе же будет лучше. Если остаешься — дальше спасайся сама. Всё, мы уходим.
Шелдон заходит в свою спальню, минует ванную и стенной шкаф справа. За книжным стеллажом висит персидский ковер, прикрывающий заднюю дверь. Шелдон знал о ее существовании все три недели — а не с сегодняшнего утра. Он просто не захотел говорить Рее, что обнаружил запасной выход в первый же день.
Думайте, как хотите, но все же полезно знать все входы и выходы. Может пригодиться.
Локтем он отодвигает ковер в сторону и видит дверь.
— Так, вот она. Мы уходим. Сейчас.
Во входную дверь уже не просто стучат, а колотят ботинком. Монстр бьет по тому месту, где хлипкий засов удерживает пятидесятилетнюю высохшую деревянную дверь.
Дело нескольких минут.
Проблема в том, что дверь, которую пытается открыть Шелдон, удерживая на руках мальчика, не поддается.
— Дура, иди сюда, — приказывает он Вере. — Помоги мне, черт тебя побери!
Но вместо этого она лезет под кровать.
Она что, хочет там спрятаться? Но это же безумие. Зачем прятаться, когда можно убежать?
Выбора не остается. Шелдон ставит мальчика на пол и пытается победить замок. Оказавшись на полу, мальчишка тут же бежит к матери.
В этот момент входная дверь не выдерживает.
Она с размаху ударяется о стену. И хотя со своего места Шелдон не может ее видеть, он слышит, как трещит дерево и что-то металлическое клацает по полу.
Теперь Шелдон пытается сосредоточиться.
— Паника — это враг, — говорил штаб-сержант О’Каллахан в 1950 году. — Запаниковать — это не то же самое, что испугаться. Боятся все. Это механизм выживания. Страх сообщает вам, что что-то пошло не так, он привлекает ваше внимание. Паника — это когда страх завладевает сознанием, и человек уже больше ни на что не способен. Если запаникуете в воде — утонете. Если запаникуете в бою, вас пристрелят. Если запаникует снайпер, его позиция будет обнаружена, он промахнется и провалит задание. Паникера возненавидит отец, мать перестанет обращать на него внимание, и все женщины в мире будут чуять исходящую от него вонь поражения. Итак, рядовой Горовиц! Какой урок вы извлекли из моих слов?
— Погодите минутку. Ответ просто вертится у меня на языке.
Шелдон концентрируется на замке. Снимает цепочку, потом открывает засов. Чтобы справиться с защелкой, он наваливается всем телом и очень надеется, что петли не заскрипят.
Ступеньки, ведущие в комнату Шелдона, из кухни разглядишь не сразу. К общей комнате примыкают еще две спальни, если повезет — преследователь сначала будет искать там и лишь потом обнаружит лестницу.
Теперь это вопрос нескольких секунд.
Шелдон держит мальчика за плечи, пока его мать выбирается из-под кровати. Потом они втроем молча смотрят друг на друга, замерев перед финальным броском.
Воцаряется тишина.
Вера стоит в проходе, ведущем наверх, озаренная лучами летнего норвежского солнца, и на какой-то миг становится похожа на мадонну с картины эпохи Ренессанса. Вечная и возлюбленная.
И тут раздаются тяжелые шаги.
Вера слышит их. Она распахивает глаза и затем — тихо и медленно — толкает мальчика к Шелдону, пытается что-то беззвучно объяснить, поворачивается. И, пока чудовище не успело преодолеть три ступеньки, Вера решительно идет наверх и всем телом бросается на него.
Мальчик шагает вслед за матерью, но Шелдон удерживает его. Свободной рукой он еще раз пытается толкнуть заднюю дверь, но она не поддается. Они в ловушке.
Опустив ковер на прежнее место, Шелдон открывает стенной шкаф и толкает туда мальчика. Он подносит к губам палец, делая знак молчать. Взгляд у него такой суровый, а парень так напуган, что не издает ни звука.
Сверху доносятся крики, слышно тяжелое падение тела и треск ломаемой мебели. Там творится что-то ужасное.
Шелдон должен вмешаться. Возле камина лежит кочерга — надо схватить ее, размахнуться со всех сил и вонзить острие чудовищу прямо в основание черепа. И встать над обмякшим на полу безжизненным телом.
Но он никуда не идет.
Удерживая пальцами край двери, он закрывает ее как можно плотнее.
Сверху доносятся хрипы — женщину душат. И в этот момент шкаф наполняет запах мочи. Старик притягивает мальчишку к груди, прижимает губы к его голове и закрывает ладонями уши.
— Мне так жаль. Так жаль. Но это все, что я могу сделать. Мне очень жаль.
Глава 3
Сигрид Одегард прослужила в полиции Осло больше восемнадцати лет, пройдя углубленный курс криминологии в местном университете. Переехать в столицу ее убедил отец, потому что, по его мнению, «в большом городе больше шансов найти подходящего мужчину».
Как это часто случается и в полицейской работе, и в жизни, теория ее отца оказалась правильной, но бесполезной.
— Папа, вопрос не в количестве подходящих мужчин, а в том, кто из них заинтересуется мною. — Это Сигрид сказала своему овдовевшему отцу еще в 1989 году, отправляясь в Осло.
Отец был фермером и всю жизнь прожил в сельской местности. Не имея диплома, он, тем не менее, неплохо разбирался в бухгалтерии, что очень помогло ему в организации работы на ферме. Он также увлекался чтением исторических книг: не считая, что изучает историю, так как у него не было наставника, он просто получал удовольствие от чтения, интересовался давно минувшими временами и обладал отличной памятью. Все это пошло им с Сигрид на пользу. Кроме того, он обладал уравновешенным характером и умел приводить разумные аргументы, что было очень полезно, когда эмоции Сигрид били через край.
— Если твои доводы верны, — резонно рассуждал он за неспешным ужином, состоявшим из лосося, вареного картофеля и пива, — тогда дело вовсе не в соотношении, а в теории вероятностей. Какова вероятность наличия мужчины, достаточно наблюдательного, для того чтобы заметить твою привлекательность и доступность? И опять же, я придерживаюсь мнения, что подобный молодой человек скорее найдется в большом городе.
— Это не такой уж большой город, — заметила Сигрид.
Отец надрезал слои розовой лососины, чтобы определить, хорошо ли они приготовились. Слои отходили с легкостью.
— Это самый большой из всех доступных, — предположил он.
— Пожалуй, да, — пробормотала она и потянулась за сливочным маслом.
Старший брат Сигрид переехал в Америку, где ему предложили место в компании, торговавшей сельскохозяйственной техникой. Предложение было хорошим, и отец настоял на том, чтобы тот его принял. И хотя брат Сигрид поддерживал связь с отцом и сестрой, он почти никогда не приезжал домой. Так что теперь семьей были они двое. И еще животные.
— Согласна с твоим доводом насчет города, но остаются еще две проблемы, — сказала она.
— Да? — отец лишь слегка повысил голос, чтобы обозначить вопрос.
— Первая: я некрасивая. Я простушка. Вторая: узнать, заинтересовался ли тобой норвежский мужчина, почти невозможно.
К этому выводу она пришла эмпирическим путем — наблюдая и сравнивая.
В частности, однажды она познакомилась с британцем по имени Майлс. Он был так напорист в своих приставаниях, что алкоголь мог повлиять лишь на его цель, но не на поведение.
Она также знала одного немца, он был милый, нежный и умный. Единственным его недостатком было то, что он немец. Сигрид сознавала несправедливость подобного повода для прекращения отношений, ей было от этого не по себе, но она не горела желанием ежегодно ездить на Рождество в Ганновер. Впрочем, парень тоже не проявлял большой настойчивости в отношениях.
В отличие от всех остальных, норвежские мужчины представляют проблему даже для своих соотечественниц, у которых, по идее, самый сильный мотив расшифровать их код поведения, хотя бы потому что они живут рядом.
— Они вежливы, — объясняла Сигрид. — Порой остроумны. Независимо от возраста, они одеваются как подростки, и сказать что-нибудь романтическое способны только в очень сильном подпитии.
— Так напои кого-нибудь из них!
— Я не думаю, что это удачное начало для долгих отношений, папа.
— Ничто не может продолжиться, пока не начнется. О том, что произойдет дальше, будешь думать после.
Сигрид скривила губы, и у отца опустились плечи.
— Дочь, это совсем нетрудно. Ищи мужчину, который в твоем присутствии особенно пристально разглядывает собственные ботинки. Мужчину, которому с трудом удается связать два слова, когда он к тебе обращается. Вот кто тебе нужен. И поверь мне, он будет тебя любить, и ты будешь права в спорах. В конечном счете, это залог долгих отношений, в чем, очевидно, и состоит твоя цель.
— Знаешь, пап, в Осло люди такие многословные.
— Ну да, — согласился он. — Мир вообще непростая штука.
Отец допил второй бокал пива и расслабился, закуривая тяжелую вересковую трубку, которую ловко зажег длинной спичкой.
— Итак, — спросил он, — чем ты займешься после университета?
— Я буду бороться с преступностью, — широко улыбнулась она.
— Это достойно, — одобрительно кивнул отец.
Сигрид специализировалась на организованной преступности. Традиционно сюда включали наркотики, оружие, торговлю людьми и разнообразный набор экономических и корпоративных преступлений, хотя в Управлении полиции Осло удручающе не хватало сотрудников для противостояния преступлениям белых воротничков. В те времена, когда она начинала карьеру, организованная преступность была более беспринципной и менее глобальной, чем теперь. Преступники, как правило, не были связаны с мировыми криминальными сетями и террористами. В последние годы, когда европейские границы почти исчезли, а на Балканах, Ближнем Востоке и в Афганистане разгорелись войны, организованная преступность стала все больше походить на ту, что изображали в американских сериалах, которые она часто смотрела одинокими вечерами после работы.
Сигрид исполнилось сорок лет, и недавно ее повысили до должности старшего инспектора районной полиции. Она прошла весь трудный путь от констебля до сержанта, потом до инспектора, а теперь и до старшего инспектора. Не будучи карьеристкой, Сигрид не особенно стремилась занять этот пост, но он давал возможность наблюдать более широкий спектр преступлений, совершавшихся в городе, и она могла отслеживать изменения в целом, что давало более общую картину происходящего. В душе она понимала, что достигла потолка в карьере, но была благодарна, что смогла реализовать свой потенциал без излишнего напряжения и разочарований.
С этого дня, подумала Сигрид, я буду просто работать, вкладывая в это все свои оставшиеся силы.
Будучи профессионалом, она полагалась на помощь квалифицированных и относящихся к ней с уважением мужчин своего подразделения, которые понимали, что ее больше всего привлекают необычные происшествия. Каждый из них прилагал усилия, чтобы представить ее вниманию наиболее интересные дела, и никто не старался в этом преуспеть больше, чем Петтер Хансен. Тридцатишестилетний Петтер — моложавый, с гладкой как у юнца кожей — наметанным глазом коллекционера антиквариата умел отыскать для нее что-то из ряда вон выходящее.
В последние годы его задача облегчилась, так как Осло перестал быть тем сонным городом, каким некогда был. Теперь здесь происходили изнасилования, грабежи, вооруженные захваты, домашние скандалы, а также возросло количество молодых людей, не питавших уважения к полиции. Поток иммигрантов из Африки, Восточной Европы и азиатских стран создавал социальную напряженность, на которую город еще не был готов ответить адекватно. Либералы отстаивали безграничную толерантность, консерваторы придерживались расистских, ксенофобских методов, все были готовы обсуждать ситуацию с философских позиций, но никто не желал снизойти до конкретных фактов. И поэтому пока еще не был дан ясный и четкий ответ на вопрос, который навис над всей европейской цивилизацией: насколько толерантными должны мы быть в отношении нетолерантности?
Сигрид кладет недоеденный сэндвич на коричневый бумажный пакет, в котором тот хранился всю ночь, и поднимает взгляд на Петтера, приближающегося к ее столу с улыбкой человека, только что откопавшего еще одно сокровище.
— Привет, — говорит она.
— Привет, — отвечает он.
— Что-то принес?
— Да, — кивает он.
— Молодец.
— Нечто ужасное, — обещает Петтер.
— Хорошо.
— Но необычное.
— Начни с ужасного.
— Произошло убийство. Женщина лет тридцати, в Тойене. Ее несколько раз пырнули ножом, а потом задушили. Мы уже оцепили место преступления. Приступаем к работе.
— Когда это произошло?
— Мне сообщили двадцать минут назад. Пять минут спустя мы прибыли на место. Кто-то в здании услышал шум драки и вызвал полицию.
— Понятно. А что необычного?
— Вот это, — Петтер протягивает Сигрид записку, написанную по-английски. Во всяком случае, вроде бы на английском. Сигрид внимательно читает и перечитывает ее несколько раз.
— Ты знаешь, что это значит?
— Нет, — отвечает Петтер. — Но тут орфографические ошибки.
— Да.
— Я позвонил владельцу квартиры. Убитая женщина там не жила. Она жила этажом выше, с сыном. Сын пропал. Владельца квартиры зовут Ларс Бьорнссон.
— Наш клиент?
— Он разрабатывает компьютерные игры. Классные, между прочим.
— Тебе уже тридцать шесть, Петтер.
— Это очень сложные игры.
— Ясно.
— Он у нас в четвертой комнате. Они сразу приехали. Жена Ларса говорит, что из квартиры пропал ее дед.
— Он там живет?
— Э, да. Американец. На пенсии.
— Понятно. Они подозреваемые?
— Ну, понимаешь, надо установить их алиби, но я не думаю, что они причастны. Сама увидишь, — Петтер выпячивает губы и произносит: — Ну что, пойдем?
Сигрид осматривает себя — надо убедиться, что она не испачкала свою голубую рубашку, пока ела сэндвич. Довольная осмотром, она встает и следует за Петтером по коридору мимо хитроумной геоинформационной системы, на которой отражается, в какой точке города находится в данный момент каждая из полицейских машин. Мимо кофеварки, которая так давно сломалась, что кто-то, возможно Стина, поставил в кофейный кувшин цветы, и теперь его используют как вазу.
В комнате номер четыре стоят круглый деревянный стол и пять офисных стульев. Нет никакого двустороннего зеркала, и стулья не скрежещут, когда их двигают во время допроса. Зато есть коробка с салфетками и бутылки с водой «Фаррис». Окно на дальней стене заперто, но не зарешечено. Напротив окна на стене висит плакат Норвежской оленьей полиции, он изображает женщину-полицейского на снегоходе, которая разговаривает с двумя охотниками-саамами. Сигрид почему-то кажется, что женщина из полиции спрашивает у них дорогу.
За столом сидит пара. Мужчина — норвежец, а женщина — нет. Он — высокий блондин с мальчишеским выражением лица. У нее черные волосы и необычные темно-синие глаза. Оба мрачно смотрят, как Сигрид и следующий за ней Петтер входят в комнату.
Полицейские садятся за стол. Петтер говорит по-английски:
— Это старший инспектор Одегард.
Рея по-английски отвечает:
— Нам сказали, что у нас в квартире убили женщину.
— Да-да, — Кивает Сигрид. — Именно об этом мы и хотели бы с вами поговорить.
— И часто такое случается?
— Да нет. Не особенно.
— Но вы, похоже, не очень удивлены, — комментирует Рея.
— А какой в этом смысл? Итак, Петтер сообщил вам об этом. Вы ее знали?
Ларс и Рея оба кивают.
Сигрид отмечает, что говорит только женщина.
— Они с сыном жили над нами. Мы почти не общались. Мне кажется, она откуда-то из Восточной Европы. Они довольно часто ругались с тем мужчиной.
— С каким?
— Да я не знаю. Но в последнее время он приходил часто. Они говорили на непонятном языке. Он был очень груб.
Сигрид делает пометки, Петтер тоже. Кроме того, беседа записывается.
— Что она делала в вашей квартире?
— Не имею понятия.
— Дверь была выбита, — сообщает Петтер.
— Вот как? Интересно, — реагирует Сигрид. — Такая миниатюрная женщина. Вряд ли ей это было под силу.
Петтер кивает головой:
— По всей двери отпечатки мужских ботинок большого размера.
— Таким образом, она находилась у вас в квартире, когда та была заперта. У нее были ключи?
— Нет, — отвечает Рея.
— Вы обычно запираете дверь, когда уходите?
— Да, но там оставался мой дед. Шелдон Горовиц.
— Так, — говорит Сигрид. — Хотите мне что-нибудь о нем сообщить?
И Рея начинает рассказывать невероятную историю. Пропал ее дед, переехавший сюда из Нью-Йорка, города, где он вырос в 30-е годы. Она цитирует Э. Б. Уайта[3]. Потом началась война, старшие ребята уходили на фронт сражаться с нацистами, а Шелдон оставался дома, потому что был слишком юн. Многие из этих ребят не вернулись с войны. Рассказывает о своей бабушке Мейбл и о том, как дед за ней ухаживал. А потом он записался в морпехи и служил писарем в Пусане, хотя в последнее время начал рассказывать совсем другие истории.
Потом у Шелдона и Мейбл родился сын Саул, который часами сидел в антикварно-часовой лавке отца, где при помощи отвертки пытливо разбирал разные предметы, созданные между 1810 и 1940 годами, чтобы посмотреть, что у них внутри, после чего спасался бегством.
Саул погиб во Вьетнаме, все друзья Шелдона умерли от старости, умерла и Мейбл. Жизненные неурядицы навалились на деда, и Рея уговорила его переехать в Осло, на северную границу западной цивилизации. Ее попытка разделить с дедом его последние годы оказалась неудачной. Она объясняет, чего он боится. А теперь в ее доме происходит нечто невообразимое, и старик исчезает.
В рассказе Реи сквозит искренняя любовь и нежность. А когда речь заходит о событиях последних часов — тревога и беспокойство.
— Вы меня понимаете? — задает она вопрос Сигрид в конце своего длинного повествования.
— Восьмидесятидвухлетний американский снайпер, страдающий старческой деменцией, которого якобы преследуют по всей Норвегии корейские наемные убийцы, исчезает с места преступления. До или после его совершения, — подводит Сигрид итог услышанному.
Рея хмурит брови:
— Не думаю, что я бы сформулировала это именно так.
— Что я пропустила? — интересуется Сигрид, заглядывая в свои записи.
— Ну… он еврей.
Сигрид кивает и записывает это в блокнот. Потом поднимает голову.
— Это очень важно, — говорит Рея. — Это обстоятельство предопределяет все остальное. Гораздо важнее цвета плаща, в который он был одет.
— Чем же это так важно?
— Ну, — Рея подбирает слова, чтобы лучше объяснить. — Он не местный. Мой дед — еврей. Его зовут Шелдон Горовиц. Горовиц, вы слышите? А теперь он потерялся… В чужой стране… У него деменция. Он, должно быть, что-то увидел. Может быть, что-то произошло.
Сигрид не понимает ровным счетом ничего из того, что говорит Рея, но она озадачена этим совершенно новым для нее и явно очень важным обстоятельством. Она мало что знает о евреях. Во всей Норвегии их живет, может, с тысячу. Для нее это просто иностранное имя.
Как бы то ни было, Сигрид ценит, что Рея пытается растолковать нечто, что она считает очевидным. Поэтому после первой неудачной попытки она расстроена и колеблется. И хотя ей еще нужно обсудить это с Петтером, Сигрид чувствует, что ни эта женщина, ни ее муж не имеют отношения к преступлению.
Рея, которая сидит напротив Сигрид, видит по ее лицу, насколько непонятно норвежцам пережитое евреями. И Рея начинает испытывать вину за то, что перевезла деда сюда.
Она вдруг вспоминает одну из давних дискуссий с Шелдоном за завтраком. Старик бурно протестовал против идеи переезда и подкреплял свои доводы размахиванием кружкой, поэтому в голове у Реи навсегда соединились норвежско-еврейская история и подретушированные голые модели из «Пентхауса».
Кстати, Шелдону, узнай он, это бы очень даже понравилось.
— Тысяча евреев! — воскликнул Шелдон. — Я это вычитал в туристическом гиде «Одинокая планета». На пять миллионов населения всего одна тысяча евреев. Норвежцы не знают, что значит «еврей». Они только думают, что знают, что еврей не значит.
То, что Шелдон выдал дальше, расстроило ее, потому что это было произнесено в присутствии Ларса, который женился на еврейке и был очень привязан к Шелдону. Когда после всего Ларс посмотрел на нее, она просто уставилась в пол.
— Норвежцев учили, что евреи — не жадная, двуличная, слабовольная, трусливая нация. Они не беспомощные, похотливые и лживые интриганы. У них нет горбатых носов, костлявых пальцев и порочных стремлений. Они не разрабатывают тайных планов, не плетут секретных заговоров с тем, чтоб мир провалился в тартарары, — разглагольствовал Шелдон. — Норвежцев учили быть толерантными, старались вымыть из их мозгов страшную нацистскую пропаганду. Но дело в том, что портрет нации все равно получился не очень милый. С таким человеком не тянет бежать на свидание, правда?
— Поэтому, живя здесь — или где-то еще, неважно — в течение трех тысяч лет, все, о чем они думают при слове «еврей», — это Холокост или израильско-палестинский тупик. Проблема в том, что нигде в этой извращенной и ограниченной истории нет места для Шелдона Горовица или задумчивой маленькой сирены вроде тебя. И нет трех тысяч лет истории, философии, литературы, проповедования, прелюбодеяний или потрясающего юмора, черт побери!
— Не переживай, — добавил он, обращаясь к Ларсу, — то же самое говорят везде в Европе.
И вот что он сказал дальше, для своего же блага опустив кружку на стол: Посмотри на кладбища в Северной Франции. Посмотри, Европа. И ты увидишь могилы евреев, которые высадились на твоих берегах. Тут рядом. Тут, в гнетущем молчании Европы, растратившей музыку еврейских идей. Там, где мы были вашими жертвами. Посмотри внимательно, потому что мы пришли из Америки, пятьсот тысяч сынов Давида, сражавшихся под флагом «Старой славы» против апокалипсиса западной цивилизации.
Крепко усвой этот урок, Европа: пока вы убивали нас, мы вас спасали.
Но не Шелдон. Он не был на той войне. Он был слишком молод.
— Я хочу сказать, — поясняет Рея для Сигрид, — что это замечательный старик, у которого к концу долгой и трудной жизни поехала крыша, и он сбежал.
Сигрид кивает. Ларс и Петтер хранят молчание. Сигрид снова смотрит в свои заметки и говорит:
— Я бы хотела вернуться к его деменции.
— Да, давайте.
Сигрид замечает, как изменилось выражение лица Ларса, но не понимает, что это значит.
— Недавно умерла моя бабушка, — объясняет Рея. — С тех пор Шелдон как-то потерялся. Они были необычайно близки. Перед смертью она сказала мне, что он страдает деменцией, и посоветовала присматривать за ним и следить за его поведением.
— Это произошло в Нью-Йорке.
— Да. Я изучила симптомы на сайте Американских институтов здравоохранения.
В этот момент, впервые за все время, Ларс фыркает.
— Что такое? — спрашивает Рея.
— Ты должна признать, что твой дед опроверг все симптомы.
Ларс намекает на разговор, который произошел три недели назад рядом со станцией «Вестбанен» около Акер-Брюгге на променаде в бухте Осло. Весь район перестраивали. Туристическое справочное бюро убрали из здания старой железнодорожной станции и на его месте теперь был Музей Нобелевской премии мира. Они сидели «У Паскаля», где подают роскошные пирожные и до нелепости дорогое мороженое в жалких пластиковых стаканчиках. На причале около крепости Акерсхус бросил якорь огромный океанский лайнер, и от него двигалась толпа голодных великанов с фотоаппаратами.
При виде проголодавшихся туристов Шелдон придвинул поближе двенадцатидолларовый стаканчик с мороженым.
— Дед, я только хочу сказать, что существует пять симптомов, которые нам следует иметь в виду, — она читала по бумажке и старалась говорить самым участливым тоном, на который была способна. — Во-первых, человек иногда задает одни и те же вопросы по нескольку раз. Во-вторых, он не может найти дорогу в знакомых местах. В-третьих, не способен следовать инструкциям. В-четвертых, он может путать время, людей и места. В-пятых, порой он пренебрегает личной безопасностью, гигиеной и питанием.
Было субботнее утро, весна уступала место длинным дням роскошного норвежского лета.
Шелдон кивал, слушая ее. Потом поводил двумя пальцами по стенкам пивного бокала, собирая выступившую влагу. Прикрыл глаза и провел мокрыми пальцами по векам.
— Ты когда-нибудь так делала? Очень приятно!
— Дед!
— Что?
— Почему ты всегда заказываешь пиво, если ты его не пьешь?
— Мне цвет нравится, — ответил он, не открывая глаз.
— Что ты думаешь о том, что я сейчас сказала?
— Ну да.
— Ты помнишь вопрос?
Это его спровоцировало. Шелдон повернулся к внимательно слушавшему их разговор Ларсу:
— Смотри. Номер один. Вынуждая людей повторить вопрос, заставляешь их задуматься, что они хотят узнать. Если ты не готов повторить свой вопрос трижды, тогда тебе не очень-то нужен ответ на него. Номер два: вы привезли меня в Норвегию. Здесь все мне незнакомо. То есть я не могу заблудиться в знакомом месте. Я могу заблудиться тут везде. Номер три: я не понимаю по-норвежски, так что я не могу следовать инструкциям. Если бы я понимал… вот тогда это была бы деменция. Номер четыре: я не знаю ни одного обладающего самосознанием человека, который, после минутного размышления, не признал бы, что иногда путает время, людей и места. На самом деле, что еще, кроме времени, людей и мест, можно путать? А что касается последнего пункта, я скажу следующее. Я не имею понятия, что значит пренебрегать собственной безопасностью. Как это можно измерить? При каких обстоятельствах? Кто это определяет? Я плыл на рассвете в Желтом море под градом трассирующих пуль, с поднятой головой. Пренебрегал ли я своей безопасностью? Я женился на женщине и прожил с ней всю ее жизнь. Это безопасно? Теперь про личную гигиену. Я чищу зубы и принимаю душ каждый день. А питание? Мне восемьдесят два, и я до сих пор жив. Ну как, Ларс?
— Лучше не скажешь, Шелдон.
Рея помнит этот эпизод. Но сейчас, в присутствии Сигрид, она отвечает Ларсу:
— Он излагал ясно. У него есть талант излагать логично. Он просто работал на публику.
— На меня это подействовало, — пожимает плечами Ларс.
— Хорошо, может, у него и нет деменции как таковой. Но он странный. Ну правда, странный. Он все больше общается с умершими.
При этих словах она как будто смутилась. Что бы ни происходило в усталом мозгу деда, это все очень сложно. Оно появляется и исчезает. Но она знает, что с Шелдоном не все в порядке. Что смерть Мейбл основательно подкосила его. Он потерял точку опоры. Больше ей нечего добавить.
Сигрид слушает, а потом обращается к Ларсу по-английски:
— То есть вы не считаете, что это слабоумие?
Ларс стучит пальцем по столу. Он не хочет противоречить Рее. Не при посторонних. Не в том, что касается ее родных. Но в нем говорит чувство долга и справедливости. Перед тем как ответить, он прикидывает, как сделать так, чтобы Рея сама признала его правоту.
— Рея сообщила ему кое-что сегодня утром. Это не могло не повлиять на него.
Сигрид поворачивается к Рее и ждет.
— Прошлой ночью у меня был выкидыш. Но меня отпустили домой из больницы. Это был первый триместр. Утром я рассказала об этом деду.
Тут вмешивается Петтер:
— Сожалею, — говорит он.
Рея кивает. Она не хочет становиться центром внимания.
— Не то чтобы мы не были к этому готовы. Но Шелдон точно не был готов, — замечает Ларс.
Рея молчит, поэтому он продолжает:
— Я не думаю, что это деменция. Шелдон пережил всех, кого он знал, включая сына и жену. Мне кажется, что он переехал в Норвегию из-за нашего будущего ребенка. Ради возможности увидеть, что жизнь продолжается. Но ребенка мы потеряли.
— А чем вы объясняете его поведение? — спрашивает Сигрид Ларса.
— Полагаю, чувством вины. Его мучает чувство вины от того, что он их всех пережил. Прежде всего своего сына Саула — отца Реи. Возможно, также старших товарищей, погибших во Вторую мировую. Своего двоюродного брата Эйба. Жертв Холокоста. Сослуживцев по Корее. Жену. Этого ребенка. Я думаю, он не в состоянии пережить еще больше. Теперь что касается корейцев. Я знаю, что есть сомнения по поводу его участия в боевых действиях, но я уверен, что он в них участвовал, потому что корейцы мерещатся ему за деревьями. Не думаю, что это корейцы вообще. Речь идет о людях, которых он убил, и он сожалеет об этом. Даже при том, что это произошло на войне.
Рея с ним не согласна:
— Мой дед не испытывает чувства вины из-за того, что пережил Холокост. Поверьте мне. Если он о чем и сожалеет, так это о том, что не прибавил себе годов и не попал на войну бить нацистов.
— Но ему было всего четырнадцать, когда Америка вступила в войну. Он был ребенком.
— Ты что, не знаешь его?
Сигрид продолжает писать в блокноте, добавляя заметки к своим соображениям по поводу Ларса и Реи и времени исчезновения Шелдона.
Осталась последняя деталь.
— Как вы объясните вот это? — спрашивает Сигрид, вручая Рее записку, найденную на месте преступления.
— Это написал мой дед.
— И о чем, по-вашему, в ней говорится?
— Ну, — замечает Рея, — важно не столько то, о чем в ней говорится, сколько что это означает.
— Да. Хорошо.
— Вот почему мы с Ларсом расходимся во мнении по поводу диагноза Шелдона.
Сигрид забирает записку и читает ее вслух, как может, не зная, как ее правильно прочесть:
Прикидываю, что пора линять с Территории, так как они собираются принять меня и сивилизовать, не могу этого позволить. Это уже было.
Речные крысы 59-й параллели
— Что это значит? — спрашивает Сигрид.
— Я не знаю, — отвечает Рея.
Глава 4
Шелдон не видел, как его сын погиб во Вьетнаме. Но он снова и снова представлял себе это. Много ночей подряд он видел во сне, как все происходило. Мейбл будила его:
— Тебе что-то снится, — говорила она.
— Нет, на сон это не похоже.
— Тогда кошмары. Это кошмары.
— Да нет, не совсем. Как будто я там нахожусь. В лодке вместе с ним. Патрулирую Меконг. Ночью поднимаюсь вверх по притоку. Я ощущаю вкус кофе. Ноги зудят.
Мейбл исполнилось сорок пять. Она имела привычку спать обнаженной, если не считать обручального кольца и маленького бриллиантового кулона на тонкой цепочке из белого золота. Кулон она сделала из кольца, которое Шелдон подарил ей, когда они обручились в 1951 году, и она никогда его не снимала.
Мейбл без труда просыпалась среди ночи. Его приступы страха не беспокоили ее. Двадцать три года назад, когда Саула мучили колики, он не давал ей заснуть по ночам. С тех пор она привыкла спать мало. После смерти Саула это больше не имело значения.
Сон начал сниться Шелдону летом 1975 года. Саула уже похоронили. Мейбл лежала на белой простыне. Она была миниатюрной, с шикарной фигурой, и любила со сна потянуться, вытянув ноги, выгибая спину и напрягая пальцы рук, пока все тело не начинало покалывать. Она сохраняла это положение какое-то время и расслаблялась, когда мышцы начинало сводить…
Донни тоже лежал голый на простыне. Стояла испепеляющая жара. Кондиционера у них не было. Под потолком медленно вращал лопастями древний вентилятор, который выглядел так, будто его привезли из колониальной Кении. Он перегонял горячий воздух вниз.
Мейбл включила ночник.
Тот их разговор еще не состоялся. Донни пока не задал жене тревоживший его вопрос. До этой ночи он еще был готов к тому, чтобы все так и продолжалось. Чтобы он вставал по утрам, шел в часовую мастерскую, надевал окуляр, заменял пружинку, смазывал колесики, ставил новую ось и новую заводную головку. Съедал сэндвич. Приходил домой. Разговаривал ни о чем. Читал газету. Выпивал. Шел спать. День за днем, позволяя времени совершать свой ход, пока он сам чинит приборы, отмеряющие его.
Но той ночью 1975 года все изменилось. И невозможно было понять, что именно произошло. Может, это случилось из-за жары: находясь в Нью-Йорке, в Нижнем Ист-Сайде, он представлял себе вьетнамскую жару, которая пропитывала потом простыни.
А может, он больше не мог держать все это в себе, и независимо от возможных последствий надо было поговорить.
Когда она взяла его за руку и вздохнула, Донни спросил:
— Почему ты до сих пор со мной? Почему ты не бросила меня?
Он запомнил, что голос у него при этом был спокойный. Искренний. Извлеченный из подземных глубин человечности, тихий и ровный, звучащий в наших коллективных душах.
Мейбл долго молчала, прежде чем ответить. Он смотрел, как сгибаются и разгибаются пальцы ее ног с ярким педикюром. У нее был великолепный высокий подъем.
— Знаешь, о чем я думала? — сказала она.
— О чем?
— Я думала об этих двух космических кораблях, которые только что нашли друг друга в полной пустоте.
— Не понимаю, о чем ты.
Она повернулась к нему и нахмурилась:
— Ты что, новости не смотришь?
— Последнее время я не поднимал головы.
— «Аполлон» и русский корабль. «Союз». Два дня назад они состыковались. Там, в полной темноте. В этой абсолютной тишине они соединились. Я думаю, каково это было — услышать звук стыковки. Ты паришь. В невесомости. И неожиданно слышишь, как о борт твоего корабля звякает металл. Твой враг протягивает руку в космической перчатке и ты пожимаешь ее. Забыв, наконец, обо всех противоречиях. Я, бывало, испытывала подобное чувство. Это как… вновь почувствовать запах из своего прошлого, и сразу старый мир врывается, и время исчезает, и ты снова оказываешься в том месте. Как ты это назовешь?
— Надежда.
— Тебе следует смотреть новости.
— Я не могу понять: это твой ответ или нет?
— Я с тобой, Шелдон. Какая разница, почему.
— Есть разница.
— Почему?
— Я должен знать, насколько это надежно.
— Тут не научный эксперимент, Донни.
— Я сейчас работаю над одним трудным заказом. Часы «Омега Спидмастер». Там сломался винт, который сидит под ударной пружиной. Чтобы до него добраться, я должен разобрать весь механизм, и я не уверен, что смогу его потом собрать. Все эти индивидуальные сборки, они такие, с особенностями. Знаешь, астронавты, которые сейчас находятся в космосе, носят такие же часы.
— Совпадение?
— Таких часов много. У меня такие были, но их забрал Саул. Не знаю, куда они потом делись.
— Очень жаль. Я люблю совпадения.
— Ты винишь меня?
— А ты сам себя винишь?
— Да. Полностью. Я вырастил его на рассказах о войне. Я внушал ему, что мужчина должен защищать свою родину. Я подталкивал его вступить в армию. Евреи не могут выехать из России. Они подают документы и попадают в черные списки. Их называют отказниками. Они там живут как загнанные крысы. Мы живем как люди. Это потому что мы — американцы. А Америка воюет. Так что, Джонни, доставай свое ружье, говорил я.
— Ты это уже говорил.
— Они курят наркотики и слушают магнитофон. Мы все превратились в кучку либералов, желающих изменить мир, внушал я.
— Ты это уже говорил. Не стоит начинать с начала.
— Я должен был вложить в голову сына достойные идеи.
— Я знаю.
— Помню, когда в 1938 году Гарри Джеймс взял си выше верхней си в Карнеги-Холле. Это было с оркестром Бенни Гудмана. Никто не был уверен в том, что джаз достоин и музыканты достаточно профессиональны, чтобы играть в Карнеги-Холле. И потом он взял эту ноту. И город сошел с ума. Ты можешь себе представить, чтобы одну-единственную ноту услышала вся страна? Теперь на концертах разбивают гитары. Мой сын мог бы стать музыкантом. Это я послал его на войну.
— Он бы не стал, — заметила Мейбл.
Шелдон покачал головой и произнес:
— Мы беспокоились, что если будем брать его на руки, когда он плачет, он никогда не станет самостоятельным. О чем мы только думали?
— Я остаюсь с тобой, Шелдон. Я думаю, на сегодня этого достаточно. Ладно?
— Ладно.
Больше они об этом не говорили. Если и можно было что-нибудь добавить к сказанному, она унесла это с собой в могилу.
Им удается сбежать незадолго до приезда полиции.
Шелдон осторожно открывает дверцу шкафа и несколько минут прислушивается к тишине. Он слушает, не звякнут ли осколки стекла на ступеньках, не скрипнет ли дверь. Он понимает, что если их обнаружат, они пропали. Но он может это предотвратить.
Борьба наверху была долгой и ожесточенной. Мальчишка уткнулся в грудь Шелдону. А когда все кончилось, старик испытал такой же острый приступ стыда и сожаления, как тот, что мучил его годами после гибели Саула. Если бы он не открыл ей дверь, не задержал их так надолго, вызвал полицию, бедная женщина осталась бы в живых и смогла бы растить своего милого сыночка. А то, что он сделал, равносильно убийству.
Он распахивает дверь шкафа и осматривает комнату. Все на своих местах. Чудовище здесь не побывало.
Шелдон откидывает ковер, который прикрывает заднюю дверь, и начинает возиться с замком. Он раскачивает его, наваливается на дверь, приподнимает. Наконец, ему удается сдвинуть ее ровно настолько, чтобы они смогли протиснуться. Дверь скрипит и поддается с трудом. Что-то тяжелое подпирает ее.
Обращаясь в темноту шкафа, Шелдон шепчет, так, чтобы не испугать ребенка:
— Посиди там еще минутку. Я осмотрюсь и потом мы пойдем. Через гостиную нам нельзя.
Шелдон протискивается на маленькую улочку позади дома. Дверь придавливал мусорный бак. Петли двери были покрыты ржавчиной — их давно не смазывали. Все это могло стоить им жизни.
Он поворачивает налево и проходит несколько метров до боковой улицы, где ярко сияет солнце и прогуливаются парочки. Все тихо и безопасно. События, происходившие в квартире, сюда не просочились и не потревожили окружающий мир. Насколько же мы разобщены.
До того как Шелдон успевает вернуться за мальчиком в квартиру, мимо него медленно проезжает белый «мерседес». Этот «мерседес» он уже видел из окна. На водительском месте, глядя прямо перед собой, сидит мужчина в черной кожанке и с золотой цепью на шее. Рядом еще один.
Этот другой и Шелдон встречаются взглядами, когда машина проезжает мимо. Мужчина не обращает внимания на Шелдона, они никогда раньше не встречались. И нет причин связывать случайного прохожего с местом убийства.
Но что-то все же мелькнуло в глазах незнакомца. И Шелдон это сразу заметил.
Пока машина удаляется, старик бормочет себе под нос, хоть никто его и не услышит:
— Вы его не получите. Бог свидетель, вам его не получить.
Вернувшись в дом, он пишет записку. Слова приходят к нему, словно откровение. Рея ведь поймет? Она сообразит, что он имеет в виду. Она будет знать, куда он направился. Она догадается, что все это означает.
Он оставляет записку на комоде около фотографий под своим морпеховским нагрудным шевроном. Ему приходит в голову не отмечать время написания записки.
Покинув квартиру, Шелдон и мальчик почти сразу оказываются в безопасном людном месте, где их вряд ли смогут обнаружить. Смешавшись с толпой прохожих, они движутся к Ботаническому саду и не выделяются на фоне яркого летнего дня. Только они не похожи на местных жителей.
Купив ребенку мороженое, Шелдон садится рядом с ним на скамейку и смотрит на часы: он хочет зафиксировать время, когда идеи в его голове окончательно иссякли.
14.42. Ничем не примечательное время.
С включенной мигалкой и сиреной проезжает полицейская машина. Вскоре за ней следует другая. Он сразу же понимает, что убитую уже нашли. Вот-вот найдут и записку.
— Вот что нам надо сделать, парень: мы затаимся в пещере на время, как Гекльберри Финн. Ты знаешь эту историю? Про Гека Финна? Он поднялся вверх по реке после стычки со своим злобным отцом. Инсценировал собственную смерть. Встретил беглого раба по имени Джим. Почти как мы с тобой, если только старый еврей и маленький албанец, одетый как мишка Паддингтон, могут подойти на эти роли. Но дело в том, что нам надо где-нибудь схорониться. На нашей версии острова Джексона. И нам тоже надо подняться вверх по реке. Пойдем на север за свободой. У меня есть идея, как это осуществить. Беда в том, что я здесь не в своей тарелке. Не знаю, как и чем я могу тебе пригодиться. Но я не могу тебя сдать. Не могу передать тебя полиции и надеяться на то, что норвежцы просто не вернут тебя монстру с верхнего этажа. Откуда я знаю, что он за человек? Но я точно знаю, что ты ни в чем не виноват, и для меня на данный момент этого достаточно. Так что я на твоей стороне. Понял?
Мальчик молча дожевывает остатки рожка, уставившись на свои веллингтоны.
— Тебе нужно имя. Как тебя зовут?
Мишки на сапожках раскачиваются вместе с ногами.
— Я — Донни, — он указывает на себя. — Донни. Можешь попробовать звать меня «Мистер Горовиц», но я думаю, что это предложение обречено на провал. Донни. Я — Донни.
Он ждет.
— Мог бы и посмотреть на меня.
Он снова ждет. Рядом с пронзительной сиреной проезжает еще одна полицейская машина.
Они сидят на скамейке около Зоологического музея. Бархатная травка окружает цветущие деревья. Ряды лилий высажены вдоль кустов, а дети, многие из них такого же возраста, как и его спутник, катаются на странных кроссовках с колесиками на пятках.
Внезапно солнце скрылось за тучей, стало прохладнее и темнее.
Шелдон продолжает говорить за двоих. Молчание ему не очень хорошо дается.
— Моего сына звали Саул. Мы назвали его в честь первого царя Израилева. Это было три тысячелетия тому назад. У Саула была нелегкая жизнь. И времена тогда были нелегкие. Филистимляне захватили Ковчег Завета, его народ жил в нищете, ему нужно было со всем этим справиться. Что он и сделал. Но не смог удержать. Во многих отношениях он был человек ущербный. Но не во всех. Больше всего я люблю в нем то, что он пощадил Агага. Он был царем амаликитян. Армия Саула победила его, и, по мнению пророка Самуила, он должен был убить Агага, потому что такова была воля Господа. Но Саул пощадил его. Я вижу этих людей, таких, как Саул, таких, как Авраам. Они слышат мстительный призыв Бога разрушить Содом и Гоморру и забрать жизнь поверженного царя. Но они готовы встать между Богом и тем, что они должны уничтожить, и отказаться повиноваться. И вот я думаю: откуда они знают, что такое добро и зло, праведное и неправедное, если не от самого Бога? Получается, что однажды река вселенной протекла через вены этих людей и соединила нас с вечными истинами — истинами в такой их глубине, что сам Господь в своем гневе их не запомнил. Истины о том, что еврейские мужи твердо стояли на ногах и заглядывали в небеса, и их упорство было несокрушимо. Что это за истины? Где эти мужи? Я представляю Авраама на вершине холма, каменистой красноватой вершине, он возвышается над Гоморрой, над ним собираются тучи, а он протягивает руку к небесам и вопрошает: «Ты уничтожишь город, в котором живет сотня хороших людей?» И в этот момент, каким бы он ни был жалким, стоя перед силами Вечности, Авраам являет собой лучшее воплощение человека. Человек в грязном рубище, которому в лицо дует горячий сильный ветер. Растерянный. Одинокий. Печальный. Оставленный Богом. Он становится истиной в последней инстанции. «А справедлив ли Господь?» — думает он. И в этот миг человечество превращается в мыслящую расу.
Господь, может, и вдохнул в нас жизнь, но только тогда, когда мы с Его помощью стали действовать самостоятельно. Мы стали людьми. Стали, хоть и ненадолго, тем, кем могли бы быть. Заняли свое место во вселенной. Стали детьми тьмы.
И вот Саул — мой Саул — решил отправиться во Вьетнам, потому что его отец был в Корее, а его отец оказался в Корее, потому что не попал в Германию. И Саул погиб там. А побудил его поехать туда именно я. Я думаю, что я забрал жизнь своего мальчика ради морального долга. В конечном счете я уподобился Аврааму, а не Саулу. И Господь не держал меня за руку.
Мальчик смотрит на Шелдона — кажется, впервые. Шелдон улыбается ему в ответ, так, как могут только старики. Улыбкой, которая подчеркивает важность момента, а не его реальность.
Но мальчик не улыбается в ответ. Так что Шелдон улыбается за двоих.
— А был еще Савл — раввин из Тарса. Римлянин. Любил падать с лошадей. Как считаете вы, гои, он преследовал ранних христиан, пока ему не было откровения, видения по дороге в Дамаск. И Савл стал Павлом. А Павел стал христианским святым. И он был хорошим человеком. Ты ведь не догадывался, что я знаю все эти вещи? Меня просто никто не спрашивал. Но, на мое счастье, у меня богатая внутренняя жизнь. А теперь у меня есть ты. Давай я буду звать тебя Полом. Перевоплощенным мальчиком. Тот, который пал, но вновь поднялся. Христианин, возрожденный падшим евреем. Ты не будешь возражать? Это будет моя тайная шутка. Все лучшие шутки — тайные. Ну хорошо. Пошли прятаться в кинотеатр.
Шелдону трудно припомнить, когда он в последний раз держал ребенка за липкую ладошку. Пухлые пальчики сжимали руку Шелдона легко, но крепко. Доверие и ответственность. Приходится подстроиться под шаги ребенка и опустить плечи. Неужели последний раз он держал руку Саула? Это было лет пятьдесят назад. Но это чувство слишком знакомое, слишком непосредственное, чтобы принять такой ответ, хоть он и правильный. Он не держал ребенка за руку пятьдесят лет и теперь раскаивался в этом.
Была Рея, само собой. Нежданная любовь. Но сейчас у него в руке была рука мальчика.
Рея и Ларс молча стоят перед полицейским участком. Их отпустили, но предупредили, чтобы они все время оставались на связи. Ларс смотрит на проезжающие машины. Рея кусает губы, облизывает их, потом потирает пальцем и подставляет дуновению легкого ветерка. Они стоят несколько минут. Наконец, Ларс спрашивает:
— Что будем делать?
— Не знаю, — отвечает она.
— Я полагаю, мы можем сесть на велосипеды и поехать его искать.
— Не могу поверить, что у него нет мобильного.
— Он же отказался. Сказал, что это средство контроля над ним.
— А мы согласились.
— Но он же никуда не выходил.
— Зато теперь вышел, — говорит Рея.
Мимо них проезжает еще несколько машин, набежавшая огромная туча приносит прохладу. Это напоминает им, что они очень далеко от дома.
— Да уж, вышел, — соглашается Ларс. — Это точно.
Глава 5
Шелдона бесконечно раздражает, что когда здесь, в Осло, приходишь в кино, тебя сажают на определенное место.
— Вы считаете, что мы сами не в состоянии решить, где сидеть? Нам нужна ваша опека? Инструкции?
Он высказывает это невинной барышне в билетной кассе.
Она морщит прыщавое лицо:
— А там, откуда вы приехали, по-другому?
— Да. Кто первый пришел, тот и сел. Выживают сильнейшие. Закон джунглей. Где конкуренция рождает креативность, и из этого конфликта возникает гений. В Стране Свободных Людей мы сидим там, где нам нравится. Мы садимся туда, куда можем.
Шелдон берет билеты и продолжает ворчать. Он недоволен ценой на хот-доги в буфете. Он недоволен температурой попкорна, расстоянием до туалета, креслами в зале и средним ростом среднего норвежца, который здорово выше среднего.
На миг он замолкает, когда переводит дыхание и вспоминает про убийство. Оно целиком занимает его мысли.
Эта проблема ему знакома, но в более крупном масштабе. Это всего лишь частный случай. Сама история постоянно грозит накрыть его и похоронить, беспомощного, под своим грузом. И это не деменция. Это — ощущение неминуемости смерти.
Тишина — это враг. Она разрушает стену отстраненности, если ты даешь ей волю.
Евреи это знают. Поэтому мы продолжаем говорить, чего бы это ни стоило. С учетом того, через что прошел наш народ, останавливаться нам нельзя. Если остановимся на секунду — нам конец.
Повернувшись к Полу, он говорит:
— Я ничего не знаю про этот фильм, кроме того, что он закончится через два часа, после чего мы купим тебе самую дорогую на свете пиццу «У Пепе», а потом отдохнем со вкусом в отеле «Континенталь». Это рядом с Национальным театром. В «Гранд-отеле», я уверен, свободных мест нет. И там нас будут, искать в последнюю очередь, ведь это не мое любимое место отдыха. Мне кажется, что мы заслужили немного тишины сегодня вечером.
Наконец заканчивается реклама и начинается фильм. В нем космический корабль летит к солнцу, чтобы спасти мир. Фильм начинается с чуда, которое сменяется ужасами и смертью.
Шелдон закрывает глаза.
Джимми Картер уже не был президентом, когда в 1980 году заложники вернулись из Ирана. В день инаугурации Рональда Рейгана из Тегерана вылетели самолеты с американцами, которых продержали в плену четыреста сорок четыре дня. Камеры запечатлели, как Рейган вступает в должность под легким дождичком — красный наряд его жены выделялся на фоне серого неба.
А в салоне самолета тем временем разыгрывалась драма: люди спорили, плакали, переживали, что их возвращение на родину может оказаться обманом, а долгое кружение над аэропортом — очередным актом жестокости. Именно тогда Шелдону пришло в голову, что великий поворот в истории Америки происходит не там, где Рейган уверенно произносит свою речь, а на взлетной полосе, где в одиночестве стоит задумчивый Джимми Картер, бывший президент страны. В мясорубку истории обычно попадают такие люди, как он, как Мейбл, как Билл Хармон, владелец ломбарда, расположенного через квартал от его мастерской.
В те дни Мейбл читала газеты. Прочитав очередную статью, она резюмировала ее, но все ее мнения потом испарялись, словно вода из мертвого пруда. Она не позволяла говорить о политике в доме, а Шелдону не больно-то этого и хотелось. К 1980 году Саул уже шесть лет как погиб — с точки зрения истории это было совсем мало.
Город для них остановился, потерял цель. Он превратился в поток желтых такси. Черную пелену дождей. Ящики с овощами и фруктами на фермерском рынке. Красный стейк на ужин. Очередной сон. Двигались только часы у Шелдона в мастерской.
Часовая мастерская и антикварная лавка находились в Грамерси, рядом с Южной Парк-авеню. Мастерская была неприметной, но местные жители знали о ней. Прохожие могли легко пропустить зарешеченную дверь, которая вела в маленькую мастерскую, а из нее — в шоурум.
К 1980-м годам бизнес Шелдона начал страдать от изобретения, называемого кварцевыми часами. У них было мало движущихся деталей, но они удивительно точно показывали время и были дешевыми. И хуже того, они были одноразовыми. Швейцарская часовая промышленность, а вместе с ней и все те, кто от нее зависел, переживали кризис. Мужчины и женщины из всех слоев общества больше не приходили к Шелдону, чтобы устранить мелкую поломку, прочистить или смазать механизм или заменить головку завода. И только старые клиенты продолжали заходить. Качество швейцарских часов постоянно повышалось по мере того, как люди заменяли старые часы и чинили хорошие. У Шелдона теперь было меньше клиентов, работа становилась все сложнее, а доходы не росли. Десять лет прошли тихо и непримечательно.
Ломбард Билла Хармона находился через три дома по правой стороне улицы. Биллу тоже было за пятьдесят, он был американцем ирландского происхождения, его красное лицо обрамляла копна абсолютно седых волос. Они с Шелдоном посылали друг другу клиентов, как мячики в настольном теннисе.
— Это не ко мне. Попробуйте сходить к Биллу. Он покупает электроинструменты.
— Нет-нет. Несите эти модные часики к Донни. Я в них совсем не разбираюсь.
— Это «Никон». Что мне прикажете делать с «Никоном»? Идите к Биллу.
— Идите к Донни.
— Идите к Биллу.
— Слушай, Донни, взгляни-ка на это, — сказал однажды Билл, вручая Шелдону изящные золотые часы «Патек Филипп» с родным кожаным ремешком. — Парень говорит, что купил их в Гаване до революции. Хотел их мне продать. Я послал его к тебе, но…
— Я поздно открыл магазин.
— Ты открылся поздно, поэтому я их купил.
На Шелдоне поверх белой рубашки был кожаный фартук, очки на макушке. Выглядел он немного потрепанно, в голубых глазах отражался послеполуденный свет. Однако Билл обратил на это внимание. Он был лишен чувства драматизма, равно как и чувства эфемерности и вечности бытия. Волшебства для него не существовало. А жаль, потому что, по мнению Шелдона, Билл был владельцем одной из самых волшебных лавок во всем Нью-Йорке, не считая его собственной. И никто не знал этого лучше, чем его сын.
К великой мальчишеской радости Саула, лавка Билла была точной копией магазина Шелдона. Когда Саул приходил в ломбард, у него возникало чувство, что он у себя дома. Разведенный и бездетный Билл был доволен подобным отношением.
В лавке отца Саулу нужно было спуститься на несколько ступенек и пройти через запираемую дверь. По левую руку находилась собственно мастерская. Там у Шелдона стояла большая деревянная скамья, вдоль которой висели сотни маленьких полочек, меньше, чем каталожный ящик в библиотеке, и на них были просто цифры. Освещение было отличным, и Саул наблюдал за клиентами. Все они были очень вежливы с его отцом.
У Билла была большая витрина, чтобы посетители могли заглянуть и увидеть необычные вещицы, которые он выставлял на продажу. Однажды он продавал щит викинга, украшенный мехом. В другой раз — роботов-боксеров, старинный пистолет времен Дикого Запада, сломанную пишущую машинку, нож для бумаг из Франции, вазу с ручками в виде рыбок, зеркало в оправе из золотых листьев.
Билл не носил кожаного фартука, как Шелдон, у него не было специального окуляра, которым пользуются часовщики, так что кое-что лавку отца отличало. Фартук Шелдона был поношенный и помятый. Рыцари сражались на нем с драконами. Саул знал об этом от Шелдона. Тот вовсе не стремился выглядеть как часовых дел мастер из Старого Света, но не мог не признать удобства фартука, когда терялись мелкие детальки часов. Падающий винтик ударялся о кожу, и он понимал, что что-то уронил. Из складок фартука было удобно извлекать всю эту мелочь. И хотя это был фартук сапожника, а не часовщика, он был весьма утилитарен и приносил волшебную антидраконную пользу. В итоге оказалось, что его легко надеть, но трудно с ним расстаться.
В то утро, когда Билл вошел к Шелдону, у того на рабочей скамье стоял термос с кофе, а сам он аккуратно устанавливал старую балансирную пружину в новенькие дайверские часы «Оллек и Вайс».
— Поздравляю, — сказал Шелдон. — Теперь у тебя есть часы.
— Чем ты занимаешься? — спросил Билл.
— Делаю кое-что, что давно собирался.
— Что же?
— Ты не поймешь.
— Это так сложно? С технической точки зрения? Я не пойму, — Билл покачал головой и присвистнул. — Эх вы, евреи. Вы такие умные. Все-то вам удается.
Шелдон на провокацию не поддался.
— Не удается держаться подальше от неприятностей.
— Ну, так чем ты занят, Эйнштейн?
Шелдон снял окуляр, положил его справа от часов и указал на часовой корпус слева.
— Эти принадлежали Саулу. Их сняли с его руки. Они прибыли вместе с другими его личными вещами.
— Так ты их чинишь?
— Нет. Я не собираюсь их чинить. Я делаю кое-что другое. Ты когда-нибудь слышал об элинваре?
— Нет.
— Это сплав, нечувствительный к изменению температуры. Название образовано от двух французских слов: élasticité invariable, которые сократили до элинвар. Из него раньше изготавливали балансирную пружину для механических часов вроде этих.
— Ценный?
— Да нет. Там всего лишь железо, никель и хром, но от него куча пользы. Балансирная пружина — крайне тонкая вещь. Она накручивается и накручивается. Когда ты заводишь часы, ты закручиваешь балансирную пружину. Она раскручивается и приводит в движение части механизма, так что часы продолжают тикать. Балансирная пружина — это сердце часов.
Вся штука в том, что пружины производят лишь на нескольких заводах. Так что историю большинства пружинок можно проследить до места их изготовления. Это как если бы… все сердца производили в одном и том же месте. Как бы у каждых часов есть душа, и она связана со всеми другими, потому что у них общий дом.
Я заказал эти часы по каталогу. Ты вряд ли о таких слышал. Модники их не носят. Только люди труда. Солдаты. Они своих денег стоят. Мне они нравятся. Так что я недавно купил новую пару и переставляю в них старую пружину из часов Саула. Старое сердце в новом корпусе. Когда я буду смотреть время, мы будем связаны. Благодаря этому я чувствую себя немного ближе к нему.
— С ума сойти, Донни.
— Во всяком случае, вот чем я занимаюсь.
— А как это отличается от того, чтобы взять батарейку из одних часов и переставить ее на другие?
Шелдон потер лицо.
— И ты еще удивляешься, что с тобой никто не хочет встречаться.
— О чем ты?
— Ты и правда не понимаешь?
— Сколько стоят новые?
— Баксов тридцать пять. Раньше они стоили около семнадцати.
— Так, теперь догадайся, сколько я заплатил за золотые часы.
Шелдон развел руками и спросил тем же скучающим тоном:
— Сколько?
— Вот уже кое-что. Восемьсот.
— Восемьсот чего? Долларов? Господи, Билл. За часы? Ты это в жизни никогда не продашь!
— Я не собираюсь их продавать. Это вложение. Я планирую купить дюжину таких часов, спрятать их в подвале, и через лет двадцать, когда мы продадим свои лавки, эти часики будут стоить тысячи! Мы уйдем на покой. Купим квартиру на Лонг-Айленде. Пригласим туда плейбойских «зайчиков» и будем пить шампанское.
Под Шелдоном скрипнуло рабочее кресло, когда он качнулся.
— Что мы будем делать с «зайчиками», когда нам стукнет семьдесят? Восхищаться, как они носят подносы с выпивкой?
— Помяни мое слово, Донни. К тому времени, учитывая, с какой скоростью сегодня движется наука, придумают таблетку или укол, от которого в штанах любого старика появится ракета. Мы только десять лет как высадились на Луне. Это мечта молодого поколения. К тому времени, как те же ученые достигнут нашего возраста, они обратят свои взоры на что-нибудь поближе к дому. Они захотят побывать там, где побывал каждый мужчина. И знаешь почему? Потому что там хорошо.
— А как же наши жены?
— Жены… — Билл всерьез озаботился вопросом. — Я женат не буду, а… к тому моменту… Мейбл будет только рада, что у тебя есть хобби.
Шелдон достал маленькую коробочку и протянул ее Биллу.
— Что это? — спросил Билл.
— Я хочу сохранить это у тебя. Просто засунь куда-нибудь. Не продавай их.
— Кого их?
— Это медали, которые мне дали за Корею.
Билл принял коробочку, не открывая ее.
— Зачем я их должен взять?
— Я не хочу, чтобы их нашла моя жена. Или Рея. Она растет и бегает повсюду, задавая вопросы.
— Но ведь ты сам научил ее говорить.
— Если бы я знал, к чему это приведет…
Билл оглядел антикварный магазин.
— Ты же можешь их тут спрятать. Здесь даже труп Джимми Хоффы[4] ни за что бы не нашли.
— Когда тебе их вернуть?
— Посмотрим, понадобятся ли они мне вообще.
— Это и вправду из-за твоих девочек?
— Частично. Но в основном потому, что я не хочу, чтобы мне напоминали, что это я показал их Саулу. А поскольку я делаю эту штуку с часами, я не смогу держать их поблизости. Слушай, тебе совсем необязательно понимать, зачем все это нужно. Просто сделай, потому что я тебя об этом прошу. Этого достаточно?
— Вполне.
— Хорошо.
Билл взял коробочку, но продолжал болтаться около рабочего стола Шелдона.
— Что с тобой сегодня?
— Я умер.
— А что ты сейчас делал?
— Я умер. На самом деле умер. Ты что, не помнишь? Это произошло в ноябре, во время выборов. Пьяный водитель. Ты очень тяжело это воспринял. Подозреваю, что ты до сих пор это переживаешь. Я — твой первый покойник после Саула. Поэтому ты сейчас и возишься с часами.
— Я делаю это ради моего мальчика.
— Да. Но делаешь ты это именно сейчас из-за того, что я умер.
— Так значит, это не просто мои воспоминания.
— Ну почему же?
— Но не в этой части. Я имею в виду, что не могу же я вспоминать разговор с призраком. Я, должно быть, все это выдумываю.
— Ну, нет. Подозреваю, что это не совсем воспоминания. Это больше видение или что-то в этом роде. Ты сидишь в кинотеатре с маленьким мальчиком-иностранцем, которого подобрал в Исландии.
— В Норвегии.
— Это неважно.
— Ты говоришь не как Билл.
— А кто я, по-твоему?
— Мне этот вопрос не нравится.
Колокольчик над дверью оповестил о появлении нового посетителя.
— Думаю, нам пора закругляться.
— Что произошло сегодня утром? — спросил Билл.
— О каком именно утре мы говорим?
— О том, где появляется малец с Балкан. Зачем вы прятались в стенном шкафу? Почему ты не спас женщину?
— Мне восемьдесят два года. Что я мог сделать?
— Я просто спрашиваю.
— Я сделал выбор. Моих сил хватило бы только на мальчонку. Жизнь — это выбор. Я умею делать правильный выбор.
— И что теперь?
— Все дороги ведут вверх по реке. Спроси меня, когда я туда доберусь.
Молодой служащий с бейджем «Йонас» вежливо склоняется над Шелдоном. Он что-то говорит по-норвежски.
— Что такое?
Йонас повторяет по-английски:
— Я думаю, вы заснули. Фильм закончился, сэр.
— Где мальчик?
В зале горит свет, титры уже прошли.
Шелдон идет по проходу и выходит в фойе, у него ноет затекшая спина. Там он обнаруживает Пола, доедающего мороженое, — очевидно, подарок от буфетчицы.
— Я тебя ищу, — говорит Шелдон.
При виде Шелдона Пол не улыбается. Он так и не смягчился с тех пор, как они встретились.
Шелдон протягивает ему руку.
Пол не реагирует.
Тогда Шелдон спокойно кладет руку ему на плечо.
— Пойдем отсюда. Переоденем тебя. Ты не можешь все время ходить в этих штанах. Мне надо было давно тебя переодеть. Но я сразу не сообразил. Только что это понял.
Петтер мягко трогает Сигрид за плечо, отвлекая ее от компьютера.
— В стенном шкафу нашли следы мочи.
Уже почти восемь часов вечера, но солнце еще и не думает садиться. Жара не спадает. Температура воздуха в офисе поднялась выше 26 градусов… Центральное кондиционирование в здании не предусмотрено. Когда его строили, в этом не было нужды, но теперь они страдают из-за последствий глобального потепления.
В отличие от своих коллег-мужчин, Сигрид не расстегивает верхнюю пуговицу униформы. Она имеет на это право, и правила не требуют жесткого соблюдения формальностей. Однако по причинам, которые сама не может объяснить, она предпочитает оставаться застегнутой на все пуговицы.
— Это определенно свежая моча. Ей всего несколько часов — она еще не высохла.
— Ты уверен, что это не сделал кто-нибудь из полицейских? — съязвила Сигрид.
— Мы готовимся провести ее сравнительный анализ с ДНК убитой женщины. Но наверняка это не ее моча, брюки женщины были сухими. Я полагаю, это пропавшего мальчика.
— Который прятался в шкафу и слышал, как убивают его мать? Даже подумать страшно.
Петтер ничего не отвечает.
— Сколько времени займет тест?
— По правилам? Шесть месяцев.
— А в этом конкретном случае?
— Будет готов к утру. Инга задержится в лаборатории допоздна. Она только что рассталась со своим парнем. Думаю, она будет только рада занять себя работой. Я уговорил ее поставить этот тест в начало очереди.
— У нее, кажется, есть собака?
— Кошка.
— Виктор?
— Цезарь.
— Поняла. Ну, нам же лучше.
— Ты поедешь на место преступления? — интересуется Петтер.
— А у тебя что, нет работы?
Петтер поджимает губы.
— Поеду, позже, — отвечает Сигрид. — Я запросила имя женщины у домовладельца, а также имена ее сына и мужчины, который, возможно, совершил убийство. Думаю, я сначала поймаю злодея, а потом позабочусь об остальном.
— После мы идем к «Пепе» на пиццу.
— После чего? — спрашивает Сигрид.
— Вечер отличный. Мы решили выпить.
— Я не в настроении.
— Я впервые увидел убитую женщину, — признается Петтер.
Сигрид не отрывает взгляда от экрана компьютера и сухо замечает:
— Какие твои годы.
Шелдон подходит к стойке регистрации в отеле.
— Ваше имя, пожалуйста, — обращается к нему служащая.
Имитируя произношение, определить которое не может ни он сам, ни шведка за стойкой, он отвечает:
— С. К. Декстер Хейвен.
— С. К. Декстер Хейвен, — повторяет она.
— Эсквайр, — добавляет он. И глядя вниз на мальчика, говорит: — И внук. Пол. Пол Хейвен.
— Пожалуйста, покажите ваши паспорта.
Шелдон поворачивается к Полу и произносит:
— Она хочет видеть наши паспорта. Те, где написаны наши имена.
Потом он обращается к служащей:
— Дело в том, милая барышня, что есть две новости: хорошая и плохая. Плохая состоит в том, что нас ограбили. Менее часа назад, когда мы ехали на этом вашем модном поезде из аэропорта, у нас украли вещи — вместе с паспортами. Случившееся настолько потрясло моего мальчика, что он намочил штаны. Но я сообщаю вам об этом в строжайшей тайне, так как не хочу ставить ребенка в неловкое положение, несмотря на его нежный возраст. Но есть и хорошая новость: мой офис выслал вам копии по факсу еще до нашего отъезда, так что, к счастью, они у нас есть. И пожалуйста, сделайте для меня еще парочку экземпляров. Они понадобятся мне, когда мы пойдем заявлять в полицию и в посольство, чтобы нам сделали новые паспорта для печального возвращения на родину.
На какое-то время повисает пауза.
Как только стройная, стильная и любезная женщина за стойкой открывает рот, чтобы ответить, С. К. Декстер Хейвен поднимает руку и продолжает:
— Но нет никакой нужды делать это сейчас. Спасибо, что предложили. У нас был такой длинный день, такой утомительный, — а мне ведь восемьдесят два года! — и я думаю, что лучше будет заняться этим делом утром. А сейчас я бы хотел заплатить за номер наличными, чтобы мы могли открыть счет. А потом пусть кто-нибудь из ваших посыльных сходит в соседний магазин и купит моему внуку одежду. Носки, кроссовки, брюки, трусы, рубашку и хорошую куртку для прогулок по лесу. Запишите это на мой счет и принесите все как можно скорее.
Женщина хочет что-то возразить. Она жестикулирует, пытаясь вставить хоть слово. То и дело открывает рот. Ее глаза то расширяются, то сужаются, она заученно кивает головой в знак сочувствия. Но ее слабые попытки действуют на Шелдона, как шепот на слона. Мило, но безрезультатно.
— Мистер Хейвен, мне так жаль…
— Конечно. Мне тоже жаль. Притом что я лишился лекарств, которые принимаю против побочных эффектов от рака, я так благодарен, что меня ограбили в стране, где живут такие добрые люди. Так говорят в Америке. Что норвежцы — самые добрые люди на свете. Если я попаду домой живым, я смогу подтвердить это. А если я умру до того, мой мальчик сделает это за меня.
Номер был приятный.
Шелдон нашел программу, по которой шли мультики на норвежском. Пол тихо сидел на кровати с бутылкой колы и смотрел, как Том гоняется за Джерри. Шелдон сидел рядом и делал то же самое.
— Однажды у меня была идея рекламы, — говорит Шелдон. — Представь себе. Первый кадр: пшеничное поле с полевыми цветами, все в золотых тонах. За кадром жужжат насекомые. Чувствуется жара. Следующая сцена: по глади пруда расходятся круги. Вода покрыта сказочной патиной. И тут — всплеск. В воду прыгает собака. Камера следует за ней, пока она целеустремленно плывет слева направо. Потом на правой стороне появляется плавающая в пруду пустая бутылка из-под колы. Собака — это золотистый ретривер — хватает бутылку зубами и с пыхтением поворачивает обратно. Она выбирается на берег, встряхивается и бежит, зажав бутылку зубами, к причалу, где на спине лежит мальчик, а над ним проплывают облака. Мальчик, не глядя, берет бутылку и швыряет ее обратно в пруд. И потом, пока собака прыгает за ней в воду, появляются титры: «Кока-кола. Летние дни». Это поглощает тебя! Ты ничего не можешь с этим поделать! Оно пробирает до костей, и от него лопаются струны гитары! Ну что бы ты сделал, будь у тебя такая идея? Ничего. Ты ее пошлешь, они сопрут ее. А тем временем своей компании по производству газировки у меня так и нет.
Пол молчит. С тех пор как они встретились, он не проронил ни единого слова. Даже не улыбнулся ни разу.
Но ребенку трудно справиться с тишиной. Как совместить комедию и трагедию — насколько это позволят пафос и слова, — чтобы отогнать голоса мертвых? Он ведь всего лишь маленький мальчик. Его обволакивает глухая пелена ужаса, когда слова не помогают, и любая попытка ее нарушить ускользает от реальности, как капли дождя с листочка. Он слишком мал, чтобы отвлечь себя играми, и не в состоянии приспособиться к реальности, находя утешение в разговорах или происходящих событиях. Он беззащитен. Его мать мертва. И поэтому Шелдон не бросит его.
— Бог создал мир и сказал, что он хорош, — вслух произносит Шелдон. — Отлично. Но когда же он все переоценил? — вопрошает он, пока на экране Том гоняется за Джерри.
— Ладно, я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь, что он переоценил все перед Великим потопом. Перед тем как Ной смастерил свой ковчег из коры пекана. Но это было давным-давно. И не то чтобы он все наглядно растолковал. Он просто размазал все, кроме ковчега. Я думаю, он вот-вот опять передумает. Ну, необязательно поступать по-ребячески: скомкать неудавшийся рисунок и притвориться, что его и не было, оставив Ноя без ответа. Без ответа на вопрос: «Почему я?» Он не нашел ответа и забухал. Лично мне хотелось бы увидеть некий личностный рост у Бога. Некую зрелость. Ответственность. Признание вины. Публичное свидетельство небрежности. Но беда в том, что Бог — один. Его никто не подталкивает. Не поправляет. Нет у него супруги. И подозреваю, что не я первый об этом задумываюсь.
Ты мог бы сказать, будучи святым Павлом, а следовательно, теологом, философом и, возможно, одной из интереснейших личностей в истории, что Бог не может исправлять свои ошибки, потому что Он не может понять, что Он сделал не так. В конце концов, что есть всезнание? Включает ли оно в себя и самопознание? Если Он — источник всего, как Он может отрицать свои собственные действия и осуждать их? В сравнении с чем? Каков эталон, помимо Него самого?
— Итак, у меня есть ответ, спасибо, что спросили. Ответ в библейской истории про мастурбацию. В присутствии ребенка твоего возраста я бы не стал об этом упоминать, но, ввиду того что ты не говоришь по-английски и видел сегодня кое-что похуже, это не нанесет большого вреда. Онан. Мы запомнили его как человека, изливавшего свое семя. Первый дрочер. Но что тут произошло? У Онана был брат, и этот брат с женой не могли зачать ребенка. По какой-то причине Бог счел, что семье нужен ребенок, а так как в те времена люди, похоже, были взаимозаменяемы, Бог велел Онану пойти в шатер его брата и штуп невестку. Но Онан решил, что это будет неправильно. Он идет в шатер и, думая, что Бог не увидит его в шатре, — даже не говори мне ничего об этом! — начинает мастурбировать. Разливает, таким образом, свое семя. Потом он выходит, говорит Богу, что дело сделано, и удаляется. Но Господь, уж таков Он, гневается на Онана. Из чего наши иудейско-христианские клирики извлекли урок, что мастурбация отвратительна Богу и нам следует держать ручонки подальше от пиписек. Но у меня вопрос: откуда у Онана появилась мысль, что инструкции Бога могут быть аморальными? Что, существовала мораль, код поведения, который исходил из места, более глубокого, чем душа — из нашей уникальности и нашей моральности, да так, что Онан уже так твердо знал, что хорошо, а что плохо, что смог противиться самому мощному авторитету и следовать своим курсом?
Отсюда следующий вопрос: почему я не смог внушить часть этого своему сыну, чтобы он имел мужество восстать против меня, учесть мой горький опыт и отказаться идти на бессмысленную войну, которая его убила? И тогда он пережил бы меня. Почему я не дал этого… что бы это ни было… своему сыну?
Шелдон глядит на Пола, который уставился в телевизор.
— Так, иди-ка сюда, и давай снимем твои веллингтоны.
Глава 6
Выйдя из полицейского участка, Рея и Ларс отправились на поиски Шелдона. Они несколько часов ездили по городу. Сначала бессистемно. Прочесали районы, расположенные вокруг центра, ездили по самым популярным улицам. По улице Карла-Юхана. По улице Кристиана IV. По Вергеландсвейену, к Дому литературы. Вверх по Хегдехаугсвейену на Богстадвейен и по всей Майорстуэн. Потом назад к парку Фрогнер, вниз на улицу Фрогнер, вниз по Вика и дальше к порту.
Затем они поехали по точкам. Сначала в синагогу, но Шелдона там не оказалось. Потом в круглосуточный топлесс-бар — Шелдона там тоже не было. Еще по книжным магазинам — и опять напрасно.
Ларс предложил переночевать в городе. В каком-нибудь красивом месте. Дорогом. Может быть, в «Гранд-отеле»?
Но в «Гранд-отеле» не оказалось свободных номеров, так что они отправились в соседний «Континенталь».
Ларс спал крепко. Он совершенно вымотался.
Рея лежала без сна, уставившись в потолок, прокручивая в голове свою жизнь.
Завтрак в отеле «Континенталь» действительно хорош, но Рея есть не хочет. Она окунает палец в горячий чай и начинает водить им кругами по краю фужера для воды, пока не раздается низкий звук, напоминающий прощальный крик потерявшегося детеныша кита.
— Если бы я это сделал, мне бы не поздоровилось, — замечает Ларс.
— Прости.
— Как ты спала? — спрашивает он.
— Я бы предпочла оказаться дома.
— Это вряд ли.
— Как же мы теперь вернемся в квартиру, зная, что там убили женщину? И как долго мы сможем оставаться в гостинице?
— Знаешь, есть люди, у которых проблемы намного сложнее наших.
— Это так. И было бы невежливо обсуждать наши, если бы эти люди сейчас тут сидели, но их нет, так что давай поговорим о нас.
Ларс улыбается, впервые с тех пор как они остановились в гостинице. Рея тоже улыбается.
— Иногда ты рассуждаешь, как твой дед. В основном, когда его нет.
— Он меня вырастил.
— Ты переживаешь за него?
— Я слишком потрясена, чтобы переживать.
— Нам необязательно оставаться в гостинице. Давай поедем в летний домик. Я могу взять несколько выходных.
— У меня с собой ничего нет, кроме зубной щетки.
— Но у нас там кое-что есть. Мы можем забрать все необходимое перед отъездом.
— А нам можно уехать?
— Я позвоню Сигрид Одегард и предупрежу ее о нашем отъезде. Если только они не пожелают оплачивать нам гостиницу.
Ларс пьет черный кофе и ест тост с яйцом. На нем белая, с короткими рукавами рубашка навыпуск, дизайнерские джинсы и кожаные ботинки.
— Как ты можешь есть? — спрашивает она.
— Это всего лишь завтрак.
— Все это тебя не трогает? Мир вокруг не рушится? Ты не чувствуешь себя опустошенным?
Ларс ставит кофейную чашку и несколько раз постукивает по столу:
— Я стараюсь об этом не думать. Я просто пытаюсь понять, что делать дальше.
— Как в компьютерной игре.
— Это несправедливо и нехорошо.
— В твоих устах это звучит как обыкновенный выбор. Неужели это тебя не пробирает? Тебе не страшно? Я в ужасе. Все эти враги в голове у деда, весь этот его едва сдерживаемый гнев. Я помню, когда была маленькой, он смотрел на меня с такой любовью и нежностью, а потом — бах — в мгновение ока он уже сердился. Не на меня. На меня он ни разу не рассердился. Раздражался. Он все время был раздражен. Он разводил руками и спрашивал меня, что я обо всем этом думаю.
«Ну почему ты считаешь, что это хорошая идея?» — говорил он. Выступал против всего мира. Когда я подросла, говорил, что, глядя в мое лицо, он видит бесконечную глубину человечности и все, что мы теряем, когда кто-то уходит из жизни. Это напоминает о людях, которые убивали детей, глядя при этом им прямо в глаза. И что нам всем с этим делать?
И он начинал говорить о Холокосте. О нацистах, которые стреляли в головы детям на глазах у их родителей, чтобы доказать себе, что они выше ничтожной человеческой жалости, потому что они — сверхлюди, как сказал им Гитлер. Они связывали семьи струнами от рояля и, застрелив одного, бросали в Дунай, чтобы утонули все. Убивали людей в газовых камерах. Бросали их в ямы и засыпали известью еще живых…
— Остановись, — шепчет Ларс.
— Ты хочешь, чтобы я остановилась? — спрашивает она, хлопая по столу.
Шелдон просыпается. Он не бреется и не умывается. Открыв дверь, видит на полу экземпляр газеты «Афтенпостен». Не зная языка, он не может ее прочитать, но ищет нечто конкретное — и находит.
Убийство по-норвежски будет mord. Он замечает фотографию их дома и полицейскую ленту, огораживающую его. Вокруг — небольшая толпа людей. Значит, женщина действительно умерла. Теперь пережитое, признанное внешним миром, стало вдвойне реальным. А может, это одно из проявлений деменции, как утверждала Мейбл?
Тебе нужно доказательство.
Отлично. Доказательство. Я найду его. Можно, я уже пойду?
— Я даже не вызвал скорую, — произносит он, ни к кому не обращаясь. — Что я за скотина? Как я мог забыть это сделать? Был ли у нее шанс, если бы я вмешался? Если бы я хотя бы заорал?
Тут он вспоминает про мальчика, который в данный момент писает в ванной, стараясь попасть в унитаз и не залить все вокруг. Потом спускает воду и поворачивается, чтобы вымыть руки. Он моет их под струей воды, как учила мама, выключает кран, стараясь завернуть его покрепче, и вытирается свежим полотенцем. Потом выходит из ванной, на ходу застегивая ремень.
Шелдон узнает, что убитую женщину звали Сенка, не Вера. В статье, насколько он понимает, нет упоминаний о мальчике. Если это так, кто-то был весьма осторожен, когда писал эту статью.
Шелдон принимает душ, бреется и одевает их обоих в новую одежду, которую принес портье. Заглядывает под кровать, в ванную, по ящикам и в складки постели и кресел, убеждаясь, что ничто в номере его не выдаст. Последний раз он уходил, не расплатившись, в 1955 году, а это требует наличия определенных навыков. Он не хочет напортачить в тот момент, когда ставки так необычайно высоки.
Закончив приготовления к отступлению, он садится на край кровати и думает. Медленно и сосредоточенно.
Если полиции известно об убитой женщине, ей известно и о мальчике. А Рея, наверное, сходит сума, оттого что Шелдон не вернулся домой вчера вечером.
Ему приходит в голову, что Рея могла натолкнуться на тело. Что Рея могла подумать, что его тоже убили. И все это на следующий день после выкидыша.
Эта жизнь? Ты хочешь знать, что я думаю об этой жизни?
Он держит в руках газету и разглядывает фотографию. Они начнут охоту за убийцей и, возможно, за мальчишкой. Так или иначе, они будут его искать. И если убийца охотится за мальчиком, полиция будет проверять каждый самолет, поезд и автобус, и город будет закрыт.
— Это как на флоте, — говорит он вслух. — Ты контролируешь узкие места: Гибралтар, Босфор, или Панаму, или Суэц. Берешь под контроль и ждешь, когда к тебе придет враг. На твоих условиях. Именно так они и поступят. Я бы поступил так же. Норвежцам, может, не хватает уверенности в себе, но они не дураки. Они расставят ловушки и станут нас ждать.
Шелдон оглядывается на Пола, который смотрит мультики на норвежском.
— Я знаю, ты думаешь, что мне следовало бы тебя сдать, бросить. А вдруг они подозревают не монстра, а кого-то другого? Вдруг они тебя ему передадут? Что, если они считают меня сумасшедшим стариком, и все мои свидетельства в их глазах — пшик? Да я и не видел его лица. Рея, конечно же, сообщила, что я не в себе. И что тогда? Слушай, я не сдам тебя, пока они его не поймают. Лады? Как же нам отсюда выбраться?
Шелдон представляет себе город, насколько он его знает. В его голове возникает образ хрустального шара, находящегося посреди огромного пространства изумрудно-зеленых лесов, прорезанного синими полосками рек. Он видит самолеты, поезда, такси и машины. Видит, как полиция и монстр, сидя по разные стороны шара, заглядывают внутрь в поисках старика и маленького мальчика.
— Река, — произносит он наконец, имея в виду фьорд Осло. Шелдон откладывает газету и массирует лицо. — Не хочу я идти по реке.
Покончив с завтраком, Ларс убирает с колен салфетку, кладет ее на стол рядом с тарелкой и откидывается на спинку стула. Рея, положив подбородок на руки, сидит, чуть подавшись вперед. Они уже давно молчат.
— А чем бы мы сегодня занялись? — в конце концов спрашивает Рея.
— Имеешь в виду, если бы всего этого не произошло?
— Расскажи мне какую-нибудь историю.
В детстве она жила на Манхэттене с дедушкой и бабушкой и мечтала о Новой Англии, которую описывал ей Шелдон. Беркширские холмы, покрытые влажной осенней листвой, вздымались и опускались подобно волнам. И по этому океану листвы плыли гигантские кукольные домики. Внутри них завтракали, по столу перекатывалась тарелка с черничными блинчиками. Когда она попадала на сторону Шелдона, он брал себе немного и подталкивал тарелку на сторону Реи, которая тоже брала себе немного. Посередине за столом сидела Мейбл и пыталась, не расплескав, налить в чашку свежевыжатый сок.
Позади нее на комоде раскачивался плюшевый мишка, и его синий галстук-бабочка словно порхал в воздухе.
За завтраком в кукольном домике они рассказывали друг другу разные истории.
Теперь ее кукольным домиком стал летний коттедж, Хедмарк превратился в Беркширс. Вот так разворачивается жизнь, и мечты реализуются непредсказуемым образом.
Ларс — вот ее мечта. Он рассказывает истории в кукольном домике. Летом они лежат на траве, зимой под стеганым одеялом и вместе витают в мирах, одновременно прекрасных и печальных.
Рассказывает Ларс. Он говорит про ясный день в книжном магазине с террасой на Акер-Бригге, про летнюю распродажу в Богстадвейен, про мороженое на углу Грюнерлокки, про булочки с корицей в кофейне напротив нового Дома литературы около Дворцовой площади. Рея мысленно следует за ним по витиеватому маршруту, представляя, что толкает перед собой детскую коляску.
В коляске ее малыш, ему три-четыре месяца. Она смотрит на него. Это мальчик, он спит. Он качается вместе с коляской, плывущей по улицам города. Он не просыпается, когда колеса подпрыгивают на дренажных трубах, вмонтированных в тротуар. Это составляющая часть ритма города, а мальчик родился здесь, так далеко от ее родного дома. Он принадлежит и всегда будет принадлежать этому городу.
Слушая Ларса, она населяет улицы знакомыми и незнакомыми лицами. Она определяет районы по стилю одежды их обитателей. Ей вспоминается, как Шелдон ассоциировал карту Осло с картой Нью-Йорка.
— Фрогнер — это Центральный парк, — объяснял он. — Грюнерлокка — это Бруклин. Тойен — Бронкс. Гамлебийен — Квинс. А этот полуостров — как вы его называете?
— Бигдой.
— Это Лонг-Айленд.
— А как же Стейтен-Айленд?
— А что с ним?
Мальчика зовут Дэниэл. Они проходят мимо магазина игрушек, и она смотрит на витрину. И вдруг она представляет там Шелдона, держащего в руке окровавленный нож.
— Я думаю, нам пора расплатиться и ехать в летний домик, — внезапно решает Рея.
На противоположной стороне от отеля в белом «мерседесе» сидит Энвер. Его пальцы постукивают по виниловой поверхности руля в такт одному ему слышному ритму. Указательный палец навсегда пожелтел от югославских сигарет. В магнитоле звучит темный скрипучий голос певца под аккомпанемент цыганской гитары.
Мотор выключен, капот потрескивает на солнце.
Женщина, за которой он следит, сидит за столом в ресторане отеля, опираясь на согнутые руки, а мужчина развалился на стуле напротив нее. Они сидят там уже больше часа, все это время солнце жарит обветренное лицо Энвера. Солнце здесь не просто не заходит допоздна — оно и встает рано.
Он надевает очки-авиаторы и глубоко вздыхает.
Скоро его изгнание с родной земли закончится. Он бежал после войны, когда Косово еще было частью Сербии. Его разыскивали, за ним охотились. Но теперь все изменилось. Косово объявило независимость. Его признали страны по всему миру. Энвер больше не разыскиваемый военный преступник. В это новое государство с его новыми законами, новыми правилами и новой памятью он вернется незаметным героем. Да, независимое Косово обладает всеми атрибутами современного государства. Управление этим новым государством, конечно, будет правильным, основанным на международных законах и соглашениях. Оно продемонстрирует благодарность тем достойным странам, которые признали его право на существование. Но оно также проявит хитрость и мудрость. Вначале позаботится о своих. Защитит Энвера и его товарищей. Их примут с распростертыми объятиями. И государство придумает, как оправдать его прошлые подвиги, так же как любое государство всегда находит слова благодарности для своих солдат.
Но прежде чем это произойдет, нужно доделать кое-что здесь, в этой северной стране. Сначала он должен найти мальчишку.
Независимость Косова следовало отпраздновать — с танцами, вином и развратом — целое десятилетие борьбы Армии освобождения Косова с сербскими супостатами наконец завершилось победой. Товарищи Энвера по оружию скрывались по богом забытым местам, прячась, как крысы, от света. Когда ты сражаешься за государство, у которого нет собственного правительства, тебя никто не защищает. Но теперь Косово свободно. И правительство помнит, кто помог освободить его. И оно проявит снисхождение к своим вернувшимся сыновьям.
В марте 1998 года Энвер был там, когда полиция во второй раз нагрянула с рейдом в дом Адема Джашари. Он лично вонзил нож меж ребер здоровяку-полицейскому в бронежилете, смотрел, как жизнь покидала его, и видел последнюю гримасу на лице жертвы.
Ненависть. Только ненависть. Никаких угрызений совести. Никакого сожаления, что жизнь заканчивается и что красота преходяща.
Может быть, если бы он увидел печаль — печаль окончательного осознания всего того, что останется несовершенным, непрожитым, нелюбимым — он бы искал в изгнании чего-то другого. Но этого никогда не происходит. Ты наносишь человеку смертельную рану и видишь у него внутри лишь ненависть. Она капает с ножа и оправдывает убийство.
Он вытирает лоб белым платком. Никто его не предупреждал, что здесь будет настолько жарко.
Во время войны сербы пытались изгнать его родню, весь клан и всех косовских албанцев с их земли, проводя так называемые этнические чистки. Но потом подключилось НАТО, начались бомбардировки и появились солдаты СДК[5], и движение пошло вспять. Энвер и его люди быстро сформировали отряды милиции. Их месть не была случайной. Энвер и его бойцы выбирали семьи тех людей, которые терроризировали их народ. Война закончилась, но справедливости еще предстояло восторжествовать.
Тот день, который в результате привел его в Осло, начался в Грачко. Мужская половина сербского населения работала в поле. Стояла изнуряющая жара. Энвер лежал у полувысохшего ручья, положив винтовку на сжатый кулак и высматривая жертву через прицел. Ему не давали покоя мухи, облепившие его волосы и лицо. Из-за них он не мог удержать на мушке фермера, работавшего в поле.
Он и его люди — всего двенадцать человек — находились на опушке леса у поля. Энвер выбрал цель. Он выполнял свое предназначение. Как только он нажмет на курок, начнется бойня.
И он нажал. Однако фермер продолжал стоять, повернулся налево, пытаясь определить источник хлопка. Может, это автомобильный выхлоп? Или где-то посыпались камни? Топором попали по невидимому кирпичу? Все что угодно, но не это. Ведь война же окончена.
А потом фермер все-таки упал, сраженный пулей кого-то другого, так и не поняв, что же произошло. Возможно, его последняя мысль была о мире, в котором он жил, и о безопасности его семьи. Энвер на это надеялся. Потому что после смерти ему будет стыдно за последние секунды жизни. А может, он впервые испытает стыд и, испытав это чувство, осознает наконец, что он сам и его люди сделали с другими.
Энвер был никудышным стрелком. Все, кого он держал на мушке, падали один за другим под огнем его товарищей, в то время как его гнев нарастал. Соотечественники будут потом говорить, что он не отработал свою часть, что не заслужил справедливой доли славы. Будут глумиться у него за спиной — над тем, что он не сумел отомстить мародерам за свой народ.
Все из-за мух. Его отвлекли проклятые мухи.
Расстреляв все патроны, он бросил винтовку и побежал в поле, чтобы убивать врага голыми руками и рвать зубами.
Поле было сухим. Ноги Энвера топтали потрескавшуюся землю, а сердце стучало, как мотор. Парень лет четырнадцати с вилами в руках застыл, словно испуганный олень, когда Энвер бросился на него. Парень обмочился, как маленький. Но прежде чем Энвер успел наброситься на него, прежде чем успел перерезать ему горло, пуля попала парню в шею, и золотистое поле обагрилось кровью.
Паренек рухнул на землю, зовя на помощь мать, а Энвер подхватил вилы и ринулся дальше — к фермерскому дому.
Какое они имели право, эти сербы? Они то же самое сделали с ним в Вуштрри. Это они начали. Гнев не рождает себя сам, это реакция на действия других. Мы все должны быть готовы ответить за то, что делаем в этой жизни. И теперь Господь в своей милости и бесконечной мудрости забирает их.
Вуштрри. Семья Энвера трудилась на своей земле. День был совершенно обычный, ничем не примечательный. Дни различались только мелкими деталями: жажда, волдырь, недослушанный до конца плохой анекдот, неподдающийся корешок. Явились сербы в военной в форме. Они шли медленно, не спешили. Они выполняли задание правительства. Терроризировать албанцев. Изгнать их, как грызунов, из райских кущ.
Семью Энвера окружили.
Сестру изнасиловали. Отрезали уши и выдавили один глаз. И оставили с этим всем жить. Энвер, еще совсем мальчишка, прятался один в шкафу и слышал крики сестры, но был слишком напуган, чтобы попытаться остановить происходящее. Когда позже он пошел на кухню, чтобы посмотреть, что там произошло, ему показалось, что кто-то смеется. Он до сего дня уверен, что смеялся сам дьявол.
И теперь, годы спустя, вот они, эти убийцы. Мучители. Родня этих людей попивала воду из фляг, женщины подносили им холодное пиво в полуденную жару, чтобы они могли освежиться. Убийцы. Паразиты. Они вели себя так, как будто им не были чужды человеческие чувства. Но внутри у них была пустота. Бездушие. Не было раскаяния и веры.
Бросив раненого мальчишку, Энвер побежал и ворвался в переднюю комнату фермерского дома. Из крана еще текла вода. Снаружи раздавался треск малокалиберных винтовок и отдельные вскрики. Но внутри было тихо.
Они спрятались.
Даже пустой дом что-то говорит. Можно услышать, как он дышит. А этот, наоборот, — сдерживал дыхание.
Энвер отложил вилы и взял из раковины большой нож. Он пытался контролировать сердцебиение.
— Выходите. Предстаньте перед судьбой, — призвал он.
Он вошел в гостиную. По телевизору показывали западный фильм, дублированный на сербский язык. Чернокожий американский коп, вооруженный пистолетом, гнался по улице за грабителем. Все происходило в Нью-Йорке. Грабитель прижимал к себе ярко-красную сумочку и лавировал в потоке автомобилей.
— Выходите! — заорал Энвер. Голос его оказался настолько угрожающим, что из кладовки послышался сдавленный крик.
Если у них оружие и если мне суждено быть убитым, пусть так и будет. По крайней мере, я погибну, пытаясь отомстить за своих.
Приготовившись к последнему вздоху, он открыл кладовку и заглянул в темноту.
Снаружи продолжалось планомерное и безжалостное уничтожение людей. Вокруг фермы сомкнулось железное кольцо, как когда-то вокруг деревни Энвера. Чтобы никто не вырвался, по трем направлениям были выставлены снайперы.
В кладовке сидела девушка лет двадцати, босая, в цветастой юбке. Рядом, прижавшись к старшей сестре, сидела младшая. Лет двенадцати.
Вот так удача. Возможность отомстить и утвердить свое моральное превосходство, и все это одним простым действием. Дар судьбы был настолько справедлив, что Энвер чуть не разрыдался.
Он обратился к старшей.
— Выходи. Вставай на четвереньки и приготовься. Иначе я перережу ей горло и все равно тебя поимею.
Он помнит, как держал ее за бедра, как задралась ей на спину цветастая юбка, как она кричала от страха, боли и одновременно от смущавшего ее удовольствия. И в кульминационный момент он поднял голову к небу и, не будучи уверенным, что не совершает богохульства, прокричал, что Господь истинно велик.
Все кончилось. Однако подобные моменты никогда так просто не проходят. Они уплывают на задворки памяти, где их затмевают, наравне с другими, настоящее и манящие образы будущего. Иногда они остаются жить. И растут. И прошлое зреет, пока не завоюет мир и не породит новую реальность, которая властвует над нами, подчиняет себе и заставляет нас увидеть, кто мы и что наделали. И поэтому, когда Энвер узнал, что та девица, Сенка, забеременела и уехала в Скандинавию, чтобы скрыть свой позор, он оказался не готов к захлестнувшим его чувствам. К тому свету, что пролился на все это, пролился непосредственно сверху, не отбрасывая теней, за которыми можно спрятаться от нового мира, созданного им самим.
Энвер стал отцом.
Он открывает глаза, понимая, что задремал, как какой-нибудь старик. Он снова тщетно пытается найти сигарету, чтобы она заняла положенное ей место в сгибе его пальцев и в уголке рта. Вытирает лицо салфеткой, от которой на висках остаются маленькие белые катышки, и протирает очки.
Супружеская пара в гостинице подписывает какие-то бумаги и поднимается, чтобы уйти. Энвер недоуменно качает головой. Судя по почтовому ящику квартиры, где они с Сенкой столкнулись вчера, эти двое живут вместе. Если уж у них общий почтовый ящик, значит, наверное, они муж и жена. Непонятно, о чем можно так долго говорить. У этого мужика что, нет друзей, что он вынужден всем делиться со своей бабой?
Странное это все таки место — Норвегия. И люди здесь странные.
Диск закончился, и Энвер включает радио. Проверяет, нет ли сообщений в мобильном, но ничего не пришло. По радио передают американский рок-н-ролл 1950-х годов, он оставляет его. Он возится с зеркалом заднего вида и думает о том, что забыл позавтракать. Теперь он вынужден следить за этой парочкой, чтобы найти старика — того, которого Кадри видел на улице. И когда ему удастся что-нибудь съесть?
Может, представится случай купить мороженое? Он его обожает. Клубничное. Или мятное. У них здесь очень вкусное мятное. Рожок. Или стаканчик.
Нет, рожок.
Он видит магазин «Севен-Элевен». Хотя там не особенно хорошее мороженое. Но зато, у них есть «Леденец», он такой ледяной и фруктовый. Если не будет очереди, он обернется минуты за четыре.
Это не так долго. Но, видно, не судьба — пара выходит из гостиницы с какими-то двумя необычными чемоданами, оба в кожаных куртках и со шлемами в руках. Они заходят за угол — оставаясь у него в поле зрения — и седлают огромный мотоцикл-внедорожник, что немедленно заставляет Энвера занервничать. За мотоциклами очень трудно следить. Даже если мотоциклист не в курсе, что его преследуют, он может лавировать между рядами, объезжать другие машины на светофорах, делать неожиданные повороты и исчезать в лесах.
Норвежец звонит по телефону, говорит совсем недолго и прячет его в карман куртки.
Белый «мерседес» очень заметен. Здесь никто не ездит на белых «мерседесах». Эту машину подарили ему друзья. Идиоты. Иностранцы всегда действуют в незнакомых местах, порядков которых они не знают, в соответствии с собственными представлениями о том, как надо.
Правильно было бы ездить на серебристом универсале «ауди А6». В Осло эта машина подозрений не вызовет. По городу проплывают тысячи таких автомобилей. Вместо этого он преследует мотоцикл «БМВ», который сворачивает на шоссе, ведущее на восток, в белом бандитском «мерседесе» без кондиционера и с единственным компакт-диском.
Он снова ставит диск. И вопреки всему улыбается.
Погоня началась.
Глава 7
Мотоцикл «БМВ GS-1200» плавно движется по дороге со скоростью 65 километров в час под тихое урчание оппозитного двигателя. Из-за правого плеча Ларса Рея видит, как мимо проплывает угловатое новое здание Оперного театра, белеющее на фоне синей воды фьорда. Центр города исчезает у нее за спиной.
Она расстегивает куртку, чтобы теплый воздух мог обдувать ее.
Речные крысы 59-й параллели.
Это не было бредом сумасшедшего. Это могло означать только одно: Шелдон направляется на северо-восток вдоль реки Гломмы. Там, в глухом лесу стоит летний домик, а в нем спрятаны две винтовки, о которых он узнал вчера.
Ларс все разложил по полочкам, когда они сидели в «Континентале».
— Я совсем не уверен, что из этого выйдет толк, но за четыре-пять часов мы успеем съездить туда и вернуться обратно. Вполне возможно, дед уже добрался туда. Если же нам удастся опередить Шелдона, я запру винтовки в более надежном месте, и мы будем его дожидаться. И в зависимости от обстоятельств, отвезем его либо в больницу, либо в полицию. Если мы ошибаемся, то продолжим поиски здесь. В любом случае домой нам возвращаться нельзя.
Рея выкручивала мотоциклетные перчатки, словно полотенца.
— А разве ружья не заперты?
— Ну да, конечно, но он сможет легко их достать.
— Почему ты так решил?
— Он же был часовщиком, — пожал плечами Ларс. — Я уверен, он без труда вскроет замок. Ты так не думаешь?
— Да, это не слишком обнадеживает.
— Да, не слишком. А он действительно был снайпером в Корее?
Рея покачала головой.
— Я не думаю. Бабушка рассказывала, что он начал говорить об этом после того, как убили моего отца. Она считала, что это его фантазии.
— Он хотел отомстить?
— Нет. Он всегда винил только себя. Некому было мстить.
После этого разговора они сели на байк и поехали.
За два часа они добрались до Конгсвингера и небольшого городка за ним, оказавшись в лесах у шведской границы, далеко за пределами известного Шелдону мира.
— Все началось, когда ты стала жить с нами, — рассказывала бабушка. — Сначала одно, потом другое. И постепенно крыша у него совсем съехала. Но он продолжал свою игру.
Мейбл не сказала, что все усугубил переезд Реи. Но она подчеркнула, что это произошло примерно в то время.
Рее было всего два года, когда в июле 1976 года, в разгар празднования двухсотлетия Америки, ее вручили деду с бабкой. Они были едва знакомы. Глаза малышки были широко распахнуты от страха, к груди она прижимала единственную свою собственность — одноухого синего зайчика.
А мать? Она пропала. Однажды она просто не вернулась домой. Саул к тому времени уже год как погиб. Она пила, скандалила и исчезла, как раз когда начали вывешивать флаги. Она просто больше не могла так жить.
Шелдон и Мейбл пытались поддерживать ее, когда она носила Рею. Ее собственные родители питали к ней исключительно отвращение, и она нуждалась в помощи. К несчастью для нее, для ребенка и для них всех, ее невозможно было понять. Горовицы не знали ее настолько близко, чтобы разобраться, что ей нужно. Она злилась на весь мир, но ее гнев не имел отношения ни к Саулу, ни к ее положению.
Шелдон и Мейбл никак не могли понять, что в ней, помимо очевидных соблазнительных форм и сексуальности, привлекло их сына. Мейбл рассуждала, что, возможно, Саул просто хотел исчезнуть, и единственным способом сделать это, не оставаясь при этом в одиночестве, было найти женщину, для которой он будет невидимкой.
В конечном счете, все это было неважно. Значение имела только девочка.
Рея выпытывала у деда, куда подевалась ее мать. Ей тогда было пять лет. Они сидели в мастерской, девочка держала в руках хромированный секстант, который обнаружила в бордовой коробочке. Шелдон корпел над какой-то сложной поломкой.
Когда она задала вопрос, он моментально отвлекся от работы. Отложив то, что было у него в руках, он произнес:
— Твоя мама. Твоя мама, твоя мама. Твоя мама… Однажды у нее выросли крылья, она улетела и стала принцессой драконов.
Ответив на вопрос, он надел очки и вернулся к работе.
Рея потянула его за кожаный фартук.
— Что тебе?
— А мы можем поискать ее?
— Нет.
— Почему?
— Тебе с нами плохо?
Рея не знала, что ответить на это. Она не понимала, относится ли это к ее вопросу.
Шелдон с грустью признал, что девочка не отстанет.
— У тебя есть крылья? — спросил он.
Рея нахмурилась и попыталась заглянуть себе за спину, но не смогла.
— Повернись.
Рея повернулась. Шелдон задрал ей платье, открыв красные трусики и бледную спину. Потом опустил подол.
— Крыльев нет. Ты лететь не можешь. Извини. Как-нибудь в другой раз.
— А у меня когда-нибудь вырастут крылья?
— Послушай, я не знаю. Я не в курсе, почему люди вдруг берут да и улетают. Но они это делают. Однажды у человека вырастают крылья, и он улетает, — и, посмотрев на нее, добавил: — Не беспокойся. У меня крылья не вырастут. Я птица без полета.
Она помнила себя с пяти лет. Но в 1976 году, когда ее привезли к Шелдону и Мейбл, она была еще слишком мала. Она не помнила ни флагов повсюду, ни транспарантов, ни оркестров, играющих на улицах. Ни политиков, произносящих речи. Ни только что отчеканенных монет и игрушечных барабанов. Это было через два года после Почти объявленного импичмента президенту, через год после поражения в двадцатипятилетней войне, в разгар социальных беспорядков, на фоне осмелевшего СССР, слабеющей экономики, нефтяного кризиса, метаний интеллигенции и фильма про то, как гигантская акула пожирает людей. Пока Америка праздновала двухсотлетие своего существования, эта маленькая девочка начинала новую жизнь, брала новый курс и навсегда должна была поселиться в тени умерших и исчезнувших.
Под треск фейерверков и гул авиапарадов работники социальных служб сдали Рею дедушке с бабушкой. Она не вынимала большой палец изо рта и не расставалась со своим зайчиком. Это случилось на парковке универмага «Сирс» поздно вечером. Девочка двое суток просидела дома одна, прежде чем соседи поняли, что никто не пытается успокоить плачущего ребенка, и не вызвали полицию.
Мейбл посадила ее на заднее сиденье «шевроле»-фургона и с громким щелчком пристегнула широким черным ремнем. Рея глядела на взрывы салютов в небе, видела, как облака становятся зелеными, потом красными, потом оранжевыми.
Но она ничего из этого не запомнила. Ей потом рассказывала Мейбл. Так же как и о том, что Шелдон начал слабеть головой и превратился в снайпера.
— Я помню тот разговор. Мы привезли тебя домой, переодели в старую одежку Саула, потому что ничего другого у нас не было, и твой дед сказал: «Ну ладно. Первого мы убили, но Господь дает нам второй шанс, чтобы все исправить. Интересно, получим ли мы приз, если эта вторая доживет до взрослых лет». То, что он сказал, было ужасно. Даже подумать такое нельзя. Только безумный человек может произнести нечто подобное. И вскоре после этого он начал придумывать истории про войну. Я могла объяснить это только душевной болезнью.
Сидя на заднем сиденье байка, Рея размышляет. Она пытается понять, когда индивидуальность переходит в эксцентричность. Когда гений превращается в безумца. Когда здравомыслие уступает — чему? Безумие — это просто отсутствие здравого ума. Это не какая-то отдельная категория. Это то, что не является здравомыслием. Это все, что нам известно. У нас нет для этого отдельного слова.
Она знает, что сказал бы на это Шелдон, и не может сдержать улыбки.
— Здравомыслие? Ты хочешь знать, что такое здравомыслие? Это густая похлебка из отвлечений, в которую мы погружаемся, чтобы забыть о том, что мы собирались ее съесть. Любое мнение, вкус и порядок, в котором ты замещаешь желтую горчицу коричневой, — это просто способ не думать. Здравомыслием мы называем способность отвлекаться. Так что, если, дойдя до конца, ты уже не помнишь, предпочитаешь ли ты коричневую или желтую горчицу, тебя объявляют сумасшедшим. Но это не так. На самом деле происходит вот что. В те редкие моменты просветления, когда твой разум мечется между желтой и коричневой, словно теннисный мячик на быстрой перемотке, ты внезапно останавливаешься и перестаешь отвлекаться. И тут оно происходит. Ты смотришь прямо через сетку на всех людей, пытающихся выбрать между коричневой и желтой горчицей, и… вот же она! В самом центре корта! Смерть! Она была тут всегда! Горчица направо и налево, отвлечения повсюду, а Смерть прямо напротив. Она врезается в тебя, как раскачивающийся чан с луковым супом.
Дорога становится хуже. Лес густеет по мере того, как они оставляют все дальше позади себя тихие синие воды фьорда и теряются в овеваемых ветром соснах, кленах и березах. Ларс съезжает на боковую дорогу, подальше от больших грузовиков и нервных городских водителей. Они взбираются на склоны холмов и наклоняются на поворотах в долинах. Байк с 1,2-литровым двигателем одолевает подъемы и спуски с мощью целого стада лошадей-тяжеловозов.
То, что с ними произошло, ужасно. Это так. Переключая мотоцикл на четвертую скорость, Ларс позволяет себе посмотреть в лицо обстоятельствам. Шелдон пропал. В их квартире убили женщину. Но Ларс уверен, что убийцу найдут, Шелдон объявится и настоящей опасности нет. Сигрид Одегард ведь сказала, что домашние разборки часто заканчиваются трагически. И, как бы это страшно ни звучало, Рее придется поверить, что это не было случайным актом жестокости. Война, геноцид или Холокост здесь ни при чем. Груз прошлого так явно тяготит Рею, что Ларсу иногда кажется, будто когда-то, в прошлой жизни, она была свидетелем всего этого — так четко она описывает те события.
То, что евреи считают себя очевидцами исторических событий, всегда действовало Ларсу на нервы. Они говорят обо всем как свидетели. Со времен Египта. Со времен начала западной цивилизации, когда ее свет только занимался в Иерусалиме и Афинах, а потом озарил Рим и все, что возникло на его руинах. Они были свидетелями того, как западные племена и империи поднимались и распадались — от Вавилона до галлов, от мавров до Габсбургов и Оттоманской империи. И только евреи остались. Они все это видели. И все мы до сих пор ожидаем приговора.
Дорога опять сужается, Ларс переходит на вторую передачу, сбавив обороты до четырех тысяч и держа байк ровно — слегка управляя рулем, чуть откинувшись назад — по песчаной обочине дороги.
Да, выкидыш — это ужасно. Но никто в этом не виноват. Рея в хорошей физической форме. Она питалась правильно, не выпила ни капли вина, не ела тунца и сыра с плесенью. Видимо, не судьба. Она отнеслась к этому спокойнее, чем он ожидал. Но, опять же, возникли отвлекающие факторы. А может, он знает ее не так хорошо, как ему кажется.
Но что плохого в том, чтобы наслаждаться моментом? Ощущать сквозь кожаные брюки тепло ее бедер, прижавшихся к нему? Они не ездили на байке с тех пор, как узнали о ребенке. Ему и так пришлось применить все свои способности к убеждению, чтобы она вообще согласилась на покупку байка. Нет, только не по ночам. Нет, никогда после кружки пива. Я не поеду в дождь. Я не буду орать на водителей грузовиков и провоцировать их раздавить меня колесами огромных фур.
Я даже не буду раздражаться на шведов.
Как хорошо, что она здесь со мной рядом, несмотря ни на что. Посреди этого неожиданно возникшего хаоса. Не это ли называется хорошим браком? Не это ли называется жить, пока живется?
Теперь они в лесу. В начале прошлого века эта дорога вела через густо поросшую долину в лесную глушь, населенную самыми северными представителями фауны. Ее проложили только после Второй мировой войны. Отсюда Норвегия простирается на север до бесконечности. Но именно здесь, на ветру, вдали от городов, начинает формироваться скандинавская целостность. Сюда дошли финны, и некоторые из них осели тут. Население пополняется и шведами. Нордические племена проходят здесь, словно кочевники, и огромные пространства самого удаленного форпоста человечества остаются открытыми и нетронутыми.
Ларс еще сбрасывает скорость и поворачивает с проселка на заросшую тропу, зимой он ходит по ней на лыжах, оставив машину на обочине с зарядкой для аккумулятора, электрическим одеялом и канистрой бензина в багажнике. Двери не заперты на случай, если несчастной душе, включая его самого, понадобится приют. Случалось, что пальцы замерзали настолько, что он не мог попасть в машину и включить одеяло.
Байк хрустит по гравию на извилистой тропинке, которая вскоре приводит к обширному лугу, простирающемуся насколько видит глаз. Вдалеке на фоне голубого неба стоит приземистый красный дом.
Пока Ларс рулит по траве, у них с Реей возникает одинаковое чувство. Сквозь карбоновый шлем он слышит ее слова:
— Его здесь нет.
Непонятно, откуда взялось это чувство, но оно верно. Они останавливаются слева от дома, рядом с участком, поросшим высокой травой, где стоит цистерна. Ларс глушит двигатель. Вентилятор мотора завывает некоторое время и стихает.
Сняв шлем, Ларс подходит к двери и дергает за ручку. Заперто. Он прижимается лицом к стеклу и осматривает деревенскую прибранную кухню. Все на своих местах. Кофемолка стоит там, где он ее оставил. Газовый баллон отключен от плитки. На доске никто ничего не резал. Все четыре стула стоят, придвинутые к столу. На буфете молчит транзисторный приемник.
Возвращаясь к байку, он замечает, что воды в цистерне мало. Давно не было дождя. Под жарким солнцем трава вокруг пожухла и приобрела желто-горчичный цвет. Ларс обходит дом сзади, идет мимо топоров, мотыг и граблей, вновь прижимается к стеклу и заглядывает внутрь. По-прежнему ничего: книги и журналы, пазлы, игры, масляные лампы и одеяла, охапка сухих дров для камина. Сине-белые тарелки и чашки выстроились на северной стене, подушки на скамье под окном — все как будто нетронуто.
За последнее столетие в этом домике мало что изменилось, если не считать появления запасного генератора и кое-каких средств связи. Они с отцом хотели оставить все именно так, как было. Рея поначалу сочла эту обстановку старомодной, почти примитивной, но потом ее мнение изменилось. Для Реи домик стал убежищем, где можно было спрятаться от агрессивной вселенной, а не сентиментальной реликвией.
Они могли бы остаться тут на ночь. Уже начало пятого, солнце еще высоко в небе. Возможно, Шелдон скоро появится. До Гломлии из Осло ходят поезд и автобус — проявив смекалку, он сможет на попутке добраться до места, где кончается дорога и начинается тропа. Он не знает адреса, но знает, что это красный дом, стоящий на холме. Он тут единственный. И все знают его владельцев. Найти будет несложно.
Если только она не права. Если только дед не потеряется и не окажется где-нибудь в Тронхейме или еще где. Или не попадет в полицию. Или еще что похуже.
Ларс обходит вокруг дома и видит, что Рея стоит в нескольких метрах от байка, устремив взгляд на что-то за строениями, дальше в лесу. Она все еще в куртке, со шлемом под мышкой. Ее черные волосы рассыпались по плечам, она замерла.
Когда Ларс приближается к ней сзади, она молча делает ему знак остановиться. Поднимает руку и, оборачиваясь к Ларсу, показывает на лес. И говорит почти шепотом:
— Кажется, там кто-то есть.
Глава 8
— Сначала понаблюдаем, — тихо говорит Шелдон. — Изучим их повадки. Как они двигаются. Что носят. Будем копировать их поведение, чтобы слиться с толпой и не выделяться. Чтобы мы могли вписаться в их культуру и стать своими. Тогда и только тогда, — обращается он к Полу, поднося бинокль к глазам, — мы начнем действовать.
Шелдон и Пол сидят на газоне у вымощенной камнем улицы, проходящей вдоль фьорда рядом с крепостью Акерсхус, и наблюдают за группой толстяков, сходящих на берег с прогулочного катера. Они стекают по трапу, словно жир из бока раненого белого кита, выплескиваясь на дорогу ниже крепости, и двигаются мимо ратуши и Акер-Брюгге к центру города.
— Вон, вон, гляди туда. Рядом с тем большим парусником «Кристиан Радик». Посмотри на них. Вон те маленькие лодки. Может, тот четырехметровый катер с навесным мотором. Такое ощущение, что он годами стоит на приколе.
Шелдон откладывает бинокль и листает гид «Одинокая планета», который так помог ему ориентироваться в городе.
Если бы только у него был такой в Северной Корее, насколько проще было бы выполнять разведзадания.
— Мы сольемся с толстозадиками, нам нужно одолжить один из тех катеров, и потом отправимся на юг. Я бы предпочел на север, но для этого нужна машина.
Шелдон садится и осматривает Пола. Тот все еще похож на медвежонка Паддингтона, только без красной шляпы.
— Нам надо замаскироваться. Пошли. Они не будут спускаться вечно. У нас примерно пятнадцать минут, чтобы использовать их для прикрытия, пока мы будем угонять катер.
Держа Пола за руку, Шелдон выбирает дорогу, ведущую из города, мимо древних пушек, вниз к стенам крепости, где тропинка спускается к приземистой каменной башне и дальше к бухте.
На набережной они сразу поворачивают направо и неспешным шагом направляются к прогулочному катеру, где разноцветные колобки собираются в небольшие группы и перемещаются на север, в сторону намеченной Шелдоном цели.
— Смотри сюда, — говорит он Полу.
Проходя мимо особенно многочисленной группы рассеянных и беззаботных отдыхающих, Шелдон, невзначай натолкнувшись на одного из них, с неожиданной ловкостью выхватывает ветровку из открытого рюкзака, и вместо того чтобы спрятать ее, немедленно натягивает на себя, несмотря на прекрасную погоду.
— Прятаться надо на виду. Там никто искать не будет, — поясняет он Полу. — Так, теперь туда, на тот пирс.
Двигаясь в толпе детишек в сандалиях, их странная пара напоминают листики, попавшие в листопад. Шелдон продолжает говорить с Полом, пока они плетутся по дороге.
— Почему люди всегда сравнивают размер растущего в чреве матери плода с едой? «Он размером с горошину. Теперь величиной с фасолину. Размером с вишню. Величиной с банан». Есть в этом что-то отвратительное. Ты не находишь, что это гадко?
Пол шагает, глядя себе под ноги. Прошло меньше суток с тех пор, как они прятались в стенном шкафу. Шелдон не может этого не учитывать. Он просто не знает, что с этим делать.
— Никогда не скажут: «Он величиной с кошелек для мелочи» или «Он в длину не больше, чем проездной билет». Они рассуждают, как бы его съесть, еще до рождения. Вон, вон, гляди. Вон там. Вот этот. Все, что нам надо сейчас делать, это выглядеть уверенно.
Шелдон и Пол минуют трехмачтовый парусник и огибают набережную, отрываясь от разноцветной толпы. Словно преступники, они проскальзывают мимо здания Управления порта и спускаются по невысокой лестнице к причалу. Справа на волнах едва покачивается пустой полицейский катер — прямо напротив катера, который присмотрел Шелдон.
Когда-то давным-давно он был выкрашен в цвета норвежского флага — ярко-красный, белый и синий. Теперь катерок слегка облез. Это большая весельная лодка с не по размеру маленьким подвесным мотором на корме и рулем.
Шелдон осматривает суденышко. И качает головой, глядя на Пола.
— Евреям не положено есть морепродукты. Я думаю, так Он дал нам понять, что мы не должны становиться моряками. Ну да ладно, давай будем делать то, что должно.
Шелдон хватает швартов и подтягивает катер так, чтобы можно было в него шагнуть. Он осторожно ставит ногу в лодку и тянется за Полом.
— Давай. Все хорошо.
Пол не двигается.
— Ну правда, смотри, я уже плавал на лодке. На той лодке даже не было мотора. Я знаю, как управлять ею. Без проблем. Точно. Я уверен. Ну, более или менее.
Шелдон никогда не понимал детей. Когда Саулу не было еще и двух лет, он выскакивал из коляски и бежал, как пьяный, к детским качелям.
Та да, та да, повторял он.
— Туда хочешь? Ты хочешь туда пойти? Конечно. Почему бы нет.
И Шелдон сажал сына на качели, после чего тот немедленно начинал рыдать и биться в истерике.
— Но это же не я придумал. Это была твоя идея. Я всего лишь твой подъемный кран. Я тебя поднимаю и опускаю. Ты сказал «хочу туда», я тебя и посадил. Ну, успокойся. Ладно тебе.
И он снимал Саула с качелей, после чего ребенок орал еще сильнее. Подобное поведение Шелдон объяснял влиянием женщин.
И почему Пол сначала ни в какую не хотел идти в лодку, а потом вдруг сам шагнул?
Кто знает? Потому что.
Оказавшись в лодке, Шелдон действует быстро. Заводить лодочный мотор без ключа ему не приходилось со времен Кореи. Тогда это было одним из элементов курса подготовки разведчиков. Логика сержанта-инструктора была, как обычно, железной.
Мы не можем выпихивать вас из самолета с винтовкой, заставлять совершать марш-броски по двадцать километров по вражеской территории, избегая коммуняк и местной фауны, только для того, чтобы вы дошли до места и поняли, что забыли ключи. Так что учимся обходиться без ключей. Урок первый: начнем с молотка…
Приблизительно десятый урок был посвящен более изощренным способам, например: обнаружить нужное место в моторе и подсоединить главный провод напрямую от аккумулятора к стартеру. Все это не бином Ньютона — конечно, если мотор не слишком сложный. А этот сложным не был.
Шелдон определяет, сколько в наличии топлива, проследив за трубкой от насоса к пластиковой канистре под задним сиденьем. Отметины на поверхности канистры показывают, что там осталось десять литров топлива. Это малый четырехтактный двигатель, который расходует меньше топлива, чем двухтактный, так что, по прикидкам Шелдона, им должно хватить на четыре-пять часов хода, что немало. Разумеется, непонятно, где они в итоге окажутся, но это в данный момент несущественно.
Пока Шелдон проверяет, не окислились ли контакты свечей зажигания, по ступенькам к пирсу спускается полицейский и направляется в их сторону.
Шелдон снимает пластиковый кожух мотора, в это время полицейский проходит мимо, не глядя на них.
— Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, — не отрываясь от работы, говорит Шелдон Полу. — Разве мы не выглядим подозрительно? По правде говоря, нет. Когда ты в последний раз слышал о том, что восьмидесятилетний старец в оранжевой куртке угонял лодку, пришвартованную рядом с полицейским катером? Ответ: никогда. Это немыслимо! Вот так сходят с рук любые проделки. Делай невообразимое на глазах у всех. Люди обязательно решат, что так и надо.
Когда мотор, чихнув и фыркнув, заводится, Шелдон отвязывает причальный трос и бросает его конец на пирс.
— В Нью-Йорке это было бы посложнее. Какой-нибудь умник подошел бы объяснить, как чинить мотор, или спросил бы, что я думаю о том, что «Янки» проиграли «Ред Сокс». А знаешь, что я думаю? Я думаю, что это прекрасно — вот что я думаю. «Янки» этого заслуживают. Давай надеяться, что никто не попытается заговорить с нами по-норвежски.
Шелдон толкает руль влево и мягко выкручивает дроссель, выплывая из дока во фьорд Осло. Он ведет маленькое судно в обход сверкающего белого корпуса парусника «Кристиан Радик» и направляется в глубокие синие воды бухты, оставляя позади Осло и все то немногое, что он знает об этой стране.
Часть II
РЕЧНЫЕ КРЫСЫ
Глава 9
До сего дня Шелдон ходил по воде лишь мысленно. Это началось в 1975 году, одновременно с видениями, о которых он рассказывал Мейбл. Их источник был абсолютно понятен: письмо от Германа Уильямса, одного из сослуживцев Саула, который был с ним в лодке, когда его ранило. В письме были изложены обстоятельства гибели Саула.
Видения были вызваны фактами, но они выходили за рамки фактов. Они были ужасающими и очень правдоподобными и стали по-настоящему преследовать его в 1976 году, с появлением в их доме Реи.
В своих видениях Шелдон патрулировал дельту Меконга с Саулом, Германом Уильямсом, Ричи Джеймисоном, Тревором Эвансом и капитаном — человеком по имени Монах.
Видения начинались с эдаким простодушным оптимизмом.
Шелдон получил задание от агентства «Рейтер». Его хорошо известная книга воплощала стиль агрессивной фотографии, которая была им нужна. Наличие собственного военного опыта вызывало доверие у молодых людей, чей вклад в военные действия он должен был запечатлеть. Ему перевалило за сорок, он был, может, не в лучшей физической форме, но вполне строен и проворен. Ему позвонили как-то поздно вечером, когда они с Мейбл смотрели шоу Джонни Карсона. Карсон брал интервью у Дика Каветта, и их комичная пикировка заставляла смеяться до колик.
— Вас беспокоят из агентства «Рейтер». Вы нам нужны. Вы готовы?
— Мои вещи собраны со дня начала Тетского наступления[6].
— Наш человек. Выезжаете утром?
— Утром? Зачем ждать? Я могу прямо сейчас.
За час его доставили в Сайгон, откуда за три минуты он добрался до базы Саула на слоне, в то время как непальские шерпы несли его багаж. Командир-полковник показал ему большие пальцы в знак одобрения, Шелдон подмигнул ему в ответ. Было здорово снова оказаться в строю, среди мужчин. Но как же молоды они теперь! В его время военнослужащие были старше. И вообще, был ли он когда-нибудь таким молодым? Конечно нет. В Корее сражались настоящие мужчины, а не кто попало. Мужчины с музыкальным вкусом получше, чем у нынешних.
Когда старый морпех вошел в казарму, его встретили одобрительным гулом приветствий. Несмотря на его низкий чин, они отдавали ему честь, и он отвечал им тем же. Проявляли уважение к старой гвардии. Им было известно, что он один из них, а не какой-нибудь задрот из «Старс энд Страйпс», который приехал сделать парочку пропагандистских снимков. И не какой-то хиппи, мечтающий пристроиться к заблудшей заднице Джейн Фонды. Ничуть. Это был настоящий мужик, и он приехал снимать жизнь на Реке. Там, где насекомые такого размера, что могут утащить вьетнамского ребенка, где в воздухе стояло напряжение и было только одно правило: нельзя жрать мертвяков.
Донни закинул рюкзак на верхнюю полку и сам последовал за ним. Ему нужно хорошо выспаться, потому что завтра он поплывет на лодке с сыном. И он не хотел, чтобы сыну было стыдно за него перед товарищами.
До того как вырубиться, он прошептал:
— Эй, Герман? Ты не спишь?
— Да, Донни. Чего тебе?
— Почему капитана называют Монахом?
— А, это. Он не хочет тут быть.
— А кто хочет?
— Нет, я имею в виду, он действительно не хочет.
Воды Осло-фьорда мирно протекают под корпусом катера, и 20-сильный мотор уверенно ведет их на юго-запад. Шелдон Сидит на пластиковой скамье у руля. На нем украденная ветровка и очки-авиаторы, которые оказались в кармане куртки. Пол — на третьей скамье, ближайшей к носу. Шелдону интересно, плавал ли Пол до этого на лодке.
В путеводителе «Одинокая планета» есть карта фьорда. Прокладывая курс, Шелдон пользуется ею. Чтобы не столкнуться с датскими паромами и круизными лайнерами, он выбрал путь не по широкому каналу, а между островами Ховедойя и Блеикойя, а потом между Линдойей и Грессхолменом. Он очень надеется, что норвежская береговая охрана не страдает нервными расстройствами и не будет задавать лишних вопросов.
Однако не они одни вышли в плаванье. Кругом полно парусников, байдарок, катамаранов, яликов, гоночных яхт и кэтботов. Люди машут Шелдону и Полу. Шелдон машет им в ответ.
Большая часть малых судов, похоже, направляется в сторону Несоддтангена, они огибают оконечность полуострова и идут на юг. Медленно, но верно, держась как можно ближе к суше, Шелдон следует за ними. Он везет мальчика по сверкающим волнам навстречу легкому ветру, подальше от ужасов вчерашнего дня в сине-зеленый мир, который не знает ни кто они, ни откуда прибыли.
По мере того как город вместе с бухтой, оперным театром и ратушей остается позади, спадает и напряженность, становится очень тихо. Вместе с тишиной проявляются незаметные в обычных обстоятельствах утренние звуки.
Сидя в шкафу, Шелдон слышал хрипы Сенки, представлял себе, как она беспомощно размахивала руками, отчаянно цепляясь за жизнь, и как силы покидали ее. Он ощущал ненависть, которой был полон убийца. Представлял себе ее расширившиеся от ужаса глаза, когда она поняла, что смерть неизбежна и шанса на спасение нет.
Глядя на сидящего на носу Пола, который наклонился и дотронулся до воды, струящейся из-под их утлого суденышка, Шелдон думал о том, что же творилось в голове у мальчишки, когда отчаянные крики матери сменились тишиной. Остается надеяться, что ребенок не обладает столь богатым воображением, как он сам. Эти мысли неизбежно возвращают его к событиям, происходившим на вьетнамской реке.
Это деменция, Донни.
Мейбл его не понимала. У нее были другие способы не сойти с ума. Но он все же хотел ей объяснить, что она не права.
— Можно ли считать слабоумием то, что в конце жизни ты хочешь впустить в нее прошлое? Не есть ли это разумное желание здравомыслящего человека, стремящегося осознать свой завершающий шаг — в темноту? Последняя попытка все связать воедино перед великим затмением? Разве это такое уж безумие?
— Мы должны обернуться часа за три-четыре, — сказал Герман. — Примерно в четырех километрах отсюда упал «Фантом», в штабе считают, что пилот катапультировался. Так что нам предписано подобрать его костлявую задницу, пока ему не пришлось реально отстреливаться.
Монах, как обычно, молчал, пока остальные грузили снаряжение в лодку. Шел дождь, и все страдали от похмелья после трехдневной пьянки по поводу начала второго года Саула в ВМС и его возвращения на реку.
Саул особо не разговаривал с отцом. Так, по необходимости. «Передай мне ту веревку» или «Есть закурить?» Шелдон не обижался. Он старался повнимательнее наблюдать за работой парней. И не хотел никому мешать. Но в своих видениях — в том, как он запомнил место, где никогда не был, — он панически боялся упустить хоть одну деталь. В нем говорила эта еврейская страсть все документировать. Запоминать. Держаться за каждый лучик дня и убеждаться в том, чтобы другие узнали, что этому были свидетели. Тому, что некогда было и чего больше не существует.
Монах очень осторожно управлял лодкой. Шелдон фотографировал его руки на руле. Он сделал портрет Монаха в лучах заходящего солнца: его лицо и угловатая фигура темнели на фоне реки.
Было нечто зловещее в его манерах. Подспудная боль. Некий план. Шелдон видел все это через объектив фотоаппарата.
Он сфотографировал длинные и тонкие черные пальцы Германа, которые, родись все эти люди на другой планете, могли бы научиться ремонтировать часовые механизмы.
Он наблюдал за тем, как Тревор чистит винтовку, — с подобным усердием обычно ухаживают за охотничьим ружьем, доставшимся от дедушки.
Он снял Ричи и его улыбку, удивляясь тому, насколько часто людям подходят их имена.
Шелдону нравилось плыть на лодке. С 1975 года, когда он начал регулярно плавать с ними, он редко тревожился за Саула, несмотря на то что знал, каков будет конец у этой истории. Он не смотрел на сына печальным взглядом отца или боевого товарища. Он просто присоединялся к поездке. Познавая происходящее. Находясь внутри событий. Купаясь в теплой атмосфере товарищества.
Ему нравилось видеть в сыне мужчину. Именно этого он добивался, напоминал себе Шелдон. Так ведь? Чтобы его сын стал мужчиной. Американским солдатом.
Истребитель F-4 «Фантом» был сбит ракетой «земля — воздух» советского производства. Пилот, по общему мнению, был ни в чем не виноват. Также, по общему мнению, летчикам было легко воевать. Они сидели в кондиционированных палатках, пилили свои драгоценные ногти, потягивали тоник, играли в джин и дрочили на новенькие, не засаленные журналы. Когда раздавался гонг, они надевали щегольскую форму, от которой все девчонки теряли голову, садились в кабины сверкающих самолетов, начищенные и отполированные для них какими-то лакеями, и минут пятнадцать поливали напалмом дома, людей, скот, посевы и что там было еще. После, когда их большие пальцы уставали давить на гашетку, они возвращались обратно на базу и стирали единственную каплю пота, проступившую на лбу, пока пресса фотографировала их. После этого они возобновляли столь грубо прерванную раздачу карт, Хезер или Ники из «Красного Креста» массировали им усталые плечи, а они заливали девицам в уши рассказы о своей безудержной храбрости.
Жизнь пилотов была кучерявой, и речные ребята не стали бы принимать их рассказы на веру. Им было наплевать, например, на то, что ракеты «земля — воздух» были самыми совершенными самонаводящимися ракетами, изобретенными Советами, и на то, что их запускали по низколетящим самолетам, у которых оставалось 1,7 секунды на ответ, прежде чем они потеряют левую часть фюзеляжа. Им было все равно, превосходил их противник по силе или нет. На обратном пути пилоту придется туго и, зная об этом, каждый находящийся в лодчонке боец готовился совершить подвиг.
Главной задачей поисково-спасательной операции было обнаружение сбитого самолета до того, как это сделают вьетконговцы, кровожадные сволочи. Но это была их земля, и они демонстрировали превосходное умение ориентироваться на ней. Поэтому, когда самолет падал, они моментально его находили, а речные бойцы, напротив, искали долго.
Монах был шкипером. Пока они сплавлялись по реке, им оставалось лишь целиться из М60 по джунглям, травить анекдоты или вспоминать девчонок, с которыми у них ничего не было. По крайней мере, физически.
Лил дождь, лодка с урчанием двигалась по протоке шириной метров двадцать. Мимо под прицелом бойцов проплыли местные, но никто не остановился и даже не поднял взгляда.
Тревор сидел за спиной Монаха в позе, которую Шелдон находил напряженной, как будто он был готов вскочить со скамьи и… что-то сделать. Трудно было предсказать, что могло произойти дальше. Прыгнет за борт? Или набросится на Монаха?
Шелдон сидел на корме и фотографировал джунгли. Пытался понять эту местность, людей, войну. В Корее все было по-другому. Там коммунисты атаковали Юг с помощью СССР, и ООН приняла резолюцию, пока советский посол отлучился в туалет, но все было довольно однозначно. А вьетнамская война была не такой однозначной. И конечно, весь фокус состоял в том, что южные корейцы хотели, чтобы мы пришли. А здесь — не особенно.
После трех часов патрулирования лодка остановилась у небольшого причала. Монах сидел неподвижно. Он просто бросил рацию Саулу и посмотрел на Германа. Ричи, который был старше по званию, сказал:
— Пойдут Вици и Уильямс. Вперед.
Вици — так они называли Саула, Потому что Горовиц было длинно, а Саул — слишком старомодно.
Почему эти двое? Вици и Уильямс? Потому что они просто просились на язык, вот почему.
— Я тоже пойду, — сказал Шелдон. Никто не отреагировал, как будто его и не было.
Саул протянул Ричи письмо, которое он написал:
— Отправь, если я не вернусь.
— Окей, — просто ответил Ричи.
Саул ступил на причал, в одной руке он держал винтовку, в другой — рацию. Он произнес:
— Моя девушка беременна. Это вообще круто или как?
— Тебе надо поехать домой, — ответил Ричи.
— Наверное, надо, — отозвался Саул и потопал по причалу вслед за Уильямсом.
Они миновали маленькую деревеньку, которая казалась покинутой. На пятачке бурой слякотной земли ютились четыре соломенных хижины. Под дождем ржавело колесо от велосипеда. По столу из перевернутой корзинки рассыпались гнилые овощи. Шелдон все это сфотографировал и двинулся дальше.
Саул шел первым, за ним — Уильямс и потом — Шелдон. Саул был хорошим солдатом. Не отвлекался на посторонние мелочи, не болтал на ходу, был внимателен. Но в двадцать с небольшим трудно идти медленно, концентрировать внимание и говорить тихо.
Выйдя на небольшое рисовое поле, Саул сверился с компасом и указал налево. Потом обернулся и посмотрел назад, сквозь Шелдона, стараясь запомнить, как будет выглядеть обратная дорога. Этот ценный урок Шелдон получил в Корее. Он услышал слова все того же сержанта-инструктора: «Причина, по которой местность кажется незнакомой, когда идешь в обратную сторону, состоит в том, что она другая. Вы ее раньше никогда не видели, не так ли? Если вы не обернетесь, откуда вам знать, на что ориентироваться? Эй ты! Недоумок! Каков правильный ответ?»
В тот день недоумком назвали другого. Но на его месте мог быть и Шелдон, как частенько случалось. Оказавшись в Инчхоне, он радовался, что усвоил все эти уроки.
Они почуяли запах самолета, прежде чем увидели его. «Фантом» только наполовину успел выполнить свою миссию, поэтому на землю он упал с хорошим запасом горючего, которое при горении издавало совсем другую вонь, чем подожженная напалмом человеческая плоть. По шкале вонючести, придуманной Германом, она составляла всего два балла, в то время как разлагающиеся на солнце трупы тянули на девять. На десять баллов оценивалась вонь официальных уведомлений.
Саул не мог по запаху определить, в какую сторону идти. Но вскоре под ногами стали попадаться фрагменты самолета. Сначала просто какие-то ошметки, болты и куски искореженного металла, но этого было достаточно, чтобы понять, что они двигаются в верном направлении.
Шелдон взглянул на часы. Они пробыли в джунглях всего пятнадцать минут.
Саул направился к небольшому возвышению. Идея была неплохой: обзор местности оттуда лучше. Прежде чем они достигли вершины, Уильямс присвистнул сквозь зубы и позвал:
— Вот тут. Посмотрите.
Саул и Шелдон повернули налево. В пятистах метрах от них по земле были разбросаны крупные части фюзеляжа.
— Кто-нибудь видит этого говнюка пилота? — спросил Уильямс.
Саул указал налево:
— Вон там вроде бы парашют.
— Точно. Давай сначала посмотрим, нет ли розовых осколков кабины, — предложил Уильямс.
Пока они спускались к самолету, Шелдон разглядел фигуру, прислонившуюся к дереву у тропы, присутствие которой было здесь абсолютно неуместно. Саул прошел мимо, как будто не замечая ее. Когда к фигуре приблизился Уильямс, Шелдон крикнул:
— Герман, справа!
— А, это всего лишь Билл. Забудь о нем. Этот козел все время возникает, да все без толку. Никогда не поможет.
Приблизившись, Шелдон увидел, что это и вправду Билл Хармон, его приятель из Нью-Йорка. На Билле были поношенные штаны, дешевые ботинки, синяя сорочка и твидовый пиджак. Во время этих рейдов между 1975 и 1980 годами Билл не появлялся. Он стал возникать и вмешиваться только после своей смерти. Правда, Шелдон вовсе не был уверен, что это в самом деле Билл. Скорее он напоминал Билла. Говорил те же глупости, но что-то в нем было не то. При жизни Билл никогда не заставлял Шелдона чувствовать беспокойство. А этот парень тревожил.
— Билл, что ты тут делаешь?
— Ищу старинные вещи.
— Что-что?
— Французы-колонизаторы жили здесь веками. В Индокитае спрятано множество сокровищ, которые я смогу выгодно продать в своем магазине.
— Ты выпил?
— Время два часа дня, и мы во Вьетнаме. Конечно, я выпил. А ты будешь?
— Мне надо идти. Мы должны найти пилота.
— Пилот погиб, — сказал Билл. — Его подстрелили у самой земли. Ничего интересного. Тебе не стоит туда ходить.
— Ну тогда я скажу парням, и мы пойдем обратно.
— Они тебе не поверят.
— Почему? Ты что, призрак прошедшего Рождества? — И, не дожидаясь ответа, Донни закричал: — Эй, Уильямс! Стой. Пилот погиб. Нам надо возвращаться к лодке.
— Откуда ты знаешь?
— Так говорит Билл. Он знает.
— Не стоит доверять Биллу, Донни.
— Но иногда он бывает прав.
— Конечно. Но кто может сказать, когда именно? Кроме того, это не мое решение.
— Тогда передай Саулу.
— Хорошо.
И Герман сказал что-то Саулу, но тот лишь пожал плечами и продолжал идти. Правда, через несколько минут он призадумался и замедлил шаг. Первый раз за все время рейда он повернулся и обратился к отцу:
— Пап, чего ты хочешь?
— Я хочу, чтобы мы вернулись домой. Я хочу, чтобы ты жил дальше.
— Надо было подумать об этом раньше, когда ты предлагал мне поехать сюда.
— Ты прав, и я об этом сожалею. Но я не предлагал тебе сюда возвращаться. Эта вторая командировка — твоя идея.
— А ты хорошо помнишь наш разговор об этом?
— Я мог сказать что-нибудь про то, что Америка воюет. Но если я это и говорил, то не имел в виду, что ты должен вернуться. Ты выполнил свой долг. В отличие от многих.
— Ты сам решил пойти с нами. Я не могу повернуть назад, не могу написать в рапорте, что Билл Хармон возник из джунглей и сообщил нам о местонахождении пилота.
— А ведь ты любил Билла.
— Я и сейчас люблю, — ответил Саул. — Но вряд ли на него можно сослаться, тебе не кажется?
— Это безумие!
— Твое безумие. Что дальше? Ты возвращаешься или остаешься?
— Я хочу быть рядом с тобой.
— Ну ладно тогда. И не шуми. Вокруг полно вьетконговцев.
И они двинулись дальше, оставив Билла позади.
Шелдону показалось, что они очень быстро дошли до места. Самолет и не пытался совершить вынужденную посадку: развалился прямо в воздухе и рухнул на землю с неуклюжестью метеорита.
По стечению обстоятельств, кабина пилота практически не пострадала. Шелдон сфотографировал ее.
Поддавшись импульсу, Саул бросил:
— Герман, иди проверь кабину. Я поищу парашют.
Потом Саул повернулся к отцу и спросил:
— Ну? Идешь со мной или остаешься?
— Я хочу быть рядом с тобой.
Единственным желанием Саула было забрать домой этого проклятого пилота. За этим его сюда прислали, этому его обучали, и он хотел это сделать. Потому что американец не должен оставаться гнить в зеленом азиатском компосте. Ему следует быть дома со своей семьей.
Парашют свисал с очень высокого дерева на краю болота, которое Саулу и Шелдону пришлось преодолеть. Пилот был чернокожим, что удивило их обоих: в 1974 году не так часто встречались чернокожие пилоты. И, как и сказал Билл, он был мертв. У бедолаги даже не было шансов долететь до земли. Вьетнамцы не понимали, что такое чернокожий; они никогда не встречались с выходцами из Африки. Они считали, что это такая маскировка. Были зарегистрированы случаи, когда они пытались оттереть черноту стальными щетками.
— Так, хорошо. Пошли, — произнес Шелдон.
— Мы должны его снять, — сказал Саул.
— Нет, не надо.
— Мы должны.
— Нет. Ни черта мы не должны!
— Ты же тащил Марио к своим, — напомнил Саул. — Ты рассказал его родителям. Его отец обнял тебя и плакал.
— Я был на берегу, в безопасности. А ты один в джунглях. Этот бедняга здесь…
— Давай же, помоги мне срезать его.
— Саул, будь благоразумным. Вьетнамцы знают, что ты придешь за пилотом. Они это знают, и велика вероятность того, что они были тут до тебя.
— Тогда почему они меня не подстрелили?
— Потому что раненого надо нести. А так они положат двоих или троих, а не одного.
— Меня можно взять в плен.
— Ну откуда мне знать, черт возьми?
Тогда Саул разозлился, и его прорвало:
— Там на дереве висит негр. Этот негр — американский солдат. Как же я могу его здесь бросить? Как же я уйду от него? Объясни мне, как я его тут оставлю и после этого буду твоим сыном? Так что я сделаю, что должен. Богом клянусь, сделаю.
На это Шелдону нечего было возразить. Совсем нечего.
Саул забросил за спину винтовку и полез на дерево.
Добравшись до места, он схватил ветку и принялся срезать армейским ножом веревки и шелк парашюта. Ноги пилота находились примерно в двух метрах над землей. Падение было недолгим, но почему-то показалось очень медленным. Когда тело грохнулось на землю, Шелдон почувствовал приступ рвоты.
Пока Шелдон смотрел на все это, на него накатили первые волны смирения. Он был здесь на задании много раз и знал, что случится дальше, когда и как нахлынет ужас. Это вот-вот произойдет. Саул пойдет обратно по единственной тропе по направлению к самолету, Герман двинется ему навстречу — он уже сжег карты и документы, чтобы они не достались врагу.
Он знал, что будет дальше. В этот момент он чувствовал себя, как Кассандра перед тем, как ее объявили сумасшедшей. Это был драгоценный момент. Настолько драгоценный, что Шелдон все откладывал его, позволяя себе спать по ночам с этим знанием будущего.
Именно в это мгновение — пока Саул спускался с дерева, прятал нож, снимал солдатские жетоны с тела погибшего, чтобы положить их в левый карман гимнастерки, — на глазах Шелдона его сын превратился в мужчину.
Ничего особенного не произошло. И не было никаких свидетелей этому. Ни малейшего героизма. Простой жест достоинства и уважения одного мужчины к другому. Никем не замеченный и забытый жест капрала Саула Горовица, спасавшего бренные останки лейтенанта Элая Джонсона, вобрал в себя все достижения человечества.
Перед самым концом своей жизни он был велик.
В этот момент Шелдон поднес фотоаппарат к глазу и нажал на спуск.
Щелкнул затвор, события стали развиваться стремительно. Шелдон увидел, как Саул наступает на растяжку. Раздавшийся взрыв унес жизнь единственного ребенка Шелдона. Он видел все происходящее, стоя слева от тропы прямо напротив Саула и Элая Джонсона.
Услышав взрыв, из-за спины Шелдона к Саулу бросился Герман.
Вьетконговцы набивали фугасы гвоздями, металлическими шариками и, по иронии судьбы, патронами от американских винтовок, захваченными в предыдущих боях.
И все эти штуки впились в ноги, пах и нижнюю часть корпуса Саула.
Он рухнул еще до того, как его лицо исказила боль, потому что не было больше ни костей, ни мышц, ни сухожилий, чтобы удерживать его. Тело лейтенанта Джонсона не привезут на базу. Родителям передадут и захоронят в гробу только его жетоны.
Герман закричал и почти сразу начал плакать. Он ухватил Саула за воротник и со всей силой, на которую способен человек в отчаянном положении, взвалил его себе на спину, так же как Саул тащил Джонсона, как Донни тащил Марио, и другие мужчины на других войнах тащили на себе своих товарищей.
Как только Герман побежал, началась стрельба.
На Шелдона больше никто не смотрел. Никто не обращал на него никакого внимания. Даже Билл Хармон исчез.
Герман пробежал по джунглям целый километр, через деревушку, до лодки. Ричи палил из М60 по зарослям, обеспечивая огневое прикрытие, не имея понятия, прячется там кто-нибудь или нет.
Тревор так и замер на скамейке позади Монаха.
Как только все трое залезли в лодку, они двинулись и скоро отплыли от берега.
Но это было еще не все.
Монах развернул лодку, течение понесло ее, и они оторвались от тех, кто сидел в зарослях.
Герман проверил пульс у Саула, воткнул шприц с морфием ему в сонную артерию, наложил две большие повязки на бедренные артерии. Эти повязки будут поддерживать жизнь в Сауле в течение трех дней, пока его будут доставлять в порт, но он так и не придет в себя.
Шелдон сидел на скамье рядом с Тревором. Он ничем не мог помочь Саулу — своему сыночку, который когда-то с неподдельным интересом изучал его нос, стоя у него на коленях, и тыкал пальцем в растроганное лицо отца.
Он безвольно наблюдал, как лодка, обогнув поворот реки, выплыла прямо на деревянные плоты. Широко раскрытыми глазами Шелдон смотрел, как с плотов их начали поливать пулеметными очередями, пробивая корпус лодки.
Как только полетели пули, Монах отпустил руль. Тревор, сидевший наготове, прыгнул вперед, схватил руль и на бешеной скорости направил лодку прямо на первый плот.
Монах перешел с кормы на нос, встал во весь рост и раскинул руки, словно бразильский ныряльщик на краю скалы или распятый Иисус.
Ричи разнес один из плотов из своего М60. Когда плот развалился, в воздух взлетели щепки и красные фонтаны крови.
Герман возился с Саулом, Тревор управлял лодкой, а Монах продолжал стоять, не замечая ничего вокруг себя, не видя, что Саул истекает кровью.
Это был последний отчетливый образ, виденный Шелдоном в том сне. С ним он проснулся, чтобы поговорить с Мейбл и задать ей вопрос. С этим вопросом он до сих пор просыпается по утрам. Почему-то все, что происходило после того момента, представляется ему смутным. Он знает, что лодка доплыла до базы. Саула эвакуировали в Сайгон, где он умер в госпитале. Его письмо отправили, как и было обещано, и Рея получила свое имя. Тревор и Герман продолжили службу в речной мобильной группе до конца срока и потом вернулись домой.
Монаха так и не подстрелили. Но говорят, что в другом бою он нырнул в Меконг, да так никогда и не выплыл.
Глава 10
Слева по борту к ним приближается деревушка Фласкебекк. Шелдон старается держаться как можно ближе к берегу. Береговая охрана, считает он, вряд ли заинтересуется лодкой, плывущей вдоль побережья. На случай, если что-то пойдет не так, лучше быть тут. Погода, похоже, не изменится, течение несильное.
Разумеется, он не представляет себе, что скрывается под поверхностью воды, но одним из преимуществ плоскодонки является ее малая осадка. Лодка не обладает хорошими мореходными качествами, зато ею легко управлять.
Цель его путешествия — ружья — носят имена Моисей и Аарон. Пушки, в честь которых они были названы, согласно путеводителю Шелдона, находятся в крепости Оскарсборг, на лежащем недалеко прямо по курсу острове Сондре Кахолмен. 9 апреля 1940 года немцы послали во фьорд Осло корабль «Блюхер» водоизмещением четырнадцать тысяч тонн, чтобы атаковать столицу, захватить короля и вывезти национальный золотой запас. Несмотря на то что в крепости не хватало людей, там было три 283-миллиметровые пушки производства завода Круппа — «Моисей», «Аарон» и «Иисус», а также командующий офицер, с презрением отнесшийся к преимуществу врага в вооружении.
Как только немецкий боевой корабль вошел в бухту вблизи Дробака, полковник Биргер Эриксен и его малочисленное подразделение обстреляли «Блюхер» с расстояния одной морской мили из пушек «Моисей» и «Аарон». Сделанных ими двух залпов хватило, чтобы решить исход сражения. Первый залп повредил корпус, выведя из строя немецкую артиллерию и топливные цистерны, второй лишил корабль возможности вести ответный огонь.
Пока корабль был объят пламенем, замаскированные торпедные батареи, находившиеся на острове, выпустили торпеды, потопив судно и всю его команду с расстояния всего в пятьсот метров.
Есть версия, что именно благодаря обороне крепости Оскарсборг правительство получило возможность бежать и сформировать движение сопротивления в изгнании, в результате чего Норвегия официально вошла в антигитлеровскую коалицию. Вскоре немцы оккупировали Норвегию, и был установлен марионеточный режим. Семьсот семьдесят два жителя Норвегии — мужчины, женщины и дети еврейского происхождения — были арестованы норвежской полицией и немцами и депортированы. Большинство попало в Освенцим.
Тридцать четыре человека выжили.
После войны лишь некоторые полицейские, сотрудничавшие с нацистами, понесли наказание, многие так и остались служить на своих постах до пенсии. На протяжении десятилетий о Холокосте не говорили на школьных уроках. И только пятьдесят лет спустя в Норвегии был построен Национальный мемориал, а еще через несколько лет был открыт Норвежский центр по изучению Холокоста и геноцида.
Все события, как показалось Шелдону, словно излагались свидетелями, а не участниками событий. И если норвежцев в чем-то и подозревали, это слишком легко списывалось на воображение жертв.
— Вопрос в том, — вслух произносит Шелдон, глядя на юг, в сторону крепости Оскарсборг, — хватит ли нам бензина, чтобы туда доплыть.
День длится бесконечно, солнце как будто застыло на месте. Шелдон не мог припомнить, чтобы когда-нибудь время тянулось так медленно. Плыть от Осло до северной части Дробака меньше семнадцати морских миль, но время и расстояние на воде — вещи чисто умозрительные.
Они плывут еще четыре часа, а потом у них заканчивается горючее. В течение еще получаса прилив относит лодку к маленькой каменистой бухточке, окруженной хвойным лесом.
Шелдон определяет поле зрения проплывающих судов и привязывает лодку там, где она привлечет меньше всего внимания. Если бы она была деревянной, он бы ее утопил, пробив дыру в днище. Если бы у него были силы, он бы затащил ее на берег и спрятал. Если бы он был моложе, он бы вонзил нож в сердце нападавшего и спас мать мальчика. Но все так, как есть.
К тому времени, как они оказались в безопасности на берегу и собрали все вещи, Шелдон совсем выдохся.
— Ты не хочешь ничего сказать? — спрашивает он Пола. — Если хочешь, можешь меня ударить. Уверен, я это заслужил. Я должен был позвонить в полицию, как только начался скандал наверху. Мне это не пришло в голову. Я был выше всего этого. Я посчитал, что знаю, что к чему, что все обойдется, твоя мама спустится по лестнице, выбежит на улицу и спасется. Я ведь дверь открыл не для нее, а для себя. Назло всем. Чтобы показать, как надо поступать. Дожив до таких лет, я все еще воображаю, что кому-то интересно, что и как я делаю, представляешь? Я играю на публику, которая умерла пятьдесят лет назад. Я должен был позвонить в полицию, и если бы нам повезло, они приехали бы вовремя.
Шелдон, конечно, выше ростом, но он не возвышается над мальчиком. Утомленный путешествием, сейчас он ссутулился. Они почти одного роста, и Шелдон пытается заглянуть ребенку в глаза.
— Чем старше мы становимся, тем больше напоминаем вопросительный знак. Что это — совпадение? — говорит Шелдон. — Мне очень жаль. Я стараюсь, но у меня никогда ничего не получается. Ну, была пара моментов. Не так много — по сравнению с количеством возможностей. Я ведь даже пропустил рождение Саула. Ты понимаешь, я не хочу тебя пока сдавать в полицию. А вдруг тот мужик — твой отец? Он бывал у вас в квартире в ночное время, я это слышал сам. Возможно, он частенько приходил. Мальчик твоего возраста не теряет дар речи ни с того ни с сего. Возможно, тебя терроризировали годами. Я отдам тебя в полицию, а он заявится и скажет: «Это мой сын, вы его нашли». И тем самым я толкну тебя в объятия убийцы твоей матери. Разве друзья так поступают?
Пол слушает. Шелдон не понимает, почему.
— Ты хочешь есть? Должно быть, ты умираешь с голоду, — Шелдон протягивает мальчику руку. — Пойдем поищем еду.
Пол не берет Шелдона за руку, но идет за ним. Они продвигаются медленно — сказываются часы, проведенные в лодке: у Шелдона разболелась поясница. Острая боль отдает в левую ногу при каждом шаге, и он все время поправляет ремешок сумки на плече.
— На сегодня достаточно. Мы пойдем туда.
Шелдон указывает на симпатичный голубой дом у воды. Они идут на юг, оставляя фьорд справа. На берегу причал, но лодки нет.
Старик ведет мальчика в обход к фасаду дома и пытается обнаружить признаки жизни. На подъездной дорожке нет машин, их вообще здесь мало. Дом кажется пустым.
Они возвращаются обратно к задней двери, и Шелдон показывает Полу, как, сложив ладони чашечкой, прижать лицо к стеклу. Мальчик не повторяет его действия, но Шелдон все равно считает, что это полезный урок.
Свет внутри не горит. Телевизор выключен. Все убрано и вымыто. Нетронуто.
Шелдон проходит несколько метров вдоль дома, до задней двери, которая выходит на двор и к причалу. Там он еще раз прижимается лицом к окну и, не увидев ничего подозрительного, принимает решение.
— Так, это возвращает нас к уроку номер один, — говорит он. Положив сумку на деревянное крыльцо кухни, Шелдон берет молоток и, не говоря ни слова, разбивает вдребезги стекло около дверной ручки. Замерев, прислушивается некоторое время и потом констатирует:
— Сигнализации нет. Это в нашу пользу. Теперь смотри под ноги, там на ступеньках стекло.
Гостиная в стиле Имзов[7] обставлена отличной скандинавской и американской мебелью середины прошлого века. Шелдон находит подставку для прессы с картами и расписанием местных автобусов и поездов. Прихватив все это, он идет в кухню, где ставит на плиту кастрюлю с водой — сварить макароны.
Обнаружив подходящую карту района, он бережно раскладывает ее на столе и, пользуясь ручкой деревянной ложки, указывает на реку Гломму, проследив тонкую извилистую синюю линию в нескольких сантиметрах от Конгсвингера.
— Мы направляемся вот сюда. Я там никогда не был, но я видел фотографию этого места — дома в Осло она стоит на холодильнике. Так что я уверен, что смогу найти его, — Шелдон начинает прокладывать путь по карте. — Никогда не думал, что в этой стране так много озер. Куда ни ткнешь, везде озеро.
Когда закипает вода, Шелдон готовит себе растворимый кофе в икеевской кружке. В шкафчике слева от раковины нашлась коробка с макаронами. Шелдон высыпает все ее содержимое в кастрюлю. Он понятия не имеет, сколько может съесть голодный ребенок. Потом он находит банку томатов, соль, перец, чесночный порошок и с чисто мужской беспечностью соединяет все это в блюдо, предназначенное ребенку.
Он добавляет в кофе три ложки сахара с горкой и возвращается к столу, за которым Пол зачарованно рассматривает карты.
— Мы поедем сюда, — показывает Шелдон. — Вопрос в том, как туда добраться. Мне трудно разобрать, что написано в этих расписаниях, но похоже, что почти все автобусы из Дробака в Конгсвингер следуют через Осло. А нам это не надо. Как раз оттуда мы и приехали. Так что мы снова застряли. Можно попробовать автостопом, но я боюсь, что это привлечет излишнее внимание. Скорее всего, нами заинтересуется проезжающий мимо полицейский патруль. Можно арендовать машину. Думаю, мы можем одолжить ее, но отложим этот вариант на крайний случай. В общем, надо подумать.
Потом Шелдон приносит две тарелки с макаронами. Пол уничтожает свою порцию одним длинным, непрерывным и странно текучим движением.
В результате оба оказываются перемазаны томатным соусом. Мальчик не улыбается, но Шелдон чувствует, что что-то в нем изменилось — как будто впервые с момента гибели матери тело и душа ребенка слились воедино.
— Ну хорошо. Теперь давай переоденем тебя и уложим спать.
Наконец Пол умылся, почистил зубы — в ванной нашлась какая-то щетка, — и они идут в детскую поискать, во что бы переодеться. Длинная белая майка вполне сгодится Полу в качестве ночной рубашки. Кровать заправлена и накрыта толстым шерстяным одеялом, которое напоминает Шелдону одеяла из его детства, прошедшего в западном Массачусетсе. На них были метки, и мама говорила, что там написано количество бобровых шкур, на которые можно обменять это одеяло. Но у него были сомнения на этот счет. Казалось, метки никак не соотносились с толщиной одеяла.
Ему приходит на ум, что он так часто вспоминал детство своего сына, что почти совсем забыл о собственном. Лелеять ностальгические воспоминания в его возрасте опасно. А это сейчас ни к чему. В последние годы своей жизни Мейбл перестала слушать музыку. Песни времен ее юности вызывали образы давно ушедших людей и будили давно утраченные чувства. Это было выше ее сил. Есть люди, которые к подобным вещам относятся спокойно. Некоторые уже и встать не могут, но стоит им закрыть глаза, как они тут же вспоминают летнюю прогулку по полям, чувствуют прохладную траву под ногами и улыбаются. У них еще есть смелость возвращаться в прошлое и, оживляя его, слышать в настоящем. Но Мейбл была не такой. Может быть, ей не хватало на это смелости. А может, она была настолько цельным человеком, что попытка вообразить давно ушедшую любовь ее бы попросту раздавила. Те из нас, кто имеет мужество открыться утраченным чувствам и не испугаться этого, кто готов отдаться умирающему ребенку до его последнего вздоха, не пытаясь спасти себя, — святые. Они не жертвы. Жертвы так себя не ведут.
Уложив мальчика, Шелдон прижимается носом к шерстяному одеялу и вдыхает запах своего прошлого. Потом глаза начинают щипать слезы, и он прекращает ностальгировать. Он берет себя в руки и направляется в ванную — умыться. В зеркале отражается совершенно незнакомый человек. И Шелдон рад этому.
В полицейском участке в Осло Сигрид ослабляет узел галстука ровно настолько, чтобы стало легче дышать, но не показать, как он ей надоел. Уже поздно, вся ее команда трудится не покладая рук, и все очень устали. За последние двенадцать часов она отдала столько приказов, сколько не отдавала за последние двенадцать недель. Сигрид еще держалась, но ей очень хотелось сделать перерыв.
Решив проявить солидарность с подчиненными, она вышла из собственного кабинета и устроилась в общем офисе, где работала основная масса ее коллег. В ее кабинете не было ничего особенного, а получить доступ к серверам она могла с компьютера Лены, которая отправилась в центр по работе с беженцами, чтобы побеседовать с известными подельниками этого бывшего бойца Армии освобождения Косова, которым наивная Миграционная служба разрешила въехать в страну и платила пособие из бюджетных денег, чтобы «помочь встать на ноги».
Она позвонила в Миграционную службу, чтобы узнать имя директора центра по приему беженцев. Разговор получился резким и завершился на неприязненной ноте и на теме, не имевшей ничего общего с запланированной.
— Они попадают сюда, не имея ничего, — с неизбывным энтузиазмом говорил мужчина на другом конце провода. — Как они смогут интегрироваться в нашу жизнь, если не будут получать никакой поддержки?
— Мы собрали их в центрах для беженцев за пределами города, а они там формируют банды, — заметила Сигрид. — Как это помогает им вписаться в нашу жизнь?
— Это временная мера, — оправдывался мужчина. — Косовары пережили ужасную войну, сербы делали с ними страшные вещи. Наилучший способ обеспечить их необходимой психолого-социальной помощью — это работать одновременно со всеми. Вы же видели по газетным публикациям, что там было. Они прошли через концлагеря.
Сигрид вздохнула. Все, чего эти идеалисты упорно не замечали, рано или поздно попадало к ней. У нее была теория, что многие ее соотечественники предпочитают подходить к любой проблеме с доброжелательным оптимизмом, хоть к внутренней, хоть к международной, потому что это помогало им чувствовать себя норвежцами. Может быть, только так им это и удавалось.
Ее раздражало не их желание быть хорошими. Этим она, наоборот, восхищалась. Раздражало то, что они пытались решить абсолютно все проблемы одним и тем же способом. Это невозможно. Анализ проблемы и ее решение должны соответствовать друг другу, а все остальное — идеализм и фантазии. Во всяком случае, этот путь не для копов.
Ее отец и, насколько она могла судить, все его поколение не демонстрировали подобную уверенность в собственной непогрешимости. Это было что-то новое, и ей это не нравилось.
Ей также чуждо искусство держать свои мысли при себе.
— А вам известно, что большая часть героина попадает в Европу через Балканы? — спросила она своего собеседника. — И больше всего через Косово? Вы не помогли им интегрироваться в наше общество, а создали новый перевалочный пункт в преступной сети.
— Это предвзятое мнение.
— Это — факт, — отрезала Сигрид. И, понимая, что подобный разговор ни к чему не приведет, извинилась за беспокойство и повесила трубку.
Солнце, наконец, опускается за горизонт, и Сигрид решает включить настольную лампу. Когда она нажимает выключатель, лампа с хлопком взрывается.
Энвер Бардош Бериша, он же Мифтар Вишай. При меркнущем свете дня Сигрид берет папку и откидывается на спинку стула. Этот человек, этот убийца, здесь. В Осло. На него заведено дело, но обвинений не предъявляли. Не было и ордера на арест. Сербы не обращались с просьбой о его выдаче. Он живет здесь с разрешения норвежского правительства, используя деньги налогоплательщиков для проезда на трамвае и покупки сигарет. Она бы так не завелась, но факты — вещь упрямая. Миграционная служба знала, что он из Армии освобождения Косова, знала, что он служил в «батальонах смерти», что он бежал от сербского правительства. Каким-то образом именно эта информация была использована для предоставления ему убежища. В конце концов, разве у него не было причины опасаться за свою жизнь? Разве он не доказал при помощи нового ДНК-тестирования, что его сын живет в Норвегии и, следовательно, он может воспользоваться программой по воссоединению семьи?
Почему сербы не пытались его заполучить? Можно лишь догадываться. Может, они и пытались, но Сигрид об этом ничего не известно. Возможно, они планируют ликвидировать его без формальностей, если учесть, что в 2002 году Сербия отменила смертную казнь. Может, они были счастливы отделаться от него и с радостью поставили на этой теме крест. Или знают про его судьбу и боятся, что международное расследование может пролить свет на их собственные преступления.
Очень многое скрыто завесой тайны. Идея всеобщего равенства перед законом зачастую оказывается фикцией, попирается теми, кто практикует realpolitik на международном уровне. Чем дальше мы отдаляемся от преступлений и их жертв, тем чаще справедливость приносится в жертву целесообразности. Как бы то ни было, он живет тут: покупает блюдца в «Глассма-газинет», зимние носки в «Антон Спорт», как все мы.
Семья. Такой расплывчатый термин. Сигрид открывает дело женщины. Происхождение, дата рождения, образование, дата въезда — все это отражено в ее деле. Дата смерти, место и причина смерти. Это, разумеется, открытое дело. Оно все время пополняется новыми фактами.
Там есть список ее личных вещей. Все абсолютно непримечательное. Часы «Пульсар». Бижутерия от местной фирмы «Артс и Крафтс». Одежда. Какой-то ключик от замка — может быть, от дневника или почтового ящика. Миленькое колечко из белого золота с синим сапфиром — должно быть, сентиментальный подарок. Ни серег. Ни денег.
Несмотря на суету и бурную деятельность коллег, Сигрид слышит только тишину, представляя, как Энвер накидывает шнур на шею женщины и выдавливает из нее жизнь.
— Где материалы по мальчику? — кричит она.
Один из полицейских отвечает, что документ вот-вот будет готов. Сигрид качает головой. Все делается недостаточно быстро.
— Когда будет готова информация по Горовицу?
— Личные дела по морским пехотинцам находятся в архивах, их еще не оцифровали, потому что они слишком старые. Так что они послали рядового проводить изыскательские работы с фонариком.
— Я хочу понять, с чем мы тут имеем дело, это ясно?
Кем бы ни служил Шелдон Горовиц — простым писарем или снайпером, но он был морпехом. И поскольку в расследовании убийства был замешан бывший американский солдат, Сигрид сочла уместным отправить запрос на получение информации через министерство иностранных дел, учитывая, что Норвегия и США являются союзниками по НАТО, чтобы посмотреть, как это сработает. К ее удивлению, американцы тут же взялись за работу.
Согласно теории Сигрид, многочисленные сотрудники в укрепленном американском посольстве в Осло на улице Генрика Ибсена очень скучали без дела. Да, Норвегия входит в НАТО, да, тут много рыбы, нефти и газа. Но… послушайте. А чем еще им тут заниматься?
— Да. Непременно. Мы собираем информацию, — сказал один из ее сотрудников. — Мы просто еще не все получили.
— Какие новости из транспортных терминалов?
— Никаких, — отозвался другой полицейский. — Никаких данных с автобусных линий, поездов, такси, аэропорта или из центрального туристического бюро. Ничего от патрульных машин. Ничего от патрулей на велосипедах. Наблюдение в районе того дома ничего не дало. Из больниц также нет ничего.
— Что с внучкой?
— Они уехали в летний домик в Гломлии, — ответил третий полицейский. — У них есть телефон. Так что они на связи.
— Возможно, старик направляется туда, — говорит Сигрид.
Все молчат.
«Каким образом?» — думает каждый.
Но никто ничего не говорит. Потом кто-то высказывает предположение:
— Они ведь позвонят нам, если что? Они выходили на связь, как мы их просили. — Одни полицейские соглашаются с подобным соображением, другие что-то бормочут.
— Свяжитесь с местной полицией, пусть завтра с утра пошлют туда кого-нибудь. Объясните им, что есть проблема. Что слышно в агентствах по аренде машин?
— Им рассылаются факсы. Но пока ничего.
Сигрид была бы удовлетворена отсутствием новостей, если бы их не ожидалось. Она всегда трезво соотносила свои ожидания с реальностью. Но ведь если в розыске находятся старик, молодой мужчина и ребенок, да еще в таком небольшом городе, какая-то информация должна была поступить.
Ее покоробил разговор с представителем Миграционной службы. Сейчас, конечно, не время об этом рассуждать, но как могли власти ставить интересы иностранцев выше, чем безопасность и благополучие норвежцев — граждан страны, выбравших эту власть демократическим путем?
И каким образом идеалистические амбиции добрых норвежцев могли затмить голые факты? Надежные, однозначные факты? Как мы можем быть настолько наивными оптимистами, когда после нацистской оккупации прошло всего шестьдесят лет? Мы что, тупые?
А может быть, это особенность теперешнего поколения? Тогда понятно, почему люди старшего возраста всегда голосуют за более консервативные партии.
Этого вполне хватит, чтобы был повод нанести визит в винный магазин.
Сигрид не увлекается политикой — до тех пор, пока политики не начинают действовать ей на нервы. Однако она понимает, что полагаться можно на две вещи: на веру или на факты. И если исходить из веры, то либералов и консерваторов можно записывать в один лагерь, как тех, кто руководствуется порывами сердца, а не следует доводам рассудка. И судить о них можно по тому, становится ли вам тепло на душе от их действий. На другой стороне оказываются те, кто пытается улучшить мир, глядя фактам в лицо, и действует исходя из этого. Сигрид не кажется совпадением то, что врачи и инженеры препираются гораздо меньше, чем политики.
Энвер Бардош Бериша, боец АОК. Допущенный в страну Миграционной службой на основании законных опасений за его жизнь в Сербии и того, что его сын проживает в Норвегии.
Армия освобождения Косова — это военизированная группировка, поначалу получавшая поддержку Запада и НАТО в борьбе против сербов. Однако с течением времени Запад перестал ее поддерживать, потому что АОК оказалась замешана в торговле наркотиками, массовых казнях и других жестокостях, испортивших ее репутацию. Все это сбивало с толку европейцев, и, не разобравшись, кто тут хороший парень, а кто злодей, они просто занялись другими проблемами.
Сигрид кладет папку на стол и трет глаза.
— У меня лампочка перегорела, — кричит она. Почему-то эта новость вызывает смех у присутствующих. Поэтому она добавляет: — Мне нужна новая лампочка, — отчего смех только усиливается.
Все дело в том, что у военных людей есть определенный статус. Ты прокладываешь себе путь наверх, и люди признают твой статус. Когда военная группировка прекращает существование, ты теряешь самое ценное: уважение.
Чего ради человек, подобный Энверу, — командир с военными талантами и опытом, не имеющий ни семьи, ни денег, ни корней, — вдруг бросает поле боя и отправляется в Скандинавию, чтобы превратиться в мирного жителя? И какая женщина может быть у такого мужчины?
Мысли Сигрид переключаются на отца. Она вспоминает, как однажды за разговором на кухне он объяснял нечто важное, что она до сих пор с трудом может растолковать другим.
— Это всё уловки, — произнес отец с нехарактерной для него серьезностью.
— Хочешь сказать, все это бессмысленно?
— Нет, — возразил он. — Я не это имею в виду. — И замолчал. Ее отец не имел склонности к экзальтации, драматические паузы ему тоже были несвойственны. Скорее он старался выражаться точно. А чтобы собраться с мыслями, как он говорил, порой нужно время. Если люди теряют терпение и уходят, не дождавшись ответа, значит, он не так уж был им нужен.
— Я вот что хочу сказать, — продолжил он. — Дома, столы, великие строения — это все порождения идей. Поэтому важны не дома, а идеи. Но из-за того, что дома столь великолепны и так дорого стоят, а идеи неуловимы, мы бываем ослеплены домами — и в этом подвох. На самом деле, они отвлекают нас от идей, которые их наполняют. Стоя на ступенях дворцов, люди благоговеют перед ними. Почему? Идеям неведомо, где и как их воплотят. Изучая историю, я читаю не о строениях, я читаю об идеях цивилизаций. Все они задавали одни и те же вопросы, но находили разные ответы. Суть в том, что, сравнивая миры, мы приходим к выводу, что все они разные.
Здесь любопытно вот что. Чтобы эти миры удержались, идеи должны быть общими. Так что я всегда ищу общие идеи. Кто участвует? О чем они думают? Что возможно сделать благодаря этим идеям? Что очевидно, а что невозможно себе представить? Что допустимо, а что нет? И если ты не можешь начать с идей, потому что они скрыты, начни с того, с кем надо говорить, чтобы достигнуть поставленных целей. И тогда поймешь, как надо действовать. Если дела делаются, за этим всегда стоит схема. Ты можешь быть уверена, что это больше, чем просто мотив. Существует… логика, которая поддерживает беседу.
Сигрид кивнула и задумалась над словами отца.
Спустя некоторое время она произнесла:
— Ты живешь на ферме и разговариваешь с животными. Что из этого следует?
— Ах вот что, — ответил отец. — Вопрос в том, с какими животными. И о чем мы говорим?
Глава 11
Ночью убитая женщина Шелдону не приснилась. Впервые, насколько он мог помнить, ему не приснился и сын. Вместо этого он увидел во сне мальчика, сидевшего к нему спиной и складывающего из разноцветных кубиков неустойчивую башню, все выше и выше.
Шелдон спал хорошо. Его совсем не беспокоило, что их тут могли застукать. В начале нового тысячелетия ему исполнилось семьдесят пять, и в его жизни произошло важное событие: он понял, что может позволить себе делать многое и это сойдет ему с рук, потому что люди воспримут это как выходку старого маразматика.
Это не мой дом? Да бросьте вы!
Так чего беспокоиться?
Лучше сосредоточиться на реальных проблемах. Например, как добраться до Гломлии, не используя общественный транспорт, такси или автостоп.
Пол не хочет просыпаться. Шелдон знает, что он заснул по крайней мере в девять вечера накануне, а девяти часов сна хватит за глаза любому.
— Доброе утро, — говорит он, склоняясь над кроватью Пола.
Пол открывает глаза, и Шелдон видит, что он, как и любой ребенок, спросонья не понимает, где находится, и, протирая глаза, пытается понять, куда попал. Сфокусировав наконец взгляд на Шелдоне, он молча вытягивает руки, обнимает старика за шею и прижимается к нему.
Это объятие — не знак любви, а отчаянный жест утопающего среди обломков кораблекрушения.
— Ну, давай, — велит ему Шелдон, — иди чистить зубы, а потом будем завтракать. Нам надо немного осмотреться и подумать. Никто не заставляет нас ехать в летний домик. Что само по себе хорошо, потому что я никак не могу придумать, как нам это сделать. Можно поплыть на той маленькой лодке в Швецию, если захотим. Но я не имею такого желания. Для старика одного дня на воде вполне достаточно. Видишь ли, мне нельзя уходить далеко от туалета. Но тебе этого не понять. Ты писаешь, как скаковая лошадь. Ты так молод, что даже не знаешь, что иногда приходится удерживать туалетное сиденье, которое все время норовит упасть. Фокус в том, — я говорю тебе это, чтобы ты мог избежать ошибок в будущем, — чтобы встать сбоку от унитаза и придерживать стульчак бедром. Ну да, знаю, что ты думаешь. Со временем ты бы догадался сам, ты ведь такой умный мальчик. Возможно, это и так, но сколько неловких моментов тебе придется прежде пережить? Подожди, вот попадешь в Англию, увидишь там коврики в туалетах — вот самая большая ошибка западной цивилизации. После первой же новогодней вечеринки босиком ты больше никогда не будешь ходить. Так о чем мы говорили?
Шелдон проверяет все кухонные шкафчики и готовит завтрак: растворимый кофе, чай, печенье с шоколадной крошкой, размороженные рыбные палочки, хлебцы «Wasa» и вяленая лосятина.
Между делом Шелдон грызет фисташки и потом выковыривает из зубов остатки ножом для масла.
— Пойдем пороемся в шкафу, поищем тебе какую-нибудь одежду.
После поверхностной — чисто мужской — попытки навести порядок на кухне Шелдон ведет Пола в хозяйскую спальню и приступает к осмотру шкафов.
В сделанном из кедра гардеробе с зеркальными дверцами лежит мужская и женская одежда на все сезоны. Качественные вещи, принадлежащие людям, которые могут себе позволить дом на берегу фьорда Осло и роскошь почти в нем не бывать. Шелдон решает, что они вполне могут поделиться излишками одежды.
— Не буду лукавить, изображая из себя Робин Гуда или кого-то в этом роде. Мы воруем. Лодку мы более или менее позаимствовали. А вот вещи забираем навсегда. Хочу лишь сказать, что их владелец скорее всего проживет без этого твидового пиджака, у него есть еще. Да и, честно говоря, я оставляю ему взамен отличную оранжевую куртку, такую всякий захочет иметь.
Оставшись в своих собственных брюках, Шелдон берет чистые трусы и носки, а также рубашку со светлым воротничком, которая выглядит так, как будто она по крайней мере лет десять ждала на вешалке своего владельца. Шелдону она велика, но он заправляет ее концы глубоко в штаны и потуже затягивает ремень.
Неожиданно на верхней полке женской половины гардероба он обнаруживает светлый парик. Прежде всего в голову приходят мысли о сексе и воспоминания о разных, так и не осуществленных, фантазиях. Но следующий взгляд — на твидовый пиджак и старую рубашку — наводит на другие мысли, гораздо менее веселые.
— Рак, — говорит он. — Возможно, именно поэтому никто сюда не приезжает. Теперь понятно, почему вяленая лосятина у них такая жесткая.
Пол заинтересовался париком, и Шелдон отдает его ребенку. Мальчик трогает светлые пряди парика и рассматривает завитые локоны, выворачивает наизнанку и обнаруживает белую сетку искусственного скальпа. Шелдон забирает парик и надевает на себя.
Глаза у Пола загораются, как будто в предвкушении игры. А может, так только кажется старику, которому хочется в это поверить.
— Ну хорошо. Давай на тебя теперь посмотрим.
Шелдон снимает парик и натягивает его на голову мальчика. Закрыв дверцу шкафа, он показывает Полу на зеркало.
Тот поворачивается.
— Гек Финн тоже переодевался, когда делал ноги с острова Джексон. В литературе есть немало примеров, когда мальчики при необходимости переодеваются девочками, так что не волнуйся. У меня идея. Можно использовать эту длинную белую майку.
Из женской половины гардероба Шелдон достает тонкий коричневый кожаный ремешок и надевает его на пояс Полу.
— Нам нужна шляпа. Может, фетровая или что-то в этом роде. О! Точно. Тут наверху есть. Это подойдет, — Шелдон извлекает коричневую кепку и надевает на голову Полу поверх парика.
— Так, так, начинает вырисовываться. Давай ее сюда. Теперь мне нужна вешалка и немного фольги. Айда на кухню.
Взбодренный кофеином и сахаром, Шелдон бросается на кухню и начинает шарить по полкам, хлопая дверцами. К счастью, из шкафчика над холодильником на него вываливается фольга. Напевая про себя, Шелдон начинает яростно раскручивать рулон бумажных полотенец. Бумага все вьется и вьется.
— Помогай! — зовет он Пола и вручает ему охапку бумаги.
Поняв, что от него требуется, Пол встает позади Шелдона и тянет, тянет и тянет, словно поднимая паруса огромного фрегата. Вместе они, одетые как амбулаторные пациенты, наконец разматывают весь рулон. Шелдон доволен.
— Так. Теперь у нас есть с чем работать.
Старик берет картонную трубочку от рулона, проволочную вешалку, фетровую шляпу и принимается мастерить. Ножом для стейков режет картонную трубку пополам. Морщась от боли в суставах — артрит! — он распрямляет вешалку и сгибает ее в виде буквы «М». Подмигнув Полу, он прикрепляет проволоку к шляпе, проткнув ей поля. На каждый получившийся «рог» Шелдон надевает картонную трубку и обматывает рога несколькими слоями фольги. То, что у него получается, вполне может служить головным убором викингу, попавшему в космос.
Довольный, Шелдон водружает всю конструкцию на голову Полу и тащит его обратно к зеркалу. С лицом человека, пытающегося продать мотоцикл беременной женщине, Шелдон преувеличенно улыбается, разглядывая Пола.
— Пол-викинг! Пол, Полностью-переодетый-албанский-мальчик, совсем не Тот-который-сбежал-в-норвежскую-глушь-со-старым-дураком. Что ты об этом думаешь?
— Ой! Постой-ка! Кое-что забыли. Что за викинг без боевого топора или чего-нибудь столь же угрожающего? Если бы у меня была программа Республиканской партии, я бы ее тебе дал, но за неимением таковой, я думаю, что сойдет… например, деревянная ложка.
Вернувшись в кухню, Шелдон находит там старую деревянную ложку и затыкает ее за пояс Полу. Отступает назад и осматривает мальчика.
— Последний штрих, — Шелдон рисует на груди Пола-викинга древний знак черным маркером, который нашел в одном из кухонных ящичков.
Он очень горд собой.
Преобразившийся Пол больше не похож на медвежонка Паддингтона или какого-нибудь безбилетника. Он возвращается в хозяйскую спальню и любуется собой в зеркале.
Воспользовавшись паузой в выполнении опекунских обязанностей, Шелдон складывает в сумку бутылки с водой, крекеры и бутерброды с лосятиной.
Оставив дверь открытой, он идет к пирсу проверить лодку, угнанную вчера в Осло. Солнце уже высоко поднялось над горизонтом, хотя времени всего восемь часов. В утреннем воздухе веет прохладой, из чего можно заключить, что антициклон обеспечит хорошую погоду. Можно было бы включить телевизор и узнать точный прогноз погоды, но вдруг в новостях будут показывать убийцу. Драгоценно каждое мгновение, когда Пол не думает о матери и чем-то увлечен, и Шелдон хочет, чтобы так было подольше.
Взявшись за ремень, Шелдон спускается на пирс и осматривает место, где накануне вечером пришвартовал лодку. Место укромное, в тени, защищенное от посторонних взглядов. Здесь хорошо устроить пикник с любимой девушкой, сидеть на одеяле и бросать в воду камешки. Он живо представляет себе эту картину. Но что это? Лодки нет.
Может быть, на ней уплыли подростки, или ее унесло приливом. Но факт остается фактом. У них теперь на одну возможность меньше, чем было минуту назад.
— Ну и к лучшему, — спокойно заключает Шелдон и, повернувшись спиной к воде, уходит.
Теперь, когда он лучше представляет себе, где находится, старый разведчик замечает нечто, ускользнувшее от его орлиного взгляда накануне вечером, а именно — двойной след от больших колес, ведущий от воды к гаражу за домом.
Не имея четкого плана в голове, Шелдон идет по следу. Гараж похож на маленький американский амбар, но только он не красный, а ярко-голубой, как и дом, принадлежащий неизвестной супружеской паре.
На выкрашенных белой краской воротах гаража на уровне глаз находится окошко. Шелдон прижимается к стеклу и заглядывает внутрь. На противоположной стороне он видит дверь с таким же окошком. Но в гараже слишком темно. С уверенностью можно только сказать, что внутри находится нечто большое и длинное.
Шелдон дергает за ручку и с удивлением обнаруживает, что дверь заперта. Это напоминает ему второй урок сержанта-инструктора. Если не можешь воспользоваться молотком, постарайся найти ключ.
Американский морпех может извлечь урок из любой ситуации.
На кухне в ящичке, где он нашел черный маркер, была связка ключей с бирками. Ключи подписаны по-норвежски, но один из них, к счастью, подходит к висячему замку гаражной двери, выходящей на улицу.
Без особой надежды Шелдон открывает замок, вешает его обратно в отрытом виде на дверь и распахивает гаражные ворота широким театральным жестом, просто потому что ему так нравится.
Увидев то, что находится в гараже, он впервые после новости о выкидыше Реи радостно смеется.
Оставив ворота гаража открытыми нараспашку, Шелдон бредет обратно в гостиную. Ноги Викинга торчат из-под трехместного винтажного дивана. Шелдон обращается к нижней половине мальчика:
— Что ты забыл под диваном?
Услышав голос Шелдона, Пол выбирается наружу с чем-то огромным, меховым, покрытым пылью и паутиной. Шелдон выдвигает изогнутый датский стул и садится на него. Сначала он изучает мальчика, потом пыльного зайца, которого тот поднимает над головой, словно трофей.
— Ну и грязный же он у тебя.
Пол смотрит на него.
— А знаешь, это хороший знак. Видишь ли, когда Джим и Гек Финн собирались бежать, у Джима тоже был волосяной шар. Он разговаривал, если положить под него монетку. Монетки у меня нет. И этот наверняка говорит по-норвежски. Думаю, нам пора в путь.
Шелдон приносит из спальни наволочку и сажает на нее пыльного зайца. Он собирает четыре конца наволочки и связывает их вместе. Потом достает из шкафа в прихожей швабру и откручивает палку от щетки. Он просовывает ручку под узел наволочки и помещает поклажу на плечо Полу.
— Теперь ты — Норвежско-албанский-бродяга-викинг-с-пыльным-зайцем. Готов поклясться, сегодня утром ты даже не подозревал, что станешь им.
Надев на мальчика боевые веллингтоны, помыв и убрав посуду, сняв постельное белье и сложив его горкой на полу, а также дополнительно спустив воду в унитазах, Шелдон несколько раз щелкает пальцами, подавая сигнал двигаться в путь-дорогу. Расправляет ремень сумки на своем костлявом плече, чтобы удобнее было ее тащить, после чего выводит на улицу Пола, чтобы при дневном свете продемонстрировать ему свою замечательную находку.
— Иди, иди сюда. Так, встань тут. Не двигайся. Хорошо?
Пол не имеет понятия, о чем говорит Шелдон, но, в своем головном уборе с рогами и всем остальным, он стоит по стойке смирно и ждет Шелдона, скрывшегося в гараже.
Следует долгая пауза. Пол смотрит на воду фьорда, по холодной соленой поверхности которого скользят паруса. Высоко над морем в утреннем воздухе парят свободные чайки. Где…
Громкие звуки пугают мальчика, и он отступает от гаража.
Из раскрытых ворот валит дым, просачивается из-под закрытой двери. Стекла дрожат, птицы улетают прочь. Из темноты появляется Шелдон Горовиц на огромном желтом тракторе. Он тянет за собой двухколесный прицеп с большой надувной лодкой, на носу которой развевается норвежский флаг.
— Речные крысы! — кричит он, размахивая над головой картой. — Путешествие начинается!
Все вокруг цветет и благоухает. Дорога петляет среди дикого леса — только руку протяни. В верхнем ярусе красуются высоченные и изящные березы и ели, пониже — сосны и буки. Птицы наслаждаются долгими летними днями, их трели разносятся среди листвы и хвои, поднимаясь высоко над качающимися верхушками деревьев.
Пол, как делал бы на его месте любой ребенок, приветствует проезжающие машины, размахивая своей деревянной ложкой-топором, и резиновые подошвы его сапожек поскрипывают, соприкасаясь с днищем лодки.
Шелдон не может справиться с коробкой передач, раз десять включает не ту скорость, прежде чем ему удается разобраться, что к чему. В какой-то момент он умудряется заехать в канаву на скорости двадцать километров в час, но выбирается на дорогу и мысленно благодарит судьбу.
Он выезжает на Хусвиквейн и оттуда на 153-ю дорогу, которая вроде бы называется Ословейн, если он правильно читает карту. Первый ориентир — Риксвег-23. Шелдон прикидывает, что если они будут ехать с такой скоростью, то соответствующий указатель появится через полчаса пути. Он рассчитывает двигаться по этому маршруту какое-то время и попытаться привыкнуть к незнакомой местности.
Местность тем временем перестает казаться такой уж незнакомой. Здесь все напоминает ему Беркширс в западном Массачусетсе, где белые шпили церквей возвышались над двухэтажными домами с черными, голубыми или зелеными ставнями, а детишки шли в школу с жестяными коробочками для ланча, на которых были нарисованы мультяшные персонажи. Полицейские останавливали движение на Главной улице, чтобы дать дорогу очаровательным утятам, широко шагавшим на оранжевых лапках.
Последний раз они ездили в Беркширс в 1962 году, когда Саулу было десять лет. Это было перед Хеллоуином — идеальным временем для того, чтобы всей семьей пошуршать опавшими листьями и полюбоваться красотами Новой Англии.
Они остановились в небольшой гостинице около родного города Шелдона. Было еще совсем рано, когда Саул сбежал по покрытой ковром лестнице и совершил набег на стол с завтраком, пока Шелдон и Мейбл, лежа в постели, рассуждали о том, что бы было, если бы у них родилась девочка.
— Было бы спокойнее, — предположил Шелдон.
— Тебе так кажется. Я-то давала матери жару, — отвечала она.
— Дочки-матери.
— Точно.
— Но мы могли бы спать подольше.
— Может быть.
— Я могу спуститься и приглядеть за ним, — сказал Шелдон. — Если хочешь, полежи еще.
И Мейбл поспала еще часок, пока он наблюдал, как Саул поглощал в огромном количестве маффины с клюквой, черничные блинчики, какао, яйца, бекон, кленовый сироп и масло.
Была середина октября, и в «Бостон глоб» писали про Карибский кризис. Советский Союз пытался разместить на Кубе ракеты, на что Кеннеди ответил блокадой. Противостояние чуть не закончилось ядерной войной. Что бесповоротно испортило бы Хеллоуин.
— Если будут бомбить, ты ведь знаешь, что полагается делать? — обратился он к Саулу.
— Бать и ляпаться.
— Не разговаривай с набитым ртом.
Саул прожевал и повторил:
— Бежать и прятаться.
— Правильно.
Выполнив свой родительский долг, Шелдон подлил себе кофе и решил, что сегодня самый подходящий день для сбора яблок в соседнем саду. После чего он может поиграть в гольф. Мейбл пусть пособирает листья с ребенком, а он устроит себе перерыв. Вдохнет полной грудью воздух родного штата и проветрит легкие, изгоняя из них автомобильные выхлопы Нью-Йорка.
Сбор яблок прошел отлично. Они заплатили десять центов за большую корзину и двинулись к рядам деревьев.
Мейбл была в красной юбке и белой блузке. Вспоминая об этом сейчас, он восхищался ее осиной талией и пышными бедрами. Она неловко ковыляла по неровной земле, а он шел позади и с улыбкой смотрел на ее каблуки, пронзавшие опавшие листья. Это напоминало чеки, которые он натыкал на штырь у себя в мастерской.
Жаль, что день тот был все-таки испорчен.
После обеда у Мейбл разболелась голова, и Шелдон решил взять с собой Саула на гольф, заодно научить его правильно держать клюшку. Ну какой десятилетний парень не мечтает потаскать для отца клюшки на поле для гольфа?
Находившийся по соседству старый гольф-клуб размещался в длинном приземистом белом здании колониального стиля, за которым простиралось изумрудное поле. На залитой солнцем террасе играл струнный квартет. Место было великолепное.
Шелдон и Саул вошли в лобби и улыбнулись мужчине, судя по всему, метрдотелю. Тот улыбнулся им в ответ.
— Здравствуйте. Мы с сыном хотим сыграть партию в гольф. Недлинную. Мальчик понесет клюшки. Мы никого не задержим.
— Представьтесь, пожалуйста.
— Я Шелдон Горовиц, а это мой сын Саул.
— Мистер Горовиц.
— Совершенно верно. Так кому я должен заплатить и где взять клюшки?
— Извините, сэр, но это закрытый клуб.
Шелдон нахмурился.
— Но в вашем городе нет других полей для гольфа! Я справлялся в гостинице. Мне сказали, что все играют здесь.
— Нет-нет-нет. Они ошиблись. Здесь только для членов клуба.
— Как же тот человек мог ошибиться? Он местный житель, у него туристический бизнес.
Метрдотель использовал испытанный прием: поднял брови и оставил вопрос без ответа, в надежде, что собеседник сам сообразит, в чем дело, и уйдет, не желая развивать эту тему. Но с Шелдоном такие вещи не проходили.
— Вы как будто меня не слышите. Позвольте, я повторю. Как тот человек мог ошибиться? Он тут живет и управляет туристической гостиницей.
— Понятия не имею.
— Отлично. Я бываю здесь довольно часто. Сколько стоит членство в клубе?
— Очень дорого. Кроме того, вас должен порекомендовать член клуба.
Шелдон оглянулся в поисках свидетелей творимой по отношению к нему несправедливости. Его жесты и поза были достойны героя древнегреческой трагедии.
— Что это вы такое говорите? Вы что, не заинтересованы в привлечении новых членов, а наоборот, отваживаете желающих вступить в ваш клуб?
Метрдотель вновь прибегнул к своему любимому приему, многозначительно подняв брови, и опять оставил вопрос без ответа. Шелдон решил, что тот немного не в себе, и поэтому заговорил медленно. Так, как говорят с иностранцами или неразумными животными.
— Так вы примете нас в клуб, чтобы мы могли играть на ваших сияющих зеленых лужайках маленькими белыми мячиками, а потом пить коктейли в вашем баре?
— Мистер Горовиц, — с нажимом произнес мужчина. — Вы, конечно же, все понимаете. И нет нужды кричать. Мы не хотим скандала.
Шелдон, искренне пытавшийся понять причину отказа, зажмурился. Затем, то ли для моральной поддержки, то ли чтобы увидеть лицо нормального человека, он посмотрел на своего десятилетнего сына. И тут его взгляд упал на приколотый значок с звездой Давида, который подарила мальчику его тетка, сестра Мейбл, на прошлую Хануку.
После этого Шелдон повернулся к мужчине.
— Вы хотите сказать, что отказываете мне, потому что я еврей?
Тот оглянулся по сторонам и прошептал:
— Пожалуйста, сэр, на надо здесь браниться.
— Браниться? — прогремел Шелдон. — Да я американский морской пехотинец, ты, ничтожество. Я хочу сыграть партию в гольф со своим сыном. И ты сейчас это устроишь.
Но этого не произошло. Ни тогда, ни позже. На горизонте возник смуглый охранник, он был намного крупнее, чем Шелдон.
В ту секунду Шелдон еще не решил, что будет делать, и посмотрел на Саула. Ему следовало отступить. Мир меняется медленно. Он не собирался делать ничего такого, что испугало и травмировало бы мальчика. Он не хотел, чтобы его арестовали, — Мейбл расстроится.
Но на этот раз здравый смысл не возобладал. По лицу сына Шелдон увидел, что мальчику стыдно, и, отбросив философию, принял решение, сообразное с собственными представлениями о том, как надо отвечать обидчикам такому человеку, каким был он сам и каким, по его мнению, должен был стать Саул. С того дня и до самой гибели сына во Вьетнаме Шелдон придерживался одной и той же линии поведения, отклонения не допускались.
Как только охранник приблизился, Шелдон шагнул вперед и врезал ему локтем прямо в нижнюю челюсть. Охранник тут же упал. Затем, для убедительности, нанес резкий удар в нос метрдотелю. Тот исчез за стойкой, словно клоун в бассейне с водой.
Только после этого Шелдон взял Саула за руку и повел прочь из клуба, уверенный в том, что преследовать его не будут и полицию никто не вызовет. Для антисемита хуже, чем встреча с евреем, может оказаться только то, что еврей его побил. И чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше.
Когда они отошли на безопасное расстояние от места событий, Шелдон развернул Саула и, погрозив пальцем, сказал следующее:
— Эта страна такова, какой ты ее сделаешь. Понятно? Она не плохая и не хорошая. Она такая, какой ты ее сделаешь. Это означает, что ты не оправдываешь американское дерьмо. Этим занимаются только нацисты и коммуняки. Отечество! Мать-отчизна! Америка тебе не родитель. Это твой ребенок. И сегодня я сделал Америку местом, где ты получаешь по морде, если говоришь еврею, что он не может сыграть партию в гольф. Единственный, кто может сказать мне, что я не могу играть, — это мяч для гольфа.
У Саула были глаза как блюдца, и он, конечно же, не представлял себе степени серьезности того, о чем говорил отец.
Однако этот момент он запомнил навсегда.
И, в отличие от Карибского кризиса, это происшествие все-таки испортило весь день.
Глава 12
После того как сообщение появилось в газетах, звонков было столько, что Сигрид пришлось надеть наушники с микрофоном, иначе она не могла работать. Все эти звонки, решила она, не имели отношения к тому, чем она занималась.
В Норвегии работу полицейских контролируют одновременно Национальное управление полиции и прокуратура, поэтому коллегам Сигрид приходится ждать оплеух сразу с двух сторон.
На этот раз, к примеру, недоволен шеф районной полиции. Сигрид относится к этому как к неизбежному и устало закрывает глаза.
— Как идут дела? — интересуется шеф полиции.
— Спасибо, хорошо, — отвечает Сигрид.
— Помощь требуется?
— Нет. Все произошло вчера. Я думаю, мы неплохо продвигаемся.
— Во всем этом замешана политика.
— Да, думаю, что так.
— У вас ведь есть подозреваемый? Этот серб?
— Косовар. Он под подозрением, но у нас нет ни одной улики, прямо подтверждающей его причастность. Так что я не могу предъявить ему обвинение. И, кроме того, неизвестно, где он сейчас находится.
— Мусульманин?
— Возможно, но я не думаю, что религиозный аспект важен в этом деле. Национальность — может быть. Я пока не уверена. Еще слишком рано, чтобы определить мотив.
— Другие подозреваемые есть?
Сигрид открывает глаза и смотрит по сторонам, потом снова зажмуривается. Лучше во время этого разговора ничего не видеть.
— Есть некто, кого мы определяем как «лицо, вызывающее озабоченность», — поясняет она.
— Что это значит?
— Это новая категория, которую предложила я.
— А вы можете это делать?
— Думаю, да.
— И кто это?
— Его имя Шелдон Горовиц.
— Албанец?
— Еврей.
На другом конце провода возникает пауза.
Очень. Долгая. Пауза.
— Еврей? — шепотом повторяет шеф.
— Еврей, — подтверждает Сигрид в полный голос.
— Израильский шпион? Моссад?
— Нет. Не израильтянин. Американец. Он бывший морской пехотинец, который, возможно, страдает от деменции. Или от тоски. Или еще от чего-нибудь. Ему за восемьдесят.
— Израильтяне нанимают престарелых американских морпехов?
— Он не имеет никакого отношения к Израилю.
— Вы сказали, что религия тут ни при чем, а теперь говорите, что имя у него еврейское.
— Да, у него еврейское имя.
— Но вы утверждаете, что религия не замешана, а роль играет национальность. Поэтому я и спросил про Израиль.
— Он не израильтянин. Он американец. Американский морской пехотинец.
— Но… еврей?
— Еврей.
— Почему у евреев иудейские фамилии?
Сигрид смотрит не отрываясь на перегоревшую лампочку.
— Это вопрос с подвохом, шеф?
— Нет, я имею в виду… У норвежцев нет лютеранских фамилий, у нас норвежские фамилии. У французов нет католических фамилий, у них фамилии французские. Да и католики не носят католические фамилии, а мусульмане — мусульманские. Насколько я знаю. Хотя, полагаю, Мухаммед — ведь мусульманская фамилия. Так почему же у евреев иудейские фамилии?
— Мухаммед — это имя, а не фамилия.
— Это весьма ценное замечание.
— Если бы я рассуждала на эту тему, — вступает Сигрид, удивляясь, почему она должна строить догадки, хотя кто-то наверняка знает ответ. — Я бы сказала… потому что евреи — это древнее племя, которое жило по крайней мере за тысячу лет до появления норвежцев, французов или католиков. Может, в те времена все было как-то теснее связано. Ну, как у викингов. Если бы викинги до сих пор существовали, но жили бы в разных странах, у них бы тоже были бы викинговские имена. Мне так кажется.
— А палестинцы замешаны?
— В чем?
— В убийстве.
Сигрид смотрит на потолок, надеясь, что небеса разверзнутся и рука Господа спасет ее от этого разговора. Но ее глазам предстает только потрескавшаяся и облупившаяся краска.
— В этом преступлении палестинцы не замешаны, как и израильтяне и арабы. И все произошедшее не имеет отношения к Ближнему Востоку. Ни в малейшей степени.
— Но евреи есть.
— Один-единственный — одинокий старик, возможно, в маразме и определенно американец. Который не сделал ничего предосудительного, не побоюсь этого слова.
— Который вызывает у вас озабоченность.
— Который, очевидно, у всех нас вызывает озабоченность.
— За пределами Осло тоже есть жизнь.
— Я видела на картинках, шеф.
— Если вам понадобится помощь, не молчите.
— У меня ваш номер прямо перед глазами.
— Поймайте злодея, Сигрид.
— Слушаюсь, шеф.
Наконец — Сигрид не может с уверенностью сказать, сколько он длился, — разговор завершается.
Потерев глаза, Сигрид выходит из своего кабинета в общее помещение. Утро не задалось. Накануне вечером она толком не поела, легла поздно, а проснувшись, обнаружила в шкафчике над холодильником лишь кофе без кофеина. Пройти три квартала до «Юнайтед Бейкерс», простоять десять минут в очереди и за двадцать семь крон получить стакан навороченного чуть теплого кофе — эстетствующий бариста в джемпере с вырезом-лодочкой уверяет, что это улучшает вкус напитка, — у нее просто не хватило духа.
А не пробовали спросить у покупателей, что улучшает вкус кофе?
Возможно, именно такого утра она и заслуживает. Несмотря на очевидный для всех, кто причастен к расследованию, факт, что женщину убил косовар, прямых улик против него нет, а это не может не раздражать. Есть след подошвы на двери, но нет отпечатков пальцев. Женщину задушили шнуром, отпечатков на ее теле не осталось. Орудие убийства отсутствует — хотя у них есть нож — и к тому же ни одного свидетеля. Если только кто-то не прятался в это время в шкафу и не подглядывал.
Коллеги, сидящие в общей комнате, в основном не обращают на нее внимания. Все они ведут себя как чрезвычайно занятые профессионалы.
Это ее успокаивает — сама она ничего подобного сейчас не чувствует.
Разумеется, охота идет на убийцу, но Сигрид больше волнует судьба ребенка и, возможно, старика. Мальчик сидел в стенном шкафу, а убийцей был его отец. Ребенок, должно быть, очень напуган. По-хорошему, следует передать его службе социальной защиты, но тут есть один нюанс: если нет доказательств связи его отца с убийством, то что помешает этому отцу явиться и потребовать отдать ему сына?
Чтобы это предотвратить, нужны веские основания. Утро в разгаре, а Сигрид не получила достаточную дозу кофеина. Она до сих пор изумляется привычке своего отца, который, проснувшись утром, тут же выпивает стопку акевитта — скандинавского самогона, а уж потом идет в хлев и занимается там дойкой и другими делами. Пьяницей он никогда не был, но времена изменились. В Осло подобный мужицкий способ противостоять холоду и темноте северного утра неприемлем. И это, безусловно, правильно — привычка пить с утра нездоровая и несовременная. Мы теперь все должны лучше заботиться о себе.
А может, мы превратились в нацию неженок.
— Слушай, — обращается она к молодому полицейскому, которого раньше никогда не видела.
— Матс, — говорит он, удивляясь тому, что она его заметила.
— Матс, сходи принеси мне кофе.
Однако признай, что стопка акевитта была бы уместней.
— Так, прошу внимания. Подойдите все сюда. Притащите стулья.
Минуту спустя все собрались в одном углу общего офиса и сели кружком. Сигрид, все еще не выпившая кофе, произносит речь.
— Благодарю вас за добросовестный труд. Я знаю, ночь была нелегкой. Похоже, у нас до сих пор никаких зацепок ни по мальчику, ни по старику, ни по подозреваемому. Иными словами, никаких записей с камер наблюдения, никакой информации от дорожных патрулей и от коллег с других участков, и в квартире не обнаружено ничего, что могло бы нас куда-нибудь привести. Почему этим троим удается ускользнуть от нас — также непонятно.
Все опустили глаза, что Сигрид воспринимает как полное согласие с ее выводами. Их семеро. Семеро унылых гномов. И она в роли Белоснежки, очнувшейся от долгого сна. И нигде не видно чашки с кофе. Только комната, полная волосатых карликов.
— Ладно. Давайте посмотрим шире. Что такого произошло в последнее время в Осло, что можно было бы хоть как-то связать с нашей проблемой?
Молодая блондинка поднимает руку.
— Нет нужды поднимать руку. Так говорите.
— Ага. Арестована пара, которая купалась голышом в фонтане в парке Фрогнер.
— Еще?
— Нет, только эти двое, — добавляет молодая сотрудница.
— Я не это имела в виду.
Просмотрев свои записи, другой полицейский поднимает руку. Сигрид дает ему слово.
— Мужчина украл тележку для продуктов из супермаркета «Киви». Приятель катил его по Уллевалсвейену. На скорости сорок километров в час. Полицейский выписал ему штраф за превышение скорости.
Сигрид недовольна.
— Серьезные преступления происходят в этом городе?
— Только не вчера, — добавляет полицейский, тут же пожалев об этом.
— Ладно. Если случится что-нибудь необычное, сразу ко мне. Все что угодно. Так, как это делает Петтер. Понятно?
Все сидят тихо. Сигрид кивает.
Полицейский лет сорока с небольшим начинает говорить:
— Подозреваемому было бы логично сбежать на машине приятеля. Это мы проследить не сможем.
— Нет, — реагирует Сигрид. — Я тоже думала об этом. Кто-нибудь проверял, на этого Энвера зарегистрирована какая-нибудь машина?
— Нет, никаких машин, — отвечает тот же коп.
В разговор вступает Петтер Хансен:
— С пирса на Акерсхусстранда похитили лодку.
— Что за лодка?
— Небольшая.
— Ты видишь связь?
— Ну, я думал о том, что мистер Горовиц в записке упоминает «речных крыс», но он пожилой и слабый. Способны ли старик и маленький мальчик похитить лодку?
Сигрид кивает. Налицо резон и связь, и в то же время это кажется невозможным. И тут она как будто слышит голос своего отца, который предлагает ей взглянуть на проблему с другой стороны. Она следует ему и делится с остальными.
— Давайте представим себе, что бывший морской пехотинец, который сражался в Корее, выполняет свою последнюю миссию, защищая мальчика, напоминающего ему его собственного погибшего сына. Старый морпех, действуя в незнакомой обстановке, успешно избегает все расставленные нами за последние тридцать шесть часов ловушки, и никто, включая ближайших родственников, не имеет ни малейшего понятия, где он. Давайте-ка подумаем об этом. Что, если мы гоняемся не за выжившим из ума стариком, а за хитрым лисом, движимым благородной целью? Что, если мы не просто действуем неадекватно — хотя так и есть, — но соревнуемся с ним и он выигрывает?
Все молчат, обдумывая услышанное. Потом Петтер говорит:
— А почему он не сдает парня в полицию? Ведь он же будет у нас в безопасности.
— Я не знаю. Может, он так не думает. Может, он нам не доверяет. Может, он видел что-то, что заставило его так думать. Не могу сказать. Остается лишь надеяться, что уж коль скоро он избегает нас, ему удается избегать и подозреваемого с сообщниками. Потому что мне кажется, что отец хочет заполучить сыночка. Короче, надо искать лодку, — заключает Сигрид. — Она не могла уплыть далеко. Действуйте.
В кофейне напротив Дома литературы Кадри толкует с бывшим товарищем по Армии освобождения Косова и молодым рекрутом. Одновременно он жует глазированную булочку с корицей, и его собеседники силятся разобрать, что он говорит.
Один из них закуривает сигарету.
Кадри проглатывает и продолжает:
— Они же такие вкусные, разве нет?
— Я не голоден, — отвечает тот, что курит.
Кадри откусывает еще кусок и произносит на албанском:
— Голод тут ни при чем.
— Кадри, что мы тут делаем? — спрашивает второй.
Вопреки увещеваниям Энвера, Кадри навешал на себя золотые цепи, на нем черная сорочка, которая выглядит так, будто он приобрел ее в сувенирном магазине эпохи диско. На столе рядом с пачкой «Мальборо» лежит мобильник. Кадри попивает кофе латте из огромной чашки.
— Вам что, не нравится кофе латте? — пытает он собеседников.
Они качают головами.
— От него проблемы с желудком?
Они опять качают головами.
— Послушайте. Мы в Норвегии. Вы хотите, чтобы все было как дома? Поезжайте домой. Хотите жить здесь — пользуйтесь тем, что есть здесь. Тут у них кофе латте и булочки с корицей, красотки в меховых сапожках и старые американские тачки, которые выгуливают летом. Это не так уж плохо.
— Кадри, у нас тут дело. Давай поговорим о нем.
— Сенка мертва.
— Мы знаем.
— Мальчонка пропал.
Бурим, который сутулится на стуле сильней, чем Гждон, говорит:
— Об этом нам тоже известно.
— Энвер ищет мальчонку. Это значит, что вы тоже будете искать его.
Бурим затягивается сигаретой:
— Но я не в курсе, где мальчик.
Кадри проглатывает мягкую сердцевину булочки и произносит:
— Серединка — самая вкусная, такая сладкая и вязкая. Вы не понимаете, что теряете.
— Слушай меня, придурок, если бы ты знал, где он, я бы спросил: «Эй, придурок, где парень?» И ты бы ответил: «Да он тут, у меня в кармане, рядом с разным мусором и жвачкой». Но ты не знаешь, и я знаю, что ты не знаешь, поэтому я говорю, что мы собираемся его искать.
Глядя волком, Бурим отвечает:
— Если Энвер преследует мужа и жену, чтобы найти старика, а мальчонка со стариком, нам-то что делать? Похоже, все уже делается.
Кадри поднимает вверх палец и объясняет:
— Потому что мы можем ошибаться. Может, парень и не со стариком. Может, старик вообще не связан с людьми из той квартиры. Может, он обычный норвежский пенсионер, который просто стоял на улице и смотрел, как мимо проезжает машина, вот кого видел Энвер. Может, старик и не собирается встречаться с этими людьми. Сенка могла спрятать пацана где-то еще и запутать нас, побежав в другую сторону. Мы не знаем. Мы лишь… — и, облизав палец, он выставляет его, мокрый и блестящий, по ветру, и подводит черту: — предполагаем.
Гждон, который пьет эспрессо с невероятным количеством сахара, говорит:
— Если не старик, то кто? Мальчонке лет семь. Он не может оставаться сам по себе. Может, он в полиции?
Кадри вытирает палец о салфетку.
— Может быть. А может, нет. Если они объявят его в розыск по телевизору, я буду знать, что надежда еще осталась.
— Тогда кто?
Кадри не поднимает головы, лишь пожимает плечами и небрежно бросает:
— Может, сербы.
При этих словах Бурим и Гждон испускают стон и начинают ерзать на стульях.
— Ну смотрите, — поясняет Кадри, облизывая липкие губы. — Сенка была сербкой. У нее остались друзья сербы. Она не хотела, чтобы мальчишка возвращался с Энвером в Косово. Она знала, что Энвер придет за парнем. Косово теперь свободно. Это независимое государство. Там все по-новому. Время начать с чистого листа. Отвезти парня на родину. Пожинать плоды наших трудов. Как только Норвегия в марте признала Косово, все было кончено — вся вселенная обернулась против нее. Так что она вполне могла спрятать парня у сербов. Разве это не логично? И, может, настала пора вернуть шкатулку?
— Почему не попросить Зезаке? Ну, заняться этим?
Лицо Кадри становится серьезным.
— Потому что Зезаке — машина для убийства. Он не Коломбо. Да вы хоть помните Коломбо, сопляки? Ладно, неважно. Дело в том, что нож нужно использовать по прямому назначению. Мы же достаем лупу и играем в Шерлока Холмса. А это нечто другое. Универсальных инструментов не бывает. Так меня учил отец.
Бурим и Гждон переглядываются в попытке найти выход из положения, и Бурим соглашается:
— Ладно. В этом есть смысл. Ну что, мне позвонить сербам? Эй, вы не видели пацана? Ничего, если папаша отвезет его обратно в Косово, теперь, когда мы выиграли войну? И, между прочим, пардон за вашу сестрицу.
— У людей есть знакомые, — поучает Кадри. — Начните расспрашивать. Только по-тихому, понятно?
Бурим с Гждоном кивают. Потом Гждон спрашивает:
— А как?
Кадри вздыхает и трет лицо.
— Я что, должен вам все разжевать?
— Думаю, да.
— Ромео и Джульетта. Найдите парня с девушкой, которые спят друг с другом. Пусть серб выяснит, кто в общине прячет мальчонку. А мы в качестве благодарности не скажем их родителям. И родители их не поубивают. Логично?
Гждон старше Бурима и помнит порядки, царившие на родине. Он берет у Кадри сигарету и закуривает. Откидывается на спинку стула и делает глубокую затяжку.
— А как же я?
Кадри запускает руку в рот, к заднему коренному зубу. Вытащив палец, он разочарованно рассматривает его.
— Я был бы не прочь вернуть содержимое шкатулки.
— А что в ней?
— Кое-что, что Сенка привезла из Косова. То, о чем мы предпочли бы забыть. Настало время простить и забыть, сам знаешь. Не стоит будить спящую собаку.
— Это может быстро выйти из-под контроля, — говорит Гждон. — Как ты сказал, у людей есть знакомые.
— За последние десять лет в Норвегии произошло четыреста убийств, — говорит Кадри. — Это примерно сорок-пятьдесят в год на страну с населением в пять миллионов. Немного. Полиция быстро раскрыла девяносто пять процентов. В восьмидесяти процентах случаев это был мужчина от тридцати до сорока, зарезавший женщину ножом, и по большей части, они были знакомы. Энвер задушил женщину. Это уже не вписывается в привычную картину. И они поймают его, если мы ему не поможем. От нас требуется, чтобы все прошло тихо и гладко. Забрать мальчишку. Перевезти их через границу. Нанять частное судно до Эстонии. Дальше будет не сложнее, чем переспать с украинской шлюхой. Если нам удастся не вляпаться ни в какую передрягу, мы останемся здесь, — улыбается Кадри, — со сладкими булочками и меховыми сапожками.
Бурим собирает губы оборочкой и чмокает. Он спрашивает:
— Почему Энвер ее убил?
Кадри меняется в лице. Он поднимает вверх палец, взгляд становится жестким.
— Энвер — человек-легенда. Он делает что хочет. И ты не будешь задавать ему вопросов. Будешь делать, что он говорит, и помнить, что это благодаря таким, как он, у тебя теперь есть своя страна. Ты можешь оставаться здесь с меховыми сапожками. Или вернуться в Косово. Но выбор у тебя есть благодаря Энверу. Кроме того, я уже объяснял, что обстоятельства обернулись против нее. Она не смогла с ними договориться. И встретила свою судьбу. Это может случиться с любым из нас.
Он откидывается назад и раскрывает ладони:
— Я хочу навести порядок. Как бы я ни любил Энвера, я был бы не против, если бы он свалил. Знаете, что такое норвежская полиция? Это группка слабачков. Они не носят оружия, как англичане. Но они расследуют дела годами, долго и нудно. Они как герпес. Ты думаешь, что они отстали, но, как только ты потеряешь нюх, они тут как тут! Вот и мы! И в конечном счете они ловят всех убийц. Они просто выматывают свою жертву. Так что нам надо держаться вместе. Мы ведь братья! Ну! Ведь так? Через двадцать четыре часа все будет кончено.
Кадри еще глубже засовывает руку в рот. Вытаскивает оттуда кусок зубной нити и принимается ее рассматривать.
— Потому что победа — прекрасна!
Гждон кивает, Бурим молчит.
Глава 13
Бурим выходит из метро в центре Тойена и под жарким солнцем проходит несколько кварталов. Поднявшись по лестнице пять пролетов, он слегка запыхался. Из его квартиры доносится музыка. Это старомодный легкий мотив, женский голос с романтическими модуляциями поет по-английски. Он открывает ключом дверь и входит, понимая, что все это означает.
В коридоре возникает босая Адриана в рубашке из магазина «Зара» и кричит на английском:
— В Осло приезжает Пинк Мартини!
И прежде чем Бурим успевает отреагировать, Адриана велит ему:
— Снимай обувь.
Она целует его в щеку и возвращается на кухню, где на плите кипятится вода для чая.
Бурим снимает ботинки, ставит их под калошницу в прихожей, вешает рюкзак на крючок около входной двери, рядом с зонтами. Один зонт с улыбающимися лицами на черном фоне, а второй, зеленый с пандой, — от Всемирного фонда дикой природы.
— Не слишком ли жарко для чая? — спрашивает Бурим с легким акцентом по-английски.
— Холодный чай. Завариваешь «Инглиш брекфаст», добавляешь немного меда и сразу ставишь в холодильник.
Он входит на кухню, садится на икеевский сосновый стул и наблюдает за тем, как она готовит чай.
— У нас проблема.
Она продолжает размешивать мед в чае. Он, сгорбившись, кладет локти на колени. Чешет плечо, трет лицо.
Глубоко вздохнув, он, набравшись мужества, произносит:
— Я только что встречался с Кадри.
Реакция Адрианы именно такая, как он и ожидал: она резко поворачивается к нему и говорит:
— Ты же обещал держаться от него подальше.
На что Бурим вынужден ответить:
— Но они позвонили. И я не мог им отказать.
И она читает ему Лекцию номер девять.
— Кадри опасен! Он все еще член той банды. Он преступник, он сумасшедший! Ты поклялся, что будешь держаться подальше от этих людей. Они тебе не друзья. И если они втянут тебя в свои дела, особенно сейчас, ты в них завязнешь и никогда не выберешься. Я уйду от тебя, клянусь, уйду.
«Особенно сейчас» — это что-то новое. Бурим решает выяснить.
— Почему особенно сейчас?
— Хороший вопрос. Как бы тебе сказать…
С тех пор как Адриана поступила на юридический факультет университета Осло, у нее появились замашки строгого прокурора. Она всегда умела убеждать, а из университетского курса узнала, что логическое аргументирование — это оружие, которое можно использовать против слабых мира сего.
Разгневанная Адриана размахивает мокрым чайным пакетиком. С него на майку Бурима летят брызги.
— Так. Если мы теперь живем вместе и у нас общее будущее, нам необходим компромисс. Допустим, я стираю белье, а ты в свою очередь не связываешься с торгующими героином психопатами и с сербской женщиной, убитой в трех кварталах отсюда.
— Я здесь ни при чем. Ты это знаешь.
— Только с твоих слов. Ты так сказал, и я предпочла тебе поверить. На самом же деле, я не имею понятия, что ты делаешь, а чего не делаешь.
— Ты же меня знаешь.
Адриана смягчает тон, но не меняет тему разговора.
— Их я тоже знаю. И еще я читаю газеты. Пожалуйста, скажи мне, что они не имеют отношения к убийству той женщины. Прошу тебя, скажи.
Бурим разводит руками. Адриана опускается на стул.
— Мы должны пойти в полицию.
— Энвер — мой двоюродный брат. И я уверен, что они уже все знают.
— Откуда тебе знать? Ты же не читаешь по-норвежски. Откуда тебе знать, о чем пишут газеты?
— Я смотрел англоязычный сайт.
Адриана качает головой:
— И зачем ты только пошел к ним?
— Я боюсь их, как ты не понимаешь! Я должен знать то, что известно им.
— О чем?
— О нас!
— Что с нами такое?
— Ты же сербка!
— Я — норвежка.
— О, прошу тебя! Не начинай опять!
Адриана повышает голос, как делает всегда, когда вынуждена защищать свою новую идентичность.
— Я — норвежка. У меня норвежский паспорт. Я живу здесь с восьми лет. Мои родители — норвежцы. Я учусь в университете. Я лучше всего знаю норвежский язык. Я не считаю себя сербкой.
Бурим тоже переходит на повышенные тона. Он не в состоянии поверить, что она совершенно не понимает того, что все это не имеет ровным счетом никакого значения.
— Ты родилась в Сербии. У тебя сербское имя. Ты бежала во время войны и тебя удочерили здесь. Родной язык для тебя — сербский, и кровь в твоих жилах течет сербская.
— Ну и что из того? — кричит она.
— Неважно, кем ты себя считаешь, — орет в ответ Бурим. — Важно, кем они тебя считают!
— Кто?
— Все они!
После этого оба замолкают.
Пинк Мартини исполняет страстную песню, полную меланхолии и раскаяния. Бурим и Адриана смотрят друг на друга и вдруг улыбаются. В этой улыбке сквозит грустная ирония.
— Я люблю тебя, — говорит она.
— И я люблю тебя, — вторит он.
— Можешь не соглашаться, но я действительно норвежка. Я доверяю им. Если ты считаешь, что мы оказались в опасности, потому что какие-то психи не одобряют наших отношений, я должна об этом сообщить в полицию. Потому что в Норвегии подобные вещи недопустимы. Я могу любить кого захочу. Ты — разгильдяй, ты куришь и водишься с плохой компанией.
— Но… — Бурим хмуро смотрит на нее.
— Что — но?
— Предполагается, что ты перечислишь все мои недостатки, а потом объяснишь, за что все-таки любишь меня.
Адриана кривит губы:
— Никогда о таком не слышала.
Она ставит чай в холодильник и поправляет на дверце выскользнувшую из-под магнитика черно-белую открытку с танцовщицей фламенко.
— Знаешь, я и правда очень беспокоюсь, — признается Бурим. — Кадри кое-что сказал. Дал мне понять, что он нас подозревает. Они пытаются найти мальчишку.
Бурим внимательно следит за Адрианой, но она не меняется в лице.
— Какого мальчишку?
— Сына убитой женщины.
— Зачем они его ищут?
— Не могу сказать, — он замолкает и достает сигарету, которую Адриана тут же вырывает у него из рук, подставляет под струю воды и выбрасывает в мусорное ведро. — Ты ничего не слышала об этом?
— О чем ты говоришь?
— Ты уверена, что твои родители не против нашей связи?
— Да, уверена. Но они думают, что я достойна парня получше тебя. Как я уже сказала, ты разгильдяй, ты куришь и у тебя друзья мерзавцы. Тебе нужна нормальная работа, и я хочу, чтобы ты пошел учиться в колледж. Но им все равно, что ты из Косова, если ты это имеешь в виду.
— А как насчет того, что я мусульманин?
— Ты не очень хороший мусульманин.
— Я не об этом.
— Им все равно.
— Почему?
— Потому что им безразлично, кто ты по национальности и в какого бога веришь, Бурим. Им важно, что ты за человек. Вот если будешь вести себя как свинья, то им это не понравится. А остальное — твое дело. Так что там с этим мальчиком?
— Я могу тебе довериться?
— В чем?
Сигрид звонят из автомастерской и сообщают, что заказанная для ее машины запчасть была повреждена при пересылке и потребуется еще три дня, прежде чем она сможет забрать машину. Но они готовы предоставить замену. Потом опять звонит шеф с предложением помощи. Активность ее коллег-полицейских постепенно стихает. Сигрид сдается и объявляет, возможно, громче, чем следовало бы, что она отправляется на место преступления — где не трезвонят телефоны — искать улики.
Все что угодно, лишь бы взбодриться.
Она выходит через главный вход и поворачивает направо за угол здания к стоянке, огороженной цепями. На стоянке находятся три служебных автомобиля: «вольво S60», «сааб 9–5» и «фольксваген-пассат», а также полицейский мотоцикл «БМВ». Довольно своеобразный набор.
Она глубоко вдыхает предполуденный воздух и прислушивается к тишине: здесь не звонят телефоны, не поучает начальство, не выдвигаются теории, построенные на недостаточном количестве фактов, и журналисты не достают вопросами о сроках раскрытия дела.
Сегодня одна из журналисток к тому же пожелала связаться по скайпу. Телефонного разговора, очевидно, теперь уже недостаточно.
Девица выглядела юной и заурядной.
— Как только закончится следствие, — Сигрид постаралась ответить молодой либералке из «Дагбладет» как можно вежливее.
— А когда это случится?
— Когда найдем ответ.
— Но мы же ходим по кругу. Вы избегаете ответа на вопрос, — имела наглость заявить эта малолетка.
Временами быть начальником довольно утомительно. И не столько потому, что по существующим правилам нельзя вывести журналистку из здания полиции за ухо, а потому, что она должна подавать пример подчиненным.
Чтобы успокоиться, Сигрид в ответ загадала загадку, которую слышала в детстве:
— Почему то, что мы ищем, всегда находится лишь в самом конце?
И девице, и Петтеру, и троим другим полицейским, которые тщетно делали вид, что заняты своими делами, но на самом деле подслушивали, было ясно, что Сигрид до нее снисходит. Сигрид была здесь старшим инспектором, и ей надо было что-то отвечать.
— Я не знаю. Почему?
— Потому что когда ты находишь пропажу, ты перестаешь ее искать.
После этого девица стала настаивать на переговорах по скайпу.
Сигрид поморщилась. Эх, она бы сейчас предпочла мотоцикл! Надеть белый шлем. Открыть забрало. И вдыхать ароматы летних сосен и подстриженной травы. Почувствовать великолепие одиночества, на минуту потерять чувство времени.
Может быть, ей стоит получить права. Научиться водить мотоцикл. Найти новое хобби и смириться с тем, что она никогда не найдет мужчину и не заведет семью. Иметь мужество принять ту жизнь, которой она живет.
Сигрид выбирает «вольво» — удобный автомобиль с кожаными сиденьями. Она закрывает окна, включает кондиционер и вливается в автомобильный поток, необычно плотный для центра города. По радио то и дело передают новости, но в остальном день спокойный и погожий. Ничто не предвещает дождя, в небе, насколько видно глазу, никаких облаков. Сигрид включает разговорное радио, чтобы не скучать в пробке.
Она слушает передачу под названием «Врач». Люди со всей страны звонят в эфир и задают вопросы, связанные со здоровьем. Это общенациональная программа. Слушая звонки один за другим, Сигрид мысленно покидает Осло и возвращается на ферму. Она отвлекается.
Из какой-то деревни позвонил одинокий старик, страдающий ужасным кашлем. У него нет семьи, он живет с тремя кошками, которых безумно любит. Это его единственные друзья. Он жалуется врачу, что не может бросить курить, хотя знает, что надо. Здоровье его ухудшается, но у него не хватает духу бросить курить. Недавно одна из кошек начала кашлять. Он думает, что это все из-за него. Сигрид слышит, как голос старика дрожит от сознания собственной вины и раскаяния — и страшного одиночества. Что может сделать врач в такой ситуации?
Сигрид выключает радио и поглаживает руль. Потом снова тянется к кнопке радио, но не включает его. Несколько минут ее машина ползет в плотном потоке.
Потом она звонит отцу.
После десятого гудка трубку — старомодную и тяжелую — снимают с аппарата, несколько раз уронив. Перед тем как поздороваться, отец спрашивает:
— Сигрид. Что случилось?
— Ничего. Я просто захотела позвонить.
— Есть причина?
— Хочу услышать, что у тебя все хорошо.
— Доченька моя. Такая сентиментальная.
— Я такая, какой ты меня воспитал.
Отец смеется, что заставляет ее улыбнуться. Потом кашляет, и Сигрид мрачнеет.
— В следующий раз, когда приедешь, привези мне плотные рабочие перчатки. Здешние мне не нравятся. Пойди в «Клас Олсон», там есть хорошие. И еще книги. Я читал в «Афтенпостен», вышла книга по истории Китая. Ее в этом году перевели с французского. Купи мне ее.
— Ладно.
В разговоре возникает пауза, которую никто из них не находит неловкой. Наконец отец спрашивает:
— Ты уже встретила хорошего человека?
— Да, как раз собиралась сказать тебе, — кивает Сигрид. — Мы поженились и у нас трое сыновей.
— Отличная новость.
— Хьюи, Дьюи и Луи. Они замечательные, но у них проблемы с речью и слишком короткие ноги.
— Из-за этого могут быть неприятности в школе.
Опять возникает пауза. Сигрид включает сигнал поворотника и приближается к дому, где произошло убийство.
— Ты где?
— Еду на место преступления.
— Там кто-нибудь еще есть?
— Никого. Оно опечатано.
— А до тебя там кто-нибудь был? На месте преступления?
— Полагаю, да. Когда нужно уточнить что-нибудь, мы, бывает, возвращаемся. Почему ты спрашиваешь?
— У тебя оружие с собой?
— Зачем мне оружие?
— Сделай одолжение, прихвати дубинку.
— Так, ну и кто из нас сентиментален?
— Сделай, как я прошу.
— Почему?
— Репортер спрашивает у грабителя: «Почему вы ограбили этот банк?» Тот отвечает: «Потому что там всегда есть деньги».
— Уилли Саттон[8] отрицал, что говорил это.
— И тем не менее.
— Пока, папа.
— До свиданья, Сигрид.
Сигрид паркуется на свободном месте в полуквартале от нужного ей дома, достает из багажника дубинку и закрывает машину. С дубинкой в руке она шагает не спеша, чтобы не возникло ощущения, что что-то случилось.
Что-то еще, по крайней мере.
Сигрид открывает входную дверь и поднимается мимо места преступления налево вверх по лестнице на третий этаж, в квартиру, где жили убитая женщина и ее сын. Перешагивает через полицейскую ленту, открывает дверь ключом и входит внутрь. Разувается и зажигает свет. Обходит одну за другой каждую комнату в поисках чего-нибудь интересного — чего-нибудь, что не попало в отчет.
Риелтор сказал, что площадь квартиры шестьдесят шесть квадратных метров. Напротив от входной двери через небольшую прихожую — ванная. Налево спальня. Сигрид начинает именно с нее.
Опечатанная квартира была тщательно осмотрена полицейским Томасом и новым криминалистом Хильде. До сих пор она хорошо справлялась с работой, несмотря на нервозную официальность и преувеличенно уважительное отношение к начальству, — это порой мешает работе и поэтому не очень хорошо для криминалиста.
У Сигрид с собой папка со сделанными в квартире снимками и весьма детальными отчетами. Но она должна сама все увидеть — чтобы почувствовать место, где жили мать и сын, обсуждали повседневные проблемы, делились друг с другом маленькими радостями.
В дальний угол спальни втиснута широкая кровать, в противоположном углу стоит односпальная. Кровати не заправлены. В комнате не прибрано, но довольно чисто. Справа от прихожей компактная кухня в стиле 1970-х годов. Шкафчики из дешевого материала, в глубине небольшой столик на двоих, за которым мать и сын, как представляет Сигрид, вместе ели и обсуждали его учебу. Столик хлипкий, но столешница чистая. Посуда сложена в раковине.
Вторая дверь справа ведет в гостиную.
Полицейские поработали на совесть. Сигрид опускается на колени и высматривает остатки следов от военных ботинок, но их нет. Петтер и ребята, похоже, также не обнаружили никаких следов грязи. На предметах по всей комнате прикреплены номера, и она узнает их по снимкам.
В ванной есть только то, чем могли бы пользоваться женщина и маленький мальчик. Большие флаконы с шампунем, пеной для ванны, тальком — из самого дешевого ассортимента. Есть еще маленькие — дорогих марок. В корзиночке целый ворох пробников духов, вырванных из журналов.
За унитазом почти нет грязи или пыли. Мыльницу сполоснули после последнего использования. Вот пластиковая баночка с ватными палочками со снятой крышкой и почти новая детская зубная щетка. Зубную пасту из тюбика выдавливали все время снизу.
На кухне нет конфет и только одна коробка с засахаренными хлопьями. Нет газировок, но много фруктовых сиропов. Пачки с макаронами и банки с томатным соусом. В морозилке большой контейнер с дешевым мороженым и упаковка дорогого американского «Häagen-Dazs» с крошками печенья.
Сигрид достает ее. Коробка почти полная. Пять маленьких выемок, сделанных умелой рукой. Кем-то, кто может оценить удовольствие, но не может себе его позволить, и поэтому держит себя в руках — пусть сначала ребенок съест начатое, а потом уже они вместе примутся за это лакомство.
Сигрид возвращает коробку в морозилку.
Ясно одно — ты была хорошей матерью и любила своего сына. Это факт.
Сигрид обувается, выключает свет и закрывает за собой дверь, при этом чувствуя, что что-то упустила.
Лестница в подъезде деревянная, ступени отполированы сотнями пар ног людей, поднимавшихся и спускавшихся по ним тысячи раз, после того как в 1962 году в доме сделали капитальный ремонт и преобразовали из кооператива в кондоминиум.
Сигрид спускается к квартире, где было совершено преступление. Над дверным звонком написаны имена — Рея Горовиц и Ларс Бьорнссон.
Полицейская печать взломана. Сигрид отводит руку и смотрит на дверную ручку. Она довольно долго не отрывает от нее взгляда.
Дверь должна быть заперта. Если бы кто-нибудь из ее подчиненных дежурил внутри, она бы об этом знала.
Разве она не поставила охрану у двери? На улице в фургоне полицейские наблюдают за зданием, но у дверей никого нет. А это было бы нелишним, думает она с опозданием.
Как дверь могла оказаться открытой?
Может быть, старик вернулся. Надо думать, у него есть ключ. А может, вся семья вернулась. Им запретили возвращаться, но люди действуют импульсивно. Срывать печать на месте преступления незаконно, но это не значит, что такого не случается. В жизни Реи и Ларса царит сейчас такой хаос — их можно понять, если не простить.
Или в квартиру проник некто. А может быть, этот некто прямо сейчас там.
Сигрид качает головой. Она знает, что отец никогда бы этого не одобрил. И не только того, что она собирается сделать, но и того, как она это обоснует.
Есть также вероятность, что там прямо сейчас находится управляющий, который примеряет женское белье. Или наркоман тырит драгоценности. Или целая группа недавно приплывших китайских иммигрантов, у которых нет телевизора, пришли посмотреть хоккейный матч между русскими и финнами, пьют пиво и делают ставки.
Ты не имеешь представления, что там за дверью. Ты не видишь всего, что происходит. Там может быть все что угодно. Тебе остается лишь предполагать. Дедукция тут не поможет. Одной пули хватит, чтобы убить тебя, если ты сглупишь или тебе не повезет. Так что не будь дурой.
Так сказал бы отец.
Сигрид снимает с пояса рацию и сообщает о проникновении в квартиру. Делает это она очень тихо. Рация трещит в ответ и замолкает.
Сигрид прикладывает ухо к двери и прислушивается.
Она колеблется. Несколько минут продолжает стоять перед дверью, перебирая подвешенные на поясе предметы. Этот пояс ей всегда нравился. Он, правда, тяжеловат, но довольно эффектно сидит на ее бедрах.
Кнопка от баллончика с газом издает резкий звук. Наручники не звенят, они уложены в черный подсумок. Все сделано с умом. Это одна из тех вещей, благодаря которым мир стал чуточку лучше, но тех, кто это придумал, забыли поблагодарить.
Если бы на поясе был еще и пистолет, все съехало бы набок. Вот поэтому ковбои носили свои шестизарядные кольты на бедрах.
— Ну хорошо. Все понятно.
И Сигрид широко распахивает дверь.
Ей знакомо место преступления. Оно было описано в отчетах коллег и, несмотря на грамматические ошибки, описано точно. Сигрид просмотрела десятки фотографий и даже видела видеосъемку — новшество, которое начали применять с недавних пор. Один трудолюбивый курсант даже ввел квартиру в программу автоматизированного проектирования, чтобы полицейские смогли проследить шаг за шагом передвижения жертвы и преступника и воспроизвести различные сценарии.
Но сама она еще не побывала там, где было совершено убийство. Интересно, почему когда мы смотрим на что-то собственными глазами, мы видим все не так, как запечатлено на фотографии? Однажды Сигрид побывала во Флоренции. Увидев столь хорошо знакомую статую Давида, она лишилась дара речи.
На полу — широкие доски датского паркета. Стены снесены, гостиная и кухня объединены и элегантно отделаны нержавейкой и кленом. В кухне — гигантский американский холодильник, в центре остров со встроенным грилем. Духовка газовая, что в Осло встречается редко, так как город не газифицирован. Каждые несколько месяцев Ларс, должно быть, ездит за новым серым баллоном.
Сигрид не заходит внутрь. Наоборот, оставив дверь открытой, она отступает назад и всматривается в пространство, чтобы не получить удар ножом.
Взглянув на часы, она видит, что провела в прихожей уже восемь минут. Довольно долго.
Сигрид делает шаг в квартиру. Ей кажется, что она следует за шепотом мертвеца и ожидает откровения.
Сигрид разувается и оставляет туфли в прихожей. Проходя мимо светильников, включает свет и осматривает большую комнату. Она свежая и яркая. Хозяева квартиры, похоже, люди искушенные и космополитичные. И немного иностранцы. В винном шкафу, бутылок на двадцать, красные вина лежат выше, чем белые. Около плиты — четыре вида оливкового масла. На магнитной полоске рядом с раковиной висит набор из ИКЕА вперемежку с дорогими ножами японского и немецкого дизайна. Электроприборы производства американской фирмы Kitchenware. В вазе — яблоки, груши, лимоны и лаймы, которые скоро начнут гнить.
Около раковины стоит старая немытая кофейная кружка с логотипом журнала «Пентхаус».
Эта квартира намного просторнее, чем первая. Метров сто двадцать или больше. Справа хозяйская спальня, между дверью в спальню и холодильником — несколько ступеней, ведущих вниз, в комнату старика, туда, где они нашли следы мочи.
Сигрид открывает папку и достает снимки. Сравнивает фотографии с тем, что видит собственными глазами. Ищет несовпадения, которые покажут, что кто-то тут побывал.
Заходит в ванную и осматривает ее. Здесь более качественная косметика, чем в квартире выше этажом, более тонкие ароматы, более дорогие мочалки. В шкафчике под раковиной она обнаруживает вибратор и быстро закрывает дверцу — из скромности или, может, из зависти.
Она замечает книги авторов, имена которых ей незнакомы: Филип Рот, Джеймс Солтер, Марк Хелприн, Ричард Форд. Есть еще номера литературного журнала «Paris Review».
Ничего странного, но многих вещей она не понимает. Эти трое создали среду обитания, не естественную ни для кого из них.
Но попытка, и даже ее результат, впечатляет.
В зеркале над раковиной она видит душевую занавеску. Она задвинута.
Сигрид берется за дубинку. С тех пор, как она заходила в ванную, занавеску трогали.
Подмога должна быть уже в пути. Полицейский участок недалеко отсюда.
Сигрид снимает с пояса фонарик и, вместо того чтобы откинуть занавеску, отступает назад к двери и гасит свет. Она направляет луч фонарика на белый потолок над ванной, освещая белую занавеску.
Теней нет. Внутри никого.
Снова включив свет, она сдвигает занавеску, чтобы убедиться, что ванная пуста. После этого выключает электричество и выходит из ванной.
Детективы все тщательно сохранили в гостиной. Повсюду она видит следы борьбы. Там, где произошло убийство, полно осколков стекла. В последние мгновения жизни женщина лежала с ножом в груди на журнальном столике, задыхаясь под руками убийцы. Ее кровь стекала на белые доски паркета.
Силы борющихся были неравны. Повалив женщину на спину, убийца прижал ее коленом. В его ненависти было что-то личное.
В нижней комнате потолки повыше, потому что дом стоит на неровной поверхности.
Здесь все прибрано. Кровать заправлена. На красном стуле висит черный костюм, белая рубашка и серый галстук, словно ожидая скорбящего хозяина. Сигрид заглядывает в деревянный комод и обнаруживает там несколько свитеров, пару брюк, нижнее белье.
На ночном столике стоит лампа. Ее ножка сделана из двух состаренных серебристых фоторамок, скрепленных вместе. В левой рамке черно-белая фотография пятидесятилетней давности, на ней женщина примерно возраста Сигрид. Она миниатюрная, темноволосая, глаза накрашены по моде 1950-х годов. Женщина сидит на каменной стенке, подняв одну ногу. Нога упирается в парковую скамейку, у подножия стены. Женщина смеется. По ощущениям, снимок сделан осенью. Возможно, это его жена — та, что умерла в Америке, после чего он переехал сюда.
В правой рамке портрет молодого человека, почти подростка. У него стройная фигура и глаза, как у той женщины. Эта фотка цветная и немного не в фокусе. Наверное, сделана походя или дешевым фотоаппаратом типа «Полароида», или даже «Миноксом». Юноша скрестил ноги и руки и облокотился на капот голубого «Мустанга» 1968 года выпуска. Парень улыбается так, как будто сам спроектировал и собрал эту машину.
На столике есть еще один предмет — это нагрудный шеврон темно-зеленого цвета с тонким красным ободком, выглядит поношенным. На нем вышит девиз американских морских пехотинцев: Semper fidelis.
Верен долгу всегда.
— Куда же вы, черт возьми, подевались, мистер Горовиц? — вслух произносит Сигрид. — Почему вы прячетесь и что делаете?
Перед тем как выйти из комнаты старика, Сигрид встает на колено и заглядывает под кровать. И впервые что-то выглядит не так, как ожидается.
Там лежит большая розовая шкатулка с серебристым замком на передней стенке. Лучи полуденного солнца отсвечивают от пола, и шкатулка видна отчетливо.
Сигрид протягивает руку и достает ее.
Стоя на одном колене, она изучает замочек. Он не открывается. Своим универсальным ножом она могла бы с легкостью сковырнуть его и открыть шкатулку, но в данный момент это неактуально.
Сигрид снова смотрит на женщину на снимке — на ее белую спортивную обувь, наручные часы, белый воротничок, выступающий над треугольным вырезом свитера. У нее широкая улыбка. Весь мир у ее ног. Снимок, должно быть, сделан в конце 1950-х годов. Шелдон вернулся из Кореи. Сыну лет пять или шесть. Женщина молода и привлекательна. Беды в ее жизни еще не начались.
Могла ли эта шкатулка принадлежать ей?
Сигрид достает черный блокнотик и пролистывает запись допроса Реи и Ларса. Вот оно. Муж женщины был часовщиком и антикваром.
Сигрид вновь смотрит на розовую шкатулку.
Ни в коем случае.
И тут Сигрид вспоминает, что забыла сделать наверху. Она ни к чему не примерила ключ, который нашли у Сенки в кармане.
Неужели все забыли сделать это? Если так, то уж она им устроит, когда вернется в участок!
Если тот ключ подходит к чему-то, находящемуся в квартире, где она была убита, значит, она принесла эту вещь сверху. Это могло храниться тут, и тогда получается, что Сигрид ввели в заблуждение, и Сенка, Рея и Ларс были знакомы. Что маловероятно. Скорее всего, несчастная принесла это сюда перед тем, как ее убили, и пыталась спрятать. За этим охотился убийца. Отчасти поэтому она и погибла. Она защищала себя и содержимое шкатулки. Она боролась не на жизнь, а на смерть, пока ее сын прятался в стенном шкафу совсем рядом.
Что бы ни находилось в шкатулке, это было очень важно.
Это последнее, о чем успевает подумать Сигрид, прежде чем на ее голову опускается что-то тяжелое и она падает на пол.
Глава 14
Кадри смотрит на женщину, которую он только что огрел фонарем. Он не любит бить женщин, хотя, если честно, его это не особенно беспокоит. Она, конечно, не заслужила такого. Но ему нужна была шкатулка, и он был почти уверен, что просто так она ее не отдаст.
— Надо было тебе посмотреть в шкафу, — обращается он к ней по-английски. — В следующий раз проверяй шкаф, а не душ. Кто станет прятаться в душе? Там человека точно убьют. Ты что, кино не смотришь? «Психо». Смерть в душе. Мексиканец в фильме «Старикам тут не место». Умер в душе. Мишель Пфайффер в картине «Что скрывает ложь». Чуть не убили в душе, ну, или в ванне. Но она проделала этот трюк пальцами ног и выбралась. Но все же — в душе.
Он смотрит себе под ноги и продолжает говорить:
— Гленн Клоуз в «Роковом влечении». Померла в ванне. Джон Траволта в «Криминальном чтиве». Мертвей некуда — тоже рядом с душем. Но никогда — в шкафу. Я не могу вспомнить ни одного, кого застрелили бы в шкафу. Вот почему я прячусь шкафах.
Кадри чешет живот.
— В общем, смотри. Я беру коробку и иду пить кофе. Поправляйся.
Кадри проверяет у Сигрид пульс. Убедившись, что она жива, берет шкатулку под мышку и выходит. Он шагает по улице мимо полицейской машины, садится на свой скутер «Веспа» и едет прямиком в ближайшее «Каффебреннериет» за булочкой.
Хорошо, когда все складывается по плану. Бурим внедряется к сербам, и не только через постель. И он добудет нужную информацию. Гждон забирает оружие, о котором просил Энвер. Шкатулка, что бы там в ней ни хранилось, найдена.
Сияет солнце, воздух сухой и бодрящий. Если помахать ладонями перед лицом, можно почувствовать умиротворяющий запах лета. Что еще нужно человеку для полного счастья?
Вокруг мирная жизнь. Без тяжелого прошлого и отягчающих обстоятельств, без отголосков трагедии. Правда, как-то все непривычно. Когда Кадри уезжает из Осло в другие города, где обсуждает с коллегами политику, играет в карты, покупает и продает наркотики, он чувствует влияние просторов Скандинавии — бесконечного неба, бескрайних земель. Местных жителей слишком мало для такой территории.
Они должны петь, как это делают жители Балкан. И танцевать. Но что-то не дает скандинавам облечь в слова то, что могло бы освободить их, связать и воссоединить друг с другом и с небесами. Они должны любить жизнь. И смеяться над смертью.
Как бы то ни было, историю Скандинавии трудно назвать историей в полном смысле слова. Ее здесь вообще нет. Ни тебе римлян. Ни христиан. Ни крестоносцев. Ни религиозных войн. Только древние боги, тролли и блондинки в мехах. В самом деле, с чего вдруг впадать в депрессию?
Как же я скучаю по нашим песням, полным печали и радости! Но сейчас не время грустить или радоваться. Сейчас надо выпить кофе.
Кадри нетерпеливо переминается с пяток на носки, пока молодая шведка, приехавшая в Норвегию на лето подзаработать денег, осторожно наливает подогретое и взбитое молоко в его чашку латте, оставляя на поверхности фирменный знак кафе.
Кадри постукивает сорокакронной купюрой по стойке и внимательно рассматривает кофе.
Девушка тоже смотрит в чашку.
Кадри поднимает голову и говорит:
— Зачем ты нарисовала вагину на моем кофе?
— Что?
— Вагину. На моем кофе. В пенке.
— Это листик.
— Листик?
— Да. Листик.
— Ты когда-нибудь видела такие листья?
Они оба вновь разглядывают рисунок на пенной поверхности кофе.
— Я сегодня первый день работаю, — говорит она.
— Так ты пыталась сделать листик?
— Да.
— Ну, значит, это листик.
— Спасибо.
— Сдачи не надо.
Пара средних лет с детской коляской цвета лайма поднимается, чтобы уйти, и Кадри устремляется к освободившемуся кованому столику. Он кряхтит, усаживаясь на стул.
Ну и жизнь! Столько всяких поворотов. Столько всего неожиданного, и так мало что можно предотвратить. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы удержать баланс. Ради собственного спокойствия мы позволяем себе маленькие радости. Например, кофе и сигареты.
Усевшись, Кадри достает айфон и тычет в маленькие иконки. Он ждет, когда Энвер возьмет трубку.
Энвер долго не отвечает. Черт его знает, чем он там занят. Кадри собирается как следует сыграть свою роль, быть хорошим солдатом. Но он не будет из кожи вон лезть и делать эти проблемы своими. Это не его ребенок. Он никого не убивал. В Норвегии, по крайней мере. Чем скорее все это кончится, тем лучше. Пусть Зезаке вмешается, если уж до этого дойдет. Кадри заполучил шкатулку. Пока с него хватит.
Энвер отвечает на звонок. Он говорит с придыханием и без юмора, как обычно.
Они переходят на албанский.
— Коробка со всем содержимым у меня.
— Проблемы были?
— Дал по голове женщине-копу. Но она осталась там, а я с коробкой — здесь. Она жива. Вот и все.
Энвер молчит. Он всегда молчит, когда думает. Кадри это не по нутру. Если ты чего-то там себе думаешь, поделись своими мыслями.
— К таким вещам они относятся серьезно.
— Послушай, Энвер. Все нормально. Я стоял сзади. Она не успела ничего заметить. Можно мне открыть коробку? Она довольно уродливая. Мне бы хотелось побыстрее от нее избавиться.
— Нет.
— Нет? Что нет? Нет, мне нельзя ее открыть, или нет, она не уродливая? Потому что ты уж мне поверь, она страшенная. Вся такая розовая, с маленьким серебряным…
— Не открывай ее. Я не хочу, чтобы ты что-нибудь потерял. Я полагаю, она заперта. Надеюсь, она останется запертой, когда ты мне ее принесешь.
— А где ты?
— В Гломлии.
Кадри скребет грудь в том месте, где золотая цепь зацепляет волосы.
— А это далеко от Парижа? Я бы хотел побывать в Париже.
— Это рядом со шведской границей. Посмотри в своей маленькой тупой штучке.
— Ты должен кое-что знать.
Энвер не реагирует.
— Шкатулка. Она была не в квартире. Она была там, где все произошло. И я был прав. Старик живет именно там. Мне пришлось прятаться в стенном шкафу, в нем воняло. Как будто кто-то нассал. Может, старик. А может, мальчишка. Я думаю, он обоссался, потому что услышал снаружи что-то, что его напугало. Если это был мальчишка, тогда, похоже, старик его потом забрал оттуда. Так что я был прав насчет старика. Думаю, он что-то знает. И не исключено, что мальчишка с ним. Это не облегчает нам его поиски, но помогает понять, где искать не стоит. Ты меня понимаешь?
Энвер вешает трубку, не прощаясь.
Да уж, будь добр, вали обратно в Косово. И забери с собой свое мрачное настроение. Война окончена.
Но перед тем как Кадри успевает сделать глоток кофе, кто-то берет его за плечо.
Он оборачивается и видит полицейского лет тридцати.
— Что? — спрашивает Кадри по-английски.
— Вы арестованы.
— О чем вы говорите? Я все лишь пью кофе в кофейне. Я курю на улице, как и все.
— Любите кино?
— Почему вы меня об этом спрашиваете?
У Петтера в руках рация, он подносит ее ко рту Кадри и спрашивает по-норвежски:
— Это он? Голос тот?
— Да, это он, — трещит в ответ голос Сигрид.
Петтер сообщает Кадри, что тот арестован, но Кадри начинает смеяться.
— У вас даже нет оружия. С какой стати я с вами вообще должен идти? Потому что вы меня об этом вежливо попросили?
— Нет, потому что вот они просят.
Петтер указывает за спину Кадри, и тот, обернувшись, видит двоих серьезных ребят в черных бронежилетах и вооруженных автоматами «Хеклер и Кох».
— Это Beredskapstroppen.
— Что это значит?
— Спецназ. — Петтер наблюдает, как с лица Кадри исчезает ухмылка.
— Они что, расстреляют меня прямо в кафе?
— Нет, — отвечает Петтер, — они расстреляют вас прямо в грудь.
Потом Петтер наклоняется поближе и шепчет:
— Это маленькие помощники Санты. Они всегда в курсе, кто ведет себя хорошо, а кто — плохо. А ты был очень, очень плохим мальчиком.
— Вы что, не в себе? — спрашивает Кадри.
Петтер возвращается в машину, садится за руль и пристегивается. Поворачивает зеркало заднего вида так, чтобы видеть Сигрид, лежащую на заднем сиденье. Она прижимает к голове пакет со льдом, лицо выражает крайнюю досаду.
— Я должен отвезти тебя в больницу. У тебя может быть сотрясение мозга.
— Я не могу. Мне надо работать.
— Не упрямься.
— Я не упрямлюсь. Мне надо позвонить и закончить это дело. Проще сделать это самой, чем объяснять тебе, что к чему.
— Тебе, наверное, стоит позвонить отцу, чтобы он не узнал обо всем из газет.
— О боже! Это обязательно будет в газетах?
Сигрид видит, как Петтер пожимает плечами.
— Нападение на старшего инспектора полиции в связи с убийством, — говорит он. — Но я думаю, ты права. Мы можем притвориться, что ничего не произошло. Но если это все же попадет в отчеты, я уверен, «Дагбладет» вряд ли заинтересуется.
Сигрид издает стон.
Потом звонит отец.
Сигрид смотрит на телефон. На экране высвечивается: «Папа». Голова у нее не просто болит — это настоящая мука: по мозгам стучит пульсирующий и безжалостный отбойный молоток.
Она принимает позу эмбриона.
— Отец.
Она видит, как Петтер качает головой:
— Лучше ответь. Он никогда не покидает ферму, но всегда обо всем знает.
— Да, это за ним водится. Нажми за меня кнопку, я не могу ее найти.
Он передает ей телефон.
— Да. Привет, папа.
— Итак?
— Что итак?
— Что произошло?
Сигрид вдруг приходит в голову, что выражение «сыпать соль на раны» точно родилось из чьего-то личного опыта.
— Меня ударили по голове.
На другом конце возникает пауза.
— Папа?
— Да?
— Тебе нечего сказать?
— Ну, теперь, когда ты спросила… Почему ты не взяла с собой оружие?
— Я тебе говорила. Меня ударили по голове. Пистолет бы мне не помог. Мне был нужен шлем.
— Полагаю, с этим не поспоришь.
— Мы можем поговорить об этом позже, пап? Нам надо перегруппироваться и проанализировать дальнейшие действия. А прямо сейчас меня вырвет.
Для поисков пропавшей лодки во фьорде Осло нужно было вызывать вертолет, что требовало длительного согласования. Так как, вернувшись в участок, Сигрид была не в состоянии всем этим заниматься, делопроизводство взял на себя Петтер. Большая часть ее сил ушла на препирательства о том, что ей не надо ехать в больницу.
Неизвестно, было ли у нее сотрясение мозга. Если да, то ей нельзя спать. В участке это и не получится. Так что при наличии сотрясения ей лучше ехать в участок. Если же его не было — зачем тогда в больницу? Приняв обезболивающее и приложив к голове лед, Сигрид сумела убедить, главным образом, саму себя, что самое правильное для нее сейчас — оказаться в рабочем кабинете.
Как только вертолет поднялся в воздух, она начала получать регулярные отчеты. Самое главное — принять решение, посылать ли вертолет прямо на юг к Несоддену или на юго-запад к Дробаку и далее по направлению к Дании.
В конце концов они выбрали направление на Дробак. Если искать восточнее, они полетят к Нессету и окрестностям, потом повернут на запад, пролетят над сушей до побережья, потом отправятся на юг, вернутся назад и заберут на север до самой посадочной площадки для вертолетов. На это потребуется много дорогостоящего топлива. Поэтому было решено рискнуть полететь на Дробак и искать на юге, прикинув, насколько хватит топлива маленькой лодке. Если ничего не обнаружат, то полетят над сушей к Нессету и к Кьойе, Неббе и другим крепостям в том районе.
Второй пилот держал связь с Петтером, который уже вернулся с обеда и вновь приступил к своим обязанностям, заключавшимся в том, чтобы не давать Сигрид заснуть. Из-за больших расстояний, деревьев, мешавших обзору с воздуха, и обескураживающего количества рыболовных и экскурсионных лодок операция продолжалась несколько часов. У пилотов уходила уйма времени и сил на то, чтобы определиться с лодкой: она пришвартована, дрейфует, брошена, ею пользуются? И вообще, им надо было понять, подходит ли она под описание.
К четырем часам пополудни они ее обнаружили. Прилив отнес лодку на расстояние около мили от голубого домика. Когда местные наконец осмотрели дом, Шелдона и пропавшего мальчика уже и след простыл.
— Где это? — поинтересовалась Сигрид.
— Она плавала около Кахолмене. Недалеко от того места, где потопили немецкий корабль.
— Я знаю, где это, Петтер. Все это знают.
Петтера все больше беспокоит состояние Сигрид, особенно давление, но он благоразумно молчит об этом.
— Свяжитесь с местной полицией. Я думаю, что начальник там все еще Йохан. Объясните ему, что именно мы ищем. Может, у них будут какие-то идеи.
У Энвера снова вибрирует телефон. Он сует руку глубоко в карман, достает трубку и читает сообщение.
«У машины», — написано на экране.
Дело идет к вечеру. Энвер последний раз смотрит в бинокль на дом и приходит к выводу, что мужчина и женщина никуда не уедут. В душе он радуется возможности встать и размяться.
Но он не встает. Он переползает за небольшой холмик и крадется, чтобы его не увидели из дома.
За двадцать минут, пройдя через лес, подальше от дороги, вокруг поворота, где он постарался ее спрятать, он добирается до машины. Его старания оказались напрасными.
Гждон и Бурим стоят, облокотившись на капот белого «мерседеса». Пока он приближается, они курят и переговариваются друг с другом.
Оба смотрят на Энвера, когда он возникает на грунтовке, отряхиваясь и приглаживая волосы.
Гждон спрашивает:
— Ты слышал про Кадри?
— Что у вас есть пожрать?
— А?
— Что у вас есть пожрать? Вы привезли чего-нибудь? Сэндвич? Что-нибудь?
Гждон и Бурим переглядываются и смотрят на Энвера:
— У нас нет еды. Откуда у нас еда?
— Вы должны были привезти еды.
— Кадри арестовали. Я не знаю, за что, — продолжает Гждон. — Но его взяли в нескольких кварталах от квартиры.
— Откуда тебе это известно?
— Я ждал его около квартиры, — объясняет Гждон. — Он пошел искать шкатулку, а мне велел…
— Что велел?
— Ну, вроде он велел мне купить пару сэндвичей.
— Верно.
— Да. Но я их съел.
Энвер молча смотрит на них обоих.
У Бурима возникает желание выпрямиться, оторваться от капота машины, но он подавляет его.
— Я не знал, что это для тебя. Я решил, что один был для Кадри, а второй — для меня. И когда полицейские вошли внутрь, а он вышел и прошагал мимо меня, я их и съел.
Энвер продолжает хранить молчание.
— Я сначала позвонил ему и сказал, что женщина-полицейский вошла в дом, — добавляет Гждон.
— Кто еще будет? — спрашивает Энвер.
— А потом появился один Кадри.
— Кто, мать твою, еще будет?
Бурим впервые открывает рот:
— Никто.
— Доставайте винтовки.
Бурим и Гждон нерешительно переглядываются.
— Понятно, — говорит Энвер. — Их вы тоже не привезли. Ни еды. Ни оружия. Ни бойцов. А чего вы вообще приперлись?
— Энвер, мы не в Косове. Здесь Калашниковы не валяются под каждым стогом сена. В 1997 году мы награбили миллионы, миллиарды патронов. Здесь же даже для охоты на уток ты должен пройти курсы и получить лицензию.
— Винтовки есть за прилавком в «Интерспорте» на главной улице.
— Но чтобы до них дотронуться, нужно иметь разрешение. А если ты купишь винтовку, тебя найдут, потому что оружие надо регистрировать.
— В общем, вместо того чтобы выполнить задание, вы решили оградить себя от возможной бумажной работы в будущем. А где люди?
— Ты перешел черту, Энвер, — произносит Гждон. — Ты убил мать своего ребенка. Некоторые считают, что ты проклят.
— Но тем не менее вы приехали, — говорит Энвер Буриму.
Да, Бурим приехал, но не по своей воле. Накануне он рассказал Адриане о пропавшем мальчике и старике. Она его выслушала. Не перебивала и не читала новых нотаций. Она просто слушала, а когда он закончил, сказала:
— Я ничего не знаю об этом. Если бы кто-то из моих знакомых был замешан или что-нибудь видел, я бы знала.
— Но ты узнаешь у своих? — попросил Бурим.
— «У своих»? Не могу поверить, что ты это сказал. Что происходит?
— Нам грозит опасность.
— Посмотрю, что можно сделать, — пообещала Адриана.
Когда Кадри позвонил Буриму, тот знал, что выбора у него нет и придется пойти и притвориться, что все так и должно быть. Показать, что он не догадывается, в чем его подозревают.
Бурим решил, что есть только один способ покончить со всем этим — помочь Энверу свалить из страны. Кадри — подонок, торгует наркотиками, но, кажется, убийцей он не был. Хотя кто знает. Истории с родины долетают, как листья по ветру. Отличить правду от вымысла невозможно.
Существует, конечно, и другой способ — посадить Энвера. Оказавшись в камере, где ему самое место, он оставит всех в покое. Но к нему, Буриму, все равно будут обращаться с разными просьбами. Напоминать о том, что его семья и он сам в долгу перед соотечественниками. Что он солдат и должен служить родине.
Самый радикальный выход из сложившейся ситуации — внезапная смерть Энвера.
Но о таком даже думать страшно. Он никогда ничего подобного не делал. Проблемы нарастали, как снежный ком. Как-то незаметно одна маленькая просьба переросла в задание посерьезнее, потом еще и еще. Поручения все усложнялись до тех пор, пока однажды в прошлом году у него в руках не оказалась коробка с полукилограммом героина. Лежащий в ней коричневый комок привезен из Афганистана — страны, где местные племена выращивают мак на полях. Днем по ним палят очередями с вертолетов, а по ночам за своей долей «урожая» являются талибы. И вот это добро лежит перед ним на столе рядом с солонкой и перечницей, завернутое в симпатичную розовоголубую прихватку из какого-то модного магазинчика в центре Осло.
Несколько дней спустя позвонил Кадри и попросил вернуть коробку. Бурим положил ее в оранжевый рюкзачок и отнес в кофейню. Вручил рюкзачок Кадри и испытал огромное облегчение — словно иссек злокачественную опухоль. Брикет «коричневой чумы» канул в небытие. Адриана через пару дней хватилась рюкзачка и все никак не могла понять, куда же он подевался.
Взамен он получил от Кадри пятнадцать тысяч крон. Отправился в «Палеет» и накупил для Адрианы книг, подписался со скидкой на два года на eMusic.com. Еще он приобрел себе новую зимнюю куртку, а остатки положил в банк на их с Адрианой счет.
Выходя в тот день из банка около Майорстуена, нагруженный покупками, Бурим пытался понять, что это было. Он смутно чувствовал, что люди, с которыми он связался, не выполняют обещаний. И эта мысль привела его в ужас.
Гждон встает на одно колено и открывает небольшую зеленую сумку. Достает оттуда три длинных охотничьих ножа с деревянными ручками и металлическими эфесами.
Энвер говорит по телефону с кем-то неизвестным. Закончив разговор, смотрит на человека, которого когда-то считал своим другом.
Гждон вручает ножи Буриму и Энверу. Оба в замешательстве смотрят на оружие, но у каждого из них свои причины удивляться.
Энвер задает вопрос, который крутится на языке у Бурима:
— И что прикажешь с этим делать?
Гждон встает, открывает багажник «мерседеса» и ставит туда зеленую сумку — рядом с запаской и корзинкой с моющими средствами.
И вдруг дает совсем неожиданный ответ:
— А делай что хочешь, твою мать, Энвер. Кашу заварил ты! Я хочу с этим покончить. А потом я хочу, чтобы ты и твой ублюдок свалили и никогда больше здесь не появлялись.
Бурим отступает назад, держа нож наготове.
Энвер не двигается, затем кивает. Просто кивает. И просит у Гждона сигарету. Тот слегка сутулится, сует руку в карман и достает почти пустую пачку красного «Мальборо». Постучав пачкой по левой ладони, вытряхивает сигарету.
Американские солдаты имеют привычку постукивать фильтром сигареты по столу, камню или шлему сидящего рядом товарища. При этом крошки табака высыпаются, и на конце сигареты образуется воронка из белой сигаретной бумаги, которая начинает гореть сразу, еще до того как закуривающий успевает сделать первую затяжку.
Русские, наоборот, мнут сигарету большим и указательным пальцами. Табак при этом похрустывает и крошится. Какая бы ни была погода, русские складывают ладони лодочкой, прикрывая спичку, заслоняя драгоценный огонь.
Он протягивает сигарету Энверу, тот зажимает ее губами.
— Дай прикурить.
В правой руке Энвера охотничий нож.
Гждон сует свой нож за пояс и достает из кармана джинсов спички.
Он чиркает спичкой по боковой стороне коробка и тут же прикрывает огонь на русский манер. В его ладонях пламя бьется, словно птичка, которую вот-вот выпустят на свободу.
— Подними-ка огонек поближе ко мне, — говорит Энвер.
Гждон делает шаг вперед и подносит руки к лицу Энвера. Настолько близко, что даже при меркнущем свете дня видно, как языки пламени отражаются в усталых глазах Энвера.
Когда Энвер наклоняется, чтобы опустить кончик сигареты в сложенные ладони Гждона, Бурим видит, что в живот Гждона упирается острие ножа.
Даже после того как сигарета прикурена, он видит, как эти двое продолжают сверлить друг друга глазами.
Столько всего было сказано о том, что они все считают своим домом. Запах земли. Вкус пищи. Мужские ценности и женские воспоминания. Они говорили о тех, кого потеряли, и о долге перед умершими. О том, что сделали с ними сербы. И если не каждая рассказанная история случилась на самом деле, то эмоции, вызванные тяжелыми воспоминаниями, всегда были подлинными.
Бурим хотел научиться отделять правду от вымысла. Вслед за Адрианой он записался в библиотеку и часами сидел в Интернете, разыскивая услышанные им названия деревень. Бела Крква. Межа. Велика Круша. Дьяковица. Во всех этих деревнях сербы проводили чистки. Но Бурим никогда не бывал в этих местах. Никогда не видел погромов. Его долг перед Косовом, его независимостью и достоинством — и, в частности, перед Энвером — был абстрактным и опосредованным.
Стоя теперь в этой тенистой аллее, за две тысячи километров от дома, Бурим смотрит на уставившихся друг на друга мужчин и впервые в жизни чувствует, что смерть совсем рядом. Вот чем от него пахнет, когда по ночам он возвращается домой. Вот что так пугает Адриану. Вот что он приносит на себе в ее постель. Их преследует История.
Энвер прикуривает сигарету и поднимает голову. Гждон размыкает ладони и отбрасывает спичку. Она падает на землю и горит еще несколько секунд, пока он ее не придавливает.
Гждон не смотрит на нож. Но и не отступает. Он просто спрашивает у Энвера:
— Что теперь?
Глубоко затянувшись, Энвер чувствует, что чувство голода притупилось. Он кивает Гждону:
— Прошлым вечером они меня учуяли, но ничего не смогли разглядеть. Сегодня они весь день отдыхали, и мы все ждали старика и мальчишку. Вечером захватим дом.
Накануне вечером Рея долго всматривалась в чащу, потом вышла и приблизилась к деревьям. Энвера она не видела. Он наблюдал за ней в бинокль — разглядывал черные кожаные штаны, черные ботинки, винтажную кожаную куртку с металлическими молниями. Ярко-голубые глаза и длинные черные волосы. Когда она подошла поближе, он уставился на ее бедра.
Остановившись на безопасном расстоянии, но достаточно близко, чтобы все видеть, она пригнулась к земле и принялась собирать камешки. В основном, маленькие, но и большие тоже. Потом распрямилась и стала наугад бросать их в заросли, постепенно поворачиваясь.
Но ничего не произошло. Не вспорхнули испуганные птички. Не метнулся встревоженный олень. И даже не захромала прочь какая-нибудь собака, вышедшая на поиски любви.
Тишина.
Рея обернулась и увидела Ларса. Пожав плечами, она вернулась к нему и похлопала несколько раз по груди:
— Спасибо, что терпишь меня.
И неожиданно для Ларса расплакалась. Но это продолжалось не более минуты. Потом она вытерла слезы, улыбнулась, попыталась засмеяться и снова похлопала его по груди.
— Ну и денек!
Они вернулись в дом, и Ларс приготовил нехитрый ужин из макарон и томатного соуса. После еды он помог Рее снять одежду и переодеться в полосатую пижаму. Она улеглась, свернувшись калачиком, а он взял одеяло и укрыл ее, подоткнув со всех сторон. Убедившись, что ни с какой стороны ей не надует, он погладил ее по волосам. Почитал ей вслух рассказ из старого номера «Нью-Йоркера».
Приоткрыв окно, чтобы впустить свежий воздух, он погасил свет и удалился в гостиную — прибрать в комнате и сделать кое-какие наброски для новой игры, в которой геймер бродит по знаменитым павильонам Голливуда с огромным пистолетом и расправляется с зомби-версиями актеров и других знаменитостей.
Когда Рея проснулась, одеяло сползло до пояса, а утреннее солнце уже нагревало дом. Ларс, совершенно голый, пошел варить кофе. На километры вокруг не было ни души, так что он не одеваясь вышел на крыльцо, чтобы смолоть кофе, и сел на ступеньки, разглядывая лесные заросли.
Он прекрасно понимал, почему Рея так разнервничалась. Тропинка до дома, больше пятисот метров в длину, пролегала через чащу, про которую Рея однажды сказала, что тут Икабод Крейн[9] мог бы спасаться от Всадника без головы. Но Ларс тут вырос. Ему знакомы деревья, животные, камни и даже порывы ветра. Каждому времени года присущи совершенно определенные звуки, запахи, радости. Сам по себе окружающий нас мир не пугает, приходит к выводу Ларс, он нуждается в нас.
Весь день, по настоянию Ларса, они проводят в спокойном расслабленном отдыхе.
— У тебя был выкидыш. А назавтра в нашей квартире убили соседку. Пропал твой отец.
— Он мой дед.
— Он мог бы быть твоим отцом.
— Наверное.
— Сейчас мы можем только ждать и надеяться. Тебе нужно восстановить Силы. Сфокусироваться. Давай поиграем в «скраббл» на английском. Можешь придумывать слова и убеждать меня, что они на самом деле существуют.
— Почему его не объявляют в розыск? Почему не опубликуют его портрет во всех новостях?
— Сигрид сказала, что это из-за того, что у вас одна фамилия, а она есть на двери. Есть вероятность, что убийцы знают о его исчезновении и примутся его искать. Может, они захотят узнать, что он видел. И говорят, мальчик может быть с ним. Если убийцы ищут мальчика и узнают, что Шелдон пропал, они поймут, что полиция его не нашла.
— Все это звучит как-то запутанно.
Напоминает игру в шахматы. Эта женщина из полиции, Сигрид, очень осторожная.
— Она считает, что мы в опасности?
— Нет. Преступление, по всему видно, с нами не связано. И убийцы никак не могут знать про наш домик тут. Но все равно, полиция Конгсвингера в курсе, что мы здесь. Нам ничто не грозит.
Весь день они отдыхают и ждут новостей.
В шесть часов вечера, пока еще светло и тепло, Энвер Бардош Бериша, Бурим и Гждон переступают через порог их домика и направляются прямо к холодильнику.
Часть III
НЬЮ-РИВЕР
Глава 15
В комнате Шелдона в Осло висит норвежское стихотворение. Обнаружив его в антикварной лавке в Нью-Йорке, Рея была впечатлена его силой и свободным слогом перевода. Она сфотографировала его, распечатала, вставила в рамку и подарила Ларсу на день рождения.
Оно висит над ночной лампой в спальне у Шелдона. Когда он садится на кровать и смотрит на фотографии покойных жены и сына, порой ему приходится отворачиваться. И тогда он видит стихотворение.
Оно было написано в 1912 году и переведено на английский язык профессором из университета Миннесоты. Через семь лет после того как Норвегия обрела независимость от Швеции, университет издал его в сборнике малоизвестных произведений, названном «Современная поэзия Скандинавии».
Норвегия. Дар племенам кочевым,
Что стремились все дальше на север,
К землям, где море грохочет оркестром,
Соленые волны бросая на берег скалистый,
Где живы забытые временем боги.
Брызгаясь вином словно дети,
Эхом голосов рассыпаясь по залам,
Гостей дорогих ожидая,
Поднимая огонь и песни
В спокойное темное небо,
Обращаясь к полярной ночи
Хором свечей и запахом дыма.
Мы, — они говорят, — севера дети родные,
Наши отцы здесь уснули в земной колыбели,
Это общая память, история наша,
Они говорят,
Это наша земля.
И теперь эта земля окружает его, Шелдона. Он никогда прежде ее не видел. Они едут уже несколько часов. Обозревая окрестности с высоты трактора, старик вспоминает картины, которые рождало в его воображении стихотворение. Он не помнит его наизусть, но чувствует настроение и не забыл яркие метафоры. Сейчас, когда ветер бьет ему в лицо, когда под ним шуршат огромные колеса трактора, а в лодке стоит Пол, стихотворение вдруг приходит ему на ум.
До сих пор эта земля представлялась ему безмолвной, теперь же, вглядываясь в нее, он как будто слышит ее голос. Он чувствует, что сама по себе тишина — это такой язык. Это больше чем просто смерть и память. Больше чем голоса ушедших.
Есть что-то в тишине Европы, чего он прежде никогда не слышал. Но ему не хватит оставшейся жизни, чтобы полностью постичь эту тишину. Поэтому он относится к своему новому открытию как к стихотворению, найденному случайно, — не вдаваясь в детали. Без названия и без автора. Пережил однажды и больше не встречал.
Бросая вызов возрасту и гравитации, он встает во весь рост на движущемся тракторе, и мир проплывает под ним. Он наблюдает, как к нему приближаются деревья: сначала медленно, потом с ускорением пролетая мимо.
Они доезжают до Хусвиквейена, потом до Киркевейена и Фроенсвейена. Позже он поворачивает к Арунгвейену и Моссевейену и, в конце концов, на Rv23 и EI8, где перед ним открывается тихий простор, раскинувшийся, словно океан. Этот простор что-то говорит Шелдону, но тот не в силах понять, что именно.
Шелдон открыл глаза, когда Марио клал ему на голову влажную салфетку.
— Донни, ты в порядке?
— Да не очень.
— Медики перевязали тебе ногу. И оставили записку.
— Что с ногой?
— Огнестрельная рана, но легкая.
— Понятно.
— Как ты сюда попал? — спросил Марио.
Донни принялся вспоминать. Его подстрелили, когда он приближался к дамбе. Он отстреливался. Потом вырубился. Теперь у него болит голова. Ранена нога, а болит голова. Странно.
— Я приплыл на лодке.
— На какой лодке? С десантного судна? Я тебя там не видел.
— Нет, на маленькой лодке. На плоту. Я одолжил его у австралийцев. Меня, должно быть, выбросило на берег. Или кто-то меня вытащил. Трудно сказать.
— Поэтому ты весь мокрый?
— Да, Марио. Поэтому я весь мокрый.
— Встать можешь?
— Думаю, да.
Донни не представлял себе, который сейчас час и сколько понадобилось времени, чтобы захватить все три пляжа. На берегу засели остывающие танки Т-34. Уже был развернут полевой госпиталь. Над собой он видел огни корейского маяка в Палми-до. Наступило время прилива, солнце блестело на бортах десантной лодки. Ребята курили. Было довольно спокойно.
Марио поднял Донни, они стояли, глядя друг другу в глаза, и улыбались.
— Рад тебя видеть, — сказал Марио.
— Сопли утри.
— Нам надо сфотографироваться.
— Зачем?
— Мы же братья по оружию! Мы сделаем снимок и будем показывать его своим сыновьям, чтобы они гордились нами.
— Ты и правда думаешь, что мы встретим девчонок?
— Я-то точно. А вот ты — может, милую коровушку. Или уточку. Говорят, утки — отличные любовницы.
— Что, правда?
— Да, — подтвердил Марио. — А когда надоест, ты всегда можешь ее съесть.
— Где фотоаппарат?
Марио снял рюкзак и вытащил оттуда «Лейку IIIc». Она была блестящая, из нержавейки, с ребристой ручкой. Он протянул ее Донни.
— Я не знаю, как этим пользоваться.
И Марио показал ему, как определять выдержку, устанавливать светочувствительность и выставлять диафрагму. Все это время американские, канадские и южнокорейские солдаты очищали пляж и прибрежные воды от последствий военных действий. Они грохотали чем-то в пунктах снабжения и перетаскивали тяжести на пирсах. Пока двое друзей обсуждали кнопки фотоаппарата, Инчхон у них за спиной превращался в плацдарм для северных операций против коммунистов.
— Теперь ты все понял? — спросил Марио.
— Думаю, да.
— Сначала меня сфоткай.
Вдалеке раздавались взрывы снарядов, где-то за холмом продолжался бой с остатками сил сопротивления. Марио отступил назад и приготовился к съемке. Руки у Донни были липкими от склизкой морской воды, и он вытер покрытые песком пальцы о мокрые штаны, чтобы не испортить фотоаппарат Марио.
Когда он поднес камеру к глазу, ему пришло в голову, что он впервые в жизни смотрит в видоискатель. Может быть, когда-то он и держал фотоаппарат в руках. Но никогда не смотрел в видоискатель. Разве что в прицел винтовки. В свои первые мишени он целился в Нью-Ривере около Кэмп-Леджона, Северная Каролина, — в учебке. И его все время мучило желание почесаться.
Это выдаст вашу позицию, и вас убьют. Есть вопросы?
В его десантной группе было пятнадцать добровольцев. Они стреляли по целям пять недель. Их обучали методам разведки, патрулирования, чтению карт, искусству камуфляжа и прицельной стрельбе. Они привыкали сохранять неподвижность и равновесие, сопротивляться импульсивным желаниям, правильно дышать и контролировать обстановку, проводить обманные маневры. Даже замедлять биение собственного сердца.
Их учили определять на глаз расстояние, действовать с учетом ветра и плохой освещенности. Они обсуждали винтовки, патроны, оружейные тонкости и девчонок. Спорили о джазе и автомобильных двигателях. Дрались за сигареты. Учились материться и оскорблять религиозные и национальные чувства друг друга и изобретали изощренные термины для обозначения некоторых типов людей.
Нюхач — парень, который обнюхивает девчоночьи велосипедные сиденья.
Дрыщак — тот, кто вставляет себе в задницу зубные протезы.
Они тренировались убивать людей, готовясь к тому моменту, когда им придется применять это умение на практике.
Для снайпера указательный палец — это оружие. Но сейчас Шелдон держал в руках фотоаппарат, и товарищ попросил его сфотографировать, а не выбрать цель. Использовать этот палец, чтобы запечатлеть мизансцену навсегда, а не уничтожить ее. Продлить ее бытие, а не приблизить конец.
И вот, держа фотоаппарат в руках, спустя всего каких-то несколько часов после того, как он убивал людей в море на рассвете, Донни понял, что такое преображение.
Пока он готовился сделать снимок, его вдруг охватило чувство удивления, смирения и простого удовольствия. Марио любил порассуждать о том, как хлеб и вино становятся плотью и кровью Христа. Донни всегда поднимал Марио на смех при этих разговорах. Теперь же, глядя в видоискатель, он подумал, что это вполне возможно.
Он улыбнулся Марио.
— Давай постараемся, — крикнул он.
В верхнем левом углу того, что потом станет чернобелым снимком, находился маяк. Марио стоял чуть ниже, справа. Берег и темное море — налево, с правого края вверх до самого Палми-до тянулись дюны. Все вроде было на своих местах, но композиция не складывалась.
— Отступи немного назад, — сказал Донни. — Не хочу, чтобы у тебя были обрезаны ноги.
Марио, не задумываясь, сделал, как ему велели. Он не заколебался, не возмутился, почему именно он должен отходить, а не Донни. С какой стати? Марио был добродушным, с мягким характером, никогда не стремился к превосходству. Итальянский парень, оказавшийся на далеких берегах. После победоносной битвы потерянный и вновь обретенный друг держал в руках его любимый фотоаппарат и был готов запечатлеть исторический момент.
Следующие шестьдесят лет Шелдон будет постоянно задавать себе один и тот же вопрос. Корпя над сломанными часами и во время предрассветных рейдов по вьетнамской реке после смерти Саула. Когда Мейбл выйдет попудрить носик за ужином в ресторане, а он в ожидании ее возвращения будет крутить в руках вилку. Ответ на этот вопрос он получит только здесь, в Норвегии, когда вдруг всплывут воспоминания, запрятанные до поры до времени в дальнем уголке памяти, и тогда он поймет, что очень скоро ему предстоит ответить за все.
Почему он попросил Марио шагнуть назад, а не отступил сам?
Кто-то должен был сделать пару шагов назад, это было очевидно. Одним движением запястья приблизить или отдалить мир было невозможно. В этот момент взгляд Донни на мир был ограничен возможностями 50-миллиметрового объектива.
Отступать совсем необязательно должен был Марио. Донни и сам мог бы сделать несколько шагов назад. Если бы он подвинулся, Марио мог оказаться в идеальной позиции. И если бы Марио отступил назад, результат был бы тем же самым.
Так почему же он попросил Марио отступить, а не отошел сам?
Я был грязный, измотанный и нервный, я был ранен в ногу и не хотел никуда двигаться. Он твердил себе это объяснение много лет подряд, но оно звучало неубедительно. Я всегда был старшим из нас двоих. Всегда играл роль мудрого брата. Может, это была часть нашей игры: именно он должен был отойти, а не я; он должен был выполнять мои инструкции, а не я делать шаги за него.
Все так и было. Но не имело никакого значения. Может, то, что Донни попросил Марио сделать пару шагов назад, было естественно в их отношениях, но дело было совсем не в этом. Донни не пытался ничего доказать Марио.
Маяк на Палми-до был маленьким, приземистым и белым, он выделялся на фоне серого, обложенного облаками неба. Он был спокоен и неподвижен, пока вокруг него суетилась кучка иностранцев, пытавшихся создавать новый мир. Он оставался непоколебим в меняющемся мире. Это успокаивало. Это было… красиво.
Он не хотел двигаться. Он не хотел, чтобы что-нибудь менялось.
И пронзившая Донни красота вечности убила Марио.
Непонятно, на что он наступил. Может, это был неразорвавшийся снаряд. Но что бы это ни было, хватило легкого прикосновения ноги, чтобы оно рвануло.
Взрывом Марио подбросило в воздух. Было ли это совпадением или страшным воздействием ударной войны, Донни никогда не узнает. Его палец нажал на кнопку в тот самый момент, когда прозвучал взрыв, и камера навсегда запечатлела кошмар произошедшего.
В 1955 году Шелдон открыл фотоаппарат Марио, вытащил пленку и проявил ее. На пленке был только один кадр. Эту фотографию он так и не опубликовал. Не показал ее Мейбл. Словом никому не обмолвился о ее существовании и не стал объяснять, почему в том же году пустился в странствия по Европе, по разным столицам и странам, прихватив «Лейку». Причиной была именно та фотография.
Рея не знает об этом, но снимок находится в Норвегии — в большом конверте на верхней полке у него в шкафу вместе с полусотней других фотографий, которых никто никогда не видел. На большинстве из них запечатлен Саул во младенчестве, детстве, перед школой. Несколько снимков Мейбл.
В самом низу лежит фотография, на которой его друг Марио взлетает над землей, ноги уже отделились от туловища, в углу — белый маяк, но он все еще улыбается.
Глава 16
Вот зараза! — чертыхается про себя Шелдон.
В левом боковом зеркале трактора он видит самую мирную полицейскую машину из всех когда-либо виденных. Это белый фургон «вольво» с красно-синей полосой вдоль бортов, не вызывающий ощущения обреченности — лишь уважение, как школьная камера наблюдения.
И все-таки внутри сидит полицейский с рацией.
Шелдон перебирает в голове варианты поведения. Оторваться от полицейского он не сможет. Спрятаться тоже не удастся. Вступить в борьбу — невозможно и абсолютно неуместно.
И вечная мудрость Корпуса американской морской пехоты звучит в его голове голосом сержанта-инструктора.
Когда у вас остается всего один выход, значит, у вас уже есть план!
Из патрульной машины вылезает противник — полноватый симпатичный господин лет шестидесяти и расслабленной походкой направляется к трактору. Он не вооружен и выглядит спокойным.
Шелдон слышит, как тот что-то вежливо говорит Полу, но со своего места он видит мальчика и не слышит ответа, если ответ вообще был. Скорее всего, он промолчал и просто затаился в лодке.
Пока полицейский приближается сбоку к трактору, Шелдон делает глубокий вдох и входит в образ.
Страж порядка обращается к нему по-норвежски.
Шелдон не отвечает по-норвежски и даже не пытается перейти на английский.
— God ettermiddag, — приветствует его полицейский.
— Gut’n tog! — с энтузиазмом отвечает Шелдон на идише.
— Er di fra Tyskland? — интересуется полицейский.
— Jo! Dorem-mizrachdik, — говорит Шелдон, надеясь что это слово все еще означает «юго-восток», как и тридцать лет назад, когда он в последний раз употреблял его. При этом он предполагает, что «Tyskland» — Германия по-норвежски.
— Vil du snakke Engelsk? — спрашивает полицейский, который, очевидно, не говорит по-немецки, или на том языке, который Шелдон выдает за немецкий.
— Я чуть говорить английский, — произносит Шелдон, старательно коверкая слова.
— А, хорошо. Я немного знаю английский, — отвечает полицейский и ничего не подозревая, переходит на родной язык Шелдона. — Я думал, что вы американец, — говорит он.
— Amerikanisch? — отвечает Шелдон на языке, который мог бы быть идишем. — Нет, нет. Немец. Унд свисс. Яа. Зачем привлекать к ответственность. Норвегия с мой внук. Говорить только по-швейцарски. Глупый мальчик.
— Интересный какой у него наряд, — замечает полицейский.
— Викинг. Любить Норвегия очень.
— Понимаю, — кивает полицейский. — Однако любопытно, что на груди у него еврейская звезда.
— А да. Изучать евреев и викингов в школе на одной неделе, кто знать почему. Хочет быть тем и другим. Я дедушка. Не могу говорить нет. На прошлая неделя были греки. Завтра может быть самураи. У вас есть внуки?
— У меня? О да! Шестеро.
— Шестеро. Рождество стоит очень дорого.
— О да. Девочки хотят все розовое и размеры всегда не подходят. И сколько машинок можно подарить мальчику?
— Купите мальчику часы. Он запомнит. И Рождество, и вас. Время против нас, стариков. Но мы можем объединиться с ним.
— Отличная идея. На самом деле, отличная.
— Я еду слишком быстро? — интересуется Шелдон.
— Нет, все в порядке, — улыбается полицейский. — Хорошего дня.
— Danke. И вам хорошего дня.
«Вольво» отъезжает, и Шелдон заводит трактор.
— Эй, держись там, — кричит он Полу. — Поищем место для ночевки. Нам еще надо убрать с дороги этот драндулет.
Саул возвращался домой из первой командировки на коммерческом рейсе «ПанАмэрикан» Сайгон — Сан-Франциско. Ему стукнуло двадцать два. Он был одет в гражданское, в кармане куртки лежал роман Артура Кларка. За восемнадцать часов до посадки в самолет он пристрелил вьетконговца из своей М16. Тот человек, одетый во все черное, был одним из троих бойцов, устанавливавших миномет. С заглушенным двигателем лодка Саула дрейфовала по течению. Первым вьеткон-говцев увидел Монах и кивком указал их местонахождение. Саул не умел стрелять так метко, как его отец, но он первым различил силуэты людей в тени деревьев и отблесках света, проникавшего сквозь кроны. Он ударил короткой очередью, одной из пуль угодив неизвестному прямо в живот. Остальные разбежались. Морпехи высадились на берег и забрали орудие. Они заметили, что в голове у вьетконговца засела вторая пуля, выпущенная с близкого расстояния.
Выполнив задание, лодка вернулась на базу. В честь отъезда Саула была устроена небольшая вечеринка — пили пиво, слушали рок-музыку и отпускали сальные шуточки. Сдав обмундирование и оружие, заполнив кучу бумаг и переодевшись в цивильное, Саул сел в автобус до аэропорта и полетел в Америку.
В какую-то Америку.
В самолете он читал книжку и боролся со сном. О безмятежном отдыхе речь не шла, потому что спокойно он не спал уже два года. Его часто мучили кошмары — снилось пережитое за день. Он страдал от этого. Его разум пытался все это осознать. Гудение самолета убаюкивало. Саул начал впадать в забытье, а это было опасно. Потому что забытье населено чудовищами.
Он наблюдал, как другие пьют бесплатную водку и коньяк. Он тоже хотел было выпить, но его еврейские гены мешали ему. Алкоголь нагонит на него сонливость, но не расслабление.
Саул посмотрел на мужчину, сидевшего через проход, в надежде поболтать с ним. У того была мощная грудь и шея, одет он был в серые слаксы и мятую голубую рубашку. Перед ним на подносе стояли три маленькие бутылочки с джином, и он ничего не читал. Мужчина почувствовал взгляд Саула и посмотрел на него. Их глаза встретились, но он отвернулся.
Америка 1973 года, встретившая Саула в Сан-Франциско, бурлила яркими красками и музыкой, межрасовыми парами и экстравагантными геями. Никто не плевал ему в лицо и не называл убийцей детей. Но когда он шел по улице со своей короткой стрижкой и вещмешком на плече, а американская молодежь двигалась ему навстречу, с развевающимися на ветру волосами и в посверкивающих цветными стеклами очках, они казались друг другу экзотическими животными, далекими и незнакомыми, словно существа из волшебного зоопарка.
Нечто подобное он испытал, когда двумя годами ранее прибыл во Вьетнам. Там его встретил разношерстный сброд американских новобранцев, но он оказался не готов ко всем скрытым смыслам, моделям поведения и запутанности жизни, с которыми пришлось столкнуться. К перекликающимся историям и темам разговоров, настроениям и воспоминаниям всех этих людей.
Он не понимал флот. Он не понимал Сайгон. Он не мог понять, чего хотят молчаливые торговцы или враги-вьетконговцы. Его смущали коммунисты с их буддистскими семьями.
Он пытался разглядеть знакомое выражение на лице девушки — почти подростка, — которая стреляла в него из-за угла соломенной хижины в грязной деревушке спустя ровно месяц после его прибытия. В следующее мгновение ее сожгло заживо пламя, выпущенное Монахом из огнемета.
Согласно традиции, Саул должен был поблагодарить его после этого. Он открыл было рот, но Монах просто отвернулся.
Достаточно смутно, из сведений, почерпнутых из газет, от военных и бывших солдат, а также слухов и новостных роликов, Саул понимал, что такое война. Но о воюющих солдатах он не имел ни малейшего понятия. Каким-то образом война была производным всего того, что эти люди творили, проснувшись поутру. Но то, что они делали, казалось безумием, поэтому война — термин, используемый для дурной театральной пьесы, в которой он участвовал, — превратилась в абстракцию, даже становясь все более реальной и осязаемой.
Он не мог охватить взглядом всю картину целиком, поэтому попытался проследить отдельные сюжетные линии. Отношения с товарищами. Почему полковник, по слухам, каждую ночь засыпал в слезах. Что обо всем этом сказал бы его отец.
Пока он летел домой, ему представлялись различные варианты того, как обсудить эти вещи с отцом-морпехом, ветераном войны в Корее. Когда он вернется, это будут не просто отношения между отцом и сыном. Они теперь оба ветераны: американские солдаты, которые участвовали в боях, которые побывали по ту сторону Зазеркалья. Оба они изменились, всеобщее древнее правило племен позволяло им говорить по-новому, пользоваться уважением и авторитетом, которые не положены тем, кто не был крещен огнем войны.
Со временем Саул научился сортировать людей, которых он встречал во Вьетнаме. Эти — на моей стороне. А те — нет. С этими можно договориться. А с теми — нет. В конце концов он вывел категорию, в которую попадал сам. Это был ящик, сколоченный его отцом, на крышке которого было написано: еврей-патриот. Ящик был наполнен немыслимыми вещами. Шелдон держал там свои соображения по поводу прошедшей войны и прошедшей эпохи. Саул — кошмары и впечатления.
Он пробыл в Сан-Франциско всего одну ночь, перед тем как двинуться дальше на восток. На такси доехал до дешевого мотеля недалеко от аэропорта и весь вечер смотрел телевизор, попивая кока-колу и фанту из мини-бара. Между восемью и одиннадцатью он посмотрел сериал «Все в семье», вторую часть сериала «Скорая!», фильм с Мэри Тайлер Мур, шоу Боба Нью-харта и заснул посередине телесериала «Миссия невыполнима». Он пересек меридиан смены дат и второй раз в жизни страдал от джетлага[10]. Заснул он прямо в обуви. На простынях мотеля осталась вьетнамская земля.
На следующий день во время короткого визита в комендатуру его сняли с учета, и он не успел опомниться, как уже был гражданским, которому нечего делать и некому подчиняться. Но он уже был на пути в Нью-Йорк.
Когда он подходил к дверям квартиры в Грамерси, солнце стояло высоко, город благоухал. Он посмотрел на табличку около дверного звонка. На ней значилась фамилия его родителей — на минутку он забыл, что это и его фамилия тоже, — и замешкался, перед тем как нажать на кнопку звонка.
Сам не зная почему и даже не притормозив, чтобы обдумать это, он повернулся и пошел прочь.
— Он уже должен быть дома, — Шелдон обратился к Мейбл, которая сидела в гостиной на диване, подобрав под себя ноги и читая воскресное приложение «Нью-Йорк таймс». Было уже очень поздно.
— Он же не указал время.
— Мы назначили день. По моим абсолютно точным часам, этот день истекает меньше чем через час. И тогда он начнет опаздывать.
— Он многое пережил.
— Я знаю, что он пережил.
— Нет, Шелдон. Ты не знаешь.
— Откуда тебе знать, что знаю я?
— Вьетнам — это не Корея.
— А что в нем такого некорейского?
— Я лишь хочу сказать, что ты не можешь представить, что он пережил, потому что, когда он войдет, он будет выглядеть как всегда.
— Вот что ты со мной сделала.
— Ты служил писарем.
— Ты не знаешь, кем я служил.
Мейбл скидывает журнал на пол и повышает голос:
— Ну и кем же ты тогда был, черт побери? Сначала говоришь одно, потом — другое. Хочешь, чтобы я тебя уважала? Хочешь, чтобы относилась с сочувствием? Хочешь, чтобы я наконец поняла, почему ты во сне все время кричишь: «Марио»? Тогда расскажи мне.
— Я делал, что мне приказывали. Вот и все, что тебе следует знать.
— Потому что так поступают мужчины?
— Тебе не понять.
— Я иду спать.
— Я буду дожидаться его.
— Зачем? Чтобы, когда он вернется с войны, первое, что ты ему скажешь, было: «Ты опоздал»?
— Ложись спать, Мейбл.
— Разве ты не рад встрече с ним?
— Я не знаю.
Рассерженная Мейбл отправилась в спальню.
— Я даже не понимаю, что это значит, Шелдон. Я говорю серьезно.
— Я тоже.
Пока его родители ссорились, Саул сел в последний поезд пятого маршрута от Юнион-сквер до Беверли-роуд в Бруклине. Всю дорогу он не отрывал взгляда от своих рук.
Женщина, которая в итоге стала матерью Реи, жила вместе с родителями на втором этаже дома, стоявшего на таком крошечном участке, что можно было передавать соседям туалетную бумагу, не вставая с унитаза.
Одежда была великовата Саулу, за время службы на Меконге похудевшему на девять килограммов. Он стоял перед домом и смотрел на темные окна, словно подросток в надежде перепихнуться. Они познакомились в автобусе четыре года назад. В неуклюжем сближении юности они не выбирали и не отвергали друг друга. По мере развития их отношений они не смогли по-настоящему ни сблизиться, ни расстаться, потому что все это им казалось таким значительным. Так они и плыли по течению. Изменяя друг другу и раскаиваясь. Потом он уехал во Вьетнам.
Саул подобрал камешек и метнул его в окно. С таким же успехом это могла быть и граната. Последовал бы взрыв, и он вернулся бы в лодку. Но это была не граната. Это был камешек.
Она открыла окно почти сразу и выглянула.
Наверное, все парни так поступают, подумал он.
— Ой, черт меня побери, — сказала она.
— Возможно, — отреагировал Саул.
На ней была рваная майка с названием группы, о которой он никогда не слышал. Майка была просторная и болталась на ее теле. Лицо ее отличалось особенной бледностью. В свете уличных фонарей он мог различить контуры ее грудей.
— Так ты вернулся.
— Что бы это ни значило.
— Что ты хочешь?
— Увидеть тебя.
— То есть ты хочешь меня трахнуть. Солдат-герой вернулся с войны со стояком. Так?
— Детка, я пойму, что я хочу, только после того как это получу.
Эта фраза почему-то вызвала ее улыбку.
— Заходи с задней двери.
И он зашел.
Когда он оказался на ней, и внутри нее, и его руки сжимали ее бедра, а глаза были закрыты, он услышал ее голос:
— Если я залечу, он будет твой, понял?
В тот момент он решил, что ребенок будет от него, а не от кого-то другого. Что в последнее время она ни с кем не встречалась. Что между ними все же что-то было. Что прошлое имело значение.
Через несколько месяцев, когда ребенок будет расти во чреве матери, Саул погибнет. Он так никогда и не узнает, что она не имела в виду их прошлое. Она говорила о будущем.
Когда Саул появился на следующее утро в семь тридцать в отчем доме, его отец спал в кресле в гостиной. Подруга вытолкала Саула из койки спозаранку, чтобы ее родители не узнали, что он провел с ней ночь. Она настаивала, заплатив свою часть аренды, что может делать у себя наверху все что ей вздумается. Но ее отец жил представлениями другой эпохи. Он говорил о том, что происходит «под его крышей» и о том, что «никогда его дочь» не навлечет «позор на семью».
Этим оборотам не было места в словаре 1973 года. Поэтому они продолжали играть каждый свою роль, не слыша друг друга и надеясь, что как-нибудь разберутся с последствиями. Но беременность в корне изменила ситуацию. С последствиями разобраться уже не представлялось возможным. Некоторые детали ее отношений с родителями, знай это Рея, могли бы объяснить то, что она хотела бы понять, но так никогда и не узнала. Эта загадочная женщина была чужой Саулу и навсегда останется чужой Рее.
Саул тихо вошел в квартиру, стараясь никого не разбудить. Свой зеленый вещмешок он перевесил на левое плечо, пока, по обыкновению, сражался с замком, пытаясь вытащить из него ключ. Фокус был в том, чтобы слегка повернуть его от центра по часовой стрелке и покачать.
Трудясь над замком, Саул вдыхал запахи дома, что вызвало у него тошноту. Вместе с запахами детства впервые в голову пришла мысль:
Я не могу.
И в тот момент, когда он пытался облечь эту мысль в слова, раздался голос его отца:
— Добро пожаловать домой.
Наконец ключ удалось вытащить, и Саул закрыл входную дверь. Он шагнул вправо и заглянул в гостиную, которая ничуть не изменилась с тех пор, как он последний раз тут бывал. Отец был в какой-то бесформенной бесцветной одежде, лицо вытянулось и казалось усталым.
Саул положил вещмешок рядом с зонтиком и расправил плечи. Он глубоко вдохнул, втягивая в легкие прошлое, где ему не было места.
— Спасибо.
Отец остался в кресле.
— Выглядишь неплохо, — заметил он.
— Ну да, — сказал Саул.
— Ты голоден? Кофе будешь?
— Да нет, не думаю.
— Ты не думаешь или не будешь?
— В чем разница?
— Сядь, — Шелдон указал на диван, где накануне, подогнув под себя ноги, Мейбл читала журнал.
Спокойствие отца обнадеживало — казалось, он понимал, что там происходило. Но Саул так никогда и не узнал, что его отец делал в Корее. На его вопрос отец обычно отвечал: «Я делал, что мне приказывали». Это ничего не проясняло. Теперь же это было особенно важно: понять, что у них могло быть общего. Что именно понимал его отец. Что вообще можно было понять.
— Как ты? — спросил Шелдон.
Саул провалился в мягкие диванные подушки, но все равно было видно, как он пожал плечами.
— Да не знаю. Я как-то еще не освоился тут.
Шелдон кивнул:
— Когда я вернулся, я взял фотоаппарат и уехал. Тебе, возможно, надо чем-то заняться.
— Скорее всего.
— Ты уже думал об этом?
— Даже не начинал, — Саул помолчал, а потом спросил: — Что ты обо всем этом думаешь?
— Я об этом не думаю.
— Это не выход. Я кое-что видел, пап. Я кое-что делал. И это не спрячешь в коробочку. С этим надо разобраться.
— Ты делал то, что делал, и видел то, что видел, потому что об этом тебя попросила твоя родина. Ты ей служил. Так поступают мужчины. А теперь все кончено. Постарайся вернуться назад. Вот и все.
— Я знаю, как пахнут горящие тела.
— Это все в прошлом.
— Этот запах сохранился на моей одежде.
— Так постирай ее.
— Не в этом дело.
— А должно быть в этом. Ты понимаешь, что там произошло? Таких, как ты, немного. Ты должен забыть Вьетнам, вернуться в Америку и войти в образ.
— Таких, как я, десятки тысяч.
— Но они не евреи.
— А это-то тут вообще при чем?
— При всем. Мы как дьяволы сражались во Вторую мировую. Мы рвались на войну. Но в Корее нас уже было меньше. А теперь? Все евреи в колледжах. Все там, протестуют против войны. Гражданские права, рок-н-ролл и травка. Мы не выполняем свой долг. Мы становимся слабыми. Мы теряем завоеванные позиции.
— Пап, — Саул потер лицо. — Ради всего святого, пап. Что происходит, как ты думаешь?
— Что происходит? Америка воюет. И вместо того чтобы защитить свою страну, мы рассуждаем как коммунисты.
— Пап. Пап, в стране бардак. Есть множество способов все исправить. И кроме всего прочего, мы не должны никому ничего доказывать. Я тут родился. Ты тут родился. Твои родители родились здесь. Чем мы не американцы?
— На Уолл-стрит еще есть фирмы, которые не нанимают нас. Есть адвокатские конторы, которые нас не хотят.
— На Юге до сих пор убивают черных ребятишек.
— Этой стране еще есть к чему стремиться. Я это знаю. Но нам надо защитить свои позиции. И удержать их.
— Что с тобой было в Корее?
— Я делал то, что мне приказывали.
— Мама сказала, что ты был писарем.
— Я хочу, чтобы мама так говорила.
— То есть, получается, мужчины об этом не говорят. А с кем ты об этом говоришь? А что Билл?
— Билл тоже был там.
— Но не с тобой.
— Нет. Он был в танковых войсках. В другом месте. Мы познакомились позже. На улице. Около магазинов.
— Ты говоришь с Биллом?
— Я говорю с Биллом каждый день. Не могу отделаться от него. Приходится запирать двери. Но когда я их запираю, он мне звонит.
— Может, он в тебя влюблен.
— Так говорят твои ровесники, — фыркнул Шелдон.
— Такое случается.
— Ты смотришь на вещи и видишь в них то, чем они не являются. А потом настаиваешь на своей правоте и говоришь, что все остальные просто ослепли. Этим занимаются коммунисты.
— Я не знаю ничего о коммунистах, пап.
— Это те ребята, которые стреляли в тебя. Которые хотели сделать тебя рабом своей идеологии. Они сажают людей в ГУЛАГ за их независимые мысли. За то, что они хотят быть свободными. За то, что они не поддерживают идеи государства и революции.
— В меня все стреляли. Не знаю только, почему.
— Ты говоришь, как Марио.
— Кто такой Марио?
— Не имеет значения.
— Кто такой Марио?
— Друг.
— Я его знаю?
— Он умер до твоего рождения. Тебе незачем об этом знать.
— Я многое повидал, пап. Я такое творил…
— Я знаю. Есть хочешь? Кофе будешь?
— Думаю, я должен рассказать тебе, что мне приходилось делать.
— Я не хочу об этом слышать.
— Почему?
— Ты — мой сын, вот почему.
— Я хочу рассказать тебе, потому что ты мой отец и ты можешь меня понять.
— Твоя страна тебе благодарна, вот все, что имеет значение.
— Нет, страна мне не благодарна, и это вообще не важно. Я хочу понять, как мне тут усидеть.
— Тебе надо отвлечься.
— Например, чинить часы?
— Что в этом такого ужасного?
— Время починить невозможно, пап.
— Тебе надо поесть. Ты похудел. Ты выглядишь больным.
— Я болен.
Шелдон промолчал.
— Где мама?
— Она спит.
Саул оторвался от диванных подушек и поднялся по лестнице, перешагивая через ступеньку. Шелдон остался сидеть неподвижно и просидел так десять минут в ожидании Саула. Он предположил, что Саул пошел к матери. Годы спустя он узнает, что сын просто отправился к себе. Чтобы, как в детстве, смотреть сквозь перила, кто позвонил в дверь или в каком настроении пришел с работы отец.
Спустившись вниз, Саул сел напротив отца в кресло, где его мать частенько читала книжку или смотрела телевизор.
— Как ты сам? — спросил он отца.
— Я-то? Много работал. Занимался своим делом. Старался не попадать в неприятности.
— Да, но сам-то ты как?
— Я тебе уже сказал.
— О чем ты думал, когда вернулся из Кореи?
— А что?
— Потому что я тоже вернулся с войны, и я хочу знать, о чем ты думал. Я хочу понять, думал ли ты о том же самом.
— Когда я вернулся из Кореи, я думал о Корее. Потом я думал о том, что я думаю о Корее, и пришел к выводу, что трачу время впустую. И перестал.
— Сколько это продолжалось?
— Не будь слабаком, Саул!
— Ты взял фотоаппарат и отправился в Европу.
— Да.
— Что ты там увидел?
— После войны прошло девять лет. Ты знаешь, что я там увидел.
— Ты ведь не за забавными картинками туда ездил?
— Именно за ними. И у меня это неплохо получилось.
— Ты ведь ненавидел их? Антисемитов? Всех до единого? Ты поехал, чтобы заглянуть в их души и убедиться в этом. Задокументировать. Потому что ты не мог взять их на мушку и расстрелять.
— С чего ты это взял?
— На лодке у меня было время.
— Хочешь знать, что я обнаружил в Европе? Тишину. Ужасную тоскливую тишину. Не осталось ни единого еврейского голоса. Ни наших детей. Только кучка слабых контуженных, которые не уехали и не были убиты. А Европа просто прикрыла рану. И заполнила тишину «веспами», «фольксвагенами» и круассанами, как будто ничего не произошло. Хочешь покопаться в психологии? Пожалуйста. Может, я бесил их, чтобы напомнить о себе. Чтобы добиться их реакции.
— Какое это имело отношение к Корее?
— Прямое! Я гордился этим. Я гордился тем, что я — американец. Гордился тем, что я сражался за свою страну. И это напоминало мне о том, что европейские племена так навсегда и останутся племенами. Хотите называть их нациями? Вперед! Но они лишь сброд жалких племен. А Америка — не племя. Это — великая идея! Я — часть этой идеи. Так же, как и ты. Как я себя чувствовал? Да я гордился, что ты сражаешься за свою страну. Ты защищал великую мечту. Мой сын защищает великую мечту. Мой сын — американец. Мой сын с винтовкой в руках повергает врага. Вот что я чувствовал.
Саул ответил не сразу. Шелдон не попытался заполнить паузу.
— Где фотографии? — спросил Саул.
— Какие?
— Все те, которые ты сделал.
— Они в книге.
— Там только те, которые ты отобрал. Где остальные?
Обычно у отца ответ был всегда наготове, он отвечал моментально. На этот раз Саул застал его врасплох.
Да, есть еще снимки. Важные снимки. И я всегда держу их под рукой.
— Я — фотограф. И я решаю, что можно считать снимком, а что нет.
— А если это не снимок, то что это?
— Ты на этой лодке вообще что-нибудь делал?
— Я хочу увидеть другие снимки.
— Нет.
— Может, когда-нибудь потом?
— Я не говорил, что они существуют.
— А мама видела их?
— Ей не пришлось настолько долго сидеть в лодке, чтобы додуматься до этого вопроса.
— Почему ты вернулся?
— Вообще-то это ты отсутствовал. Зачем ты задаешь мне все эти вопросы? У меня ощущение, что я попал на шоу Дика Каветта.
— Ты объехал полдюжины стран и сделал тысячу снимков. А потом однажды ты вернулся домой. Почему?
— Потому что война закончилась и все умерли. Я не мог вернуться обратно на войну, а мои друзья не могли вернуться с нее. Так что я повзрослел и стал жить дальше.
— С какой войны?
— Хватит, Саул, прошу тебя.
Саул постарался сказать то, о чем его отец не хотел или не мог говорить:
— Они не вернулись из Кореи, — начал он. — Но ты ведь также говоришь и о тех, кто ушел воевать в 1941 году. О тех, кто оставил тебя в Америке. Ты наблюдал, как все это происходило, пока сам был ребенком. Старшие братья твоих друзей. Твой двоюродный брат Эйб. Ты был самым младшим, и тебя не взяли на войну. Поэтому ты завербовался в Корею.
— Саул, — произнес Шелдон, становясь все спокойнее. — Я пошел не на неправильную войну. Я пошел на следующую войну. Коммунисты убили миллионы людей. Когда я вступил в армию, Советским Союзом правил Сталин, и он создавал атомное оружие, нацеленное на нас. Единственная причина, почему мы не относимся к Сталину с такой же ненавистью, как к Гитлеру, в том, что во время войны нас подвергли массовой пропаганде, нам внушали, что Дядя Джо — герой, подаривший нам Второй фронт. Но Дядя Джо подписал тайный пакт с Гитлером, и Россия оказалась на нашей стороне только потому, что ее атаковала Германия. Не они были нашим восточным фронтом. Это мы были их западным.
— Мама рассказывала, что ты порой плакал, когда она держала меня на руках.
— Ты заходишь слишком далеко.
— Почему?
— Кто научил тебя так разговаривать?
— Люди в моем возрасте умеют разговаривать. Просто скажи, почему.
— Потому что когда я видел тебя на руках у мамы, здесь в Америке, я представлял польских женщин, прижимавших к голой груди своих детей в газовых камерах. Они просили их дышать глубоко, чтобы те не мучились. А малыши продолжали улыбаться своим палачам. И сжимали кулачки в очереди на собственную смерть. И это наполняло меня гневом.
— Ты вернулся обратно из Европы, потому что ты ничего не мог поделать, — заключил Саул.
Шелдон кивнул.
— Что мне теперь делать, пап?
— Мы живы благодаря этой стране. Всему ее безумию. Ее истории. Проблемам. Она все еще наш лидер и наше будущее. Мы обязаны ей жизнью. Поэтому мы защищаем ее от бед и помогаем ей правильно расти.
— Я знаю, — сказал Саул.
— Я не понимаю, как еще чтить память погибших, если мы не будем защищать то единственное место, которое предоставило нам убежище. Если мы не постараемся сделать его еще лучше.
— Я пойду к себе.
— Хорошо.
— Я люблю тебя, пап.
Шелдон только кивнул.
Меньше чем через неделю Саул уехал и вскоре после этого погиб. Он оставил краткую записку на кухонном столе, где объяснил, что уезжает во вторую командировку и хочет вернуться в свое прежнее подразделение. Он писал, что был рад с ними обоими повидаться. Он их любит. Он надеется, что отец гордится им, и ждет окончания войны.
Глава 17
— Я убил своего сына, Билл. Он погиб, потому что любил меня.
— Он сильно тебя любил.
— Я навсегда запомнил, как мы ссорились в то утро. Но, думаю, это была не ссора.
— Нет. Он не искал разборок. У него не было четкой позиции.
— Я не знаю, как можно ссориться, если нет четкой позиции.
— В этом часть твоего очарования.
— А как я должен был поступить?
— Имеешь в виду, когда он вошел? И начал задавать тебе вопросы?
— Ну да.
— Ты должен был обнять его и рассказать, что чувствуешь.
— Но я сказал, что чувствую.
— Нет, не сказал.
— Тебе почем знать?
— А с кем ты, по-твоему, разговариваешь?
— Ну и что я чувствовал?
— Ты испытывал любовь и облегчение. Ты так сильно его любил, что вынужден был держать дистанцию.
— Ты рассуждаешь, как девчонка.
— А это ощущение в твоих руках, от которого иногда сжимаются кулаки? Ты в курсе, что это такое?
— Это артрит.
— Ты так до него и не дотронулся. В тот последний раз. В гостиной. Он был рядом. А ты не обнял его. Не взял за руку. Не погладил щеку, как ты это делал, когда он был ребенком. Не прижался своей щекой к нему. Ты ведь хотел это сделать. Он был такой прекрасный мальчик. Ты помнишь? От него исходило ангельское сияние. А ты даже не дотронулся до него. И теперь ты не можешь отделаться от этого ощущения в руках.
— Какого ощущения?
— Пустоты. Ты говорил ему о тишине. Но не сказал ничего о пустоте.
— Какой же ты зануда, Билл. Ты это знаешь?
— Озеро уже близко. У тебя есть шанс спрятать трактор.
— Угу.
Они проехали пятьдесят километров. По правой стороне медленно приближалось озеро Роденессьоен. Это небольшое озеро в Акерсхусе было сегодняшней целью Шелдона. Они провели в дороге уже несколько часов. Мальчик, возможно, проголодался. И им обоим нужно в туалет — совершенно точно.
То, что планировал совершить Шелдон, лучше всего было предпринимать под покровом ночи, когда все сомнительные идеи при новом освещении начинают выглядеть чуть лучше, чем пару часов назад.
С болью в пояснице и негнущихся пальцах Шелдон уводит трактор на тихую лесную дорогу и выключает двигатель. Переждав некоторое время, он бодро спрыгивает с почти метровой высоты на дорогу.
Пол спит в лодке. Он так и не снял свой викинговский шлем, а его правая рука сжимает длинную деревянную ложку. Волшебный пыльный зайчик надежно запрятан под сиденье лодки. Шелдон улыбается и решает не будить мальчика.
Осматривая трактор, он замечает, что тот и вправду огромен. В высоту он, пожалуй, будет два метра. Его колеса доходят Шелдону до середины груди. Спрятать такую штуку — дело не из легких. Нельзя просто накинуть на него оранжевый чехол и рассчитывать, что никто не обратит на это внимания.
Здесь местность сельская. Неизвестно, что за люди тут живут и что у них за повадки. Но ему почему-то кажется, что здешние деревенские отличаются от крестьян из других стран меньше, чем местный язык. Жители, скорее всего, друг с другом знакомы. Судя по всему, школ здесь немного и дети съезжаются на учебу со всей большой округи. Взрослые знают детей из других семей. Вероятно, кому принадлежит скот, тоже всем известно.
Они отъехали недалеко от Осло, и это не такая уж безнадежно глухая провинция. Однако это одно из тех мест, где люди связаны друг с другом и не называют свои земли «недвижимостью».
В общем, действовать ночью предпочтительнее. Появление чужого трактора тут точно не пройдет незамеченным. И уж конечно, люди не промолчат, если увидят, что кто-то направился к озеру.
И опять, как это часто случалось в жизни Шелдона, остается единственный путь. Пока Пол отдыхает в лодке, Шелдон осматривает свой прогулочный агрегат-амфибию и обдумывает ситуацию. Самое главное, его остановил местный полицейский. Его спросили, не американец ли он. Этому могло быть два объяснения. Первое, в которое он ни минуты не верит, — его фейковый немецко-швейцарский акцент не обманул помощника шерифа Барни Файфа. Не мог он определить новоанглийское происхождение Шелдона, это понятно.
Другое объяснение — более тревожное и более вероятное.
Чтобы не расстраивать Пола, он не включал телевизор и не знает, объявила ли его в полномасштабный розыск полиция Осло — конечно, если такое еще практикуется. Но есть вероятность, что он в розыске и что Рея в этом участвует. Даже если розыск не объявлен, они должны были оповестить все полицейские участки о нем и мальчике. Вполне возможно, его остановили, потому что он подходил под описание.
Например, «пожилой иностранец и мальчик».
Но, может быть, ему повезло. Может, им сказали: «Пропали пожилой американец и мальчик». Если так, то они с Полом не подходят под описание.
Кто знает? В любом случае, вывод один: трактор будет источником проблем. Пора ему отправиться в далекое плавание.
Посмотрев по сторонам перед тем как пересечь дорогу, он подходит к лодке сзади и отпускает все четыре крепления, которые держат ее на трейлере. Тщательно проверяет, нет ли другого крепежа или каких-либо препятствий, которые помешают лодке в нужный момент освободиться.
Удостоверившись, что все в порядке, Шелдон снова заводит двигатель. Кашель и чихание монстра будят Пола. Старик понимает это, увидев в зеркале серебристые рога. Он оборачивается и машет рукой. Пол, к удовольствию Шелдона, машет ему в ответ.
Шелдон выводит трактор на дорогу и медленно, на первой скорости, двигается, высматривая параллельную дорогу вдоль озера. Ему удается это довольно быстро. Отсутствие усилителя руля затрудняет крутой поворот налево, так что он наваливается всем телом на руль, как это делают водители городских автобусов. Трактор выползает на дорогу, и вскоре они тарахтят по западному берегу озерца.
Через пять минут они выезжают на симпатичную поляну, и Шелдон, выполнив широкий поворот влево от озера и затем выкрутив колеса до отказа направо, выходит на второй этап операции «Спрячь трактор».
Все идеально. Теперь остается только въехать прямо в озеро. Если оно достаточно глубокое и трактор продержится столько, сколько надо, он уйдет на глубину, где ему и место. А лодка аккуратно всплывет из трейлера на открытую воду, чистую и сияющую. Пол сможет завести мотор и уплыть вдаль один, потому что Шелдон останется на дне озера за рулем трактора.
Так себе план.
А если использовать палочку? Вставить ее между сиденьем и педалью газа. Это может сработать.
И тогда проблема будет в том же, в чем она и была последние три дня, — в его преклонном возрасте. Как именно залезть в двигающуюся лодку?
Или обогнать ее? Занырнуть в нее, когда она будет проплывать мимо?
Или Пол выбросит руку и зацепит его, как ковбой на родео?
И, наконец, последнее: придется очень сильно вымокнуть.
В течение пяти минут Шелдон обращается к Полу, балканско-еврейскому викингу, сидящему в лодке. Оба они стоят руки в боки. Шелдон жестикулирует, гримасничает, рисует пальцем на ладони.
Пол кивает.
Шелдон улыбается.
Все у них получится.
Шелдон заводит двигатель и протискивает палку под сиденье. Вся конструкция начинает двигаться прямиком к воде. Если бы он был христианином, он бы перекрестился или поцеловал крестик.
Все может кончиться плохо. Кто-нибудь заметит их и подумает, что случилась авария. Прибытие вертолетов и телевизионщиков вряд ли поспособствует успеху операции. Можно еще поплыть за лодкой, но поскольку он не плавал уже тридцать лет, он рискует утонуть. Это не входит в их планы.
Возможно, если бы вдруг возник Билл, он бы сел за руль трактора. Но Билла нет. Этот человек всегда появляется, когда ему вздумается или захочется.
Но оказывается, все происходит не так уж плохо. Даже на удивление хорошо.
Во-первых, Пол смеется, впервые после смерти матери он издает хоть какие-то звуки. Во-вторых, лодка, освободившись от трейлера, дрейфует чуть назад, от волн, которые поднял трактор.
Шелдон идет по колено в воде, и ему удается схватить конец и подтянуть лодку назад к берегу. Сделав небольшое усилие, он умудряется, перекинув ногу, плюхнуться в лодку.
Трактор пытается сопротивляться, но тщетно, и уходит под воду. Над озером поднимается пар, вода бурлит, пузыри лопаются. Наконец, озеро поглощает свою добычу.
Шелдон, тяжело дыша, лежит на дне лодки. Глядя в небо, он не может не поражаться тому, как ему все это тяжело дается. А что, в самом деле, произошло? По меркам молодого человека, не бог весть что, но это выше его теперешних сил.
— Старикам стоит поддерживать форму, — говорит он.
Шелдон садится и осматривается. Тут действительно очень красиво. Озеро напоминает ему Ист-Понд около Уотервилля в штате Мэн, куда в начале 1980-х годов Рея ездила в летний лагерь. Как и Роденессьоен, озеро Ист-Понд излучало простое, незатейливое спокойствие. Это не туристическое место. Это убежище. А именно в этом они с Полом нуждаются больше всего. Им надо доплыть до северо-восточного края и найти укромное местечко, чтобы затаиться там до утра. Это будет их личный остров Джексона, где Гек и Джим встретились, чтобы вместе спасаться от враждебного мира.
В этом состоит их план. Хотя еще не поздно, он хочет обосноваться на ночлег как можно дальше от затонувшего трактора, на случай, если кто-то заметил, как Шелдон избавлялся от него. Они перекусят тем, что лежит в сумке, сходят в туалет в лесу, Шелдон высушит носки и постарается устроиться на ночлег с максимально возможным при таких обстоятельствах комфортом.
Удивительно, насколько уютным может показаться сухой лес при наличии необходимой сноровки. Особенно когда в кустах не снуют корейцы. Впервые за довольно долгое время, это не подвергается сомнению.
Завтра утром они продолжат путь автостопом. Это немного рискованно, но зато теперь нет больше ниточки, которая связывала бы их с Осло. Так что если он не объявлен в общенациональный розыск, то, при доле удачи, они пройдут оставшиеся девяносто километров.
У Пола совсем другой настрой. Он готов к подвигам. Его маленькие ноги топают по дну лодки, он смотрит за борт в сторону невезучего трактора, тычет пальцем и улыбается. Жаль, что у него нет дедушки с бабушкой, которые бы порадовались за него сейчас. Они бы подивились силе его воображения.
Они также очень нужны, когда отец умирает, а мать оказывается бесполезной. Так случилось с Реей.
Рано или поздно Рея должна была узнать, что между нею и дедушкой с бабушкой было еще одно поколение. Когда ей исполнилось двадцать, она отправилась на поиски матери. Только что из колледжа, дерзкая, безрассудная и азартная, она все твердила про Правду. Найти мать стало для Реи целью — она уже была достаточно взрослой и могла пуститься по этому опасному пути.
Дед пытался отговорить ее. Объяснял, что люди обычно не пропадают. Люди — не носки. Они не забиваются под двери в надежде, что их найдут. Они прячутся. И не от всех подряд, а только от кого-то определенного. В данном случае — от нее, Реи. Напоминал, что его часовая мастерская и ювелирная лавка никуда не исчезали со дня открытия, и все, что ее матери нужно было сделать, чтобы встретиться с дочерью, — это прислать письмо или позвонить. Их разделял всего лишь один телефонный звонок. Но только одна из сторон могла позвонить, чтобы начать общение, и это была не Рея.
Шелдон знал об этом еще до того, как Рея выросла. Разбить надежды на встречу с матерью было единственным гуманным способом открыть ей глаза. Но колледж часто сеет даже в сообразительных людях самые идиотские идеи, и Рея все-таки принялась воплощать свои идеи в жизнь.
Все кончилось неудачно, как и предвидел Шелдон, и, возможно, хуже, чем предсказывала Мейбл. Результат поисков поставил Рею в неожиданное для нее положение.
И неважно, где Рея ее обнаружила. Неважно, во что она была одета и чем занималась за минуту до того, как открыла дверь. Имело значение только выражение глубокого возмущения на потрепанном и безрадостном лице женщины, когда она увидела на пороге свою взрослую дочь. Воспоминание об этой встрече — что они держали в руках, как стояли, чем пахло в квартире — сразу же рассыпалось на множество фрагментов, собрать которые воедино не представлялось возможным. То, что сказала мать, затмило все остальное. Она выразилась столь определенно, столь ясно, сжато и без экивоков, что слова вонзились Рее в сердце и разрушили все мечты и иллюзии, которые она питала, все объяснения поступка матери, которые придумывала себе в течение двадцати лет. Не осталось ничего от настоящего или прошлого — была только грубая реальность нового мира.
Я с тобой покончила!
И Рея вернулась в Нью-Йорк, к Шелдону и Мейбл.
Она долго не желала об этом говорить. Четыре месяца спустя Шелдон косвенно затронул тему:
— О чем ты думаешь?
К началу 1990-х годов магазин Шелдона изменился под влиянием тогдашней моды. Шелдон выяснил, что нравится людям, посчитав, что это будет хорошо для бизнеса. В эпоху Клинтона, когда цены на недвижимость росли, а всех волновали только вопросы секса, в тренде был стиль середины века. Шелдон поохотился на частных распродажах и аукционах, присматривая вещи качественные, красивые и недорогие. Двадцатилетнюю Рею окружали кожаные кресла от Макса Готтшалька, утонченные деревянные и стальные изделия Поля Кьерхольма и классические стулья и диваны Имзов. Уолл-стрит была на подъеме, а ретро снова вошло в моду.
В магазине Шелдона Рея любила сидеть в яйцеобразном датском кресле, подвешенном с потолка на цепи. То, что было у нее на уме, вот-вот должно было вылупиться.
— Почему папа увлекся ею? — наконец спросила она.
— О, Рея, это вопрос к бабушке, не ко мне.
— Я ее потом спрошу. А сейчас…
Шелдон пожал плечами. Чтобы не сделать ей больно, приходилось лгать.
— Я не думаю, что он увлекся. Думаю, у них была интрижка, так это называлось в семидесятые, перед тем как мы начали опять воевать. Почему? У нее были хорошие формы, она была общительная и веселая и настолько очевидно ему не подходила, что это снимало с него всякую ответственность. Вряд ли она была его единственной пассией, кстати говоря. Когда он вернулся, он просто бросился в ближайшие доступные объятия. Почему она, а не какая-нибудь другая девушка — мне трудно сказать. Детали утрачиваются со временем. Истории теряют краски.
— То есть меня не зачали в любви.
— Не надо жалеть себя, это того не стоит. Ты прекрасно знаешь, что мы с бабушкой обожаем тебя. Если кто-то хочет знать мое мнение, быть зачатым не в любви, но расти в обожании лучше, чем наоборот. Мне жаль, что эта женщина тебя разочаровала. Правда. Но ты ничего не потеряла, потому что нечего было терять.
— У меня никогда не будет детей.
Шелдон отложил в сторону часы «Тюдор Субмаринер», над которыми трудился, и нахмурился.
— Почему ты так говоришь?
— А что, если я не буду их любить? Может, это наследственное. Говорят, когда появляются дети, все изменяется.
В голосе Шелдона сквозила печаль, когда он ответил внучке:
— Когда они появляются, не меняется ничего. Все меняется, когда ты их теряешь.
Рея принялась раскачиваться, и Шелдон бросил: «Перестань». Она остановилась.
И вдруг ни с того ни сего, так, по крайней мере, показалось Шелдону, Рея спросила:
— Почему ты больше не ходишь в синагогу?
Шелдон откинулся на стуле и потер лицо.
— За что ты меня наказываешь?
— Я не наказываю. Я правда хочу это знать.
— Но я ведь не заставлял тебя туда ходить. Честно.
— Я хочу знать, почему. Из-за папы?
— Да.
— Когда папа погиб, ты перестал верить в Бога?
— Не совсем.
— А что тогда?
Сколько раз они вот так разговаривали здесь, на этом самом месте? За прошедшие двадцать лет? И так всегда. Как будто не было квартиры наверху. Не было детской и спальни. Шелдон сидел тут, год за годом, и разные женщины допрашивали его. Менялся магазин, женщины старели, но Шелдон оставался на месте. Чинил часовые механизмы и отвечал на вопросы. Единственный на его памяти разговор, который состоялся в квартире, был разговор с Саулом.
— Ты знаешь, что означает Йом-Киппур?
— День искупления грехов.
— Ты знаешь, что происходит в этот день?
— Ты просишь прощения.
— Есть два вида прощения, — объяснил Шелдон. — Ты просишь Господа простить твои прегрешения перед Ним. Но также просишь и людей простить тебя за прегрешения перед ними. Ты просишь прощения у людей только потому, что, согласно нашей философии, есть одна вещь, которую Господь простить не может. Он не может простить тебя за то, что ты сделал другим людям. Ты должен обратиться к ним напрямую.
— Вот почему нет прощения за убийство, — добавляет Рея. — Потому что невозможно просить прощения у мертвых.
— Верно.
— Почему ты перестал ходить в синагогу, дедуль?
— В 1976 году ты появилась на пороге нашего дома, под песню о тонущем корабле, которую передавали по радио. Мы пошли в синагогу на Йом-Киппур. Я все ждал, что Господь попросит у нас прощения за то, что Он сделал с твоим отцом. Но Он не попросил.
Глава 18
Ночь прошла спокойно. Они нашли сухое укромное местечко недалеко от берега, невидимое с дороги и со стороны жилых домов. Жаль, что костер развести было нельзя, но они прекрасно обошлись без него.
Пол был рад избавиться от рогов, но не захотел снимать самый необычный в мире костюм викинга. Шелдону это показалось наименее странным решением за весь день.
Лежа рядом с мальчиком, Шелдон прошептал:
— Разбуди меня, если что.
После чего оба они провалились в глубокий сладкий сон.
К шести утра солнце уже начало припекать. Свежий воздух им обоим пошел на пользу, но вот твердая земля не проявила милосердия к Шелдону. Затекшие мышцы болели, все раздражало. Казалось, что раньше времени наступило трупное окоченение. К тому же у них не было ни капли кофе.
Они довольно быстро свернули лагерь. Собирать было особенно нечего, так что следов их пребывания в лесу не осталось. Коль скоро им удалось спокойно переночевать, значит, за ними никто не гнался и не прочесывал лес с прожекторами. Скорее всего, никто не стал свидетелем гибели трактора.
Пройдя сквозь чащу хвойных деревьев, через час они добрались до большой дороги, где можно было рассчитывать поймать попутную машину. За двадцать минут марш-броска по этой дороге Шелдон совсем выдохся.
— Подожди, подожди. Мне надо отдохнуть, — Шелдон опускается в высокую траву, растушую вдоль шоссе. Шагающий впереди Пол возвращается к нему.
— Плохо быть стариком, — говорит Шелдон Полу. — Если появится Питер Пэн, иди с ним, не раздумывая.
Пол возвышается над ним. На мальчике шапка-шлем, в руках деревянная ложка и волшебный пыльный зайчик. Он хорошо выглядит. Так, как и полагается выглядеть совсем юному человеку.
Шелдон смотрит на часы. Только восемь утра.
— Иди сюда, — говорит старик и машет Полу. Тот приближается. — Сделай так, — Шелдон поднимает вверх большой палец.
Полу незнаком этот жест, поэтому его большой палец, поднимаясь над вытянутым указательным, указывает на Германию.
— Немного не так. Лучше в сторону Финляндии. Вот так, — Шелдон поправляет палец Пола, чтобы он не так сильно торчал, и слегка пригибает его фигуру к шоссе. — Хорошо. Будем надеяться, что здесь это не какой-нибудь неприличный жест.
Несколько минут Пол стоит так у дороги, но ничего не происходит. За это время Шелдон успевает перевести дух и снова подняться на ноги. Он становится рядом с Полом и говорит:
— Ладно. А теперь мы начинаем идти задом наперед. Если повезет, вернемся обратно во времени во вчера и позавчера. До твоего рождения, дойдем аж до 1952 года, когда на свет появился Саул. Можно остановиться пообедать в 1977-м. В том году, помню, был один отличный бар с сэндвичами.
По дороге, ведущей на север, они преодолевают еще несколько километров. Кроме идеальной дороги, пролегающей вдоль полоски зеленой травы, окаймляющей лес, признаков цивилизации практически нет.
Шелдон зажимает губами два карандаша и изображает моржа. Чтобы развлечь Пола, он начинает двигаться как морж. Однако вскоре останавливается.
— Большой морж хочет пить. Маленький моржик тоже хочет пить? Большому моржу опять нужно в туалет. Большой морж — старый, и его мочевой пузырь стал размером с фасолину.
Шелдон делает понятный всем жест человека, осушающего кружку пива.
Пол кивает — дескать, я тоже так хочу.
— Отлично. Пора внести разнообразие в этот поход. Хватит играть. Вот что я сейчас сделаю. Я начну обратный отсчет от десяти, и когда дойду до одного, появится машина, на которой мы поедем туда, где есть холодная кока-кола в бутылках. Договорились?
И Шелдон кивает за них обоих.
— Ладно. Начинаем, — он останавливается, смотрит на дорогу и принимается считать.
— Десять.
Пол встает и глядит на него.
— Девять.
Ничего не происходит.
— Восемь.
Прямо перед Шелдоном плюхается птичий помет, отчего Пол начинает смеяться. Однако Шелдон поднимает палец и говорит:
— Сосредоточься.
— Семь.
Ничего.
Прохладный бриз веет с реки, вместе с ним приплывают тучки. Шелдон на минутку закрывает глаза и забывает про все на свете.
— Шесть.
Ничего.
— Пять.
Шелдон поднимает палец повыше, с большей уверенностью.
— Четыре.
Он закрывает глаза и напрягается, концентрирует свою мысленную энергию. Сам точно не понимая, на чем. Он пытается представить женскую шведскую команду по волейболу, которая останавливается, чтобы спросить дорогу в рай. Он уверен, что эту картинку в его воображение вложил Билл.
— Три.
Хорошо бы сейчас вздремнуть. Кто объяснит ребенку, что его мать умерла? Когда он уже сможет обратиться в полицию?
— Два.
Есть ли какая-нибудь вероятность того, что убийца узнал про летний домик? Он, Шелдон, должно быть, что-то упустил. Что я упустил?
— Один с половиной.
Попытаются ли они родить другого ребенка? Или на этом все? Конец их роду?
— Один.
И затем, если не по команде, то, по крайней мере, вовремя из-за поворота выезжает грузовичок с охотниками. Грузовичок замедляет ход и останавливается.
Мужчина лет сорока с небольшим в майке и со взъерошенными волосами высовывается из кабины с пассажирской стороны и дружелюбно обращается к Шелдону по-норвежски.
Пол готов им ответить, когда Шелдон вытаскивает карандаши изо рта и с чувством произносит по-английски:
— Господи, как же я рад вас видеть, ребята. Мы с внуком совершенно выбились из сил. Мы пытаемся дойти до домика около Конгсвингера. Вы не могли бы нас подбросить?
Взъерошенный начинает отвечать, но Шелдон, вытирая платком лицо, продолжает:
— И правда. Холодное пиво, белое вино из холодильника и большая порция свинины. Вот чего мне хотелось бы сейчас. В самом деле, я собираюсь зайти в винный магазин в городе, перед тем как отправиться в домик. Не соблазнит ли вас, ребята, шашлычок перед тем как вы отправитесь в лес за зайцами? Кстати говоря, что-то я не вижу добычи у вас в кузове. Вы подстрелили кого-нибудь?
Крупный мужчина, сидящий в кузове, слегка сутулится и грустнеет. А его приятель на противоположной скамейке, указывая на него пальцем, сообщает:
— Тормод промахнулся.
— Я промахнулся, — подтверждает Тормод.
— Бедолага Тормод, — сочувствует Шелдон. — Ну ничего, в следующий раз повезет. Ну так как?
Пошел уже четвертый день с тех пор как они сбежали, став свидетелями убийства. Они провели ночь в гостинице, плыли по воде, спали в голубом домике у фьорда, ехали на тракторе и на лодке по суше и по озеру, разбили лагерь на импровизированном острове Джексона. И снова они были в пути. Если повезет, им остается последний рывок.
Четыре дня скрываться вдвоем с маленьким ребенком — это довольно долго. Но теперь в любую минуту в голове у Пола все может встать на свои места, и весь ужас случившегося обрушится на него. Если он сейчас начнет переживать прошлое, он будет безутешен. Если это произойдет, непонятно, что Шелдону с ним делать. И тогда Пол превратится из его компаньона в заложника. А с друзьями так не поступают.
Автостоп был опасной затеей. Но обстоятельства заставили поменять стратегию. Пришло время прокатиться и надеяться на то, что полиция не бездействует и ловит убийцу.
Шелдон как смог устроился на чьем-то вещмешке. «Форд Ф-150» летит по дороге с ухоженными обочинами, а в поле зрения то появляются, то исчезают озера и пруды. Волны холмов возникают из-за поворотов. Дорога петляет и распрямляется на больших участках, мелькают сельскохозяйственные угодья и лес. Шелдон вдыхает запах скошенной травы и сосен.
— Мне следовало больше времени проводить на природе, — признается он сидящему около Тормода юноше.
Когда Шелдон переехал в Осло, Ларс сказал ему, что норвежские горы образуют единую цепь, тянущуюся через море к Шотландии, Ирландии, Аппалачам и дальше, через Беркширские холмы Массачусетса. Они соединяют моря и океаны еще с тех времен, когда существовал один континент и вся суша была едина. Та земля называлась Пангея.
Шелдон не знал, так ли это на самом деле, и лишь вежливо улыбнулся Ларсу в ответ.
Теперь он сидит рядом с молодым человеком по имени Мадс. Тот тщетно пытается прикурить сигарету. Шелдон наблюдает, как он мужественно сжигает восьмую или десятую спичку, прежде чем совсем потерять терпение.
Улыбаясь про себя, Шелдон щелкает пальцами, чтобы привлечь внимание Мадса. Он указывает на место посередине грузовика точно за кабиной.
— Сядь там.
— Почему?
— Воздух обдувает кабину и на скорости создает вакуум за ней. Там нет турбулентности. Можешь прикуривать, как у себя на кухне.
Мадсу с виду двадцать с небольшим, хотя эти белокожие ребята иногда выглядят моложе своих лет. Он более щуплый, чем остальные четверо, но его незадачливое отчаяние импонирует Шелдону. Из него получится мятежник или лидер, в зависимости от того, в каком направлении подуют ветры судьбы.
Мадс смотрит на указанное место за кабиной, потом пробирается туда и садится. Он чиркает спичкой и улыбается, когда она загорается и оранжевый язычок занимает табак и белую папиросную бумагу.
— Круто, — говорит Мадс. — Откуда вы это знаете? Вы инженер?
Их обдувает теплый ветер, Шелдон смотрит на Мадса взглядом доброго волшебника, живущего на вершине горы.
— Почти двадцать лет, с шестьдесят первого по семьдесят девятый годы, я участвовал в разработке поисково-спасательных самолетов для Канадской конной полиции. Ты когда-нибудь слышал о крушении «Эдмунда Фитцджеральда»?
— Нет.
— Ладно. Озеро Гитчи-Гюми. Так, по крайней мере, его называли индейцы чиппева. Стоял ноябрь, дули сильные ветра. На судно погрузили двадцать шесть тысяч тонн железной руды — больше, чем оно само весило. Начался ураганный западный ветер, и судно оказалось в опасности. Затем… что-то там про Висконсин и Кливленд, что я не очень помню. В общем, мы подлетели со стороны Уайтфиш-Бей, но ураган не стихал, и лил ледяной дождь. Если бы «Фитцджеральд» мог проплыть еще пятнадцать миль, мы бы спасли те двадцать человек. Но этому не суждено было случиться. Нет, сэр, не суждено.
Мадс кивает и затягивается сигаретой. После этого он сидит молча.
Шелдон потирает ладони. Ему не холодно, но кровообращение в его возрасте не всегда зависит от температуры воздуха. Достаточно бывает просто посидеть в неудобной позе, чтобы все тело начало затекать. Те его части, которые он еще чувствовал.
«Крушение „Эдмунда Фитцджеральда“» — это была песня некоего Гордона Лайтфута. В августе 1976 года, когда в их жизнь вошла Рея, песню беспрестанно крутили по радио. Одни и те же четыре аккорда повторялись вновь и вновь в траурном, монотонном, пьяном ритме. Грузовое судно на самом деле, затонуло в 1975 году на озере Верхнем, и погибло двадцать девять человек. Песня заняла второе место в музыкальных чартах год спустя. В это время в джунглях погибло пятьдесят тысяч американских солдат, включая его сына и Элая Джонсона, и во время празднования двухсотлетия США Шелдон что-то не увидел на улицах Нью-Йорка ни одной наклейки на бамперах в память об этом.
А эту чертову песню все заводили и заводили, и все подростки рыдали под нее.
Сигрид позволила медикам обследовать себя после того, как накануне ее огрели по голове, но наотрез отказалась, буквально ни в какую не захотела ехать в больницу. В результате ее вырвало в туалете участка. Она привела себя в порядок и, как только смогла добраться, уселась за свой стол, демонстрируя наигранную бодрость.
В качестве уступки медикам она провела ночь в офисе, чтобы не быть одной. В участке всю ночь шла работа, и каждому дежурному офицеру вменялось в обязанность присматривать за ней — вдруг понадобится срочная помощь.
К тому моменту, когда Сигрид наконец проснулась и села на диване, Шелдон и Пол уже несколько часов были в дороге. Коллеги Сигрид представляются ей огромной бесформенной массой, издающей невнятные гортанные звуки, какие-то сбивчивые и странно настойчивые.
Словно через море патоки, Сигрид бредет к своему столу, находит в ящике солоноватую лакричную конфетку и закидывает ее в рот.
Каждый стук сердца отдается у нее в затылке ударом кувалды.
— Он еще в камере? — спрашивает она.
— Нападавший? Да. Он еще здесь.
— Он — убийца?
— Мы так не думаем.
— В таком случае, можно я приложу его огнетушителем по башке?
— К сожалению, нет, — бесформенная масса отвечает голосом, похожим на голос Петтера.
— Мы случайно не подстрелили его в стычке?
— Опять же нет, к сожалению.
— Его надо допросить.
— Нам надо открыть шкатулку.
— Какую шкатулку?
— Розовую. Ту, которая стоит у тебя на столе. Ты считаешь, что она принадлежит убитой.
— Да. Идея правильная. Я воспользуюсь пистолетом. Где мой пистолет?
— Нет, — говорит кто-то, и это определенно Петтер. — У нас есть ключ. Мы не просто хотим открыть шкатулку. Мы хотим узнать, принадлежала ли она женщине. Для этого мы воспользуемся ключом.
— Верно. И если ключ подойдет к замку, мы установим связь между ключом, шкатулкой и женщиной.
— В этом и состоит наш план.
— Это может также кое-что прояснить относительно убийства.
— Да, может. Мы надеемся получить законные основания для ареста отца.
— Законные.
— Мы тут защищаем закон.
— Так мы боремся с преступностью.
— Тебе уже лучше, — улыбается Петтер.
— Сжечь после прочтения.
— Нет, жечь мы ничего не будем.
— Джордж Клуни пристрелил Брэда Питта в фильме «Сжечь после прочтения». В шкафу. Я знала, что тот парень был неправ.
— Может, он его не заметил.
— Норвежские законы недостаточно хороши. Для данного случая, — меняет она тему.
— Что ты имеешь в виду?
— Когда вчера вечером у меня переставало стучать в голове, я смотрела их личные дела. Ни один из них не попал в ШИС[11].
— Неудивительно. Если нет задержаний…
— В этом-то и вся штука с военными преступлениями. Отсутствие действующих судов в стране, где идет война, означает, что никого не судят за преступления, никого не регистрируют в Шенгенской базе данных, а значит, нет и оснований для отказа в статусе беженца. Международный трибунал по бывшей Югославии должен был заполнить пробел, но пробел этот слишком велик.
— Мир несовершенен. Давай пока откроем шкатулку.
— Какую шкатулку?
— Вот ключ.
Петтер протягивает ей серебристый ключик длиной около двух сантиметров с раздваивающимся зубцом. Простейший замочек может отпугнуть только детей, родителей и других подобных грабителей, которым может грозить лишь собственное чувство вины в качестве наказания.
Сигрид берет ключик.
— Проблема в том, что несовершенство законодательства позволяет всякому европейскому сброду стекаться на нашу маленькую норвежскую лодку. Политики настолько возбудились идеей объединения Европы, что пустили лодку в плавание, не залатав дыр и не подготовив ее к путешествию. А это значит, что она утонет еще до того, как мы отчалим в море. И мы утонем из-за необоснованного энтузиазма кучки людей, которых сами же и выбрали. А спасать их будем мы. Полицейские. Хочешь знать, что не так с Норвегией? Спроси нас. Мы знаем.
— Здравые у тебя рассуждения. Пожалуйста, давай откроем шкатулку.
Сигрид берет ключ и подносит к шкатулке.
— Он ужасно мал.
— Дай мне.
Петтер берет ключик и подтягивает шкатулку к себе. Вставив ключ, он смотрит на Сигрид и поворачивает его.
Шкатулка открывается.
— Так, хорошо.
Петтер откидывает крышку и заглядывает внутрь.
— А это что такое? — вопрошает он.
Сигрид озадачена. Она выдвигает ящик стола и извлекает оттуда пару резиновых перчаток. Надев их, вытаскивает содержимое шкатулки.
— Письма и фотографии.
— Чьи?
Она не знает. Письма написаны на иностранном языке. Возможно, на сербско-хорватском, когда он еще был единым. Может, на албанском. На снимках сфотографирована деревня. Или то, что некогда было деревней.
Все снимки аккуратно пронумерованы. Наверху каждого снимка приклеен кусочек бумаги с именем человека, названием места и другой информацией, которую она не может разобрать. Сверху лежат фотографии разных людей. Кто-то машет рукой, сидя за столом. Кто-то стоит около машины. Несет продукты. Поднимает ребенка. Собирает листья. Обычные события, зафиксированные 35-миллиметровой пленкой, те, что обычно заполняют семейные альбомы, чтобы люди помнили, какими когда-то были они сами и их близкие.
Под стопкой снимков сложены фотографии убийства каждого из этих людей.
Картины удручающие. Одних застрелили. Другим вспороли животы. Перерезанные горла. Дети, застреленные в затылок. Некоторым стреляли прямо в лицо. Дети слишком маленькие, чтобы испугаться своих убийц.
Сигрид держит в руках мужественно задокументированные кем-то свидетельства массовых убийств. Они были спрятаны и, возможно, стоили жизни защищавшему их.
— Свяжитесь с Интерполом, Европолом, министерством иностранных дел, министерством юстиции и полиции. Все это нужно немедленно переснять и сделать копии каждого документа. Я начинаю понимать, что тут случилось. Созови всех. Я хочу, чтобы мне доложили обо всем, что произошло в Осло за истекшие сутки. Все из ряда вон выходящее. Мы должны найти этих людей.
Пока сотрудники собираются вокруг Сигрид, она потягивает кофе вопреки запрету врача: кофе — это диуретик, он только усилит обезвоживание, что в данных обстоятельствах ей противопоказано.
Но очевидно, что врач был неправ.
— Все что угодно, — говорит она. — Звонки были?
Да, было несколько звонков: домашнее насилие, пьяные разборки, попытка изнасилования. Связь ни с одним из звонков не просматривается.
— То есть вы хотите сказать, что никто не сообщил о пожилом американце с маленьким мальчиком-иностранцем. Мы выслали достаточно детальное описание. Я хочу убедиться, что правильно вас понимаю, — Сигрид делает паузу. — Отлично. Начинайте обзванивать. Если информация не идет к нам, мы начинаем запрашивать ее сами.
И Сигрид направляется к себе в кабинет. По дороге ее нагоняет молодая сотрудница, которая ведет за собой девушку.
— Инспектор, я думаю, вам надо послушать это, — говорит сотрудница.
— Послушать что?
— Инспектор Одегард? Меня зовут Адриана Расмуссен, — девушка замолкает и потом добавляет: — Но я урожденная Адриана Стойкова: Из Сербии. Очень плохие люди ищут маленького мальчика и старика. Я думаю, им грозит беда.
Речь девушки и внешность в целом, за исключением славянского лица, выдают в ней представителя элитарного слоя норвежского общества. На ней стильная одежда, подобранная таким образом, чтобы не вызывать зависти у других женщин. Волосы тщательно уложены в естественную прическу. Она не настолько вызывающе модная, чтобы жить в Грюнелокке, но на ней нет часов или драгоценностей, на которые она не могла бы заработать сама и которые говорили бы о ее принадлежности к старинному богатому семейству из Фрогнера.
Возможно, Скойен или Св. Хансхауген. Или лучшая часть Бислетта.
Она излагает свою историю быстро, с уверенностью, излучающей цельность и целеустремленность, но вместе с тем и определенную юношескую незрелость.
— Он неплохой человек, — объясняет она Сигрид. — Он хороший. Просто глупый. Глупый как пробка. Глупый, глупый, глупый…
— Хорошо. Я поняла. Что он натворил?
— Ну, он сегодня не пришел ночевать, это во-первых. Он спрашивал меня про старика и мальчика, я не поняла, о чем он говорит, и попросила его объяснить, но он отказался и велел мне поспрашивать «в моей общине»… и что все это значит, я не понимаю… я расстроилась и сказала, что сербы — это больше не «моя община», они мои не больше, чем японцы, и тогда он так разошелся… как будто бы он так глубоко разбирается в человеческой натуре.
— Где он сейчас? — спрашивает Петтер, пытаясь не потерять нить разговора.
— Сейчас? Что, прямо сейчас? Не имею понятия. Он исчез. Так что я думаю, он со своими опасными друзьями. Гждоном, Энвером, Кадри…
— Энвером Бардошем Беришей? Кадри…
— Да-да, с ними. Вы их знаете?
— Да. Где они находятся?
— Я не в курсе. Но Бурим сказал, что они ищут старика и мальчика, которые, вероятно, что-то видели. Старик, наверное, прячет мальчика. Мне кажется, вам надо их найти.
— Вы могли бы задержаться ненадолго?
— Я не сделала ничего дурного.
— Нет, нет, дело не в этом. Мы вам благодарны за информацию. Просто не уходите. Мои коллеги должны расспросить вас о некоторых деталях.
— Я люблю его, — говорит Адриана. — Он глупый, но добрый, он нежный, и он идиот, ведет себя как обиженный щенок, но…
— Я понимаю, — прерывает ее Сигрид. — Пожалуйста, не уходите.
Вернувшись в общий офис, она машет рукой, чтобы привлечь внимание коллег. Добившись желаемого, выкрикивает:
— Все. Все, что угодно. Любая информация по Горовицу. Сразу сообщайте.
Флегматичный полицейский по имени Йорген поднимает руку, и Сигрид жестом предоставляет ему слово.
— Я разговаривал с полицейским из Трогстада. Он вчера остановил пожилого немца. Мужчина ехал на тракторе с лодкой в прицепе. С ним был внук.
— Пожилой немец и мальчик.
— Верно. Он хорошо запомнил, потому что мальчик был одет как еврейский викинг.
— Еврейский викинг?
— Ну да. С большой звездой на груди и с рогами на голове.
— Пожилой немец ехал на тракторе, который тянул за собой лодку и в ней сидел еврейский викинг, и никто не додумался мне об этом сообщить?
— В описании было сказано, что старик — американец. А этот был немец, так что он не счел нужным упоминать.
Сигрид опускается на ближайший стул. Она больше не в состоянии определить источник головной боли. Утром ей казалось, что боль исходит извне. Теперь она уже в этом не так уверена.
Петтер стоит рядом.
— Похоже, женщина была права, — говорит он.
— Какая женщина?
— Мисс Горовиц. Она особо подчеркнула, что он еврей. Наверное, надо было упомянуть об этом в сводке.
— Думаешь? — спрашивает она, качая головой. — Мы что, самые наивные люди в Европе?
— На самом деле, недавно провели опрос…
— Я не хочу об этом слышать.
— Если учесть время обнаружения лодки и провести линию к тому месту, где видели трактор, мы поймем, что они движутся на северо-восток от Дробака.
— В направлении к летнему домику.
— Более или менее.
— Кто-нибудь засек трактор?
Йорген качает головой.
— Свяжитесь со всеми подразделениями между Трогстадом и Конгсвингером, пусть они выезжают на шоссе и ищут трактор. И начинайте с тех, что на севере, не на юге, понятно? Мы накроем их сверху, а не снизу.
Петтер кладет руку на плечо Сигрид.
Сигрид смотрит на Петтера и самодовольно ухмыляется.
— Ты должна признать, что старый лис наподдал нам жару, — говорит Петтер.
— Я сниму перед ним шляпу, когда мы благополучно вернем мальчика.
— Он должен был привести его к нам.
Но Сигрид не согласна.
— Не думаю, что он из тех, кто привык доверять людям, — произносит она.
Глава 19
Сигрид сидит на пассажирском сиденье «вольво S60», несущейся на огромной скорости с включенными сигнальными огнями. За рулем машины мрачный Петтер. Они звонили Ларсу и Рее, но никто не ответил.
Полицейское радио работает, местное подразделение полиции оповещено. Beredskapstroppen едут к летнему домику с трех разных сторон. Сигрид руководит операцией, все будут ждать ее команды начинать штурм.
— Мы в трудном положении, — произносит Петтер, после того как они проехали тридцать минут в полной тишине.
— Я права. Старик направляется к домику вместе с мальчиком. Спорю на бутылку виски, что Энвер и его клан поджидают там мальчика, если уже не дождались.
— Точно мы ничего не знаем.
Тошнота осталась, но сосредоточиться уже удается. Сигрид разозлилась, и злость помогает ей излечиться. Петтер не ошибается, но он и не прав.
— Мужчина и мальчик живут в одном доме, — рассуждает она. — Шкатулка матери мальчика обнаружена под кроватью у мужчины. Она попыталась спрятаться у него вместе со своим сыном. Он их приютил, потому что такой уж он человек: услышал, что соседке грозит опасность, и решил помочь. Но что-то пошло не так. Бардош ворвался в квартиру, и Горовиц с мальчиком спрятались в стенном шкафу. Мальчик описался. Каким-то образом им удалось бежать. Бардош и его банда узнают об этом и начинают преследование. Горовиц на шаг опережает всех нас. Он, возможно, предполагает, что они не знают про домик. Может, так и есть. Но не исключено, что знают. Но ведь киноман шуровал в комнате у старика. Если бы они прознали о домике, они бы послали кого-нибудь осмотреться. До Реи и Ларса не дозвониться. Рискну предположить, что они не имеют возможности ответить. Если я ошибаюсь, наше вторжение их здорово испугает, а я на пару недель стану посмешищем для всей полиции. Если же я права, нам предстоит схватка с вооруженным противником. Если только мы не опоздали.
Лимит скорости на этом участке дороги 80 километров в час, Петтер разогнался до 130. Если машин не прибавится, они доедут до места действия за час.
Сигрид снимает с шеи ключ, отпирает бардачок и достает оттуда девятимиллиметровый «Глок 17». Освобождает магазин, вынимает его из пистолета, который кладет на колени. Затем нажимает на патроны, убеждаясь в том, что магазин полон. Меняет местами пистолет и магазин и начинает проверять пистолет. Оттягивает затвор до конца и всматривается в патронник, чтобы убедиться, что он пуст. Смотрит, нет ли пыли или ворсинок в обойменном отсеке. Удовлетворенная, она возвращает магазин на место. Одно легкое усилие заставляет пружину сдвинуть затвор и первый патрон ложится в патронник — «американский стиль».
Сигрид ставит пистолет на предохранитель и убирает его в кобуру. Они с Петтером переглядываются.
— Что? — спрашивает она.
— Ничего.
Трещит рация. Сигрид представляет себе, как в полицейском участке на экране монитора все машины приближаются к летнему домику. Спецназ в полной боевой готовности. Они уже видели спутниковые снимки подходов к домику и знают, что к нему ведет единственная дорога. Специалисты рассчитают угол падения солнечных лучей на землю и определят, где лучше всего разместить снайперов и штурмующие подразделения. Косовары, возможно, вооружены. В стране циркулирует огромное количество незарегистрированного оружия, и преступники всё более дерзко пользуются им — правоохранительные органы не поспевают за ними. Косовары могли также найти ружья, которые записаны на Ларса Бьорнссона. Если только Ларс не опередил их. Или Горовиц. Тогда обе стороны окажутся вооружены и ситуация может в любую секунду выйти из-под контроля.
Сигрид нервно постукивает пальцами по колену и нетерпеливо смотрит на спидометр.
— Мы можем ехать быстрее?
— Да, но не стоит, — говорит Петтер.
Она продолжает стучать по колену и смотрит в окно.
Речные крысы. В записке старика цитируются «Приключения Гекльберри Финна», американский аболиционистский роман Марка Твена, рассказывающий о том, как Гек и беглый раб Джим сплавляются по Миссисипи, чтобы их не посадили за преступления, которых они не совершали. Все это Сигрид без труда нашла в Интернете. То, что Горовиц написал «сивилизовать», поставив «с» вместо «ц», четко указывало на этот роман.
Сигрид продолжает стучать пальцами.
Вероятно, охотники подбросили Шелдона и Пола до самой Гломлии, потому что пожалели их. Хоть они и двигались на север, это все равно был крюк. Поездка заняла больше часа, и теперь, на месте, Шелдону стало наконец страшно.
Грузовичок приближается к белому «мерседесу», припаркованному на повороте грунтовой дороги за желтой «тойотой» выпуска середины 1990-х годов.
Стоя в кузове, Шелдон стучит по крыше кабины и кричит водителю:
— Останавливай!
Грузовичок с кряканьем пристраивается за «мерседесом». С этой точки машина напоминает спящую белую пантеру, ожидающую, что ее вот-вот потянут за хвост.
Опираясь на плечи сидящих в кузове мужчин, Шелдон осторожно передвигается по проржавевшему полу. Спускается на землю и, обойдя машину, садится в кабину.
— Это тот поворот? — спрашивает его водитель.
Хороший вопрос. Шелдон смотрит на дорогу. Он никогда здесь не был и знает это место лишь по картинке.
— Видишь белый «мерседес»? — обращается он к водителю.
Загорелое лицо водителя, курильщика и охотника, покрыто светло-каштановой щетиной. Ему лет тридцать пять, и вопрос Шелдона его не удивляет — похожие вопросы задает его собственный дед. Он смотрит на Шелдона и мягко отвечает:
— Да, вижу.
Шелдон уже несколько недель не видел корейцев. Ни один не скрывался в тени. А тут эта белая машина у летнего дома внучки. Несмотря на все попытки скрыться они не просто узнали, где его искать, но и опередили.
Мне нельзя доверять. Парня надо сдать.
— Я даже не могу сказать, насколько меня это расстраивает, — говорит он.
— Я могу вам чем-нибудь помочь?
Шелдон думает о том же. Водитель выглядит закаленным, но не брутальным. Его обветренная кожа и мозоли на руках появились в результате мирной деятельности: например, ему явно приходилось снимать перчатки на морозе, чтобы лучше чувствовать ружье; или лежать на снегу, зажав зубами фонарь и пытаться нащупать крюк, чтобы подцепить машину друга и вытащить ее из канавы; или ходить босиком в сауне; или ловить выскользнувшую веревку в лодке во время плавания.
К окну грузовичка, как будто он только и поджидал Шелдона, подходит Билл. Облокачивается на машину и говорит:
— Что ты задумал, Шелдон?
— Я так понимаю, что теперь я сам по себе.
Шелдон вылезает из кабины и, держась за прохладный стальной борт грузовика, идет назад. Пол в позе индейца восседает в кузове, по бокам у него Мадс и Тормод. Рядом на своем охотничьем снаряжении сидят еще двое парней, с которыми Шелдон толком не познакомился.
— У кого из вас есть девушка? — спрашивает Шелдон.
Один из незнакомых Шелдону охотников неуверенно поднимает руку.
— Молодец. Побольше занимайся сексом. А теперь я вот что скажу: вы не можете пойти со мной в дом. Причину я вам объяснить не могу. Но это связано с белой машиной. Я хочу, чтобы вы, ребята, отвезли Пола в полицейский участок в центре города. И ни в коем случае не останавливайтесь. Даже чтобы попить. Даже чтобы сбегать по нужде. Не останавливайтесь, даже если кто-нибудь из вас выпадет за борт. Просто отвезите его в полицию и передайте им вот это. — И протягивает парню, у которого нет девушки, клочок бумаги с номером «мерседеса» и свои права. — Скажите им, что вы видели эту машину. Скажите, что встретили меня. Объясните, что это сын той женщины, которую убили в Осло.
В грузовичке повисло молчание.
— Вы меня понимаете? Не могу понять, когда ваш брат воспринимает информацию, а когда нет. Вы только пялитесь ничего не выражающим взглядом. Мне нужно, чтобы вы это поняли. Вы меня понимаете или нет?
— Хорошо.
Это произносит здоровяк, что промахнулся по зайцу.
— Что хорошо? Повтори.
— Он пойдет в полицию с мальчиком, номером машины и правами старика и скажет, что это сын женщины, убитой в Осло.
— И скажите им, чтобы ехали сюда. С оружием. Кстати говоря, мне нужно ружье.
Никто не двигается и не отвечает.
— Ружья — это такие громовые палки, которые вы используете, чтобы пугать зайцев. Мне такое нужно. С прицелом. С оптическим прицелом. Зрение у меня неважное. И патроны. Не забудьте про патроны.
Никто не пошевелился и не издал ни звука.
— Окей, ребята, в чем дело?
— Мы не можем дать вам ружье, сэр.
— Какого черта? Почему? У вас же полно ружей.
Все молчат.
— Вы думаете, что я спятил?
— Это незаконно. И мы уже не на охоте.
— Говори за себя, — велит Шелдон.
Не спрашивая разрешения, он открывает молнию одной из сумок и начинает в ней рыться. Выуживает фонарики, свистки, пару шнурков и шерстяную шапку. Все это он отбрасывает в сторону. Ему попадается бинокль, и он кладет его в свой вещмешок.
— Э-э, сэр…
— Он мне нужнее, чем тебе. Я верну его, если меня не убьют. Договорились?
Охотник только кивает в ответ. Что он может поделать? Вероятно, если бы Шелдону было лет на сорок меньше и он был бы в своем уме, охотник реагировал бы по-другому. Но сейчас ответить можно только так. Они уже исчерпали свой лимит отказов, не дав ему ружье.
— Есть среди вас рыбак?
Другой сидящий рядом с ним мужчина поднимает руку. Делает он это с неохотой. Он очень любит свою удочку.
— Дай мне леску. И поживее. Так, у кого есть нож?
Ответа нет.
— Да у каждого из вас, слюнтяев, есть ножик, я это знаю. Дайте мне.
Тормод, надув губы, засовывает руку так глубоко в карман, будто хочет достать свои внутренности. Он вынимает маленький складной ножик с металлическими проставками. Шелдон берет его и открывает лезвие. Проводит по нему пальцем, потом поднимает глаза на Тормода и хмурится.
— Стыдно должно быть за такой ножик! Еще и старику его втюхиваешь. Давай сюда настоящий. Ну же, быстрей.
Следующим появляется охотничий нож «Хаттори» с рукояткой из красного дерева, латунными деталями и десятисантиметровым лезвием.
Шелдон кивает:
— Годится.
Он выбирает самую большую сумку и высыпает ее содержимое в кузов.
— Слушай, мужик. Мы же просто согласились тебя подвезти.
Не обращая внимания на возражения, Шелдон забирает сумку и рыболовную сеть, которая лежит внутри.
— Мне нужна игла и нить. У кого есть нитка? Вы не уедете, пока я не получу ее.
Разжившись этим набором предметов, который кажется охотникам случайным, Шелдон берет с них слово отвезти Пола в полицию, сообщить номер машины и передать его права.
Пол по-прежнему сидит в кузове между Мадсом и Тормодом. Шелдон смотрит на него и машет рукой на прощание. Не понимая, что происходит, Пол принимается плакать. Шелдон с трудом сдерживается.
Ему не хватает духа смотреть, как уезжает грузовичок. Мальчик не отрывает от него взгляда. Если, уезжая, он будет плакать, Шелдон не сможет сосредоточиться. Но и не смотреть в ту сторону не лучше. Все равно не сосредоточиться.
Через некоторое время шум грузовичка стихает, и Шелдон остается один на развилке, откуда главная грунтовка заворачивает направо мимо припаркованных автомобилей. Подъездная дорожка к летнему домику идет непосредственно направо от него и стелется, словно темная средневековая тропа к логову дракона.
— Что мы будем делать, Донни? — спрашивает Билл.
— Ты еще здесь?
— Я всегда здесь, — пожимает плечами Билл.
— Что усугубляет твою вину за бездействие.
— Полиция в конце концов появится. Ты уверен, что хочешь туда идти? На самом деле, чего ради? Что ты можешь реально сделать?
Шелдон вздыхает и не оспаривает сказанного. Он понимает, что это правда. Он голоден и устал. У него болит голова. Его все больше беспокоит артрит, а единственное средство, которое ему помогает — размоченный в джине изюм, — недоступно.
Он оставляет Билла на развилке и переходит на обочину дороги, противоположную той, где стоят «мерседес» и «тойота». Присаживается и внимательно осматривает машины.
— Что ты делаешь? — спрашивает Билл, на этот раз громко.
— Заткнись, Билл.
Шелдон еще ниже припадает к земле, все еще недовольный обзором, и наконец встает на четвереньки, надеясь, что каким-то образом сможет потом подняться.
— Ну правда, Шелдон…
— Заткнись, Билл.
Он медленно ползет к желтой машине и останавливается, когда видит первые следы. Похоже на следы от кроссовок, со странным символом: галочка над чем-то, похожим по форме на маленькое яблоко. Логотип находится в центре подошвы. Хорошо, что эти следы отличаются от других, которых тут полно.
Другой след, на стороне пассажира, оставлен рабочим ботинком с типичным ромбовидным отпечатком и каблуком. Шелдон называет его владельца Лесорубом.
Яблоко и Лесоруб вылезли из «тойоты». Следы повсюду вокруг машины и во всех направлениях. Они топтались здесь — возможно, чего-то ждали. Судя по размеру, следы явно не женские. Но для Ларса маловаты.
Со стороны водителя «мерседеса» также просматривается четкий набор следов, совершенно точно оставленных военной обувью: на переднем краю подошвы пятиугольник, вписанный в квадрат, каблук толстый и высокий. Эти ботинки могли принадлежать армии любой страны или, возможно, куплены в военторге. Но Шелдон подозревает, что это не так.
— Шелдон, что ты делаешь?
— Учусь. Может, я и старый пес, вставший на четвереньки, и очень может быть, что я свихнулся, но я учусь, — он медленно поворачивается, садится посреди дороги и отряхивает руки. — Трое мужчин: Мистер Яблоко, Лесоруб и Люцифер. Люцифер приехал первым. Он вылез из машины и отправился в лес. В какой-то момент вернулся и встретился с другими двумя. И потом все они пошли в лес.
— Как ты понял, что они встретились?
— Вот тут, — Шелдон указывает на следы за «тойотой». — следы Люцифера поверх Лесорубовых. Форма его обуви четко видна, а края ботинок Лесоруба деформированы. Это значит, что он наступил тут позже.
— Ты так долго пробыл с мальчиком и так легко с ним расстался.
— Это было нелегко, но необходимо. А теперь помоги мне.
— Не могу.
— Почему? Ты чем-то занят?
— Ты знаешь почему.
— А, понимаю.
Прежде чем совершить рывок и встать на ноги, Шелдон достает нож и протыкает две боковые шины «мерседеса». Потом выпрямляется, опираясь на дверцу машины. На всякий случай дергает за ручку, но машина заперта. Внутри он видит потрескавшийся винил сидений и ручку передачи скоростей со стершимися от долгого употребления цифрами.
Осторожно идет к «тойоте» и тоже протыкает шины.
Никто никуда не уедет. Все кончится здесь.
Довольный результатом своих трудов, он зачехляет нож и убирает его в вещмешок. Выходит на середину дороги, забирает снаряжение, конфискованное у охотников, и исчезает в лесной чаще, как бывалый снайпер.
Лес тут густой и земля неровная. Повсюду невысокие холмики и впадины — следы ледников, сглаженные тысячелетиями дождей и ветров. Благословенный свежий ветерок, родившийся в сибирской тундре, стелется под густой кроной листвы тополей и величественных дубов.
Ступая как можно тише, Шелдон двигается к каменистому участку, невидимому со стороны дороги, и тут же приступает к работе — насколько позволяют ему старческие руки и слабое зрение.
Он вытаскивает нож, делает несколько разрезов на дне сумки и разрывает ее с ловкостью опытного охотника, разделывающего добычу. Кладет сумку на землю, дном от себя. Отложив нож, берет большую рыболовную сеть и кладет ее поверх сумки. Оставляет припуск для движений и растягиваний и отрезает лишнее — выступающую из-под сумки часть сети.
Он вдыхает прохладный бриз и до боли в легких задерживает дыхание. А потом выдыхает.
В 1950 году он провел немало часов на стрельбище на Нью-Ривер. Огневая точка не была прикрыта навесом, как это делают на полях для гольфа, чтобы игроки могли закатывать мячи в лунки. На морпеховском стрельбище тренировались на небольшой насыпи, лежа прямо в грязи, пыли или слякоти, в зависимости от капризов матери-природы. Когда было жарко, они потели и чесались. В сырую погоду чесались еще сильнее. Если они дергались или стонали, они рисковали получить прикладом по шлему от инструктора, который был откровенно груб.
Просто дыши.
Они пробегали в день по пятнадцать километров, чтобы поддержать физическую форму и замедлить метаболизм. Им сократили пайки по кофе и сахару. Все, что могло усилить или ослабить сердцебиение. Все медленнее и медленнее движется стрелка метронома. Все меньше воздуха, меньше дыхания, меньше жизни. Все, что поможет снайперу не привлекать внимания, а разведчику — двигаться, наблюдать, запоминать и возвращаться живым.
Но это было пятьдесят восемь лет назад.
Все это стало понятней сейчас, чем было тогда. Рея назвала бы это старческими бреднями, однако не исключено, что с возрастом приходит ясность — в результате естественного процесса разделения воображаемого будущего и восстановления законной роли настоящего и прошлого в центре нашего внимания.
Прошлое становится для Шелдона осязаемым, таким, как будущее для молодых. Это либо краткое проклятие, либо последний подарок судьбы.
Просто дыши.
Одним особенно дождливым и туманным днем слева от него на стрельбище лежал Хэнк Бишоп. Он пытался попасть в цель, находившуюся на расстоянии двухсот метров.
Хэнк Бишоп, видит бог, был не слишком умен.
— Не могу понять, попал или нет, — говорил он после каждого выстрела.
— Не попал, — отвечал Донни.
— Не могу понять, попал или нет, — бормотал он.
— Не попал, — отвечал Донни.
— Не могу понять, попал или нет, — опять повторял Бишоп.
— Не попал, — снова отвечал Донни.
Этот разговор продолжался еще какое-то время, при этом Шелдона он совсем не утомлял. Наконец, произошло нечто странное: у Хэнка в голове что-то щелкнуло, он прервал беседу в стиле рондо и задал другой вопрос:
— Донни, а почему ты думаешь, что я не попал?
— Потому что ты стреляешь по моей цели, Хэнк. Твоя вон там. Давай я тебе покажу ее.
Под усиливающимся дождем Донни молча расстегнул нагрудный карман и достал патрон с красным наконечником. Вынул магазин и положил его рядом с собой. Потом освободил патронник от остававшегося там патрона и уложил на его место трассирующий. Слегка вздохнул, выдохнул наполовину, прицелился и выстрелил.
Красная фосфоресцирующая пуля пролетела сквозь туман, словно горящая голубка через альпийский туннель, и впилась в деревянную цель Хэнка. Она попала практически в самый центр, что вызвало одобрительные крики и аплодисменты лежавших рядом морпехов. После чего инструктор тут же въехал прикладом по каждому шлему в подразделении.
Трассирующие пули не предназначены для проникновения. И нагревшаяся пуля прожгла деревянную цель, края дырки обуглились, зашипели и зажгли цель изнутри.
— Горовиц, ты придурок. Какого хрена ты творишь?
— Это не я, сэр.
— Но это точно не Бишоп.
— Ну хорошо. Это я. Хэнк не мог попасть в свою цель, сэр, а моя уже поражена.
Теперь Шелдон пытается шить. Он делает это так быстро, насколько позволяют его артритные пальцы. Продевает леску в иглу и использует рукоять ножа, чтобы проталкивать иглу через брезент сумки, пришивая сеть.
Он понимает, что время дорого, и пытается не думать о том, что может сейчас происходить в летнем домике.
Более получаса он сосредоточенно трудится. Он опасается, что игла слишком тонкая и может сломаться. Сумка сделана из толстого брезента, но, слава богу, швы не очень прочные. Так что Шелдону удается протискивать иглу между грубыми стежками.
Закончив, он осматривает плоды своих усилий. Учитывая его скудные возможности, можно сказать, что результат неплох. Теперь ему предстоит дополнить маскировку ветками и кусками почвы. Он использует палки и фрагменты дерна, находящиеся не только в непосредственной близости от него. Ему нужно слиться с ландшафтом, стать частью леса, раствориться в нем.
Закончив, он бесшумно разрывает мягкую влажную землю, зачерпывает небольшую горсть и втирает ее себе в лицо и белую тыльную сторону ладоней. Мажет землей ботинки и выглядывающие зеленые части сумки. Управившись с этой работой, надевает маскировочный костюм, просунув голову в изогнутую донную часть сумки. Финальный штрих: он делает два отверстия в костюме в районе ключиц и продевает сквозь дырки лямки от сумки. Теперь его маскхалат похож на плащ эсквайра. Наконец, Шелдон готов.
— Что дальше? — спрашивает Билл.
— Вот именно, — отвечает Шелдон.
Глава 20
Количество людей, посвященных в план операции, всегда лучше сводить к минимуму. У Энвера в Сербии уже были проблемы с утечкой информации. То, что обсуждалось в темных комнатах за закрытыми дверями, спустя несколько часов каким-то образом переставало быть тайной. Как говорится, болтун — находка для шпиона.
В двадцать лет все это его шокировало. И склонность сербов к ужасающему насилию не только возмущала, но и приводила его в замешательство. Как же можно с такой силой ненавидеть незнакомых тебе людей?
Самому Энверу удалось избежать этого, чем он гордился. Его боевики атаковали только тех, кто был замешан в преступлениях против его народа. Им руководило стремление отомстить за погибших и восстановить попранную честь соотечественников. Он не был религиозным фанатиком и не убивал во имя Всевышнего. Это оправдывало его в собственных глазах.
Беда в том, что в конце концов почти каждый мужчина-серб оказывался убийцей, а его жена — гарпией, возбуждавшей в муже ненависть к иноверцам. А как же могло быть иначе? Люди убивают, потому что хотят убивать. Но что-то ведь заставляет их хотеть этого. Выбор всегда за ними, и этот выбор определяет их судьбу.
Человек, которому звонил Энвер, был хорошо известен в Армии освобождения Косова. И Кадри его знал. Среднего роста, неприметной внешности, он не отличался ни силой, ни ловкостью. В его поведении не было ничего зловещего, и он не был таким уж кровожадным. Пил в меру, никогда не живописал свои подвиги и не приветствовал теории заговоров для укрепления связей с другими бойцами.
Знавшие его не вели с ним долгих бесед, так как говорить было особенно не о чем. Мнение о нем у всех было одно: у него больше не было души. Это был живой мертвец. Звали его Зезаке — Черный.
Черный был защитником Энвера. Его телохранителем. Его солдатом. Он был послан в Норвегию, чтобы спрятать Энвера от сербов и, оставаясь неподалеку, присматривать за ним. Стать тенью Энвера.
В Осло Черный ведет образ жизни образцового гражданина. Переходя дорогу, ждет зеленого сигнала светофора. Не забывает вовремя включать поворотник. Придерживает двери, пропуская женщин вперед, в «Юнайтед Бейкериз». И никогда не жалуется на длинные очереди в кассу в винном магазине.
Сербы знают, что он здесь. Скорее всего, норвежцам это тоже известно. Он путешествует, не привлекая внимания, по фальшивым документам. Он снимает жилье, нигде не задерживаясь подолгу. После себя он не оставляет следов. Он призрак, он передвигается по Европе так, как это делают преступники.
И сербы, и косовары хорошо организованны в Осло. Их здесь немного и почти все они знакомы друг с другом. Они поддерживают друг друга, и один из способов этой поддержки заключается в том, чтобы присматривать за Черным, чтобы тот мог присматривать за Энвером.
Сейчас Черный отправляется на задание. Ему позвонил Энвер и послал его сделать то, что не не удалось Буриму и Гждону. Он должен найти мальчишку, хотя бы потому, что ему приказано это сделать, а этот человек всегда выполняет приказы. На черном рынке он приобрел кольт 45-го калибра 1911 года выпуска — хоть и старый, но в рабочем состоянии, а также видавший виды винчестер с деревянной ложей, на которой бывший владелец нацарапал свастику. Черный купил его не из политических убеждений, а из-за низкой цены. К тому же, вероятнее всего, продавец вряд ли будет распространяться о сделке.
У винтовки железная мушка и пять патронов. Черный пристрелял ее за городом среди холмов и счел вполне надежной и точной. Ему было приказано ехать в летний домик с оружием. Энвер дал ему адрес. Дорогу он найдет сам. Черный не знает о том, что мальчика везут охотники. Однако знает, как выглядит мальчик и как его на самом деле зовут.
Он прошел спецподготовку и имеет привычку заправлять машину непосредственно перед местом назначения, чтобы обеспечить себе путь к отступлению. На заправке «Эссо» в Конгсвингере он с удивлением замечает мальчишку Энвера с куском вяленой лосятины в руке. Его окружают пятеро молодых норвежцев.
Проезжая на своем «фиате» мимо мини-маркета, перед которым стоит мальчик, Черный подкатывает к колонке. Он открывает бардачок и достает оттуда ярко-красную папку. В папке целая стопка фотографий мальчика. Фото на паспорт. Несколько снимков, сделанных во время слежки. Фотографии с матерью и без нее. С длинными волосами и с короткими. С рожком мороженого.
Черный вынимает снимки и сравнивает их с мальчиком. Тот видит мужчину в маленькой машинке и смотрит на него. Но не узнает. Эти двое никогда не встречались.
Черный тут же осознает, что эта случайная встреча меняет всю повестку дня. Фигуры на шахматной доске смешиваются. Единственная цель штурма летнего домика — найти мальчишку. Если парень нашелся, необходимость в штурме отпадает.
Он обдумывает это с невозмутимым лицом.
Потом достает из кармана куртки телефон и звонит Энверу. Он понимает, что разговор можно отследить, поэтому использует предоплаченные симки. Он также знает, что полиция может определить его местонахождение и использовать телефон в качестве микрофона. Они могут активировать телефон и без его ведома. Поэтому он выбрасывает симку после каждого разговора с Энвером.
Трубку берут не сразу.
— Что такое? — спрашивает Энвер.
— Я нашел мальчишку.
Следует молчание.
— Он у тебя?
— Нет. Но скоро будет.
— А старик?
— Старика не вижу.
— С кем мальчишка? С полицейскими?
— Нет. Он с местными туристами. Охотниками. Или рыбаками.
— Забери мальчишку.
— Привезти его в домик?
Энвер вздыхает. Если бы он позвонил накануне вечером, ответ был бы отрицательным. Энвер, Гждон и Бурим могли бы вернуться к своим машинам и где-нибудь встретиться с Черным, чтобы поменяться машинами. Энвер бы отправился к шведской границе по неохраняемой второстепенной дороге, по которой норвежские контрабандисты перевозят алкоголь и сигареты.
Но вчера этот звонок не состоялся. Он раздался сегодня.
— Да. Процесс уже пошел. Закончишь дела — привози с собой мальчишку. И не забудь про оружие. Мы тут не задержимся.
Их пятеро плюс мальчишка. Всем в районе тридцати. Он наблюдает, как они выходят с продуктами из мини-маркета. У каждого в руке по пакету, парнишка идет чуть позади. Странный он, этот сынишка Энвера. О нем известно, что он жил с матерью, тоже странной женщиной — говорят, эта лгунья-болтушка мухлевала, чтобы оплачивать квартиру. Но что бы она ни делала, она старалась ради сына. Непонятно, почему Энвер нарушил заведенный порядок и решил увезти мальчишку из Норвегии. Но Черного больше не волнует, почему люди поступают так, как они поступают.
И вот он преследует группу мужчин, о которых почти ничего не знает. Как мальчишка оказался тут без старика? Непонятно. Старик, наверное, внутри, покупает что-нибудь или в туалет пошел. Это обычное дело для стариков. Он решает подождать, когда появится этот дед.
Но тот не появляется. А тем временем вся компания, включая мальчишку, залезает в грузовичок. Водила заводит мотор, и машина трогается.
Черный следует за грузовичком от заправки на второстепенную дорогу. По ней мало ездят и вряд ли кто-то сможет защитить охотников. Расклад явно в его пользу.
За пределами города лес редкий. Желто-коричневая трава растет по обочинам и прорывается сквозь ямки и трещины в асфальте. Погода отличная. Дорога сухая.
Черный включает третью скорость и обгоняет грузовичок. Водитель с морщинистым лицом смотрит на него, пока они двигаются рядом. Потом момент упущен. Когда «фиат» отъезжает на пять корпусов вперед, Черный давит на тормоза, и машина круто разворачивается.
Водитель грузовичка тоже тормозит с визгом и почти врезается в «фиат». Черный уже вылез из машины и стоит за «фиатом», глядя поверх серебристой проржавевшей крыши. В игру вступает винчестер. Сдвинув затвор, Черный досылает патрон и целится в водителя.
Мальчонки в кабине нет. Он сидит в кузове с другими тремя мужчинами — Черный видел их, когда обгонял грузовичок.
Это облегчает ему задачу.
Черный стреляет из винтовки в лобовое стекло грузовичка и попадает водителю прямо в лицо. Брызжет кровь. Второй мужчина, сидящий в кабине, явно не привыкший воевать и обладающий не лучшей реакцией, застывает на месте, как загнанный зверь. Черный целится, взводит курок винчестера и убивает его.
В кузове начинается суматоха. Потом раздаются шаги по металлическому настилу. Черный пригибается к земле и ждет, когда люди вылезут из кузова и побегут прочь, — тогда он увидит сквозь просветы между колесами их ноги.
По опыту он знает, что если они побегут напрямую от грузовика, он не сможет за ними проследить, и тогда ему придется идти в обход налево или направо, чтобы восстановить нужную линию обзора.
Пока что ног он не видит и решает подождать еще.
Выпрямившись и посмотрев поверх крыши «фиата», он видит упитанного мужика со светло-каштановыми волосами, который направляет из-за кабины винтовку. Руки у него дрожат. И пока Черный берет его на прицел, толстяк стреляет.
Пуля пролетает настолько близко к голове Черного, что он ее слышит. В ухе начинает жужжать и звенеть.
Черный прицеливается и стреляет. Он слегка промахивается, потому что попадает толстяку в лицо чуть ниже, чем хотел. Но цель падает, и на данный момент это его вполне устраивает.
Он опять наклоняется и, на этот раз, видит их ноги.
Маленькие ножки мальчика бегут рядом с мужскими вправо. Другой мужчина направляется влево к лесу. Есть вероятность, что ему удастся сбежать, поэтому Черному приходится делать выбор. Если он выдвинется направо, чтобы проследить за мужиком с мальчишкой, он упустит другого мужика. Если же, наоборот, он пойдет влево, он прикончит этого бегущего к лесу, но ему придется гоняться за оставшимися. А он не хочет ни за кем гоняться.
Черный двигается уверенно и быстро. Зайдя за «фиат», он целится в мужчину с мальчиком и стреляет. Но пуля летит низко и попадает мужчине в поясницу. Тот падает, извиваясь и крича. Мальчик же останавливается и смотрит на Черного.
Он плачет, но, слава богу, безмолвно. Плач расстраивает Черного, именно поэтому он сознательно избегает иметь дело с детьми. Это последний звук, не считая воя голодных котов, который все еще щекочет ему нервы.
Он бросается вперед, обегает грузовик и получает полный обзор дороги. Еще один мужик все-таки сумел скрыться в лесу. В молодости Черный достал бы кольт и выпустил наугад несколько пуль по лесу. Но не теперь.
Сейчас Черный идет медленно. Нет нужды торопиться. Его беспокоит, что выживший может позвонить в полицию. В Скандинавии у всех есть мобильные телефоны.
Он останавливается около мальчика и смотрит на него сверху вниз. Проводит пальцем под глазом и вытирает слезу. Черный смотрит на ребенка и вспоминает о том, чего он больше не видит, когда глядится в зеркало.
Получивший пулю в поясницу Мадс все еще жив, но взгляд его уже туманится. Нет нужды добивать его выстрелом в затылок. Он скоро умрет. Или не умрет. В любом случае, надо искать сбежавшего.
Из-за грузовичка доносится какой-то звук.
Черный поворачивается и с удивлением обнаруживает, что толстяк целится в него из винтовки. Вся его нижняя челюсть раздроблена, но оружие держать он все еще способен.
Черный откладывает винчестер и вынимает кольт. Пока он целится, его колено пронзает неожиданная боль. Он опускает взгляд и видит, что мальчишка изо всех сил бьет его какой-то палкой с привязанным к ее концу носовым платком.
И в эту секунду раздается выстрел.
Пуля Тормода попадает в бедро Черному, вырывая клок мяса. Но ему повезло — она не задела бедренную артерию, а это бы его убило. Учитывая то, в каком он был состоянии, Тормод совершил последний в своей жизни героический поступок. Припав на одно колено, Черный стреляет и убивает Тормода.
После этого поворачивается и обращается к мальчику на албанском:
— Пошли со мной.
Но мальчик стоит на месте. Он вообще не реагирует. Как будто он не знает албанского языка. Тогда Черный повторяет, на этот раз по-английски. Мальчик опять не двигается с места. Сбитый с толку, но не растерявшийся Черный хватает мальчишку за шкирку и тащит к машине. Из ноги течет кровь. Он открывает бардачок и с помощью иглы и ниток из аптечки зашивает рану. Потом перебинтовывает ногу и делает большой глоток из фляги, которую извлекает из-под пассажирского сиденья. Слезы мальчика уже высохли. Может, он просто в шоке. Но вряд ли это имеет какое-нибудь значение.
По правде говоря, для Черного всегда было загадкой, когда и почему начинаются и сходят на нет эмоции и как они сменяют одна другую. Он больше не имеет ни малейшего понятия об этом. После смерти души загадок не остается. Существуют только проблемы.
Когда Энвер отвечает на его звонок, Черный кратко докладывает:
— Парень у меня. Полиция обнаружит домик. Я скоро там буду. Я ранен. Будьте готовы свалить.
— Мы готовы, — отвечает Энвер.
Черный вынимает из мобильника симку и разламывает пополам. На ее место он вставляет новую.
Удовлетворенный, он захлопывает дверцу и заводит мотор. Меньше чем через десять минут он должен выехать на дорогу, ведущую к летнему домику.
Глава 21
Медленно, шаг за шагом, Донни углубляется в чашу. Чувство равновесия у него не такое, как прежде, ему труднее удержаться на одной ноге, пока он ставит другую. Он все еще довольно далеко от дороги и не видит необходимости пригибаться к земле, но когда будет близко, он поползет.
Внезапно он останавливается.
Рядом с дорогой, ведущей к строениям, он ловит взглядом отблеск металла где-то рядом с канавой. Он опускается на землю, но не подползает ближе, а ретируется к небольшому возвышению и принимает лежачее положение.
Осторожно, не делая резких движений, он достает из-за пояса бинокль и подносит его к глазам. По привычке, наводя фокус, он не пользуется указательным пальцем, чтобы не сбить прицел.
Шелдон не очень хорошо разбирается в мотоциклах, но узнает логотип на бензобаке. Нет сомнений, это сине-белый кружок «БМВ». А ярко-желтый бензобак означает, что байк принадлежит Ларсу.
Мотоцикл валяется в канаве, руль направлен на главную дорогу, прочь от домика, как будто бы он покидал это место.
Рядом с байком никого нет. Ни трупов, ни раненых. Колеса не вращаются, и мотор как будто бы не работает.
Что бы тут ни происходило, оно уже началось.
Нет, его убьет не крайнее физическое напряжение, а выброс адреналина. У него учащенно бьется сердце и лоб уже покрылся испариной — как бы не простудиться и не схватить пневмонию со смертельным исходом. Прохладный бриз, который только что приносил облегчение, теперь стал нести в себе угрозу.
В бинокль Шелдон изучает местность слева от себя. Лес залит светом, но наконец он ловит мелькание чего-то красного. Некогда это был красный цвет спортивного автомобиля и пылающего заката. Но теперь он поблек и стал более спокойным. Благодаря ему летний домик сливается с окружающим лесом и в то же время выделяется на его фоне.
С того места, где он стоит, окон не видно. Сауны тоже. А там прячутся Моисей и Аарон.
Посчитав, что рядом никого нет, Шелдон двигается быстрее. Он знает, что человеческий глаз настроен прежде всего на движение, а уж потом на цвет. Мы не охотники. Мы по природе своей жертвы, и наши чувства контролируют нас, как жертв. Сержант-инструктор разложил это все по полочкам.
Когда мы замечаем движение, наши зрачки расширяются и мы начинаем пялиться как идиоты. Уровень адреналина зашкаливает. Нас охватывает паника, и мы готовимся бежать, но не убегаем. Почему? Потому что мы бегаем недостаточно быстро, зубы наши ни к черту не годятся, когтей у нас просто нет, плаваем мы из рук вон плохо, карабкаться по стенам не умеем, и вообще, мы даже вполовину не так умны, как наивно полагаем. Мы — пища. Но моя задача превратить вас из пищи в морских пехотинцев! Вы даже не представляете себе, насколько это трудно. Я мог бы свинец превратить в золото! С таким же успехом я мог бы превратить свою жену в Риту Хейворт! Единственная причина, по которой я не пытаюсь воплотить ни одну из этих безнадежных, хотя и потенциально благодарных затей в жизнь, состоит в том, что Корпус морской пехоты США не платит мне за те, другие затеи. Мне платят по двенадцать центов в неделю, чтобы я превратил вас из жертв в хищников! Вам известно, как убегающая испуганная жертва становится хищником? Знаете? Я вам скажу как! Вы должны остановиться. И обернуться. И решиться на убийство. Сейчас я научу вас, как это сделать. Ты, Горовиц, что я только что сказал?
Сэр! Жрать или быть сожранным, сэр!
Он должен преодолеть все это расстояние и найти сауну. И при этом не позволить противнику обнаружить себя. Он проделывал такое раньше. Но это было почти шестьдесят лет назад.
Теперь его глаза пропускают всего четверть того света, что они пропускали в молодости.
Стоит ему упасть — и перелом неизбежен.
Высокие звуки остались только в его воспоминаниях.
Что он вообще еще мог услышать? Шорох листьев под ногами врага? Звук вскидываемого оружия? Птицу, чей испуганный полет подсказал бы ему, что он не один?
Он больше не охотник. Он — мечтатель. Вымирающая особь. Бесполезный старик.
— Я вырядился как куст.
— Ну да, так и есть, Донни. Разве не в этом была задумка?
— Кого я пытаюсь обмануть? Самого себя?
— Ты уверен, что ты был снайпером? А не штабным писарем, как ты сказал Мейбл?
— Почему я тогда умею делать маскхалат?
— Ты умен, Шелдон. Ты мог догадаться.
— Нет, тут нечто большее. Мышечная память. Я знаю, как ходить. Я знаю, как надо выглядеть. И эта память — часть меня. Важно не то, что я помню. Важно то, чего я не помню.
— То есть?
— Я не помню, чтобы я оформлял документы.
— Так или иначе, Шелдон, ты здесь. И что ты с этим собираешься делать? Это единственный животрепещущий вопрос.
— Я пойду искать винтовки.
— Ну, если ты так решил, иди.
На подходе к дому есть небольшая лощина. Под листьями земля влажная и прохладная, по ней легче ступать. Еще светло, северное солнце стоит высоко, и всё — деревья, предметы, фигуры людей — отбрасывает лишь короткие тени.
Лощина представляет собой наносное каменистое русло, образованное ледником или рекой миллионы лет назад. Это полезная информация, так как из нее следует, что дальше лощина разделяется на два рукава. Сауна никогда не будет стоять в месте, где собираются паводковые воды. Значит, она не здесь и не по ту сторону от хозяйственных построек. Она находится на возвышенности. Там, где сухо. Выше, за домом.
Я сделаю крюк побольше.
Более молодой человек, возможно, избрал бы путь, лежащий ближе к дому, к которому он теперь подходит по лесу с левой стороны за сотню метров. Более молодой человек, наверное, так беспокоился бы за Рею, что бросился бы на ее защиту безоружным. Но Шелдон давно не молод. Ему не побороть никого в схватке. Ему с трудом удалось разрезать ножом брезентовую сумку.
Когда мы всматриваемся в лесную чащу в поисках источника звуков, мы ищем пробелы между деревьями. Мы смотрим туда, где пробивается свет. Где голубое небо или серебристо-серые облака просвечивают сквозь ветви. Глаза ищут свет, как бы пытаясь вывести нас из темноты дикого леса.
Итак, Шелдон движется среди теней. Он припадает к стволам деревьев. Лежит, притаившись, на земле по несколько минут, сливаясь с лесной подстилкой. Чтобы сохранить равновесие, он опирается на колени и локти, потому что грудь больше не может долго удерживать на земле слабое тело.
Сколько времени прошло?
Примерно час. Сорок минут он потратил на то, чтобы сделать маскировку, и еще двадцать минут он идет. Так ли это? Кажется, что прошло намного больше.
Он бы тут замерз, если бы под брезентовой сумкой не было так жарко. Он должен был надеть перчатки. Ему всегда это внушали. Кожаные — лучше всего. Автогонщики и жокеи всегда надевают перчатки, чтобы они впитывали пот, который мешает удержать поводья и руль. Сталевары и кузнецы тоже носят их. А также садовники и скалолазы.
Такие нежные руки, — прошептала ему однажды Мейбл.
Больше не нежные. Теперь они покрыты мозолями и шрамами. Они кровоточат, и они одиноки. Нынче они редко составляют друг другу компанию. Они стали безразличными. Да и поводов хлопать у них почти не осталось.
Большинство ребят в его подразделении имели привычку отрезать от перчатки указательный палец и надевать его отдельно. Правда, так можно было потерять его и палец бы мерз — такое иногда случалось. Все они понимали, как важно носить перчатки. Это был наилучший способ сохранить тепло и гибкость рук. Солдаты берегли руки, как хирурги. По той же причине скрипач или пианист ни за что не схватится за горячую кастрюлю, стоящую на плите.
Ребята снимали кожаный напальчник непосредственно перед стрельбой.
Шелдон оглядывается назад. Он впечатлен тем, какое расстояние ему удалось пройти. Все-таки то, как человек одет, влияет на его возможности. Солдат в форме кажется выше ростом. Белый халат придает веса словам врача. А снайпер подбирается тихо. И незаметно. Всё ближе.
Красный дом движется, как солнце вдоль горизонта. Он выследил его на фоне небесных пустот леса. И теперь он приближается с краю по правой стороне. Дом больше размером, чем ожидал Шелдон. Он всегда представлял его себе хибаркой с единственной комнатой, грубо срубленной из сосны, с крутой крышей. Этакий сарай или собачья будка посреди пустынной тундры, которая не оттаивает даже летом.
В реальности он оказался больше. Шелдон прикидывает, что дом, должно быть, одноэтажный, с двумя спальнями и чердаком. Метров сто двадцать. Он слегка приподнят над землей — скорее всего, это сделано, чтобы уберечь дом от зимнего снега и весенних вод, — так что под ним можно проползти.
К входной двери ведут две ступеньки. Шелдон стоит слишком далеко и не может разглядеть следы, но и так нет нужды проверять. Люцифер возвращался к «тойоте» из леса, а следы господ Яблока и Лесоруба шли только в одном направлении. Больше идти им было некуда. Они находились внутри. Перевернутый байк в овраге свидетельствовал о том, что Рея и Ларс тоже здесь.
Чуть дальше — что это? Он всматривается в бинокль. Прямые углы, ровные линии… Это точно дело рук человека. Какое-то строение метрах в ста от дома. Шелдон осторожно ступает меж кустиков черники и упавших березовых веток. Обходит дохлого барсука и благодарит Бога, что рядом нет ворон, которые карканьем выдали бы его присутствие.
Да, вот она, сауна, которую он себе представлял. В ней с легкостью поместятся полдюжины человек и там можно сушить дрова. Внутри есть бадья с холодной водой, которую плещут на горячие камни для пара. Здесь белокожие тела разогреваются до красноты, как щеки проститутки после хорошего перепихона.
Шелдон подступает к сауне сзади, чтобы его не было видно из дома. Он впервые выпрямляется в полный рост и чувствует, как спину пронзает острая боль.
Дверь находится с противоположной стороны и смотрит на дом. Но в задней стене есть маленькое оконце, в которое можно заглянуть.
Внутри темно, но что-то разглядеть можно. В двери вырезано круглое окошко, через которое проникает достаточно света, чтобы он мог рассмотреть, что находится в сауне. Вдоль трех стен стоят лавки. Хотя очаг не горит, Шелдон чувствует запах дров. Этот запах напоминает ему о забавах молодости. Ощущение наплывает, как непрошеный гость. Он тут же делает попытку подавить его, но от воспоминаний, вызванных запахами, отделаться трудно.
Будут ли люди хранить оружие в таком месте? Точно не будут. Патроны, конечно, не вспыхнут при температуре парилки, иначе на Ближнем Востоке не было бы оружия. Но чувствительное дерево может деформироваться, а металл — расшириться, отчего нарушится точность настроенного инструмента.
Тогда где же винтовки?
Еще некоторое время Шелдон продолжает смотреть в заднее оконце, но в голову ему так ничего и не приходит.
— Как дела?
— Билл?
— Я.
— Не могу найти винтовки.
— А где ты искал?
— Ну, смотрю тут в окно.
— Да, ты хорошо поискал. Можно сворачиваться.
— Ну ладно, умник, что ты предлагаешь?
— На самом-то деле, предлагаешь ты. Если в сауне слишком жарко, значит, они не в сауне.
— То есть они вне сауны.
Они там, где дрова!
Шелдон идет налево и выглядывает из-за угла. Он видит дом, но уверен, что из дома его не видно. И там, как и сказал Билл, есть второй сарайчик. Без окон. Метра два с половиной в высоту, меньше двух метров в ширину и метр в глубину. Скорее шкаф, чем сарай. В этих краях, если учесть, что это не ферма, небольшие строения можно принять за что угодно, только не за постройку для хранения инструментов и дров. Это абсолютно неприметное место, которое не привлечет ничьего внимания.
Тут хорошо прятать оружие, заключает Шелдон. Там может быть холодно, но риск, что оружие будет украдено, гораздо меньше, чем если хранить его в доме. Всегда есть риск несчастного случая. Вот почему Шелдон, вернувшись после Кореи, не держал в доме оружия. Не считая древнего пиратского пистолета, с которым Саул играл в антикварной лавке.
А у Билла был списанный мушкет, и когда эти двое затевали свои игрища, работать становилось невозможно.
На двери сараюшки висит старомодный замок, прикрытый красным резиновым кожухом. Очень кстати замок оказывается открытым. Его скоба лишь вставлена, но не заперта на ключ. Едва ли имеет смысл гадать, почему это так. Ему надо попасть внутрь. Одна надежда, что никто не залез туда раньше него и не забрал то, что ему так нужно.
Дверные петли расположены справа — значит, она открывается в сторону дома. Внутри темно, тепло и так тесно, что впервые за день Шелдон начинает ощущать собственный запах. Его тело воняет, он испачкан землей и грибами, покрыт пометом птиц и червей. Он весь, каждая его часть сливается с почвой — кроме голубых глаз, которые улавливают узкие лучи света, проникающие сквозь щели в крыше.
Он видит грабли и три разнокалиберные лопаты. Застывшую от долгого забвения кисть для краски, моток веревки, некогда надежной, но слишком долго провисевшей рядом с канистрой, полной бензина. Есть еще мишени и рыболовные снасти. На полке над ним торчит кожаный футляр в половину длины винтовки.
Шелдон тянется за футляром, старается ничего не задеть, снимая его. Он тяжелее, чем кажется. Или, может, просто Шелдон слишком ослаб.
Он хочет поскорее уйти отсюда, но понимает, что ружье без патронов — вещь бесполезная. Если его тут застукают, он погибнет без боя. Но, с другой стороны, выходить только для того, чтобы собрать винтовку и потом вернуться обратно, еще более рискованно. Все нужно сделать на месте.
Осторожно, чтобы ничего не уронить, Шелдон кладет футляр на пыльный пол, прислушиваясь к звукам снаружи. Футляр старый, с кодовым замком, открыть который можно, набрав с помощью колесиков три цифры. В 1960-е годы был принят код 007, в честь Джеймса Бонда. Шелдон набирает его, но мимо. Производители обычно ставят код из трех нулей, но эта комбинация также на срабатывает.
— На это можно убить весь день, — замечает Билл.
Почему рядом всегда Билл? Почему не Мейбл?
Или не Саул? Не Марио? Или не кто-нибудь, кого Шелдон встретил на шоссе? И почему он вечно одет, как тот пьяный ирландский сосед-ростовщик?
— Я думал, он тебе дорог.
— Был дорог, и мне его не хватает. Вот поэтому мне и не нравится, что ты вырядился, как он. Ты там закончил кусты жечь? Хочешь стать ирландцем?
— Давненько мы не беседовали. Я скучаю по нашим разговорам.
— Я ничего нового тебе не скажу. И если кто-то и должен кое-что объяснить, так это ты. Так что отвали, я занят.
Шелдон молча переворачивает футляр петлями к себе и просовывает лезвие ножа под одну из них. Потом подкладывает под лезвие камешек, создав тем самым точку опоры, с силой надавливает на рукоять и успешно срывает петлю.
Он проделывает то же самое со второй петлей, та поддается без сопротивления.
Ему хочется посмотреть на часы.
Понимая, что крышка может заскрипеть, он приподнимает ее. К его удивлению, в футляре только одно ружье.
— Ты кто — Моисей или Аарон? Ущербный или тот брат, который добрался до земли обетованной?
Шелдон достает винтовку из футляра, ощущая ее вес. Он не держал в руках оружия несколько десятилетий. И не собирался впредь. Но вот, одетый в импровизированный маскхалат, сидя в пыльном сарайчике, он явственно ощущает себя тем, кем некогда был.
Это седьмая модель ремингтона калибра 25 миллиметров, который не слишком хорош для особо точной стрельбы, как считает Донни. Патроны, по идее, должны храниться отдельно, но Ларс, очевидно, счел место схрона и наличие замка на футляре достаточно надежными. Шелдон находит пять патронов калибра 0,308 для винчестера, которые на вид и на ощупь кажутся знакомыми, потому что они примерно того же размера, что натовские патроны 7,62 миллиметра. Они похожи на те бутылочной формы бесшляпочные патроны, которые он выпускал — по триста штук в сутки — на Нью-Ривер.
Однако ремингтон — это однозарядное ружье со скользящим затвором. Именно такое, скорее всего, приобретут отец и сын. Ничего экстраординарного. Просто доброе ружье с ореховым прикладом и прицелом от «Бауш энд Ломб» для охоты на оленя.
Донни собирает ружье, открывает затвор и отводит его назад. Он хорошо смазан и движется мягко. Шелдон пальцем проверяет патронник и, убедившись, что патрона там нет, заряжает винтовку, нажимает затвор, твердо, но спокойно.
Поставив ружье на предохранитель, он берет оставшиеся четыре патрона и три из них кладет в нагрудный карман пиджака под маскхалатом. Четвертый засовывает за правое ухо.
Шелдон в последний раз осматривается в поисках пропущенных зацепок или второго ружья. Бумажные мишени, манки для уток, пара снегоступов, лыжи, непонятные бечевки с разноцветными концами, свисающие с крючка, пустой тубус, в котором, возможно, переносили архитекторские чертежи, и две старые теннисные ракетки.
Он раздумывает, стоит ли сложить и убрать на место футляр, и решает, что эти несколько секунд не будут потрачены впустую. Он не привычен к подобным кризисным моментам, не понимает, как надо действовать в ситуации с заложниками. Будучи снайпером, он работал один или с наводчиком. После выброски он должен был добраться до места назначения — это время в задании, как правило, не учитывалось, — и занять позицию. Он не носился туда-сюда, словно ужаленный, как это ему приходится делать сейчас.
Теперь, когда Донни замаскировался и вооружился, к нему возвращается самообладание. Он больше не потеет, в пояснице перестает стрелять. И даже движения рук становятся более свободными.
И в этот момент цель операции меняется.
Выйдя из сарайчика, он замечает две фигуры, направляющиеся к входной двери дома со стороны хозпостроек.
Одна фигура высокая, другая — маленькая. Высокий, похоже, тащит или тянет маленького. До них через кусты и деревья больше ста пятидесяти метров.
Когда он последний раз пил воду? Могло это быть утром? Нет, он пил, когда они ехали в грузовике охотников.
Не разгибая спины, он скользит по тропинке к дому. Угол плохой. Ужасный. Он движется перпендикулярно своей потенциальной цели, давая ей возможность засечь его движение. Они сходятся по одной и той же кривой. Донни находится ближе к дому и может оказаться там раньше. Но у него не будет времени сориентироваться. И он окажется без прикрытия. К тому же он не имеет понятия о том, что представляют собой те двое.
Но тут он получает неожиданный подарок. От границ Лапландии налетает арктический бриз, неся с собой запахи можжевельника. Деревья вокруг него начинают качаться и шелестеть — это в данный момент очень кстати.
В полусотне метров от дома слой почвы тоньше, и Шелдон понимает: всё, пора. Он падает на живот и перекатывается влево от тропы, где почвы совсем нет и земля не так утрамбована, как на тропе. Он затаился и поправляет свой маскхалат.
Определив направление ветра и угол падения солнечных лучей, он занимает позицию, готовит винтовку к стрельбе и проверяет прицел.
Он бы сейчас не отказался от наводчика. Хэнк, который так и не научился хорошо стрелять, был назначен в наблюдение, где неожиданно проявил большие способности. Отчасти потому, что был добродушным легковером, который делал, что ему велели, а отчасти потому, что, в отличие от Марио, ему не хватало ума подвергать сомнению то, что он делал.
Хэнк отлично мог определить дистанцию и подсказать параметры выстрела. И, несмотря на свою придурковатость, когда начиналась работа, он молчал как рыба.
Но Хэнка здесь нет, и Донни должен сам рассчитать выстрел.
Высокий, ничем не примечательный мужчина в черной кожаной куртке. Он несет винтовку рычажного действия, держа ее по центру тяжести, непосредственно перед ствольной коробкой.
Маленький — это Пол.
Шелдон зажмуривается. Он жмурится так сильно, что в глазах начинают вспыхивать яркие пятна. Он пытается перезагрузить свой мозг.
Он мигает раз, другой, чтобы уж наверняка убедиться в том, что да, мальчик все еще там.
Теперь у него есть выбор, но в любом случае он проиграет. Если он выстрелит в незнакомца и каким-то образом выманит Пола в чашу, он может спрятать его под своим маскхалатом и дожидаться полицию. Но, сделав это, он подставит Рею и Ларса. Те, кто находится сейчас с ними в доме, услышат выстрел. Потом они обнаружат тело. И месть не заставит себя ждать.
Шелдон наводит прицел на Пола и разглядывает его. Мальчик плакал — у него красное припухшее лицо. Веллингтоны весело синеют на фоне пожелтевшей летней травы, растущей вокруг хозпостроек. Шапки с рогами нет. А звезда Давида больше похожа на мишень или провокацию, чем на шуточный жест неповиновения.
Он явно не желает идти со своим попутчиком, и на его лице впервые читается гнев. Парень уже на грани. Ему все еще не сказали, что его матери больше нет в живых.
О судьбе охотников Шелдон боится даже подумать.
Выстрелить становится легче. Они движутся прямо на него. В направлении дома. Донни снимает предохранитель и наводит прицел между глаз мужчины. В нем не чувствуется злости. Он шагает молча и его, кажется, не расстраивает то, что Пол отказывается идти. Он просто тащит мальчишку за собой.
Теперь Донни целится мужчине в грудь. Оружие ему незнакомо. Он не знает, как реагирует патрон, насколько хорошо откалиброван прицел, почищен ли ствол.
Лучшее, что он может сделать, это выстрелить в центр массы и надеяться на то, что рука не дрогнет, что винтовка сработает и Пол прибежит, когда он его позовет.
Или, если выражаться точнее, что Пол побежит в сторону чащи, когда услышит, что его зовут чужим ему именем на чужом языке, и это делает человек с ружьем, одетый как куст.
Это неудачный план.
Донни делает вдох. Второй вдох не такой глубокий, как первый, и он выдыхает наполовину. Хэнка рядом нет, и он сам еще раз проверяет направление ветра. Оценивает походку цели, расстояние до нее и время, за которое пуля преодолеет расстояние, чтобы попасть прямо в сердце в нужную фазу шага.
Шелдон занял позицию. Время начинает казаться вечностью.
Уверенность в себе возвращается к нему.
Наступает момент спокойствия.
И в этот самый момент Донни нажимает на спусковой крючок.
Глава 22
Ты ведешь машину, как старая бабка, — говорит Сигрид Петтеру. Они проезжают заправку «Эссо» в центре Конгсвингера.
Потирая лоб, она смотрит на дорогу и мечтает о том, чтобы та быстрее улетала из-под колес «вольво».
По радио уже сообщили о выстрелах на второстепенной дороге около бензоколонки.
— Я не могу ехать быстрее. Я вообще так быстро не езжу.
— Тебе надо еще раз пройти тест на вождение.
— Нас по второму разу не тестируют.
— Я отражу это в своем рапорте.
— Не надо грубить.
— Я волнуюсь.
— По крайней мере, ты оказалась права, — говорит Петтер.
Это неуместное замечание успокоиться не помогает. Патрульные прибыли на дорогу пять минут назад. В перестрелке выжил только один, раненный в спину. Он находится в критическом состоянии, и его переправляют на вертолете в Осло. В полицейский участок позвонила проезжавшая мимо женщина, как только пальба прекратилась. Через несколько минут об этом доложили Сигрид.
Пока Петтер маневрирует в потоке машин, Сигрид достает из-под сиденья голубоватую бутылку воды «Фаррис» и делает большой глоток. Она представляет себе летний домик и окружающую его местность — грунтовую дорогу, ведущую к тропинке до дома, и простирающееся перед ним поле.
— Как они прибудут? — спрашивает она Петтера.
— Спецназ?
— Они прибудут по воздуху?
— Они долетели на вертолете так близко, насколько это было возможно, чтобы преступники не услышали шум мотора. Дальше пойдут пешком.
Петтер не смотрит на нее. Его глаза, не отрываясь, следят за дорогой: здесь могут вылетать мячи, за которыми неизбежно выбегут дети, а водители машин, проезжающих перекрестки, как идиоты, строчат эсэмэски.
— Скоро, — говорит он.
Раздается щелчок — отдаленный, но безошибочно узнаваемый. Это звук осечки. Черный знает этот звук. Если его повторять, то можно повредить ударник, так что он не злоупотребляет этим. За свою долгую жизнь он слышал этот щелчок бесчисленное множество раз.
Звук раздался из леса. И это не был сухой треск хрустнувшей ветки. Этот звук отличается от шелеста листвы или приглушенного стука кости. Он четкий. Металлический. Резкий. Он имеет отношение к войне.
Черный замирает, крепко держа мальчонку за руку. Нет, он не парализован страхом. Он пытается определить источник звука. Ему хотелось бы услышать его еще раз, чтобы понять, откуда он исходит.
От красного дома, нелепо выделяющегося на фоне пыльных тонов позднего лета, его отделяют каких-нибудь двадцать метров.
Вслед за ним останавливается мальчишка. Он хмурится и пытается вырваться из рук своего похитителя, но больше из самозащиты. Так может реагировать собака, которая вдруг набрасывается на свою цепь и начинает ее грызть, издавая глухое рычание. Мальчик не понимает, почему они остановились. Он просто хочет освободиться и убежать.
Есть звуки, и необязательно произнесенные вслух, которые означают конец всему. Когда вам сообщают, что все потеряно навсегда. Например, сообщение о смерти близких.
Звук ударника, бьющего по патрону, который не выстреливает, относится к таким звукам.
Это звук потерянной надежды. Конец истории.
Может быть, для кого-то осечка — это всего лишь резкий щелчок. Но для Шелдона она громче, чем монета, падающая в пустой бассейн в ночной тишине. Она раздается на километры вокруг. Она сообщает всему миру о его местонахождении. О том, что он делает и почему.
Его цель прекращает движение. Он явно услышал осечку. Мальчику этот звук незнаком и не беспокоит его, но мужчина понимает, что произошло. Это написано у него на лице. Ошибки быть не может. Он повернулся и всматривается в лес.
Донни затихает. Он должен замереть. Так выживает снайпер, когда отступление невозможно. Он полагается на безопасность своей позиции. Доверяется маскировке и ждет, когда цель уйдет. Чертово ружье, похоже, неисправно.
Моисей. Ущербный сын.
Но Шелдон поступает иначе.
Как можно тише он поднимает затвор и отодвигает его назад, пока не чувствует сопротивление патрона. Если он дернет слишком сильно, круглый патрон выскочит, полетит направо от него и с шумом упадет в листву. Поэтому он левой рукой тянется через казенную часть и отпускает затвор назад, пока не появляется кончик патрона.
Отложив невыстреливший патрон в сторону, он достает тот, что у него за ухом, и перезаряжает ружье. Затвор вперед, потом вниз. Предохранитель снят. Он снова прицеливается и — без паузы, не задумываясь и не сомневаясь, — стреляет.
Опять. Отчетливый звук холостого выстрела. Как странно это слышать. Что это? Кто-то с ним играет? Черный смотрит в сторону леса. Теперь он всматривается дальше. Приглядывается к деревьям, где мог засесть снайпер. К корням деревьев. Он уже делал так раньше. Но ничего не видит. Никого там нет.
Но он не слышит и пения птиц.
— Так, идем дальше, — говорит он мальчику по-английски и тянет его за собой. Они приближаются к двум ступенькам у входа. Он не стучит в дверь. Поворачивает ручку и шагает в темную прихожую. По мере того как его глаза привыкают к сумеркам, он различает знакомое лицо.
— Мы не одни, — сообщает он Энверу.
Затем входит в дом, ведя за собой мальчика, и прикрывает дверь.
Все это происходит стремительно, и Шелдон вновь остается один. Все, кто ему дорог, сейчас находятся внутри этого красного дома. А он, беспомощный старый еврей, лежит, весь в дерьме, на жесткой христианской земле, которая про него ничего не ведает, не знает, о чем он мечтает, не слышала его песен.
У него больше нет ничего. Ни цели. Ни задачи, которую он должен выполнить.
Под самый конец я оказался сбит с толку.
Он вспоминает холодные воды Желтого моря — на его поверхности плавали золотые песчинки пустыни Гоби. Он проникает на лодку и гребет с решительностью эллинского воина. Он помнит настрой служить высшей цели. Потом он познал успех и спокойную славу человека, которому его страна вручает медаль. А нынче, этим летним днем, он доставил своих близких прямо в лапы убийц. Свою внучку и ее достойного мужа. Свою соседку. Ее сына.
Каким же я был идиотом, решив, что я все могу. Что смогу бросить вызов судьбе. Ведь именно это убило моего сына. Я считал себя человеком действия. Но я обычный мечтатель.
Он вспоминает анекдот. Правоверный еврей умирает и предстает перед Господом. Еврей обращается к Нему: «Можно мне задать вопрос?» Господь видит смущение на его лице и проявляет милосердие: «Можешь». И мужчина интересуется: «А это правда, что евреи — избранный Тобой народ?» Господь обдумывает вопрос. «Да, — отвечает Он. — Это так». Мужчина кивает, разводит руками и просит: «А не мог бы Ты избрать кого-нибудь другого?»
Я глупый старик, и от меня один вред. Мне так жаль. Я не могу выразить, как мне жаль.
— Ты это со мной разговариваешь? — спрашивает Билл.
— С какой стати мне с тобой разговаривать?
— Мне так показалось.
— Я не желаю говорить с тобой. Мне нечего тебе сказать. Перед тобой я ни в чем не виноват.
— Хорошо.
— И мне не нравится идея о том, что Бог — ирландец.
— Ты не первый так говоришь.
— Я не хочу умирать в одиночестве.
— Ты и не умрешь.
Встав на четвереньки, Шелдон ползет вдоль тропинки, ведущей от сауны к дому. На углу здания он поднимается в полный рост. Раздавленный и спекшийся, он тащится к двери, за которой исчезли Пол и его похититель. В правой руке он зажимает нож. Ему не страшно. Он знает, что за дверью его ожидает смерть. Там, внутри, вся его семья. Там прекрасная женщина, во чреве которой еще вчера зрело дитя — продолжение его рода. В тот день он сидел, как король на троне в своем северном царстве, и трепался о давно минувших днях.
Это называется деменция, Шелдон, сказала ему Мейбл.
Так и есть, моя королева. Так и есть.
Приблизившись к двери, Шелдон Горовиц выпрямляется во весь рост. Он делает глубокий вдох, поворачивает ручку и распахивает дверь.
— Заворачивай, заворачивай, — командует Сигрид. Голова у нее горит, но больше не пульсирует.
Петтер выкручивает руль. «Вольво» выезжает на ту самую дорогу, на которой несколько часов назад охотники на своем грузовичке торговались с Шелдоном по поводу лески и иголки.
— Выключи фары, — шепчет Сигрид, как будто кто-то может расслышать ее голос за гудением дизельного двигателя. — Встань за тем «мерседесом».
Она сообщает о своем местонахождении по рации. Все в участке сейчас ждут от нее новостей. Но ничего пока не происходит. И ей нечего добавить.
— Хочешь, чтобы я заблокировал дорогу?
— Я хочу, чтобы ты проехал как можно дальше по грунтовке.
— Но это же не внедорожник.
— Нет. С какой стати ему быть внедорожником?
— Мне кажется, нам не стоит соваться туда первыми, — говорит Петтер.
— А я думаю, кто-то должен там сейчас появиться, — отвечает Сигрид. — Поезжай, пока не кончится дорога или не развалится машина. Это приказ.
Петтер въезжает на дорожку, по которой Ларс ездит только на мотоцикле. Включает первую передачу. Машину трясет и подбрасывает. Он катит, как по гоночной трассе. Они прорываются вперед, и им обоим приходит в голову одна и та же мысль. Сигрид озвучивает ее первой:
— Если в этой машине сработают гребаные подушки безопасности, я устрою вторжение в Швецию. Помоги мне, Господи!
— Вон там. Она выходит на поле, которое мы видели на карте.
— Я не вижу никакого движения. Ты что-нибудь видишь? Где все?
— Сейчас действует режим радиомолчания. Я не могу проехать между этих деревьев.
— Тогда стоп. Дальше мы идем пешком.
В доме темно. Шелдон держит левой рукой сломанное ружье так, как это делает английский лорд, возвращаясь с утиной охоты. В правой руке у него нож. В прихожей он видит обувь, шарфы, шапки, куртки, удочки и коробку со свечами. Больше он ничего различить не может. Да это и не имеет значения. Физическое окружение его больше не волнует. Теперь он не Донни, молодой солдат с зеленых полей западного Массачусетса, который станет потом нью-йоркцем, мужем и никчемным отцом. Он больше не тот, кем был во время войны. Не тот, кто боролся за свое место под солнцем. Нет, оказавшись тут, в этом идиотском облачении, он становится тем, кем должен быть.
Глядя в темноту, он говорит громко и отчетливо, так, чтобы ни у кого из присутствующих не оставалось ни малейших сомнений насчет сказанного:
— Я — генерал Генрик Горовиц Ибсен. Вы окружены.
Глава 23
Когда объявляется генерал, Гждон проверяет пистолет Черного в гостиной, которая соединена с прихожей и находится около кухни. Бурима бросает в жар, и он хватается за нож. Энвер изумленно смотрит в кухню.
Он обращается к Черному по-албански:
— Ты ведь сказал, что вы были не одни.
— Так и было.
Энвер ухмыляется. У Черного в руках ружье, с которым он пришел. У Энвера на поясе нож.
— Мне заняться им? — спрашивает Черный.
— Останься с девицей. Она может нам понадобиться для переговоров.
— Что нам делать?
— Я с сыном отправлюсь в Швецию. А вы здесь сделаете все, чтобы мне это удалось.
Пот заливает Буриму глаза, и, когда Энвер произносит эти слова, ему хочется, как ребенку, уткнуться в шею Адриане, разрыдаться, отказаться от каждого своего слова, от всех глупостей, которые он говорил. Сказать ей, что она была права во всем. Признаться, что все пошло не так, что он, дурак, воспринимал все как игру. Это казалось ему абсурдом, сном, бредом. Он барахтался в мире, где все было ему чуждо, и не ожидал, что нечто подобное вообще произойдет. Что все это зайдет так далеко.
— Я пойду, — вызывается Бурим, и прежде чем кто-нибудь из троих успевает что-то сказать, устремляется в кухню.
В пять шагов он огибает кухонный стол и, увидев Шелдона, падает перед ним на колени, умоляя по-английски:
— Отпустите меня. Пожалуйста. Отпустите меня.
— Сдайте оружие.
— Я не вооружен.
— С девушкой все в порядке?
— Да. Пожалуйста, отпустите меня.
— Где она?
— Тсс. Она в гостиной. Пожалуйста. Отпустите меня. Пожалуйста.
— Хорошо. — Шелдон отступает в сторону.
Бурим вскакивает и оглядывается. Он долго пробыл в доме. Его глаза привыкли к темноте. Он видит не только тени. Он видит, как зло собственной персоной выходит из-за угла. Сейчас Бурим побежит домой. И попросит прощения за все содеянное.
Он распахивает дверь, соскакивает со ступенек и бежит. Он вкладывает в бегство всю энергию своего молодого тела. Им движет страх и необходимость. Он достигает дорожки, где накануне они догнали мотоцикл, на котором пытались сбежать норвежец и американка. Он отправится в центр города и сдастся полиции. Он будет просить о пощаде, он примет наказание и постарается стать таким человеком, каким его всегда хотела видеть Адриана.
Выйдя из машины, Сигрид и Петтер направляются к дому, и тут перед ними возникает молодой человек с огромным ножом. Он быстро бежит прямо на них. Сигрид поднимает пистолет и целится.
— Стой, стрелять буду, — кричит она по-норвежски.
Но Бурим не понимает этого языка.
— Стой, стрелять буду, — предупреждает Сигрид во второй раз.
Бурим слишком боится остановиться и продолжает бежать. Он даже не помнит, что в руке у него нож, и ему не приходит в голову бросить его. Он не осознает, где находится.
Сигрид стреляет, и Бурим падает.
Услышав выстрел, Шелдон смотрит на часы. Двадцать минут третьего. Для него это ровным счетом ничего не значит. Как это может повлиять на происходящее?
Однажды такое уже было. Саулу было двенадцать лет, стояло лето, они находились в Нью-Йорке. На Юнион-сквер ожидалось какое-то важное событие — не для него, а для Саула и его друзей. И Саул должен был немедленно выйти за дверь.
Но Шелдон что-то замечает краем глаза. Тогда тоже было примерно двадцать минут третьего, Мейбл начинала накрывать стол к обеду, Шелдон начищал всю черную обувь в доме.
И вдруг он мельком увидел на руке Саула часы. Сейчас, поворачивая за угол и направляясь в гостиную, где сидит его внучка, он вспоминает эту сцену. Он не может сказать, что это были за часы, что очень странно — ведь он устроил такой скандал из-за них.
— Эй, ты куда собрался? — спросил тогда Шелдон.
Саул затормозил и принялся со скоростью пулеметной очереди объяснять, так что Шелдон сразу понял, что он говорит правду, и тут же пожалел, что спросил его. На самом деле, какая разница?
Прерывая Саула, он поднял руку и сказал:
— Да-да. Хорошо. Что у тебя на руке?
Саул опустил глаза, словно это был вопрос с подвохом.
— Часы.
— Мои часы.
— Ну да. Что из того? Я их все время ношу.
— Но ты все еще должен спросить разрешения.
— Да я все время их ношу! Я всегда спрашиваю разрешения, и ты всегда говоришь да. Можно я пойду?
— Не так шустро. Спрашивать — это важно. Каждый вечер после ужина я спрашиваю у мамы, хочет ли она, чтобы я помыл посуду. Она всегда отвечает утвердительно, и тем не менее я спрашиваю снова и снова.
— Это не то же самое.
— Почему?
— Ну, не знаю. Просто не то же самое. Можно мне идти?
Саул. Мой сын. Он переиграл меня в двенадцать лет. Но не смог переиграть, когда это было действительно нужно.
Шелдон входит в гостиную.
Они его уже ждут. Их трое: тот, которого он не смог пристрелить, второго он никогда не видел, и еще один, из «мерседеса». Шелдон смотрит на их обувь.
— Вы окружены, — говорит Шелдон. — Сдавайтесь. И отпустите женщину, мужчину и ребенка. Может быть, вам сохранят жизнь.
Энвер внимательно всматривается ему в лицо. Шелдон чувствует, как он пытается пересмотреть его. Связать воедино то, что находится под слоями материи, ветками и этой бравадой. Шелдону почти удается преуспеть в своем спектакле, но его выдает возраст.
— Я знаю тебя, — заявляет Энвер.
— А я знал тебя еще до твоего рождения.
И в этот момент Рея все поняла. Шелдон стоит прямо перед ней, но она не узнает его. Она не узнала бы его, будь он в халате, тапочках и с кружкой в руках, потому что этого не может быть.
— Дед?
— Рея, — отвечает он.
Ларса тут нет, и Шелдон опасается, что его нет в живых.
Мальчик, целый и невредимый, стоит в углу. Он, как всегда, слишком подавлен происходящим, чтобы разговаривать.
— Дедуля! — вопит она.
Энвер сейчас заберет ребенка и уйдет. Но перед этим он собирается убить старика.
Он наступает на Шелдона, тот отходит назад. Роняет ружье и в последней отчаянной попытке защититься поднимает нож. Он намерен вонзить его в горло Энверу, но ему не хватает сил. С возрастом не поспоришь. Он доблестно бросается на грудь Энвера, но промахивается.
Удар Энвера мощный и умелый. Он вспарывает Шелдону левую сонную артерию и грудную клетку.
Шелдон хватается правой рукой за горло, шатаясь, делает несколько шагов на кухню и падает на стол.
Сделав дело, Энвер загребает парня, который теперь начинает орать, перехватывает его поперек тела и выходит в заднюю дверь. Мальчишка оглушительно вопит, и Энвер по-албански приказывает ему заткнуться. Но мальчик не успокаивается.
Его вопли не стихают, когда Энвер волочет его к припаркованному за домом квадроциклу, на котором они отправятся в Швецию.
Крики продолжаются, когда рядом мелькает мужчина в черной форме с маленькой черной винтовкой.
Он продолжает вопить, когда видит, как Ларс Бьорнссон с луком в руках, словно призрак, возникает из-за большой березы и выпускает карбоновую стрелу прямо в сердце чудовищу.
Шелдон больше не может определить, что он видит и слышит.
Жизнь, в чем бы она ни заключалась, покидает его. Может быть, это Рея вскочила и выпихнула в окно того типа, которого Шелдон не смог пристрелить. И каким-то образом, пока она это проделывала, его грудь разорвали беззвучные выстрелы, прилетевшие в окно. Не проронив ни единого звука, мужчина, спокойно стоявший в углу с пистолетом, замертво упал на пол.
И может быть, Рея бросилась к нему и, приподняв, потащила к двери, приговаривая: «Дедуля, дедуля».
Может быть, они вместе вывалились из дома, их тела упали на прохладную землю, заливая ее кровью старика.
Но что он точно видел, так это свет — яркий и прекрасный.
Появляется женщина. Она одета в униформу, у нее доброе лицо. Он предполагает, что она медсестра. Он видит снующих вокруг мужчин в темных одеждах. Наверное, это больничные санитары. Медсестра улыбается ему. С таким теплом и любовью улыбаются, когда сообщают хорошую новость.
Наверное, Мейбл уже родила. Все кончилось.
Шелдон протягивает руку и дотрагивается до щеки Сигрид.
— Мой сын. С ним все в порядке? Он хорошо себя чувствует?
— Ваш сын чувствует себя отлично, мистер Горовиц. Все замечательно.
Благодарности
Эта книга писалась в Женеве, Осло и Форналуче в 2008 году. Концовку я придумал за несколько минут до появления на свет моего сына Джулиана в апреле того года.
Я не могу с точностью сказать, какая часть книги написана мной, а какая — самим Шелдоном. Так что я приношу свою благодарность ему за помощь. Хотя это вовсе не значит, что с ним было так уж легко работать…
Я позаимствовал определения слов «нюхач» и «дрыщак» из интервью, данного Куртом Воннегутом журналу «Пари ревью» в 1977 году. Подозреваю, что он был бы счастлив.
Маяк в Палми-до на Инчхоне в Корее был сооружен в 1903 году. К 2006 году он пришел в негодность и был заменен современным. Но малая восьмиметровая колонна до сих пор стоит рядом со своим большим братом.
Примечательно, что эта книжка впервые вышла в свет в Норвегии в 2011 году на норвежском языке, несмотря на то что написал я ее на английском. С тех пор история подвергалась дополнениям и исправлениям. Я считаю английскую версию исчерпывающей.
В 2012 году, на шестьдесят седьмую годовщину окончания Второй мировой войны, норвежское правительство принесло официальные извинения еврейскому народу за действия, причиненные во время оккупации.
Моя особая благодарность Генри Розенблюму и Лорен Вейн за их помощь в редактировании книги.
Выражаю глубочайшую признательность моей жене Камилле, которая помогает мне осуществлять идеи и придает им смысл. И моей дочери. Клара, ты меня вдохновляешь.
notes
Примечания
1
С марта 2003 года в кафетериях Конгресса США френч-фрайз — картошка по-французски — называется фридом-фрайз — картошка а-ля свобода. Таким образом выражалось отношение к Франции в связи с ее позицией по Ираку.
2
В английском переводе «Соляриса», в отличие от русского, героиню зовут не Хари, а Рея.
3
Элвин Брукс Уайт (1899–1985) — американский писатель, журналист, эссеист. Видимо, Рея цитирует его работу «Неге is New York» (1948).
4
Джимми Хоффа — американский профсоюзный деятель, исчезнувший при загадочных обстоятельствах 30 июля 1975 года.
5
СДК — «Силы для Косова», русское наименование KFOR — Kosovo Force.
6
Тетское наступление — общеупотребительное название первого широкомасштабного наступления коммунистических сил во время войны во Вьетнаме в 1968 году.
7
Супруги Чарльз (1907–1978) и Рэй Имз (1912–1988) — американские архитекторы и дизайнеры.
8
Уилли Саттон (1901–1980) — американский грабитель банков.
9
Икабод Крейн — персонаж рассказа американского писателя Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине».
10
Джетлаг (от англ. jet — «реактивный», lag — «задержка») — синдром смены часового пояса. Расстройство сна, которое развивается при быстрой смене часовых поясов при авиаперелете.
11
ШИС — сокращение от Schengen Information System. Закрытая база данных в рамках Шенгенского соглашения, в которую ранее были внесены только физические лица или предметы, находящиеся в розыске, лица, нежелательные на территории одного из государств-участников или пропавшие без вести, информация о поддельных и утерянных документах и информация, связанная с безопасностью границ Шенгенской зоны.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg




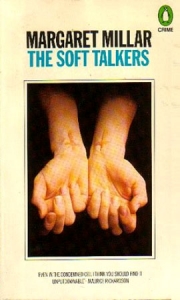


Комментарии к книге «Уроки норвежского», Дерек Б. Миллер
Всего 0 комментариев