Томас Харрис Восхождение Ганнибала
Эта книга — литературный вымысел. Все имена, персонажи, места действия и описываемые эпизоды целиком и полностью являются плодом авторского воображения или же используются в вымышленных обстоятельствах. Какое бы то ни было сходство — как с реальными людьми, ныне живущими или умершими, так и с реальными событиями или местностями — совершенно случайно.
Томас ХаррисПролог
Вход во Дворец памяти в мозгу доктора Ганнибала Лектера погружен во тьму, на двери — замок, его можно найти только на ощупь. Портал открывается в огромные, прекрасно освещенные помещения в стиле раннего барокко, в коридоры и палаты, числом соперничающие с Музеем Топкапи.
Повсюду экспонаты, они размещены просторно и замечательно подсвечены, каждый настроен так, что связанное с ним воспоминание в геометрической профессии ведет к другим воспоминаниям.
Помещения, отведенные самым ранним годам Ганнибала Лектера, отличаются от других архивов тем, что не вполне совершенны. Некоторые сцены статичны, фрагментарны, словно разноцветные аттические черепки, налепленные на бесцветный гипс. Другие палаты полны движения и звуков, огромные змеи борются между собой, извиваются, вздымаются во тьме, порой разрываемой вспышками света. Мольбы и вопли раздаются в некоторых местах, на тех территориях, куда сам Ганнибал ступить не может. Но в коридорах не отдается эхо этих воплей, а если захотеть, можно услышать музыку.
Дворец памяти — конструкция, начатая Ганнибалом давным-давно, еще в годы учения. В годы же заключения он усовершенствовал и расширил дворец, и хранимые в нем сокровища поддерживали узника в те долгие периоды, когда тюремщики лишали его книг.
Здесь, в жаркой тьме его мозга, давайте вместе нащупаем замок. А отыскав его, предпочтем услышать музыку в дворцовых коридорах и, не заглядывая ни направо, ни налево, пройдем прямо в Зал Начала, где коллекция экспонатов гораздо фрагментарнее всех других.
Мы дополним ее тем, что узнали из других источников, отыскали в документах времен войны, в полицейских протоколах, услышали в различных интервью, от судебных медиков, разглядели в безмолвной неподвижности мертвых тел. Недавно обнаруженные письма Роберта Лектера могут оказаться полезными в установлении важных дат жизни Ганнибала, который с легкостью менял эти даты, чтобы ввести в заблуждение полицию и биографов. Наши старания помогут нам проследить, как таящийся в душе зверь перестает быть сосунком и, постепенно взрослея и набирая силу, выходит в мир.
Часть I
Первое, что я понял, Когда настала пора: Время — это эхо Валящего лес топора. Филип Ларкин (1922–1985, английский поэт и романист)1
Ганнибал Лектер Беспощадный (1365–1428) построил замок Лектер за пять лет, используя труд солдат, захваченных в плен во время битвы при Жальгирисе. В тот самый день, как его флаг взвился на верхушках завершенных башен, он собрал всех пленных в огороде и, взобравшись на козлы, чтобы все могли его слышать, заявил пленным, что отпускает их по домам, как обещал. Многие предпочли остаться у него на службе — уж больно харч тут был хороший.
Пять сотен лет спустя Ганнибал Лектер, восьми лет от роду и восьмой носитель этого имени, стоял в огороде рядом со своей маленькой сестренкой Микой, бросая кусочки хлеба черным лебедям, бороздившим черную воду крепостного рва. Мика для большей устойчивости ухватилась за руку брата, и ей никак не удавалось добросить хлеб до воды. Огромный сазан качнул листья водяных лилий, спугнув стайку стрекоз.
Но тут лебедь-самец выбрался из воды на берег и на коротких лапах неуклюже заковылял к детям, угрожающе шипя, словно бросая им вызов. Лебедь знал Ганнибала всю свою жизнь, но все же шел на него, вздымая черные крылья — такие огромные, что они скрывали часть неба.
— О-о-ой, Анниба! — произнесла Мика, укрывшись за ногой брата.
Ганнибал поднял распростертые руки на высоту плеч, как научил отец: размах рук увеличивали ивовые ветви, зажатые в кулаках. Лебедь остановился, оценивая более широкий, чем у него самого, размах крыльев Ганнибала, и отступил к воде — покормиться.
— Мы с тобой всякий день это повторяем, — сказал птице Ганнибал.
Однако сегодня день был далеко не всякий, и мальчик задумался о том, куда можно было бы скрыться лебедям.
От волнения Мика уронила хлеб на сырую землю. Когда Ганнибал наклонился, чтобы помочь ей подобрать хлеб, она радостно, растопыренной, словно звездочка, ладошкой шлепнула ему на нос кусочек глины. Он тоже мазнул глиной кончик ее носа, и они хохотали, рассматривая свое отражение в черной воде рва.
Дети почувствовали, как трижды тяжко вздрогнула земля, и вода во рву пошла рябью, исказив отражавшиеся в ней лица. Над полями прокатился отзвук далеких взрывов. Ганнибал подхватил сестренку и бросился к замку.
Во дворе стоял охотничий фургон с впряженным в него огромным битюгом по имени Цезарь. Берндт — конюх, в своем всегдашнем фартуке, и домашний слуга Лотар укладывали три небольших кофра в ящик под сиденьем кучера. Повар готовился принести ленч.
— Мастер Лектер, мадам просит вас подняться к ней, в ее комнату, — сказал повар.
Ганнибал передал Мику няне и побежал наверх по истоптанным каменным ступеням.
Ганнибал очень любил мамину комнату, полную ароматов, с деревянными панелями, украшенными искусно вырезанными лицами, с расписным потолком: мадам Лектер с одной стороны происходила из рода Сфорца, а с другой — из рода Висконти; она привезла свой будуар из Милана.
Сейчас она волновалась, и ее ясные карие с вишневым отливом глаза вспыхивали красноватыми искрами, отражая свет. Ганнибал держал ларец, а его мать нажала на губы херувима, изображенного на стенной панели, и открылся потайной ящичек. Она забрала из ящичка драгоценности и бросила их в ларец вместе с несколькими связанными в пачку письмами; для остальных писем места не хватило.
Ганнибалу подумалось, что она похожа на портрет ее бабушки — камею, тоже только что упавшую в ларец.
…Облака на расписном потолке. Еще младенцем, когда мама его кормила, он, открывая глаза, видел ее грудь на фоне этих облаков, чувствовал прикосновение краешков ее блузы на своем лице. И кормилица — ее он тоже помнил: золотой крестик сверкал, словно солнечный луч меж этими поразительными облаками; когда кормилица держала его у груди, крестик прижимался к его щеке, и она терла ему щеку, чтобы стереть с кожи след от крестика, прежде чем мадам его заметит.
Но в дверях уже стоял отец с гроссбухами в руках.
— Симонетта, нам пора ехать.
Детское постельное белье было сложено в медную ванночку Мики, и мадам спрятала ларец между простынями. Оглядев комнату, она сняла с подставки на столике небольшую картину — вид Венеции, с минуту смотрела на нее, затем передала ее Ганнибалу.
— Отнеси ее повару. Держи за раму, — сказала она, улыбнувшись ему. — Не смажь то, что на обороте.
Лотар вынес ванночку во двор, к фургону; по двору растерянно бродила Мика, встревоженная необычной суетой вокруг. Ганнибал поднял Мику повыше, и она смогла потрепать Цезаря по морде. Не ограничившись этим, девочка пару раз сжала битюгу нос — может, он подаст голос? Ганнибал набрал горсть зерна и рассыпал во дворе, изобразив букву «М». Тут же налетели голуби, образовав на земле «М» из живых птиц. А Ганнибал пальцем начертил букву «М» на ладошке Мики: скоро ей исполнится три, и он уже отчаялся верить, что она когда-нибудь научится читать. «„М“ — значит „Мика“», — сказал он ей. Она побежала к голубям, радостно смеясь, и они взлетали вокруг нее, хлопая крыльями, а затем, покружившись над башнями замка, уселись на звоннице.
Повар, массивный, в белой поварской одежде, принес ленч. Цезарь скосил на повара глаз и прислушивался к его действиям, насторожив уши: когда Цезарь был жеребенком, повар не раз гнал его с огорода, выкрикивая ругательства и молотя его по заду метлой.
— Я останусь, помогу вам погрузить кухню, — сказал повару учитель Яков.
— Поезжайте с мальчиком, — отозвался тот.
Граф Лектер поднял Мику в фургон. Ганнибал тотчас же обнял сестру. Граф Лектер прижал ладонь к щеке сына. Мальчик удивился, ощутив в руке отца внутреннюю дрожь, и пристально вгляделся в лицо графа.
— Три самолета бомбили грузовую железнодорожную станцию. Полковник Тимко говорит, у нас есть по меньшей мере неделя, если они вообще сюда доберутся, да и тогда бои пойдут у главных дорог. Мы укроемся в охотничьем домике, и все будет хорошо.
Шел второй день операции «Барбаросса» — Гитлер осуществил свой молниеносный бросок на Россию через Восточную Европу.
2
Берндт шел перед фургоном по лесной дороге, следя, чтобы ветви деревьев не хлестали Цезарю морду, отсекая особенно разросшиеся короткой швейцарской алебардой.
Учитель Яков следовал за фургоном на лошади, его седельные сумки были набиты книгами. Ездить верхом он не умел и, проезжая под толстыми ветвями, прижимался к конской шее, обхватив ее обеими руками. Иногда, если дорога поднималась вверх особенно круто, он спешивался и вместе с Лотаром, Берндтом и самим графом Лектером подталкивал фургон. Ветви снова смыкались за ними, скрывая дорогу.
Ганнибал чувствовал запах раздавленной колесами свежей зелени, нежный аромат волос Мики у себя под подбородком — она всю дорогу ехала у него на коленях. Он видел, как высоко над ними пролетели немецкие бомбардировщики. Инверсионные следы самолетов образовали нотный стан, и Ганнибал напел сестренке мелодию, начерченную в небе черными разрывами зенитных снарядов. Мелодия показалась ему не очень приятной.
— Нет, — сказала Мика. — Анниба, пой «Das Mannlein»[1]!
И они вместе запели песенку о загадочном маленьком человечке, который стоит в лесу. Песенку подхватили няня, ехавшая вместе с ними в тряском фургоне, и учитель Яков на своей кобыле, хотя он не любил петь по-немецки.
Ein Mannlein steht im Walde ganz still und stumm, Es hat fon lauter Purpur ein Mantelein um, Sagt, wer mag das Mannlein sein Das da steht im Walde allein Mit dem purporroten Mantelein?..[2]Два часа нелегкой дороги привели их на поляну, укрывшуюся под пологом высоких деревьев.
Охотничий домик Лектеров за три столетия превратился из примитивного укрытия в удобный уединенный дом в лесу, деревянно-кирпичный, с очень крутой крышей, чтобы не залеживался снег. Рядом располагался небольшой амбар с двумя стойлами и жильем для обслуги, а за домом — уборная в викторианском стиле, с резным расписным орнаментом; крыша строения едва виднелась над скрывавшей его живой изгородью.
В фундаменте охотничьего домика все еще можно было видеть камни алтаря, воздвигнутого в темные века людьми, поклонявшимися ужу — «травяной змее». А сейчас Ганнибал мог наблюдать, как травяная змея поспешно покидает эти древние места, когда Лотар принялся обрубать стебли вьющихся растений, мешающих няне открыть окна.
Граф Лектер поглаживал огромного коня, пока тот пил воду — целых полтора галлона — из колодезного ведра.
— Повар упакует кухню к тому времени, как вы вернетесь, Берндт. Цезарь сможет провести эту ночь в своем собственном стойле. А вы с поваром отправитесь сюда, как только займется рассвет, не позже того. Я хочу, чтобы вы к утру были уже далеко от замка.
Владис Грутас вошел во двор замка Лектер, изобразив на лице такое приятное выражение, на какое только был способен; входя, он обвел окна внимательным взглядом. Помахал рукой и крикнул «Алло!».
Грутас был худощав, с грязноватыми светлыми волосами, в штатской одежде; глаза у него были такими бледно-голубыми, что казались просто кружочками пустого неба. Он снова крикнул: «Алло, там, в доме!» Ответа не последовало, и он прошел внутрь через черный ход. На полу в кухне он обнаружил ящики с провиантом, готовые к отправке. Он поспешно сунул кофе и сахар к себе в сумку. Дверь в подвал была открыта. Он посмотрел вниз и увидел у конца длинной лестницы свет.
Вторжение в логово другого существа — древнейшее табу. У некоторых извращенцев нарушение табу вызывает холодящее чувство возбуждения: так оно случилось и сейчас.
Грутас стал спускаться по лестнице, вдыхая прохладный, словно в пещере, воздух сводчатых подземелий замка. Заглянув сквозь арку, он увидел, что решетка, запирающая винный погреб, открыта.
Слышалось какое-то шуршание. Грутасу были видны стеллажи от пола до потолка, заполненные рядами винных бутылок, на каждом стеллаже — ярлык; увидел он и огромную тень повара, передвигавшуюся по помещению: повар работал при свете двух фонарей. На дегустационном столе в самом центре комнаты лежали квадратные, аккуратно упакованные свертки, а рядом с ними — небольшая картина в изящной раме.
Грутас оскалил зубы, когда огромная фигура повара — этого ублюдка! — стала ему видна. Сейчас повар стоял к нему спиной, что-то делая на столе. Шуршала бумага.
Грутас прижался к стене в тени лестницы.
Повар завернул картину в бумагу и обмотал бечевкой — получился такой же сверток, как все остальные. Держа в одной руке фонарь, он поднял другую вверх и потянул металлический канделябр, висевший над дегустационным столом. Раздался щелчок, и в конце винного погреба один из стеллажей на несколько дюймов отошел от стены. Повар отодвинул стеллаж, громко скрипнули петли. За стеллажом оказалась дверь.
Повар вошел в потайную комнату за винным погребом и повесил там один из фонарей. Затем отнес туда свертки. Когда, стоя спиной ко входу, он задвигал на место стеллаж с винными бутылками, Грутас пошел наверх по лестнице. Он услышал выстрел во дворе и голос повара снизу:
— Кто там?
Повар бежал за ним по лестнице, очень быстро для такого крупного человека.
— Эй ты! Стой! Тебе запрещено сюда являться!
Грутас промчался через кухню во двор, размахивая руками и свистя.
Повар схватил длинную крепкую палку, стоявшую в углу, и побежал через кухню к выходу во двор, но увидел в дверях силуэт человека в каске, очертания которой не вызывали сомнений. Три немецких парашютиста с автоматами вошли в дом. За ними следовал Грутас.
— Привет, поварище! — произнес он и поднял копченый окорок из ящика на полу.
— А ну клади мясо на место, — приказал немецкий капрал, направив оружие на Грутаса с такой же готовностью, с какой угрожал повару. — Пошел вон, ходи с патрулем.
Путь к замку был много легче — дорога шла вниз, и с пустым фургоном Берндт ехал гораздо быстрее; он намотал вожжи на руку повыше кисти и закурил трубку. Когда он приближался к краю леса, ему показалось, что с верхушки дерева взлетает большой аист. Подъехав ближе, он разглядел, что бьющие по воздуху белые крылья — это ткань парашюта, застрявшего в густых ветвях. Он отложил трубку и соскользнул с сиденья. Прикрыв рукой морду Цезаря, он тихонько сказал что-то ему в ухо. Потом осторожно двинулся вперед пешком.
На нижнем суку дерева висел человек в грубой штатской одежде. Он был повешен совсем недавно, проволочная петля впилась в его шею, лицо почернело, испачканные глиной башмаки на фут не доставали до земли. Берндт поспешно бросился к фургону, ища место, где можно было бы развернуть его на узкой дороге. Его собственные башмаки выглядели как-то странно, когда он смотрел, куда бы прочнее поставить ногу на неровной почве.
И тут они вышли из-за деревьев — трое немецких солдат с капралом во главе и шестеро штатских. Капрал посмотрел на Берндта и оттянул затвор автомата. Берндт узнал одного из штатских.
— Грутас, — проговорил он.
— Берндт, зубрила Берндт! Он всегда так хорошо учил уроки, — сказал Грутас и направился к Берндту с улыбкой, довольно дружелюбной на вид. — Он умеет управляться с конем, — сказал Грутас немецкому капралу.
— Может, он твой приятель? — спросил капрал.
— Может, нет, — ответил Грутас и плюнул Берндту в лицо. — Я же повесил того, другого, нет, что ли? А его ведь я тоже знал. Зачем нам пешком-то идти? — И шепотом: — Я его в замке пристрелю, если вы мне мой пистолет хоть на время вернете.
3
Блицкриг, молниеносная война Гитлера, шла быстрее, чем кто бы то ни было мог себе представить. Берндт обнаружил, что в замке расположилась рота дивизии СС «Мертвая голова»; два танка стояли у крепостного рва, с ними — самоходное противотанковое орудие и несколько полугусеничных вездеходов.
Садовник Эрнст лежал вниз лицом в огороде, голову его облепили мясные мухи.
Все это Берндт увидел с кучерского сиденья. В фургоне ехали только немцы. Грутас и все остальные шли следом за фургоном. Они ведь всего лишь Hilfswillige, или хивисы — местные жители, добровольно помогающие нацистским оккупантам.
Высоко на башне замка Берндт заметил двух солдат: они спустили флаг рода Лектеров с изображением дикого кабана и теперь устанавливали на его месте радиоантенну и флаг со свастикой.
Майор в черной форме СС, с изображением черепа и знаками различия дивизии «Мертвая голова», вышел из замка и оглядел Цезаря.
— Очень хорош, но слишком широк для верховой езды, — огорченно произнес он: он взял с собой бриджи и шпоры, чтобы для отдыха и восстановления сил ездить верхом. — А вот другая лошадь подойдет.
Следом за майором из дома вышли два эсэсовца, толчками гнавшие перед собой повара.
— Где все семейство?
— В Лондоне, господин офицер, — ответил Берндт. — Можно, я накрою тело Эрнста?
Майор махнул рукой капралу, тот сунул дуло «шмайссера» Берндту под нос.
— А кто твое накроет? А ну понюхай, чем дуло пахнет? Оно еще не остыло. Запросто выбьет и твои гребаные мозги, — сказал майор. — Куда подевалось все семейство?
— Сбежали в Лондон, господин офицер.
— Ты что, еврей?
— Нет, господин офицер.
— Цыган?
— Нет, господин офицер.
Майор взглянул на пачку писем, взятых с одного из письменных столов в доме.
— Тут вот письма для какого-то Якова. Это ты — еврей Яков?
— Это учитель, господин офицер. Он давно уехал.
Майор осмотрел уши Берндта — не проколоты ли мочки?
— Покажи капралу свой хрен, — приказал он. Потом спросил: — Убить тебя или будешь работать?
— Господин майор, все эти люди хорошо знают друг друга, — сказал капрал.
— Ах вот как! Может, они даже нравятся друг другу? — Он повернулся к Грутасу. — Может, вы любите своих земляков даже больше, чем нас, а, хивис? — Майор снова обратился к капралу: — Как ты полагаешь, они нам и правда могут понадобиться?
Капрал повел «шмайссером» в сторону Грутаса и его сотоварищей.
— Этот повар — еврей, — сказал Грутас. — Вот вам полезная местная информация. Только позвольте ему для вас готовить, и вы все через час помрете от жидовского яда. — Он вытолкнул вперед одного из своих людей. — Вот Кухарь, он и готовить умеет, и провиант добывать, и солдат хороший.
Грутас вышел на середину двора. Он двигался медленно, дуло капралова «шмайссера» неотрывно следовало за его движениями.
— Господин майор, я вижу — у вас кольцо и дуэльные шрамы Гейдельберга. А здесь — военная история, вроде той, что вы и сами сейчас творите. Вот этот камень — Вороний камень Ганнибала Беспощадного. Здесь погибли некоторые из самых доблестных тевтонских рыцарей. Разве не настала пора омыть этот камень еврейской кровью?
Майор высоко поднял брови.
— Так ты хочешь вступить в ряды СС? Посмотрим, как ты сумеешь это заслужить.
Майор кивнул капралу. Эсэсовец достал из кобуры пистолет, выщелкнул из обоймы все патроны, кроме одного, и протянул Грутасу. Два штурмовика подтащили повара к Вороньему камню.
Казалось, майора гораздо больше интересовала лошадь, которую он принялся осматривать. Грутас приставил пистолет к голове повара и стал ждать, пока майор на него взглянет. Повар плюнул в Грутаса.
Прогремел выстрел; с башен замка взлетели ласточки.
Берндту поручили переставить мебель в комнатах наверху, где разместились офицеры. Он проверил свою одежду — не обмочился ли он от страха? В комнатушке под крышей работал радист, слышались то морзянка, то голос радиста, прерываемые атмосферными помехами. Вскоре радист побежал вниз с блокнотом в руке и спустя несколько минут вернулся — забрать оборудование. Они двигались вперед, на восток.
Из верхнего окна Берндт мог видеть, как эсэсовцы передавали переносную радиостанцию из танка маленькому гарнизону, который оставался в замке. Грутас и его обшарпанные сотоварищи, которым теперь выдали немецкое оружие, вытаскивали из кухни все, что там было, и грузили на вездеход, в котором уже сидели солдаты вспомогательной команды.
Солдаты погрузились в вездеходы. Грутас поспешно выбежал из замка, чтобы успеть уехать со всеми. Часть двинулась в Россию, прихватив с собой Грутаса и других хивисов. Казалось, о Берндте они напрочь забыли.
В замке оставили взвод солдат, вооруженных фауст-патронами, пулеметом и переносной радиостанцией. Берндт дотемна просидел в старой уборной в одной из башен. Весь маленький гарнизон ужинал на кухне, поставив во дворе только одного часового. В кухонном буфете солдаты отыскали шнапс. Берндт вышел из уборной, благодарный каменным полам и ступеням за то, что они не скрипят.
Он заглянул в комнату, где немцы поставили радио. Радио стояло на туалетном столике мадам, флаконы с духами были сброшены на пол. Берндт смотрел на все это. Он думал об Эрнсте, убитом в огороде, о поваре, с последним вздохом плюнувшем в Грутаса. Он проскользнул в комнату. Его охватило чувство, что он должен извиниться перед мадам за непрошеное вторжение. Затем он спустился по черной лестнице в носках, неся башмаки в одной руке, а две укладки с радио и зарядным устройством — в другой, и вышел через потайные ворота для вылазок. Тащить радио и ручной генератор было нелегко, они вместе весили более двадцати кило. Берндт дотащил тяжелую ношу до леса и спрятал. Жалко, что нельзя было забрать коня.
Сумерки. Свет пылающего в камине огня играет на крашеных панелях охотничьего домика, отражается в запылившихся стеклянных глазах охотничьих трофеев. Вся семья собралась перед камином. Головы животных на стенах очень старые, поколения сменялись поколениями, и от поглаживания детских ладошек, все прошедшие годы тянувшихся к ним через перила верхней лестничной площадки, многие из них облысели.
Няня поставила медную ванночку Мики на угол каменной плиты перед камином. Добавила воды из чайника, чтобы добиться нужной температуры, взбила пену и посадила Мику в ванночку. Девочка радостно зашлепала ладошками по пене. Няня принесла полотенца и стала подогревать их у огня. Ганнибал снял детский браслет с руки Мики, окунул его в пену и принялся выдувать через браслет мыльные пузыри для сестренки. Влекомые каминной тягой, в своем недолгом полете пузыри отражали освещенные пламенем лица сидящих, пока не лопались над огнем. Мике нравилось тянуться за пузырями, она даже пыталась их ловить, но ей очень хотелось вернуть браслет, и она не успокоилась, пока он снова не оказался у нее на руке.
А мама Ганнибала наигрывала на пианино какую-то мелодию барокко.
Чуть слышная музыка, окна, занавешенные одеялами, как только спустилась ночь, темные крылья леса, сомкнувшиеся вокруг… Берндт вернулся совершенно изможденный, и музыка прекратилась. В глазах графа Лектера стояли слезы, когда он слушал рассказ Берндта. Мадам взяла руку Берндта и успокаивающе ее гладила.
Немцы сразу же стали называть Литву «Остланд» — «Восточной землей», колонией Третьего рейха, которую со временем, после того как низшие формы жизни, то есть славяне, будут ликвидированы, можно заселить арийцами. Колонны немецких солдат шли по обычным дорогам, немецкие поезда — по дорогам железным, неся на себе артиллерийские орудия — на восток, на восток.
Русские истребители-бомбардировщики бомбили немецкие колонны, атаковали их с бреющего полета. Огромные штурмовики «Илюшин», прилетая из России, наносили по немцам мощные удары, несмотря на интенсивный обстрел из зениток, установленных на поездных платформах.
Черные лебеди летели так высоко, как только могли, — четыре черных лебедя, один за другим, не гуськом, а как бы уступами. Они летели, вытянув шеи, стремясь к югу; занималась заря, высоко над ними ревели моторы самолетов.
Взрыв зенитного снаряда, и вожак уронил крылья на взмахе, начав долгое падение вниз. Другие птицы повернули назад, оглашая воздух криками, описывая широкие круги и постепенно теряя высоту. Раненый лебедь тяжело ударился о землю в открытом поле; он не шевелился. Его подруга опустилась рядом с ним, подтолкнула его клювом и стала ходить вокруг него, издавая тревожные клики.
Лебедь не двигался. На поле разорвался снаряд, среди деревьев на краю луга показались русские пехотинцы. Немецкий танк перевалил через канаву и двинулся по лугу, паля из пулемета в сторону деревьев. Он надвигался, надвигался… Лебедь-самка распростерла крылья и встала над погибшим, не сходя с места, хотя танк был гораздо шире, чем размах ее крыльев, а мотор стучал громче, чем ее дико бьющееся сердце. Она стояла над погибшим, шипя и нанося танку удары мощными крыльями до самого конца, а танк прошел над ними, так ничего и не заметив, унося на гусеницах месиво из птичьей плоти и перьев.
4
Семья Лектеров пережила в лесу три с половиной ужасных года гитлеровского похода на восток. Длинная лесная дорога к охотничьему домику зимой бывала завалена снегом, а весной зарастала зеленью, болотистая почва вокруг даже летом была слишком топкой для танков.
В домике хранились довольно большие запасы муки и сахара, позволившие им продержаться первую зиму, но важнее всего оказался запас соли, хранившейся в нескольких ящиках. Во вторую зиму они нашли в лесу убитую и промороженную лошадь. Им удалось разрубить ее на куски и засолить мясо. А еще они засолили куропаток и рыбу — форель.
Иногда по ночам из леса приходили люди в штатской одежде, тихие, словно тени. Граф Лектер и Берндт разговаривали с ними по-литовски, а как-то раз они принесли раненого, его рубашка промокла от крови; он умер на тюфяке в углу, пока няня отирала ему лицо.
Каждый день, если снег был слишком глубок и нельзя было идти добывать еду, учитель Яков давал уроки. Он преподавал английский и французский (французский сам он знал очень плохо), излагал историю Римской империи, особенно подробно рассказывая об осадах Иерусалима. На его уроках присутствовали все. Рассказы об исторических событиях он превращал в драматические повествования, а сцены из Ветхого Завета так расцвечивал для своих слушателей, что его занятия выходили довольно далеко за строгие рамки учебного курса.
Уроки математики он проводил с Ганнибалом отдельно, поскольку они достигли уровня, недоступного остальным.
Среди книг учителя Якова был переплетенный в кожу экземпляр «Трактата о свете» Христиана Гюйгенса[3]. Книга увлекла Ганнибала, его завораживала возможность следовать за ходом мысли Гюйгенса, понимать, как его размышления ведут к открытию. Ганнибал видел связь прочитанного в «Трактате о свете» со сверканием снега и с радужными преломлениями лучей в стеклах старых окон. Изящество рассуждений Гюйгенса было подобно чистоте зимы и простоте ее линий, строению древесного листа, ясно видимого на его нижней стороне. Словно он с легким щелчком открыл шкатулку, а там — принцип, срабатывающий каждый раз: ожидаемое радостное волнение, которое Ганнибал испытывал с тех пор, как научился читать.
Читать Ганнибал Лектер умел всегда, во всяком случае, так полагала няня. Она сама читала ему вслух очень недолго, когда ему было два года, чаще всего сказки братьев Гримм, иллюстрированные гравюрами на дереве, где у всех персонажей почему-то на пальцах ног были заостренные ногти. Он слушал чтение няни, прижавшись к ней склоненной головой и разглядывая слова на странице, а потом вдруг она нашла его самого за этим занятием. Он прижимался лбом к книжке, а потом отталкивал ее на фокусное расстояние и читал вслух с няниными интонациями.
Одной из самых характерных черт графа Лектера была любознательность. Удовлетворяя свою любознательность в отношении собственного сына, граф приказал слуге снять с полок в библиотеке замка тяжеленные словари — английский, немецкий и двадцатитрехтомный литовский — и оставил Ганнибала один на один с этими книгами.
Когда мальчику исполнилось шесть лет, в его жизни произошли три важных события. Во-первых, он обнаружил Евклидовы «Начала» — старинное издание с рисованными иллюстрациями. Он мог водить по рисункам пальцем и прижимался к ним лбом.
Той же осенью ему подарили крохотную сестренку — Мику. Он решил, что она похожа на маленькую, сморщенную красную белочку. Он пожалел про себя, что она совсем не похожа на маму.
Чувствуя, что на его права посягают со всех сторон, он подумал, что было бы очень удобно, если бы орел, порой паривший над замком, подхватил бы сестренку и осторожно отнес ее в какой-нибудь счастливый крестьянский дом в далекой стране, где все жители похожи на белок и она там окажется вполне на своем месте. В то же время он обнаружил, что любит сестренку — непонятно, как и почему, но с этим ничего не поделаешь. Ему хотелось, когда она подрастет и научится задавать вопросы, показывать ей всякие разные вещи: ему хотелось, чтобы она обрела чувство открытия.
Кроме того, в год, когда Ганнибалу исполнилось шесть, граф Лектер увидел, как его сын пытается определить высоту замковых башен по длине их теней, следуя инструкциям, полученным, как заявил мальчик, от самого Евклида. Тогда граф Лектер решил дать ему воспитателя получше: через шесть недель из Лейпцига прибыл учитель Яков, очень ученый, но без гроша в кармане.
Граф Лектер познакомил учителя Якова с его учеником и оставил их вдвоем в библиотеке. В теплую погоду в библиотеке витал аромат остывшего дымка, пропитавший каменные стены замка.
— Папа сказал, вы многому меня научите.
— Если ты захочешь многое узнать, я сумею тебе помочь.
— Он говорит — вы большой ученый.
— Я студент.
— Он говорил маме, что вас исключили из университета.
— Да.
— Почему?
— Потому что я еврей, точнее говоря — ашкенази, то есть европейский еврей.
— Я понимаю. Вы чувствуете себя несчастным?
— Из-за того, что я еврей? Нет, я рад этому.
— Нет, я хотел сказать… несчастным из-за того, что пришлось бросить учебу.
— Я рад, что я здесь.
— Вам, наверное, интересно бы узнать, стою ли я того, чтобы вы тратили на меня свое время?
— Каждый человек стоит того, чтобы тратить на него время, Ганнибал. Если на первый взгляд человек кажется неумным, посмотри попристальней, загляни к нему внутрь.
— Вас поместили в ту комнату, где дверь с железной решеткой?
— Да.
— Она больше не запирается.
— Мне приятно было это увидеть.
— Там держали дядю Элгара, — объяснил Ганнибал, укладывая ручки в рядок перед собой. — Это было в 1880-е годы, еще до меня. Вы посмотрите на оконное стекло в той комнате. Он там выцарапал одну дату, алмазом на стекле. А вот его книги.
Ряд огромных томов в кожаных переплетах занимал всю полку. Последний том обгорел.
— В дождь в комнате будет пахнуть дымом. Стены в ней были обложены тюками сена, чтобы заглушить его высказывания.
— Ты сказал — «его высказывания»?
— Они все были про религию, но… Вы знаете, что значит слово «непристойный» или «непристойность»?
— Да.
— Сам-то я не совсем ясно представляю значение этих слов, но думаю, они означают что-то такое, что нельзя было бы произнести при маме.
— Я тоже так это себе представляю, — ответил учитель Яков.
— Если вы посмотрите на дату на стекле, это точно тот день, когда прямой солнечный свет каждый год падает на дядино окно.
— Он ждал солнца?
— Да. И в тот самый день он сгорел в своей комнате. Как только солнечный свет упал на его окно, он поджег сено моноклем, который надевал, когда сочинял свои книги.
Потом Ганнибал познакомил учителя с замком Лектер и провел вокруг замка. Они прошли по двору мимо огромного камня. В камень было вделано кольцо для привязывания, а на плоской поверхности камня виднелись шрамы от топора.
— Твой отец говорил, что ты измерил высоту башен.
— Да.
— И какой же они высоты?
— Южная башня сорок метров, а другая на полметра короче.
— А что ты использовал как гномон[4]?
— Этот камень. Измерил высоту камня и длину его тени и в тот же час измерил тень замка.
— Бок камня не вполне вертикален.
— А я использовал свой йо-йо[5] как отвес.
— А разве ты мог сделать все измерения одновременно?
— Нет, учитель Яков.
— Какая погрешность могла у тебя возникнуть из-за времени, прошедшего между измерениями тени?
— Один градус каждые четыре минуты, как земля вращается. А камень называется «Вороний», то есть «Камень ворона». Няня зовет его по-немецки — Rabenstein. Ей не разрешают меня на него сажать.
— Понятно, — сказал учитель Яков. — Тень у него значительно длиннее, чем я думал.
У них вошло в обычай вести беседы во время прогулок, и Ганнибал, семенивший рядом с учителем, видел, как тот старается приспособиться к тому, что разговаривает с мальчиком много ниже его ростом. Порой учитель Яков поворачивал голову в сторону Ганнибала и произносил слова в воздух высоко над ним, словно забыв, что разговаривает с ребенком. Наверное, он скучает по прогулкам и беседам с кем-нибудь его возраста, думал тогда Ганнибал.
Ганнибалу было интересно наблюдать, как учитель Яков строит отношения со слугой Лотаром и конюхом Берндтом. Оба они были людьми грубовато-добродушными, хорошо знавшими свое дело. Но совершенно иного склада ума. Ганнибал видел, что учитель Яков вовсе не пытается скрывать свои мысли, но и не выставляет напоказ свое интеллектуальное превосходство, никогда ни с кем не вступая в споры. В свободное время он учил их пользоваться самодельным теодолитом, обозревая окрестности. Ел учитель Яков вместе с поваром, из которого ему удалось вытащить несколько слов на успевшем сильно заржаветь идише, что вызвало изумление у всей семьи.
Части древней катапульты, которую Ганнибал Беспощадный использовал, воюя с тевтонскими рыцарями, хранились в амбаре на территории замка, и в день рождения Ганнибала учитель Яков, Лотар и Берндт собрали катапульту, заменив плечо метательной ложки новым крепким брусом. С его помощью они метнули двухсотлитровую бочку воды выше замка, и она упала с потрясающим взрывом на дальнем берегу крепостного рва, распугав плававших в нем птиц.
В ту неделю Ганнибал испытал самое острое чувство удовольствия за все свое детство. В качестве подарка на день рождения учитель Яков продемонстрировал ему геометрическое доказательство теоремы Пифагора, использовав изразцы и их отпечатки на песчаной грядке. Ганнибал смотрел на них, ходил вокруг. Учитель Яков поднял один из изразцов и приподнял брови, как бы спрашивая, не хочет ли Ганнибал снова увидеть это доказательство. И тут Ганнибал понял. Он все понял одним рывком. Ощущение было такое, что его забросили вверх из катапульты.
Учитель Яков редко приносил учебники на их беседы и очень редко ими пользовался. Когда Ганнибалу исполнилось восемь, он спросил его — почему?
— А ты хотел бы все помнить? — спросил в ответ учитель Яков.
— Да.
— Помнить — не всегда благо.
— Я хотел бы все помнить.
— Тогда тебе нужен Дворец памяти, чтобы все в нем хранить. Дворец, созданный в твоем мозгу.
— А это должен быть дворец?
— Он станет разрастаться, будет огромным, как дворец, — объяснил учитель Яков. — Его можно сделать еще и очень красивым. Какую самую красивую комнату ты знаешь, знаешь лучше других?
— Мамину комнату, — ответил Ганнибал.
— Вот оттуда мы и начнем, — сказал учитель Яков.
Ганнибал с учителем дважды наблюдали, как солнечные лучи весной касались окна дяди Элгара. Но в третью весну они уже прятались в лесу.
5
Зима, 1944/45
Когда рухнул Восточный фронт, русская армия лавиной покатилась по Восточной Европе, оставляя за собой дымящиеся пепелища, населенные голодающими и умирающими от ран и истощения.
Русские наступали с востока и юга, Третий и Второй Белорусские фронты дошли до самого Балтийского моря, гоня перед собой разбитые части отступающих дивизий СС, отчаянно пытавшихся добраться до побережья, откуда они надеялись морем эвакуироваться в Данию.
Амбициям добровольных помощников СС — хивисов — пришел конец. После того как они верой и правдой убивали и грабили, расстреливали евреев и цыган, чтобы услужить своим хозяевам-нацистам, никто из них так и не был принят в ряды СС. Их называли «Ostgruppen» — «Восточные части» и практически не считали солдатами. Тысячи хивисов были отправлены в трудовые батальоны, на рабский труд, часто приводивший к смерти. Однако некоторым удалось дезертировать и заняться собственным «предпринимательством»…
Красивая литовская усадьба недалеко от польской границы, дом открыт с одной стороны, словно кукольный домик: это взрывом артиллерийского снаряда снесло одну из стен. Владельцы усадьбы — вся семья, — застигнутые в подвале врасплох первым взрывом и погибшие от второго, лежат на полу в кухне первого этажа. Убитые солдаты — немцы и русские — лежат в саду. Немецкая штабная машина, перевернувшаяся набок, полуразорвана надвое попавшим в нее снарядом.
На диване в гостиной, лицом к камину, сидел майор СС; на брючинах у него застыла кровь. Его капрал снял с кровати в спальне одеяло и укрыл им офицера. Он разжег камин, но ведь гостиная открыта небу! Капрал стащил сапог с ноги майора и увидел, что у того почернели пальцы. Тут он услышал шум снаружи. Он снял с плеча карабин и подошел к окну.
Полугусеничная санитарная машина, «ЗИС-44» российского производства, но с опознавательными знаками Международного Красного Креста, грохотала по усыпанной гравием подъездной аллее.
Первым из машины вышел Грутас с белым полотнищем.
— Мы — из Швейцарии. У вас имеются раненые? Сколько вас?
Капрал оглянулся на офицера:
— Медики, господин майор. Поедете с ними?
Майор кивнул.
Грутас и Дортлих, на голову выше своего сотоварища, вынесли из машины носилки.
Капрал спустился к ним — объяснить.
— Вы с ним полегче, — сказал он. — Он ранен в ноги. И пальцы ног отморожены. Может, гангрена от отморожения начинается. Вы что, от полевого госпиталя?
— А как же! — ответил Грутас. — Но я могу и здесь оперировать. — И он дважды выстрелил капралу в грудь. Пули выбили облачка пыли из его мундира. Ноги у капрала подкосились, он упал; Грутас перешагнул через труп, вошел в дверь и сразу же выстрелил в укрытого одеялом майора.
Милко, Кольнас и Гренц высыпали наружу из задней двери машины. Форма на них была самая разная — литовской полиции, эстонского медкорпуса, Международного Красного Креста, но у всех на рукавах красовались повязки с большими эмблемами фронтовых медслужб.
Для того чтобы раздеть мертвеца, мародерам приходится много раз наклоняться, тратить массу усилий… Они кряхтели и ворчали, разбрасывая бумаги и фотографии из бумажников. Майор был еще жив. Он протянул к Милко руку, тот снял с руки раненого часы и сунул к себе в карман.
Грутас и Дортлих вынесли из дома свернутые в рулон ковры и закинули их в машину. Положили парусиновые носилки на землю и вытряхнули на них часы, очки в золотой оправе, кольца.
Из леса выполз танк, русский «Т-34» в зимней маскировке. Его пушка вращалась, держа под прицелом все поле. В открытом люке виднелся пулеметчик.
Какой-то человек, прятавшийся в сарае за фермерским домом, выбежал из своего укрытия и бросился бежать через поле к лесу, перескакивая через трупы и прижимая к себе настольные часы из золоченой бронзы.
Из танка застрекотал пулемет; бежавший мародер упал вперед лицом и, перевернувшись на бок, остался лежать рядом с часами; циферблат часов был разбит вдребезги, как и лицо грабителя, а его сердце остановилось одновременно с ходом часов.
— Подберите труп, быстро! — сказал Грутас.
Они швырнули труп на носилки, скрыв награбленное. Башня танка повернулась в их сторону. Грутас помахал белым флагом и показал на эмблему Красного Креста на машине. Танк двинулся дальше.
Последний осмотр дома. Майор был все еще жив. Когда Грутас проходил мимо него, тот схватил его за брючину, обнял его ногу обеими руками и не отпускал. Грутас наклонился к нему, схватился за знаки принадлежности к частям СС на воротнике майора.
— Нам обещали, что мы получим такие же черепа, — сказал он. — Может, теперь черви найдут один из них под кожей твоего лица. — И он выстрелил майору в грудь. Майор выпустил ногу Грутаса и взглянул на свою руку, лишенную часов, словно желая узнать время собственной смерти.
Санитарная машина, подпрыгивая на неровностях, пересекала поле, давя гусеницами убитых, и когда добралась наконец до леса, Гренц вышвырнул труп прочь.
Высоко над ними вслед русскому танку с ревом бросился немецкий пикирующий бомбардировщик «Штука», его пулеметы неистовствовали. Укрывшись под пологом леса в наглухо закрытом танке, экипаж слышал, как неподалеку в чаще взорвалась бомба и по бронированному корпусу забарабанили щепки и осколки.
6
— А вы знаете, какой сегодня день? — спросил Ганнибал за завтраком, подняв глаза от тарелки с овсянкой. — Сегодня — день, когда солнце приходит прямо в окно дяди Элгара.
— В какое время оно приходит? — спросил учитель Яков, будто бы сам этого не знал.
— Оно выглянет из-за башни в половине одиннадцатого.
— Это ведь было в 1941-м, — сказал учитель Яков. — Ты что же, хочешь сказать, что момент появления солнца будет тот же самый?
— Да.
— Но ведь реально год длиннее, чем триста шестьдесят пять дней.
— Но, учитель Яков, этот год — следующий после високосного. И 1941-й, когда мы в последний раз наблюдали появление в окне солнца, был тоже после високосного.
— Тогда что же, календарь так точно откорректирован, или мы живем грубыми допущениями?
В камине с треском вспыхнул терновник.
— Я думаю, это два отдельных вопроса, — сказал Ганнибал.
Учитель был доволен, но его ответом стал новый вопрос:
— А год 2000-й будет високосным?
— Нет… Ой, да, да, он будет високосным.
— Но он же делится на сто! — возразил учитель Яков.
— Но он делится еще и на четыреста! — ответил Ганнибал.
— Совершенно верно, — заметил учитель. — И это будет первым применением григорианского правила. Может быть, в тот день, пережив все грубые поправки, ты вспомнишь о нашем разговоре. В этом странном месте. — Он поднял свою чашку, словно бокал. — В будущем году — в замке Лектер!
Первым услышал этот шум Лотар, когда набирал воду; рокот двигателя на низких оборотах и треск ломающихся ветвей. Он оставил ведро у колодца и в спешке влетел в дом, не отерев ног.
Советский танк «Т-34», в зимней маскировке из снега и соломы, ломился на поляну по конской тропе. На башне русскими буквами было начертано «Отомстим за наших советских девушек!» и «Уничтожим фашистскую заразу!». За башней танка, над двигателем, примостились двое солдат в белых маскхалатах. Башня повернулась, пушка танка целила в охотничий домик. Крышка люка откинулась, и пулеметчик в белой зимней одежде с капюшоном встал за пулемет. В другом люке появился командир экипажа с мегафоном в руке. Он повторил свое обращение по-русски и по-немецки, стараясь перекричать дизельный грохот двигателя:
— Нам нужна вода, вреда мы вам не причиним, пищу не отберем, если из дома никто стрелять не станет. Если нас обстреляют, все вы будете убиты. А теперь выходите. Пулеметчик, заряжай, держи их под прицелом! Если не увидишь их лиц, когда кончу считать, стреляй.
Раздался громкий щелчок — это боец оттянул затвор пулемета.
Граф Лектер вышел из дома и встал на самом солнце очень прямо, так, чтобы были видны его руки.
— Берите воду. Вам от нас вреда не будет.
Командир танка убрал мегафон.
— Всем выйти, чтобы я всех видел!
Граф и командир танка обменялись долгими взглядами. Командир показал графу пустые ладони, граф сделал то же самое. Граф повернулся к дверям дома:
— Выходите.
Когда командир увидел все семейство, он сказал:
— Дети могут оставаться в доме, в тепле. — Потом — пулеметчику и экипажу: — Держите их под прицелом. Следите за верхними окнами. Запускайте насос. Разрешаю курить.
Пулеметчик поднял на лоб защитные очки и закурил папиросу. Он казался совсем мальчишкой, кожа вокруг глаз была светлее всего лица. Он заметил Мику, выглядывавшую из-за двери, и улыбнулся ей.
Среди канистр для горючего и воды на танке был закреплен бензиновый насос, который запускался шнуром.
Водитель танка спустил в колодец шланг с сетчатым фильтром на конце и принялся дергать за шнур. После многочисленных попыток насос наконец затарахтел, завизжал и принялся за работу.
Из-за этого шума никто не мог услышать пронзительный вой бомбардировщика «Штука» до тех пор, пока он не появился почти прямо над ними. Пулеметчик поворачивал пулемет, целясь в самолет, пытаясь поднять дуло повыше; он стрелял и стрелял, а пулеметы бомбардировщика прошивали землю вокруг. Патроны с визгом отскакивали от танка, пулеметчик был ранен, но продолжал отстреливаться здоровой рукой.
Лобовое стекло «Штуки» покрылось звездными пробоинами, защитные очки пилота были залиты кровью, и пикировщик, все еще несший на себе последнее смертоносное яйцо, задел верхушки деревьев, пропахал дорогу в сад, и тут вспыхнуло в баках горючее, а пулеметы под крыльями все стреляли, даже после удара о землю.
Ганнибал, лежа на полу в охотничьем домике и прикрывая Мику своим телом, увидел, что мама, вся в крови, упала во дворе на землю и одежда на ней горит.
— Оставайся здесь! — велел он Мике и бросился к матери, а боеприпасы в самолете уже начали рваться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, языки пламени уже подбирались к единственной оставшейся под крылом бомбе. Пилот сидел в своей кабине мертвый, с обгоревшим до костей лицом, в пылающем шарфе и шлеме, а позади него лежал убитый стрелок.
Во дворе в живых остался один Лотар, он помахал мальчику окровавленной рукой. Тут во двор, к матери, бросилась Мика, и когда она пробегала мимо, Лотар попытался схватить ее и уложить на землю, но пулеметная очередь из горящего самолета прошила его насквозь, кровь забрызгала девочку, и она, подняв руки, закричала в пустое небо. Ганнибал, кидавший снег на пылающую одежду мамы, поднялся во весь рост, бросился к Мике посреди беспорядочной стрельбы и унес ее в дом, в подвал. Выстрелы во дворе постепенно стихали, а затем и совсем прекратились — в казенниках пулеметов расплавились патроны. Стемнело, и вновь пошел снег, шипя на горячем металле.
Тьма и снова снег. Ганнибал во дворе, посреди трупов. Он не понимал, сколько времени прошло, снег падал и падал, ложась на мамины волосы, припорошив мамины ресницы. Она была во дворе единственной, чье тело не было обожжено, не почернело. Ганнибал попытался ее потащить, но тело примерзло к земле. Мальчик прижался лицом к ее груди. Грудь замерзла, стала совсем твердой, сердце не билось. Он прикрыл ей лицо салфеткой и завалил тело снегом. У края леса двигались темные тени. Огонь его факела отражался в волчьих глазах. Ганнибал прикрикнул на них и замахнулся лопатой. Мика была полна решимости выйти во двор — к маме. Приходилось выбирать. Он отвел Мику обратно в дом, оставив мертвых на волю тьмы. Книга учителя Якова лежала рядом с его почерневшей рукой в целости и сохранности, пока какой-то волк не съел кожаный переплет и, посреди рассыпанных страниц трактата Гюйгенса «О свете», не слизал со снега мозги учителя.
Ганнибалу и Мике были слышны рычание и шарканье лап во дворе. Ганнибал разжег камин. Чтобы заглушить шум, он попробовал заставить Мику петь и стал петь ей сам. Она зажала в кулачках края его пальто.
— «Ein Mannlein…»
Снежные хлопья на стеклах окон. В уголке одного стекла появился темный кружок, проделанный пальцем в перчатке. А в темном кружке — бледно-голубой глаз.
7
Вдруг дверь рывком отворилась, и Грутас с Милко и Дортлихом вошли в дом. Ганнибал схватил со стены копье, с каким ходили на вепря, а Грутас, инстинктивно угадав, что надо делать, тут же прицелился в Мику.
— Брось его, не то убью девчонку! Ты понял?
Мародеры сразу же обступили Ганнибала и Мику.
Пока мародеры были в доме, Гренц, остававшийся снаружи, сделал знак рукой, чтобы санитарная машина въезжала во двор. Полугусеничная узкоглазая машина двинулась вперед, свет ее затемненных фар отразился в волчьих глазах у края поляны: волк тащил что-то тяжелое.
Мужчины стояли перед камином, обступив Ганнибала с сестрой; от согретой огнем одежды мародеров несло сладковатой вонью многонедельного пребывания близ полей сражений и запекшейся на подошвах сапог кровью убитых. Они придвинулись к детям очень близко. Кухарь поймал какое-то насекомое, выползшее из его мундира, и раздавил его ногтем большого пальца.
Они кашляли прямо на детей. Зловонное дыхание хищников, страдающих кетозом[6] из-за того, что питались они почти исключительно отбросами, в основном — мясными, иногда даже тем, что попадало под гусеницы машины, заставило Мику уткнуться лицом в пальто Ганнибала. Он укрыл ее полами пальто и, прижав к себе, ощутил, как испуганно бьется ее сердце. Дортлих схватил Микину мисочку с овсянкой, жадно проглотил кашу и выскреб остатки перепончатыми, в шрамах пальцами. Кольнас протянул ему свою плошку, но Дортлих ничего ему не дал.
Кольнас был коренаст, и в его глазках зажигался огонек, когда он видел блеск драгоценного металла. Он снял браслет с руки Мики и опустил к себе в карман. Ганнибал схватил было его за руку, но Гренц так ущипнул мальчика за шею, что у того онемела вся рука.
Вдалеке прозвучал артиллерийский залп.
Грутас сказал:
— Если явится патруль — не важно чей, — мы располагаем здесь полевой госпиталь. Мы спасли этих малышей, а в машине мы храним собственность их родителей. Снимем красный крест с машины и прикрепим на дверь. Давайте — сделайте это сразу же.
— А двое других? Они же замерзнут там, в машине, — сказал Кухарь. — Они нам помогли от патруля отвязаться, могут и еще пригодиться.
— Отведи их в ночлежку для прислуги, — сказал Грутас. — Да запри как следует.
— А куда им идти-то? — возразил Гренц. — Кому они чего сказать могут?
— Они тебе сказать могут. Про свою гребаную тяжелую жизнь в Албании. Давай, Гренц, шевели задницей, шагай на двор и делай, что сказано.
Под валящим снегом, ежась от ветра, Гренц вытащил из машины две маленькие фигурки и погнал их к амбару, где было жилье для обслуги.
8
У Грутаса имелась тонкая цепочка, она холодила кожу детям, когда он петлей накинул ее на шею Ганнибалу, а потом — Мике. Кольнас с обоих концов вдел в цепочку тяжелые замки. Грутас и Дортлих приковали детей к перилам на верхней лестничной площадке, где они никому не мешали, но были хорошо видны. Тот, которого звали Кухарь, принес им из спальни одеяло и ночной горшок. Сквозь лестничную решетку Ганнибал увидел, что мародеры бросили в огонь вращающийся табурет для рояля. Он подоткнул воротник Мики под цепочку, чтобы холодный металл не прикасался к шее девочки.
Сугробы снега высоко поднялись вокруг охотничьего домика, только верхняя часть окон пропускала сероватый свет. Ветер, завывая, гнал снег наискось мимо окон, и казалось, что охотничий домик — это огромный мчащийся вперед поезд. Ганнибал с сестрой завернулись в одеяло и ковер, лежавший на лестничной площадке. Мика кашляла, но одеяло и ковер заглушали ее кашель. Лоб девочки обжигал Ганнибалу щеку. Ганнибал достал из-под пальто корку черствого хлеба и сунул себе в рот. Когда хлеб размяк, он дал его Мике.
Каждые несколько часов Грутас посылал одного из своих людей из дома наружу — расчищать дорогу к дверям и тропинку к колодцу. А один раз Кухарь отнес кастрюлю с объедками в амбар.
В занесенном снегом доме время тянулось болезненно долго. Не было еды, потом вдруг еда появилась. Кольнас и Милко водрузили на плиту ванночку Мики, прикрытую сверху толстой доской; края доски обгорели там, где они выходили за края ванночки. Кухарь поддерживал огонь, бросая туда книги и деревянные салатницы. Поглядывая краем глаза на плиту, Кухарь взялся заполнять «бортовой журнал» и подбивать счета. Он высыпал мелкие трофеи мародерства на стол и принялся их сортировать и подсчитывать. Тонким неразборчивым почерком он написал наверху страницы имя каждого члена банды:
Влалис Грутас
Жигмас Милко
Бронюс Гренц
Энрикас Лортлих
Петрас Кольнас
А в самом конце — свое собственное имя: Казюс Порвик.
Под каждым именем он перечислил все, что приходилось на долю этого человека из награбленного добра: золотые очки, часы, кольца, серьги, золотые зубы; все это он отмерял, используя в качестве мерки украденную серебряную чашку.
Грутас и Гренц обыскивали охотничий домик с упорством одержимых, с силой выдергивая ящики столов и комодов, отламывая задние стенки секретеров.
Через пять дней погода улучшилась. Все надели снегоступы и отвели Ганнибала и Мику в амбар. Ганнибал заметил струйку дыма, поднимавшуюся из трубы там, где было жилье для обслуги. Он взглянул на большую подкову Цезаря, прибитую над дверью — на счастье, — и подумал о коне: очень хотелось знать, жив ли еще Цезарь. Грутас и Дортлих втолкнули детей в амбар и заперли дверь. Сквозь щель между дверными створками Ганнибал смотрел, как мародеры подошли к лесу и направились в разные стороны. В амбаре было очень холодно. На соломе валялась скомканная детская одежда. Дверь в жилье для обслуги была закрыта, но не заперта. Ганнибал толкнул ее, и она отворилась. Укутавшись во все одеяла, снятые с коек, жался как можно ближе к маленькой печке мальчик. На вид ему было не больше восьми лет, вокруг запавших глаз — темные круги. Одет он был в самую разную одежду, натянутую на худое тело в несколько слоев, на нем были даже какие-то девчачьи одежки. Ганнибал подтолкнул Мику к себе за спину. Мальчик съежился еще больше и попятился от Ганнибала.
— Здравствуй, — произнес Ганнибал по-литовски. Он повторил «Здравствуй» по-немецки, по-английски, по-польски. Мальчик не отвечал. На ушах мальчика и на пальцах вспухли красные ознобыши. Пока тянулся этот долгий холодный день, он ухитрился как-то дать понять, что он родом из Албании и говорит только на своем родном языке. Он назвал свое имя — Агон. Ганнибал дал ему ощупать свои карманы — не найдется ли там какая-нибудь еда. Однако он не позволил мальчику прикоснуться к Мике. Когда Ганнибал жестами объяснил Агону, что тот должен отдать половину одеял ему с Микой, тот не воспротивился. Маленький албанец вздрагивал при каждом звуке, его испуганный взгляд тотчас же обращался к двери, и он делал ладонью такие движения, будто что-то рубил топором.
Мародеры вернулись перед заходом солнца. Ганнибал их услышал и стал смотреть в щелку между створками дверей амбара.
Они тащили за собой худого, изголодавшегося малорослого оленя, еще живого, но спотыкавшегося на каждом шагу. Шею оленя петлей стягивал шнур с кистями, явно из какого-то разграбленного поместья, в боку торчала стрела. Милко взялся за топор.
— Смотри кровь зря не пролей, — сказал Кухарь авторитетным тоном опытного повара.
Примчался Кольнас со своей плошкой. Глаза его сверкали. Со двора донесся вопль, и Ганнибал закрыл уши Мики, чтобы она не услышала звук топора. Маленький албанец плакал и возносил хвалу Богу.
Позднее, когда все уже насытились, Кухарь принес детям кость — обглодать с нее остатки мяса и сухожилий. Ганнибал поел немного, потом разжевал мясо в кашицу для Мики. Если давать девочке еду пальцами, сок вытечет. Ганнибал стал кормить ее изо рта в рот. Потом люди Грутаса вернули Ганнибала с сестрой в охотничий домик и снова приковали их цепью к перилам лестничной площадки, а албанского мальчика оставили одного в амбаре. Мика горела в лихорадке, Ганнибал прижимал ее к себе, вдыхая запах холодной пыли от ковра, в который они закутались.
Грипп свалил всех до одного; мужчины теснились поближе к затухающему камину, кашляя в лица друг другу; Милко нашел расческу Кольнаса и обсасывал с нее жирную грязь. Череп олененка лежал в сухой ванночке Мики — он был выварен так, что на нем не осталось ни волоконца.
Потом у них снова появилось мясо, и они ели, урча и крякая, не глядя друг на друга. Кухарь дал Ганнибалу и Мике хрящей и бульона. Но в амбар он ничего не отнес.
Погода все не менялась. Серое, словно гранит, небо низко нависало над поляной, шумы леса были приглушены, слышался только треск и звук падения ломающихся от наросшего льда ветвей и сучьев.
Еда закончилась задолго до того, как небо прояснилось. Казалось, в тот ясный день, когда прекратился ветер, кашель зазвучал громче. Грутас и Милко, шатаясь, вышли из дома в снегоступах.
После долго тянувшегося лихорадочного сна Ганнибал услышал, как они вернулись. Они громко спорили и шаркали ногами. Сквозь лестничную решетку Ганнибал видел, как Грутас вылизывал окровавленную птичью кожу, а потом швырнул ее сотоварищам, и они набросились на нее, словно псы. Лицо Грутаса было все в крови и налипших перьях. Он поднял его к детям и произнес:
— Нам надо есть, не то все подохнем.
Это было последним осознанным воспоминанием Ганнибала Лектера об охотничьем домике.
Русский танк двигался по заледеневшей дороге, вибрация корпуса была такой сильной, что в триплекс трудно было что-либо разглядеть. Это был огромный «KB-1», в трескучий мороз продиравшийся по лесной тропе: фронт стремительно шел на запад, ежедневно продвигаясь на многие мили вперед, вслед за отступающими немцами. Два пехотинца в белых маскхалатах ехали на броне танка, примостившись над двигателем. Солдаты следили, чтобы какой-нибудь случайный немец из «Вервольфа», фанатик, оставшийся позади с фаустпатроном, не попытался их танк уничтожить. Они заметили какое-то движение в кустарнике. Командир танка услышал, что солдаты на броне начали стрелять, и повернул башню в ту сторону, куда они стреляли, чтобы и пулемет целил туда же. Вглядевшись в триплекс, он увидел, что из кустов вышел мальчик, совсем ребенок, а пули взбивали снег вокруг него — солдаты стреляли с движущегося танка. Командир высунулся в люк и прекратил стрельбу. Они и так уже по ошибке убили нескольких детей, на войне такое случается, и были рады, что не убили этого.
Перед солдатами стоял ребенок, исхудалый и бледный, вокруг шеи цепь на замке; свободный конец цепи с пустой петлей тянулся за мальчиком. Когда они усадили его рядом с двигателем и обрезали цепь с его шеи, на звеньях остались кусочки кожи. Мальчик изо всех сил прижимал к груди мешок с очень хорошим полевым биноклем. Танкисты тормошили его, задавали вопросы на русском, польском, неумелом литовском, пока не поняли, что он вообще не может говорить.
Солдаты постыдились отобрать у мальчика полевой бинокль. Они дали ему половинку яблока и разрешили ехать позади башни, в теплом дыхании двигателя, пока не добрались до деревни.
9
Советская моторизованная часть с самоходкой и тяжелой реактивной установкой укрылась на ночь в опустевшем замке Лектер. Они двинулись дальше еще до рассвета, оставив в заснеженном дворе проталины с темными пятнами от масла и горючего. Во дворе осталась одна, более легкая, машина, двигатель работал на холостом ходу.
Грутас и четверо его выживших сотоварищей, по-прежнему одетых в медицинскую форму, следили за происходящим из леса. Прошло уже четыре года с тех пор, как Грутас застрелил повара у Вороньего камня, и четырнадцать часов с того момента, как мародеры бежали от сгоревшего охотничьего домика, бросив там погибших.
Издалека слышались разрывы бомб, на горизонте светящимися арками вырисовывались трассирующие очереди зенитных орудий.
Последний солдат вышел из дверей замка, разматывая с катушки огнепроводный шнур.
— Черт! — проговорил Милко. — Камни же дождем посыплются, огромные, как товарные вагоны!
— Нам все равно надо туда войти, — ответил Грутас. Солдат дотянул шнур до нижней ступеньки, обрезал его ножом и присел на корточки.
— Да этот перевалочный пункт давно уже разграбили, — заметил Гренц. — C’est foutu[7].
— Tu debandes?[8] — поинтересовался Дортлих.
— Va te faire enculer…[9] — откликнулся Гренц.
Они поднабрались французского, когда дивизия «Мертвая голова» переформировывалась под Марселем, и любили ругаться друг с другом на этом языке в напряженные минуты перед «работой». Ругательства напоминали им о том времени, что они так приятно провели во Франции.
Советский солдат расщепил шнур на десять сантиметров от конца и вставил туда спичку головкой наружу.
— Какого цвета шнур? — спросил Милко.
Грутас наблюдал за происходящим в полевой бинокль.
— Не могу различить. Темно.
Из леса им было видно, как огонек второй спички озарил лицо солдата, когда тот поджигал шнур.
— Он оранжевый или зеленый? Полоски на нем есть? — спросил Милко.
Грутас молчал.
Солдат не спеша пошел к машине, смеясь в ответ на оклики товарищей, призывавших его поторопиться. За его спиной на снегу рассыпал искры огнепроводный шнур.
Милко, затаив дыхание, начал считать про себя.
Как только машина скрылась из виду, Грутас и Милко бросились к шнуру. Когда они добежали до дверей, огонь уже успел добраться по шнуру до порога. Они не могли разглядеть полоски, пока не подошли совсем близко. Горит со скоростью двеминутыметр, двеминутыметр, двеминутыметр. Грутас финкой рассек шнур надвое.
Милко пробормотал: «В гроб эту ферму!» — и бросился вверх по ступеням внутрь замка по ходу шнура, пристально вглядываясь, нет ли где еще шнуров, еще взрывателей. Он прошел через большой зал ко входу в башню, следуя за шнуром, и наконец нашел то, что искал: этот шнур сращивался с широкой петлей детонирующего шнура. Милко вернулся в большой зал и крикнул:
— У него тут основное кольцо детонирующего шнура. А огнепроводный всего один. И ты его сделал!
Пакеты взрывчатки были уложены вдоль основания башни так, чтобы разрушить ее с помощью одной координирующей петли детонатора.
Советские военные не потрудились запереть дверь, и огонь в камине большого зала все еще горел. Граффити испещряли голые стены, а на полу перед камином красовались кучки кала и валялись комки использованной бумаги — следы прощального акта, совершенного в относительном тепле замка. Милко, Грутас и Кольнас обыскали верхние этажи. Грутас махнул Дортлиху рукой, чтобы тот следовал за ним, и спустился по лестнице в подземелье. Решетка, запиравшая вход в винный погреб, была открыта, замок сломан.
У Грутаса с Дортлихом был один фонарь на двоих. Желтый луч отразился от бутылочных осколков, валявшихся на полу. Винный погреб усыпали пустые бутылки из-под тонких выдержанных вин, горлышки у них были попросту отбиты торопливыми выпивохами. Дегустационный стол, опрокинутый передравшимися мародерами, лежал у дальней стены.
— Хрен собачий! — выругался Дортлих. — Вот гады, ни глотка не оставили!
— Помоги-ка, — сказал Грутас.
Вдвоем они отодвинули стол от стены, с хрустом давя подошвами стекло. Отыскали и зажгли валявшуюся позади стола свечу, при свете которой когда-то сцеживали вино.
— А теперь потяни за канделябр, — сказал Грутас более высокому, чем он сам, Дортлиху. — Просто разок потяни, строго вниз.
Стеллаж для винных бутылок отошел от задней стены. Когда он двинулся, Дортлих схватился за пистолет. Грутас зашел в помещение за винным погребом. Дортлих последовал за ним.
— Господи Боже ты мой! — произнес Дортлих.
— Давай приведи машину, — сказал Грутас.
10
Литва, 1946
Тринадцатилетний Ганнибал Лектер стоял в полном одиночестве на булыжном краю крепостного рва и бросал хлебные корки в черную воду. Огород, где буйно разрослась когда-то аккуратная живая изгородь, стал сейчас коллективным огородом Народного детского дома. Росла в нем теперь главным образом репа. Крепостной ров и черная поверхность воды в нем были очень важны для Ганнибала. Ров был постоянным, неизменным; черная поверхность воды отражала облака, плывущие мимо зубчатых башен замка Лектер, как они плыли всегда.
Поверх детдомовской формы на Ганнибале была надета штрафная рубашка с намалеванной на ней надписью: «Без игр». Но хотя ему запретили играть с детдомовцами в футбол на поле за пределами двора, он не чувствовал себя обездоленным. Игру прервали, когда битюг Цезарь с русским кучером пересек футбольное поле с нагруженным дровами фургоном. Цезарь радовался Ганнибалу, когда тот мог заходить в конюшню, но репу он не любил.
Ганнибал смотрел, как плывут через ров черные лебеди — пара черных лебедей, переживших войну. С ними были два малыша, еще в пуху, один сидел на спине у матери, другой плыл за ней следом. Повыше на берегу рва трое мальчишек постарше наблюдали за Ганнибалом, раздвинув ветки живой изгороди.
Лебедь-самец выбрался из воды на берег — бросить вызов Ганнибалу.
Светловолосый мальчишка по имени Федор шепнул своим компаньонам:
— Гляньте, как этот черный ублюдок забьет немого болвана. Выколотит из него кучу дерьма, как из вас, когда вы яйца из гнезда попробовали спереть. Посмотрим, может, немой плакать умеет?
Ганнибал поднял руки с ивовыми ветвями, и лебедь вернулся в воду.
Разочарованный Федор достал из-за пазухи рогатку с красной резиной и полез в карман — за камнем. Камень ударил в глину на краю рва, забрызгав грязью ноги Ганнибала. Ганнибал посмотрел на Федора и покачал головой; лицо его ничего не выражало. Второй камень ударил в воду рядом с барахтавшимся там лебеденком. Ганнибал поднял руки с ивовыми ветвями и зашипел, отпугивая птиц подальше от берега, куда не долетят камни.
Из замка послышался звон колокола.
Федор и его компания повернули к дому, хохоча, довольные развлечением, а Ганнибал вышел из кустов живой изгороди, раскачивая длинной водорослью, на корнях которой остался большой ком грязи. Ком попал Федору прямо в лицо, и Ганнибал, на голову ниже Федора, бросился на него и погнал вниз по берегу к самой воде. Съехав с крутого берега следом за ошеломленным мальчишкой, он загнал его в черную воду и держал под водой, колотя его по шее ручкой рогатки. Лицо Ганнибала было поразительно неподвижным, жили только глаза; ему казалось, что вокруг всего, что он видит, возник красный ореол. Он пытался повернуть Федора так, чтобы добраться до его лица. Друзья Федора тоже спустились вниз, но не хотели драться в воде и стали криками звать на помощь воспитателя. Старший воспитатель Петров привел за собой и других, спустился, ругаясь, вниз по берегу и запачкал грязью дубинку, которой яростно размахивал.
Вечер в большом зале замка Лектер, лишенном былого убранства и теперь украшенном огромным портретом Сталина. Сто мальчиков в детдомовской форме уже закончили ужин и, стоя у своих мест за дощатыми столами, поют «Интернационал». Директор, слегка подвыпивший, дирижирует пением с помощью вилки.
Недавно назначенный старший воспитатель Петров, а с ним и младший воспитатель, оба в галифе и сапогах, ходят между столами, чтобы убедиться, что поют все. Ганнибал не поет. На щеке у него синяк, один глаз наполовину заплыл. За другим столом — Федор, он внимательно следит за происходящим. Шея у него забинтована, лицо исцарапано. На один из пальцев наложен лубок.
Воспитатели остановились перед Ганнибалом. Ганнибал зажал в ладони вилку.
— Слишком благородный, чтобы петь с нами, а, хозяйский сынок? — проговорил старший воспитатель Петров под звуки «Интернационала». — Ты здесь уже не хозяйский сынок, такой же сирота бездомный, как все, и Богом клянусь, ты у меня запоешь!
Старший воспитатель размахнулся блокнотом и хлестнул Ганнибала по щеке. Лицо мальчика ничего не выражало. Но и петь он не стал. Из уголка рта у него вытекла струйка крови.
— Он же немой, — сказал младший воспитатель. — Битьем не поможешь.
Тут пение закончилось, и голос старшего воспитателя громко прозвучал в тишине.
— Немой-то немой, а по ночам вопит во всю глотку, — сказал он и замахнулся свободной рукой. Ганнибал загородился от удара кулаком с зажатой в нем вилкой, острия вилки впились Петрову в костяшки пальцев. Воспитатель обежал вокруг стола, преследуя мальчика.
— Прекратить! — крикнул директор. — Не бей его больше! Я не хочу, чтобы у него остались следы побоев. — Директор, хоть и не совсем трезвый, был здесь главным. И он распорядился: — Пусть Ганнибал Лектер явится ко мне в кабинет!
В кабинете директора стояли письменный стол из излишков военного имущества, такие же шкафы с документами и две походные койки. Именно здесь Ганнибала сильнее всего поразило то, как изменился запах в замке. Здесь теперь уже не пахло мебельным полиролем с лимонным маслом, не пахло духами… Вместо этого в комнате застоялся холодный запах мочи, шедший из остывшего камина. Окна были ничем не занавешены, из украшений остались только резные панели.
— Ганнибал, это была комната твоей матери? Чувствуется, что она вроде как женская. — Директор отличался некоторой своенравностью. Порой он мог быть добрым, чаще — жестоким, когда его раздражали собственные неудачи. Его маленькие глазки были красны. Он ждал ответа.
Ганнибал кивнул.
— Тебе, должно быть, тяжело жить в этом доме?
Ответа не последовало.
Директор взял со стола телеграмму.
— Ну что ж, тебе не так уж долго осталось жить здесь. Сюда едет твой дядя. Он заберет тебя с собой во Францию.
11
Кухню освещал лишь горевший в очаге огонь. Прячась в тени, Ганнибал наблюдал за помощником повара: тот спал в кресле перед очагом и бормотал что-то во сне. Рядом с ним стоял пустой стакан. Ганнибалу нужен был фонарь, стоявший на полке прямо над помощником повара. Он мог видеть отблески огня на стекле фонаря.
Человек дышал глубоко и ровно, похрипывая, как от простуды. Ганнибал бесшумно прошел по каменному полу, попал в пропитанную запахом водки и лука атмосферу, окутавшую спящего, и зашел к тому за спину.
Проволочная ручка фонаря обязательно заскрипит, так что надо взять фонарь одновременно за основание и за стекло, чтобы стекло не задребезжало. Приподнять вверх и снять с полки.
Вдруг — громкий треск: это вспыхнуло полено, шипя струйками пара и рассыпая искры; мелкие угольки запрыгали в очаге; один уголек отскочил на пол, покатился и улегся совсем рядом со ступней помощника повара, обернутой теплой портянкой.
Чем же его отбросить? На стойке Ганнибал увидел гильзу от 150-миллиметрового снаряда, в которой стояло множество деревянных ложек и лопаток. Мальчик опустил фонарь на пол, взял ложку и отшвырнул уголек на середину пола.
Дверь на лестницу в подземелье находилась в углу кухни. Она беззвучно открылась, как только Ганнибал к ней прикоснулся; он вошел в абсолютную тьму, по памяти рисуя в уме верхнюю площадку лестницы, и закрыл за собой дверь. Чиркнув спичкой о камень стены, он зажег фонарь и пошел вниз по знакомым ступеням, и чем ниже он спускался, воздух становился все прохладнее и прохладнее. Свет фонаря перепрыгивал со свода на свод — Ганнибал проходил под низкими арками к винному погребу. Железная решетка была открыта.
Давно украденные винные бутылки на стеллажах сменили овощи, в основном корнеплоды, и прежде всего — репа. Ганнибал напомнил себе, что нужно будет захватить отсюда немного свеклы: в отсутствие яблок Цезарь мог полакомиться свеклой, хотя от нее губы у него становились красными и казалось, что они накрашены губной помадой.
За все то время, что он жил в детском доме и понимал, что замок испоганен, разграблен, что все конфисковано или испорчено, он ни разу не заглядывал в подземелье. Ганнибал поставил фонарь на высокую полку и оттащил в сторону несколько мешков с картошкой и луком, стоявших перед стеллажом у задней стены. Он влез на стол, схватился за канделябр и потянул. Ничего не произошло. Он отпустил канделябр и снова потянул. Потом повис на нем всем телом. Канделябр опустился примерно на дюйм с дребезжанием, от которого с него поднялась пыль, а Ганнибал услышал глухой скрип заднего стеллажа. Он слез со стола. Теперь он сможет просунуть в образовавшуюся щель пальцы и оттянуть стеллаж от стены.
Стеллаж отошел от стены с громким скрипом петель. Ганнибал вернулся за фонарем, готовый тотчас же задуть его, если послышится хоть какой-то звук. Но — ничего.
Это здесь, в винном погребе, он в последний раз видел повара, и на миг его большое круглое лицо явилось ему четко и ясно, как живое, без того флера, каким время окутывает наше представление об умерших.
Ганнибал взял фонарь и вошел в потайную комнату за винным погребом. Она была пуста.
Осталась лишь одна огромная золоченая рама, на ней лохматились нитки от вырезанного из нее полотна. Это была самая большая картина в доме, романтизированное изображение битвы при Жальгирисе, особо подчеркивающее достижения Ганнибала Беспощадного.
Ганнибал Лектер, последний потомок древнего рода, стоял в замке своего детства, вглядываясь в пустую раму от картины, и понимал, что он одновременно и потомок этого рода, и не потомок этого рода. Он думал о матери, а она — Сфорца; он вспоминал о поваре и об учителе Якове, а они родом из совсем иной традиции, чем его собственная. Сквозь пустую раму он мог сейчас видеть их всех, сидящих перед камином в охотничьем домике.
Он никоим образом не Ганнибал Беспощадный, насколько он может себе его представить. Он проведет свою жизнь под расписным потолком своего детства. Но потолок этот столь же эфемерен, как небо, и почти так же бесполезен. Так ему теперь представлялось.
Они все исчезли — все картины, все лица, которые были близки и знакомы ему так же, как лица его родных.
В центре комнаты находилась потайная темница, сухой каменный колодец, куда Ганнибал Беспощадный спускал своих врагов, а потом забывал о них. Позднее ее огородили во избежание несчастных случаев. Ганнибал подержал над ней фонарь, и огонь осветил половину колодезной шахты. Отец Ганнибала как-то говорил сыну, что в его собственные детские годы на дне темницы еще лежала целая груда скелетов.
Однажды, чтобы доставить Ганнибалу удовольствие, его спустили в колодец в большой корзине. У самого дна на стене было выцарапано слово. Сейчас, при свете фонаря, Ганнибал не мог его разглядеть, но он знал — оно все еще там, это слово, неровные буквы, нацарапанные в темноте умирающим человеком: Pourquoi?[10]
12
Детдомовцы спали в длинной общей спальне. Их там расположили по возрасту. В том конце, где спали самые младшие, застоялся едкий запах брудера[11] для цыплят, как в детском саду. Самые младшие во сне съеживались под одеялами, обхватив себя руками, некоторые звали умерших родных, встречая в приснившихся лицах заботу и нежность, которых им больше не встретить.
Дальше к середине комнаты спали ребята постарше. Некоторые мастурбировали под одеялами.
У каждого детдомовца под кроватью стоял солдатский сундучок, а на стене над кроватью было место, где разрешалось прикрепить рисунки или, очень редко, семейную фотографию.
Вот над кроватями целый ряд рисунков цветными карандашами. Над кроватью Ганнибала Лектера — отличный рисунок мелками и карандашом: младенческая рука — ладонь и предплечье, — протянутая к зрителю в трогательном жесте, от нее глаз нельзя оторвать; пухленькое предплечье слегка укорочено — ребенок тянет к вам руку, чтобы погладить. Повыше кисти — браслет. Под этим рисунком спит Ганнибал, веки у него подергиваются. Напрягаются челюстные мышцы, раздуваются и втягиваются ноздри: во сне ему чудится зловонное дыхание трупоедов.
…Охотничий домик в лесу. Ганнибал и Мика — в холодно-пыльном запахе ковра, в который они завернулись, лед на оконных стеклах преломляет свет в красные и зеленые лучики. Ветер налетает порывами, и порой тяга в плите ослабевает. Голубоватый дым слоями плывет под островерхой крышей, мимо перил верхней площадки. Ганнибал слышит, как резким толчком открывается дверь, и смотрит вниз сквозь лестничную решетку. Медная ванночка Мики стоит на плите — Кухарь кипятит в ней рогатый череп олененка и несколько каких-то ссохшихся клубней. Бурлящая вода со звоном швыряет череп о металлические бока ванночки, словно олененок напоследок пробует бодаться. Голубоглазый и Перепончатый входят в дом, в дверь с ними врывается морозный воздух; они сбрасывают снегоступы и прислоняют их к стене. Остальные обступают пришедших, из угла ковыляет на обмороженных ногах Плошка. Голубоглазый достает из кармана трупики трех небольших истощенных птиц. Опускает одну из птиц в кипящую воду, прямо в перьях, и держит там, пока она не становится настолько мягкой, что можно содрать кожу. Начинает вылизывать окровавленную кожу птицы, кровь и перья прилипают к его лицу, все остальные толпятся вокруг. Он швыряет им эту кожу, и они набрасываются на нее, словно псы.
Голубоглазый поднимает выпачканное кровью лицо к верхней площадке, выплевывает перышко и произносит:
— Нам надо есть, не то все подохнем.
Они бросают в огонь семейный альбом Лектеров, картонные игрушки Мики, ее замок, ее бумажных кукол. Теперь Ганнибал стоит на каминной плите, он не помнит, как сошел сверху, а потом вдруг они оказываются в амбаре, где на соломе валяется скомканная детская одежда, странная, никогда им не виданная и жесткая от засохшей крови. Мужчины сгрудились вокруг них, щупают его и Мику — много ли на них мяса…
— Бери ее, все равно она вот-вот подохнет. Пойдем поиграем. Пойдем поиграем.
Они забирают Мику и поют: «Ein Mannlein steht im Walde ganz still und stumm…»
Ганнибал крепко держит сестру за руку, детей подтаскивают к дверям амбара. Он не выпускает руку Мики, и Голубоглазый захлопывает тяжелую дверь, защемляя в ней руку Ганнибала, кость с треском ломается, Голубоглазый открывает дверь и идет к Ганнибалу, размахивая поленом. Тяжелый удар по голове, град новых ужасающих ударов, искры из глаз, крик Мики: «Анниба!»
Град ударов все сыпался, сыпался, и вдруг оказалось, что это дубинка старшего воспитателя грохочет по раме кровати, а Ганнибал кричит во сне: «Мика! Мика!»
— Заткнись! Заткнись! А ну вставай, ты, недоросток гребаный! — Старший воспитатель сорвал с кровати одеяло и белье и швырнул все это Ганнибалу.
Они шли из замка к кладовой для инструментов по холодной земле, Петров подталкивал мальчика дубинкой. Воспитатель втолкнул Ганнибала в кладовую и вошел туда следом за ним. Кладовая была сплошь увешана садовыми и плотницкими инструментами, мотками веревки. Петров поставил свой фонарь на бочонок и поднял дубинку. Поднес забинтованную руку к глазам Ганнибала:
— Пора за это расплачиваться.
Казалось, Ганнибал съежился от страха. Он стал кружить по кладовой, стремясь уйти из круга света. Он не мог бы определить, что он чувствует. Воспитатель решил, что прочел в его глазах страх, и принялся кружить за ним следом, невольно уходя из круга света. Ему удалось нанести Ганнибалу мощный удар в бедро. Но мальчик был уже около фонаря. Он схватил серп и тут же задул фонарь. Потом, в полной темноте, лег на пол и, крепко держа серп обеими руками, поднял его над головой. Услышав осторожные шаги, крадущиеся мимо, он изо всех сил швырнул серп, ничего не задел, и тут захлопнулась дверь и загремела цепь запора.
— Очень удобно бить немого, он ведь никому на тебя пожаловаться не может, — сказал старший воспитатель.
Вместе с младшим воспитателем он разглядывал роскошный лимузин, стоявший на усыпанном гравием дворе замка. Это был замечательный образец искусства французских кузовостроителей, небесно-голубого цвета, с дипломатическими флажками — советским и ГДР — на передних крыльях. Автомобиль выглядел весьма экзотично, как и другие довоенные французские автомашины; людям, привыкшим к угловатым формам танков и джипов, он казался роскошно-чувственным. Старшему воспитателю очень хотелось выцарапать ножом слово из трех букв на боку машины, но водитель был мощного телосложения и весьма бдителен.
Ганнибал из конюшни видел, как автомобиль въезжал во двор, но не бросился ему навстречу. Он наблюдал, как его дядя в сопровождении советского офицера прошел в замок.
Ганнибал прижал раскрытую ладонь к щеке Цезаря. Длинная морда повернулась к мальчику. Конь, похрустывая, жевал овес. Советский конюх хорошо о нем заботился. Ганнибал погладил шею коня и почти прижался ртом к повернувшемуся к нему уху Цезаря, но не смог произнести ни звука. Поцеловал коня в лоб. За сеновалом, между панелями двойной перегородки, висел бинокль отца. Ганнибал повесил бинокль на шею и пересек утоптанный учебный плац.
Младший воспитатель искал его, не сходя со ступеней крыльца. Скудные пожитки Ганнибала были засунуты в мешок.
13
Глядя из окна директорского кабинета, Роберт Лектер увидел, как его водитель купил у повара сосиску и кусок хлеба за пачку сигарет. На самом деле Роберт Лектер был теперь граф Лектер, ведь брат его считался погибшим. Впрочем, Роберт успел привыкнуть к графскому титулу: он уже много лет пользовался им, хотя и незаконно.
Директор детдома не стал пересчитывать деньги, просто сунул их в нагрудный карман, бросив взгляд на полковника Тимко.
— Граф… э-э-э, товарищ Лектер, я хочу сказать вам, что я видел ваши картины в Екатерининском дворце, перед войной. А газета «Горн» опубликовала несколько фотографий. Мне ужасно нравятся ваши работы.
Граф Лектер кивнул:
— Благодарю вас, директор. А что с сестрой Ганнибала? Вам что-нибудь известно?
— Детская фотография нам не очень помогает, — ответил директор.
— Мы рассылаем снимок в детские дома, — сказал полковник Тимко. На полковнике была форма советских пограничных войск; его очки в стальной оправе мерцали в унисон со стальными вставными зубами. — Это требует времени. Детдомов так много…
— И я должен сказать вам, товарищ Лектер, наши леса… полны неопознанных останков, — добавил директор.
— Ганнибал так ни слова и не говорит? — спросил граф Лектер.
— Во всяком случае — мне. Физически он вполне способен разговаривать: по ночам, во сне, он выкрикивает имя своей сестры. «Мика, Мика». — Директор замолчал, задумавшись, как бы получше выразить то, что он хочет сказать. — Товарищ Лектер, вам, вероятно, следует… быть поосторожнее с Ганнибалом, пока вы не узнаете его получше. Может быть, не нужно позволять ему играть с другими мальчиками, пока он не придет в себя. Кто-то всегда оказывается травмирован.
— Он что же, задирает других?
— Как раз те, кто его задирает, и получают травмы. Ганнибал не соблюдает сложившейся в коллективе иерархии. Задиры всегда крупнее его, а он наносит им травмы очень быстро и порой весьма серьезные. Ганнибал может быть опасен для людей значительно больше и сильнее его. Но он очень хорош с малышами. Порой позволяет им себя дразнить. Некоторые из них думают, что он не только немой, но и глухой, и прямо при нем говорят, что он сумасшедший. Он отдает им свои сладости в тех случаях, когда здесь бывают сладости.
Полковник Тимко взглянул на часы:
— Нам надо отправляться. Встретимся в машине, товарищ Лектер?
Полковник Тимко подождал, пока граф Лектер выйдет из кабинета. Он протянул руку к директору. Тот вздохнул и отдал ему полученные деньги.
Блеснув очками и сверкнув зубами, полковник послюнил большой палец и принялся считать купюры.
14
Проливной дождь прибил пыль на дорогах, да и ехать до замка оставалось всего несколько миль. Мокрый гравий позвякивал о грязное подбрюшье лимузина, а пропитанный запахами трав и свежевспаханной земли ветерок то и дело залетал в салон машины. Вскоре дождь прекратился и вечерний свет окрасился в оранжевые тона.
Замок — шато — в этом оранжевом свете выглядел скорее изящным, чем величественным. Средники в его окнах были изогнутые и напоминали паутину, увешанную каплями росы. Для Ганнибала, во всем искавшего предзнаменований, плавно изгибающаяся крытая галерея замка закручивалась от входа, словно спираль Гюйгенса.
Четыре битюга, от чьих намокших под дождем спин поднимался парок, были впряжены в ныне почивший танк, его тупая морда высовывалась из вестибюля. Огромные битюги — как Цезарь. Ганнибал обрадовался, увидев их, понадеявшись, что они — его тотем. Танк был уже поднят на катки. Мало-помалу лошади вытягивали его из вестибюля, будто вытаскивали зуб; кучер направлял их, битюги настораживали уши и поворачивали их к нему, когда он что-то им говорил.
— Немцы разрушили вход в замок выстрелом из пушки и задом завели танк в дом, чтобы укрыть от самолетов, — объяснил граф Ганнибалу, когда автомобиль остановился. Роберт Лектер уже привык разговаривать с мальчиком, не ожидая ответа. — Отступая, они его так и оставили. Мы не могли его сдвинуть, так что украсили чертову махину цветами в горшках и целых пять лет его обходили. А теперь, когда я снова могу продолжать свою «подрывную деятельность» и продавать свои картины, мы можем заплатить за то, чтобы танк вытащили и увезли отсюда. Входи, Ганнибал.
Слуга ожидал прибытия «Деляэ» и вместе с экономкой вышел встретить прибывших, неся в руках зонты — вдруг понадобятся. За ним следовал английский дог.
Ганнибалу понравилось, что его дядя познакомил всех здесь же, на подъездной аллее, вместо того чтобы поспешить в дом и разговаривать с остальными через плечо.
— Это мой племянник — Ганнибал. Он теперь будет жить у нас, и мы этому очень рады. Мадам Бриджит — наша экономка. И Паскаль — он отвечает за то, чтобы все здесь работало.
Мадам Бриджит была когда-то миловидной господской горничной. Она была приметлива и составила свое суждение о Ганнибале по тому, как он держался.
Собака бурно приветствовала графа, но решила повременить с собственным суждением о Ганнибале. Она громко выдохнула воздух, словно подула на мальчика, а он протянул ей раскрытую ладонь; обнюхивая ладонь, она смотрела на него исподлобья.
— Нам надо будет подыскать ему какую-нибудь одежду, — сказал граф экономке. — Посмотрите в моих старых школьных чемоданах, что на чердаке стоят. Это для начала, со временем мы подберем ему что-нибудь получше.
— А младшая девочка, господин граф?
— Пока рано, Бриджит, — ответил он и прекратил разговор на эту тему, предупреждающе покачав головой.
В голове Ганнибала, пока он шел к дому, теснились образы: мерцание света на булыжнике двора, блеск намокших от дождя лошадиных спин, блестящие перья красивой вороны, пьющей воду у водосточного желоба на углу крыши, дрогнувшая высоко в окне занавеска, блеск волос леди Мурасаки, потом — ее силуэт.
Леди Мурасаки распахнула рамы. Вечерний свет коснулся ее лица, и Ганнибал из бесплодных пространств кошмара сделал первый шаг на Мост грез…
Переместиться из казармы в отдельный дом, к домашнему очагу — какое сладкое избавление!
Вся мебель в замке была странной и приветливой, в ней смешались разные эпохи и стили. Граф Лектер и леди Мурасаки достали эту мебель с чердака, когда мародерствовавшие нацисты были изгнаны из страны. Во время оккупации вся достойная мебель, стоявшая в этом замке, покинула Францию на поезде, направлявшемся в Германию.
Герман Геринг, да и сам фюрер давно желали заполучить картины Роберта Лектера и других крупных французских художников. После захвата страны нацистами одним из первых побуждений Геринга было арестовать Роберта Лектера как «славянина, ведущего подрывную деятельность», и конфисковать как можно больше его «декадентских» картин, чтобы «оградить от них публику». Полотна же оказались «арестованными» в коллекциях Геринга и Гитлера.
Когда наступающие союзники освободили графа из тюрьмы, он и леди Мурасаки расставили вещи по местам, как могли, а слуги работали у них за жилье и еду до тех пор, пока граф Лектер не вернулся к своему мольберту.
Роберт Лектер позаботился о том, чтобы племянник удобно устроился в своей комнате. Щедро освещенная солнцем, просторная комната была подготовлена к приезду Ганнибала; драпировки и яркие плакаты украшали стены, чтобы оживить камень. Высоко на стене висели маска для кендо[12] и скрещенные бамбуковые мечи. Если бы Ганнибал мог говорить, он спросил бы о леди Мурасаки.
15
Ганнибал оставался один не более минуты, когда услышал стук в дверь.
За дверью стояла Чио — служанка леди Мурасаки, молоденькая, примерно того же возраста, что Ганнибал, японка, с подстриженными чуть ниже ушей волосами. Чио на мгновение окинула Ганнибала оценивающим взглядом, затем на глаза ее словно опустилась вуаль, будто пленочка на глазах дремлющего ястреба.
— Леди Мурасаки приветствует вас и говорит вам «Добро пожаловать!», — сказала Чио. — Не пожелаете ли следовать за мной?
Исполнительная и строгая, Чио повела его к банному домику в бывшей виноградной давильне на территории замка.
Чтобы доставить удовольствие жене, граф Лектер переделал чан давильного пресса в японскую ванну, вода в которой подогревалась особым водонагревателем — колонкой, переделанной из медной установки для перегонки коньяка. В банном домике пахло дровяным дымком и розмарином. Над чаном красовались серебряные канделябры, уцелевшие потому, что во время войны были зарыты в саду, однако Чио не зажгла свечи. Ганнибалу хватит и электрической лампы, пока не определится его статус в доме.
Девушка вручила ему полотенца и халат и указала на душ в углу комнаты.
— Вымойтесь там сначала, ототритесь хорошенько перед тем, как опуститесь в воду, — сказала она. — После ванны шеф-повар приготовит вам омлет, а потом вам нужно будет отдохнуть. — Чио одарила его гримаской, которая, по-видимому, могла быть улыбкой, бросила в полную воды ванну апельсин и осталась снаружи у домика, ждать, пока он отдаст ей одежду. Когда он отдал ей свои одежки, она взяла их двумя пальчиками одной руки, повесила на палку, которую держала в другой, и вместе с ними исчезла.
Когда Ганнибал проснулся, неожиданно и сразу придя в себя, как это бывало в общей спальне, уже наступил вечер. Пока он не осознал, где находится, двигались только его глаза. Он чувствовал себя таким чистым в этой чистой постели. В окне сиял последний отблеск долгих французских сумерек. На стуле рядом с ним лежало хлопчатобумажное кимоно. Ганнибал оделся. Каменный пол коридора приятно холодил босые ступни, каменные ступени были такие же истоптанные, как в замке Лектер. Выйдя во двор, под сиреневый полог неба, он услышал доносившийся из кухни шум подготовки к обеду.
Собака увидела Ганнибала и дважды ударила хвостом об пол, однако не поднялась с места.
Из банного домика донеслись звуки японской лютни. Ганнибал пошел на звуки музыки. Пыльное окно сияло отблесками свечей, горевших внутри. Ганнибал заглянул в окно. Чио сидела рядом с ванной, перебирая струны элегантного продолговатого кото. На этот раз она зажгла свечи. Пофыркивал водонагреватель, потрескивали горевшие под ним дрова, взлетали вверх искры. Он увидел в воде леди Мурасаки. Леди Мурасаки была в воде, словно водяные лилии в воде крепостного рва, где плавали черные лебеди, они не могли петь. Ганнибал смотрел, не произнося ни звука — точно лебеди, и распростер руки, словно крылья.
Он попятился от окна, вернулся к себе, испытывая странную тяжесть во всем теле, и снова улегся в постель.
В камине большой спальни оставалось еще достаточно углей, чтобы их мерцание озаряло потолок. В полутьме граф Лектер сразу же откликнулся на прикосновение леди Мурасаки, на ее голос.
— Я тосковала о тебе так же, как тосковала, когда ты был в тюрьме, — сказала она. — Я вспомнила стихотворение моей прапрабабки Ононо Комаки, написанное тысячу лет тому назад.
— М-м-м…
— Она была очень страстная.
— Мне не терпится услышать, что она сказала.
— Вот ее стихотворение: «Хито ни аван цуки но наки йо ва / омойоките / муне хасириби ни / кокоро йаки ори». Ты чувствуешь, какая музыка звучит в нем?
Европейский слух Роберта Лектера не мог уловить в нем никакой музыки, но, зная, где кроется музыка, он с готовностью ответил:
— Бог мой, ну конечно же! Скажи скорей, что это значит.
Его не видеть мне безлунной этой ночью. Лежу без сна я, грудь горит в огне, желанье сердце точит.— Боже мой, Сава[13]!
Она очень тонко позаботилась о том, чтобы он мог избежать излишних усилий.
В большом зале замка высокие напольные часы сообщают о том, что время позднее, их приятный мягкий звон разносится по коридорам. Собака, спавшая на своем месте, поднимает голову и тринадцать раз коротко лает, отвечая часам. Ганнибал в своей чистейшей постели ворочается с боку на бок, не просыпаясь. И видит сны.
…Воздух в амбаре холодный, а детей раздели до пояса, чтобы Голубоглазый и Перепончатый могли ощупать их плечи и руки выше локтей — достаточно ли на них мяса. Остальные мародеры позади них фыркают и толкутся по амбару, словно гиены, вынужденные ждать. Тут же человек, который всегда раньше всех тянет свою плошку. Мика кашляет, она вся горит, она отворачивает лицо от их зловонного дыхания. Голубоглазый хватает цепь, обвивающую шеи Мики и Ганнибала. Кровь и перья от птичьей кожи, которую он вылизывал, облепили его физиономию.
Голос Плошки искажен нетерпением:
— Бери ее, она все равно вот-вот подохнет. А он еще немного побудет све-е-е-женьким.
Голубоглазый говорит Мике ужасные, фальшивые слова:
— Пойдем поиграем! Пойдем поиграем! — и затягивает песню. Перепончатый подхватывает:
Ein Mannlein steht im Walde ganz still und stumm, Es hat fon lauter Purpur ein Mantelein um…Плошка тащит свою плошку, Перепончатый берет топор, Голубоглазый хватает Мику, и Ганнибал с криком бросается на него, впивается зубами ему в щеку, Мика изгибается, оглядывается, чтобы увидеть Ганнибала, — Голубоглазый поднял ее за обе руки, она висит, не доставая ногами до пола.
— Мика! Мика!
Крик прозвенел по всем каменным коридорам замка, и граф Лектер с леди Мурасаки вбежали в комнату Ганнибала. Мальчик разорвал зубами подушку, перья летали по всей комнате.
Ганнибал рычал и визжал, метался из стороны в сторону, пытался драться, скрипел зубами. Граф Лектер лег на него всем телом и стянул ему руки одеялом.
— Тише, тише! — приговаривал он.
Боясь, что Ганнибал прикусит себе язык, леди Мурасаки сорвала пояс со своего кимоно, пальцами зажала мальчику нос, так что он был вынужден открыть рот, и просунула пояс ему между зубами.
Он вздрогнул и затих — так умирает птица. Кимоно леди Мурасаки распахнулось, она прижала голову Ганнибала к груди и держала ее так, чувствуя на обнаженной коже его лицо, мокрое от гневных слез, с прилипшими к щекам перьями от подушки.
Но вопрос свой она задала графу:
— Ну как ты, в порядке?
16
Ганнибал поднялся рано, умыл лицо — на ночном столике стояли кувшин с водой и умывальный таз. В воде плавало одинокое перышко. Прошедшая ночь помнилась ему смутно и путано.
За спиной Ганнибал услышал шорох бумаги о каменный пол: под дверь просунули конверт. К записке была приколота веточка красной ивы. Прежде чем прочесть записку, Ганнибал поднес листок бумаги к лицу, держа его в сложенных ковшиком ладонях.
Ганнибал!
Я буду чрезвычайно рада, если ты навестишь меня в моей гостиной в час Козерога. (Во Франции это 10 часов утра.)
Мурасаки СикибуГаннибал Лектер, тринадцати лет от роду, с приглаженными с помощью воды волосами, остановился перед закрытой дверью гостиной. Он услышал лютню. Это была другая мелодия, не та, которую он слышал из банного домика. Он постучал.
— Входи.
Он вошел в помещение, удачно сочетавшее в себе рабочую комнату и гостиную, с пяльцами для шитья, поставленными у самого окна, и мольбертом для занятий каллиграфией.
Леди Мурасаки сидела у низенького чайного столика. Ее волосы были уложены в высокую прическу и заколоты эбонитовыми шпильками. Рукава ее кимоно шелестели: она ставила в вазу цветы.
Вежливость, хорошие манеры, присущие разным культурам, вполне уживаются между собой, поскольку цель у них одна. Леди Мурасаки приветствовала Ганнибала, склонив голову медленным, грациозным движением.
А Ганнибал поклонился ей, согнувшись в поясе, как учил его отец. Он заметил, как голубоватые колечки дыма от курящихся благовоний проплыли на фоне окна, словно пролетевшая вдали стайка птиц, заметил и голубую жилку на внутренней стороне руки леди Мурасаки, державшей цветок, и то, как розово светилось ее ухо, просвеченное солнцем. Лютня Чиотихо звучала из-за скрывавшей девушку ширмы.
Леди Мурасаки пригласила Ганнибала сесть напротив нее. Голос ее — приятный альт, в котором порой слышались нотки, несвойственные европейской гамме. Для Ганнибала ее речь звучала словно музыка, порой улавливаемая вдыхании ветра.
— Если не хочешь разговаривать по-французски, по-английски или по-итальянски, мы могли бы пользоваться какими-нибудь японскими словами, например «кьюзеру». Оно означает «исчезать».
Она взяла несколько цветов с циновки, лежавшей подле нее, опустила стебель в вазу и взглянула Ганнибалу в глаза.
— Мой мир — мир Хиросимы — вспыхнул и исчез в одно мгновение. Твой мир тоже был вырван из твоих рук. Теперь у нас с тобой есть мир, который мы творим сами — вместе. В этот самый момент. В этой самой комнате.
Она взяла с циновки еще цветов и положила на столик рядом с вазой. Ганнибалу был слышен шелест их листьев и шуршание шелкового рукава, когда она протянула ему цветы.
— Ганнибал, куда бы ты поставил эти цветы, чтобы создать наилучший эффект? Ставь куда хочешь.
Ганнибал рассматривал цветы.
— Когда ты был совсем маленьким, твой отец присылал нам твои рисунки. У тебя многообещающе верный глаз. Если ты предпочитаешь сначала сделать набросок букета, можешь воспользоваться блокнотом — он лежит рядом.
Ганнибал размышлял. Он выбрал два цветка и взял нож. Ему были видны арки окон, изгиб камина, где над огнем висел сосуд, в котором кипятили воду для чая. Он обрезал стебли покороче и поставил цветы в вазу так, чтобы создать вектор, гармонирующий и с букетом, и с самой комнатой. Отрезанные стебли он положил на столик.
Леди Мурасаки выглядела довольной.
— Ах-х-х! Мы назовем этот стиль «морибана» — «наклонный стиль». — И она вложила ему в руки тяжелый шелковистый цветок пиона. — Но куда бы ты поставил этот? Если вообще захочешь найти ему применение…
В камине забурлил сосуд с водой — вода закипела. Ганнибал услышал бульканье, услышал, как закипела вода, взглянул на поверхность кипящей воды… Лицо его вдруг изменилось, комната исчезла.
…Ванночка Мики на плите в охотничьем домике, рогатый череп олененка бьется о борта ванночки в бурлящей воде, словно силится прободать себе путь прочь оттуда. В ванночке погромыхивают кости — их подбрасывает кипящая вода.
Но он приходит в себя. Он в комнате леди Мурасаки, венчик пиона, весь залитый кровью, падает на столик, рядом с ним со стуком падает нож. Ганнибал, овладев собой, поднимается, пряча за спину кровоточащую руку. Поклонившись леди Мурасаки, он направляется к двери.
— Ганнибал!
Он уже открыл дверь.
— Ганнибал!
Она быстро поднялась с места и подошла совсем близко. Протянула к нему руку, пристально глядя в глаза мальчику, но не прикасаясь к нему, поманила пальцами обратно в комнату. Потом взяла его раненую руку; только его глаза отреагировали на это прикосновение: чуть изменился размер зрачков.
— Придется наложить швы. Серж может отвезти нас в город.
Ганнибал помотал головой и подбородком указал на пяльцы. Леди Мурасаки вглядывалась в его лицо, пока не обрела уверенность.
— Чио, прокипяти иглу и нитку!
В ярком свете, льющемся из окна, Чио подала леди Мурасаки вытащенные из кипящей воды иглу и нить, намотанную на эбонитовую шпильку, — от них еще поднимался пар. Леди Мурасаки крепко держала руку Ганнибала, накладывая швы на пораненный палец: шесть аккуратных швов. Капли крови падали на ее белое кимоно. Пока она работала, Ганнибал не сводил с нее глаз. Казалось, он не реагирует на боль. Похоже было, что он думает о чем-то другом.
…Он смотрел, как затягивается нитка, разматывающаяся со шпильки. Изгиб игольного ушка есть функция от диаметра шпильки, думал он. Страницы трактата Гюйгенса, рассыпанные на снегу, прилипали к мозгам учителя Якова…
Чио приложила к пальцу листок алоэ, а леди Мурасаки его забинтовала. Когда она отпустила руку Ганнибала, он вернулся к чайному столику, взял пион и подрезал стебель. Затем поместил цветок в вазу, завершив элегантный букет. Повернулся лицом к леди Мурасаки и Чио.
По лицу его прошло какое-то движение, словно дрогнула поверхность воды, и он попытался произнести «Спасибо». Она вознаградила его усилия чуть заметной, но прекраснейшей из всех на свете улыбок, однако не позволила ему слишком долго стараться.
— Ты не пойдешь ли со мной, Ганнибал? Не поможешь мне отнести цветы?
Вместе они поднялись по лестнице, ведущей на чердак.
Дверь чердака раньше явно служила какому-то другому помещению замка: на ее панели красовалась резанная по дереву греческая комедийная маска. Леди Мурасаки, неся лампу со вставленной под стекло свечой, пошла впереди, в самый конец обширного чердачного помещения, мимо скопившейся за три сотни лет коллекции чердачных вещей — сундуков, чемоданов, рождественских украшений, фигурок для украшения газонов, соломенной мебели, костюмов для театров Кабуки и Но и целой галереи марионеток в натуральную величину — для всяческих празднеств. Марионетки висели на специальной перекладине.
Слабый свет пробивался по краям шторы затемнения, закрывавшей чердачное окно, расположенное в дальнем конце помещения. Лампа леди Мурасаки осветила небольшой алтарь и полочку с изображением божества напротив окна. На алтаре стояли фотографии предков леди Мурасаки и Ганнибала. Вокруг фотографий располагалась целая стая журавликов, сложенных из бумаги, — их было очень много. Здесь же стояла свадебная фотография родителей Ганнибала. Он пристально вглядывался в лица отца и матери при свете свечи. Мама выглядела очень счастливой. И не было пламени на маминой одежде — горела только его свеча.
Ганнибал вдруг ощутил чье-то присутствие рядом и выше себя и стал вглядываться во тьму. Леди Мурасаки подняла штору затемнения на чердачном окне, и утренний свет озарил Ганнибала и темную фигуру рядом с ним, поднялся по ее одетым в броню ногам, к боевому вееру[14], зажатому в рукавицах, к нагруднику и — наконец — к железной маске и рогатому шлему командира самураев. Доспехи были установлены на помосте, а перед помостом, на специальном стенде, располагалось оружие самурая — большой и малый мечи, кинжал танто и боевой топор.
— Давай-ка поставим цветы сюда, Ганнибал, — сказала леди Мурасаки, освобождая на алтаре место перед фотографиями его родителей. — Здесь я молюсь о тебе и очень тебе советую тоже о себе молиться и просить духов твоих близких помочь тебе обрести мудрость и силу.
Ганнибал из вежливости на минуту склонил перед алтарем голову, но его одолевала тяга к доспехам, он физически ощущал их присутствие рядом с собой. Он подошел к стенду — потрогать оружие. Леди Мурасаки остановила его, подняв руку.
— Эти доспехи стояли в здании посольства в Париже, еще до войны, когда мой отец был послом Японии во Франции. Нам удалось спрятать их от немцев. Я касаюсь их лишь один раз в год — в день рождения моего прапрапрадеда. В этот день мне выпадает честь почистить его доспехи и оружие и протереть их маслом камелии и гвоздики. Запах прелестный.
Она вынула пробку из флакона и предложила ему понюхать.
На пюпитре перед доспехами лежал свиток. Он был развернут совсем чуть-чуть, виден был только первый рисунок: самурай в этих самых доспехах, принимающий своих вассалов. Пока леди Мурасаки переставляла предметы на полочке с изображением божества, Ганнибал развернул свиток чуть больше. Открылся следующий рисунок, где самурай в доспехах председательствует на демонстрации отрубленных самураями вражеских голов. Каждая голова снабжена ярлыком с именем погибшего; ярлык прикреплен к волосам или, если покойник лыс, привязан к уху.
Леди Мурасаки мягко взяла свиток из рук Ганнибала и снова свернула его так, что стал виден только ее предок в доспехах.
— Это — после битвы за крепость Осака, — пояснила она. — Есть еще свитки, более подходящие, они будут тебе интересны. Ганнибал, твой дядя и я были бы очень рады, если бы ты стал таким же замечательным человеком, каким был твой отец, каков твой дядя.
Ганнибал взглянул на доспехи. В глазах его светился вопрос.
Она прочла этот вопрос и ответила:
— Как он — тоже? Кое в чем, только гораздо более человечным, способным на сочувствие. — Она бросила взгляд на доспехи, словно ее предок мог ее услышать, и улыбнулась Ганнибалу. — Но в его присутствии я никогда не произнесла бы этого по-японски. — Она подошла поближе, по-прежнему держа в руке лампу со свечой. — Ганнибал, теперь ты можешь покинуть страну кошмара. Ты можешь стать кем только пожелаешь. Взойди на Мост грез. Пойдешь со мной?
Она была совсем не похожа на маму. Она не была ему матерью, но он чувствовал ее в своем сердце. Его напряженное внимание, вероятно, смутило ее, и она решила изменить тон.
— Мост грез ведет куда угодно, но прежде всего — в кабинет врача и в школьный класс, — сказала она. — Ты идешь?
Ганнибал последовал за ней, но сначала вытащил из вазы затерявшийся среди цветов окровавленный пион и положил его на пюпитр перед доспехами.
17
Доктор Ж. Руфен принимает пациентов в особняке, окруженном небольшим садом. Скромная табличка у калитки сообщает его имя и титулы: DOCTEUR EN MEDECINE, PH.D., PSYCHIATRE[15].
Граф Лектер и леди Мурасаки сидят в приемной на стульях с прямыми спинками посреди других пациентов доктора Руфена. Некоторым из пациентов никак не удается сидеть спокойно.
Кабинет доктора выдержан в тяжелом викторианском стиле: два массивных кресла по обе стороны камина, диван-шезлонг, накрытый покрывалом с кистями, а ближе к окнам — стол для обследования пациентов и стерилизатор из нержавеющей стали.
Доктор Руфен, средних лет, с бородкой, и Ганнибал сидят в креслах у камина, доктор обращается к Ганнибалу тихим приятным голосом:
— Ганнибал, следя взглядом за тем, как качается и качается метроном, и слушая звуки моего голоса, ты погрузишься в состояние, которое мы называем «бессонный сон». Я не буду просить тебя говорить, но я хочу, чтобы ты попробовал произнести звонкий звук, который мог бы обозначить «да» или «нет». У тебя уже возникло чувство покоя, ты уплываешь.
На столе между ними двигался из стороны в сторону маятник громко тикавшего метронома. На каминной полке тикали часы, украшенные знаками Зодиака и херувимами. Пока доктор Руфен говорил, Ганнибал считал удары маятника метронома и — отдельно — тиканье часов. Удары то совпадали по фазе, то расходились. Ганнибал задал себе вопрос — а нельзя ли, сосчитав интервалы совпадения и несовпадения фаз и измерив длину маятника метронома, определить длину невидимого маятника внутри часов? Подумав, он решил — да, можно. А доктор Руфен все говорил, говорил…
— Какой-нибудь звук ртом, Ганнибал, какой угодно звук!
Ганнибал — глаза его по-прежнему были послушно устремлены на метроном — издал низкий звук, напоминающий извержение газов: он поместил нижнюю губу между зубами и продул воздух из надутой щеки через узкую щель между трепещущим языком и губой.
— Очень хорошо, Ганнибал, — произнес доктор Руфен. — Ты остаешься по-прежнему спокоен. Ты погружен в состояние бессонного сна. А какой же звук мы могли бы использовать, чтобы обозначить «нет»? Нет, Ганнибал. Нет.
Ганнибал издал высокий звук, так же напоминающий извержение газов: на этот раз, поместив нижнюю губу между зубами, он продул воздух из щеки в щель между губой и верхней десной.
— Это уже общение, Ганнибал, и ты вполне способен общаться. Как ты думаешь, мы сможем дальше работать вместе — ты и я?
Утвердительный ответ Ганнибала был таким громким, что стал слышен в приемной: пациенты обменялись взволнованными взглядами. Граф Лектер даже зашел так далеко, что положил ногу на ногу и откашлялся, а леди Мурасаки устремила прелестные глаза вверх, к потолку.
Щупленький, похожий на белку человек произнес: «Это не я!»
— Ганнибал, я знаю, что твой сон часто бывает беспокоен, — сказал доктор Руфен. — Оставаясь сейчас совершенно спокойным в состоянии бессонного сна, можешь ли ты рассказать мне хотя бы кое-что из того, что тебе снится?
Ганнибал, продолжая считать тикающие удары, задумчиво пропукал ртом «да».
На циферблате часов вместо принятого обозначения четверки «IIII» красовалось римское «IV» — для симметрии с цифрой «VIII» на противоположной стороне. «Интересно, — подумал Ганнибал, — а бой у часов тоже римский — два удара, один означает „пять“, а второй — единицу?»
Доктор вручил ему блокнот.
— Может быть, напишешь хотя бы что-то из того, что ты видишь во сне? Ты во сне выкрикиваешь имя твоей сестры. Ты видишь во сне сестру?
Ганнибал кивнул.
В замке Лектер у некоторых часов был римский бой, у других — нет, но на тех, у которых бой был римский, четыре обозначалось чаще всего римской цифрой «IV», а не «IIII». Когда учитель Яков открыл часы и объяснил ему, как работает анкерный механизм, он рассказал о Джозефе Ниббе[16] и о самых первых его часах с римским боем. Хорошо будет посетить Зал часов во Дворце памяти, проверить анкерный механизм. Он отправился бы туда прямо сейчас, но это будет уж слишком для доктора Руфена.
— Ганнибал, Ганнибал! Если ты подумаешь о том, когда ты в последний раз видел свою сестру, то не напишешь ли, что именно ты видишь? Не можешь ли написать, что именно встает в твоем воображении?
Ганнибал написал, не глядя на блокнот, продолжая считать удары метронома и одновременно тиканье часов.
Взглянув на блокнот, доктор Руфен, казалось, воодушевился.
— Ты видишь ее молочные зубы? Только ее молочные зубы? Где же ты их видишь, Ганнибал?
Ганнибал протянул руку и остановил маятник, внимательно рассматривая его длину и положение грузика по отношению к шкале метронома. В блокноте он написал: «В отхожей яме. Доктор, можно мне открыть заднюю крышку часов?»
Ганнибал ждал в приемной вместе с другими пациентами.
— Это ты сделал, а не я, — сказал ему пациент, похожий на белку. — Лучше тебе в этом признаться. А жвачки какой-нибудь у тебя нет?
— Я пытался еще расспрашивать Ганнибала о его сестре, но он совершенно закрылся, — сказал доктор Руфен. Граф Лектер стоял за креслом леди Мурасаки в его кабинете. — Откровенно говоря, он для меня абсолютно непрозрачен. Я его обследовал и пришел к выводу, что физически он вполне здоров. У него на черепе я обнаружил шрамы, но нет ни следа вдавленного перелома. Однако я мог бы предположить, что полушария его мозга способны работать независимо друг от друга, как это происходит в некоторых случаях травмы головы, когда нарушена коммуникация между полушариями. Ганнибал способен одновременно следовать нескольким ходам мысли, не отвлекаясь ни от одного из них, и один из таких ходов всегда избирается им для собственного развлечения.
Шрам у него на шее — от цепи, примерзшей к коже. Мне приходилось видеть такие шрамы сразу после войны, когда открыли лагеря. Он упорно не говорит, что произошло с его сестрой. Думаю, он знает — что; не важно, сознает он, что знает, или нет, как раз это-то и опасно. Наше сознание вспоминает лишь то, что может позволить себе вспомнить, и с той быстротой, какую может себе позволить. Он вспомнит, когда будет способен это выдержать.
Я не стал бы его подталкивать, а гипнотизировать его не имеет смысла. Если он вспомнит слишком скоро, он может замкнуться в себе, застыть навсегда, чтобы уйти от этой боли. Вы оставите его у себя дома?
— Да! — поспешно ответили они оба.
Руфен кивнул:
— Включайте его в вашу семейную жизнь как можно больше. Выйдя из этого состояния, он будет предан вам гораздо сильнее, чем вы можете себе представить.
18
Разгар французского лета, цветочная пыльца дымкой покрыла поверхность реки, в камышах плещутся утки. Река называется Эсон. Ганнибал по-прежнему не говорит, но во сне его больше не посещают кошмары, и аппетит у него нормальный, как у всякого тринадцатилетнего подростка, который быстро растет.
Роберт Лектер, дядя Ганнибала, оказался более теплым и менее сдержанным человеком, чем был его отец. В нем с юности жила какая-то артистическая беспечность, которая лишь возрастала с годами и теперь соединилась с беспечностью пожилых лет.
На крыше замка была галерея, где они могли прогуливаться. Цветочная пыльца собралась в небольшие сугробы в ложбинках крыши, позолотила мох, а пауки на летучих паутинках проплывали мимо них, несомые легким ветром. Внизу, между деревьями, им были видны излучины Эсона.
Граф был высок и худощав, похож на большую птицу. На крыше, в ярком свете солнца, кожа его казалась серовато-бледной. Руки на перилах галереи были очень худыми, но очень похожими на руки отца Ганнибала.
— Наша семья, Ганнибал, — сказал Роберт Лектер, — это не совсем обычные люди. Мы рано начинаем это понимать. Думаю, ты уже и сам это понял. С течением времени ты к этому привыкнешь, если сейчас тебя это беспокоит. Ты потерял родителей, у тебя отняли дом, но у тебя есть я, и у тебя есть Сава. Ну разве она не восхитительна? Ее отец привел ее на мою выставку в музей Метрополитен в Токио двадцать лет тому назад. Я в жизни не видел такой прелестной девочки. Через пятнадцать лет, когда он стал японским послом во Франции, она приехала с ним. Я просто не поверил своему счастью, тотчас же явился в посольство и объявил о своем намерении принять синтоизм. Он сказал, что забота о моей вере не входит в число его приоритетов. Он не особенно меня любил, но ему нравились мои картины. Ах да, картины! Пойдем-ка. Вот моя мастерская.
Это была большая беленая комната на верхнем этаже замка. Полотна, над которыми художник работал, стояли на мольбертах, другие — их было гораздо больше — были прислонены к стенам. На низкой платформе Ганнибал увидел кушетку-шезлонг, рядом с платформой на стоячей вешалке висело кимоно. Перед платформой, на мольберте, стояла укрытая тканью картина.
Они прошли в смежную комнату, где находился большой мольберт с пачкой чистой газетной бумаги на нем, лежал угольный карандаш и несколько тюбиков с красками.
— Я тут освободил для тебя место, это теперь твоя собственная мастерская, — сказал граф. — Здесь ты сможешь снимать напряжение, Ганнибал. Когда ты почувствуешь, что вот-вот взорвешься, — рисуй! Пиши красками! Широкие движения руки, много краски, много цвета. Не пытайся ставить себе цель, не добивайся утонченности, когда рисуешь. Хватит и той утонченности, что дает тебе Сава. — Он взглянул в окно, за деревья — на реку. — Увидимся за ленчем. Попроси мадам Бриджит найти тебе шляпу. Попозже днем, когда закончишь уроки, пойдем на веслах.
Граф оставил его одного, но Ганнибал не сразу подошел к своему мольберту; он побродил по мастерской, разглядывая те картины графа, над которыми он еще работал. Он положил ладонь на кушетку, коснулся висевшего на вешалке кимоно. Остановился перед занавешенной картиной и поднял ткань. Граф писал леди Мурасаки обнаженной, на кушетке. Широко раскрытые глаза мальчика вобрали в себя портрет, в зрачках Ганнибала кружились искорки света, во тьме его ночи зажглись светлячки.
Приближалась осень, и леди Мурасаки стала устраивать ужины на лужайке, где они могли наблюдать полнолуние, ближайшее ко дню осеннего равноденствия, и слушать пение осенних насекомых. Они ждали восхода луны, а когда на время смолкало пение сверчков, Чио в темноте играла на лютне.
Ганнибалу было достаточно слышать шелест шелка и знакомый аромат, чтобы знать, где в каждый момент находится леди Мурасаки.
Французские сверчки не идут ни в какое сравнение с японским сверчком судзумуши, объяснил Ганнибалу граф Лектер, но они все же лучше, чем ничего. Еще до войны граф несколько раз посылал в Японию, пытаясь достать судзумуши для леди Мурасаки, но ни один сверчок не перенес путешествия, и граф ничего не сказал об этом жене.
В тихие вечера, когда воздух становился влажным после дождя, они устраивали игру в узнавание ароматов: Ганнибал поджигал разные кусочки коры и благовоний на пластинке слюды, чтобы Чио назвала запах. В такие вечера на кото играла леди Мурасаки, чтобы Чио было легче сконцентрироваться, а ее наставница порой давала ей музыкальные подсказки из репертуара, с которым Ганнибал не был знаком.
Он стал слушать уроки в сельской школе, где вызвал всеобщее любопытство тем, что не мог читать вслух. На второй день какой-то оболтус-старшеклассник плюнул на макушку первоклашке; Ганнибал расквасил обидчику нос и сломал копчик. Его отправили домой. Выражение его лица во время всех этих событий оставалось неизменным.
Вместо школы он стал посещать уроки, которые дома брала Чио. Чио уже много лет была помолвлена с сыном некоего японского дипломата, и теперь, когда ей исполнилось тринадцать лет, леди Мурасаки обучала ее умениям, которые понадобятся ей в будущем.
Преподавание весьма отличалось от того, что делал учитель Яков, но в сюжетах тоже крылась своеобразная красота, как в математике учителя Якова, и Ганнибал считал эти уроки увлекательными.
Стоя в ярком свете, падавшем из окон ее гостиной, леди Мурасаки обучала их каллиграфии, пользуясь страницами ежедневной газеты. Ей удавалось добиться удивительно изящного письма, действуя большой кистью. Вот она начертала символ вечности — треугольное изображение, очень приятное глазу. Под этим изящным символом виднелся газетный заголовок: «Нюрнберг: приговор врачам-убийцам».
— Это упражнение называется «Вечность восемью взмахами кисти», — сказала леди Мурасаки. — Попробуйте сами.
В конце занятий леди Мурасаки и Чио сложили каждая по бумажному журавлику: потом они возложат их на алтарь на чердаке.
Ганнибал тоже взял листок бумаги, чтобы сделать журавлика. Вопросительный взгляд, брошенный Чио на наставницу, на миг заставил его почувствовать себя здесь чужим. Но леди Мурасаки вручила ему пару ножниц. (Несколько позже она сделает замечание Чио за промах, недопустимый в дипломатической среде.)
— У Чио в Хиросиме есть кузина, ее зовут Садако, — объяснила леди Мурасаки Ганнибалу. — Она умирает от радиационной интоксикации. Садако верит, что если она сложит тысячу бумажных журавликов, она не умрет. Сил у нее мало, и мы помогаем ей, каждый день складывая журавликов. Есть ли у этих журавлей лечебная сила, или нет, но, когда мы их делаем, Садако живет в наших мыслях вместе со всеми другими, в других местах, со всеми, кто был отравлен войной. Ты будешь складывать журавликов для нас, Ганнибал, а мы станем складывать их для тебя. Давай делать их вместе для Садако.
19
По четвергам в деревне открывался большой рынок. Он располагался под зонтами вокруг фонтана и статуи маршала Фоша[17]. Ветер разносил пряный уксусный аромат от товаров продавца маринадов, а рыба и устрицы, разложенные на подстилке из морских водорослей, принесли с собой запах океана.
Мелодии, доносившиеся из нескольких радиоприемников, соревновались между собой. Шарманщик с обезьянкой, отпущенные после завтрака из тюрьмы, гостеприимством которой они злоупотребляли довольно часто, безжалостно извлекал из своего инструмента хриплые звуки «Sous les Ponts de Paris»[18], пока кто-то не подал ему стакан вина и ореховый леденец обезьянке. Шарманщик залпом выпил вино и конфисковал половину леденца в свою пользу. Взгляд маленьких мудрых глаз обезьянки тут же приметил, в какой карман хозяин опустил леденец. Двое полицейских сделали музыканту обычное бесполезное предупреждение и подошли к прилавку с печеньем и пирожными.
Леди Мурасаки направлялась к палатке под вывеской «Legume Bulot»[19] — она хотела купить у главного поставщика свежих овощей молодые побеги папоротника-орляка. Граф очень любил эти побеги, а они распродавались моментально. Ганнибал плелся за леди Мурасаки с корзиной. Он остановился посмотреть, как торговец сыром смазывает маслом отрезок фортепьянной струны и разрезает ею огромный круг сыра. Торговец дал ему кусочек попробовать и попросил рекомендовать сыр мадам.
Леди Мурасаки не увидела орляка на прилавке, но прежде чем она успела спросить о папоротнике, господин Бюло сам вытащил из-под прилавка корзину свернувшихся, словно улитки, побегов.
— Мадам, они так превосходны, что я ни за что не мог позволить солнцу их коснуться. Ожидая вашего прихода, я накрыл их тряпицей, смоченной не водой, а настоящей садовой росой!
Через проход от зеленщика мясник Поль Момун, в запачканном кровью фартуке, сидел за столом-колодой для разделки мяса и чистил дичь, швыряя потроха в ведро и складывая птичьи желудки в одну миску, а печенки — в другую. Мясник был здоровенный, мясистый, на предплечье у него красовалась татуировка: вишня с надписью «Voici la Mienne, ou est la Tienne?»[20]. Красный цвет вишни казался более тусклым, чем кровь на его руках. Брат мясника Поля, человек приятный и лучше его умеющий общаться с покупателями, работал у прилавка под вывеской «Поль Момун: Прекрасное мясо».
Брат Поля принес ему гуся — ощипать и выпотрошить. Поль отхлебнул яблочной водки из бутылки, стоявшей рядом с ним, и отер лицо мокрой от крови рукой, оставив на щеках перья и следы крови.
— Полегче, Поль, у нас еще весь день впереди, — сказал ему брат.
— А чего бы тебе самому эту стебаную птицу не ощипать? Думаю, тебе больше под силу щипать, чем стебать, — ответил мясник Поль. Собственная шутка его явно весьма позабавила.
Ганнибал рассматривал свиную голову на застекленном прилавке, когда услышал голос мясника:
— Эй, япошка!
И голос зеленщика Бюло:
— Будьте любезны, месье, это непозволительно!
И снова Поль:
— Эй, япошка! А это правда, что у вас, у япошек, писяк наперекосяк? И пучок прямых волос торчком, как от взрыва?
Вот тут-то Ганнибал его и увидел, увидел его лицо, выпачканное кровью, в налипших перьях, как у Голубоглазого, как у Голубоглазого, лизавшего птичью кожу.
Теперь Поль снова повернулся к брату.
— А вот, скажу я тебе, у меня как-то раз была одна — в Марселе, так в нее вмещался весь твой…
Баранья голяшка, ударившая Поля прямо в лицо, опрокинула его на спину, осыпав птичьими внутренностями. Ганнибал оседлал мясника, молотя его бараньей голяшкой, пока она не выскользнула из его руки; мальчик пытался нащупать на столе позади себя нож для чистки дичи, но под руку ему попались куриные потроха и он влепил их в лицо мяснику, который наносил ему удары огромными, в крови, кулаками. Брат Поля ногой ударил Ганнибала в затылок и схватил с прилавка молоток для отбивания телятины, но тут леди Мурасаки влетела в мясницкую. Ее оттолкнули, и вдруг раздался крик «Кьяи!».
Леди Мурасаки держала большой нож мясника у горла брата Поля, как раз в том месте, где держал бы его он сам, закалывая свинью. Она произнесла:
— Прошу вас обоих не шевелиться, месье!
Они замерли на долгое мгновение, свистки полицейских слышались все ближе, огромные руки Поля застыли на шее Ганнибала, брат мясника не шевелился, только глаз у него дергался с той стороны, где острие ножа касалось его шеи, а Ганнибал все шарил и шарил рукой по столу позади себя. Двое полицейских, оскользаясь на потрохах, оттянули мясника и Ганнибала друг от друга, полицейский буквально оторвал мальчика от Поля, подняв его на руки и опустив на землю на другой стороне палатки.
Голос Ганнибала был хриплым и скрипучим от долгого неупотребления, но мясник Поль его понял. Мальчик сказал «Зверь!». Он сказал это очень спокойно, и слово прозвучало скорее как таксономия[21], а не как оскорбление.
Фасад полицейского участка выходил на площадь, за стойкой сидел сержант.
Комиссар полиции сегодня был в цивильной одежде — в изрядно помятом тропическом костюме. Ему было уже под пятьдесят, и он устал от войны. Когда леди Мурасаки с Ганнибалом оказались у него в кабинете, он предложил им стулья и сел сам. На его письменном столе не было ничего, кроме пепельницы с символом «Чинзано» и бутылки с водой, способствующей пищеварению. Комиссар предложил леди Мурасаки сигарету. Она отказалась.
Два полицейских, которые были на рынке, постучали в дверь и вошли. Они встали у стены, краем глаза разглядывая леди Мурасаки.
— Кто-нибудь из присутствующих здесь наносил вам удары или оказывал сопротивление? — спросил у них комиссар.
— Нет, месье комиссар.
Комиссар кивнул, разрешая приступить к дальнейшему изложению событий.
Полицейский постарше заглянул в записную книжку:
— Зеленщик Бюло утверждает, что мясник потерял разум и пытался схватить нож, крича, что перережет всех вокруг, в том числе и всех монахинь в храме.
Комиссар возвел глаза к потолку, пытаясь набраться терпения.
— Мясник был вишистом[22], и его у нас терпеть не могут, как вам, возможно, известно, — сказал он. — Я с ним разберусь. Я очень сожалею, что вам нанесли такое оскорбление, леди Мурасаки. Молодой человек, если ты когда-нибудь снова услышишь, как оскорбляют эту даму, я хочу, чтобы ты обратился ко мне. Ты меня понял?
Ганнибал кивнул.
— Я никому не позволю нападать на кого бы то ни было в нашей деревне, если только мне самому не надо будет на кого-то напасть. — Комиссар встал из-за стола и остановился за стулом мальчика. — Извините нас, мадам. Ганнибал, пройдем-ка со мной.
Леди Мурасаки взглянула на комиссара. Он слегка покачал головой.
Комиссар провел Ганнибала в противоположный от входа конец полицейского участка, туда, где находились две камеры — одну занимал крепко спавший пьяница, другую совсем недавно освободил шарманщик с обезьянкой, чья плошка с водой еще стояла на полу.
— Зайди и постой там.
Ганнибал встал посередине камеры. Комиссар захлопнул дверь с таким грохотом, что пьяница зашевелился и забормотал во сне.
— Посмотри на пол. Видишь, какие там пятна, как рассохлись доски? Они просолились от слез. Толкни дверь. Давай толкай! Видишь, она с той стороны не открывается. Темперамент — полезный, но очень опасный дар. Будь рассудителен, и ты никогда не попадешь в камеру вроде этой. Я никому не предоставляю больше одного шанса. Сейчас этот шанс — твой. Но больше так не делай. Никого никогда не избивай… мясными продуктами.
Комиссар проводил леди Мурасаки и Ганнибала до машины. Когда Ганнибал сел в машину, леди Мурасаки тихо обратилась к полицейскому:
— Мне не хотелось бы, чтобы мой муж узнал об этом. Доктор Руфен, очевидно, сможет объяснить вам почему.
Комиссар кивнул:
— Если граф как-то узнает об этом и спросит меня, я скажу, что на рынке была пьяная драка и мальчик случайно оказался в самой гуще. Сожалею, если граф не очень хорошо себя чувствует. Во всем остальном он счастливейший из людей.
Вполне возможно, что граф, работая в замке в полном одиночестве, никогда и не услышал бы об этом инциденте. Но вечером, когда он, отдыхая, курил сигару, шофер Серж вернулся из деревни с вечерними газетами и отозвал графа в сторонку.
Пятничный рынок проходил в Вильере, в десяти милях от замка. Граф, серый после бессонной ночи, выбрался из машины, как раз когда мясник Поль тащил к себе в палатку тушу ягненка. Трость графа разбила мяснику верхнюю губу, и граф продолжал наносить ему удары тростью.
— Кусок дерьма, ты еще смеешь оскорблять мою жену!
Поль бросил тушу и с силой оттолкнул графа: худой и легкий граф отлетел к прилавку, ударившись спиной, и снова бросился на мясника, размахивая тростью. Но вдруг остановился, на лице его появилось удивленное выражение. Он попытался прижать руки к груди, но не успел и упал лицом вниз на пол мясницкой.
20
Испытывая отвращение к заунывному нытью, блеющим звукам псалмов и монотонности заупокойной службы, Ганнибал, тринадцати лет от роду и последний потомок древнего рода, стоял рядом с леди Мурасаки и Чио у дверей храма, машинально пожимая руки покидавшим храм людям, которые присутствовали на похоронах. Женщины, выходя, сразу же снимали с голов косынки и шарфики: после войны здесь воцарилась нелюбовь к таким головным уборам.
Леди Мурасаки выслушивала соболезнования, любезно и корректно на них отвечая.
Ганнибал так остро ощущал ее усталость, что вдруг обнаружил, что заговорил сам, только бы ей не пришлось говорить. Но его вновь обретенный голос очень скоро упал до хриплого шепота, больше похожего на карканье. Если леди Мурасаки и была удивлена, услышав его, она никак не дала этого понять, только взяла его руку в свою и крепко сжала, в то же время протянув другую очередному выразителю соболезнований.
Целая свора парижских газетчиков и радиорепортеров собралась вокруг — освещать уход одного из крупнейших современных художников, который всю свою жизнь избегал встреч с ними. Леди Мурасаки нечего было им сказать.
Ближе к вечеру этого бесконечного дня поверенный в делах графа, сопровождаемый чиновником Налогового управления, явился в замок. Леди Мурасаки предложила им выпить чаю.
— Мадам, мне жаль беспокоить вас в столь горестный день, — сказал чиновник Налогового управления, — но я могу заверить вас, что у вас будет достаточно времени заняться другими делами, прежде чем замок будет выставлен на аукцион для уплаты налога на наследство. Мне хотелось бы изыскать возможность принять ваше поручительство об уплате налога, но поскольку теперь ваш статус постоянного резидента Франции оказывается под вопросом, это не представляется возможным.
Наконец наступила ночь. Ганнибал проводил леди Мурасаки до самой двери ее спальни, а Чио поставила себе в ее комнате раскладную кровать, чтобы быть ночью подле нее.
Ганнибал долго лежал в темноте без сна, а когда пришел сон, пришел и кошмар.
Лицо Голубоглазого, выпачканное кровью, с прилипшими перьями, превращалось в лицо мясника Поля и снова — в лицо Голубоглазого.
Ганнибал проснулся во тьме, но кошмар не прекращался, эти лица голограммами возникали на потолке. Теперь, когда он мог говорить, он больше не кричал.
Он встал с постели и пошел в мастерскую графа. Зажег канделябры по обе стороны мольберта. Портреты на стенах, законченные и наполовину незаконченные, теперь, с уходом их творца, создавали эффект его присутствия в мастерской. Ганнибал чувствовал, как они тянутся к духу художника, словно могут помочь графу вновь обрести дыхание.
Чисто вымытые кисти дяди Роберта стояли в банке, его мелки и угольные карандаши лежали на желобчатых подносах. Портрета леди Мурасаки на мольберте не было, и кимоно с вешалки она тоже забрала.
Ганнибал принялся писать широкими взмахами руки, как советовал граф, пытаясь освободиться от кошмара, проводя длинные диагональные штрихи на газетной бумаге, нанося жирные мазки краски. Не помогало. К рассвету он перестал насиловать себя: он перестал делать усилия, просто смотрел, что откроет ему его рука.
21
Ганнибал сидел на пне посреди небольшой поляны недалеко от реки, перебирая струны японской лютни и наблюдая за пауком, плетущим паутину. Паук был великолепен — желто-черный прядильщик, занятый своим важным делом. Он работал так активно, что паутина содрогалась. Казалось, что паука возбуждают звуки лютни: когда Ганнибал пощипывал струны, тот бегал из стороны в сторону по паутине, проверяя, не попалась ли в сеть добыча. Ганнибал уже мог довольно правильно сыграть японскую мелодию, но то и дело брал неверную ноту. Он вспоминал приятный альт леди Мурасаки, в котором время от времени звучали нотки, несвойственные европейской гамме. Он наигрывал мелодию, то приближая лютню к паутине, то отдаляя. Какой-то медленно летевший жук наткнулся на сеть, и паук поспешил к нему — опутать покрепче.
Воздух был неподвижным и теплым, поверхность реки — совершенно гладкой. У берегов носились по воде жуки-водомеры, над камышами вились стрекозы. Мясник Поль греб одним веслом и под низко склонившимися с берега ивами дал своей небольшой лодке плыть по течению. В корзине с наживкой стрекотали сверчки, их стрекот привлек большую красноглазую муху, которая вылетела из-под огромной руки Поля, когда он схватил сверчка и насадил его на крючок. Он забросил наживку под ивами, и тотчас же его поплавок с перышком погрузился в воду: удочка ожила.
Поль вытащил рыбину и насадил ее вместе с другими на сделанный из цепочки кукан, который свисал в воду с борта лодки. Занимаясь рыбиной, мясник лишь краем уха слышал доносящееся издали треньканье. Он слизал рыбью кровь с большого пальца и отвел лодку к маленькому причалу у поросшего лесом берега, где был припаркован его грузовичок. На причале, на грубой скамье, Поль выпотрошил самую большую рыбину и положил ее в брезентовую сумку со льдом. Другие рыбины на кукане были еще живы — ведь они оставались в воде. Они затянули кукан под причал, пытаясь спрятаться.
Странное треньканье в воздухе — прерывистая мелодия, прилетевшая из далеких от Франции краев. Поль взглянул на грузовичок, будто услышал шум какого-то механизма. Прошел вверх по берегу, не выпуская из рук ножа, которым чистил рыбу, потом осмотрел машину, проверил радиоантенну, пощупал покрышки. Убедился, что двери заперты. Снова раздалось бренчанье, теперь уже целая прогрессия нот.
Поль пошел на звук, обогнул несколько кустов и вышел на поляну, где обнаружил Ганнибала, сидевшего на пне и перебиравшего струны японской лютни. Футляр от лютни был прислонен к мопеду. Рядом с Ганнибалом лежал блокнот для рисования. Поль тотчас же вернулся к грузовичку и проверил горловину бензобака — не остались ли в ней кристаллы сахарного песка. Ганнибал не поднял на него глаз и продолжал наигрывать на лютне, пока мясник не вернулся и не встал прямо перед ним.
— Поль Момун, Прекрасное мясо! — произнес Ганнибал. Зрение у него обострилось, по краям предметов возник красновато-радужный ореол, словно свет преломлялся в наледи на окнах или по краю линзы.
— Ах ты, немой ублюдок, вот ты и заговорил! Если ты нассал мне в радиатор, я тебе твою гребаную башку набок сверну. А тут легавых нет, так что тебе на их помощь рассчитывать нечего.
— И тебе тоже, — ответил Ганнибал, сыграв несколько нот. — То, что ты сделал, — непростительно. — Ганнибал опустил лютню на землю и поднял блокнот. Глядя на Поля, он мизинцем растер что-то на листе, подправляя рисунок. Затем перевернул страницу и встал, протянув блокнот с чистым листом Полю. — Ты обязан извиниться перед одной дамой, попросить у нее прощения письменно.
От Поля несло прогорклым запахом сальной кожи и грязных волос.
— Парень, да ты псих, что ли, что сюда заявился?
— Напиши, что просишь прощения, что понимаешь, как ты отвратителен и жалок, и что ты никогда больше не взглянешь на нее и не обратишься к ней, если встретишь ее на рынке.
— Извиняться перед япошкой?! — Поль захохотал. — Да я первым делом зашвырну тебя в речку и выполощу дочиста. — Он положил ладонь на нож. — А потом может случиться, что вспорю тебе штаны и впендюрю кое-что в то место, куда не больно захочешь. — Тут он направился к Ганнибалу, а мальчик стал отступать к мопеду, где стоял футляр от лютни.
Ганнибал остановился.
— Так ты интересовался, что у нее за писяк, так, кажется? Рассуждал, в какую сторону там все идет?
— А она что, мать тебе, что ли? У япошек писяк идет наперекосяк! Трахни маленькую япошку — сам увидишь!
Поль бросился вперед — убить, уничтожить, его огромные руки готовы были давить, крушить… Но Ганнибал вмиг выхватил из футляра изогнутый самурайский меч и полоснул мясника наискось понизу живота.
— Наперекосяк — вот так?
Вопль Поля прозвенел над деревьями, птицы в испуге взлетели с ветвей. Мясник прижал к животу ладони, а когда отвел их, они были залиты густой темной кровью. Он взглянул вниз, на рану, и попытался ее зажать, но внутренности вывалились ему на руки. Ганнибал отступил вбок и, развернувшись, резанул его мечом по почкам.
— Или больше по касательной к позвоночнику?
Потом он размахнулся мечом, чтобы рассечь мясника крест-накрест; глаза Поля от шока вылезали из орбит, он пытался бежать, но Ганнибал нанес ему удар мечом по ключице, из артерии, шипя, хлынула кровь, забрызгав Ганнибалу лицо. Следующие два удара пришлись мяснику по лодыжкам, и он упал с перерезанными сухожилиями, мыча, как вол.
И вот мясник Поль сидит, опершись о пень. Он не в силах пошевелить руками.
— Хочешь взглянуть на мой рисунок? — спрашивает его Ганнибал.
Он подносит раскрытый блокнот к лицу мясника. На рисунке — голова Поля на блюде, к волосам прикреплен ярлык. На ярлыке надпись: «Поль Момун. Прекрасное мясо». В глазах у Поля начинает темнеть. Ганнибал взмахивает мечом, и на миг все перед Полем покосилось, но кровяное давление тут же упало и наступила тьма.
В своей собственной тьме Ганнибал слышит голос Мики, вскрикнувшей, когда к нему направился черный лебедь, он произносит вслух: «О-о-ой, Анниба!»
День угасал. Ганнибал оставался там еще долго, пока сгущались сумерки. Он сидел с закрытыми глазами, прислонившись к пню, на котором стояла голова Поля Момуна. Открыв глаза, он еще долгие минуты сидел не шевелясь. Наконец он поднялся и подошел к причалу. Кукан был сделан из тонкой цепочки, увидев ее, он потер шрам у себя на шее. Рыбы на кукане были еще живы. Он смачивал водой руки, прежде чем их коснуться, и отпустил их, одну за другой, приговаривая: «Уходи, уходи!», а потом забросил цепь далеко в реку.
Он и сверчков выпустил. «Уходите! Уходите!» — говорил он им. Потом заглянул в брезентовую сумку, увидел большую выпотрошенную рыбину и почувствовал, как рождается аппетит.
— Ум-м-м, — произнес он. — Вкусно!
22
Насильственная смерть Поля Момуна не стала трагедией для многих жителей деревни, где во время немецкой оккупации нацисты расстреляли мэра и нескольких членов деревенского совета в отместку за деятельность Сопротивления.
Большая часть самого Поля лежала на оцинкованном столе в бальзамировочной похоронного бюро Роже, где мясник оказался следующим после графа Лектера. Уже спустились сумерки, когда к похоронному бюро подъехал черный «ситроен». Полицейский, дежуривший у входа, поспешил к машине — открыть дверь.
— Добрый вечер, господин инспектор.
Из машины вышел человек лет сорока, подтянутый, в хорошо сидевшем костюме. Он ответил на четкое приветствие полицейского дружеским кивком, обернулся к автомобилю и сказал водителю и другому полицейскому, сидевшему в машине сзади:
— Отвезите чемоданы в участок.
Инспектор нашел владельца похоронного бюро и комиссара полиции в бальзамировочной, полной разнообразных кранов, шлангов и — в шкафах за стеклянными дверцами — эмалированных сосудов с необходимыми для бальзамирования принадлежностями.
При виде полицейского инспектора из Парижа лицо комиссара просветлело.
— Инспектор Попиль! Я просто счастлив, что вы смогли приехать. Вы, разумеется, меня не помните, но я…
Инспектор некоторое время пристально смотрел на комиссара.
— Ну как же, конечно, помню. Комиссар Бальмэн. Вы доставили Дерэ в Нюрнберг и сидели позади него во время процесса.
— А я видел, как вы выступали свидетелем на этом процессе.
— Итак, что у нас здесь имеется?
Лоран, помощник владельца похоронного бюро, снял покрывавшую труп простыню.
Тело мясника Поля было все еще в одежде, его крест-накрест пересекали диагональные красные полосы там, где одежда не была насквозь пропитана кровью. Головы у него не было.
— Поль Момун… или большая его часть, — сказал комиссар. — У вас его досье?
Попиль кивнул:
— Краткое и отвратительное. Он транспортировал евреев из Орлеана. — Инспектор задумчиво посмотрел на труп, обошел вокруг, приподнял руку Поля. Грубая татуировка теперь, на бледной коже, выглядела ярче. Попиль заговорил снова, тихо, словно разговаривал сам с собой: — У него на руках оборонительные травмы, но ссадинам на костяшках уже несколько дней. Он не так давно дрался.
— И к тому же часто, — ответил Роже.
Вмешался его помощник Лоран.
— В прошлое воскресенье подрался в баре, выбил зубы одному мужчине и еще — женщине, — пропищал он и подергал головой, чтобы показать, с какой силой были нанесены удары, высокая прическа «помпадур» подпрыгивала на его маленькой голове.
— Список, пожалуйста. Его недавних противников, — произнес инспектор Попиль. Он наклонился над трупом и принюхался. — Вы ничего не делали с его телом, господин Роже?
— Нет, господин инспектор. Комиссар специально запретил мне это.
Инспектор Попиль жестом подозвал его к бальзамировочному столу. Лоран тоже подошел.
— Что это за запах? Похоже на то, чем вы здесь пользуетесь?
— По-моему, пахнет цианидом, — заметил владелец похоронного бюро. — Значит, его сначала отравили!
— Цианид пахнет жженым миндалем, — возразил Попиль.
— Пахнет, как лекарство от зубной боли, — сказал Лоран, бессознательно потирая щеку.
Роже повернулся к помощнику:
— Ну и кретин! Где же ты увидел его зубы?
— Да. Это — гвоздичное масло, — заключил инспектор Попиль. — Комиссар, можем мы вызвать аптекаря и проверить его регистрационные книги?
Под руководством шеф-повара Ганнибал запек великолепную рыбу с приправами, обваляв ее в бретонской морской соли прямо в чешуе; теперь он уже вынул ее из духовки. Солевая корка сломалась и отвалилась, как только повар постучал по ней тупой стороной ножа, с коркой вместе отошла и чешуя, и всю кухню заполнил замечательный аромат.
— Смотри-ка, Ганнибал, — сказал шеф-повар. — Самые лучшие куски у рыбы — это щеки. Это относится и ко многим другим существам. Когда разделываешь рыбу за обедом, следует дать одну щеку мадам, а другую — почетному гостю. Но конечно, если ты раскладываешь ее по тарелкам здесь, на кухне, то обе щеки съедаешь сам.
На кухне появился Серж — принес продукты с рынка. Он стал распаковывать их и раскладывать по местам.
Следом за ним в кухню тихо вошла леди Мурасаки.
— Я встретился с Лораном в баре «Petit Zinc»[23], — сказал Серж. — Они так и не нашли проклятую голову этого урода-мясника. Лоран сказал, от трупа пахнет — только представьте себе! — гвоздичным маслом, которым зубы лечат. Он сказал…
Ганнибал поспешил проводить леди Мурасаки и Сержа прочь из кухни.
— Вам в самом деле надо бы что-то съесть, миледи. А эта рыба просто очень хороша, — сказал он.
— А я принес с рынка персиковое мороженое, — добавил Серж. — Со свежими персиками.
Леди Мурасаки долгий миг вглядывалась в глаза Ганнибала. Он улыбался ей, совершенно спокойный.
— Персик! — произнес он.
23
Полночь; леди Мурасаки лежит в постели, в открытое окно легкий ветерок доносит аромат мимозы, цветущей внизу, в одном из уголков двора. Она откинула покрывала, чтобы ощутить прохладное дуновение на обнаженных руках и ногах. Глаза ее открыты, взгляд устремлен на неосвещенный потолок, она ощущает, даже слышит, как моргают ее веки.
Внизу, во дворе, старая собака пошевелилась во сне, втянула воздух расширившимися ноздрями. Шкура у нее на лбу морщится на мгновение, но она снова успокаивается и погружается в сладкий сон об охоте, ощущая в пасти вкус крови.
В темноте над спальней леди Мурасаки скрипнул пол на чердаке. Какая-то тяжесть на досках пола, не просто пискнула, пробегая, мышь. Леди Мурасаки глубоко вздохнула и быстро спустила ноги с кровати, встав босиком на каменный пол спальни. Накинула легкое кимоно, коснулась волос, вынула из вазы в передней цветы и, неся в руке лампу со свечой, стала подниматься по лестнице.
Резная маска на чердачной двери улыбнулась ей. Леди Мурасаки приподнялась на носках, приложила к маске руку и толкнула дверь. Она почувствовала, как сквозняк прижал кимоно к спине, легонько подталкивая ее внутрь, и увидела, что в дальнем конце чердака мерцает свет. Леди Мурасаки направилась к нему, свет ее лампы играл на следивших за ней масках театра Но, а марионетки, свисавшие с перекладины, жестикулировали ей вслед в дыхании поколебленного ее приходом воздуха. Мимо плетенных из ивовых прутьев корзин и обклеенных ярлыками чемоданов, скопившихся за годы ее жизни с Робертом, она шла к семейному алтарю и к доспехам, перед которыми горели свечи.
На алтаре, перед доспехами, стоял темный предмет. Леди Мурасаки увидела его силуэт на фоне свечей. Она поставила лампу со свечой на ящик рядом с алтарем и смотрела на темный предмет долго и пристально. Голова мясника Поля стояла в мелкой вазе для цветов. Его лицо было бледно и чисто вымыто, губы целы, но щек на лице не было, и немного крови вылилось изо рта Поля в вазу. Кровь стояла в вазе, будто вода под композицией из цветов. К волосам Поля был прикреплен ярлык. На ярлыке — надпись по-французски, каллиграфическим почерком: «Момун. Магазин „Прекрасное мясо“».
Голова Поля повернута лицом к доспехам, взгляд поднят к маске самурая. Леди Мурасаки тоже повернулась к доспехам, подняла к маске лицо и проговорила по-японски:
— Приветствую тебя, досточтимый предок. Пожалуйста, прости нам этот неподобающий букет. Со всем уважением к тебе должна сказать, что я имела в виду не такую помощь.
Она машинально подняла с пола увядший цветок с ленточкой и положила его в рукав, глаза ее беспрестанно двигались, оглядывая все вокруг. Большой меч висел на месте, боевой топор — тоже. Малого меча на стенде не было.
Леди Мурасаки отступила назад, прошла к окну и открыла раму. Сделала глубокий вдох. В ушах отдавалось биение ее собственного пульса. Ветерок заставлял трепетать ее кимоно и огоньки свечей.
Послышался негромкий шум позади театральных костюмов Но. У одной из масок ожили глаза. Они наблюдали за ней.
— Приветствую тебя, Ганнибал, — сказала она по-японски.
Из темноты послышался ответ, тоже по-японски:
— Приветствую вас, миледи.
— Можно, мы продолжим по-английски, Ганнибал? Есть вещи, которые мне хотелось бы сохранить в тайне от моего предка.
— Как пожелаете, миледи. В любом случае мы уже исчерпали мой запас японских слов.
Он вышел в круг света от лампы, держа в руках малый меч и тряпку, которой он его протирал. Леди Мурасаки подошла к мальчику. Большой меч — на своем месте, она сможет до него дотянуться, если понадобится.
— Я воспользовался бы мясницким ножом, — сказал Ганнибал. — Но я взял меч Масамуне-доно, потому что это показалось мне подобающим случаю. Надеюсь, вы не против. Клянусь, на острие — ни одной щербинки. Мясник был мягкий, как масло.
— Я боюсь за тебя.
— Прошу вас, не тревожьтесь. Я избавлюсь от… нее.
— Ты не должен был совершать такое ради меня.
— Я сделал это ради себя, потому что высоко ценю вас как личность, леди Мурасаки. На вас вовсе нет вины за содеянное мной. Мне кажется, что Масамуне-доно позволил воспользоваться его мечом. Это и в самом деле поразительное орудие боя.
Ганнибал вложил малый меч в ножны и, сделав жест уважения в сторону доспехов, вернул меч на его место на стенде.
— Вы дрожите, миледи, — произнес он. — Вы прекрасно владеете собой, но вы трепещете, словно птичка. Я никогда не приблизился бы к вам без цветов. Я люблю вас, леди Мурасаки.
Внизу, за оградой двора, послышался двунотный звук французской полицейской сирены. Он раздался один раз и смолк. Собака поднялась с места и вышла к воротам — лаять.
Леди Мурасаки бросилась к Ганнибалу, взяла его руки в свои и прижала к щекам его ладони. Поцеловала его в лоб и прошептала — но нервное напряжение слышалось даже в ее шепоте:
— Скорей! Вымой руки, ототри их как следует! У Чио в комнате есть лимоны.
Далеко внизу послышался громкий стук в дверь.
24
Леди Мурасаки спустилась к инспектору Попилю лишь после того, как отсчитала сто ударов собственного сердца. Когда она появилась на лестнице, инспектор вместе с помощником стоял в самом центре просторного, с высоким потолком вестибюля и смотрел вверх, на площадку, где остановилась она. У нее создалось впечатление, что он замер в готовности, словно красивый паук в заплетенной паутиной раме окна, и что за окном она видит бездонную ночь.
Она спускалась по ступеням как бы одним движением, плавно, как будто и не делая никаких шагов. Руки она спрятала в рукава кимоно.
Серж с покрасневшими от волнения глазами отступил в сторону.
— Леди Мурасаки, эти господа — из полиции.
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, мадам. Мне жаль беспокоить вас в такой поздний час. Я должен задать несколько вопросов вашему… племяннику?
— Племяннику?.. Могу я увидеть ваше удостоверение?
Ее рука медленным движением освободилась из рукава, обнажив и другую руку. Леди Мурасаки внимательно прочла текст удостоверения и проверила фотографию.
— Инспектор ПОП-иль?
— По-ПИЛЬ, мадам.
— На вашей фотографии я вижу орден Почетного легиона, инспектор.
— Да, мадам.
— Благодарю вас за то, что вы сами приехали к нам.
Когда она возвращала Попилю удостоверение, до него донесся аромат, свежий и чуть заметный. Она внимательно наблюдала за его лицом, ожидая, когда он ощутит этот запах. И заметила — чуть дрогнул и, расширившись, его ноздри, чуть сузились зрачки.
— Мадам?..
— Мурасаки Сикибу.
— Мадам — графиня Лектер, но обычно к ней обращаются, пользуясь ее японским титулом: леди Мурасаки, — отважился объяснить Серж. Для этого потребовалось немало мужества — ведь он разговаривал с полицейским.
— Леди Мурасаки, я хотел бы поговорить с вами наедине, а затем, отдельно, с вашим племянником.
— С должным почтением к вашему чину и должности, инспектор, я все же боюсь, что это не представляется возможным, — ответила леди Мурасаки.
— О, мадам, это абсолютно возможно! — заявил инспектор Попиль.
— Мы с радостью принимаем вас в нашем доме и с удовольствием предоставим вам возможность поговорить с нами обоими — вместе.
С лестничной площадки раздался голос Ганнибала:
— Добрый вечер, господин инспектор.
Попиль повернулся к Ганнибалу:
— Молодой человек, я хочу, чтобы ты поехал со мной.
— Конечно, господин инспектор.
Леди Мурасаки обратилась к Сержу:
— Будьте добры, принесите мою накидку.
— В этом нет необходимости, мадам, — сказал Попиль. — Вы не поедете. Я опрошу вас здесь, в замке, завтра. Я не причиню вреда вашему племяннику, мадам.
— Все хорошо, миледи, — сказал Ганнибал.
Пальцы спрятанных в рукава рук леди Мурасаки чуть расслабились и уже не так сильно сжимали ее запястья.
25
В бальзамировочной было темно и тихо, слышно было лишь, как медленно падают в раковину капли воды из крана. Инспектор Попиль с Ганнибалом остановились в дверях, так и не стряхнув с плеч и башмаков дождевые капли.
Момун точно лежал здесь: Ганнибал чувствовал его запах. Мальчик ждал, чтобы Попиль зажег свет, и думал: «Интересно будет посмотреть, какую паузу этот полицейский сочтет достаточно драматичной…»
— Как ты считаешь, ты узнал бы Поля Момуна, если бы снова его увидел?
— Я постараюсь, господин инспектор.
Попиль зажег свет. Хозяин похоронного бюро уже снял с Момуна одежду и положил в бумажные мешки — как ему было указано. Он зашил ему низ живота грубым швом, подложив внутрь кусок резины от дождевика, и прикрыл обрубок шеи полотенцем.
— Помнишь татуировку на руке мясника?
Ганнибал обошел вокруг стола.
— Да. Только я не читал надпись.
Мальчик пристально смотрел на инспектора Попиля поверх трупа мясника. Он отметил, что в глазах полицейского зажегся огонек понимания.
— Что там написано? — спросил инспектор.
— «Вот моя, а где твоя?»
— Может, точнее было бы написать «Вот твое, а где моя?». «Вот твое первое убийство, а где же моя голова?» Как тебе кажется?
— Мне кажется, это как-то не достойно вас. Во всяком случае, я на это надеюсь. Неужели вы ожидаете, что его раны станут кровоточить в моем присутствии?
— Что такого сказал мясник этой даме, что заставило тебя потерять рассудок?
— Это не заставило меня потерять рассудок, господин инспектор. Грязный рот мясника оскорбил всех, кто это слышал, и меня в том числе. Он был предельно груб.
— Что он сказал, Ганнибал?
— Он спросил, правда ли, что у япошек писяк идет наперекосяк, господин инспектор. Он обратился к леди Мурасаки «Эй, япошка!».
— Наперекосяк. — Инспектор Попиль провел пальцем над швом на животе Поля Момуна, почти касаясь кожи. — Наперекосяк — вроде этого?
Инспектор вглядывался в лицо Ганнибала, словно ища в нем чего-то. Не нашел. Не нашел вообще ничего и задал еще один вопрос:
— Какое чувство ты испытываешь, видя его мертвым?
Ганнибал заглянул под полотенце, прикрывавшее шею.
— Чувство отдаленности, — ответил он.
Установленный в полицейском участке полиграф деревенские полисмены видели впервые в жизни; неудивительно, что он вызвал у них живейшее любопытство. Оператор, приехавший из Парижа вместе с инспектором Попилем, хлопотал вокруг аппарата, настраивая, прилаживая, подгоняя то одно, то другое, зачастую лишь для пущего театрального эффекта, а по мере того, как нагревались трубки, запах разогревшейся изоляции смешивался с заполнявшим помещение запахом пота и сигаретного дыма. Но вот инспектор, пристально следивший за тем, как Ганнибал наблюдает за полиграфом, приказал всем покинуть помещение: в комнате остались только трое — мальчик, сам инспектор и оператор. Оператор подсоединил датчики к Ганнибалу.
— Назовите ваше имя, — сказал он.
— Ганнибал Лектер. — Голос мальчика звучал скрипуче.
— Ваш возраст?
— Тринадцать лет.
Заполненные чернилами самописцы гладко скользили по бумаге.
— Как долго вы являетесь постоянным жителем Франции?
— Шесть месяцев.
— Вы были знакомы с мясником Полем Момуном?
— Мы не были представлены друг другу.
Самописцы не дрогнули.
— Но вы знали, кто он такой?
— Да.
— У вас произошла ссора, то есть драка, с Полем Момуном на рынке, в четверг?
— Да.
— Вы посещаете школу?
— Да.
— В вашей школе требуется ношение формы?
— Нет.
— Есть ли у вас какое-либо сознание вины по поводу смерти Поля Момуна?
— Сознание вины?
— Отвечайте только «да» или «нет».
— Нет.
Горные пики и долины на чернильных строках оставались неизменными. Ни подъема давления, ни учащения сердечного ритма, дыхание ровное и спокойное.
— Вы знаете, что мясник мертв?
— Да.
Оператор вроде бы подогнал что-то в аппарате, покрутив ручки полиграфа.
— Вы изучали математику?
— Да.
— Вы изучали географию?
— Да.
— Вы видели труп Поля Момуна?
— Да.
— Вы убили Поля Момуна?
— Нет.
Никаких признаков изменения зубцов на чернильных строчках. Оператор снял очки — знак инспектору Попилю, что испытание окончено.
На место Ганнибала сел всем известный взломщик из Орлеана, человек с богатым уголовным прошлым. Взломщик ждал, пока оператор полиграфа и инспектор Попиль совещались в коридоре за дверью.
Попиль развернул бумажную пленку.
— Пустое дело.
— Мальчик ни на что не реагирует, — сказал оператор. — Он либо сирота военного времени с притупленными восприятиями, либо у него чудовищное самообладание.
— Чудовищное, — согласился Попиль.
— Хотите сначала проверить взломщика?
— Он меня не интересует, но мне надо, чтобы вы его проверили. И может, я захочу дать ему пару-тройку оплеух на глазах у мальчишки. Вы меня понимаете?
Вниз по склону холма, по дороге, ведущей в деревню, с выключенным мотором и без света, спускался мопед. На седоке был черный комбинезон и широкополая черная шляпа. В полной тишине мопед обогнул угол дома в дальнем конце пустынной площади, скрылся на миг за почтовым фургоном, стоявшим перед зданием почты, и двинулся дальше — седок усердно работал педалями, так и не включив мотор, пока не добрался до того места, где ведущая прочь из деревни дорога взбиралась на холм.
Инспектор Попиль и Ганнибал сидели в кабинете комиссара полиции. Инспектор прочел ярлык на бутылке с водой, способствующей пищеварению, и подумал, не следует ли ему налить и себе стаканчик.
Затем он положил рулон бумажной пленки с данными полиграфа на стол и подтолкнул его пальцем. Пленка развернулась, демонстрируя длинную линию небольших зубцов. Эти зубцы казались инспектору предгорьями некоей вершины, скрытой облаками.
— Это ты убил мясника, Ганнибал? — спросил он.
— Можно задать вам вопрос?
— Да.
— От Парижа сюда путь неблизкий. Ваша специальность — расследование убийств мясников?
— Моя специальность — военные преступления, а Поль Момун подозревался в совершении нескольких. Военные преступления не заканчиваются с войной, Ганнибал. — Попиль замолчал и принялся читать надписи на каждой стороне пепельницы. — Возможно, я понимаю твою ситуацию лучше, чем ты предполагаешь.
— А какова моя ситуация, господин инспектор?
— Ты стал сиротой во время войны. Ты жил в детском доме, уйдя в себя, лишившись всей семьи. И наконец, наконец… твоя прелестная приемная мать возместила тебе все утраты. — Пытаясь установить более тесный контакт, Попиль положил ладонь на плечо Ганнибала. — Ведь один ее аромат способен унести прочь все лагерное зловоние. И тут этот мясник изрыгает ей в лицо грязные оскорбления. Если бы ты его убил, я мог бы это понять. Скажи мне. Мы вместе смогли бы объяснить судье…
Ганнибал откинулся на стуле, чтобы уклониться от руки Попиля.
— «Один ее аромат способен унести прочь все лагерное зловоние». Могу я спросить — вы пишете стихи, господин инспектор?
— Ты убил мясника?
— Поль Момун сам себя убил. Он погиб из-за своей тупости и грубости.
У инспектора Попиля был богатый опыт и обширные познания в том, что касается ужасного; голос, который он сейчас услышал, был тот самый, которого он ждал: тембр голоса чуть изменился, и было странно, что он исходит из тела тринадцатилетнего подростка.
Попиль никогда раньше не слышал голоса, звучавшего на этой специфической волне, но сразу распознал его, как голос другого. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как он испытывал волнение охотника перед охотой, предвкушение схватки с цепким и сильным, противостоящим ему разумом. Он ощутил, как натянулась кожа на голове, как напрягаются руки. Ради этого он и жил.
Какой-то частью своего существа инспектор очень хотел, чтобы мясника убил взломщик. Какой-то частью своего существа он сознавал, как одинока будет леди Мурасаки, как ей необходимо будет чье-то участие и общество, если племянника отправят в колонию для несовершеннолетних преступников.
— Мясник ловил рыбу. У него на ноже остались кровь и чешуя, но рыбы при нем не оказалось. Ваш повар сказал мне, что ты принес к обеду замечательную рыбину. Откуда ты взял эту рыбу?
— Поймал, господин инспектор. Мы на реке, за эллингом, постоянно держим в воде лесу с наживкой. Я вам покажу, если захотите. Господин инспектор, а вы сами выбрали военные преступления?
— Да.
— Потому что потеряли родных на войне?
— Да.
— А можно спросить — как?
— Некоторые погибли в бою. Других отправили на восток.
— Вы поймали тех, кто это сделал?
— Нет.
— Но это были вишисты — люди вроде мясника?
— Да.
— А мы с вами можем честно говорить друг с другом?
— Вполне.
— Вам жаль, что Поль Момун мертв?
На дальней стороне площади, там, куда выходила окаймленная пышными деревьями небольшая улица, появился деревенский парикмахер месье Рубин. Он совершал свой всегдашний ночной обход, прогуливая карликового терьера. После того как месье Рубин целый день разговаривал с клиентами, он не мог остановиться и по вечерам продолжал беседовать с терьером. Он потянул за поводок, оттаскивая собаку с зеленого газона перед почтой.
— Тебе следовало выполнить свой долг на лужайке Фелипе — там тебя никто не видел, — говорил месье Рубин. — А здесь ты можешь подвергнуться штрафу. Но ведь у тебя денег нет. Платить придется мне.
Перед зданием почты на столбе висел почтовый ящик. Терьер натянул поводок, бросившись к столбу, и поднял лапу. Увидев над почтовым ящиком чье-то лицо, месье Рубин сказал:
— Добрый вечер, месье! — А затем обратился к собаке: — Смотри не запачкай господину ноги!
Терьер заскулил, и тут Рубин заметил, что никаких ног на земле с другой стороны почтового ящика нет.
Мопед мчался по мощеной дороге, чуть ли не обгоняя тусклое пятно света от собственного фонаря. Один раз, когда на другой стороне показалась идущая навстречу машина, седок укрылся среди деревьев, росших за обочиной, и вывел мопед на дорогу только тогда, когда габаритные огни машины скрылись из виду.
В темном сарае за замком фонарь мопеда угас, мотор слабо пощелкивал, остывая. Леди Мурасаки сняла широкополую шляпу и одним движением поправила прическу, подняв наверх волосы.
Лучи полицейских фонарей ярко освещали голову Поля Момуна, стоявшую на крышке почтового ящика. Через весь лоб, чуть ниже волос, шла надпись большими печатными буквами «BOSCH»[24]. Вокруг стали собираться запоздалые пьянчужки и ночные рабочие — посмотреть.
Инспектор Попиль подвел Ганнибала поближе и наблюдал за ним в свете, отражавшемся от лица убитого. Никаких изменений в выражении лица мальчика он так и не заметил.
— Движение Сопротивления добралось-таки наконец до Момуна, — сказал парикмахер и принялся объяснять всем и каждому, как он обнаружил голову, тщательно избегая упоминаний о правонарушениях, совершенных терьером.
Некоторые в толпе полагали, что Ганнибалу не следует смотреть на голову убитого. А одна пожилая женщина, ночная сиделка, возвращавшаяся домой с дежурства, сказала об этом вслух.
Попиль отправил его домой в полицейской машине. Ганнибал подъехал к замку, когда занималась розовая заря. Прежде чем войти в дом, он срезал несколько цветов и, держа в руке, расположил их по высоте стеблей. Стихи, которыми их следовало сопроводить, пришли ему в голову, когда он, подравнивая, подрезал стебли. В мастерской он взял кисточку леди Мурасаки — тушь на ней еще не высохла — и написал:
Цаплю в ночи озарил Свет полноокой луны — Кто же прекрасней?Днем Ганнибал спал, и сон его был легок. Ему снилась Мика — Мика в то лето перед войной. Няня вынесла ее ванночку в огород за охотничьим домиком, на солнцепек, чтобы солнце нагрело воду, белые бабочки-капустницы вились вокруг Мики, сидевшей в воде. Перочинным ножиком он срезал для сестренки баклажан, и она прижала к себе этот темно-фиолетовый плод, теплый от солнца.
Когда он проснулся, под дверью лежала записка с приложенным к ней цветком глицинии. В записке говорилось: «Осажденный лягушками выбрал бы цаплю»[25].
26
Чио готовилась к отъезду в Японию и потому стремилась как можно быстрее натаскать Ганнибала в элементарном японском: она надеялась, что тогда он сможет хоть как-то беседовать с леди Мурасаки по-японски, тем самым избавляя ее от скучной необходимости все время говорить по-английски.
Чио нашла в нем весьма способного ученика, особенно в том, что касалось традиции стихотворного общения, сохранившейся со времени эпохи Хэйан[26], и устроила ему постоянную практику обмена стихами, признавшись Ганнибалу, что неспособность к такому общению — главный недостаток ее будущего жениха. Она заставила Ганнибала поклясться, что он всегда будет блюсти интересы леди Мурасаки, заботиться о ней; она заставила его клясться на различных предметах, которые, как ей представлялось, могут быть священными для западных людей.
Она потребовала от него и клятв перед алтарем на чердаке, и кровавой клятвы, для которой обоим нужно было уколоть палец булавкой.
Однако как бы они того ни желали, остановить время они не могли. Когда леди Мурасаки и Ганнибал стали упаковывать вещи для переезда в Париж, Чио готовилась к отъезду в Японию. Серж с Ганнибалом погрузили дорожный сундук Чио в поезд на Лионском вокзале, а леди Мурасаки сидела с девочкой в купе, держа ее руку в своих до самой последней минуты. Посторонний наблюдатель, видя их расставание, решил бы, что они вообще лишены всяких чувств, так спокойно они обменялись прощальным поклоном.
На пути домой леди Мурасаки и Ганнибал остро чувствовали отсутствие Чио. Теперь их осталось только двое.
Парижская квартира, которую отец леди Мурасаки покинул перед войной, казалась очень японской — так тонка была в ней игра теней и лака. Если мебель, с которой постепенно снимались чехлы, и вызывала у леди Мурасаки воспоминания об отце, она никак этого не проявила.
Вместе с Ганнибалом она раздвигала тяжелые шторы, впуская в дом солнце. Ганнибал смотрел в окно, на площадь Вогезов, на это свободное, полное света пространство, на теплый красный кирпич зданий, наслаждаясь видом одной из самых красивых площадей Парижа, пусть даже сад все еще оставался непричесанным после войны.
Это здесь, внизу, на этом поле, король Генрих II[27] бился на поединке в честь Дианы де Пуатье и пал, получив смертельное ранение в глаз, так что даже сам Везалий[28], призванный к его постели, не мог его спасти.
Ганнибал закрыл один глаз и попытался представить себе, где именно пал Генрих — возможно, как раз вон там, где сейчас стоит инспектор Попиль, держа в руке горшок с каким-то растением, и смотрит вверх, на окна. Ганнибал не стал махать ему рукой в знак приветствия.
— Мне кажется, к вам идет гость, миледи, — сказал он, чуть повернув голову.
Леди Мурасаки не спросила, кто это. Когда раздался стук в дверь, она не сразу пошла ее открывать.
Попиль вошел, держа в руках горшок с растением и пакет с шоколадными конфетами от Фошона. Произошло некоторое замешательство, когда он попытался снять шляпу, не выпуская из рук то, что принес. Леди Мурасаки взяла у него шляпу.
— Добро пожаловать в Париж, леди Мурасаки. Цветочник поклялся мне, что этому растению будет очень хорошо у вас на террасе.
— У меня на террасе? Подозреваю, вы занимаетесь расследованием моих дел, инспектор. Вы уже выяснили, что у меня имеется терраса.
— И не только это. Мне удалось подтвердить присутствие в вашем доме холла, и я почти уверен, что у вас имеется кухня.
— Так вы и работаете — от комнаты к комнате?
— Да, таков мой метод, я перехожу из комнаты в комнату.
— Пока не окажетесь где, инспектор? — Она увидела, что щеки у него слегка покраснели, и оставила его в покое. — Может быть, вынесем это на свет?
Ганнибал распаковывал доспехи, когда Попиль и леди Мурасаки подошли к нему. Он стоял перед ящиком, держа в руках маску самурая. Он не обернулся к инспектору, лишь, словно сова, повернул голову и взглянул на полицейского. Заметив в руках леди Мурасаки шляпу Попиля, он определил диаметр и вес его головы — 19,5 сантиметра, шесть кило.
— Ты когда-нибудь ее надеваешь, эту маску? — спросил Попиль.
— Я этого еще не заслужил.
— Интересно.
— А вы когда-нибудь надеваете ваши многочисленные ордена, господин инспектор?
— Когда это требуется по правилам протокола.
— Шоколад от знаменитого Фошона! Очень заботливо с вашей стороны, господин инспектор. Он унесет прочь лагерное зловоние.
— Но не сможет заглушить аромат гвоздичного масла. Леди Мурасаки, мне необходимо обсудить с вами вопрос о вашем пребывании во Франции.
Попиль и леди Мурасаки беседовали на террасе. Ганнибал наблюдал за ними в окно. Он пересмотрел свое заключение о размере инспекторской шляпы — 20 сантиметров в диаметре. Во время беседы Попиль и леди Мурасаки несколько раз передвигали горшок с растением с места на место, подставляя его солнечным лучам то так, то этак. Казалось, им необходимо было чем-то занять себя.
Ганнибал не стал дальше распаковывать доспехи. Он опустился на колени рядом с ящиком и положил ладонь на обтянутую кожей ската рукоять малого меча. Смотрел в окно на полицейского инспектора сквозь глаза самурайской маски.
Он видел, что леди Мурасаки смеется. Должно быть, решил Ганнибал, инспектор Попиль делает жалкие попытки казаться веселым и легкомысленным, а она смеется просто из любезности. Когда они вернулись в дом, леди Мурасаки вышла, оставив их вдвоем.
— Ганнибал, твой дядя перед смертью пытался выяснить в Литве, что случилось с твоей сестрой. Я тоже могу попытаться это сделать. Сейчас в Прибалтике это довольно трудно: иногда советские идут на сотрудничество, гораздо чаще — нет. Но я от них не отстану.
— Спасибо.
— Что ты сам помнишь?
— Мы жили в охотничьем домике. Был взрыв. Я помню, что меня подобрали солдаты и я ехал на танке в деревню. Что в промежутке было — не знаю. Пытаюсь вспомнить. Не получается.
— Я разговаривал с доктором Руфеном.
Видимой реакции не последовало.
— Он отказывается говорить о деталях его бесед с тобой.
Никакой реакции и на это.
— Но он сказал мне, что ты очень тревожишься о сестре, что вполне естественно. Он сказал, что со временем память может к тебе вернуться. Если ты что-то вспомнишь — что-нибудь, когда-нибудь… я прошу тебя — сообщи мне.
Ганнибал смотрел на инспектора, не отводя глаз.
— Почему бы и нет? — Жать, что он не мог сейчас услышать бой часов. Как было бы хорошо услышать бой часов.
— Когда мы с тобой разговаривали после… того инцидента с Полем Момуном, я сказал тебе, что потерял близких во время войны. Мне очень тяжело думать об этом. Знаешь почему?
— Скажите мне почему, господин инспектор.
— Потому что мне думается, я должен был их спасти. Я испытываю страх, что могу обнаружить, что не все сделал, чтобы их спасти, что мог сделать что-то еще для этого. Если ты испытываешь тот же страх, что и я, не позволяй ему вытеснять воспоминания, которые могли бы помочь найти Мику. Ты можешь сказать мне все, что угодно. Я пойму.
В комнату вошла леди Мурасаки. Попиль встал и сменил тему:
— Лицей — хорошая школа, и ты заслужил, чтобы тебя туда приняли. Если я чем-то смогу тебе помочь, я это сделаю. Буду заходить к тебе в школу время от времени.
— Но вы предпочли бы заходить сюда, — сказал Ганнибал.
— Где вам всегда будут рады, — добавила леди Мурасаки.
— Всего хорошего, господин инспектор, — произнес Ганнибал.
Леди Мурасаки проводила инспектора Попиля и вернулась разгневанная.
— Вы нравитесь инспектору Попилю, я вижу — у него это на лице написано, — сказал Ганнибал.
— А что он видит? Что у тебя на лице написано? Опасно задирать его.
— Вы найдете его предельно скучным.
— А тебя я нахожу предельно грубым. Это совсем на тебя не похоже. Если желаешь грубить гостю, делай это в своем собственном доме, — сказала леди Мурасаки.
— Леди Мурасаки, я хочу остаться здесь, с вами.
Гнев ее уже покинул. Но она ответила:
— Нет. Мы будем проводить вместе каникулы и выходные дни, но ты должен жить в школьном пансионе, как требуют правила. И ты знаешь — моя рука всегда на твоем сердце.
И она положила ладонь ему на грудь.
На его сердце. Эта рука, державшая шляпу Попиля, сейчас лежала на его сердце. Эта рука, державшая нож у горла брата Момуна. Рука, схватившая за волосы голову мясника и швырнувшая ее в мешок, а затем поставившая ее на почтовый ящик. Сердце его билось под ее ладонью. Непостижимо ее лицо.
27
Лягушки хранились в формальдегиде с довоенных времен, так что если их органы и отличались когда-то по цвету, теперь они были совершенно обесцвечены. В дурно пахнущей школьной лаборатории на шесть школьников приходилась одна лягушка. Вокруг каждой пластинки, на которой распластался крохотный трупик, собрался кружок учеников, столы были усыпаны крошками и пылью от работы грубых ластиков — ребята делали зарисовки. В классе было холодно, по-прежнему не хватало угля для отопления, и многие мальчики работали в перчатках с обрезанными до половины пальцами.
Ганнибал подошел, взглянул на лягушку и вернулся к своему столу, чтобы сделать зарисовку. Он подходил к экспонату дважды. Профессор Бьенвиль, как всякий учитель, с подозрением относился к ученикам, предпочитавшим сидеть в конце класса. Он подошел к Ганнибалу сбоку и понял, что его подозрения оправданны — вместо органов лягушки ученик рисовал чье-то лицо.
— Ганнибал Лектер, почему вы не рисуете экспонат?
— Я уже закончил рисунок, господин профессор. — Ганнибал поднял верхний лист блокнота: под ним был рисунок лягушки, в точно переданной анатомической позиции и заключенной в окружность, как рисунок человека у Леонардо да Винчи; одни внутренние органы были заштрихованы, другие оттенены.
Профессор вгляделся в лицо Ганнибала. Поправил языком вставную челюсть и сказал:
— Я заберу ваш эскиз. Надо, чтобы кое-кто на него посмотрел. А вы получите за это зачет. — Профессор вернул на место верхний лист блокнота и взглянул на рисунок: — А это кто?
— Не могу точно сказать, господин профессор. Просто лицо, которое я где-то видел.
На самом деле это было лицо Владиса Грутаса, только Ганнибал не знал его имени. Это лицо он часто видел на диске луны и на полночном потолке своей спальни.
Целый год серого света, льющегося в окна школьного класса. Что ж, по крайней мере этого света хватало, чтобы рисовать, а классы менялись, поскольку школьные руководители переводили Ганнибала из класса в класс — сначала в один класс более высокого уровня, потом в другой, и снова, и снова.
И вот наконец школьные каникулы.
В первую осень после смерти графа и отъезда Чио леди Мурасаки стала особенно остро ощущать свои утраты. Когда муж был жив, она устраивала ужины на лужайке перед замком; за столом с ней вместе были граф Лектер, Ганнибал и Чио, они наблюдали восход осенней полной луны и слушали осеннее пение ночных сверчков.
Теперь на террасе своей парижской квартиры она читала Ганнибалу письмо от Чио о том, как идут приготовления к свадьбе, и оба они наблюдали, как луна близится к своему полнолунию, но слышать пения сверчков они здесь не могли.
Рано утром Ганнибал сложил свою раскладушку, установленную в гостиной, и на велосипеде пересек мост через Сену, направляясь в Ботанический сад, где снова сделал запрос в зверинце — тот, что делал уже множество раз. Сегодня есть новости: записка с адресом, написанным от руки.
Через десять минут, чуть дальше к югу, на площади Монж, угол улицы Орлеан, он нашел указанный в записке магазинчик: «Poissons Tropicaux, Petites Oiseaux, & Animaux Exotiques»[29].
Ганнибал вынул из седельной сумки небольшую папку и вошел в магазин.
Витрина была уставлена рядами сосудов и клеток, откуда доносились щебетание, посвистывание и стрекот, жужжание колес для хомячков. Пахло зерном, теплыми птичьими перьями и рыбьим кормом.
Из клетки у кассы Ганнибала по-японски приветствовал большой попугай. Пожилой японец с приятным лицом вышел из глубины магазина, где он явно что-то готовил.
— Гомекудасаи[30], месье? — произнес Ганнибал.
— Ирассаимасе[31], месье, — ответил японец.
— Ирассаимасе, месье, — повторил попугай.
— Продается ли у вас сверчок судзумуши, месье? — спросил Ганнибал.
— Non, je suis desole, Monsieur[32], — ответил хозяин магазина.
— Non, je suis desole, Monsieur, — повторил попугай.
Хозяин сердито нахмурился, глядя на попугая, и перешел на английский, чтобы поставить в тупик назойливую птицу.
— У меня есть целая коллекция замечательных боевых сверчков. Это яростные борцы, они всегда побеждают и славятся всюду, где происходят бои сверчков.
— Это должен быть подарок для благородной дамы из Японии, которая в это время года тоскует по пению сверчка судзумуши, — объяснил Ганнибал. — Обычный сверчок никак не подойдет.
— Я никогда и не стал бы предлагать французского сверчка: его песня приятна лишь потому, что связана с сезонными ассоциациями. Но у меня нет сверчка судзумуши для продажи. Может быть, ее развлечет попугай? Он владеет обширным японским словарем, набор выражений, которыми он пользуется, охватывает все слои общества.
— А не может ли быть так, что у вас имеется свой личный судзумуши?
На миг хозяин магазина устремил взгляд в пространство. Закон о ввозе насекомых и их яиц в страну в эти ранние годы новой республики был довольно расплывчат.
— А вы хотели бы его послушать?
— Вы оказали бы мне большую честь, — ответил Ганнибал.
Хозяин исчез за занавеской в глубине магазина и вскоре возвратился, держа в руках маленькую клетку со сверчком, огурец и нож. Он поставил клетку на прилавок и под алчным взглядом попугая отрезал тоненький ломтик огурца и протолкнул его в клетку. Миг — и раздалась ясная, словно звон колокольчика на санях, хрустальная песнь судзумуши. Хозяин магазина стоял с блаженной улыбкой на лице, а песнь сверчка звучала снова и снова.
Попугай изо всех сил пытался имитировать песнь сверчка, громко ее повторяя. Ничего не получив в награду, он стал агрессивен и понес чушь, так что Ганнибал даже вспомнил своего дядюшку Элгара. Хозяин набросил на его клетку чехол.
— Merde![33] — произнес попугай из-под чехла.
— Вы не думаете, что я мог бы оплатить использование вашего судзумуши на условиях, скажем, понедельной аренды?
— И какое же вознаграждение вы могли бы счесть подобающим? — спросил владелец магазина.
— Я имел в виду обмен, — сказал Ганнибал.
Он достал из папки небольшой рисунок пером и тушью размывкой — жук на склоненном стебле.
Хозяин магазина осторожно взял рисунок, держа его за края, и повернул к свету. Поставил, оперев о кассовый аппарат.
— Я могу поспрашивать у моих коллег. Не могли бы вы зайти после перерыва на обед?
Ганнибал побродил по улицам, купил у уличного торговца сливу и съел ее. Поблизости оказался магазин спортивных товаров, в витрине были выставлены охотничьи трофеи — голова канадского снежного барана, альпийский козерог. В углу витрины, прислоненная к стене, стояла элегантная двустволка фирмы «Holland & Holland». Стволы идеально врастали в ложу, казалось, дерево просто выросло вокруг металла и вместе они обрели гибкость, похожую на гибкость красивой змеи.
Двустволка выглядела красивой и элегантной, в ней было что-то от той красоты, какую он видел в леди Мурасаки. Эта мысль здесь, под взглядами охотничьих трофеев, не была ему приятна.
Владелец магазина уже ждал его со сверчком.
— Вы сможете вернуть мне клетку после конца октября?
— Разве нет шансов, что он переживет осень?
— Он может дожить до зимы, если вы будете держать его в тепле. Только принесите мне клетку в… когда наступит время. — Он дал Ганнибалу огурец. — Не давайте судзумуши весь огурец сразу, — сказал он.
Леди Мурасаки вышла на террасу после молитвы, по лицу ее было видно, что она все еще полна осенних мыслей.
Обед за низким столиком на террасе, светящиеся парижские сумерки. Леди Мурасаки и Ганнибал уже почти покончили с лапшой, когда, подкрепившись огурцом, сверчок неожиданно для нее запел свою хрустальную песнь; песнь звучала из темного укрытия под цветами. Леди Мурасаки, по-видимому; сначала решила, что грезит, что слышит эти звуки в мечтах. Но он запел снова, и снова зазвучала чистая и звонкая, словно колокольчик, песнь судзумуши.
Взгляд леди Мурасаки прояснился, она снова жила в настоящем. Она сказала Ганнибалу:
— Я вижу тебя, и сверчок поет в унисон с моим сердцем.
— Сердце мое трепещет от счастья при виде той, что научила мое сердце петь.
Луна восходила под песнь судзумуши. Терраса словно поднималась вместе с ней, втянутая в лунный свет: он был такой плотный, что казался осязаемым, он возносил их над полной призраков землей туда, где исчезали злые тени и где достаточно было того, что они — вместе.
Со временем он скажет ей, что сверчок взят взаймы, что придется вернуть судзумуши, когда убудет луна. Все-таки лучше не держать его дома до конца осени — это будет слишком долго.
28
Леди Мурасаки благодаря собственным стараниям и вкусу строила свою жизнь с определенным изяществом на те средства, что остались после продажи замка и уплаты налога на наследство. Она готова была дать Ганнибалу все, чего бы он ни попросил. Но он ничего не просил.
Роберт Лектер оставил племяннику достаточно средств, чтобы платить за учебу, но ничего сверх того.
Самым существенным элементом в бюджете Ганнибала было письмо его собственного сочинения. Письмо было подписано «Д-р Гамиль Галлиполи, аллерголог» и обращало внимание школьного руководства на то, что Ганнибал Лектер обостренно реагирует на меловую пыль и должен сидеть как можно дальше от классной доски.
Поскольку его оценки по всем предметам были исключительно высокими, он понимал, что преподавателей мало интересует, чем он занимается во время уроков, лишь бы другие ученики этого не видели и не следовали его дурному примеру.
Получив возможность сидеть в полном одиночестве в самом конце класса, он мог создавать размывки тушью и акварельные изображения птиц в стиле японского мастера Мусаши Миямото, одновременно вполуха слушая лекции учителей.
В это время в Париже возникла мода на вещи японские или в японском стиле. Рисунки Ганнибала были небольшие, туристам не составляло труда упаковать их в чемодан. Он подписывал их треугольным символом «Вечность восемью взмахами кисти».
Ганнибал нашел в Латинском квартале отличный рынок для этих рисунков — это были небольшие галереи на улицах Сен-Пэр и Жакоб, хотя некоторые владельцы этих галерей требовали, чтобы он приносил свои работы после закрытия, — клиенты не должны были знать, что рисунки созданы подростком, почти ребенком.
Поздним летом, после школы, когда солнечный свет еще пронизывал Люксембургский сад, Ганнибал рисовал игрушечные яхты на пруду, ожидая, пока закроются галереи. Потом он шел на бульвар Сен-Жермен — обходить галерейщиков: приближался день рождения леди Мурасаки, и он присмотрел замечательную яшму на площади Фюрстенберг.
Он смог продать набросок с яхтами декоратору на улице Жакоб, но рисунки в японском стиле он придерживал для явно не очень чистого на руку хозяина маленькой галереи на улице Сен-Пэр. Рисунок выглядит гораздо импозантнее, если подложить под него плотный картон и поместить в раму. Ганнибал уже нашел хорошего мастера, делавшего рамы и готового предоставить ему кредит.
Он шел по бульвару Сен-Жермен, неся рисунки в рюкзаке. Столики на тротуарах перед кафе были сплошь заняты посетителями, и уличные шуты приставали к прохожим, чтобы развлечь собравшихся в кафе «Флора». В маленьких улочках, что поближе к реке, — Сен-Бенуа и Аббей джаз-клубы были все еще закрыты, но рестораны уже работали.
Ганнибал пытался забыть о школьном ленче, о главном блюде обеда, получившем от учеников прозвище «Мощи мученика», и, проходя мимо ресторанов, с обостренным интересом изучал вывешенные у входа меню и цены блюд. Он надеялся, что вскоре у него хватит денег на обед в честь дня рождения леди Мурасаки, а сейчас он хотел выяснить, где можно найти морских ежей.
Месье Лей — владелец галереи Лея — брился, готовясь к назначенной этим вечером встрече, когда Ганнибал позвонил у двери. Свет в галерее еще горел, хотя шторы были задернуты. Лей был типичным бельгийцем: его раздражали французы и снедало страстное желание ободрать как липку любого американца, тем более что, как он полагал, американцы покупают все без разбору. В галерее были выставлены картины художников-реалистов, пользующихся успехом, небольшие скульптуры и скульптурные группы, антикварные вещицы; кроме того, она славилась картинами художников-маринистов и морскими пейзажами.
— Добрый вечер, месье Лектер, — произнес Лей. — Счастлив вас видеть. Надеюсь, вы в добром здравии. Я должен просить вас немного подождать — я упаковываю картину в ящик. Сегодня она отправляется в Филадельфию. Это в Америке.
По собственному опыту Ганнибал знал, что столь теплый прием обещает очередное надувательство. Он отдал месье Лею свои рисунки и листок бумаги, на котором твердым почерком была обозначена цена.
— Можно мне посмотреть картины? — спросил он.
— Будьте моим гостем, — ответил Лей.
Как приятно находиться вне школьных стен, смотреть на хорошие картины! После нескольких часов рисования на берегу пруда Ганнибал размышлял о воде, о проблемах, возникающих при изображении воды. Он размышлял о тумане у Тернера[34], об игре цвета у этого художника, о том, что его невозможно превзойти, невозможно ему подражать… Ганнибал переходил от картины к картине, глядя на воду, на воздух над водой. Он подошел к небольшому полотну, стоявшему на мольберте, — Большой канал в ярком солнечном свете, на заднем плане — храм Санта Мария делла Салюте.
Это был Гварди[35] из замка Лектер. Ганнибал узнал его сразу же: вспышка памяти где-то на внутренней стороне век и лишь потом — знакомое полотно перед глазами, в другой раме. Но может быть, это копия? Он снял картину с мольберта и вгляделся внимательнее. В левом верхнем углу он обнаружил едва заметный узор из нескольких крохотных коричневатых пятнышек. Когда он был еще ребенком, он слышал, как родители говорили, что это — «лисьи пятна»[36], и он проводил многие минуты, глядя на них и пытаясь увидеть в узоре что-то похожее на лису или на лисий след. Нет, это не копия. Рама жгла ему руки.
Месье Лей вошел в галерею. Он нахмурился:
— Мы здесь ничего не трогаем, если не собираемся это купить. Вот ваш чек. — И он засмеялся. — Тут слишком много, но все равно не хватит на Гварди.
— Нет, не сегодня. До следующего раза, месье Лей.
29
Инспектор Попиль, раздраженный благородно-негромким звучанием дверного звонка, застучал кулаком в дверь галереи Лея на улице Сен-Пэр. Когда владелец галереи впустил его в зал, он не стал терять времени:
— Откуда у вас этот Гварди?
— Я купил его у Копника, когда мы делили наше предприятие, — ответил Лей, отирая вспотевшее лицо и думая о том, как по-дурацки этот отвратительный француз Попиль выглядит в своем отвратительном французском пиджаке без шлиц. — Он купил его у какого-то финна. Имени он не назвал.
— Покажите мне счет, — сказал Попиль. — У вас тут обязательно должен быть список Союзной комиссии по памятникам, произведениям искусства и архивам, в котором указаны похищенные произведения. Его мне тоже покажите.
Лей сравнил список краденых произведений со своим собственным каталогом.
— Смотрите, вот тут — похищенный Гварди иначе описывается. Роберт Лектер указал в списке картину, которая называется «Вид на Санта-Мария делла Салюте», а я купил полотно под названием «Вид на Большой канал».
— У меня судебный ордер на изъятие этой картины, как бы она ни называлась. Я выпишу вам расписку. Найдите мне этого «Копника», месье Лей, и вы избавите себя от множества неприятностей.
— Копник умер, господин инспектор. Он был моим компаньоном в этой фирме. Она называлась «Копник и Лей». «Лей и Копник» звучало бы гораздо лучше.
— У вас сохранились его учетные книги?
— Возможно, они есть у его поверенного.
— Поищите их, месье Лей. Хорошенько поищите, — сказал Попиль. — Мне надо знать, как это полотно попало из замка Лектер в галерею Лея.
— Лектер, — произнес Лей. — Тот самый мальчик, что приносит мне свои рисунки?
— Да.
— Невероятно, — сказал Лей.
— Да, невероятно, — согласился Попиль. — Заверните мне эту картину, пожалуйста.
Через два дня Лей появился на набережной Орфевр с пачкой бумаг. Попиль устроил так, что Лея посадили в коридоре напротив двери с табличкой «Audition 2», где шел громогласный допрос обвиняемого в изнасиловании, прерываемый звуками ударов и воплями. Попиль дал галерейщику помариноваться в этой атмосфере минут пятнадцать и лишь после этого пригласил его к себе в кабинет.
Галерейщик вручил инспектору квитанцию. В ней указывалось, что Копник купил картину Гарди у некоего Эмппу Макинена за восемь тысяч английских фунтов.
— Вы полагаете, что это убедительно? — спросил Попиль. — Я — нет.
Лей откашлялся, глядя в пол. Прошло не менее двадцати секунд.
— Прокурор намеревается начать уголовное расследование вашей деятельности, месье Лей. А ведь он — кальвинист самого строгого разбора, вам это известно?
— Но картина была…
Попиль поднял руку, заставляя Лея замолчать.
— В данный момент я хочу, чтобы вы забыли о вашей личной проблеме. Предположите на миг, что я мог бы вмешаться и помочь вам — если сочту нужным. Но я хочу, чтобы вы помогли мне. Хочу, чтобы вы взглянули на это. — Он вручил галерейщику пачку листков папиросной бумаги с тесно напечатанным на машинке текстом. — Это список предметов, которые Союзная комиссия должна доставить в Париж из Мюнхенского сборного пункта. Все это — украденные произведения искусства.
— Чтобы выставить в Зале для игры в мяч[37]? В Лувре?
— Да. Претендующие на владение ими смогут увидеть их там. Вторая страница, посередине. Я обвел это кружком.
— «Мост вздохов», Бернардо Беллотто[38], тридцать шесть на тридцать сантиметров, масло на доске.
— Вам известна эта картина? — спросил Попиль.
— Я, разумеется, о ней слышал.
— Если она подлинная, то ее тоже похитили из замка Лектер. Вы, конечно, знаете, что у нее есть знаменитая пара — другая картина с видом на Мост вздохов.
— Да, Каналетто[39]. Он написал ее в тот же день.
— Она тоже похищена из замка Лектер, возможно, в то же время и тем же человеком, — сказал Попиль. — Насколько больше денег вы получили бы, продав эту пару вместе, чем если бы продавали картины по отдельности?
— В четыре раза. Ни один разумный человек не стал бы их разъединять.
— Значит, их разъединили по невежеству или по несчастной случайности. Два полотна с видом Моста вздохов! Если человек, похитивший их, по-прежнему держит у себя одну из этих картин, разве не захочет он получить назад вторую?
— Очень захочет.
— Газеты поднимут шумиху вокруг этой картины, когда ее выставят в Зале для игры в мяч. Вы пойдете со мной на эту выставку, и мы посмотрим, кто будет крутиться вокруг нее, что-то вынюхивая.
30
Приглашение, полученное леди Мурасаки, позволило ей попасть в музей до того, как туда вошли многочисленные посетители, толпившиеся в саду Тюильри и с нетерпением ожидавшие возможности увидеть более пяти сотен похищенных произведений искусства, доставленных Союзной комиссией из Мюнхенского сборного пункта для того, чтобы отыскать их законных владельцев.
Некоторые из экспонатов совершали уже третье путешествие из Франции в Германию и обратно, поскольку сначала были захвачены Наполеоном в Германии и привезены во Францию, затем захвачены немцами и привезены домой, а теперь снова оказались доставлены во Францию союзниками.
Леди Мурасаки обнаружила на первом этаже музея поразительное смешение западноевропейских образов. Кровавые изображения религиозных сцен заполняли один конец зала: настоящая мясницкая, полная распятых Христов.
Чтобы облегчить душу, она подошла к картине «Мясной завтрак» — веселому натюрморту, изображавшему изобильный буфет без единой живой души, кроме спрингер-спаниеля, явно собиравшегося полакомиться окороком. За натюрмортом располагались крупные полотна «Школы Рубенса» с розовыми женщинами необъятных размеров в окружении пухлых младенцев с крылышками.
Тут-то и увидел инспектор Попиль леди Мурасаки, изящную, элегантную, в поддельном костюме от Шанель, на фоне нагих розовых женщин Рубенса.
Вскоре Попиль заметил и Ганнибала — тот поднимался по лестнице с нижнего этажа. Инспектор следил за ними, не показываясь им на глаза.
А вот и они увидели друг друга — прелестная японка и ее подопечный. Попилю было интересно посмотреть, как они встретятся. Они остановились на некотором расстоянии друг от друга, и каждый из них, не поклонившись, даже не кивнув, отреагировал на присутствие другого улыбкой. Потом они обнялись; леди Мурасаки поцеловала Ганнибала в лоб, коснулась рукой его щеки, и вот они уже оживленно беседуют.
Прямо над ними, так тепло встретившимися друг с другом, висела картина Караваджо[40] «Обезглавливание Олоферна. Юдифь». До войны это позабавило бы Попиля. Но теперь у него по шее пониже затылка поползли мурашки.
Попиль поймал взгляд Ганнибала и кивком указал на маленький кабинет у входа, где их ждал Лей.
— В Мюнхенском сборном пункте говорят, что картина была изъята у контрабандиста на польской границе полтора года назад, — сказал Попиль.
— Он раскололся? Выдал источник? — спросил Лей.
Попиль отрицательно покачал головой.
— Контрабандист был задушен немецким заключенным в американской тюрьме для военных преступников в Мюнхене, а этот заключенный — он пользовался в тюрьме кое-какими привилегиями — в ту же ночь исчез. Мы полагаем, его переправили по так называемой подпольной железной дороге — это целая сеть явок и маршрутов, способствующая бегству немецких военных преступников. Тут мы оказались в тупике. Картина висит под номером 88, ближе к углу. Месье Лей говорит, она выглядит подлинной. Ганнибал, ты можешь определить, это полотно из твоего дома или нет?
— Могу.
— Если это ваша картина, тронь подбородок. Если к тебе кто-нибудь обратится, скажи, что ты так счастлив ее увидеть, что тебя мало интересует, кто ее украл. Ты жаден, ты жаждешь денег, тебе надо получить ее как можно скорее, чтобы тут же ее продать, но и парная к ней картина тебе тоже нужна.
Будь несговорчив, Ганнибал, будь эгоистичен и капризен, — говорил Попиль с несвойственным ему увлечением. — Как думаешь, у тебя это получится? Затей небольшую ссору с твоей опекуншей. Этот человек сам будет искать с тобой контакта, а не наоборот. Он почувствует себя в большей безопасности, если увидит, что вы с леди Мурасаки не в ладах. Настаивай на том, каким образом установить с ним контакт. Мы с Леем сейчас выйдем. Дай нам несколько минут, прежде чем сам вступишь в игру.
— Ну, пошли, — сказал он Лею, стоявшему с ним рядом. — Мы с вами делаем вполне законное дело, приятель, так что нечего к стенке жаться.
Ганнибал и леди Мурасаки идут, вглядываясь, вглядываясь, вглядываясь в ряды небольших картин.
И вот — прямо на уровне глаз — «Мост вздохов». Увидев эту картину, Ганнибал был потрясен гораздо сильнее, чем в тот раз, в галерее Лея, когда обнаружил там Гварди: рядом с этой картиной он увидел лицо матери.
Сейчас в зал потоком шли посетители, держа в руках списки произведений искусства, а под мышками — пачки документов, подтверждающих права владения. Среди них был заметен высокий человек в костюме настолько английском, что казалось, в его пиджак вшиты элероны.
Держа список перед лицом, он остановился рядом с Ганнибалом, достаточно близко, чтобы слышать, что он говорит.
— Эта картина — одна из двух, что висели в рабочей комнате моей мамы, — говорил Ганнибал. — Когда мы в последний раз уезжали из замка, она дала ее мне и сказала, чтобы я отнес ее повару. И чтобы не стер то, что на обороте.
Ганнибал снял картину со стены и перевернул. В глазах его замелькали искры. Там, на обратной стороне холста, были мелом нанесены контуры младенческой руки, уже почти стершиеся, — остались главным образом большой палец и указательный. Меловые линии были защищены листком пергамина.
Ганнибал долго смотрел на холст. В этот ошеломляющий миг ему почудилось, что пальцы чуть двигаются — будто-невидимая рука ему помахала.
Невероятным усилием он заставил себя вспомнить то, что сказал ему Попиль. «Если это ваша картина, тронь подбородок».
Он смог наконец глубоко вздохнуть и тронул рукой подбородок.
— Это — рука Мики, — объяснил он леди Мурасаки. — Когда мне было восемь лет, белили комнаты наверху. Эта картина, вместе с парной, переехала на диван в маминой комнате, их завесили простыней. Мы с Микой забрались под простыню, к картинам. Мы играли в кочевников в пустыне, это был наш шатер. Я достал из кармана мелок и обвел ее ладошку — уберечь от дурного глаза. Родители рассердились, но картина не была повреждена, и в конце концов, я думаю, они решили, что это забавно.
К ним торопливо направлялся человек в фетровой шляпе, на шнурке вокруг шеи болталась табличка с указанием его имени и должности.
«Служащий из Комиссии будет тебя отчитывать, быстро начни с ним скандалить», — инструктировал Ганнибала Попиль.
— Пожалуйста, не делайте этого! Не трогайте! — произнес служащий.
— Я не стал бы ее трогать, если бы она была не моя! — возразил Ганнибал.
— Ничего не трогайте, пока не докажете, что это ваша собственность. Иначе я попрошу вывести вас из зала. Сейчас я приглашу кого-нибудь из администрации.
Как только служащий отошел, человек в английском костюме оказался бок о бок с ними.
— Я — Алек Требело, — проговорил он. — Я мог бы вам помочь.
Инспектор Попиль вместе с Леем наблюдали за происходящим с расстояния двадцати метров.
— Вы знаете этого человека? — спросил Попиль.
— Нет, — ответил Лей.
Чтобы удалиться от толпы, Требело предложил леди Мурасаки и Ганнибалу пройти в глубокую нишу перед створчатым окном. Ему было за пятьдесят, его лысину и руки покрывал густой загар, в ярком свете, лившемся из окна, было видно, что кожа над бровями у него шелушится. Ганнибал никогда его раньше не видел.
Большинство мужчин бывают счастливы познакомиться с леди Мурасаки. Требело оказался исключением, и она тотчас же это почувствовала, хотя вел он себя совершенно безупречно.
— Я восхищен встречей с вами, мадам. Не пойдет ли здесь речь об опекунстве?
— Мадам — моя высоко ценимая советчица, — сказал Ганнибал. — Но дела вы будете вести со мной.
«Будь жадным, — говорил ему Попиль, — голос леди Мурасаки будет гласом умеренности».
— Здесь пойдет речь об опекунстве, месье, — сказала леди Мурасаки.
— Но ведь это моя картина, — возразил Ганнибал.
— Вам придется представить свой запрос на слушаниях в Комиссии, а они загружены такими запросами как минимум на полтора года. Картина будет находиться на хранении до принятия решения.
— Я учусь в школе, месье Требело, я рассчитывал, что смогу…
— Я могу помочь вам, — сказал Требело.
— Скажите мне как, месье?
— Через три недели у меня назначены слушания по другому делу.
— Вы перекупщик, месье Требело? — спросила леди Мурасаки.
— Я был бы коллекционером, если бы мог, мадам. Но чтобы покупать, я должен продавать. Великое удовольствие — держать в руках прекрасные веши, пусть и недолго. Ваша семейная коллекция в замке Лектер была небольшой, но весьма изысканной.
— Вы знали эту коллекцию? — спросила леди Мурасаки.
— Потери замка Лектер были перечислены в списке, поданном в Комиссию вашим… Робертом Лектером, как я полагаю.
— И вы могли бы представить мое дело на этих слушаниях? — спросил Ганнибал.
— Я потребовал бы ее возвращения на основании Гаагской конвенции 1907 года. Я вам сейчас объясню…
— Да, в соответствии со статьей сорок шестой, мы как раз говорили об этом, — сказал Ганнибал, взглянув на леди Мурасаки и облизывая губы, чтобы выглядеть как можно более алчным.
— Но мы говорили о самых разных возможностях, Ганнибал, — возразила леди Мурасаки.
— А что, если я не захочу ее продавать, месье Требело? — спросил Ганнибал.
— Тогда вам придется ждать, пока подойдет ваша очередь в Комиссии. К тому времени вы, возможно, уже станете взрослым.
— Эта картина — одна из двух парных, как мне объяснил мой муж, — сказала леди Мурасаки. — Вместе они стоят гораздо больше. Вам, случайно, не известно, где находится вторая? Это Каналетто.
— Нет, мадам.
— Вам очень стоило бы разыскать ее, месье Требело. — Она посмотрела прямо ему в глаза. — Вы можете сказать мне, как я смогу с вами связаться? — спросила она, чуть заметно подчеркнув голосом местоимение «я».
Он дал им название небольшой гостиницы недалеко от Восточного вокзала, пожал руку Ганнибалу, избегая его взгляда, и исчез в толпе.
Ганнибал зарегистрировался как податель запроса, и вместе с леди Мурасаки они пошли бродить по залу среди великого смешения произведений искусства. После того как он увидел контур руки Мики, Ганнибал весь словно застыл, единственным не застывшим местом была его щека, там, где когда-то ее погладила Мика. Он и сейчас чувствовал ее прикосновение.
Ганнибал остановился перед гобеленом «Жертва Исаака» и долго на него смотрел.
— У нас наверху все коридоры были увешаны такими гобеленами, — сказал он. — Если встать на цыпочки, я мог дотянуться до нижнего края. — Он приподнял угол ткани и взглянул на изнанку. — Я всегда предпочитал ту сторону гобелена. Смотрел на нити и шнуры, из которых складывается картина.
— Как путаница мыслей, — заметила леди Мурасаки.
Он отпустил угол гобелена, и Авраам содрогнулся, крепко держа своего сына за шею, а ангел уже протягивал руку, чтобы остановить нож.
— Как вы думаете, Бог действительно намеревался съесть Исаака и потому приказал Аврааму его убить? — спросил Ганнибал.
— Нет, Ганнибал. Разумеется — нет! Ведь ангел вмешивается вовремя!
— Не всегда, — сказал Ганнибал.
Когда Требело увидел, что они ушли из музея, он отправился в туалет, смочил носовой платок и вернулся к картине. Никто из служителей музея на него не смотрел. Слегка волнуясь, он снял картину со стены и, приподняв листок пергамина, стер влажным платком очертания Микиной руки с обратной стороны холста. Такое вполне могло случиться из-за недостаточно бережного обращения с картиной, когда она отправится на хранение. Лучше вовремя избавиться от сантиментов, чтобы они не помешали сделке.
31
Рене Аден, полицейский в штатском, ждал у гостиницы, где остановился Требело, до тех пор, пока на четвертом этаже не погасло окно. Тогда он пошел в вокзальный ресторан — перекусить, и тут ему крупно повезло — он успел вернуться на свой пост, как раз когда Требело снова вышел из гостиницы со спортивной сумкой в руке.
Требело взял такси на стоянке у Гар-дель-Эст, переехал на другой берег Сены, где на улице Бабилон находилась паровая баня, и вошел внутрь. Аден поставил свою машину без опознавательных знаков в пожарной зоне, сосчитал до пятидесяти и вошел в предбанник. Здесь было душно, пахло кремом. Сидя в креслах, мужчины в купальных халатах читали газеты на разных языках.
Адену не хотелось раздеваться и следовать за Требело в парную. Он был довольно решительным человеком, но его отец погиб из-за траншейной стопы[41], и ему не хотелось снимать обувь в таком месте. Он взял с полки газету на деревянном держателе и опустился в кресло.
Требело шлепал в слишком коротких для него сабо на деревянной подошве через бесконечную анфиладу помещений, где множество мужчин, распластавшихся на облицованных кафелем скамьях, отдавали себя почти невыносимому жару.
Отдельную сауну можно было снять после пятнадцатиминутного ожидания. Требело вошел во вторую. Его посещение было уже оплачено. Здесь было жарко, воздух словно загустел. Пришлось протереть очки полотенцем.
— Что вас так задержало? — спросил Лей из облаков пара. — Я уже почти расплавился.
— Администратор передал мне ваше поручение, когда я уже лег спать, — объяснил Требело.
— Сегодня в Зале для игры в мяч за вами следила полиция: они знают, что Гварди, которого вы мне продали, краденый.
— И кто же их навел на мой след? Вы?
— Едва ли. Они считают, что вы знаете, у кого находятся картины из замка Лектер. Вы знаете?
— Нет. Возможно, мой клиент знает.
— Если получите другой «Мост вздохов», я смогу загнать обе, — сказал Лей.
— Куда это вы сможете их загнать?
— Это мое дело. Крупному покупателю в Америке. Скажем, некоему учреждению. Вам что-нибудь известно, или я здесь зря потом исхожу?
— Я с вами свяжусь, — ответил Требело.
Когда поезд остановился в Мо, уже наступила ночь. Требело отнес свой бритвенный прибор в туалет и, оставив чемодан в вагоне, спрыгнул с поезда, как только тот тронулся.
В квартале от станции его ждала машина.
— Почему именно здесь? — спросил Требело, садясь рядом с водителем. — Я мог приехать к вам домой, в Фонтенбло.
— У нас тут дело, — ответил человек за рулем. — Очень хорошая сделка.
Требело знал его под именем Кристофа Клебера.
Клебер подъехал к кафе рядом со станцией, где с наслаждением съел обильный обед. Он даже поднес ко рту суповую плошку, чтобы допить суп «Вишиссуа»[42]. Требело поиграл с анчоусным салатом «Никуаз» и на краю тарелки выложил из стручковой фасоли свои инициалы.
— Полиция забрала Гварди, — сказал Требело, когда Клеберу принесли телячий пейяр[43].
— Да, вы сказали об этом Эркюлю. Не следовало сообщать такие веши по телефону. Так что у вас за вопрос?
— Лею сказали, что она похищена на Востоке. Это правда?
— Разумеется, нет. А кто задает вопрос?
— Полицейский инспектор, у которого имеется список Союзной комиссии по памятникам, произведениям искусства и архивам. Он сказал, что картина была похищена. Это так?
— А вы штамп видели?
— Штамп Наркомата просвещения? Чего он стоит? — возразил Требело.
— А этот полицейский сказал, кому она принадлежала там, на Востоке? Если еврею, то это не имеет значения. Союзники не возвращают произведения искусства, конфискованные у евреев. Ведь этих евреев уже нет в живых. Советские просто оставляют их у себя.
— Это не простой полицейский, а полицейский инспектор, — сказал Требело.
— Вот слова типичного швейцарца. Как его фамилия?
— Попиль. Что-то вроде этого.
— А-а!.. — протянул Клебер, вытирая губы салфеткой. — Я так и думал. Тогда — никаких проблем. Я ему уже сто лет регулярно деньги плачу. Он просто вымогатель. А что Лей ему сказал?
— Пока ничего. Но Лей явно нервничает. Пока что он все валит на Копника, на своего покойного партнера, — ответил Требело.
— А Лей ничего не знает? Ни малейших подозрений о том, где вы получили картину?
— Лей полагает, что я купил ее в Лозанне, как мы с вами и договорились. Он требует назад деньги. Я сказал, я все выясню у своего клиента.
— Попиль у меня в кармане, я сам им займусь, забудьте про это дело. У меня есть кое-что поважнее, и мне надо это обсудить с вами. Не могли бы вы отправиться в Америку?
— Я не вожу вещи через таможню.
— Таможня — не ваша проблема. Только переговоры, когда вы будете там. Вы должны посмотреть товар перед отправкой, а потом увидите его снова уже по ту сторону океана, на столе в одном из банковских помещений. Вы можете полететь самолетом. На неделю.
— Что за товар?
— Мелкий антиквариат. Несколько икон. Солонка. Мы с вами посмотрим, и вы скажете мне, что вы по этому поводу думаете.
— А то, другое?
— Тут вы в полной безопасности, — заверил его Клебер.
Этот человек звался Клебером только во Франции. По рождению он был Петрас Кольнас, и он действительно знал фамилию Попиля, но не потому, что тот был у него в кармане.
32
Небольшое речное судно «Кристабель» было пришвартовано к причалу на Марне, что к востоку от Парижа, лишь одним веревочным линем, и когда Требело взошел на борт, оно сразу же отправилось в путь. Это был черный плавучий дом голландской постройки, с низкими палубными надстройками, чтобы легко проходить под мостами, и с садом из цветущих растений в терракотовых горшках на верхней палубе.
Хозяин судна, худощавый, невысокий человек с бледно-голубыми глазами и приветливым лицом, ждал у трапа, чтобы приветствовать Требело на борту. Он пригласил швейцарца вниз.
— Рад познакомиться с вами, — сказал он, протягивая для рукопожатия руку. Тыльная сторона его ладони поросла волосами, они росли как-то задом наперед — по направлению к кисти, и у Требело мороз прошел по коже, когда он пожимал эту ладонь. — Идите за месье Милко. Я разложил товар там, внизу.
Сам хозяин задержался с Кольнасом на палубе. Некоторое время они прогуливались между терракотовыми цветочными горшками, затем остановились у единственного в аккуратном садике уродливого предмета — пятидесятигаллонной стальной бочки из-под масла с прорезанными в боках отверстиями, достаточно большими, чтобы в них могла проплыть рыба. Верх у бочки был отрезан газовым резаком и нетуго привязан проволокой. На палубе под бочкой был расстелен брезент. Хозяин судна похлопал по ее стальному боку так сильно, что она зазвенела.
— Пошли, — сказал он.
На нижней палубе он открыл дверцы высокого шкафа. Шкаф был заполнен самым разнообразным оружием. Здесь были русская снайперская винтовка, американский пулемет Томпсона, пара немецких «шмайссеров», пять противотанковых фауст-патронов для использования против других судов и целая коллекция легкого огнестрельного оружия. Хозяин выбрал копье-трезубец для охоты на крупную рыбу, кончики зубцов были спилены. Он вручил копье Кольнасу.
— Я не планирую так уж сильно его порезать, — произнес хозяин благодушным тоном. — Евы сегодня нет, некому будет чистоту наводить. Сделаешь это на палубе, когда мы вытянем из него все, что ему говорили. Только разделай его как следует, чтобы он не выплыл из бочки.
— Милко же может… — начал было Кольнас.
— Швейцарец — твоя идея, тебе и зад подставлять, так что давай действуй. Разве тебе не каждый день приходится мясо резать? Милко вынесет его труп наверх и поможет уложить в бочку, когда ты его разделаешь. Оставь у себя его ключи и обыщи его комнату. Мы и перекупщика Лея уберем, если понадобится. Надо все концы подобрать. И никаких произведений искусства до поры до времени, — сказал хозяин судна. Во Франции он звался Виктором Густавсоном.
Виктор Густавсон — весьма успешный бизнесмен, он торгует морфием, который когда-то принадлежал СС, а также новыми проститутками, в основном женского пола. Настоящее его имя — Влади с Грутас.
Лей остался в живых, но потерял все свои картины. Они много лет оставались в государственных хранилищах, поскольку судебное разбирательство зависло из-за того, что было неясно, можно ли применить Хорватские соглашения по репарациям к Советской Литве. Невидящие глаза Требело смотрели из стальной бочки, лежавшей на дне Марны, на текущую над ним воду; он больше не был лыс — на голове лохматились зеленые волосы водорослей и морской травы, они развевались в бегучей воде, как кудри его юности.
Ни одна картина из замка Лектер не всплывет на поверхность в течение многих лет.
Благодаря любезному содействию инспектора Попиля Ганнибал Лектер получил разрешение время от времени посещать картины в хранилище. С ума можно сойти, сидя в подвале, в глухой тишине, слыша над самым ухом аденоидное дыхание охранника, не сводящего с тебя глаз.
Ганнибал смотрит на картину, которую когда-то взял из маминых рук, и понимает, что прошлое вовсе не стало прошлым: зверь, чье зловонное дыхание обжигало ему и Мике кожу, по-прежнему дышит, дышит в это самое время. Ганнибал поворачивает «Мост вздохов» лицом к стене и смотрит на обратную сторону холста, смотрит каждый раз в течение долгих минут. Очертаний Микиной руки нет, они стерты, есть только пустой квадрат холста, на который он проецирует свои смятенные видения.
Ганнибал взрослеет и меняется; или, может быть, выявляется то, что было в нем всегда.
Часть II
И если я твержу, что Милосердье Хоронится во тьме густой дубравы, То разумею только кротость зверя, Чьи когти остры и клыки кровавы. Дж. И. Спингарн (1875–1939) — американский педагог, литературный критик и поэт)33
На центральной сцене парижской Гранд-Опера подходило к концу время, отпущенное доктору Фаусту по договору с Дьяволом. Ганнибал Лектер и леди Мурасаки наблюдали из отдельной ложи слева от сцены за мольбами Фауста, старавшегося избежать адского пламени, языки которого взлетали к самому несгораемому потолку огромного театра, творения Гарнье[44].
Ганнибал, восемнадцати лет от роду, был на стороне Мефистофеля и презрительно относился к Фаусту, но лишь вполуха следил за развязкой. Он наблюдал за леди Мурасаки, он дышал ею, одетой для посещения оперы в вечерний туалет. В ложах на противоположной стороне зала мелькали блики света: джентльмены все время поворачивали свои театральные бинокли от сцены, чтобы также полюбоваться ею.
На фоне освещенной сцены она была лишь силуэтом, точно такая же, какой Ганнибал увидел ее в первый раз, в замке, когда был еще мальчиком. Образы прошлого тут же возникли у него перед глазами, один за другим, по порядку: блеск перьев красивой вороны, пьющей из водосточного желоба, блеск волос леди Мурасаки. Сначала ее силуэт, потом она распахнула створки окна, и свет коснулся ее лица.
Ганнибал уже далеко ушел по Мосту грез. Он уже вырос, и ему теперь были впору вечерние костюмы покойного графа, а вот леди Мурасаки внешне осталась точно такой же.
Ее рука коснулась юбки, и он, несмотря на звучащую музыку, услышал шелест материи. Зная, что она может почувствовать его взгляд, он отвел глаза и осмотрел ложу.
Ложа определенно имела собственный характер. Позади кресел, скрытая от взглядов из противоположных лож, стояла уродливая банкетка с ножками в виде козлиных копыт, на которую могли удалиться впавшие в экстаз любовники, пока оркестр продолжал выдавать каденции из оркестровой ямы. В прошлом сезоне — Ганнибал случайно узнал об этом у санитаров «скорой помощи» — некий пожилой джентльмен свалился с этой банкетки с сердечным приступом под звуки заключительных трелей «Полета шмеля».
Ганнибал и леди Мурасаки были в ложе не одни.
В двух передних креслах сидели комиссар полиции из префектуры Парижа и его жена, что оставляло мало сомнений в том, откуда леди Мурасаки получила билеты. От инспектора Попиля, конечно. Как приятно, что сам инспектор Попиль не смог присутствовать — видимо, увяз в расследовании очередного убийства, надо надеяться, достаточно продолжительном и опасном, на улице, может быть, даже под угрозой смертельного удара молнии.
В зале зажегся свет, и тенор Беньямино Джильи[45] получил заслуженную овацию битком набитого зала — публика аплодировала стоя. Комиссар полиции и его жена обернулись к остальным, сидящим в ложе, и обменялись с ними рукопожатиями — ладони у всех немного онемели от аплодисментов.
У жены комиссара были яркие и любопытные глаза. Она остановила взгляд на Ганнибале, выглядевшем совершенно безукоризненно в вечернем костюме графа, и не могла удержаться от замечания:
— Молодой человек, муж сказал мне, что вы самый юный студент во Франции, когда-либо принятый на медицинский факультет.
— Архивные данные неполны, мадам. Вероятно, были и другие ученики хирургов…
— Это правда, что вам достаточно прочесть учебник один раз, а потом вы возвращаете его в книжный магазин и получаете назад свои деньги?
Ганнибал улыбнулся.
— О нет, мадам. Это не совсем точная информация, — ответил он. «Интересно, откуда она это узнала? Видимо, из того же источника, откуда мы получили билеты». Ганнибал придвинулся к даме чуть ближе. Пытаясь найти подходящие слова для финальной фразы, он поднял глаза на комиссара и склонился к руке дамы, произнеся громким шепотом: — На мой взгляд, это выглядело бы как преступление.
Комиссар, удостоверившийся, что Фауст наказан за свои грехи, пребывал в отличном настроении.
— Я готов смотреть на это сквозь пальцы, молодой человек, если вы тотчас же покаетесь моей жене.
— Правда, мадам, заключается в том, что я получаю назад не все деньги. Книжный магазин удерживает залог в двести франков за свои труды.
А теперь прочь отсюда и вниз по громадной лестнице оперного театра; освещаемые торшерами Ганнибал и леди Мурасаки спускаются вниз быстрее, чем это проделал Фауст, желая оторваться от толпы. Над ними проплывают расписанные Пилем[46] потолки, повсюду сплошные крылышки ангелов — в красках и в камне.
Теперь на площади Оперы имелись такси. От угольной жаровни уличного торговца в воздух поднимался дымок, напоминая о кошмарах Фауста. Ганнибал подозвал такси.
— Удивительно, зачем вы рассказали инспектору Попилю о моих книгах? — сказал он уже в машине.
— Он сам об этом узнал, — ответила леди Мурасаки. — И сообщил комиссару, а комиссар сказал своей жене. А той просто захотелось пофлиртовать. Ты ведь не так туп, Ганнибал, мог бы и сам догадаться.
«Ей теперь не по себе наедине со мной, да еще в ограниченном пространстве; и это у нее выражается в раздражении».
— Извините.
Она бросила на него быстрый взгляд. Такси миновало светофор.
— Твоя враждебность мешает тебе судить здраво. Инспектор Попиль не отстает от тебя, потому что ты его заинтриговал.
— Нет, миледи, это вы его заинтриговали. Полагаю, он докучает вам своими стихами…
Леди Мурасаки не стала удовлетворять любопытство Ганнибала.
— Он знает, что ты — первый в своей группе, — сказала она. — И гордится этим. Его интерес к тебе по большей части благожелательного свойства.
— По большей части благожелательного свойства — это не слишком приятный диагноз.
Деревья на площади Вогезов уже раскрывали почки, благоухающие в весенней ночи. Ганнибал отпустил такси, ощутив на себе быстрый взгляд леди Мурасаки, несмотря на то что вокруг было темно. Он был уже взрослый, ему больше не нужно было сидеть по вечерам дома.
— У меня есть еще час, и я хочу пройтись, — сказал он.
34
— Ты еще успеешь выпить чаю, — сказала леди Мурасаки.
Она сразу же провела его на террасу, явно предпочитая не оставаться наедине с ним в комнатах. Он не знал, что думать по этому поводу. Он изменился, а она — нет. Порыв ветра — и пламя в масляной лампе поднялось ввысь. Когда она наливала ему зеленый чай, он видел, как бьется пульс у нее на запястье, и тонкий аромат от ее рукава проник в него подобно его собственной мысли.
— Пришло письмо от Чио, — сказала она. — Она разорвала свою помолвку. Дипломатия ее больше не устраивает.
— Она рада?
— Думаю, да. Это была бы хорошая партия — если мерить старыми мерками. Да и как я могу не одобрить ее поступок: она ведь пишет, что поступает так же, как в свое время поступила я, — следует велению собственного сердца.
— И куда же она следует?
— К молодому человеку из Киотского университета. Инженерный факультет.
— Мне бы хотелось, чтобы она была счастлива.
— А мне бы хотелось, чтобы счастлив был ты. Ты вообще когда-нибудь спишь, Ганнибал?
— Когда есть время. Иногда сплю на каталке для больных, когда не могу заснуть у себя в комнате.
— Ты же понимаешь, о чем я…
— Снятся ли мне сны? Да. А вы разве не возвращаетесь во сне в Хиросиму?
— Я не умею призывать сны.
— А мне нужно все помнить, любым способом.
В дверях она протянула ему коробку с бутербродами, чтобы перекусить ночью, и несколько пакетиков с ромашковым чаем.
— Чтобы ты заснул, — сказала она.
Он поцеловал леди Мурасаки руку, совсем не так, как того требует французская вежливость, поцеловал по-настоящему, чтобы ощутить вкус ее кожи.
И прочел хокку[47], которое написал ей уже так давно, в ночь мясника.
Цаплю в ночи озарил Свет полноокой луны. Кто же прекрасней?— До полнолуния еще далеко, — сказала она, улыбаясь, и положила руку ему на сердце, как всегда делала с тех пор, как ему исполнилось тринадцать. А потом убрала руку, и это место у него на груди сделалось холодным. — Ты и в самом деле возвращаешь книги в магазин?
— Да.
— Значит, можешь запомнить все, что в них было написано?
— Все самое важное.
— Значит, ты можешь запомнить, что важно не дразнить инспектора Попиля. Если его не провоцировать, он для тебя безвреден. И для меня тоже.
«Она надела на себя раздражение, как надевают зимнее кимоно. Видя такое, могу ли я использовать это ее настроение, чтобы не думать о том, как видел ее сидящей в ванне, тогда, в замке, так много лет назад — ее лицо и груди как водяные лилии? Как кремово-розовые лилии на воде замкового рва? Могу? Нет, не могу».
Он вышел в ночь, чувствуя себя неуютно, пока не прошел первые квартала два, потом выбрался из узких улочек квартала Марэ, чтобы затем пройти по мосту Луи-Филиппа, которого чуть касался свет луны и под которым струилась Сена.
Собор Нотр-Дам, если смотреть на него с востока, похож на огромного паука с огромными ногами — устремленными ввысь контрфорсами — и множеством глаз — круглых окон. Ганнибал легко мог себе представить, как этот каменный паук-собор бегает в темноте по городу, как хватает первый попавшийся поезд, отошедший от вокзала д’Орсэ, словно червяка себе на пропитание, или, что еще лучше, высматривает упитанного полицейского инспектора, выходящего из управления полиции на набережной Орфевр — его ведь так легко внезапно схватить и утащить.
Он прошел по пешеходному мосту на остров Ситэ и обошел кафедральный собор. Из глубин Нотр-Дам доносились звуки репетирующего хора.
Ганнибал остановился под аркадой у центрального входа, посмотрел на сцены Страшного суда, рельефами украшавшие арки и перемычки над дверью. Он обдумывал, как бы выставить их для обзора в своем Дворце памяти, чтобы запечатлеть сложную операцию по диссекции горла: там, на верхней перемычке, св. Михаил держал в руках весы, словно сам проводил аутопсию. Весы св. Михаила весьма напоминали гиоид, подъязычную кость, а над ним нависали святые, очень похожие на сосцевидный отросток височной кости. Нижняя перемычка с изображением проклятых грешников, закованных в цепи и угоняемых куда-то, будет тогда ключицей, а последовательность арок выступит в роли структурных слоев горла — этот простой катехизис легко запомнить: стерно-гиоид, омо-гиоид, тиро-гиоид, яре-е-емная вена. Аминь.
Нет, так не пойдет. Все дело в освещении. Образцы, выставленные во Дворце памяти, должны быть хорошо освещены и достаточно свободно расставлены. К тому же этот грязный камень имеет слишком насыщенный цвет. Однажды на экзамене Ганнибал пропустил каверзный вопрос, потому что ответ был слишком темного цвета и у себя в уме он поставил его на темном фоне. Комплексная диссекция шейного отдела, назначенная на ближайшую неделю, потребует четкого и ясного размещения образцов со значительными промежутками между ними.
Последние хористы выбрались из собора, неся свои облачения под мышкой. Ганнибал вошел внутрь. Нотр-Дам был погружен во мрак, если не считать свечей, оставленных молящимися в качестве подношений. Он приблизился к статуе святой Жанны д’Арк, мраморной, возле южного входа. Перед ней горели установленные рядами свечи, раздуваемые долетавшим из двери сквозняком. Ганнибал в темноте прислонился к колонне и посмотрел сквозь пламя свечей на лицо статуи. «Пламя на маминой одежде». Пламя свечей отражалось красным в его глазах.
Отсветы пламени играли на статуе св. Жанны, и в их бликах ее лицо приобретало разные выражения, подобные случайным мелодиям колокольчиков, раскачиваемых ветром. Память, память. Интересно, думал Ганнибал, а не предпочла бы святая Жанна со всеми своими воспоминаниями иное подношение, нежели пламя свечей?.. Мама наверняка бы предпочла, это он знал точно.
Приближаются шаги церковного сторожа, звяканье его ключей эхом отражается сначала от ближних стен, потом, еще раз, от высокого потолка; его подошвы издают двойной стук, он отражается от пола, а потом эхом отдается от бесконечного мрака вверху.
Сторож сначала увидел глаза Ганнибала, сверкающие красным по ту сторону пламени свечей, и в нем проснулся первобытный страх. Волосы на затылке сторожа встали дыбом, и он перекрестился своей связкой ключей. Ах, это всего лишь мужчина, и молодой к тому же. Сторож взмахнул ключами перед собой, словно это была кадильница.
— Время, — сказал он и мотнул головой в сторону двери.
— Да, время. Прошедшее время, — ответил Ганнибал и вышел в ночь через боковую дверь.
35
Через Сену по мосту О-Дубль и вниз по улице Бушери, где до него донеслись звуки саксофона и смех — из джаз-клуба в подвале. В дверях стоит парочка, курят, от них попахивает травкой. Девушка приподнимается на цыпочки, чтобы поцеловать своего дружка в щеку, и Ганнибал явственно ощущает поцелуй у себя на лице. Обрывки музыки мешаются у него в голове со звучащей там его собственной музыкой, удерживая время, время. Время.
По улице Данте и через широкий бульвар Сен-Жермен, ощущая лунный свет на затылке, потом поворот за Клюни, на улицу Эколь де Медсен и к ночному входу в здание медицинского факультета, где горит тусклая лампочка. Ганнибал открыл ключом дверь и вошел внутрь.
Один во всем здании. Он переоделся в белый халат и взял блокнот, в котором были записаны оставленные ему задания. Наставником и руководителем Ганнибала на факультете был профессор Дюма, одаренный анатом, который предпочитал преподавать, нежели зарабатывать на жизнь медицинской практикой. Дюма был блестящий специалист, но несколько не от мира сего; ему не хватало блеска настоящего хирурга. Он требовал от каждого своего студента, чтобы тот написал письмо неизвестному покойнику, которого намеревался анатомировать, с выражением благодарности за честь изучать его или ее тело, включая также уверения, что с телом будут обращаться уважительно и станут всегда закрывать простыней любые его участки, в данный момент не подвергающиеся изучению.
К завтрашней лекции Ганнибалу предстояло подготовить два образца: грудную клетку с представленной для обозрения нетронутой сердечной сумкой и аккуратно вскрытую черепную коробку.
Ночь в лаборатории общей анатомии. В огромной комнате с высокими окнами и большим потолочным вентилятором было достаточно прохладно, чтобы двадцать укрытых простынями трупов, обработанных формалином, пережили ночь. Летом по окончании рабочего дня их вернули бы в холодильник. Жалкие маленькие тела под простынями, невостребованные трупы, истощенные от голода, найденные в переулках, все еще скрюченные, обхватившие себя руками и после смерти; потом, когда пройдет трупное окоченение и их опустят в ванну с формалином вместе с другими трупами, вот тогда они наконец расслабятся. Хрупкие, похожие на птичек, усохшие, как птицы, замерзшие на лету и упавшие в снег, но обтянутые бледной кожей погибших от голода и с оскаленными зубами.
Ганнибал помнил о сорока миллионах погибших в войну, и ему казалось странным, что студентам-медикам предстояло работать с трупами, долго хранившимися в формалине, который совершенно обесцветил им кожу.
Иной раз факультет по счастливой случайности ухитрялся заполучить труп казненного — после виселицы или расстрела в фортах Монруж или Френ, или после гильотины в тюрьме «Санте». Готовясь к диссекции черепной коробки, Ганнибал был рад, что ему досталась голова «выпускника» тюрьмы «Санте», сейчас смотревшая на него из раковины, с лицом, перепачканным засохшей кровью и прилипшей соломой.
Поскольку факультетская анатомическая пила ожидала нового электромотора, заказанного несколько месяцев назад, Ганнибал приспособил для своих нужд американскую электродрель, припаяв небольшой диск от циркулярки к сверлу, чтобы пользоваться им при диссекции. К дрели прилагался преобразователь напряжения размером с буханку хлеба, который издавал гудящий звук, почти такой же громкий, как пила.
Ганнибал уже закончил с препарированием грудной клетки, когда в лаборатории погас свет, как это нередко случалось, и вокруг стало темно. Он трудился у раковины при свете керосиновой лампы, смывая кровь и солому с лица казненного и дожидаясь, пока свет вспыхнет вновь.
Когда лампы загорелись, он, не теряя времени на изучение скальпа, срезал крышу черепной коробки и снял ее, открыв мозг.
Ввел в самые крупные кровеносные сосуды контрастный гель, стараясь как можно аккуратнее пронзать твердую мозговую оболочку, закрывающую сам мозг. Это было более трудно, однако профессор, склонный к театральности, желал удалить твердую оболочку лично, чтобы видела вся группа, как он сдирает покрышку с мозга, поэтому Ганнибал оставил ее по большей части в неприкосновенности.
Он легонько положил затянутые в перчатки руки на мозг. Отягощенный воспоминаниями и белыми пятнами в собственной памяти, он сейчас желал бы, чтобы при этом прикосновении ему удалось прочитать сны мертвого человека, чтобы сам он силой своей воли мог потом исследовать и свои собственные.
Лаборатория ночью — прекрасное место, чтобы думать. Тишину нарушает лишь позвякивание инструментов и, очень редко, звук разрезаемой плоти на ранней стадии диссекции, когда в некоторых органах еще держится воздух.
Ганнибал тщательно провел частичное препарирование левой стороны лица, затем зарисовал голову, как рассеченную сторону лица, так и нетронутую — для анатомической иллюстрации, что также входило в его обязанности по условиям получения стипендии.
Теперь ему было необходимо навсегда запечатлеть в уме мышечную, нервную и венозную структуры этого лица. Сев и положив затянутую в перчатку руку на голову покойника, Ганнибал мысленно проследовал в центр собственного мозга и в вестибюль своего Дворца памяти. Он решил, что в коридорах должна звучать музыка, струнный квартет Баха, и быстро прошел через Зал математики, потом через Зал химии в комнату, которую недавно позаимствовал из музея Карнавале[48] и переименовал в Зал краниологии. Ему хватило нескольких минут, чтобы все здесь разместить, присоединив анатомические подробности к уже разработанной системе экспозиции из Карнавале, соблюдая осторожность, чтобы не помещать венозную синеву лица на фоне синевы гобеленов.
Закончив с Залом краниологии, он на минутку остановился в Зале математики, возле входа. Это была одна из самых старых частей Дворца, существующего у него в уме. Он желал вновь порадовать себя ощущением, которое испытал в возрасте семи лет, когда понял доказательство, представленное ему учителем Яковом. Все поучительные встречи с учителем Яковом в замке Лектер были собраны здесь, но ни одна из их бесед в охотничьем домике здесь не хранилась.
Все подробности пребывания в охотничьем домике находились вне Дворца памяти, все еще снаружи, во дворе, но в самых темных закоулках его снов, как в надворных сараях, сожженных дочерна, как и сам охотничий домик, и чтобы добраться до них, ему было необходимо выйти наружу. Ему придется пробираться через снег, по которому ветер гоняет вырванные листы из «Трактата о свете» Гюйгенса, пронося их над разбрызганными по снегу и замерзшими мозгами и кровью учителя Якова.
В коридорах Дворца памяти он по собственному выбору мог слушать музыку или не слушать ничего, но в этих сараях он был не в силах контролировать звуки, а некий определенный звук там мог убить его.
Он вышел из Дворца памяти обратно в собственный мозг, вернулся вновь в область позади собственных глаз и в свое восемнадцатилетнее тело, которое сидело за столом в анатомической лаборатории, опустив ладонь на мозг покойника.
Еще час он делал зарисовки. На завершенном рисунке вены и нервы препарированной половины лица в точности воспроизводили покойника на столе. Нетронутая часть лица ничуть не напоминала его. Это было лицо из темных закоулков памяти, из одного из сараев, из амбара. Лицо Владиса Грутаса, хотя Ганнибал думал о нем только как о Голубоглазом.
Вверх через пять лестничных пролетов, по узким ступенькам, в свою комнату над помещениями медицинского факультета. И спать.
Потолок мансарды опускался наклонно, а более низкая стена была чистой и аккуратной, по-японски гармоничной; там стояла низкая кровать. Стол стоял возле более высокой стены комнаты. Стены рядом со столом и над ним были увешаны приколотыми в диком беспорядке фотографиями, рисунками препарированных частей тела, незаконченными анатомическими набросками. В каждом случае органы и сосуды были переданы абсолютно точно, но лица трупов были лицами тех, кого он видел в своих снах. А надо всем этим на полке стоял и взирал вниз череп гиббона с длинными клыками.
Он смог отмыться от запаха формалина, а химические запахи лаборатории не поднимались на такую высоту в этом пронизанном сквозняками старом здании. Он не стал брать с собой в сон гротескные образы покойников и наполовину препарированных трупов, не стал брать и преступников, ни гильотинированных, ни повешенных, которых иной раз получал из тюрем. Был лишь один образ, один звук, который мог вывести его из сна. И он никогда не знал, когда этот образ и звук его настигнут.
Заход луны. Лунный свет, рассеиваемый пузырчатым оконным стеклом, крадется по лицу Ганнибала и медленно взбирается по стене. Достигает руки Мики на рисунке над кроватью, движется по частично препарированным лицам на анатомических набросках, движется по лицам из его снов и доходит наконец до черепа гиббона, отражаясь белым сначала от огромных клыков, а затем от надбровных дуг над глубокими глазными впадинами. Из темноты в глубине черепа гиббон наблюдает за спящим Ганнибалом. У Ганнибала сейчас совершенно детское лицо. Он издает слабый звук и поворачивается на бок, отводя руку от чего-то невидимого, за что хватался.
…Он стоит вместе с Микой в амбаре рядом с охотничьим домиком, тесно прижимая ее к себе. Мика кашляет. Плошка ощупывает им руки и что-то говорит, но изо рта у него не доносится ни звука, лишь вылетает его гнусное дыхание, хорошо заметное в морозном воздухе. Мика прячет лицо на груди у Ганнибала, чтобы укрыться от дыхания Плошки. Голубоглазый что-то говорит, а теперь они все поют, издевательски. Он видит топор и котел. Бросается на Плошку. Вкус крови и щетины во рту, а они уже оттаскивают Мику в сторону. У них топор и котел. Он вырывается и бежит за ними, ноги поднимаются сли-и-ишком ме-е-едленно, Голубоглазый и Плошка тащат Мику, подняв за руки над землей, она поворачивает голову, оглядывается в отчаянии назад, на него, через пространство окровавленного снега, и зовет…
Ганнибал проснулся, кашляя и задыхаясь, все еще держась за конец сна, сильно жмуря глаза и пытаясь заставить себя миновать тот момент, когда он проснулся. Он прикусил край подушки и заставил себя еще раз просмотреть весь сон. Как эти люди звали друг друга? Какие у них были имена? Когда он утратил способность слышать звуки? Он не мог вспомнить тот момент, когда звуки вдруг пропали. Он хотел знать, как они зовут друг друга. Он хотел покончить с этим сном. Но все-таки отправился обратно в свой Дворец памяти и попытался пересечь двор к темным сараям, минуя мозги учителя Якова на снегу. И не смог. Он мог выдержать вид пламени на маминой одежде, вид родителей, и Берндта, и учителя Якова, лежащих мертвыми во дворе. Он мог смотреть на мародеров, передвигающихся внизу, на Мику в охотничьем домике. Но не мог пройти мимо Мики, поднятой в воздух, поворачивающей голову назад, чтобы взглянуть на него. Что было после этого, он не мог вспомнить, он помнил лишь то, что произошло много времени спустя, когда на него, бредущего с цепью на шее, запертой замком, наткнулись солдаты и потом везли его на танке. А он должен был вспомнить. «Зубыввыгребнойяме!» Это видение возникало в памяти вспышкой, но не часто; именно оно заставило его сейчас сесть. Он посмотрел на гиббона в лунном свете. Зубы гораздо меньше, чем у него. Детские зубы. Не слишком ужасное зрелище. «У меня могут быть такие же. Мне надо услышать голоса, которые доносились вместе с их вонючим дыханием. Я знаю, как пахнут их слова. Мне нужно вспомнить их имена. Мне нужно их найти. И я найду их. Как же мне допросить самого себя?!»
36
Профессор Дюма писал легким, округлым почерком, необычным для врача. В его записке говорилось: «Ганнибал, не могли бы вы выяснить, что можно предпринять по поводу Луи Ферра из „Санте“?»
К записке профессор прикрепил вырезку из газеты, где сообщалось о смертном приговоре, вынесенном этому Ферра, и приводились некоторые подробности о нем: Ферра из Лиона был мелким чиновником при режиме Виши, мелким коллаборационистом во время немецкой оккупации, но потом немцы арестовали его за подделку продуктовых карточек и торговлю ими. После войны он был обвинен в участии в военных преступлениях, но выпущен на свободу по причине недостаточных улик. А теперь суд вынес ему смертный приговор за убийство двух женщин в 1949–1950 гг. по личным мотивам. Казнь должна была состояться через три дня.
Тюрьма «Санте» расположена в 14-м округе Парижа, недалеко от медицинского факультета. Ганнибал добрался до нее пешком за пятнадцать минут.
Рабочие с кучей разных труб ремонтировали во дворе водопровод, на том самом месте, где с 1939 года проводились казни на гильотине, после того как на них перестали пускать публику. Охранники на воротах уже знали Ганнибала и пропустили его внутрь. Расписываясь в книге регистрации посетителей, он увидел выше на той же странице подпись инспектора Попиля.
Из огромной и пустой комнаты сбоку от главного коридора доносился стук молотка. Проходя мимо, Ганнибал увидел знакомое лицо. Штатный палач, Анатоль Турно собственной персоной, по традиции именуемый «месье Париж», притащил гильотину из гаража на улице Томб-Иссуар и уже собрал ее в здании тюрьмы. И теперь проверял, свободно ли крутятся маленькие колесики по бокам держателя лезвия, называемого mouton[49], не дающие лезвию застрять в направляющих стойках при его падении вниз.
«Месье Париж» был известным перфекционистом. Следует отдать ему должное, он всегда закрывал верхнюю часть направляющих стоек гильотины чехлом, чтобы приговоренный не видел лезвия.
Луи Ферра сидел в камере смертников в первом корпусе «Санте», отделенной коридором от остальных камер второго этажа. Шум переполненной тюрьмы долетал до его камеры волнами бормотаний, вскриков и лязганья, но ему не было слышно ударов молотка «месье Парижа» при сборке гильотины этажом ниже.
Луи Ферра был тощий, с черными волосами, только что состриженными с задней части головы и затылка. В верхней части черепа волосы были длинные, чтобы помощнику «месье Парижа» было за что ухватиться, поскольку маленькие уши Луи такой возможности не сулили.
Ферра сидел на койке в нижнем белье и перебирал пальцами крестик, свисавший на цепочке с шеи. Его рубашка и штаны были аккуратно пристроены на стуле, так, словно сидевший там человек испарился из своей одежды. Ботинки стояли рядышком прямо под манжетами штанин. Ферра слышал шаги Ганнибала, но взгляда не поднял.
— Добрый день, месье Луи Ферра, — поздоровался Ганнибал.
— Месье Ферра сейчас вышел, — сказал Ферра. — Я его представитель. Что вам угодно?
Ганнибал, даже не перемещая взгляда, вобрал в себя зрелище разложенной одежды.
— Я хочу просить его завещать свое тело медицинскому факультету для научных целей. С телом будут обращаться весьма уважительно.
— Вы ж это тело все равно заберете. Так что валяйте, утаскивайте.
— Я не могу и не стану забирать тело без его разрешения. И тем более утаскивать его.
— Ага, вот наконец ко мне пришел настоящий клиент! — сказал Ферра.
Он отвернулся от Ганнибала и беззвучно посовещался с собственной одеждой, так, словно он только что вошел в камеру и уселся на стул. Потом вернулся к решетке, отделявшей камеру от коридора.
— Он желает знать, почему он должен вам его отдать?
— Пятнадцать тысяч франков родственникам.
Ферра повернулся к своей одежде, потом обратно к Ганнибалу:
— Месье Ферра говорит: «К дьяволу моих родственников. Пусть себе тянут свои жадные ручонки, все равно им не получить и куска дерьма!» — Ферра понизил голос: — Простите за похабный язык — он в расстроенных чувствах, а дело-то серьезное и требует, чтобы я передавал его слова точно.
— Я прекрасно понимаю, — сказал Ганнибал. — Как вы полагаете, не согласится ли он передать эту сумму на дело, к которому его семья относится с презрением? Может быть, это доставит ему некоторое удовлетворение, месье?..
— Можете звать меня Луи — у нас с месье Ферра одинаковые имена. Нет. Думаю, он не согласится. Месье Ферра в некотором смысле живет отдельно от себя. И говорит, что имеет очень мало влияния на себя.
— Понимаю. Он не одинок в этом.
— Я едва ли могу поверить, что вы что-то понимаете, вы ведь и сами-то не более чем ре… не более чем школьник.
— В таком случае вы могли бы мне помочь. Каждый студент медицинского факультета обязан написать личное письмо с выражением благодарности донору, с телом которого он работает. Поскольку вы хорошо знаете месье Ферра, может быть, вы поможете мне написать такое благодарственное письмо? На тот случай, если он согласится?
Ферра потер лицо. Его пальцы выглядели так, словно на них имелись дополнительные суставы — в тех местах, где они были сломаны и неправильно срослись много лет назад.
— Да кто его станет читать, кроме самого месье Ферра?
— Оно будет вывешено на факультете, если он того пожелает. И все студенты его увидят и прочтут, а также всякие важные и влиятельные люди. Он также может переслать его в «Канар эншен»[50] для публикации.
— И что вы хотите в нем написать?
— Я хотел бы представить его как человека бескорыстного, выразить ему признательность за его вклад в науку — на благо французского народа, на благо прогресса медицины, что поможет грядущим поколениям, детям.
— К черту детей. Про детей не надо.
Ганнибал быстро написал в блокноте несколько теплых благодарственных слов.
— Как вы полагаете, это выглядит достаточно почтительно? — Он поднял блокнот повыше, чтобы Луи Ферра пришлось читать, глядя снизу вверх, — он хотел прикинуть длину его шеи.
«Не слишком длинная шея. Если „месье Париж“ не сумеет как следует ухватить его за его волосы, там почти ничего не останется ниже подъязычной кости, разве что для фронтального разъятия шейного отдела».
— Не следует забывать и о патриотизме, — заметил Ферра. — Когда Le Grand Charles[51] вещал по радио из Лондона, кто отозвался на его призывы? Ферра, он пошел на баррикады! Vive la France![52]
Ганнибал наблюдал, как приступ патриотизма раздул артерию на лбу предателя Ферра и заставил напрячься и рельефно выступить яремную вену и сонную артерию у него на шее — голова, в высшей степени подходящая для инъекций.
— Да-да, vive la France! — сказал Ганнибал и удвоил усилия: — Наше письмо должно особо подчеркнуть этот момент, что хотя его и называют вишистом, на самом деле он, стало быть, был героем Сопротивления, так?
— Конечно.
— Он спасал сбитых летчиков, надо полагать?
— Неоднократно.
— Осуществлял обычные акты саботажа?
— Очень часто, причем не заботясь о собственной безопасности.
— Пытался спасать евреев?
Четвертьсекундная заминка. Потом:
— Рискуя собственной головой.
— Подвергался пыткам, вероятно, и ему сломали пальцы — тоже на благо Франции?
— Но он все же мог ими пользоваться, чтобы гордо отдавать честь, когда Большой Шарль вернулся, — ответил Ферра.
Ганнибал кончил записывать.
— Я зафиксировал лишь самые основные моменты. Как вы полагаете, вы сможете ему это показать?
Ферра просмотрел записи на листе блокнота, касаясь каждого пункта указательным пальцем, кивая и приборматывая себе под нос:
— Можете также включить сюда некоторые показания его друзей по Сопротивлению, я могу их вам передать. Один момент, извините. — Ферра повернулся спиной к Ганнибалу и наклонился над своей одеждой. Потом обернулся назад с готовым решением. — Ответ моего клиента таков: «Merde![53] Скажи этому юному кретину, что я сперва должен получить „микстуру“ и промочить ею глотку, только потом подпишу это». Прошу прощения, но это его verbatim literatim[54]. — Ферра принял заговорщический вид и наклонился вплотную к решетке. — Тут из соседних камер ему сообщили, что он мог бы получить хорошую дозу опия — достаточную дозу, чтобы не почувствовать нож. «Чтобы уснуть без воплей» — вот так я бы сформулировал это в зале суда. Медицинский институт Сен-Пьер предлагает настойку опия в обмен на… разрешение. А вы можете дать опий?
— Я скоро вернусь к вам с ответом для него.
— Я не стану долго ждать, — сообщил Ферра. — Парни из Сен-Пьер скоро заявятся. — Он повысил голос и ухватился за перед нижней рубашки, как мог бы ухватиться за жилет, выступая с трибуны: — Я уполномочен также вести переговоры с парнями из Сен-Пьер от его имени. — Потом еще ближе к прутьям решетки и уже спокойным тоном: — Еще три дня, и бедняга Ферра будет мертв, а я буду горевать и лишусь клиента. Вот вы медик. Как вы думаете, это будет больно? Месье Ферра будет больно, когда…
— Совершенно не больно. Самое скверное время — это сейчас. До того. Что же касается самого момента, то нет. Ни на мгновение. — Ганнибал тронулся было прочь, когда Ферра окликнул его, и он вернулся обратно к решетке.
— Студенты не будут над ним смеяться? Над его интимными частями?
— Конечно, нет! Анатомируемое тело всегда закрыто простыней, за исключением непосредственно операционного поля.
— Даже если они… несколько необычные?
— Чем именно?
— Даже если они у него, ну… немного недоразвитые, эти части?
— Обычное явление, это никогда и ни при каких обстоятельствах не становится предметом насмешек, — ответил Ганнибал. «Вот вам и кандидат для анатомического музея, где доноров не удостаивают именных табличек».
Грохот молотка палача отразился на лице Луи Ферра подрагиванием уголка глаза. Он сел обратно на койку, положив ладонь на рукав своего сокамерника, то есть собственной одежды. Ганнибал видел, как он представляет себе, что сейчас делает палач, собирая свое устройство, как устанавливает вертикальные стойки, поднимает нож, лезвие которого закрыто куском разрезанного вдоль садового шланга, а внизу уже готов приемный резервуар.
Вздрогнув, Ганнибал увидел все это мысленным взором и вдруг понял, что именно являет собой этот приемный резервуар. «Это же детская ванночка!» Подобно падающему лезвию гильотины, мозг Ганнибала немедленно отсек эту мысль, и в последовавшем молчании ему показались ужасно знакомыми муки и страдания Луи, такими же знакомыми, как вены на его лице, как его собственные артерии.
— Я достану вам настойку опия, — сказал Ганнибал. Если не удастся достать настойку, можно будет по дороге купить ему шарик опиума.
— Давайте сюда бланк. Заберете его, когда принесете «микстуру».
Ганнибал бросил взгляд на Луи Ферра, читая его лицо столь же внимательно, как ранее изучал его шею, чувствуя исходящий от него запах страха, потом сказал:
— Луи, вашему клиенту стоит подумать вот о чем. Все войны, все страдания и боль, что имели место в течение веков до его рождения, — насколько все это его волнует?
— Совершенно не волнует.
— Тогда почему его должно волновать то, что случится после его жизни? Это будет тихий, спокойный сон. Разница лишь в том, что он не проснется.
37
Оригинальные гравюры, отпечатанные с деревянных форм и украшавшие огромный анатомический атлас Везалия, «De Fabrica», погибли в Мюнхене во время Второй мировой войны. Для профессора Дюма эти гравюры были священными реликвиями, и он от горя и негодования вдохновился идеей создать новый анатомический атлас. Это будет самый лучший из всех атласов, созданных за четыреста лет с момента выхода в свет труда «De Fabrica».
Дюма обнаружил, что рисунки гораздо лучше фотографий служат иллюстрациями анатомических подробностей и незаменимы, когда нужно избежать расплывчатых и затуманенных рентгеновских снимков. Профессор Дюма был непревзойденным анатомом, но отнюдь не художником. Ему очень здорово повезло, что однажды он обратил внимание на школьный рисунок лягушки, сделанный Ганнибалом Лектером. После этого он внимательно следил за успехами Ганнибала и обеспечил ему стипендию для поступления на медицинский факультет.
Ранний вечер в анатомической лаборатории. В течение дня профессор Дюма занимался препарированием внутреннего уха для своей очередной лекции, а затем предоставил его Ганнибалу, который теперь рисовал мелом на доске все косточки улитки с пятикратным увеличением.
Прозвенел звонок у задней двери. Ганнибал ожидал нынче доставки очередного «выпускника» расстрельной команды форта Френ. Он взял каталку и покатил ее по длинному коридору ко входу для ночных посетителей. Одно из колес каталки цокало по каменному полу, и он сделал в уме заметку починить его.
Возле доставленного тела стоял инспектор Попиль. Двое санитаров перетащили безвольно обвисший груз, с которого капало, со своих носилок на каталку и уехали.
Леди Мурасаки однажды заметила — к неудовольствию Ганнибала, — что Попиль выглядит прямо как красавец актер Луи Журдан[55].
— Добрый вечер, господин инспектор.
— Мне нужно с вами поговорить, — сказал инспектор Попиль, который совершенно не был похож на Луи Журдана.
— Не возражаете, если я буду заниматься своим делом, пока мы беседуем?
— Нет.
— Ну, заходите. — Ганнибал покатил каталку по коридору, колесо теперь звякало громче. Подшипник, видимо.
Попиль придержал распашные двери в лабораторию.
Как Ганнибал и ожидал, многочисленные ранения в грудь, нанесенные из винтовок в форте Френ, очень хорошо дренировали тело. Его сразу следовало помещать в ванну с формалином. С этим можно было и повременить, однако Ганнибалу было любопытно, будет ли инспектор Попиль выглядеть в помещении с формалиновым резервуаром еще менее похожим на Луи Журдана и насколько подобное окружение может воздействовать на его персикового цвета лицо.
Никак не отделанное помещение с грубыми бетонными стенами соседствовало с лабораторией и было отделено от нее двойными дверьми с резиновым уплотнением. Круглый резервуар с формалином, двенадцати футов в диаметре, был вделан в пол и прикрыт крышкой из оцинкованного железа. В крышке было несколько люков на рояльных петлях. В углу этой комнаты стоял мусоросжигатель, в котором уничтожались все собранные за день отходы, в данном случае целая коллекция разнообразных ушей.
Над резервуаром нависал цепной подъемник. Трупы, все с табличками, под своими номерами, каждый в специальной сбруе из тонкой цепочки, были прикреплены к продольному брусу, тянувшемуся по всему периметру резервуара. На стене висел большой вентилятор с покрытыми пылью лопастями. Ганнибал включил вентилятор и поднял тяжелые металлические створки люка в крышке. Прикрепил к телу табличку, заключил его в цепную сбрую и с помощью подъемника поднял тело над резервуаром и опустил его в формалин.
— Вы приехали из Френа вместе с ним? — спросил он, когда от тела пошли пузыри.
— Да.
— Вы присутствовали при казни?
— Да.
— Зачем, господин инспектор?
— Я его арестовывал. Раз уж я довел его до этого, мне следовало присутствовать.
— Вопрос совести, господин инспектор?
— Последствием того, что я делаю, является смерть. Я верю в последствия. Вы обещали Луи Ферра настойку опия?
— Настойка опия приобретена законным образом.
— Но рецепт не был выписан законным образом.
— Это обычная практика в отношении осужденных. В обмен на разрешение использовать их тела. Я уверен, вы прекрасно об этом знаете.
— Да. Но ему это не давайте.
— Ферра тоже один из ваших клиентов? И вы предпочитаете, чтобы он умер в трезвом уме?
— Да.
— Вы хотите, чтобы он полностью прочувствовал все последствия, господин инспектор? Вы, может быть, попросите «месье Парижа» снять чехол с гильотины, чтобы он мог видеть лезвие ножа, видеть его трезвым взглядом, незамутненным взором?
— Причины — мое личное дело. Вам всего лишь не следует давать ему настойку опия. Если я обнаружу, что он принял «микстуру», вам никогда не видать разрешения на врачебную практику во Франции. Взгляните на это незамутненным взором.
Ганнибал уже видел, что это помещение совершенно не смущает Попиля. И наблюдал за тем, как чувство долга берет верх над инспектором.
Попиль отвернулся от него и сказал:
— Это было бы неправильно, потому что вы многообещающий студент. Я вас поздравляю с вашими замечательными оценками. Вы порадовали… ваша семья могла бы… нет, она просто гордится вами, очень гордится. Доброй ночи.
— Доброй ночи, господин инспектор. И спасибо за билеты в оперу.
38
Вечер в Париже, легкий дождь, булыжник мостовой сверкает. Владельцы магазинов, закрываясь на ночь, с помощью свернутых в трубы обрезков ковров направляли потоки дождевой воды в сточных канавах в нужную им сторону.
Маленький «дворник» на лобовом стекле фургона, принадлежащего медицинскому факультету, работал от компрессора, так что Ганнибалу по дороге в тюрьму «Санте» приходилось время от времени снимать ногу с педали газа, чтобы очистить стекло.
Он сдал машину задним ходом в ворота и далее во двор. Холодные капли дождя упали ему сзади на шею, едва он высунул голову из окна фургона, чтобы оглянуться. Охранник, сидевший в будке у ворот, не собирался выходить и указывать ему дорогу.
В главном коридоре «Санте» помощник «месье Парижа» поманил его в комнату, где стояла гильотина. На нем были клеенчатый фартук и клеенчатая же накидка, наброшенная поверх новенького котелка, надетого явно по сегодняшнему поводу. Он установил щиток напротив своего обычного места прямо перед лезвием, чтобы уберечь от кровавых брызг ботинки и манжеты брюк.
Рядом с гильотиной стояла высокая плетеная корзина, облицованная изнутри оцинкованным железом и готовая принять в себя обезглавленное тело.
— Никаких мешков, это приказ начальства, — заявил помощник. — Вам придется увезти его в корзине, потом привезете ее назад. Она войдет в ваш фургон?
— Да.
— Может, лучше ее обмерить?
— Не надо.
— Ну тогда заберете все вместе. Голову мы ему под мышку засунем. Он в соседней комнате.
В беленной известью комнате с высокими забранными решеткой окнами на каталке лежал связанный Луи Ферра, освещенный жестким светом свисавших с потолка ламп.
Под ним уже была опрокидывающаяся подставка гильотины, bascule. Из его руки торчал катетер для внутривенных инъекций.
Над Луи Ферра стоял инспектор Попиль и что-то тихо ему говорил, заслоняя ему ладонью глаза от режущего света. Тюремный врач вставил в катетер шприц и ввел небольшое количество прозрачной жидкости.
Когда Ганнибал вошел в комнату, Попиль даже не поднял глаз.
— Вспомни, Луи, — продолжал он говорить, — я хочу, чтобы ты вспомнил.
Вытаращенный глаз Луи сразу углядел Ганнибала.
Тут и Попиль заметил Ганнибала и вытянул руку, чтобы не подпустить его ближе. Наклонившись над потным лицом Луи Ферра, он повторил снова:
— Скажи же мне!
— Я упрятал тело Сандрины в два мешка. Потом сунул туда для тяжести старые лемехи от плугов. Потом начались рифмы…
— Да я не про Сандрину, Луи! Вспомни! Кто сообщил Клаусу Барбье[56], где спрятаны дети, чтобы тот мог их отправить на восток? Я хочу, чтобы ты вспомнил.
— Я просил Сандрину, я ей сказал: не трогай! А она только смеялась, а потом начались рифмы…
— Оставь Сандрину в покое, — сказал Попиль. — Кто сообщил нацистам, где прячутся дети?
— У меня нет сил думать про это.
— Соберись с силами еще разок. Это поможет тебе вспомнить.
Врач ввел еще немного лекарства в вену Луи, помассировав ему руку, чтобы оно разошлось.
— Луи, ты должен это помнить. Клаус Барбье отправлял детей в Аушвиц[57]. Кто сообщил ему, где прячутся дети? Это ты ему сообщил?
Лицо Луи стало серым.
— Гестапо поймало меня на подделке продуктовых карточек, — сказал он. — Когда они сломали мне пальцы, я выдал им Парду — Парду знал, где спрятаны эти сироты. Он и им услужил, и себе пальцы сберег. Он теперь мэр в Тран-ла-Форе. Я все это видел, но помочь им не мог. Они смотрели на меня из кузова грузовика.
— Парду, значит. — Попиль кивнул. — Спасибо, Луи.
Попиль уже отвернулся от него, когда Луи вдруг спросил:
— Господин инспектор?
— Да, Луи?
— Когда наци забрасывали детей в грузовики, где тогда была полиция?
Попиль на секунду прикрыл глаза, потом кивнул охраннику, который отворил дверь в комнату с гильотиной. Ганнибал заметил там священника и «месье Парижа», стоящих возле устройства. Помощник палача снял цепочку с крестиком с шеи Луи и сунул их ему в руку, привязанную к боку. Луи взглянул на Ганнибала. Приподнял голову и открыл рот. Ганнибал приблизился к нему, и Попиль не стал ему в этом препятствовать.
— Куда направить деньги, Луи?
— В церковь Сен-Сюльпис. Но не в кружку для бедных, а в пожертвования на молитвы за души тех, кто мается в Чистилище. Где «микстура»?
— Как обещано, — ответил Ганнибал. Пузырек с разбавленной настойкой опия был у него в кармане пиджака. Охранник и помощник палача отвернулись — вполне официально. Попиль отворачиваться не стал. Ганнибал поднес пузырек к губам Луи, и тот выпил все его содержимое. Потом, указав на крестике распятием у себя в руке, снова открыл рот. Ганнибал вложил цепочку с крестиком ему в рот, прежде чем его повернули на подставке, чтобы в таком виде отнести и уложить под нож.
Ганнибал наблюдал, как смягчается напряженное выражение на лице Луи. Каталка стукнулась о порог комнаты с гильотиной, и охранник затворил дверь.
— Он хотел, чтобы распятие оставалось вместе с его головой, а не у сердца, — заметил Попиль. — Вы знали, что он сам так захотел, не правда ли? Что еще общего у вас с Луи?
— Любопытство по поводу того, где была полиция, когда наци забрасывали детей в грузовики. Вот это у нас общее.
В тот момент Попиль мог его ударить. Но момент этот прошел. Попиль закрыл свой блокнот и покинул помещение.
Ганнибал тут же подошел к врачу.
— Доктор, что это у вас за препарат?
— Сложный раствор — тиопентал и парочка других анестетиков. В Сюрте[58] им пользуются при допросах. Он помогает высвободить подавленное сознание. У приговоренных.
— Нам нужно такое — для исследования образцов крови. Можно мне взглянуть?
Врач протянул ему пузырек:
— Формула и дозировка указаны на этикетке.
Из соседней комнаты донесся звук тяжелого удара.
— На вашем месте я бы несколько минут подождал, — заметил врач. — Пусть Луи немного успокоится.
39
Ганнибал лежал на низкой кровати в своей комнате в мансарде. Пламя свечей отблесками освещало лица, которые он нарисовал по памяти, лица из его снов. Тени плясали на черепе гиббона. Он смотрел в пустые глазницы, потом втянул нижнюю губу и прикусил ее зубами, словно намереваясь сравнить собственные зубы с клыками гиббона. Рядом с ним стоял заводной фонограф с трубой в виде лилии. В руке он держал иглу шприца, наполненного смесью наркотиков, которые использовались при допросах Луи Ферра.
— Мика, Мика, я иду к тебе.
Пламя на маминой одежде, пламя свечей, принесенных прихожанами и горящих перед статуей святой Жанны. Голос церковного сторожа: «Время!»
Он запустил граммофон и опустил толстый звукосниматель с иглой на пластинку с записью детских песен. Пластинка была поцарапанная, звук от нее исходил какой-то металлический и тонкий, но он пронизывал его насквозь.
Sagt, wer mag das Mannlein sein Das da steht im Walde allein.Он нажал на поршень шприца, опустив его на четверть дюйма, и почувствовал, как раствор огнем запылал в вене. Он помассировал руку, чтобы лекарство быстрее разошлось. Ганнибал неотрывно смотрел на отсветы пламени свечи на лицах, являвшихся ему во сне, и пытался заставить их губы двигаться. Может, они сначала запоют, а потом назовут свои имена. Ганнибал и сам запел, чтобы заставить их петь.
Нет, он не мог больше заставить эти лица двигаться, как не мог одеть плотью череп гиббона. Но именно гиббон улыбнулся первым, улыбнулся из-за своих клыков, своим безгубым ртом, нижняя челюсть скривилась в улыбке, и Голубоглазый улыбнулся следом за ним, и его озадаченное выражение лица обожгло сознание Ганнибала. А затем запах горящих дров в охотничьем домике, дым, поднимающийся слоями в ледяной комнате, трупная вонь изо рта сгрудившихся вокруг них с Микой людей. А потом их потащили в амбар. Обрывки детской одежды в амбаре, все в пятнах, незнакомые. Он не слышал, что говорят эти люди, не мог слышать, как они называют друг друга, но потом возник искаженный голос Плошки, который сказал: «Бери ее, она все равно вот-вот подохнет. А он еще немного побудет све-е-еженьким». От отбивался и кусался, но вот подошел тот самый момент, который он не мог вынести, не в силах был на него смотреть, — Мику подняли в воздух чужие руки, оторвав от земли, от окровавленного снега, она извернулась, обернулась к нему, ПОСМОТРЕЛА НА НЕГО…
— АННИБА! — Ее голос…
Ганнибал вырывается и бежит к двери следом за ними, дверь амбара с грохотом захлопывается и бьет его по руке, кость хрустит, Голубоглазый возвращается, поднимает полено, с размаху бьет его по голове, со двора доносится звук топора, и вот наконец долгожданная тьма.
Ганнибал заворочался на кровати, зрение рисует то четкие, то расплывчатые картины, лица плывут по стене.
Дальше, дальше. Мимо этого зрелища, которое он не может видеть, не в силах слышать, с которым он не сможет жить. Вот он очнулся — в охотничьем домике, голова сбоку вся в засохшей крови, руку пронзает боль, он привязан запертой на замок цепью к перилам лестничной площадки на втором этаже, сверху на него набросили ковер. Гром… нет, это артиллерийские залпы из леса, люди сгорбились возле камина, Кухарь держит свою кожаную сумку, и они снимают с себя солдатские медальоны и засовывают в эту сумку вместе со своими документами, вытаскивают и выбрасывают документы и бумажки из бумажников и надевают нарукавные повязки с красными крестами. Потом свист и грохот зажигательного снаряда — он слепящей вспышкой взорвался, попав в разбитый танк рядом с домиком, и весь дом уже в огне, пылает, пылает. Мародеры стремительно бросаются в ночь, к своему полугусеничному вездеходу, а Кухарь задерживается у двери, подносит свою сумку клипу, прикрывая его от жара, достает из кармана ключ от замка и швыряет его Ганнибалу, когда взрывается следующий снаряд, а они и не слышали его свиста и разрыва, просто домик заходил ходуном, балкон лестничной площадки, где лежал Ганнибал, обваливается, он сползает вниз по перилам, а лестница обрушивается на Кухаря. Ганнибал слышит, как трещат на огне его волосы, а затем он уже снаружи, вездеход с ревом ползет прочь через лес, одеяло, накинутое ему на спину, дымится с одного края, взрывы сотрясают землю, обломки с воем пролетают мимо. Загасив дымящийся ковер в снегу, он бредет, бредет, рука висит безжизненно.
Заря серым светом прошлась по крышам Парижа. В мансарде пластинка на граммофоне замедлила свое вращение и остановилась, свечи уже чадят. У Ганнибала глаза открыты. Лица на стенах неподвижны. Это снова лишь наброски мелом, листы шевелятся от сквозняка. Гиббон смотрит с прежним выражением. День приближается. Везде зажигается свет. Новый свет повсюду.
40
Вильнюс, Литва. Низкое серое небо. Легковая полицейская «шкода» свернула с забитой транспортом улицы Свентарагио в узкий переулок неподалеку от университета, сигналя клаксоном пешеходам, чтобы убрались с дороги, заставляя их ругаться себе под нос. Она остановилась возле нового, построенного русскими многоквартирного дома, похожего на улей и выглядящего свежим посреди квартала полуразвалившихся старых домов. Из машины вылез высокий мужчина в форме советского офицера милиции, прошелся пальцем по кнопкам звонков, нажал на нужную, возле которой было написано «Дортлих».
Звонок раздался в квартире на третьем этаже, где в кровати лежал старик. На столике рядом с ним кучей стояли разнообразные лекарства. Над кроватью висели швейцарские часы с маятником. С часов к подушке свисал шнурок. Старик был крепок, но ночью, когда его одолевали страхи, он всегда мог дернуть за шнурок и услышать в темноте, как часы отбивают время, услышать, что он еще не умер. Минутная стрелка рывками двигалась по кругу. Он представил себе, как маятник тихо определяет момент его смерти.
Звонок старик по ошибке принял за свое собственное хриплое дыхание. Потом услышал громкий голос служанки в коридоре, потом она просунула в дверь голову с торчащими из-под косынки волосами:
— Это ваш сын.
Милиционер Дортлих протиснулся мимо нее и вошел в комнату.
— Привет, отец.
— Я пока еще не умер. Еще не время меня грабить. — Старик сам поразился тому, что гнев лишь на секунду вспыхнул в сознании, не затронув сердца.
— Я привез тебе шоколад.
— Отдай его Бергид, когда будешь уходить. Только не трахай ее. Пока, милиционер Дортлих.
— Тебе уже не следует себя так вести. Ты же умираешь. Я заехал, чтобы узнать, не нужно ли тебе чего, кроме этой квартиры.
— Мог бы сменить фамилию. Сколько раз ты перебегал от одних к другим?
— Достаточно, чтобы остаться в живых.
На Дортлихе была новенькая форма пограничника, цвета зеленых листьев. Сняв перчатку, он приблизился к постели отца. Попытался взять старика за руку, нащупать пульс, но тот оттолкнул изуродованную шрамами руку сына. Вид этой руки вызвал прилив влаги к глазам старика. Он с усилием поднял руку и коснулся медалей, свисавших с груди Дортлиха, наклонившегося над постелью. Награды включали в себя знак «Заслуженный работник МВД», значок Института повышения квалификации сотрудников лагерей и тюрем и «Заслуженный понтонер СССР»[59]. Последняя награда была не совсем уместна: Дортлих и впрямь построил несколько понтонных мостов, но для нацистов, когда служил в частях трудового фронта. Тем не менее это был красивый знак, с эмалью, а если ему кто-то задавал про него вопросы, он мог рассказывать до бесконечности.
— Они что, игрушечные?
— Я приехал вовсе не для того, чтобы выслушивать твои издевки, я лишь хотел узнать, не нужно ли тебе чего. И попрощаться.
— Мне вполне хватило видеть тебя в советской форме.
— Ага. Двадцать седьмой стрелковый полк, — ответил Дортлих.
— Еще хуже, когда ты был в нацистской. Это убило твою мать.
— Ну, таких тогда было много. Не один я. А все же я жив. А у тебя есть кровать, чтобы спокойно умереть, не в канаве. У тебя есть уголь. Это все, что я мог для тебя сделать. Поезда, идущие в Сибирь, забиты до отказа. Люди сидят друг на друге, гадят друг на друга. А ты можешь наслаждаться чистыми простынями.
— Грутас был еще хуже, чем ты, ты и сам это знаешь. — Ему пришлось сделать паузу, чтобы отдышаться. — И почему ты пошел за ним? Ты мародерствовал и грабил вместе с этими уголовниками, ты воровал и раздевал мертвых.
Дортлих отвечал так, словно и не слышал слов отца:
— Когда я в детстве однажды обжегся, ты сидел у моей постели и вырезал из дерева волчок. Ты подарил мне его, когда я смог держать его в руках, и научил его запускать. Это был прекрасный волчок, с резными фигурками животных. Спасибо тебе за этот волчок. — Он положил шоколад возле постели старика так, чтобы тот не мог до него дотянуться и сбросить на пол.
— Возвращайся в свое отделение, найди мое досье и пометь там: «Родственников не имеется», — сказал старик.
Дортлих достал из кармана листок бумаги.
— Если хочешь, чтобы я похоронил тебя на твоей родине, подпиши вот это и оставь тут, я потом заберу. Бергид тебе поможет, да и подпись твою засвидетельствует.
В машине Дортлих сидел молча, пока они ехали по забитой транспортом улице Радзивилайтес.
Сержант Свенка, сидевший за рулем, предложил Дортлиху сигарету и сказал:
— Тяжело было?
— Хорошо еще, что я сам не в таком состоянии, — ответил тот. — Эта его гребаная служанка — пришлось дожидаться, пока она уйдет в церковь. В церковь! Она ж рискует попасть в тюрьму! Думает, я не знаю. Отец через месяц умрет. Я переправлю тело в его родной город, в Швецию. У нас будет, может, целых три кубических метра под его телом. Полно места — три метра длиной.
Лейтенант Дортлих пока что не имел собственного кабинета, у него был лишь стол в общей комнате в отделении милиции, где престижность определялась близостью к печке. Сейчас, весной, печь не топили, и на ней валялись разные бумаги. Документы, заполнявшие стол Дортлиха, были по большей части разной бюрократической ерундой, половину из них можно было спокойно выбросить.
В последнее время между отделами милиции и МВД в соседних Латвии и Польше почти не было связи. Милиция и полиция в сателлитах Советского Союза были созданы вокруг центрального аппарата в Москве — это было похоже на колесо со множеством спиц, но без обода.
А вот и бумага, которой ему надо было заняться: пришедший по телеграфу официальный список иностранцев, получивших визу для въезда в Литву. Дортлих сравнил его с длинным списком разыскиваемых лиц и списком подозреваемых в политических преступлениях. Восьмым в списке получивших визу стоял Ганнибал Лектер, свеженький член молодежной организации Французской коммунистической партии.
Дортлих сам сел за руль своего «картбурга» с двухтактным двигателем и отправился на Центральную телефонную станцию, куда регулярно ездил раз в месяц. Он подождал снаружи, пока не убедился, что сержант Свенка вошел в здание и заступил на смену. И вскоре, когда Свенка уже сидел за пультом коммутатора, Дортлих оказался один в кабинке для международных переговоров и набрал номер во Франции. Он подсоединил к линии прибор, фиксирующий мощность сигнала, и стал следить за его стрелкой, опасаясь, что к нему может подключиться подслушка.
Во Франции, в подвальном помещении ресторанчика недалеко от Фонтенбло в темноте раздался звонок телефона. Он звонил минут пять, пока трубку наконец не сняли.
— Говорите.
— Кое-кому следовало бы побыстрее отвечать на звонки. Я ж тут как на угольях сижу. Нам нужно все подготовить в Швеции, чтобы наши друзья встретили гроб, — сказал Дортлих. — И еще — этот парнишка Лектер едет сюда. По студенческой визе через организацию «Молодежь за возрождение коммунизма».
— Кто?!
— Подумай над этим. Мы ведь обсуждали этот вопрос, когда в последний раз вместе ужинали, — напомнил Дортлих, глядя на часы. — Цель поездки: подготовка каталога библиотеки замка Лектер. Чушь собачья — русские этими книгами задницы подтирали! Вероятно, следует кое-что предпринять там, у нас. Сам знаешь, кому нужно об этом сообщить.
41
К северо-западу от Вильнюса, на берегу реки Нерис возвышаются развалины старой электростанции, первой в этом районе. В лучшие времена она давала скромное количество электроэнергии, поставляя ее городу и на несколько лесопилок и механический завод, расположенные выше по реке. Она работала круглый год, в любую погоду, поскольку действовала на польском угле, доставляемом сюда по узкоколейке или речными баржами.
Самолеты люфтваффе сровняли ее с землей в первые пять дней немецкого наступления. А с появлением новых, советских, линий электропередач она так никогда и не была восстановлена.
Подъездная дорога к электростанции была перекрыта цепью, прикрепленной к двум бетонным столбам и запертой на замок. Замок был ржавый снаружи, но хорошо смазанный внутри. Надпись на русском, литовском и польском гласила: «НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ! ВХОД ВОСПРЕЩЕН!»
Дортлих вылез из грузовика и швырнул цепь на землю. Сержант Свенка переехал через нее. Гравий дороги кое-где пророс кустами, которые царапали днище грузовика, издавая скребущий звук.
— Вот тут вся ваша команда… — начал Свенка.
— Да, — ответил Дортлих, не дав ему договорить.
— Думаете, тут действительно есть мины?
— Нет. Даже если это не так, все равно держи это при себе. — У Дортлиха не было привычки что-то кому-то доверять, а потребность в помощи Свенки его просто раздражала.
Рядом с разбитым и почерневшим фундаментом электростанции стоял сборный ниссеновский домик, полученный когда-то по ленд-лизу и обгоревший с одной стороны.
— Подгони машину вон туда, где кусты. И достань цепь из кузова, — распорядился Дортлих.
Он закрепил конец цепи на заднем бампере грузовика и потряс ее, чтобы распрямить звенья. Потом выдрал с корнем один куст, обнажив край деревянного настила, прикрепил к нему цепь и махнул Свенке, чтобы тот подал грузовик вперед, пока настил, замаскированный сверху кустами, не отъехал в сторону, открыв металлические двери в бомбоубежище.
— После последнего воздушного налета немцы сбросили сюда парашютный десант, чтобы захватить переправу через Нерис, — объяснил Дортлих. — Рабочие электростанции укрылись здесь. Один из парашютистов постучался в двери и, когда ему открыли, бросил внутрь гранату. Потом нелегко было все там убрать. Да и теперь требуется некоторое время, чтобы привыкнуть и приспособиться. — Говоря это, Дортлих отомкнул три замка, запиравшие двери.
Распахнув их, он выпустил наружу, прямо в лицо Свенке, клуб спертого воздуха, пропахшего горелым. Дортлих включил электрический фонарь и пошел вниз по крутым металлическим ступеням. Свенка глубоким вдохом набрал в грудь воздуху и последовал за ним. Внутри все было побелено известью, вдоль стен стояли грубо сколоченные деревянные стеллажи. На них лежали произведения искусства. Иконы, завернутые в тряпки, несколько рядов пронумерованных алюминиевых тубусов для карт с залитыми воском навинчивающимися крышками. В задней части хранилища стояли пустые багетные рамы. Из некоторых картины были вынуты аккуратно и все крепежные гвоздики извлечены, из других же полотна явно вырезали в спешке, и из них торчали пожелтевшие и засохшие лохмотья холста.
— Складывай все вон на ту полку и еще на те, в самом конце, — велел Дортлих. Он собрал несколько тюков, увязанных в клеенку, и пошел к ниссеновскому домику. Свенка за ним. Внутри на козлах стоял великолепный дубовый гроб, украшенный эмблемами Клайпедского профсоюза моряков и речников. Гроб был отделан декоративной полированной рейкой, опоясывавшей его по всему периметру как ватерлиния, а его нижняя часть была темнее верхней, как днище корабля. Прекрасный образчик мастерской работы.
— Вот и корабль для души моего папаши, — заметил Дортлих. — Тащи сюда вон ту коробку с ватными оческами. Важно, чтобы ничто внутри не гремело.
— Если и загремит, все подумают, что это кости, — сказал Свенка.
Дортлих ударил его ладонью по губам:
— Побольше уважения! Дай мне отвертку.
42
Ганнибал Лектер опустил грязное стекло вагонного окна, неотрывно глядя наружу, сквозь поросшие молодыми липами и соснами обочины на поля по обе стороны извивающейся железнодорожной колеи, а затем, когда тот показался вдали, на расстоянии менее мили, на замок Лектер с его башнями. Еще две мили, и поезд со скрипом и скрежетом остановился возле водокачки в Дубрунсте. Несколько солдат и рабочих спрыгнули на насыпь, чтобы справить нужду. Проводник рявкнул на них, и они повернулись спиной к пассажирским вагонам. Ганнибал слез вместе с ними, забросив за спину свой рюкзак. Когда проводник влез обратно в вагон, Ганнибал отошел в лес. Он на ходу оторвал кусок газетного листа на случай, если помощник машиниста видит его сверху, с резервуара водокачки. В зарослях он дождался, пока натруженное пыхтение паровоза стихнет вдали. Теперь он был один в тихом лесу. Он очень устал, но был полон решимости.
Когда Ганнибалу было шесть, Берндт однажды поднял его по винтовой лестнице на самый верх водокачки и дал ему возможность полюбоваться водой в поросшем мхом резервуаре и отражающимся в ней небом. Внутри тоже была лестница. Берндту нравилось, пользуясь любой возможностью, купаться в этом резервуаре вместе с одной девицей из соседней деревни. Теперь Берндт мертв, лежит там, далеко, в лесу. Девица, наверное, тоже мертва.
Ганнибал быстро искупался в резервуаре и кое-что постирал. Он представил себе леди Мурасаки в этой воде, подумал, как бы здорово было поплавать здесь с ней.
Потом он пошел назад вдоль железнодорожного полотна, один раз отступив в заросли, когда услышал впереди грохот приближающейся ручной дрезины. Двое загорелых до черноты мадьяр налегали на рукояти привода, а рубашки их были завязаны на поясе.
В километре от замка пути пересекала новая, уже советская линия электропередач. Бульдозеры расчистили для нее просеку в лесу. Ганнибал ощутил исходящее от ЛЭП статическое электричество, когда проходил под мощными проводами, волосы даже встали дыбом. Он достаточно далеко отошел от ЛЭП и от железной дороги, и стрелка на его компасе вполне успокоилась. Так, стало быть, к охотничьему домику — если он еще цел — ведут две дороги. Линия электропередач уходила вдаль прямой линией и пропадала из виду. Если она все время тянется в том же направлении, то проходит в нескольких километрах от охотничьего домика.
Он достал из рюкзака списанный американский армейский паек, отбросил в сторону пожелтевшие сигареты и съел консервированное мясо, обдумывая дальнейшие шаги и вспоминая. Вот лестница падает на Кухаря, вниз обрушиваются стропила и балки…
Домика вполне может уже и не быть. Если он еще цел и если в нем хоть что-то осталось, то лишь потому, что мародеры и грабители не сумели разгрести развалины. И чтобы сделать то, что не удалось грабителям, ему потребуется дополнительная сила. Стало быть, надо сначала посетить замок.
Перед самой темнотой Ганнибал, идя через лес, приблизился к замку Лектер. При взгляде на родной дом его чувства остались спокойными: это не слишком целительное зрелище — дом, где прошло твое детство, но это помогает понять, сломался ты или нет, и если сломался, то как и почему — при условии, конечно, что ты хочешь это понять.
Замок возвышался перед Ганнибалом темной массой на фоне угасающего на западе света, совершенно плоский, словно вырезанный из картона игрушечный замок, в котором обитали куклы Мики. Ее склеенный из картона и бумаги замок в его сознании казался гораздо больше вот этого, каменного. Бумажные куклы корчатся, когда горят. Пламя на маминой одежде.
Из зарослей позади конюшни доносились звон посуды за ужином и пение сирот — они пели «Интернационал». В лесу позади него тявкнула лисица.
Мужчина в грязных сапогах вышел из конюшни с лопатой и бадейкой в руках и направился через двор в огород. Он присел на Вороний камень, чтобы стянуть с себя сапоги, потом прошел в кухню.
«Повар сидел на Вороньем камне, — сказал Берндт. — Его застрелили за то, что он еврей, а он плюнул в того хивиса, что его застрелил». Берндт так и не сказал, как звали того хивиса. «Лучше тебе не знать, а после войны я сам с ними сочтусь», — сказал он тогда, стискивая руки.
Стало совсем темно. По крайней мере в половине помещений замка Лектер электричество работало. Когда зажегся свет в кабинете директора, Ганнибал поднес к глазам отцовский бинокль. Сквозь окно он видел когда-то расписанный в итальянском стиле потолок в комнате мамы, а теперь по-сталински замазанный известкой, чтобы скрыть фигуры из буржуазных мифов и религий. Вскоре в окне показался и сам директор приюта — со стаканом в руке. Он здорово отяжелел и сгорбился. Старший воспитатель подошел к нему сзади и положил ему руку на плечо. Директор отвернулся от окна, и через несколько секунд свет в комнате погас.
Луну то и дело закрывали бегущие по небу рваные облака, и их тени скользили по зубцам стены и перескакивали через крышу. Ганнибал подождал еще полчаса. Потом, двигаясь вместе с тенью очередного облака, пересек двор и подошел к конюшне. В темноте ему было слышно, как там сопит большая лошадь.
Цезарь проснулся и прокашлялся. Насторожил уши и повернул их в сторону двери, когда Ганнибал вошел внутрь конюшни. Ганнибал подул старому коню в нос и погладил его по шее.
— Просыпайся, Цезарь, — сказал он коню на ухо. Ухо Цезаря коснулось лица Ганнибала. Ганнибалу пришлось зажать себе нос, чтобы не чихнуть. Он прикрыл ладонью луч фонарика и осмотрел коня. Цезарь был вычищен, копыта, кажется, были в порядке. Ему сейчас, наверное, тринадцать: он родился, когда Ганнибалу было пять. — Ты набрал всего-то с сотню кило, — заметил Ганнибал. Цезарь дружески ткнулся в него носом, и Ганнибалу пришлось ухватиться за стенку стойла. Ганнибал надел на коня уздечку и хомут с двумя шлеями и затянул супонь. Подвесил к упряжи торбу с зерном. Цезарь тут же повернул морду, пытаясь сразу сунуть ее в торбу.
Потом Ганнибал прошел в кладовую для инструментов, где тогда ребенком сидел взаперти, и взял там моток веревки, инструменты и керосиновый фонарь. В замке не было видно ни огня. Ганнибал провел коня через гравийную дорожку на мягкую землю и направился к лесу, над которым уже завиднелся рогатый месяц.
Никакой тревоги в замке. Оглядывая окрестности с зубчатого верха западной башни, сержант Свенка надел наушники полевого радиоприемника, который втащил сюда по двум сотням ступеней.
43
На опушке леса поперек тропинки было свалено огромное дерево. На нем висел знак с надписью по-русски: «ОПАСНО! НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОЕПРИПАСЫ!»
Ганнибалу пришлось обвести коня вокруг упавшего дерева. И он вошел в лес своего детства. Бледный лунный свет пробивался сквозь листву и серыми пятнами ложился на заросшую тропинку. Они уже далеко углубились в лес, когда Ганнибал зажег фонарь. Он шел впереди; здоровенные, размером с тарелку, копыта Цезаря все время наступали на отбрасываемый фонарем круг света. Возле лесной тропинки из земли прямо как гриб торчала головка бедренной кости человека.
Время от времени Ганнибал заговаривал с конем:
— Сколько раз ты возил нас в повозке по этой дорожке, а, Цезарь? Мику и меня, няню и учителя Якова?
Три часа пути: они шли, раздвигая грудью высокую траву и побеги, и наконец вышли на край поляны.
Охотничий домик стоял на месте. На взгляд Ганнибала, он ничуть не стал меньше. Домик вовсе не выглядел плоским, как замок; он возвышался, нависал над поляной, точно так, как в его снах. Ганнибал остановился на краю поляны и осмотрелся. Да, здесь бумажные куклы все еще корчились в огне. Охотничий домик наполовину выгорел, крыша частично провалилась внутрь; лишь каменные стены не дали ему рухнуть окончательно. Поляна вся заросла травой до пояса и кустарником в рост человека.
Сгоревший танк, так и оставшийся стоять перед домом, весь порос вьющимися растениями. С пушки свисал цветущий вьюнок, а из высокой травы все еще торчало, словно парус, хвостовое оперение разбившегося бомбардировщика «Штука». Тропинок в зарослях травы не было. В огороде торчали жерди для фасоли и гороха.
Здесь, в огороде, няня всегда ставила Микину ванночку, а когда вода нагревалась на солнце, Мика влезала в нее и сидела в воде, болтая руками, а вокруг нее вились белые бабочки-капустницы. Однажды он срезал баклажан и дал его ей, когда она сидела в ванночке, — ей очень нравился его цвет, почти пурпурный на солнце, и она прижала к себе теплый баклажан.
Траву перед входом никто не топтал. На ступенях перед дверью собралось много павших листьев. Ганнибал стоял и смотрел на охотничий домик, пока луна не сдвинулась на целый палец.
Время, время! Ганнибал вышел из тени деревьев и вывел коня на освещенную луной поляну. Подошел к колодцу с насосом, смочил механизм водой из фляжки и стал качать, пока скрипящий поршень не начал подавать холодную воду из глубины земли. Он понюхал воду, попробовал ее, дал напиться Цезарю, который выпил больше галлона, а потом съел пару пригоршней зерна из торбы. Скрип насоса эхом отдавался по всему лесу. Заухала сова, и Цезарь повернул уши в сторону этого звука.
В сотне метров от дома, в лесу, Дортлих услышал скрип насоса и пошел на звук. Он тихо пробирался сквозь высокие заросли папоротника, но под ногами похрустывали сухие ветки. Он замер, когда на поляне воцарилась тишина, потом услышал птичий крик где-то между ним и домом, потом птица взлетела, закрыв на секунду небо над его головой невообразимо широко расправленными крыльями, и беззвучно проплыла сквозь путаницу ветвей.
У Дортлиха мороз по спине прошел, и он поднял воротник. Потом сел в зарослях папоротника и стал ждать.
Ганнибал смотрел на дом, и дом смотрел на него. Все стекла были выбиты. Темные окна наблюдали за ним, как глазницы черепа гиббона. Силуэт дома изменился из-за разрушений, углы и покаты были совсем не те, его видимая высота стала другой из-за высоких зарослей вокруг. Охотничий домик его детства превратился в один из темных сараев и закоулков из его снов. Он пошел к дому через заросший огород.
Здесь лежала мама, и ее одежда горела, а потом он прилег в снегу и положил голову ей на грудь, и ее тело было ледяное и твердое. И еще там лежал Берндт, и мозги учителя Якова замерзли на снегу между рассыпанными листами книги. Отец тоже — лицом вниз, возле лестницы, неподвижный, глухой ко всему.
Теперь на земле уже ничего не было.
Парадная дверь в домик была расщеплена и висела на одной петле. Он взобрался по ступеням и толкнул ее во тьму. Внутри что-то маленькое бросилось прятаться. Ганнибал поднял фонарь выше и вошел внутрь.
Комната частично выгорела и была наполовину открыта небу. Ступени лестницы были разбиты возле площадки, и на них валялись рухнувшие доски крыши. Стол был разломан. В углу лежало опрокинутое маленькое пианино, скалясь в свете лампы, словно зубами, отделанной слоновой костью клавиатурой. Стены изрисованы граффити и исписаны по-русски: «К черту пятилетку!» и «Капитан Гренко — большая задница». Пара каких-то зверьков выскочила наружу через окно.
Комната давила тишиной. Не желая с этим мириться, он устроил ломиком дикий шум и грохот, сбросив все с огромной кухонной плиты, чтобы поставить там фонарь. Дверца плиты была распахнута, все полки и стеллажи исчезли — видимо, воры забрали их вместе с кастрюлями и пустили в огонь.
Работая при свете фонаря, Ганнибал отгреб в сторону от основания лестницы столько обломков, сколько смог сдвинуть с места. Остальные были придавлены к полу рухнувшими тяжелыми стропилами — они торчали как обгоревшая груда гигантских зубочисток.
В разбитых окнах забрезжила заря, а он все работал, а потом глаза обожженной пожаром головы медведя на стене уловили красный отблеск восхода.
Ганнибал несколько минут осматривал груду стропил и балок, потом набросил веревку на ближайший к центру обломок, закрепил ее и потащил другой конец наружу, пятясь через порог.
Он разбудил Цезаря, который все это время то дремал, то щипал траву. Несколько раз обвел коня вокруг дома, чтобы немного его расшевелить. Густая роса промочила ему штаны — она блистала на траве и выступала как холодный пот на алюминиевой шкуре сбитого пикирующего бомбардировщика. При дневном свете он смог разглядеть вьюнок, рановато разбуженный к жизни в теплице из фонаря пилотской кабины «Штуки», — с большими листьями и новыми побегами. Летчик по-прежнему сидел внутри, бортстрелок тоже, за его спиной, а вьюнок пророс сквозь них и опутал их, пробираясь между ребрами и сквозь черепа.
Ганнибал закрепил веревку на упряжи Цезаря и вел коня вперед, пока мощные плечи и грудь животного не напряглись под тяжестью груза. Он щелкнул языком коню в ухо — звук, оставшийся с детства. Цезарь налег на упряжь, мышцы его вздулись, и он двинулся дальше вперед. Грохот и удары изнутри дома. Сажа и пепел клубами вырвались из окна и унеслись в лес, как летящее облачко мрака.
Ганнибал погладил коня. Не в силах ждать, пока уляжется пыль, он обвязал рот платком и вошел внутрь, пробираясь по развалившейся куче обломков, кашляя, дергая за веревку и пытаясь ее высвободить. Еще два рывка — и самые тяжелые бревна съехали с толстого слоя мелкого крошева там, где упали ступени лестницы. Он остановил Цезаря, по-прежнему натягивавшего веревку, а сам с помощью ломика и лопаты стал раскапывать обломки и крошево, отбрасывая в сторону ломаную мебель, полусгоревшие подушки, пробковый шкафчик. Потом вытащил из мусора обгоревшую голову кабана на подставке.
Голос мамы: «Не мечите бисер перед свиньями».
Он потряс голову, и внутри что-то забренчало. Ганнибал ухватился за язык кабана и потянул. Язык вылез наружу, за ним тянулся прикрепленный к нему запор. Ганнибал опустил голову рылом вниз, и мамины драгоценности высыпались на крышку плиты. Он не стал рассматривать все эти ювелирные изделия, а сразу же вернулся к своим раскопкам.
Когда он увидел Микину ванночку — уголок медного ободка с витой ручкой, — то остановился и выпрямился. Комната поплыла перед глазами, и он ухватился за край плиты и прижался лбом к холодному металлу. Он вышел наружу и вернулся с обрывком вьюнка со множеством цветов. Он не стал заглядывать внутрь ванночки, а свернул вьюнок кольцом и положил сверху, а потом поставил ванночку на плиту — но он не мог видеть ее здесь, так что вынес ее наружу и поставил на сгоревший танк.
Под шум от его раскопок и разборки Дортлих без труда продвигался к дому. Он внимательно следил за домом из темного леса, высовывая то один глаз, то один окуляр своего полевого бинокля и выглядывая только тогда, когда слышал звуки лопаты или лома.
Лопата Ганнибала наткнулась на руку скелета и приподняла ее, а потом открылся и череп Кухаря. Улыбка черепа сообщила хорошие новости — его золотые зубы были в целости, значит, мародеры сюда не добрались, — а затем Ганнибал обнаружил полевую сумку Кухаря, все еще зажатую у него под костями руки и рукавом мундира. Ганнибал вытащил ее из-под руки и отнес к плите. Содержимое, грохоча, рассыпалось по крышке, когда он вывернул сумку наизнанку: разнообразные военные знаки различия, значок литовского полицейского, молнии с воротника эсэсовского мундира, эсэсовский череп и кости с фуражки, литовский алюминиевый полицейский орел, знаки Армии спасения, шесть личных солдатских медальонов из нержавейки.
Верхний принадлежал Дортлиху.
Цезарь всегда обращал внимание только на две категории вещей в руках у людей: в первую попадали яблоки и торба с зерном, а во вторую — кнуты и палки. К нему невозможно было приблизиться с палкой в руке — следствие того, что однажды, когда он был еще жеребенком, разъяренный повар прогнал его палкой с овощных грядок. Если бы у Дортлиха, когда он выбрался из леса, не было в руке дубинки со свинцовым набалдашником, Цезарь, наверное, не обратил бы на него внимания. Но тут конь заржал и отпрыгнул на несколько шагов в сторону, таща за собой веревку, а потом повернулся мордой к приближающемуся человеку.
Дортлих отступил обратно под деревья и исчез из виду. Он отошел метров на сто от дома, пробираясь между высокими, по грудь, папоротниками, мокрыми от росы, там, где его невозможно было увидеть из разбитых окон. Достал пистолет, дослал патрон в ствол. Викторианская уборная с изукрашенными карнизами стояла метрах в сорока от дома, тимьян, высаженный по бокам от дорожки, одичал и высоко поднялся, а кусты, что закрывали уборную от дома, разрослись так, что перекрывали дорожку. Дортлих едва мог протиснуться сквозь эти заросли, ветки и листья цеплялись ему за воротник, царапали шею, но побеги были гибкие и не ломались с треском. Дубинку он держал перед лицом и тихонько двигался вперед. Дубинка наготове в одной руке, пистолет в другой — так он приблизился на пару шагов к боковому окну дома, когда край лезвия лопаты ударил его поперек спины, и у него сразу ослабли ноги. Он успел раз выстрелить в землю, и ноги у него подкосились. Тут лопата плашмя обрушилась ему на затылок, и он успел лишь ощутить, как в лицо ему ткнулась трава, прежде чем погрузиться во тьму.
Птицы поют, овсянки перепархивают в ветвях, желтый свет утреннего солнца на высокой траве, вытоптанной там, где прошли Ганнибал и Цезарь.
Ганнибал прислонился к сожженному танку и минут на пять закрыл глаза. Потом повернулся к ванночке, сдвинул пальцем вьюнок, чтобы видеть останки Мики. Это было странно успокаивающее для него зрелище: он увидел, что все ее молочные зубы на месте, — одно из ужасных видений, так преследовавшее его, теперь исчезло. Он вытащил из ванночки лавровый лист и отбросил его в сторону.
Из драгоценностей, лежавших на плите, он выбрал брошь, которую помнил на груди мамы, — лента бриллиантов, свернутая в петлю Мебиуса. Он снял ленточку с камеи и прикрепил брошь там, где Мика носила ленту в волосах.
В красивом месте на обращенном на восток склоне холма позади охотничьего домика он вырыл могилу и выстелил ее полевыми цветами, какие только сумел нарвать. Поставил ванночку в могилу и закрыл ее сверху черепицами с крыши.
И встал в головах могилы. При звуке голоса Ганнибала Цезарь поднял голову, перестав щипать траву.
— Мика, мы находим утешение в том, что Бога нет. В том, что ты не стала рабой на небесах, которую вечно будут заставлять целовать Божью задницу. То, что ты получила, лучше, чем рай. У тебя есть благословенное забытье. Я все время скучаю по тебе.
Ганнибал засыпал могилу и прибил землю ладонями. Потом засыпал холмик сосновыми иглами, палыми листьями и ветками, чтобы он выглядел так же, как вся земля вокруг.
На небольшой полянке на некотором расстоянии от могилы сидел Дортлих — привязанный к дереву и с кляпом во рту. Ганнибал и Цезарь приблизились к нему.
Усевшись на землю, Ганнибал осмотрел содержимое сумки Дортлиха. Карта, ключи от машины, армейский консервный нож, пара бутербродов в клеенке, яблоко, запасные носки, бумажник. Из бумажника он извлек служебное удостоверение и сравнил его с личным медальоном, который нашел в доме.
— Герр… Дортлих. От собственного имени и от имени моей погибшей семьи я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы сегодня сюда явились. Это очень много значит для нас, для меня лично, то, что вы здесь. Я рад, что получил возможность серьезно поговорить с вами о том, как съели мою сестру.
Он выдернул кляп изо рта Дортлиха, и тот тут же заговорил.
— Я из милиции, из города. Нам сообщили о краже лошади, — затараторил он. — Это все, за чем я сюда приехал. Если вы заявите, что вернете лошадь, то мы можем про все это забыть.
Ганнибал покачал головой:
— Я помню ваше лицо. Я его много раз видел. И вашу руку помню, с этими перепонками между пальцами, — вы щупали нас, кто пожирнее. Вы помните, как на плите кипела вода в ванночке?
— Нет! Все, что я помню о войне, — это что мне всегда было холодно!
— А вы не планировали сегодня съесть меня, герр Дортлих? У вас тут с собой завтрак, я вижу. — Ганнибал рассмотрел бутерброды. — Слишком много майонеза, герр Дортлих.
— За мной скоро сюда приедут, — сказал Дортлих.
— Вы нам руки ощупывали. — Ганнибал пощупал руку Дортлиха. — Вы нам и щеки щупали, герр Дортлих, — продолжал он, щипая Дортлиха за щеку. — Я зову вас «герр», но вы ведь не немец, не так ли? Вы не литовец и не русский, правда? Вы сам по себе гражданин — гражданин страны «Дортлих». Знаете, где теперь остальные? Поддерживаете с ними связь?
— Все погибли, все погибли на войне!
Ганнибал улыбнулся ему и развязал собственный носовой платок. В узелке было полно грибов.
— Сморчки нынче в Париже идут по сотне франков за сто граммов, а эти выросли на обычном пеньке! — Он встал и пошел к коню.
Дортлих забился, пытаясь освободиться, пока Ганнибал отвлекся.
На широкой спине Цезаря висел моток веревки. Ганнибал привязал свободный ее конец к шлее упряжи. На другом ее конце была завязана петля-удавка. Ганнибал вытравил веревку и подтянул петлю к голове Дортлиха. Разлепил слипшиеся бутерброды и намазал петлю майонезом, а потом наложил толстый слой майонеза на шею Дортлиха.
Отдергиваясь от его прикосновений, Дортлих торопливо говорил:
— Один остался в живых! Он в Канаде — это Гренц! — посмотрите, там есть его медальон! Мне придется выступить свидетелем!
— Свидетелем чего, герр Дортлих?
— Того, о чем вы говорили. Я этого не делал, но я скажу, что все видел.
Ганнибал надел петлю Дортлиху на шею и заглянул ему в лицо.
— А разве я вас об этом просил?
И вернулся к коню.
— Остался только один — Гренц! Он удрал на корабле с беженцами из Бремерхафена[60] — я могу дать письменные показания…
— Очень хорошо, значит, вы желаете петь?
— Да, я буду петь.
— Тогда давайте споем для Мики, герр Дортлих. Вы ведь знаете эту песенку. Мика ее очень любила. — Он развернул Цезаря крупом к Дортлиху. — Я не хочу, чтобы ты это видел, — сказал он коню на ухо и сразу же запел: — Ein Mannlein steht im Walde ganz still und stumm… — Он щелкнул языком на ухо Цезарю и повел его вперед. — Пойте, чтоб веревка не натягивалась, герр Дортлих. Es hat von lauter Purpur ein Mantlein um.
Дортлих вертел шеей из стороны в сторону в намазанной майонезом петле, видя, как веревка разворачивается в траве и натягивается.
— Вы не поете, герр Дортлих!
Дортлих открыл рот и запел — немелодично заорал: «Sagt, wer mag das Mannlein sein».
И они запели вместе: «Das da steht im Walde allein…» Веревка натянулась и поднялась над травой, чуть провисая. Дортлих завизжал:
— Порвик! Его зовут Порвик! Мы его звали Кухарь! Он погиб в домике! Вы его там нашли!
Ганнибал остановил коня и подошел к Дортлиху, наклонился и заглянул ему в лицо.
— Привяжи его, привяжи коня, а то вдруг его пчела укусит! — заторопился Дортлих.
— Точно, в траве их полно, — ответил Ганнибал, перебирая солдатские медальоны. — А как насчет Милко?
— Не знаю! Клянусь, не знаю!
— А теперь мы добрались до Грутаса.
— Я не знаю, не знаю! Отпустите меня, я выступлю свидетелем против Гренца! Мы найдем его в Канаде.
— Еще несколько строк песни, герр Дортлих.
Ганнибал снова пустил коня вперед. На веревке, теперь совершенно натянувшейся, блестела роса.
— Das da steht im Walde allein…
Полузадушенный вопль Дортлиха:
— Это Кольнас! Кольнас с ним связан!
Ганнибал погладил коня и опять вернулся к Дортлиху и склонился над ним:
— А где Кольнас?
— В Фонтенбло, возле площади Фонтенбло! Во Франции! У него там кафе. Я оставляю там сообщения. Это единственный способ с ним связаться. — Дортлих смотрел Ганнибалу прямо в глаза. — Богом клянусь, она уже была мертва! Она в любом случае уже была мертва, клянусь вам!
Глядя Дортлиху прямо в лицо, Ганнибал еще раз щелкнул языком. Веревка натянулась, и роса слетела с нее, а редкие оборванные волокна встали дыбом. Задушенный вопль Дортлиха оборвался, а Ганнибал все пел прямо ему в лицо:
Das da steht im Walde allein Mit dem purporroten Mantelein.Мокрый хруст и брызги пульсирующей артериальной крови. Голова Дортлиха проследовала за петлей еще метров шесть и упала, глядя в небо.
Ганнибал свистнул, и конь остановился, повернув уши назад.
— И в самом деле, dem purporroten Mantelein.
Ганнибал высыпал на землю все содержимое сумки Дортлиха, взял себе ключи от машины и служебное удостоверение. Потом срезал зеленую ветку и стал выстругивать нечто вроде грубого шампура. Охлопал карманы, ища спички.
Когда костерок прогорел, оставив кучку углей, Ганнибал отнес яблоко Дортлиха Цезарю. Он снял с коня всю упряжь, чтобы тот не запутался в кустах, и повел его по тропе в сторону замка. Погладил его по шее и хлопнул по крупу:
— Домой, Цезарь! Домой!
Цезарь отлично знал дорогу домой.
44
Туман сгустился над землей на просеке под ЛЭП, и сержант Свенка велел водителю грузовика сбросить скорость, чтобы не налететь на пенек. Он взглянул на карту и проверил номер на столбе, держащем тяжелые провода.
— Здесь.
Следы шин машины Дортлиха уходили дальше, но здесь машина стояла — с двигателя на землю натекла лужица масла.
Из кузова высыпались собаки и милиционеры — две огромные черные немецкие овчарки, возбужденные предстоящей вылазкой в лес, и более серьезно настроенная гончая. Сержант Свенка дал им понюхать верх от фланелевой пижамы Дортлиха, и их спустили с поводков. Под закрытым тучами небом деревья казались серыми, погруженными в мягкие, расплывчатые тени; на полянках собирался туман.
Собаки носились вокруг охотничьего домика, гончая все обегала его по периметру, они бросались то в лес, то обратно, а потом один из милиционеров позвал остальных из глубины зарослей. Его не услышали, и он засвистел в свой свисток.
Голова Дортлиха стояла на пеньке, а на ней сидел ворон. Когда милиционеры приблизились, ворон взлетел, унося с собой все, что сумел прихватить.
Сержант Свенка глубоко вздохнул и, подавая пример остальным, пошел к голове Дортлиха. Щеки отсутствовали, срезанные начисто, и зубы были все видны с боков. Рот держался открытым при помощи солдатского медальона, вставленного между передними зубами.
Они нашли остатки костра. Сержант Свенка прощупал все угли и пепел до земли. Все холодное.
— Шампур, щеки и сморчки, — сказал он.
45
Инспектор Попиль вышел из здания управления полиции на набережной Орфевр и направился в сторону площади Вогезов, неся в руке тонкий портфель. Зайдя по дороге в бар, чтобы быстренько выпить кофе, он уловил запах кальвадоса и пожалел, что вечер еще не наступил.
Попиль расхаживал взад-вперед до гравию, то и дело поднимая взгляд к окнам леди Мурасаки. Прозрачные занавеси были задернуты. Тонкую ткань то и дело шевелил сквозняк.
Дневная консьержка, старая гречанка, узнала его.
— Мадам ожидает меня, — сказал Попиль. — А молодой человек появлялся?
Консьержка тут же уловила сигнал опасности своими консьержскими антеннами и ответила самым невинным образом:
— Я его не видела, месье, но у меня были выходные.
И нажала на кнопку звонка, впуская Попиля.
Леди Мурасаки полулежала в душистой ванне. В воде плавали четыре гардении и несколько апельсинов. Любимое кимоно ее матери было расшито гардениями. Теперь все это обращено в пепел. Вспомнив об этом, она пустила по воде волну, чтобы изменить рисунок, образованный плавающими цветами. Только мать понимала ее, когда она выходила замуж за Роберта Лектера. Редкие письма отца из Японии все еще несли в себе лед. И вместо засушенных цветов или душистых трав последнее его письмо принесло ей почерневший прутик из Хиросимы.
Это что, дверной звонок? Она улыбнулась, решив, что это Ганнибал, и потянулась за кимоно. Но он всегда звонил по телефону или присылал записку, предупреждая, что придет, и звонил в дверь, прежде чем воспользоваться ключом. Никакого ключа в замке, только снова звенит дверной звонок.
Она вышла из ванны и торопливо накинула хлопчатобумажный халат. Глянула в дверной глазок. Попиль! В глазке был Попиль.
Леди Мурасаки радовали редкие ленчи с Попилем. Первый, в «Каталонском лугу» в Булонском лесу, прошел довольно скованно, но в остальные разы, в ресторане «У Поля» недалеко от его работы, они оба чувствовали себя более свободно и раскованно. Он посылал ей и приглашения на ужин, всегда в письменном виде, а одно даже сопроводил хокку со слишком изысканными ссылками на время года. Она отклоняла приглашения на ужин, тоже в письменном виде.
Леди Мурасаки отперла дверь. Волосы ее были убраны наверх, она была восхитительно босая.
— Здравствуйте, инспектор.
— Простите, что явился без предупреждения. Я пытался вам дозвониться.
— Да, я слышала телефонный звонок.
— Из ванной, надо полагать.
— Входите.
Следуя за его взглядом, она отметила, что он сразу же обратил внимание, на месте ли оружие, навешанное на самурайские доспехи: кинжал танго, малый меч, большой меч, боевой топор.
— Ганнибал?
— Его здесь нет.
Будучи женщиной весьма привлекательной, леди Мурасаки предпочитала осторожную охоту и засадную тактику. Стоя спиной к каминной полке и спрятав руки в рукава, она ждала, когда инспектор сам начнет игру. Попилю нужно было пустить в ход все свои инстинкты, чтобы вспугнуть и поднять дичь.
Он стоял за диваном, касаясь рукой обивки.
— Мне нужно его найти. Когда вы его в последний раз видели?
— Сколько дней назад? А что случилось?
Попиль передвинулся к доспехам. Погладил лакированную поверхность нагрудника.
— Вы знаете, где он?
— Нет.
— Он не указывал, куда может отправиться?
Указывал. Леди Мурасаки наблюдала за Попилем. Вот кончики его ушей покраснели. Он двигается, задает вопросы, прикасается к разным предметам. Он любит прикасаться по очереди к разным материям, то к гладким, то к ворсистым. Она и за столом это замечала. Гладкое, потом ворсистое. Как верхняя и нижняя поверхности языка. Она знала, что легко может с помощью этого образа зарядить его мощным зарядом электричества, заставить кровь его отхлынуть от мозга.
Попиль обошел цветок в горшке. Когда он посмотрел на нее сквозь листья цветка, она улыбнулась ему и сбила его с ритма.
— Он отправился за город, не знаю точно куда.
— Ага, за город, — сказал Попиль. — На охоту за военными преступниками, надо полагать.
Он посмотрел ей прямо в глаза:
— Извините, но мне придется показать вам вот это.
Попиль положил на чайный столик листок со смазанным изображением — еще мокрый и сворачивающийся в трубку термофакс из советского посольства. На нем была изображена голова Дортлиха на пеньке со стоящими вокруг милиционерами и двумя немецкими овчарками и гончей. Второе фото Дортлиха было взято с его служебного удостоверения.
— Его обнаружили в лесу, который до войны принадлежал семье Ганнибала. Я знаю, что Ганнибал был там — он пересек польскую границу за день до того.
— Да почему это должен быть Ганнибал? У этого человека, наверное, было много врагов, вы же сами говорили, что он военный преступник.
Попиль подвинул к ней фото с удостоверения.
— Вот так он выглядел при жизни. — Попиль достал рисунок из своего портфеля, первый из подборки. — А вот так изобразил его Ганнибал. И повесил рисунок на стене у себя в комнате. — Половина лица на рисунке была анатомирована, вторая явно принадлежала Дортлиху.
— И в его комнату вы попали отнюдь не по его приглашению.
Попиля внезапно охватила ярость.
— Ваша ручная змея убила человека. Вероятно, не первого, вам это лучше известно, чем мне. А вот и другие, — добавил он и выложил на стол остальные рисунки. — Они все были в его комнате, и этот, и этот, и этот. Вот это лицо проходило на суде в Нюрнберге, я его помню. Они все скрываются и теперь убьют его, если сумеют.
— А что же советская полиция?
— Они втихую наводят справки во Франции. Нацист вроде Дортлиха в рядах советской милиции — для Советов это настоящий скандал. У них теперь есть его досье — получили от Штази[61] из ГДР.
— Если они схватят Ганнибала…
— Если они схватят Ганнибала, они его просто пристрелят. Если он выберется оттуда, они могут про это дело забыть — при условии, что он будет держать язык за зубами.
— А вы тоже про него забудете?
— Если он начнет свою охоту во Франции, то сядет в тюрьму. И голову может потерять. — Попиль перестал расхаживать по комнате. Плечи его опустились. Потом он засунул руки в карманы.
Леди Мурасаки выпростала ладони из рукавов.
— А вас депортируют из страны, — добавил он. — И я буду несчастлив. Мне нравится видеться с вами.
— Вы живете только глазами, инспектор?
— А чем живет Ганнибал? Вы же готовы все для него сделать, не так ли?
Она начала было что-то говорить, что-то вроде оправданий, чтобы защититься, но потом просто сказала: «Да». И стала ждать его реакции.
— Помогите ему. И мне тоже, Паскаль. — Она никогда прежде не называла его по имени.
— Пришлите его ко мне.
46
Река Эсон, гладкая и темная, текла мимо склада и под днищем черного плавучего дома, причаленного в бухточке недалеко от местечка Вер-ле-Пти. Окна в невысоких каютах были закрыты занавесками. С берега на борт тянулись провода — электрический и телефонный. Листья растений в терракотовых контейнерах на палубе были мокры и блестели.
Вентиляционные трубы, выходящие на палубу, были открыты. Из одной из них донесся вскрик. В нижнем иллюминаторе мелькнуло женское лицо, искаженное страхом и болью, щека прижалась к стеклу, но тут же чья-то огромная ладонь оттолкнула ее и задернула занавеску. Никто ничего не заметил.
Легкий туман окутывал сияющим ореолом горящие в бухточке фонари, но прямо вверху светилось несколько звездочек. Слишком слабых и слишком размытых, чтобы что-то по ним прочесть.
Выше по берегу, на дороге охранник у ворот посветил фонариком внутрь фургона с маркировкой на борту «Восточного кафе», узнал Петраса Кольнаса в лицо и махнул ему, разрешая въехать на стоянку в огороженном колючей проволокой дворе.
Кольнас быстро прошел через склад, где рабочий закрашивал фирменные надписи на ящиках с бытовой техникой.
Склад был забит ящиками, и Кольнасу пришлось лавировать между ними, чтобы выбраться на берег.
Рядом с плавучим домом, возле сходней сидел охранник — за столом, сделанным из деревянного ящика. Он ел сосиску, разрезая ее карманным ножом, и одновременно курил. Он вытер руки носовым платком, чтобы охлопать и ощупать пришельца, но потом узнал Кольнаса и кивком разрешил ему идти дальше.
Кольнас нечасто встречался с остальными, он жил сам по себе, все время топчась на кухне своего ресторанчика с плошкой и вилкой в руках, дегустируя все, что там готовилось. После войны он поднабрал вес.
Жигмас Милко, как и раньше тощий, впустил его в каюту.
Владис Грутас сидел на обитой кожей кушетке. Женщина с царапиной на щеке делала ему педикюр. Она выглядела очень запуганной и была слишком стара, чтобы пользоваться спросом у клиентов. Грутас поднял взгляд. На лице его было приятное и открытое выражение, что частенько являлось признаком раздражения. Капитан за штурманским столом играл в карты с толстенным типом бандитской внешности по имени Мюллер, бывшим эсэсовцем из бригады Дирлевангера[62], чьи лагерные татуировки покрывали всю шею и руки, скрываясь из виду в рукавах. Когда Грутас бросил на игроков взгляд своих бледно-голубых глаз, они тут же сложили карты и убрались из каюты.
Кольнас не стал тратить времени на приветствия.
— Медальон Дортлиха был вставлен у него между зубами. Отличная немецкая нержавеющая сталь — ничего с ней не сделалось, не расплавилась и не сгорела. Этот мальчик нашел и твой медальон, и Милко, и Гренца.
— Ты ж еще четыре года назад приказал Дортлиху отыскать их в охотничьем домике! — заметил Милко.
— Он там, видать, просто вилкой поковырялся, ленивый подонок, — сказал Грутас. Он оттолкнул женщину ногой, даже не взглянув на нее, и она поспешно вышла из каюты.
— И где он теперь, этот поганый недоросток, что прикончил Дортлиха? — спросил Милко.
Кольнас пожал плечами:
— Он студент, из Парижа. Не знаю, как он получил визу. Он воспользовался ею, чтобы въехать в страну. О его выезде никакой информации нет. Они не знают, где он.
— Что, если он пойдет в полицию? — спросил Кольнас.
— С чем он туда пойдет? — возразил Грутас. — С детскими воспоминаниями, с детскими ночными кошмарами и со старыми солдатскими медальонами?
— Дортлих мог ему сказать, как связывался со мной по телефону, чтобы держать связь с тобой, — предположил Кольнас.
Грутас пожал плечами:
— Мальчик, видимо, постарается нам навредить.
— Навредить?! — фыркнул Милко. — Надо сказать, он уже вполне достаточно навредил Дортлиху. Убить Дортлиха было, наверное, не слишком легко; видимо, он стрелял ему в спину.
— Иванов из посольства мне кое-чем обязан, — сказал Грутас. — Посольская служба безопасности непременно выследит нашего маленького Ганнибала, а мы уж сделаем все остальное. Так что Кольнасу не о чем волноваться.
Откуда-то из трюма донеслись приглушенные крики и звуки ударов. Мужчины не обратили на это никакого внимания.
— Делами Дортлиха теперь будет заниматься Свенка, — сказал Кольнас, чтобы показать, что он вовсе и не волнуется.
— А он нам нужен? — спросил Милко.
Кольнас пожал плечами:
— Он нам пригодится. Он работал с Дортлихом последние два года. У него все наше добро. Он — единственное звено, связывающее нас с оставленными там картинами. Он отвечает за депортацию и может выявлять подходящих людей из тех, кого отправляют в лагерь для перемещенных лиц в Бремерхафене. А оттуда мы легко можем получить все, что нужно.
Напуганный «Планом Плевена»[63], грозившим новым вооружением Германии, Иосиф Сталин стремительно очищал Восточную Европу, осуществляя массовые депортации населения. Битком набитые поезда еженедельно увозили тысячи людей — на смерть в концлагерях Сибири и на жалкое существование в лагерях беженцев на Западе. Доведенные до отчаяния депортированные служили Грутасу прекрасным источником снабжения женщинами и мальчиками. У него были широкие торговые интересы. Поставляемый им морфий был высшего качества — из немецких медицинских запасов. Он поставлял также электрические трансформаторы для продаваемой на черном рынке бытовой техники. Он все время прикидывал в уме, какой ему нужен человеческий товар, чтобы он удовлетворял меняющийся спрос.
Сейчас Грутас снова прикидывал.
— А этот Свенка был на фронте?
Он, как и все остальные, считал, что любой, не замазанный такими же преступлениями на Восточном фронте, как они сами, для них бесполезен.
Кольнас снова пожал плечами:
— Голос по телефону звучит молодо. Дортлих там все приготовил.
— Надо все вывозить прямо сейчас. Продавать еще рано, но вывезти все равно необходимо. Когда он снова будет звонить?
— В пятницу.
— Скажи ему, чтобы начинал действовать.
— Он и сам захочет оттуда убраться. Ему будут нужны бумаги.
— Мы можем переправить его в Рим. Не думаю, что он нам нужен здесь. Можешь обещать ему что угодно, понятно?
— Все эти произведения искусства объявлены в розыск, — заметил Кольнас.
— Возвращайся в свой ресторан, Кольнас. Продолжай бесплатно подкармливать flics[64], и они в благодарность будут аннулировать твои штрафы за превышение скорости. Когда в следующий раз соберешься сюда, чтобы поплакаться, прихвати с собой пирожных.
— Он справится, — сказал Грутас Милко, когда Кольнас уехал.
— Надеюсь, — ответил Милко. — Мне неохота возиться с его рестораном.
— Дитер! Где этот Дитер? — Грутас грохнул кулаком в дверь каюты на нижней палубе и распахнул ее.
На койках сидели две испуганные молодые женщины, обе прикованные цепью за запястья к трубчатым рамам коек. Дитер, молодой человек лет двадцати пяти, держал одну из них за волосы, зажав их в кулаке.
— Поцарапаешь им морды, разобьешь губы — цена упадет, — заметил Грутас. — А вот эта сейчас будет моя.
Дитер отпустил волосы женщины и стал копаться у себя в набитых разным барахлом карманах в поисках ключа.
— Ева! — позвал он.
В каюту вошла пожилая женщина и встала у двери.
— Вымой вот эту, и пусть Мюллер отведет ее наверх, — сказал он.
Грутас и Милко прошли через склад и вышли к машине. В отдельном отсеке склада, отгороженном веревкой, стояли ящики с маркировкой «Бытовая техника». Грутас углядел среди них английский холодильник.
— Милко, знаешь, почему англичане пьют теплое пиво? Потому что пользуются холодильниками «Люкас». Это не для меня. Я предпочитаю «Келвинейтор», «Фриджидэр», «Магнавокс», «Кертис-Мэтис». Мне нужно все американское. — Грутас поднял крышку рояля и взял несколько нот. — Это только для борделя годится. Мне такое не нужно. Кольнас нашел мне «Бозендорфер». Самый лучший. Забери его из Парижа, Милко… когда покончишь с другим делом.
47
Прекрасно зная, что он не появится, пока не соскребет с себя всю грязь и не приведет себя в порядок, она ждала в его комнате. Он никогда не приглашал ее сюда, и она не совала сюда нос. Она осмотрела рисунки на стенах, анатомические наброски и зарисовки, что заполняли половину комнаты. Она легла на его кровать в другой половине комнаты, безупречно-японской, прямо под свесом крыши. На маленькой полке лицом к кровати стояла картина в рамке, прикрытая шелковой салфеткой с вышитыми на ней летящими в ночи цаплями. Лежа на боку, леди Мурасаки протянула руку и подняла шелк. Он закрывал великолепный рисунок, изображавший ее самое — обнаженной, в ванне замка, — карандаш и мелок, чуть подкрашенные пастелью. Рисунок был подписан символом «вечность восемью взмахами кисти» и японскими иероглифами «травяного писания», не совсем точно означавшими «цветок на воде».
Она долго смотрела на него, потом прикрыла шелком и закрыла глаза. На память ей пришли строки из поэмы Ёсано Акико[65]:
Средь звуков, что мой кото издает, Есть звук один, таинственный, чудесный. Он из глубин души моей исходит.На второй день, вскоре после рассвета, она услышала шаги на лестнице. Щелкнул ключ в замке, и Ганнибал предстал перед ней, усталый и взъерошенный, с рюкзаком в руке.
Леди Мурасаки уже встала.
— Ганнибал, я хочу слышать твое сердце, — сказала она. — Сердце Роберта уже замолкло. Твое сердце остановилось в моем сне. — Она подошла к нему и приложила ухо к его груди. — От тебя пахнет дымом и кровью.
— А от вас пахнет жасмином и зеленым чаем. От вас пахнет миром.
— Ты ранен?
— Нет.
Ее лицо прижималось к груди Ганнибала, там, где висели солдатские медальоны. Она вытащила их из ворота его рубашки.
— Ты снял их с мертвых?
— Каких мертвых вы имеете в виду?
— Советская полиция знает, кто ты. Ко мне приходил инспектор Попиль. Если ты пойдешь прямо к нему, он тебе поможет.
— Эти люди еще не умерли. Они очень даже живы.
— Они во Франции? Тогда сдай их инспектору Попилю.
— Сдать их французской полиции? Зачем? — Он покачал головой. — Завтра воскресенье — правильно?
— Да, воскресенье.
— Поедемте завтра вместе со мной. Я за вами зайду. Я хочу, чтобы вы вместе со мной взглянули на одного зверя, и тогда вы сами скажете, следует ли ему бояться французской полиции.
— Но инспектор Попиль…
— Когда встретите инспектора Попиля, скажите ему, что у меня есть для него письмо. — И Ганнибал покивал ей.
— Где ты моешься?
— В лаборатории, под пожарным краном, — ответил он. — Как раз туда я сейчас и отправлюсь.
— Поесть не хочешь?
— Нет, спасибо.
— Тогда поспи, — сказала она. — Я поеду с тобой завтра. И послезавтра, и послепослезавтра…
48
Мотоцикл Ганнибала Лектера был двухцилиндровый «БМВ», брошенный отступавшими немецкими войсками. Он был перекрашен в сплошной черный цвет, имел низкий руль и заднее сиденье для пассажира. Леди Мурасаки ехала позади него, в своей головной повязке и сапогах чем-то напоминая парижского апаша. Она прижималась к спине Ганнибала, легко сжимая ему ладонями ребра.
Ночью прошел дождь, и мостовая теперь, под лучами утреннего солнца, была чистая и сухая, мотоцикл хорошо держал асфальт, даже когда они наклонялись на поворотах, мчась сквозь лес Фонтенбло и пересекая поочередно тени от деревьев и залитые солнцем участки дороги. Воздух, бьющий в лицо, был прохладным в низинах и теплым на открытых местах.
Угол наклона на поворотах гораздо сильнее чувствуется на заднем сиденье мотоцикла, и Ганнибал ощущал ее позади себя и первые несколько миль старался снижать скорость, но потом она сама вошла во вкус, лишние пять градусов наклона уже не казались ей чрезмерными, она как бы слилась с ним, и они продолжали мчаться вперед через лес. Миновали живую изгородь из жимолости, воздух вокруг нее был таким сладким на вкус, что она даже ощутила его на губах. Вкус разогретого асфальта и жимолости.
«Восточное кафе» расположено на западном берегу Сены примерно в полумиле от города Фонтенбло. От него открывается приятный вид на лес на противоположном берегу. Мотор мотоцикла замолк и начал пощелкивать, остывая. Возле входа на открытую террасу кафе стояла вольера, в ней порхали овсянки — владелец тайно специализировался на блюдах из этой птички. Законы, запрещающие использование овсянок в качестве жаркого, то издавались, то отменялись, в меню же они фигурировали как жаворонки. Овсянка — замечательная певчая птичка. Вот и сейчас они пели, наслаждаясь солнечным днем.
Ганнибал и леди Мурасаки остановились, чтобы полюбоваться ими.
— Такие маленькие и такие прекрасные, — заметила она, все еще возбужденная быстрой ездой.
Ганнибал прислонился лбом к сетке вольеры. Маленькие птички повернули головы и теперь смотрели на него одним глазом. Их песни напоминали диалект его родных мест в Прибалтике, он слышал его в лесу, дома.
— Они точно такие, как мы, — сказал он. — Знают, что их товарок поджаривают, но все равно продолжают петь. Пойдемте.
Три четверти столиков на открытой террасе были заняты посетителями — вперемешку деревенскими и городскими жителями в воскресных костюмах. Все были заняты поздним завтраком. Официант провел их к свободному столику.
Сидевшие за соседним столом мужчины заказали жаркое из овсянок на всех. Когда маленькие жареные птички прибыли, все низко наклонились над своими тарелками, накрыв головы салфетками, чтобы сохранить весь аромат жаркого.
Ганнибал втянул ноздрями воздух, доносившийся от их стола, и решил, что вино у них отдает пробкой. И с бесстрастным лицом наблюдал, как они тем не менее его пьют.
— Хотите мороженого? Пломбир с орехами и фруктами?
— Отличная мысль.
Ганнибал пошел внутрь ресторана. Остановился перед меню, написанным мелом на черной доске, и внимательно прочитал лицензию с именем ресторатора, висевшую рядом с кассой.
В коридоре одна из дверей имела табличку «Prive»[66]. Коридор был пуст.
Дверь была не заперта. Ганнибал отворил ее и пошел по лестнице вниз, в подвал. Там, в наполовину распакованном ящике, стояла американская посудомоечная машина. Он наклонился и прочитал адрес на упаковке.
Эркюль, один из подсобных рабочих, спустился по лестнице, неся корзину с использованными салфетками.
— Что это вы тут делаете? Сюда нельзя посторонним.
Ганнибал повернулся к нему и заговорил по-английски:
— Тогда где он? На двери же написано «Prive», не так ли? Вот я и пошел вниз, а тут только подвал. Сортир, парень, писсуар, туалет, где он тут? Говори по-английски! Понимаешь, сортир! Говори быстро, а то меня уже поджимает!
— Prive, prive! — Эркюль махнул в сторону лестницы. — Туалет там!
Когда они поднялись наверх, он направил Ганнибала в нужную сторону.
Он вернулся к столу, когда принесли мороженое.
— Кольнас теперь именуется Клебер. В лицензии так написано. Месье Клебер, проживающий на улице Жулиан. Ах-ах, смотрите-ка!
Петрас Кольнас вышел на террасу со всей своей семьей, празднично одетый — он собирался в церковь.
Все разговоры вокруг превратились для Ганнибала в удаляющийся шум; перед глазами замелькали темные пятна.
Костюм Кольнаса был из новенького, чуть поблескивающего тонкого сукна. На лацкане виднелся значок клуба «Ротари»[67]. Его жена и дети смотрелись просто великолепно, очень похожие на немцев. На солнце короткие рыжие волосы и усы Кольнаса блестели, как кабанья щетина. Кольнас подошел к кассе, посадил сына на высокий барный табурет.
— Кольнас Процветающий, — заметил Ганнибал. — Ресторатор. Гурман. Даже по дороге в церковь проверяет кассу. Какой аккуратист!
Метрдотель взял книгу предварительных заказов со столика возле телефона и открыл ее перед Кольнасом для проверки.
— Помяните нас в своих молитвах, месье, — сказал он.
Кольнас кивнул. Украдкой от завтракающих посетителей он вытащил из-за пояса английский револьвер «уэбли» 455-го калибра[68] и положил его на прикрытую занавеской полку позади кассы, потом одернул свой жилет. Выбрал из кассы несколько блестящих монет и протер их платком. Одну монету вручил сыну, сидевшему на высоком табурете у бара. «Это ты опустишь в кружку для пожертвований в церкви. Положи в карман». Потом наклонился к маленькой дочери и дал ей вторую монету. «А это ты опустишь. В рот не бери. Положи в карман».
Люди, пившие за стойкой, на некоторое время отвлекли Кольнаса. Кроме того, он должен был поздороваться с постоянными посетителями заведения. При этом он учил сына, как нужно пожимать знакомым руку. Его дочка между тем отпустила его брюки и побрела нетвердой походкой между столами, просто очаровательная в своих воланчиках, кружевном чепчике и детской бижутерии. Все посетители улыбались ей.
Ганнибал взял вишню со своего мороженого и положил ее на край стола. Ребенок подошел, чтобы взять ее, вытянув вперед ручонку и уже расставив большой и указательный пальчики, чтобы ухватить ягоду. Глаза Ганнибала сверкали. Язык на мгновение показался изо рта, и тут он вдруг запел:
— Ein Mannlein steht im Walde ganz still und stumm… Ты знаешь эту песенку?
Пока девочка ела вишню, Ганнибал положил ей что-то в карман.
— Es hat von lauter Purpur, ein Mannlein urn.
Кольнас вдруг оказался возле стола. И взял дочь на руки.
— Она не знает эту песенку, — сказал он.
— Тогда вы должны ее знать. Судя по акценту, вы ведь не француз.
— Вы тоже, месье, — заметил Кольнас. — Нетрудно догадаться, что вы и ваша жена не французы. Только теперь мы все французы.
Ганнибал и леди Мурасаки наблюдали, как Кольнас усаживает свое семейство в машину.
— Прелестные дети, — сказала она. — Особенно девочка.
— Ага, — ответил Ганнибал. — У нее на руке браслет Мики.
Высоко над алтарем в церкви Спасителя имеется особо кровавое изображение Христа на кресте, картина XVII века, когда-то вывезенная с Сицилии в качестве военного трофея. Под распятым Христом возник священник, подняв руку с чашей вина для причастия.
— Вкусите, — сказал он. — Сие есть кровь моя, пролитая во искупление грехов твоих. — Он протянул просфору. — Сие есть тело мое, которое за вас предано, принесено в жертву, дабы вы не погибли, но спаслись для жизни вечной. Примите, вкусите и всякий раз, когда делаете сие, творите сие в мое воспоминание.
Кольнас, держа детей на руках, положил просфору в рот, вернулся на скамью и сел рядом с женой. Когда все причастились, по рядам понесли блюдо для пожертвований. Кольнас зашептал на ухо сыну. Мальчик вынул из кармана монету и опустил ее на блюдо. Кольнас прошептал то же самое на ухо дочери, которая иной раз забывала про пожертвования.
— Катерина…
Девочка порылась в кармашке и положила на блюдо почерневший солдатский медальон с надписью «Петрас Кольнас». Кольнас не видел его, пока служка не поднял медальон с блюда и не вернул его, ожидая с терпеливой улыбкой, когда Кольнас заменит медальон монетой.
49
На открытой террасе леди Мурасаки плакучая вишня в горшке свешивала свои ветви над столом, и ее самые нижние побеги щекотали Ганнибалу волосы. Он сидел напротив леди Мурасаки. За ее плечом виднелся освещенный собор Сакре-Кер, повиснув в ночном небе как капля лунного света.
Она играла на изящном кото «Море весной» Мияги Митио[69]. Волосы ее были распушены, теплый свет лампы мягко лежал на коже. Она смотрела прямо на Ганнибала и перебирала струны.
Ее лицо всегда было трудно читать, и это ее качество Ганнибал по большей части находил занятным. С годами он все же научился его читать, не с осторожностью, но со вниманием и интересом.
Музыка постепенно стихала. Последняя нота еще звучала, когда сидевший в своей клетке сверчок судзумуши ответил аккордам кото. Она просунула ломтик огурца между прутьями, и сверчок утащил его внутрь. Она как будто смотрела сквозь Ганнибала, куда-то позади него, на отдаленный холм, а потом он вдруг почувствовал, что ее внимание окутывает его, и она произнесла знакомые слова:
— Я вижу тебя, и сверчок поет в унисон с моим сердцем.
— Мое сердце трепещет от счастья при виде той, что научила мое сердце петь, — отвечал он.
— Сдай их инспектору Попилю. Кольнаса и всех остальных.
Ганнибал прикончил свое саке и поставил чашку на стол.
— Это вы из-за детей Кольнаса, да? Вы же складываете бумажных журавликов для детей.
— Я складываю журавликов за твою душу, Ганнибал. Тебя затягивает во тьму.
— Не затягивает. Когда я не мог говорить, меня не затягивало в молчание. Это молчание захватило меня.
— Из этого молчания ты пришел ко мне, ты стал говорить со мной. Я знаю тебя, Ганнибал, и это знание — нелегкая ноша. Тебя влечет в сторону тьмы, но тебя влечет и ко мне.
— На Мост грез.
Кото издал слабый звук, и она отложила его. Протянула к нему руку. Он поднялся на ноги, ветка вишни скользнула по его щеке, и она повела его в ванную. Вода исходила паром. Возле ванны горели свечи. Она указала ему сесть на татами. Они сидели, касаясь коленями друг друга, их лица на расстоянии фута.
— Ганнибал, поедем со мной ко мне домой, в Японию. Ты можешь получить практику в клинике моего отца, в его доме. Там много работы. И мы там будем вместе. — Она поцеловала его в лоб. — В Хиросиме зеленые побеги пробиваются сквозь пепел к свету. — Она коснулась его лица. — Если ты — выжженная земля, то я стану теплым дождем.
Леди Мурасаки взяла апельсин из чаши возле ванны. Взрезала его ногтями и прижала благоухающую руку к губам Ганнибала.
— Одно настоящее прикосновение лучше, чем Мост грез. — Она затушила стоявшую рядом с ними свечу чашкой из-под саке, оставив чашку опрокинутой на свече и держа ее там дольше, чем было необходимо.
Она подтолкнула пальцами апельсин, и тот покатился по плиткам в ванну. Она положила ладонь на затылок Ганнибалу и поцеловала его в губы — настоящий расцветший бутон, открывающийся навстречу солнцу.
Ее лоб прижался к его губам, она расстегнула ему рубашку. Он удерживал ее на расстоянии вытянутых рук и смотрел прямо в ее прекрасное лицо, в ее сияние. Они были близко и в то же время далеко друг от друга, как лампа, стоящая между двумя зеркалами.
Ее халат упал на пол. Глаза, груди, точечки света на ее бедрах, симметрия на симметрии. У него участилось дыхание.
— Ганнибал, обещай мне.
Он прижал ее к себе, очень сильно, и закрыл глаза, очень плотно. Ее губы, ее дыхание на его шее, на ямочке под шеей, на его ключице. На его ключице. Весы св. Михаила.
Он видел апельсин, плавающий в воде. На мгновение он превратился в череп олененка в кипящей воде в ванночке, он бьется, бьется вместе с ударами его сердца, словно и в смерти отчаянно силится прободать себе путь прочь оттуда. Проклятые грешники в цепях под его грудью маршировали по диафрагме в ад, расположенный под весами. Стерно-гиоид, омо-гиоид, тиро-гиоид, яре-е-емная вена. Ами-и-и-инь.
Теперь было самое время, и она это знала.
— Ганнибал, обещай мне.
Удар сердца, и он ответил:
— Я уже дал обещание Мике.
Она неподвижно сидела возле ванны, пока не услышала стук закрывшейся входной двери. Она надела халат и тщательно затянула пояс. Она взяла свечи с ванны и поставила их перед фотографиями на своем алтаре. Их свет отражался от лиц присутствующих мертвых и от взирающего на все это самурайского доспеха, и на маске Дато Масамуне она видела будущих мертвых.
50
Доктор Дюма повесил лабораторный халат на вешалку и толстенькими розовыми пальцами застегнул верхнюю пуговицу. Щеки у него тоже были розовые, волосы светлые и блестящие, словно свежевымытые, а его одежда оставалась свежей весь день. Он источал на окружающих какую-то неземную радость, которая также пребывала рядом с ним весь день. В лаборатории еще оставалось несколько студентов, отмывающих секционные столы.
— Ганнибал, завтра утром мне понадобится тело со вскрытой грудной полостью, чтобы были видны ребра. В основные легочные сосуды введите контрастную жидкость, равно как и в основные сердечные артерии. Подозреваю, что номер восемьдесят восемь, судя по цвету его лица, скончался от тромбоза коронарных сосудов. Это будет интересно посмотреть, — радостно заявил он. — Сделайте нисходящий разрез передней стенки и обозначьте всю зону желтым. Я оставил вам все указания. Это большая работа. Я могу попросить Грава остаться и помочь вам.
— Я буду работать один, профессор.
— Так я и думал. Кстати, у меня есть хорошая новость: Альбен Мишель прислал первые отпечатки гравюр. Завтра можно будет их посмотреть. Я сгораю от нетерпения.
Несколько недель назад Ганнибал передал свои зарисовки в издательство на улице Гюйгенса. Увидев название улицы на табличке, он невольно вспомнил учителя Якова и труд Христиана Гюйгенса «Трактат о свете». После этого он с час сидел в Люксембургском саду, глядя на игрушечные парусные кораблики в пруду, мысленно разворачивая завиток, образованный полукруглой клумбой. Под рисунками для нового анатомического атласа будет стоять подпись «Лектер-Яков».
Последний студент покинул лабораторию. Здание теперь было пустым и темным, за исключением яркого света на рабочем месте Ганнибала в анатомической лаборатории. После того как он выключил электрическую секционную пилу, остались только слабый завывающий шум ветра в каминных трубах, перезвон инструментов, похожий на стрекотание насекомых, и бульканье в ретортах, в которых разогревались контрастные жидкости для инъекций.
Ганнибал внимательно осмотрел труп — коренастого мужчину среднего возраста, закутанного в простыню, за исключением разъятой грудной клетки. Ребра торчали, как шпангоуты лодки. Вот зоны, которые доктор Дюма желал бы выставить на обозрение в ходе лекции, лично делая последние разрезы и извлекая легкое. Для иллюстрации к атласу Ганнибалу было необходимо увидеть заднюю часть легкого, сейчас недоступную для обозрения, скрытую в глубине трупа. Ганнибал, включая по пути свет, прошел по коридору в анатомический музей, чтобы посмотреть там.
Жигмас Милко сидел в кабине грузовика, припаркованного на противоположной стороне улицы. Оттуда он мог свободно видеть, что происходит внутри здания медицинского факультета, и следить за тем, как Ганнибал идет по коридору. В рукаве у Милко был спрятан короткий ломик, пистолет и глушитель лежали в карманах.
Он хорошенько рассмотрел Ганнибала, когда тот включил свет в музее. Карманы его лабораторного халата были явно пусты. Видимо, он не вооружен. Вот он покинул музей с какой-то банкой в руках, и лампы по очереди погасли, когда он прошел обратно в лабораторию. Теперь свет горел только в лаборатории, проникая наружу сквозь матовые окна и прозрачный люк в потолке.
Милко заключил, что ему не понадобится особо долго тут прятаться, но на всякий случай решил сначала выкурить сигарету — если топтун из посольства оставил ему сигареты, прежде чем исчезнуть. Можно подумать, что этот ленивый урод никогда в жизни не видел приличного курева. Он что, всю пачку с собой унес? Черт побери, в пачке оставалось по крайней мере штук пятнадцать «Лаки страйк»! Ладно, покончим с этим, потом прихватим американских сигарет на bal musette[70]. Надо немного разрядиться, пообщаться с девицами, потереться об их животы своим передком с глушителем в боковом кармане брюк, глядя при этом им в глаза, чтобы видеть, как они реагируют на тыкающийся в них твердый предмет… А рояль для Грутаса можно будет забрать и утром.
Этот мальчишка убил Дортлиха. Милко вспомнил, что Дортлих однажды врезал ему по зубам таким же ломиком, спрятанным в рукаве, и сломал ему зуб, когда Милко пытался закурить. «Scheisskopf[71], тебе надо было убраться оттуда вместе с остальными», — сказал он, обращаясь к Дортлиху, где бы тот сейчас ни был. В аду скорее всего.
Милко пересек улицу, неся в руках лестницу и, как прикрытие, сверток с завтраком, и нырнул в тень живой изгороди возле здания медицинского факультета. Поставив ногу на первую ступеньку, он пробормотал: «В гроб эту ферму!» Он всегда повторял эти слова как мантру, когда шел на дело — с тех самых пор, как сбежал из дому, едва ему исполнилось двенадцать.
Ганнибал покончил с введением синей контрастной жидкости в вены и зарисовал результат своей работы цветными карандашами на планшете, установленном рядом с трупом, то и дело посматривая на легкое, заспиртованное в банке из анатомического музея. Несколько листов бумаги, закрепленных на планшете, зашевелились от сквозняка и снова легли на место. Ганнибал поднял взгляд от рисунка, посмотрел в конец коридора, откуда прилетел сквозняк, и закончил раскрашивать вену.
Милко притворил за собой окно анатомического музея, снял ботинки и в одних носках крадучись пошел между стеклянными витринами. Прошел мимо шкафов с системой пищеварения и остановился возле огромной пары ног, заспиртованных в большом баллоне. Света едва хватало, чтобы двигаться. Не стоит стрелять здесь, еще разобьешь что-нибудь, и все разольется. Он поднял воротник, прикрываясь от сквозняка, дувшего ему сзади в шею. Потом потихоньку высунул нос из-за угла в коридор, глядя прямо вперед и стараясь, чтобы ухо не слишком высовывалось.
У Ганнибала, нависшего над планшетом, широко раздулись ноздри, и свет лампы красным огоньком отразился в его глазах.
Глядя в конец коридора и сквозь дверь лаборатории, Милко видел спину Ганнибала, работающего с трупом и держащего в руке большой шприц с контрастной жидкостью. Стрелять отсюда было далековато, а толстый глушитель закрывал мушку пистолета. Только бы его не спугнуть, а то гоняйся потом за ним, сшибая по пути мебель и все прочее. Господь один ведает, что тут может на тебя вылиться, какая-нибудь мерзкая жидкость…
Милко собрался с духом, как обычно делают люди перед тем, как убить.
Ганнибал исчез из виду, и Милко видел только его руку на планшете, рисующую, рисующую, что-то стирающую.
Внезапно Ганнибал положил карандаш, вышел в коридор и включил свет. Милко отскочил назад в музей, но потом свет погас. Милко выглянул из-за дверного косяка. Ганнибал работал с укрытым простыней телом.
Милко услышал звук секционной пилы. Когда он выглянул снова, Ганнибала видно не было. Снова рисует. Ну и хрен с ним. Надо просто войти и застрелить его. И еще сказать, чтобы передал привет Дортлиху, когда попадет в ад. Снова по коридору, длинными шагами, в одних носках, неслышно по каменному полу, все время следя за рукой, рисующей на планшете. Милко поднял пистолет, шагнул сквозь дверь и увидел руку и рукав, лабораторный халат, свернутый на стуле, — а где же он сам?! — и тут Ганнибал приблизился к нему сзади и всадил иглу наполненного спиртом шприца Милко в шею, подхватив его, когда ноги под ним подломились, а глаза закатились, и опустил его на пол.
Первым делом все привести в порядок. Ганнибал положил отрезанную от трупа руку на место и прикрепил ее несколькими быстрыми стежками за кожу. «Извините меня, — сказал он. — Я добавлю слова благодарности к вашему письму».
Весь как в огне, кашляя, чувствуя на лице ледяной холод, Милко пришел в сознание. Комната вертелась перед глазами, потом немного успокоилась. Он стал облизывать губы и отплевываться. По лицу текла вода.
Ганнибал поставил кувшин с холодной водой на край резервуара с формалином и уселся рядом, явно намереваясь поговорить. На Милко была надета цепная «упряжь» для покойников. Он был по шею погружен в раствор формалина. Остальные обитатели резервуара собрались рядом с ним и изучали его затуманенными от бальзамирующей жидкости глазами, и он отпихнул от себя их скукоженные руки.
Ганнибал изучил содержимое бумажника Милко. Достал из собственного кармана солдатский медальон и положил его рядом с удостоверением личности Милко на край резервуара.
— Так, Жигмас Милко. Добрый вечер.
Милко закашлялся и задергался.
— Мы говорили про вас. Я привез вам деньги. Отступные. Мы хотим, чтобы вы взяли деньги. Я привез их. Давайте я вас туда отведу.
— Великолепный план, как мне кажется. Вы убили столько людей, Милко. Гораздо больше, чем плавает здесь. Вы ощущаете их рядом с собой? Вон там, возле ваших ног — ребенок, погибший при пожаре. Старше, чем моя сестра, и наполовину поджаренный.
— Не понимаю, чего вы хотите.
Ганнибал натянул резиновую перчатку.
— Хочу услышать, что вы можете сказать о том, как съели мою сестру.
— Я не ел!
Ганнибал надавил Милко на голову и погрузил его в формалин. Через довольно долгий промежуток времени он вытащил его обратно, полил ему на лицо водой, промыв глаза.
— Больше так не говорите, — сказал Ганнибал.
— Нам всем было плохо, очень плохо, — забормотал Милко, как только смог говорить. — Руки замерзали, ноги гнили. Что бы мы тогда ни делали, мы это сделали, чтоб выжить. Грутас очень быстро сработал, она даже не… а вас мы оставили в живых, мы…
— Где Грутас?
— Если я вам скажу, вы позволите мне отвести вас, чтобы забрать деньги? Там много, в долларах. И еще можно получить деньги, много денег, мы ж можем их шантажировать тем, что я знаю, а вы будете свидетелем…
— Где Гренц?
— В Канаде.
— Правильно. Наконец-то вы сказали правду. Где Грутас?
— У него дом в Мийи-ле-Форе.
— Какая у него теперь фамилия?
— Он работает в фирме «Сатраг инкорпорейтед».
— Он продал мои картины?
— Только один раз, чтобы закупить кучу морфия, не больше. Мы можем получить их назад.
— Вы пробовали блюда в ресторане Кольнаса? Пломбир у него неплохой.
— У меня деньги в грузовике.
— Последнее слово будет? Прощальная речь?
Милко открыл было рот, хотел что-то сказать, но Ганнибал с грохотом захлопнул тяжелую крышку. Между крышкой и поверхностью формалина оставалось меньше дюйма воздушного пространства. Он вышел из комнаты. Милко бился головой о крышку, как лобстер в кастрюле. Ганнибал закрыл за собой дверь, и резиновые уплотнители противно взвизгнули, соприкоснувшись с крашеной поверхностью дверной коробки.
Инспектор Попиль стоял возле рабочего стола Ганнибала, разглядывая рисунок.
Ганнибал протянул руку к шнурку и, дернув его, включил огромный вентилятор, который начал со стуком и лязгом вращаться.
Попиль поднял взгляд на вентилятор. Ганнибал не знал, что еще он успел услышать. Пистолет Милко лежал между ногами трупа, под простыней.
— Инспектор Попиль, — сказал Ганнибал, беря шприц с контрастной жидкостью и делая очередную инъекцию, — извините, мне нужно все это проделать, пока снова не началось окоченение.
— Вы убили Дортлиха в лесу, раньше принадлежавшем вашей семье.
Выражение лица Ганнибала не изменилось. Он вытер кончик иглы.
— Его лицо было съедено, — сказал Попиль.
— Я бы отнес это на счет воронов. Их в тамошних лесах полно. Собака, помнится, не успевала отвернуться от своей миски, как они тут же набрасывались на ее еду.
— Ага. Вороны, которые делают шашлык.
— Вы говорили об этом леди Мурасаки?
— Нет. Случаи каннибализма имели место на Восточном фронте, и не раз, когда вы были ребенком. — Попиль повернулся спиной к Ганнибалу, наблюдая за его отражением в стеклянной дверце шкафа. — Но вы ведь об этом знаете, не правда ли? Вы сами там были. И вы были в Литве четыре дня назад. Вы отправились туда по законно полученной визе, но вернулись совсем иным путем. Как именно? — Попиль не стал дожидаться ответа. — Я скажу вам, как именно. Вы купили нужные бумаги через одного заключенного в Френе — а это уголовное преступление.
В комнате, где стоял резервуар с формалином, тяжелая крышка чуть приподнялась, и на краю появились пальцы Милко. Он вытянул губы, приложил их к крышке, засасывая воздух из узкого пространства, потом захлебнулся от всплеска раствора, прижался лицом к щели над краем и еще раз, захлебываясь, втянул ртом воздух.
В анатомической лаборатории Ганнибал, глядя в спину Попилю, слегка нажал на легкое трупа, которое выдало достаточно громкий выдох с бульканьем.
— Извините, — сказал он. — С ними иногда такое случается.
Он подрегулировал бунзеновскую горелку под колбой, чтобы в той булькало погромче.
— На этом рисунке лицо не вашего трупа. Это лицо Владиса Грутаса. Такое же, как на рисунках в вашей комнате. Вы и Грутаса убили?
— Вовсе нет.
— Вы нашли его?
— Если бы я его нашел, даю вам слово, я отдал бы его вам — на ваше усмотрение.
— Не валяйте дурака! Вам известно, что он однажды отпилил голову одному рабби в Каунасе? Что он перестрелял в лесу кучу цыганских детишек? Вам известно, что он избежал суда в Нюрнберге, потому что свидетель получил дозу кислоты в глотку? Я то и дело натыкаюсь на его вонючий след, но он всякий раз от меня уходит. Если он узнает, что вы за ним охотитесь, он убьет вас. Это он убил ваших близких?
— Он убил и съел мою сестру.
— Вы это видели?
— Да.
— Вы выступите свидетелем в суде?
— Конечно.
Попиль долго смотрел на Ганнибала.
— Если вы убьете кого-то во Франции, Ганнибал, я позабочусь, чтобы ваша голова скатилась с гильотины в корзину. Леди Мурасаки депортируют. Вы любите леди Мурасаки?
— Да. А вы?
— В архивах в Нюрнберге есть его фотографии. Если советская сторона распространит их, если они смогут его найти, Сюрте может выменять его на одного из тех, кого держит за решеткой. Если мы его заполучим, мне будут нужны ваши показания. Другие свидетели и улики есть?
— Следы зубов на костях.
— Если вы не явитесь ко мне в кабинет завтра, я вас арестую.
— Спокойной ночи, господин инспектор.
В комнате с резервуаром похожие на лопаты крестьянские руки Милко соскальзывают внутрь резервуара, крышка плотно захлопывается, и он, глядя в плавающее перед ним сморщенное лицо, изрекает свое последнее слово: «В гроб эту ферму!»
Ночь в анатомической лаборатории. Ганнибал работает один. Он почти закончил свой рисунок, работая рядом с трупом. Над столом висит раздувшаяся резиновая перчатка, заполненная какой-то жидкостью и завязанная на запястье. Перчатка подвешена над мензуркой с каким-то порошком. Рядом тикает таймер.
Ганнибал закрыл планшет прозрачным листом кальки. Потом накрыл труп простыней и покатил каталку с ним в лекционный зал. Из анатомического музея он принес ботинки Милко и положил их рядом с его одеждой на каталку, стоявшую возле мусоросжигательной печи, где уже было выложено содержимое его карманов — перочинный ножик, ключи и бумажник. В бумажнике были деньги и верхнее кольцо презерватива, которое Милко всегда надевал, чтобы обмануть в темноте своих женщин. Ганнибал вытащил деньги. Открыл мусоросжигатель. Внутри в языках пламени стояла голова Милко. Он сейчас выглядел как пилот горящего бомбардировщика «Штука». Ганнибал забросил в печь ботинки, и один из них сбил голову — она упала и укатилась из виду.
51
Списанный армейский пятитонный грузовик с новым тентом на кузове стоял напротив анатомической лаборатории, наполовину перегораживая тротуар. На удивление, на его лобовом стекле еще не красовался штрафной талон за неправильную парковку. Ганнибал попробовал отпереть водительскую дверцу ключами, взятыми у Милко. Дверь открылась. За противосолнечный козырек над сиденьем водителя был засунут конверт с бумагами. Он быстро просмотрел их.
Сколоченный из досок щит, валявшийся в кузове, послужил ему пандусом, чтобы погрузить в кузов свой мотоцикл. Потом он погнал грузовик к Порт-де-Монтемпуавр возле Венсеннского леса, где поставил его на грузовой площадке возле железной дороги. Номерные знаки он снял и запер в кабине, засунув их под сиденье.
Ганнибал Лектер сидел в седле мотоцикла, укрывшись в саду, росшем на склоне холма, и завтракал великолепным африканским инжиром, который купил на рынке на улице Бюси, и вестфальской ветчиной. Отсюда ему отлично была видна дорога у подножия холма и в четверти мили отсюда — ворота у дома Владиса Грутаса.
В саду громко жужжали пчелы, некоторые крутились и над его инжиром, пока он не закрыл его носовым платком. Гарсиа Лорка[72], ныне вновь пользующийся в Париже большой популярностью, писал, что сердце — это сад. Ганнибал думал об этой фигуре речи, а также, как всякий молодой человек, о фигурах и формах, образуемых персиками и абрикосами, когда внизу проехал грузовичок плотника, который остановился у ворот Грутаса.
Ганнибал поднял полевой бинокль, когда-то принадлежавший его отцу.
Дом Владиса Грутаса был построен в 1938 году в стиле бау-хаус[73] на участке пахотной земли с видом на реку Эсон. В войну он был заброшен и, поскольку не имел свесов крыши, теперь страдал от темных пятен на белых стенах. Весь фасад и одна боковая стена были заново покрашены в слепяще-белый цвет, а возле еще не покрашенных стен возвышались строительные леса. Во время оккупации дом служил немцам в качестве штаба, и они усилили его защитную ограду.
Дом представлял собой куб из бетона и стекла и был огорожен сеткой и колючей проволокой по всему периметру участка. Въезд прикрывала бетонная сторожка у ворот, она выглядела как настоящая долговременная огневая точка. Узкое, похожее на щель окно в фасадной стене было несколько приукрашено висящим под ним ящиком с цветами. Пулемет, установленный в этом окне, мог бы простреливать всю дорогу, сдвинув цветы в сторону стволом.
Из сторожки вышли двое мужчин — первый блондин, второй с темными волосами и весь в татуировках. С помощью зеркала, укрепленного на длинном шесте, они обследовали днище грузовика. Плотникам пришлось вылезти из машины и предъявить свои удостоверения личности. При этом все много махали руками и пожимали плечами. Потом охранники все же пропустили грузовик во двор.
Ганнибал проехал на мотоцикле до небольшой рощицы и поставил его в кустах. Отключил систему зажигания, сняв минусовую клемму и спрятав ее, и положил на седло записку, что ушел за запчастями. За полчаса он добрался до шоссе, проголосовал и отправился на попутке обратно в Париж.
Погрузочная платформа фирмы «Габриэль инструмент ко.» расположена на улице Паради между магазином электротоваров и мастерской по ремонту изделий из хрусталя. Последним заданием грузчиков фирмы в этот день было погрузить в грузовик Милко кабинетный рояль «Бозендорфер», а также вращающийся табурет к нему, упакованный отдельно. Ганнибал подписался в накладной «Жигмас Милко», неслышно произнеся это имя, пока ставил подпись.
Был конец рабочего дня, и собственные грузовики фирмы возвращались «домой». Ганнибал увидел, как из одного выбралась женщина-водитель. Она неплохо смотрелась в своем комбинезоне, богато отделанном воланами и рюшами — весьма по-французски. Она вошла в здание конторы и через несколько минут появилась уже в блузке и спортивных брюках, неся свернутый комбинезон под мышкой. Уложила его в корзинку у седла своего маленького мотоцикла. Почувствовав на себе взгляд Ганнибала, повернулась к нему лицом — мордочка типичного парижского гамена[74]. Достала сигарету, он дал ей прикурить.
— Merci, месье… Зиппо.
Женщина была настоящей француженкой, к тому же явно воспитанной улицей — живая, подвижная, так и стреляющая глазками; сигарету к губам она подносила преувеличенно изящным жестом.
Рабочие, подметавшие погрузочную платформу, изо всех сил пытались разобрать, что они там говорят, но до них доносился только смех. Пока они разговаривали, она смотрела Ганнибалу прямо в глаза, и ее кокетство мало-помалу испарялось. Она вроде как совершенно пленилась им, он ее словно загипнотизировал. Потом они вместе пошли по улице к ближайшему бару.
Мюллер отсиживал свою смену в сторожке вместе с еще одним немцем по фамилии Гассман, который недавно закончил срок службы в Иностранном легионе. Мюллер пытался убедить его сделать татуировку, когда на дороге появился грузовик Милко.
— Зовите сюда триперного доктора — Милко вернулся из Парижа, — сказал Мюллер.
У Гассмана глаза были получше.
— Это не Милко, — заметил он.
Они вышли наружу.
— А где Милко? — спросил Мюллер у женщины, сидевшей за баранкой.
— А мне-то откуда знать? Он мне заплатил, чтобы привезти вам рояль. Сказал, что вернется через пару дней. Давайте вытащите из кузова мой мото, вы ж вон какие здоровые мужики!
— Кто вам заплатил?
— Месье Зиппо.
— То есть Милко?
— Точно, Милко.
Позади пятитонки остановился грузовик развозчика из магазина и стал дожидаться своей очереди. Развозчик аж дымился от нетерпения и барабанил пальцами по рулю.
Гассман поднял брезент над задним бортом пятитонки. Увидел рояль в упаковке и еще один яшик с надписью: «Для винного погреба. Хранить в прохладном месте». К боковому борту был привязан мотоцикл. Дощатый щит лежал на дне кузова, но мотоцикл было проще спустить на руках.
Мюллер подошел, чтобы помочь Гассману управиться с мотоциклом. Потом повернулся к женщине:
— Выпить хотите?
— Только не здесь, — ответила она, усаживаясь в седло мотоцикла.
— Ваш мото, кажется, слегка попердывает, — сообщил Мюллер ей вслед, когда она уже отъезжала.
— Такими изящными словечками тебе ее не закадрить, — заметил второй немец.
Настройщик роялей был очень похож на скелет — с почерневшими зубами и навсегда зафиксированной на ротовом отверстии улыбкой, как у Лоуренса Уэлка[75].
Когда он покончил с настройкой черного «Бозендорфера», то переоделся в свой древний фрак и нацепил белый галстук-бабочку, а потом вышел в гостиную, чтобы играть на пианино гостям Грутаса, собравшимся на коктейль. Пианино издавало ужасно резкий, режущий ухо звук, поскольку стояло на кафельном полу и в окружении огромных стеклянных панелей, которыми был украшен и отделан весь дом. Полки в книжном шкафу из стекла и металла, стоявшем рядом с пианино, дребезжали в тон каждой взятой ноте ля, а когда он немного передвинул книги, стали дребезжать в тон каждой си-бемоль. При настройке он воспользовался кухонным табуретом, но не пожелал на нем сидеть во время игры.
— На чем я буду сидеть? Где фортепианный табурет? — спросил он у служанки, которая пошла узнать у Мюллера. Мюллер нашел ему кресло нужной высоты, но оно было с подлокотниками. — Мне же придется играть, широко расставив локти! — заявил настройщик.
— Заткнись и играй американский джаз, — сказал ему Мюллер. — Хозяин устраивает коктейль-парти по-американски и желает, чтобы были музыка и пение.
На фуршет с коктейлями собралось тридцать гостей — все замечательные в своем роде отбросы и обломки, оставшиеся от войны. Там был и Иванов из советского посольства, одетый в слишком хорошо сшитый костюм, каких не должно быть у государственных служащих. Он разговаривал с американским сержантом, который вел бухгалтерию в американском армейском магазине в Нейи. Сержант был в сидевшем мешком костюме в крупную клетку и такого же цвета, как вскочивший у него на носу здоровенный прыщ. Епископа, приехавшего из Версаля, сопровождал его помощник, который все время грыз ногти.
Под безжалостным светом люминесцентных ламп черный костюм епископа приобрел зеленоватый оттенок протухшего ростбифа, как заметил Грутас, целуя кольцо святого отца. Они немного поговорили об общих знакомых в Аргентине. В гостиной здорово пованивало вишистским режимом.
Настройщик, он же пианист, одарил толпу собравшихся улыбкой скелета и начал весьма приблизительно наигрывать и напевать некоторые песни Коула Портера[76]. Английский был его четвертым иностранным языком, так что ему время от времени приходилось выдумывать собственный текст.
— Ночью и днем только ты мое солнце, — пел он. — Ты под луной, лишь ты одна…
В подвале было почти совсем темно. Единственная лампочка горела возле лестницы. Сверху чуть доносились звуки музыки.
Одну стену подвала целиком занимал стеллаж для бутылок с вином. Возле него стояло несколько ящиков, некоторые были открыты, и из них вываливались стружки. На полу рядом с роскошным музыкальным автоматом с последними патефонными пластинками и кучей никелевых монет, чтобы совать в его щель, валялась новенькая кухонная раковина из нержавейки. Сбоку у стеллажа стоял длинный ящик с надписью «Хранить в прохладном месте». Из ящика донесся еле слышный скрип.
Пианист забренчал фортиссимо, чтобы заглушить собственное пение, поскольку слова были явно не совсем те: «Я ли уйду, или ты уйдешь, это не важно, моя дорогая, даже в разлуке я буду помнить тебя ночь и де-е-ень»…
Грутас переходил от одних гостей к другим, пожимая руки. Чуть кивнув Иванову, он пригласил его в библиотеку. Это было модерновое помещение со стеклянными полками металлических стеллажей, с письменным столом на решетчатых стальных ногах и со скульптурой Энтони Куинна[77] «Логика — это женская задница» в подражание Пикассо. Иванов стал ее внимательно рассматривать.
— Любите скульптуру? — спросил Грутас.
— Мой отец был смотрителем в музее в Санкт-Петербурге — когда он еще был Санкт-Петербургом.
— Можете потрогать, если хотите, — предложил Грутас.
— Спасибо. Техника для Москвы готова?
— Шестьдесят холодильников в данный момент уже идут в Хельсинки. «Келвинейтор». А у вас что для меня есть? — Грутас не мог не прищелкнуть пальцами.
Из-за этого щелчка Иванов заставил Грутаса ждать ответа, пока он изучал каменные ягодицы.
— На этого парня у нас в посольстве никаких данных нет, — ответил он наконец. — Он получил визу в Литву, предложив написать статью для «Юманите». Идея заключалась в том, чтобы рассказать, какие блестящие результаты принесла коллективизация, когда у его семьи забрали все пахотные земли, и как счастливы крестьяне, переехав жить в город и работая на строительстве канализационных систем. Аристократ принимает революцию.
Грутас засопел.
Иванов положил на стол фотографию и подтолкнул ее к Грутасу. На фото были леди Мурасаки и Ганнибал возле ее многоквартирного дома.
— Когда сделан снимок?
— Вчера утром. Милко тоже был там с моим человеком, который снимал. Этот парень Лектер — студент, он работает по ночам и спит прямо в помещении медицинского факультета. Мой человек все показал вашему Милко. Больше я ничего про это знать не желаю.
— Когда вы в последний раз видели Милко?
Иванов резко поднял голову:
— Вчера. Что-то не так?
Грутас пожал плечами:
— Может, и нет. Кто эта женщина?
— Его мачеха или что-то в этом роде. Она прелестна, — сказал Иванов, прикасаясь пальцами к каменным ягодицам.
— У нее задница такая же, как эта?
— Не думаю.
— Французская полиция у вас появлялась?
— Инспектор по фамилии Попиль.
Грутас вытянул губы и на минуту, казалось, забыл, что Иванов стоит рядом с ним.
Мюллер и Гассман присматривали за толпой гостей. Они принимали у них пальто и смотрели, чтобы кто-нибудь что-нибудь не украл. В гардеробной Мюллер ухватился за галстук-бабочку Гасссмана, оттянул ее — она была на резинке, — повернул на пол-оборота и отпустил. Бабочка со щелчком вернулась на место.
— Можешь ее раскрутить, как маленький пропеллер, и полететь, как фея? — спросил Мюллер.
— Еще раз за нее схватишься, так врежу, что она станет для тебя дверной ручкой на пути в ад, — пообещал Гассман. — Ты на себя посмотри! Заправь рубашку в штаны! Ты что, никогда в армии не служил?!
Потом им пришлось помогать развозчику из магазина погрузить в кузов посуду и остатки пиршества. Относя складной банкетный стол обратно в подвал, они не заметили под лестницей раздутую резиновую перчатку, подвешенную над тарелкой с каким-то порошком, от которой тянулся запальный шнур к трехлитровой жестяной банке, в которой когда-то был лярд. В подвале у Грутаса температура была градусов на пять ниже, чем на медицинском факультете.
52
Служанка раскладывала шелковую пижаму Грутаса на постели, когда он позвал ее, требуя полотенце.
Служанка не любила носить полотенца Грутасу в ванную, но он всегда звал ее и требовал этого. И ей приходилось идти туда, но вот смотреть она была не обязана. Ванная комната Грутаса была сплошь из белого кафеля и нержавеющей стали, с огромной, свободно поставленной ванной, с парилкой с дверью из матового стекла и с душевой кабиной, размещавшейся рядом с парилкой.
Грутас лежал в ванне. Женщина, которую он привез сюда из плавучего дома, где ее держали насильно, брила ему грудь безопасной бритвой, какой пользуются в тюрьмах, с лезвием, запиравшимся на замок. Одна щека у нее распухла. Служанке не хотелось встречаться с ней глазами.
Душевая была вся белая, как сурдокамера, в ней легко могли бы уместиться четверо. В ней была чрезвычайно интересная акустика — стены отражали малейший звук. Ганнибал даже слышал, как хрустят волосы на голове, касаясь белого кафельного пола, на котором он лежал. Укрытый парой белых полотенец, он был почти невидим из парилки, если взглянуть сквозь матовое стекло двери. Лежа под полотенцами, он слышал собственное дыхание. Это было точно так, как тогда, когда он лежал, завернутый в ковер вместе с Микой. Но вместо аромата ее теплых волос он сейчас чувствовал запах пистолета — ружейное масло, латунь патронных гильз и порох.
До него доносился голос Грутаса, но лица его он еще не видел, разве что в бинокль. Тембр его голоса не изменился, и в нем звучала все такая же скука и насмешка, предшествующая удару кулаком.
— Согрей мне халат, — приказал Грутас служанке. — После ванны я посижу в парилке. Включи ее.
Она отворила дверь в парную и открыла кран. В совершенно белой парилке единственным другим цветом был красный — красные деления на таймере и термометре. Они имели вид корабельных приборов с достаточно крупными цифрами, чтобы их было видно в насыщенном паром воздухе. Минутная стрелка таймера уже двигалась по циферблату к красной пограничной линии.
Грутас заложил руки за голову. Стала видна татуировка под мышкой — эсэсовские молнии. Он напряг мышцы и на мгновение подпрыгнул:
— Бум! Donnerwetter![78]
Он рассмеялся, когда пленная женщина отпрянула назад.
— Не-е-ет, я тебя больше бить не буду. Теперь ты мне нравишься. Мы тебе вставим новые зубы, такие, которые на ночь можно класть в стакан, чтоб не мешали.
Ганнибал прошел через стеклянную дверь и вступил в клубы пара, подняв пистолет и направив его Грутасу в сердце. В другой руке он держал бутылку со спиртом-ректификатом.
Ладони Грутаса издали скрип, когда он стал вылезать из ванны, и женщина скользнула в сторону еще до того, как поняла, что за ее спиной стоит Ганнибал.
— Рад видеть вас здесь, — сказал Грутас. Он посмотрел на бутылку в надежде, что Ганнибал пьян. — Я всегда считал, что за мной числится кое-какой должок.
— Мы обсудили это с Милко.
— И что?
— Мы пришли к определенной договоренности.
— Деньги, конечно! Я послал с ним деньги для вас. Он их вам передал? Вот и отлично!
Ганнибал в это время говорил женщине, не глядя в ее сторону:
— Намочите полотенце в ванне. Потом сядьте в углу и закройте лицо полотенцем. Давайте! Намочите полотенце!
Женщина опустила полотенце в воду и отступила в угол.
— Убей его! — сказала она.
— Я так долго ждал, чтобы увидеть наконец ваше лицо, — сказал Ганнибал. — Я мысленно прикладывал ваше лицо ко всем мерзавцам, которых когда-либо бил. Мне казалось, что вы должны быть крупнее.
В спальню с халатом в руках вошла служанка. Через открытую дверь ванной ей был виден ствол пистолета с глушителем. Она задом выбралась из спальни, ее шлепанцы не издали ни звука на покрытом ковром полу.
Грутас тоже смотрел на пистолет. Это был пистолет Милко. У него сбоку на корпусе имеется затворная задержка, чтобы стрелять с глушителем. Если юный Лектер не знает об этом, у него есть только один выстрел. Потом ему придется возиться с пистолетом.
— Вы видели вещи, которые я собрал у себя в доме, Ганнибал? Вот они, возможности, которые дает война! Вы привычны к изящным вещам, и вы можете их забрать. Мы с вами очень схожи. Мы — Новые Люди, Ганнибал. Вы, я — сливки нового общества, мы всегда будем сверху, всегда будем на плаву! — Он поднял с воды клок мыльной пены, чтобы показать, как они останутся на плаву, имея целью приучить юного Лектера к этому движению.
— Солдатские медальоны не плавают! — Ганнибал швырнул медальон Грутаса в ванну, и тот, как упавший листок, опустился на дно. — А вот спирт плавает! — И Ганнибал бросил бутылку, она разбилась о кафель над головой Грутаса, облив ему голову и плечи жгучей жидкостью и осыпав осколками стекла. Ганнибал достал из кармана зажигалку «Зиппо», чтобы поджечь Грутаса. Когда он со щелчком откинул крышку, Мюллер приставил ему к уху свой пистолет.
Гассман и Дитер с обеих сторон ухватили Ганнибала за руки. Мюллер заставил Ганнибала поднять ствол его пистолета к потолку и выдернул оружие у него из ладони. И сунул себе за пояс.
— Не стрелять! — предупредил Грутас. — А то кафель повредите. Я хочу с ним немного побеседовать. Потом он может сдохнуть в ванне, как его сестрица.
Грутас вылез из ванны и встал на полотенце. Сделал знак женщине, теперь в отчаянии готовой на что угодно, лишь бы услужить. Она обрызгала его обритое тело сельтерской водой, а он поворачивался, расставив руки в стороны.
— Вы знаете, что чувствуешь, когда тебя обрызгивают газировкой? — спросил Грутас. — Чувствуешь себя родившимся заново. Я сейчас весь как новенький, в новом мире, в котором для вас места нету. Не верю, что вы сумели сами убить Милко.
— Кое-кто оказал мне содействие, — сказал Ганнибал.
— Держите его над ванной и режьте, когда я скажу.
Трое мужчин силой заставили Ганнибала опуститься на пол и наклонили его над ванной, так что его голова и шея оказались над водой. Мюллер достал выкидной нож и приставил кончик лезвия к горлу Ганнибала.
— Посмотрите на меня, граф Лектер, мой принц, поверните головку и посмотрите на меня, напрягите посильнее шею и горло, и вы быстренько истечете кровью. Особенно больно не будет.
Через дверь парилки Ганнибалу была видна стрелка таймера, рывками передвигающаяся по циферблату.
— Скажите-ка мне вот что, — продолжал Грутас. — Вы скормили бы меня маленькой девочке, если б она умирала от голода? Ведь вы же любили ее, а?
— Несомненно.
Грутас улыбнулся и потрепал Ганнибала по щеке.
— Вот вам и ответ. Вы сами сказали. Любовь! Я тоже себя люблю ничуть не меньше. И не собираюсь просить у вас прощения. Вы потеряли сестру на войне. — Грутас рыгнул и засмеялся. — Это мой комментарий к сказанному. Вы ищете сочувствия? Найдете его в словаре между словами «сифилис» и «сука». Режь его, Мюллер. Это последнее, что вы слышите в своей жизни — я скажу вам, что вы сделали, чтобы выжить. Вы…
От взрыва ванная заходила ходуном, раковина сорвалась со стены, из труб хлынула вода, и свет погас. Прижатый к полу Ганнибал с силой вырывался, Мюллер, Гассман и Дитер навалились на него, в свалку попала и женщина. Нож воткнулся Гассману в руку, он заорал и разразился проклятиями. Ганнибал сильно ударил кого-то локтем в лицо, вскочил на ноги, сверкнуло пламя — это выстрелил пистолет, — и осколки кафеля полетели в лицо. Из пролома в стене клубами тянулся дым, густой дым. По кафельному полу скользнул упавший пистолет, за ним метнулся Дитер. Грутас поднял пистолет, женщина бросилась на него, вонзив ногти ему в лицо, и он дважды выстрелил ей в грудь. Полностью выпрямившись и видя поднимающийся ствол пистолета, Ганнибал ударил Грутаса по глазам мокрым полотенцем. Дитер навалился на него сзади, Ганнибал прыгнул назад, сбивая его с ног и валясь на него сверху, и почувствовал, как Дитер ударился почками о край ванны и отпустил его. Теперь на Ганнибала насел Мюллер и, прежде чем он успел подняться, попытался ткнуть его большими пальцами в горло. Ганнибал боднул Мюллера в лицо, просунул руку между их телами, нащупал пистолет, заткнутый за пояс Мюллера, и нажал на спусковой крючок, не вытаскивая пистолет из штанов Мюллера. Огромный немец с воплем скатился с него, и Ганнибал выскочил из ванной с пистолетом в руке. В темной спальне ему пришлось притормозить, потом он быстро выбрался в коридор, весь заполненный дымом. Он поднял с полу ведро, брошенное служанкой, и пошел с ним дальше. Позади него грохнул еще один выстрел.
Охранник у ворот выскочил из сторожки и был уже на полпути к дому.
— Тащи воды! — заорал Ганнибал и сунул ему ведро, когда он оказался рядом. — Я за пожарным шлангом! — Он бегом спустился по подъездной дорожке и при первой же возможности свернул в лес. Позади слышались крики. Вверх по склону холма, к саду. Быстро восстановил зажигание мотоцикла, нащупав в темноте спрятанную клемму.
Снять со скорости, приоткрыть газ, и по стартеру — кик! кик! кик! Мотор фыркнул. Еще раз — кик! «БМВ» с ревом проснулся к жизни, и Ганнибал пулей вылетел из кустов и помчался по тропе между деревьями, повредив о пень один из глушителей, потом вылетел на дорогу, грохоча во тьме и оставляя за собой хвост искр от провисшего глушителя, бьющегося о мостовую.
Пожарным пришлось работать до поздней ночи, заливая пылающие угли в фундаменте дома Грутаса и направляя потоки воды в дыры в стенах. Грутас стоял на краю сада, вокруг столбами поднимались пар и дым, а он смотрел в сторону Парижа.
53
У этой студентки-медички были темно-рыжие волосы и красновато-карие глаза, примерно такого же цвета, как у Ганнибала. Когда он отступил от фонтанчика с питьевой водой в коридоре медицинского факультета, чтобы дать ей напиться первой, она приблизила к нему лицо и обнюхала его.
— Когда это ты начал курить?
— Я уже пытаюсь бросить.
— Ты себе все брови сжег!
— Неудачно разводил огонь в плите.
— Если ты так неосторожен с огнем, тебе следует перестать самому готовить! — Она послюнила палец и пригладила ему бровь. — Мы с соседкой по комнате нынче готовим тушеное мясо, там его полно, так что если…
— Спасибо. Правда, большое спасибо, только у меня встреча назначена…
В письме леди Мурасаки он спрашивал, можно ли ему ее навестить. В цветочной лавке он обнаружил веточку глицинии и послал ее вместе с письмом, чуть завядшую — в знак униженного раскаяния. Ее записку с приглашением прийти сопровождали две веточки — барвинка и сосны с миниатюрной шишкой. Сосну так просто не посылают. Сосна открывает множество возможностей, волнующих и безграничных.
Poissonnier[79] не подвел леди Мурасаки. Он прислал ей четырех превосходных морских ежей, в холодной морской воде, доставленных прямо из их родной Бретани. Мясник из соседней лавки достал ей «сладкого мяса»[80], уже вымоченного в молоке и спрессованного между двумя тарелками. Еще она зашла в кондитерскую «Фошон» за фруктовыми пирожными и напоследок купила целую сетку апельсинов.
Потом остановилась перед цветочным магазином. Сумки были уже полны. Нет, Ганнибал, конечно же, сам принесет цветы.
Ганнибал и впрямь принес цветы. Тюльпаны и лилии из Касабланки в обрамлении папоротников — букет был высоким и искусно уложенным, он торчал вверх, закрепленный на заднем сиденье мотоцикла. Две молодые женщины, переходившие улицу, сообщили ему, что букет выглядит как петушиный хвост. Он подмигнул им и, как только на светофоре включился зеленый свет, с ревом умчался прочь, ощущая необычайную легкость в груди.
Мотоцикл он поставил в переулке рядом с домом леди Мурасаки и, завернув за угол, пошел ко входной двери с цветами в руках. Он как раз здоровался с консьержкой, когда Попиль и двое здоровенных полицейских вышли из-за угла и схватили его. Попиль забрал у него цветы.
— Это вовсе не для вас, — заметил Ганнибал.
— Вы арестованы, — заявил Попиль. Когда Ганнибалу надели наручники, Попиль сунул букет ему под мышку.
В своем кабинете на набережной Орфевр инспектор Попиль оставил Ганнибала в одиночестве и заставил его ждать полчаса в атмосфере полицейского участка. Когда он вернулся, то обнаружил, что молодой человек устанавливает последний цветок в кувшине для воды, стоявшем на столе Попиля.
— Как вам это нравится? — спросил Ганнибал.
Инспектор Попиль ударил его небольшой резиновой дубинкой, и он упал.
— Как вам это нравится? — спросил Попиль.
Более крупный из двоих полицейских вошел следом за Попилем и встал над Ганнибалом.
— Отвечайте на мой вопрос! Я спросил — как вам это нравится?
— Это более честно, чем ваше рукопожатие. По крайней мере дубинка чистая.
Попиль достал из конверта два солдатских медальона, надетых на шнурок.
— Это нашли в вашей комнате. Этим двоим были в Нюрнберге предъявлены обвинения, хотя сами они не найдены. Вопрос: где они?
— Не знаю.
— Вы не хотите увидеть, как их повесят? Палач пользуется английским методом повешения — «длинным прыжком», но недостаточно длинным, чтобы им при этом оторвало головы. Он не варит и не растягивает веревку. Так что они некоторое время еще дергаются. Это должно быть в вашем вкусе.
— Господин инспектор, вы ничего не знаете о моих вкусах.
— Правосудие вам ни к чему, вам непременно надо самому их убить, да?
— А вам непременно надо при сем присутствовать, не так ли, господин инспектор? Вы всегда наблюдаете, как их казнят. Это в вашем вкусе. Как вы полагаете, мы могли бы побеседовать с глазу на глаз? — Он достал из кармана измазанную кровью записку, завернутую в целлофан. — Вам тут письмецо от Луи Ферра.
Попиль сделал полицейскому знак выйти из кабинета.
— Когда я срезал одежду с тела Луи, то обнаружил это письмо, адресованное вам. — И он вслух прочел ту часть текста, что была выше сгиба: — «Инспектор Попиль, зачем вы мучаете меня вопросами, на которые и сами не в состоянии ответить? Я видел вас в Лионе». И так далее. — Ганнибал передал письмо Попилю. — Если хотите развернуть, не бойтесь, оно уже сухое. И не пахнет.
Письмо зашуршало, когда Попиль его развернул, и из него посыпались темные хлопья. Закончив читать, инспектор сел, прижав письмо к виску.
— Хоть кто-то из вашей семьи помахал вам на прощание, когда их увозили на этом пыхтящем поезде? — спросил Ганнибал. — Это ведь вы в тот день распоряжались отправкой?
Попиль отвел руку назад.
— Вам не следует этого делать, — тихо сказал Ганнибал. — Если бы я знал что-то конкретное, разве я стал бы вам об этом говорить? Это вполне уместный вопрос, господин инспектор. Может, вы захотите переправить этих людей в Аргентину.
Попиль закрыл глаза, потом открыл.
— Петэн[81] всегда был моим героем. Мой отец, мои дядья воевали под его командованием в Первую мировую. Когда он создал новое правительство, то сказал нам: «Надо просто поддерживать мир, пока мы не вышвырнем немцев. Виши спасет Францию». А мы уже были полицейскими, нам казалось, что у нас будет точно такая же работа, как и прежде.
— Вы помогали немцам?
Попиль пожал плечами:
— Я поддерживал мир. Может, это было им на руку. А потом я увидел один из этих поездов с депортированными. Тогда я дезертировал и примкнул к Сопротивлению. Мне не очень доверяли, пока я не убил одного гестаповца. Немцы в отместку расстреляли восьмерых крестьян. У меня было ощущение, что это я их убил. И что это за похабная война?! Мы воевали в Нормандии, в лесных зарослях, и щелкали вот этими штуками, чтобы знать, где свои. — Он поднял со стола зажигалку. — Мы помогали союзникам, наступавшим с первых плацдармов. — Он дважды щелкнул. — Это означало «я свой, не стреляйте». Мне наплевать на Дортлиха. Помогите мне найти остальных. Как вы выследили Грутаса?
— Через родственников в Литве, церковных знакомых моей матери.
— Я мог бы задержать вас за использование фальшивых документов на основании одних показаний того заключенного из Френа. Если я вас отпущу, можете поклясться, что сообщите мне все, что узнаете? Богом поклясться?
— Богом? Да, клянусь Господом Богом. У вас есть Библия? — У Попиля в шкафу оказался томик «Pensees»[82]. Ганнибал достал его. — Или мы можем воспользоваться вашим Паскалем.
— Можете поклясться жизнью леди Мурасаки?
Секундное колебание. Потом:
— Да, клянусь жизнью леди Мурасаки. — Ганнибал взял зажигалку и два раза щелкнул.
Попиль протянул ему медальоны, и Ганнибал забрал их.
Когда Ганнибал вышел из кабинета, туда заглянул помощник Попиля. Попиль махнул рукой в окно, и когда Ганнибал покинул здание, за ним последовал агент в штатском.
— Он что-то знает. У него ресницы обгорели. Посмотрите сообщения обо всех пожарах в Иль-де-Франс за последние три дня, — сказал Попиль помощнику. — Когда он приведет нас к Грутасу, я хочу привлечь его к суду за того мясника, которого он убил, когда был мальчишкой.
— Почему за мясника?
— Это преступление несовершеннолетнего, Этьен, совершенное в состоянии аффекта. Мне не нужно, чтобы его засудили. Я хочу, чтобы его признали невменяемым. А в психушке его поизучают и попытаются выяснить, что он собой представляет на самом деле.
— А вы как думаете, что он такое?
— Маленький мальчик Ганнибал Лектер умер в 1945 году, там, в снегу, в Литве, пытаясь спасти свою сестру. Его сердце умерло вместе с Микой. Чем он стал теперь? Такого определения нет ни в одном языке. И за отсутствием более точного термина я бы назвал его монстром.
54
В многоквартирном доме на площади Вогезов, где жила леди Мурасаки, в комнатке консьержки было темно. Двустворчатая голландская дверь[83] с матовым стеклом была закрыта. Ганнибал прошел в здание, воспользовавшись собственным ключом, и быстро взбежал по лестнице.
Консьержка сидела в кресле в своей комнатке. Перед ней на столике была разложена почта — каждому жильцу по отдельности, словно она раскладывала пасьянс. Тросик велосипедного замка был почти незаметен, глубоко впившись в мягкую плоть ее шеи. Язык вывалился наружу.
Ганнибал постучал в дверь леди Мурасаки. Он слышал, что внутри звонит телефон. Звук звонка показался ему странно резким. Он сунул ключ в замок, и дверь распахнулась. Он пробежал через всю квартиру, повсюду заглядывая, его всего передернуло, когда он распахнул дверь в ее спальню, но там тоже было пусто. Телефон все продолжал звонить. Он взял трубку.
В кухне «Восточного кафе» стояла клетка с овсянками, дожидавшимися, когда их утопят в арманьяке и обдадут кипятком из большой кастрюли, стоявшей на плите. Грутас ухватил леди Мурасаки за шею и придвинул ее лицом поближе к кипящей в кастрюле воде. В другой руке он держал телефонную трубку. Руки ей связали за спиной. Мюллер придерживал ее сзади за плечи.
Услышав в трубке голос Ганнибала, Грутас сказал в микрофон:
— В продолжение нашего разговора, Ганнибал. Хочешь увидеть свою япошку живой?
— Да.
— Послушай ее голос и попробуй определить, на месте ли еще ее щеки.
Что это за посторонний звук там слышится, за голосом Грутаса? Кипящая вода? Ганнибал не мог определить, насколько этот звук реален; он не раз слышал в своих снах, как кипит вода.
— Поговори со своим юным хахалем!
— Дорогой мой, не вздумай… — успела произнести леди Мурасаки, прежде чем ее отдернули от трубки. Она забилась в захвате Мюллера, и они врезались в клетку с овсянками. Птички заверещали и забились.
Грутас поднес трубку ко рту и сказал Ганнибалу:
— Дорогой мой, ты уже убил двоих за свою сестру и взорвал мой дом. Предлагаю тебе обмен: жизнь за жизнь. Привези мне медальоны, все, что собрал Кухарь, все до последней траханой мелочи. А то мне хочется заставить ее поорать.
— Где…
— Заткнись и слушай. Тридцать шестой километр по дороге в Трильбарду, там есть телефонная будка. Будь там на рассвете и жди звонка. Если тебя там не окажется, получишь ее щечки по почте. Если я увижу Попиля или любого другого полицейского, получишь в посылке ее сердце. Может, оно тебе пригодится в твоих анатомических изысканиях. Покопаешься в его желудочках и предсердиях, может, обнаружишь там свое лицо. Ну так что, жизнь за жизнь?
— Жизнь за жизнь, — ответил Ганнибал. Телефон отключился.
Дитер и Мюллер отвели леди Мурасаки к фургону, стоявшему возле кафе. Кольнас сменил номерные знаки на машине Грутаса.
Грутас открыл багажник и достал оттуда русскую снайперскую винтовку. Передал ее Дитеру.
— Кольнас, принеси банку, — громко сказал он, желая, чтобы услышала леди Мурасаки.
Он смотрел ей в лицо голодными глазами, пока отдавал распоряжения.
— Возьми машину. Застрели его в этой телефонной будке, — велел он Дитеру и вручил ему банку. — А его яйца привези в наш плавучий дом. Он будет стоять у причала ниже Немура.
Ганнибалу не хотелось выглядывать в окно: агент Попиля, наверное, сейчас наблюдает за ним. Он пошел в спальню. На минуту присел на кровать и закрыл глаза. Посторонний звук все еще шумел у него в ушах. Чирк-чирк. Прибалтийский акцент овсянок.
Простыни на постели леди Мурасаки были из льняного полотна и пахли лавандой. Он зажал их в кулаках, прижал к лицу, потом содрал их с постели и быстро намочил в ванне. Протянул через гостиную веревку для белья и повесил на нее кимоно, потом установил на полу фен и включил его. Фен медленно вращался, раздувая кимоно и колебля его тень на прозрачных гардинах.
Встав перед самурайским доспехом, он поднял клинок кинжала танто и впился взглядом в маску дайме[84] Дато Масамуне.
— Если можете ей помочь, помогите ей сейчас.
Он надел на шею шнурок от кинжала и опустил клинок себе за воротник, за спину.
Потом Ганнибал скрутил жгутом и связал мокрые простыни, сделав из них подобие веревки, на каких вешаются в тюрьме. Когда он завершил свои труды, простыни свешивались с террасы в переулок, не доставая до мостовой футов пятнадцати.
Спуск занял довольно долгое время. Когда он выпустил из рук конец простыни, последовавший полет, как ему показалось, продолжался еще дольше. Удар о землю острой болью отозвался в пятках.
Он вывел мотоцикл из переулка позади дома, выбрался на параллельную улицу, отпустил сцепление и взлетел в седло, когда мотор заработал. Ему нужно было время, чтобы успеть забрать спрятанный пистолет Милко.
55
В вольере возле входа в «Восточное кафе» завозились овсянки, недовольные ярким светом луны. Тент над внутренним двориком был свернут, зонтики сложены. В обеденном зале было темно, но в баре и на кухне еще горел свет.
Ганнибалу было видно, как Эркюль моет пол в баре. У стойки на барном табурете сидел Кольнас с книгой заказов в руках. Ганнибал сделал шаг, еще больше углубившись назад, в тень, ударил по стартеру мотоцикла и поехал прочь, не включая свет.
Последние четверть мили до дома на улице Жулиан он прошел пешком. На подъездной дорожке стоял припаркованный «ситроен» самой дешевой модели; водитель в последний раз затягивался окурком сигареты. Ганнибал видел, как окурок, описав дугу, рассыпался искрами на мостовой. Водитель устроился поудобнее на своем сиденье, откинув назад голову. Скорее всего уснул.
Из кустов возле кухонного окна Ганнибал мог заглянуть внутрь дома. Мадам Кольнас прошла мимо окна, разговаривая с кем-то слишком маленького роста, чтобы его было видно. Занавешенные окна были открыты, пропуская внутрь теплый воздух. Дверь с сеткой, ведущая в кухню, открывалась в сад. Клинок танто легко вспорол сетку и поднял крючок запора. Ганнибал вытер ноги о коврик и вошел в дом. Кухонные часы, казалось, тикали очень громко. Из ванной доносился звук текущей воды и плеск. Он миновал дверь в ванную, держась ближе к стене, чтобы не скрипели половицы под ногами. Было слышно, как мадам Кольнас разговаривает в ванной с ребенком.
Следующая дверь была приоткрыта. Ганнибал разглядел внутри полки с игрушками и большого плюшевого слона. Он заглянул в комнату. Две кровати. Катерина Кольнас спала на ближней, щекой на подушке, прижав большой палец ко лбу. Было видно, как на виске в такт пульсу пульсирует жилка. Он слышал, как стучит ее сердце. На ее запястье был браслет Мики. Он заморгал от мягкого света прикроватной лампы. Он слышал дыхание ребенка. Он слышал голос мадам Кольнас, доносящийся через коридор. Едва слышимые звуки на фоне чудовищного рева у него в душе.
— Вылезай, толстячок, пора вытираться, — сказала мадам Кольнас.
Плавучий дом Грутаса, весь черный, как мрачные предсказания пророка, был причален к набережной и окутан стелющимся слоями туманом. Грутас и Мюллер ввели леди Мурасаки, связанную и с кляпом во рту, по сходням на борт, а затем вниз по трапу, расположенному в задней части надстройки. Грутас пинком распахнул дверь в свой «тренировочный зал» на нижней палубе. Посредине его стояло кресло, под ним валялась окровавленная простыня.
— Извините, ваша комната не совсем готова. Сейчас вызову обслугу. Ева! — Он прошел по коридору в следующую каюту и открыл ее дверь. Три женщины, прикованные к своим койкам, подняли на него глаза, полные ненависти. Ева собирала в кучу их перепачканные шмотки.
— Иди сюда!
Ева прошла в «тренировочный зал», держась подальше от Грутаса. Подняла с пола окровавленную простыню и расстелила под креслом чистую. Хотела было унести испачканную, но Грутас приказал:
— Оставь ее здесь. Сверни и положи так, чтобы она ее видела.
Грутас и Мюллер привязали леди Мурасаки к креслу. Потом Грутас велел Мюллеру уйти. А сам уселся в шезлонг, стоявший у переборки, и расставил ноги, почесывая себе ляжки.
— Ты хоть представляешь, что тебя ждет, если ты не доставишь мне удовольствия? — спросил он.
Леди Мурасаки прикрыла глаза. Она почувствовала, как плавучий дом завибрировал и тронулся в путь.
Эркюль два раза выходил из кафе с мусорными баками. Потом отпер замок своего мотоцикла, завел его и уехал.
Свет его заднего фонаря был еще виден, когда Ганнибал просочился в кухонную дверь. С собой он нес что-то громоздкое, упрятанное в окровавленную сумку.
Кольнас вошел в кухню со своей книгой заказов в руках. Отворил дверцу дровяной печки, сунул в огонь несколько накладных и поворошил угли кочергой.
Стоя позади него, Ганнибал сказал:
— Герр Кольнас в окружении мисок и плошек.
Кольнас резко обернулся — позади стоял Ганнибал, прислонившись к стене, в одной руке бокал вина, в другой — пистолет.
— Что вам нужно? Мы уже закрылись.
— Кольнас в кухонном раю. Окружен сплошными плошками. Вы носите свой солдатский медальон, герр Кольнас?
— Меня зовут Клебер, я гражданин Франции, я сейчас вызову полицию!
— Давайте я ее вызову. — Ганнибал поставил бокал и поднял телефонную трубку. — Не возражаете, если я соединюсь с Комиссией по военным преступлениям? За звонок я заплачу.
— Гребаный урод! Звони кому хочешь! Да-да, можешь им звонить, я вполне серьезно! Или я сам позвоню. У меня все бумаги в порядке. И друзья имеются!
— А у меня имеются дети. Ваши.
— И как это следует понимать?
— Я их обоих взял. Я был в вашем доме на улице Жулиан. Зашел в комнату, где сидит большой плюшевый слон, и забрал их обоих.
— Ложь!
— Бери ее, она все равно вот-вот подохнет, это ваши слова. Помните? Когда вы тащились за Грутасом с плошкой в руках. Я вам кое-что привез, для вашей печки, — продолжил Ганнибал. Он нагнулся и рывком поднял на стол окровавленную сумку. — Мы можем заняться готовкой вместе, как в былые времена. — Он бросил на кухонный стол браслет Мики. Тот сделал по столу несколько кругов и упал.
Кольнас издал придушенный хрип. Он не мог заставить себя прикоснуться к сумке, руки тряслись, но потом все же раскрыл ее, разорвал окровавленную упаковочную бумагу, открыв мясо и кости.
— Отличный ростбиф, герр Кольнас. И дыня в придачу. Я их прикупил на «Les Halles»[85]. Ну, что вы сейчас чувствуете?
Кольнас бросился на него через стол, пытаясь вцепиться Ганнибалу в лицо окровавленными руками, но потерял равновесие, слишком наклонившись над столешницей, и Ганнибал сбил его на пол и ударил рукоятью пистолета в основание черепа, не слишком сильно. И свет померк в глазах у Кольнаса.
Лицо Ганнибала, испачканное кровью, выглядело таким же демоническим, как страшные рожи из его снов. Он плеснул водой в лицо Кольнасу, и тот открыл глаза.
— Где моя Катерина, что ты с ней сделал?! — завопил Кольнас.
— Она в безопасности, герр Кольнас. Вся такая розовенькая и чистенькая — просто в отличном состоянии. Можно видеть, как пульсирует жилка у нее на виске. Я отдам ее тебе, когда ты вернешь мне леди Мурасаки.
— Если я это сделаю, меня убьют.
— Ну нет. Грутас будет арестован, а я скажу, что тебя не помню. Это твой единственный шанс — так что действуй ради собственных детей.
— Откуда мне знать, что они еще живы?
— Клянусь душой моей сестры. Можешь услышать их голоса. Они в полной безопасности. Помоги мне, или я убью тебя, и твои дети подохнут с голоду. Где Грутас? Где леди Мурасаки?
Кольнас сглотнул, давясь кровью.
— У Грутаса есть плавучий дом, такое речное судно, он плавает по рекам и каналам. Сейчас он на канале Луан, к югу от Немура.
— Как называется судно?
— «Кристабель». Ты дал мне слово! Где мои дети?
Ганнибал поднял Кольнаса на ноги. Снял трубку с аппарата, стоявшего возле кассы, набрал номер и передал трубку Кольнасу.
В первый момент Кольнас даже не узнал голос собственной жены, потом закричал:
— Алло! Алло! Астрид? Где дети?! Дай трубку Катерине, дай ей трубку!
Пока Кольнас слушал удивленный, заспанный голос ребенка, выражение его лица менялось. Сперва облегчение, потом странное отсутствие всякого выражения, а рука его тем временем тянулась к револьверу, спрятанному на полке за кассой. Плечи его опустились.
— Вы меня обманули, герр Лектер!
— Нет, я держу слово. Я оставлю вам жизнь ради ваших…
Кольнас резко повернулся с тяжелым «уэбли» в руке, ладонь Ганнибала хлыстом ударила по оружию, револьвер выстрелил, а Ганнибал всадил клинок танто Кольнасу под нижнюю челюсть, и кончик лезвия вышел наружу из темени.
Телефонная трубка повисла, раскачиваясь на шнуре. Кольнас упал лицом вниз. Ганнибал перевернул его и на минуту присел на кухонный стул, глядя на тело. Глаза Кольнаса были открыты и уже стекленели. Ганнибал накрыл ему лицо плошкой.
Он вынес наружу клетку с овсянками и открыл ее. Последнюю ему пришлось выловить рукой и подбросить в воздух, в залитое лунным светом небо. Вольеру возле входа он тоже открыл и вспугнул птиц, чтобы те вылетели на свободу. Они тут же сбились в стайку и сделали круг над его головой, их тени следовали за ними по внутреннему дворику, потом они поднялись выше, проверяя, откуда дует ветер и в какой стороне Полярная звезда.
— Летите, — сказал Ганнибал. — Прибалтика вон в той стороне. И оставайтесь там, пока не похолодает.
56
Во всей необъятной ночи светится только один источник света, пробиваясь сквозь темные поля Иль-де-Франса; мотоцикл лежит боком на земле, Ганнибал сидит на его топливном баке. Выбравшись из бетонных джунглей Немура, оставшегося в южной стороне, он поехал по старой дорожке-бечевнику, тянувшейся по берегу канала Луан, то асфальтированной, то гравиевой, превратившейся ныне в узкую полоску асфальта, заросшую с обеих сторон. Ганнибалу приходилось то и дело выписывать зигзаги, пробираясь между коров, забредших на дорожку; жесткие кисточки их хвостов стегали его, когда он проезжал мимо, то и дело съезжая на обочину, и гравий стучал по колесам и крыльям мотоцикла, потом возвращался обратно на мощеную полоску, и мотоцикл содрогался и подпрыгивал, то теряя сцепление с асфальтом, то вновь его обретая и вновь набирая скорость.
Огни Немура меркли позади, теперь впереди была ровная местность, ничего не видно во мраке, контуры поросшей травой дороги прямо-таки бьют в глаза, абсурдно четкие в свете его фары, а расстилающаяся впереди тьма поглощает ее желтый луч. Его беспокоило, не забрался ли он слишком далеко на юг, прежде чем выехать к каналу, не остался ли плавучий дом позади?
Он остановился и выключил свет, посидел в темноте, решая возникшую проблему. Мотоцикл чуть заметно вздрагивал под ним.
Далеко впереди, в густом мраке, как ему показалось, через поле проплыли друг за другом два маленьких домика, надстройки едва возвышались над берегами канала Луан.
Плавучий дом Владиса Грутаса был на удивление тих, двигаясь на юг и чуть слышно рокоча мотором, и этот звук отражался от берегов канала, по обеим сторонам которого виднелись сонные коровы. Мюллер, поглаживая свежий шов на раненой ноге, сидел в парусиновом кресле на передней палубе, положив ствол дробовика на перила трапа. На корме Гассман открыл рундук и достал оттуда несколько обшитых брезентом кранцев.
В трех сотнях метров позади них Ганнибал сбросил скорость, и «БМВ» тихо зарокотал, продолжая медленно катиться вперед, с шорохом раздвигая боками траву. Он остановился и достал из седельной сумки отцовский бинокль. В темноте ему было не разглядеть название судна.
Видны были только ходовые огни и неясный свет за занавешенными окнами. Здесь канал был слишком широк, чтобы пытаться перепрыгнуть с берега на палубу.
С берега он мог бы попасть из пистолета в капитана, стоявшего в рубке, — или хотя бы отогнать его от штурвала, — но тогда на судне поднимется тревога, ему придется иметь дело сразу со всеми, как только он ступит на палубу. Они могут напасть на него сразу с обеих сторон — с носа и с кормы. Ему были видны трап на корме и выключенный фонарь на носу, где, видимо, был еще один трап, ведущий на нижнюю палубу.
В рубке, расположенной ближе к корме, слабо светился огонь нактоуза, но разглядеть кого-либо внутри было невозможно. Нужно было проехать вперед, обогнать их. Тропка тянулась рядом с водой, а поля представляли собой слишком всхолмленную местность, чтобы совершать объезд по целине.
Ганнибал обогнал плавучий дом, двигаясь по бечевнику и чувствуя, как покалывает бок, обращенный к судну. Быстрый взгляд на судно. Гассман на корме достает кранцы из рундука. Глянул на проезжающий мотоцикл. Над застекленным верхним люком каюты пляшут ночные мошки.
Ганнибал держал умеренную скорость. В километре впереди уже виднелись огни машин, пересекающих канал по мосту.
Канал Луан сужался, подходя к шлюзу, его ширина здесь не более чем в два раза превышала ширину судна. Шлюз представлял собой единое строение вместе с мостом, верхний затвор был вделан в каменную арку, сам шлюз был похож на ящик под мостом, длиной чуть больше, чем «Кристабель».
Ганнибал свернул влево по дороге через мост, на случай если капитан судна наблюдает за ним, и проехал с сотню ярдов. Выключил свет, развернулся и подъехал ближе к мосту, заведя мотоцикл в кусты рядом с дорогой. И пошел вперед в полной тьме.
На берегу канала днищем вверх валялись несколько гребных лодок. Ганнибал сел на землю между ними и стал наблюдать, глядя поверх них, за приближающимся плавучим домом, еще в полукилометре от моста. Было очень темно. Он слышал радио, играющее в дальнем конце моста, видимо, в домике смотрителя шлюза. Он сунул пистолет в карман куртки и застегнул клапан.
Едва заметные ходовые огни судна приближались очень медленно, красный на левом борту, ближнем к нему, а позади него, выше, белый огонь на складной мачте над рубкой. Судну придется здесь остановиться и ждать, пока уровень воды в шлюзе понизится на метр. Он лежал рядом с водой, вокруг валялись сплошные речные водоросли. Сверчки еще не начинали свои песни, слишком холодно.
Он ждал, а судно приближалось, медленно, очень медленно. Было время поразмышлять. Часть того, что он делал в кафе Кольнаса, была крайне неприятной, чтобы о ней вспоминать. Он не сумел оставить Кольнаса в живых даже на короткое время, а позволить ему говорить было просто бездарной тратой времени и терпения. Очень приятно было ощутить рукой хруст, когда клинок танто проткнул череп Кольнаса и вылез наружу, словно маленький рог. Гораздо больше удовлетворения, чем от смерти Милко. Очень приятные ощущения, которыми вполне можно насладиться: геометрическое доказательство пифагоровой теоремы, заключенное в плитках кафеля; голова Дортлиха, отрываемая от тела. Есть и о чем помечтать: как он пригласит леди Мурасаки в ресторан «Марсово поле» на тушеного зайца. Ганнибал был совершенно спокоен. Пульс — 72 удара в минуту.
Возле шлюза темно, небо ясное и все усыпано звездами. Огонь на мачте плавучего дома должен располагаться где-то среди низко висящих звезд, когда судно достигнет шлюза.
Он не совсем добрался до нижних звезд, когда мачту сложили и убрали назад, огонь, как падающая звезда, описав дугу, опустился вниз. Ганнибал увидел раскаленную нить огромного судового прожектора и тут же упал на землю, когда яркий луч прорезал тьму и метнулся над ним к затвору шлюза. Заревел судовой гудок. В домике смотрителя шлюза загорелся свет, и меньше чем через минуту наружу вышел человек, поправляя подтяжки. Ганнибал принялся навинчивать глушитель на пистолет Милко.
Владис Грутас поднялся по носовому трапу и остановился на палубе. Потянулся и швырнул за борт окурок сигареты. Что-то сказал Мюллеру, и тот опустил свой дробовик на палубу, между растениями в контейнерах, чтобы его не увидел смотритель шлюза. Потом Грутас ушел обратно вниз.
Гассман выбросил за борт кранцы и приготовил швартовочный канат. Верхний затвор шлюза оставался открытым. Смотритель ушел в свою будку возле самой воды и включил освещение над швартовочными тумбами в обоих концах шлюза. Судно прошло под мостом в шлюз, капитан дал задний ход, чтобы остановиться. Когда мотор взревел, Ганнибал, низко пригнувшись, скользнул на мост, держась ниже каменных перил.
Выглянул оттуда, посмотрел на медленно проплывающую внизу палубу и сквозь застекленные люки на крыше надстройки. Когда люк оказался прямо под ним, он успел разглядеть леди Мурасаки, привязанную к креслу, — ее было видно только секунду.
Смотрителю понадобилось около десяти минут, чтобы спустить воду в шлюзе до уровня нижнего бьефа, тяжелый затвор раскрылся, Мюллер и Гассман собрали швартовы. Смотритель пошел назад к своему домику. Капитан прибавил оборотов двигателя, и вода забурлила за кормой.
Ганнибал перегнулся через перила моста. С расстояния двух футов он выстрелил Гассману в темя, вскочил на перила и спрыгнул вниз, приземлившись на тело Гассмана и тут же откатившись в сторону. Капитан услышал глухой удар, когда Гассман упал, и посмотрел на кормовые швартовы — но они все были сложены на палубе.
Ганнибал толкнул дверь кормового трапа. Заперта.
Капитан высунулся из ходовой рубки:
— Гассман, ты где?
Ганнибал сидел на корме, на корточках возле тела, ощупывая его пояс. Гассман не был вооружен. Чтобы пройти на нос, Ганнибалу нужно было миновать рубку, а на носу сидел Мюллер. Он двинулся вперед по правому борту. Капитан вышел из рубки на левый борт и увидел распростертого там Гассмана, из головы которого в шпигаты что-то стекало.
Ганнибал тихо и быстро пробирался вперед, пригибаясь за низкими палубными надстройками.
Он почувствовал, что двигатель перевели на нейтраль, и побежал, сзади раздался выстрел, пуля ударила в пиллерс, и ее осколки впились ему в плечо. Он обернулся, увидел капитана, нырнувшего за кормовую надстройку. Возле носового трапа на секунду показались татуированные рука и ладонь, выхватившая дробовик из-под горшков с растениями. Ганнибал выстрелил, но безрезультатно. Плечо саднило, оно было мокрым. Он пригнулся и нырнул между двумя надстройками, выбравшись на левый борт, побежал вперед, низко пригибаясь, вперед, мимо носовой надстройки на бак, а на баке, скорчившись, сидел Мюллер. Он вскочил, когда услышал приближение Ганнибала, поднял ружье, но зацепился дулом за угол надстройки, задержавшись на полсекунды, дернул его, снова поднял, и Ганнибал выстрелил ему четыре раза в грудь, со всей возможной быстротой нажимая на спуск. Дробовик тоже выстрелил, пробив здоровенную иззубренную дыру в деревянной обшивке возле двери, ведущей на трап. Мюллер зашатался и посмотрел себе на грудь, потом упал на спину и, уже мертвый, сел, прислонясь спиной к фальшборту. Дверь на трап была не заперта. Ганнибал бросился вниз по ступеням, заперев дверь за собой.
Капитан, прятавшийся на корме возле тела Гассмана, порылся в карманах, отыскивая ключи.
Быстро вниз по ступеням трапа и по узкому коридору нижней палубы. Ганнибал заглянул в первую каюту — пусто, ничего, кроме коек и цепей. Он рывком распахнул следующую дверь, увидел леди Мурасаки, привязанную к креслу, и бросился к ней. Грутас из-за двери выстрелил Ганнибалу в спину, пуля попала тому между лопаток, он упал, и под ним начала растекаться лужа крови.
Грутас улыбнулся и подошел к нему. Приставил дуло пистолета Ганнибалу под нижнюю челюсть и похлопал его по плечу. Потом пинком отбросил в угол пистолет Ганнибала. Достал из-за пояса стилет и потыкал его острием Ганнибалу в ноги. Ноги не дернулись.
— Пуля в позвоночник, мой маленький Mannlein, — сказал Грутас. — Ноги уже не чувствуешь? Какое несчастье! Ты ничего не почувствуешь и тогда, когда я тебе яйца отрежу. — Грутас улыбнулся леди Мурасаки. — Я вам из его мошонки сделаю кошелек, чтобы складывать чаевые.
Ганнибал открыл глаза.
— Ты еще можешь видеть? — Грутас помахал перед глазами Ганнибала длинным лезвием стилета. — Отлично! Тогда смотри сюда! — Грутас встал перед леди Мурасаки и легко провел острием по ее щеке сверху вниз, едва касаясь кожи. — Я мог бы навести некоторый румянец на ее щечки. — Он вонзил стилет в спинку кресла рядом с ее головой. — Или понаделать в ней новых отверстий для секса.
Леди Мурасаки не произнесла ни слова. Ее глаза неотрывно смотрели на Ганнибала. Его пальцы дрогнули, рука чуть передвинулась к голове. Его глаза переместились с леди Мурасаки на Грутаса, потом обратно. Леди Мурасаки подняла взгляд на Грутаса. На лице ее было написано возбуждение пополам с мукой. Она могла быть прекрасной в любой момент, стоило ей только захотеть. Грутас нагнулся и грубо поцеловал ее, с силой прижав ей губы к зубам и разбив их, его лицо врезалось в ее лицо, его тяжелое, невыразительное лицо побледнело, бледные глаза ни разу не моргнули, когда он полез ей под блузку.
Ганнибал сунул руку за голову и вытащил из-под воротника кинжал танто — его лезвие было в крови и имело вмятину от пули Грутаса.
Грутас моргнул, лицо конвульсивно дернулось от боли, колени подогнулись, и он упал с располосованными подколенными сухожилиями. Ганнибал вылез из-под него. Леди Мурасаки, привязанная за щиколотки к креслу, ударила Грутаса головой в лицо. Он попытался поднять пистолет, но Ганнибал ухватился за ствол, задрал его вверх, выкручивая у него из руки, пистолет выстрелил, и Ганнибал резанул Грутаса по запястью. Пистолет выпал и заскользил по полу в угол. Грутас поволокся за ним, сумев приподняться на локтях, потом встал на четвереньки, скользя коленями по полу, снова упал и снова подтянулся на руках вперед, как животное со сломанным позвоночником, сбитое на шоссе машиной. Ганнибал разрезал веревку на руках леди Мурасаки, она вырвала стилет из спинки кресла и сама освободила себе щиколотки, встала и отошла в угол. Ганнибал с окровавленной спиной перекрыл Грутасу дорогу к пистолету.
Грутас остановился и, стоя на четвереньках, посмотрел Ганнибалу в лицо. Его всего охватило какое-то странное спокойствие. Он смотрел снизу вверх на Ганнибала своими бледными глазами цвета арктического льда.
— И вместе мы поплывем к смерти, — произнес он. — Я, ты, твоя мачеха, которую ты трахаешь, все люди, которых ты убил.
— Это были не люди.
— Каков оказался Дортлих на вкус? Похоже на рыбу? А Милко ты тоже съел?
— Ганнибал, — сказала леди Мурасаки из своего угла, — если Попиль получит Грутаса, то, вероятно, не станет заниматься тобой. Ганнибал, послушай меня, отдай его Попилю.
— Он съел мою сестру.
— Ты тоже ее ел, — сказал Грутас. — Что ж ты себя не убьешь?
— Я ее не ел. Это ложь.
— А вот и нет! Добренький Кухарь скормил ее тебе вместе с бульоном! И теперь тебе надо убить всех, кто об этом знает, так? Но теперь и эта женщина тоже знает, стало быть, тебе и ее следует убить.
Ганнибал зажал руками уши, в одной он все еще держал окровавленный кинжал. Повернулся к леди Мурасаки, ища ее глаза, подошел к ней, прижал ее к себе.
— Нет, Ганнибал, это все ложь, — сказала она. — Отдай его Попилю.
Грутас рванулся к пистолету, продолжая повторять:
— Ты съел ее, ты был в полубессознательном состоянии, только жадно глотал каждую ложку…
— НЕ-Е-Е-Е-Т! — отчаянно крикнул Ганнибал, подняв лицо к потолку, и прыгнул к Грутасу, занося кинжал. Наступил на пистолет, несколькими взмахами клинка располосовал ему все лицо, написав на нем большое «М», и закричал: — М — за Мику! М — за Мику! М — за Мику!
Грутас лежал на спине, распростертый на полу, а Ганнибал все полосовал его кинжалом, выписывая свои «М».
Сзади раздался крик. В кровавом тумане сверкнул выстрел. Ганнибал ощутил пламя выстрела над головой. Он не понял, ранило его или нет. Он обернулся.
Сзади стоял капитан, спиной к леди Мурасаки, и сбоку из-под его нижней челюсти торчала рукоять стилета, а кончик его лезвия перерезал ему аорту. Пистолет выскользнул из ладони капитана, и он рухнул лицом вниз.
Ганнибал едва стоял на ногах, его лицо превратилось в кровавую маску. Леди Мурасаки закрыла глаза. Она вся дрожала.
— Вы не ранены? — спросил он.
— Нет.
— Я люблю вас, леди Мурасаки, — сказал он. И пошел к ней.
— Что осталось в тебе, чтобы любить? — спросила она и выбежала из каюты, вверх по трапу, через фальшборт — и безукоризненным прыжком, без всплеска нырнула в воду канала.
Плавучий дом тихо ткнулся в берег канала.
На «Кристабели» оставался один Ганнибал — вместе с мертвецами. Их глаза быстро стекленели. Мюллер и Гассман теперь уже на нижней палубе, у подножия обоих трапов. Грутас, исполосованный кинжалом и весь в крови, лежит в каюте, где и умер. Каждый из мертвецов держит в руках фаустпатрон, как куклу с огромной головой. Ганнибал вытащил из оружейного стеллажа последний фаустпатрон и привязал его в машинном отделении так, что его здоровенная реактивная противотанковая головка оказалась в двух футах от топливного бака. В судовом барахле нашел кошку, потом привязал веревку от нее к спусковому крючку фаустпатрона, установленному на оружии сверху. Он стоял на палубе с кошкой в руке, пока судно тихонько продвигалось вперед, то и дело легко ударяясь о каменную облицовку канала. С палубы ему были видны вспышки фонарей на мосту. Слышались крики и лай собаки.
Он бросил кошку в воду, и привязанная к ней веревка змеей скользнула следом. Ганнибал спрыгнул на берег и пошел прочь через поля. Назад он не оглядывался. Когда он прошел метров четыреста, грохнул взрыв. Он почувствовал, как взрывная волна ударила его в спину, и воздух с шумом пронесся над ним. Осколок металла упал в поле позади него. Судно яростно пылало в канале, в небо столбом летели искры, закручиваясь спиралью в исходящем от огня жаре. Следующие взрывы развалили горящие бимсы и швырнули их, кувыркающихся, в воздух, когда рванули головки остальных фаустпатронов.
С расстояния в милю он видел вспышки проблесковых маячков полицейских машин возле шлюза. Назад он не пошел. Он направился дальше через поля, и его нашли уже после восхода солнца.
57
Обращенные на восток окна штаб-квартиры парижской полиции в теплые месяцы года во время завтрака обычно сплошь оккупировали молодые полицейские в надежде увидеть Симону Синьоре[86], пьющую утренний кофе на террасе своего дома, выходящего на соседнюю площадь Дофина.
Инспектор Попиль подошел к своему столу, не подняв взгляда даже тогда, когда разнеслась весть, что двери на террасу киноактрисы открылись, и остался невозмутим, когда раздался всеобщий стон — на террасе появилась всего лишь служанка, вышедшая полить цветы.
Его собственное окно было распахнуто, до него доносились отдаленные звуки коммунистической демонстрации на набережной Орфевр и на Новом мосту. Демонстранты — по большей части студенты — скандировали: «Свободу Ганнибалу! Свободу Ганнибалу!» Они несли плакаты «Смерть фашизму!» и требовали немедленного освобождения Ганнибала Лектера, который теперь стал в некотором роде знаменитостью. Читатели в своих письмах в «Юманите» и «Канар эншен» защищали его, а «Канар» даже опубликовала фотографию горящих остатков «Кристабель» с подписью «Людоеды поджариваются».
Трогательные детские воспоминания о блестящих результатах коллективизации, также опубликованные в «Юманите» в виде статьи за подписью самого Ганнибала, были контрабандой вынесены из тюрьмы и добавили ему популярности среди сторонников коммунистов. Он с такой же готовностью написал бы и для изданий самого крайне правого толка, но правые были не в моде и не могли выйти на демонстрацию в его поддержку.
Перед Попилем лежал меморандум из прокуратуры с запросом, какие именно обвинения можно реально предъявить Ганнибалу Лектеру. В свете царящих настроений возмездия — l’epuration sauvage[87], — сохранившихся после войны, приговор за убийство фашистов и военных преступников должен был быть абсолютно обоснованным, но даже полностью справедливый, он все равно будет политически непопулярен.
Убийство мясника Поля Момуна имело место много лет назад, и единственной уликой служил аромат гвоздичного масла, отмечал прокурор. «Поможет ли взятие под стражу этой женщины Мурасаки? Может быть, ее можно обвинить в тайном сговоре и соучастии?» — спрашивал прокурор. Инспектор Попиль отверг идею об аресте женщины Мурасаки.
Конкретные обстоятельства смерти ресторатора Кольнаса, или «скрывающегося фашиста, ресторатора и дельца черного рынка», как его именовали газеты, так и не были выяснены. Да, на его темечке имелась дыра непонятного происхождения, а его язык и небо были проткнуты неизвестными лицами. Он стрелял из револьвера, что подтверждено парафиновой пробой.
Мертвецы в плавучем доме превратились в пепел и прах. О них было известно, что это похитители людей и торговцы живым товаром, «белыми рабами». Разве не был обнаружен фургон с двумя пленными женщинами — на основании данных о его номерных знаках, сообщенных «этой женщиной Мурасаки»?
У молодого человека не было никакого криминального прошлого. Он был первым в своей группе на медицинском факультете.
Инспектор Попиль посмотрел на часы и пошел по коридору в камеру номер 3, лучшую из всех камер для допросов, потому что в нее попадал хоть какой-то солнечный свет, а все граффити на ее стенах были замазаны толстым слоем белой краски. Возле двери в камеру стоял охранник. Попиль кивнул ему, и тот отодвинул засов, впуская инспектора внутрь. Ганнибал сидел за пустым столом в центре камеры. От его щиколотки к ножке стула тянулась цепь, руки были прикованы к кольцу на столе.
— Снимите эти железки, — велел Попиль охраннику.
— Доброе утро, господин инспектор, — поздоровался Ганнибал.
— Она уже здесь, — сообщил ему Попиль. — Доктор Дюма и доктор Руфен приедут после обеда. — И Попиль оставил его одного.
Теперь Ганнибал мог встать на ноги, когда леди Мурасаки вошла в камеру.
Дверь за ней затворилась, она отвела руку за спину и приложила ладонь к двери.
— Ты спал? — спросила она.
— Да. Со сном все в порядке.
— Чио шлет наилучшие пожелания. Пишет, что очень счастлива.
— Рад это слышать.
— Ее приятель закончил университет, и теперь они помолвлены.
— Очень за нее рад.
Пауза.
— Они занялись выпуском мотороллеров, таких маленьких мотоциклов, создали совместное предприятие с двумя братьями. Шесть уже выпустили. Она рассчитывает, что они смогут выпускать больше.
— Конечно, будут… я сам у них один куплю.
Женщины быстрее мужчин чувствуют наблюдение со стороны — это умение составляет часть их инстинкта выживания; да и желание они распознают тут же. Или его отсутствие. Она ощутила произошедшую в нем перемену. В глазах его чего-то недоставало.
На память пришли слова, написанные ее далекой прапрапрабабкой, тоже Мурасаки Сикибу, и она произнесла их вслух:
Быстро под чистым небом Стынут бурные воды. И лунный свет и тени Гаснут и уплывают, Словно судьбы капризы.Ганнибал ответил в классическом стиле принца Гэндзи:
Воспоминанья о любви прошедшей Как снег под ветром падают в сугробы. Они остры, как утки по-пекински, Остры, горьки, мучительно прекрасны — Плывут, плывут во сне друг с другом рядом.— Нет, — сказала леди Мурасаки. — Нет. Теперь остался один лед. Все ушло. Разве нет?
— Вы для меня — самое любимое существо в мире, — сказал он вполне правдиво.
Она поклонилась ему и вышла из камеры.
В кабинете Попиля она обнаружила доктора Дюма и доктора Руфена, погруженных в разговор.
Доктор Руфен взял ладони леди Мурасаки в свои.
— Вы говорили мне, что у него внутри все навсегда замерзло, — сказала она.
— Вы тоже это почувствовали? — спросил Руфен.
— Я люблю его, но не могу найти с ним контакт, — сказала леди Мурасаки. — А вы?
— Мне это никогда не удавалось, — признался Руфен.
Она ушла, так и не увидевшись с Попилем.
Ганнибал добровольно вызвался помогать работникам тюремного медицинского изолятора и подал в суд прошение разрешить ему вернуться к занятиям на медицинском факультете. Доктор Клер де Ври, возглавлявшая в полиции лабораторию судебно-медицинской экспертизы, умная и привлекательная женщина, обнаружила, что Ганнибал может быть чрезвычайно полезным работником, особенно когда он собрал компактный прибор для качественного анализа и определения токсинов, пользуясь минимальным количеством реагентов и оборудования. Она написала в суд, поддержав его просьбу.
Доктор Дюма, чей безграничный оптимизм раздражал Попиля сверх всякой меры, подал замечательную характеристику на Ганнибала, сообщив при этом, что Медицинский центр Джонса Хопкинса в Балтиморе, в Америке, предлагает Лектеру поступить к ним в интернатуру, особенно после того, как там ознакомились с его иллюстрациями к новому анатомическому атласу. Моральный аспект этого дела доктор Дюма выделил в весьма недвусмысленных выражениях.
Через три недели, несмотря на возражения инспектора Попиля, Ганнибал покинул Дворец правосудия и вернулся в свою комнату над помещениями медицинского факультета. Попиль с ним не попрощался, охранник просто принес ему его одежду.
В своей комнате он отлично проспал всю ночь. Утром позвонил на площадь Вогезов и обнаружил, что телефон леди Мурасаки отключен. Он пошел туда и отпер дверь своим ключом. Квартира была пуста, если не считать тумбочки под телефонным аппаратом. Возле аппарата лежало адресованное ему письмо. К нему был прикреплен почерневший прутик из Хиросимы, присланный леди Мурасаки ее отцом.
Письмо было коротким: «Прощай, Ганнибал. Я еду домой».
На обратном пути он швырнул обожженный прутик в Сену. В ресторане «Марсово поле» он заказал великолепного тушеного зайца на деньги, которые Луи Ферра оставил на мессы за упокой своей души. Согретый вином, он решил, что для соблюдения декорума ему все же не мешает прочитать несколько молитв на латыни в память о Луи и, может быть, одну из них даже пропеть на какой-нибудь популярный мотивчик, принимая во внимание тот факт, что они будут ничуть не менее действенны, нежели те, что он мог бы заказать в церкви Сен-Сюльпис.
Ужинал он в одиночестве, но был отнюдь не одинок.
Ганнибал вступил в период долгой зимы своего сердца. Спал он прекрасно, и во сне его никто больше не посещал в отличие от других людей.
Часть III
Я рад бы к черту провалиться, Когда бы сам я не был черт! И.-В. фон Гете, «Фауст» (перевод Н. Холодковского)58
Свенке уже казалось, что отец Дортлиха не умрет никогда. Старик все дышал и дышал, уже два года все дышал, а гроб, завернутый в брезент, все дожидался его, стоя на козлах в и без того тесной квартире Свенки. Он занимал большую часть холла. Это вызывало сильное раздражение у женщины, которая жила со Свенкой; она не раз отмечала, что закругленная крышка гроба не дает использовать его даже в качестве подставки или полки. Через несколько месяцев она, правда, стала прятать в гробу контрабандные консервы, которые Свенка вымогал у пассажиров, возвращавшихся на паромах из Хельсинки.
За два года чудовищных чисток Иосифа Сталина трое офицеров из коллег Свенки были расстреляны, а четвертый повешен в тюрьме на Лубянке.
Свенка понимал, что настало время уходить. Произведения искусства теперь все были у него, и он не собирался их тут бросать. Ему не достались в наследство все контакты и связи Дортлиха, но он мог достать нужные бумаги. У него не было связей в Швеции, но было полно знакомых, плавающих на судах из Риги в Швецию, и он мог контролировать переправку груза. Нужно было только отправить его морем.
Однако все по порядку.
Утром в воскресенье, без четверти семь служанка Бергид вышла из дома, в котором находилась квартира отца Дортлиха. Она вышла с непокрытой головой, чтобы никто не заподозрил, что она собралась в церковь, и несла под мышкой приличных размеров книгу — в ней были спрятаны ее головной платок и Библия.
Она отсутствовала уже около десяти минут, когда отец Дортлиха, лежавший в постели, услышал поднимающиеся по лестнице шаги, более тяжелые, чем шаги Бергид. Из прихожей донеслись скрежет и лязганье — кто-то пытался вскрыть дверной замок.
Отец Дортлиха с усилием приподнялся над подушкой.
Наружная дверь заскрипела по порожку, когда кто-то рывком распахнул ее. Он пошарил рукой по прикроватной тумбочке и взял с нее пистолет «люгер». Едва не теряя сознание от этого усилия, он ухватил пистолет обеими руками и сунул его под простыню.
Закрыл глаза и ждал, пока не отворилась дверь в его комнату.
— Вы спите, герр Дортлих? Надеюсь, я вам не помешал, — произнес сержант Свенка. Он был в гражданском, волосы прилизаны.
— А-а, это ты. — Выражение на лице старика было таким же яростным, как обычно, но выглядел он очень слабым.
— Я пришел по поручению Союза милиционеров и таможенников. Мы разбирали старые завалы и нашли кое-какие вещи вашего сына.
— Мне они не нужны. Оставьте их себе, — сказал старик. — Ты что, взломал замок?
— Никто мне не открыл, так что пришлось войти самому. Я думал просто оставить здесь коробку, если никого нет дома. У меня есть ключ вашего сына.
— У него никогда не было своего ключа.
— Это отмычка.
— Тогда запри за собой дверь, когда будешь уходить.
— Лейтенант Дортлих сообщил мне некоторые подробности касательно вашего… положения и ваших пожеланий. Вы их не записали? У вас есть все нужные документы? Мы в Союзе считаем своим долгом, чтобы все ваши пожелания были исполнены в точности.
— Ну да, — сказал отец Дортлиха. — Записаны и засвидетельствованы. Копия отправлена в Клайпеду. Вам не нужно ничего делать.
— Нет, нужно. Осталось одно дело. — И сержант Свенка опустил коробку на пол.
Он улыбнулся, направляясь к постели. Схватил с кресла подушку, боком, по-паучьи кинулся к изголовью, прижал ее к лицу старика и, сев верхом на его тело и упираясь коленями ему в плечи, навалился на него, прижав ему локти, всем весом налегая на подушку. Сколько времени это займет? Старик даже не брыкался.
Тут Свенка почувствовал, что в промежность ему воткнулось что-то твердое, простыня под ним поднялась горбом, и «люгер» выстрелил. Свенка ощутил ожог на коже и сильное жжение где-то глубоко внутри себя, упал назад, а старик поднял пистолет и все продолжал стрелять сквозь простыню, посылая пулю за пулей ему в грудь, в щеку, потом ствол опустился, последняя пуля попала в ногу ему самому. Висевшие над кроватью часы пробили семь, и он успел услышать первые четыре удара.
59
По всей пятидесятой параллели шел снег, заметая верхушку Северного полушария — Восточную Канаду, Исландию, Шотландию и Скандинавию. Мело и в Грисслхамне, в Швеции, — снег падал в море, когда паром, на котором приплыл гроб, подошел к берегу.
Агент судоходной компании предоставил сотрудникам похоронного бюро четырехколесную тележку и помог им погрузить на нее гроб, она покатилась по палубе и ударилась о край аппарели, ведущей на набережную, где уже ждал грузовик.
После смерти у отца Дортлиха не осталось никаких близких родственников, а его последняя воля была выражена совершенно четко. Клайпедский профсоюз моряков и речников проследил за тем, чтобы все они были исполнены.
Небольшая процессия, направлявшаяся к кладбищу, состояла из катафалка, фургона с шестью служащими похоронного бюро и легкового автомобиля, в котором ехали двое престарелых родственников.
Дело было вовсе не в том, что отца Дортлиха совершенно забыли. Просто друзья его детства по большей части уже умерли, да и из родни живы были немногие. Он был паршивой овцой в семье, средний сын, склонный к бродячему образу жизни, а его энтузиазм по поводу Октябрьской революции отдалил его от семьи и привел в Россию. Сын владельцев судостроительной компании, он всю жизнь был обычным моряком. Ирония судьбы, пришли к выводу двое престарелых родственников, едущие позади катафалка под падающим в предвечерних сумерках снегом.
Склеп семейства Дортлихов был из серого гранита с вырубленным над дверями крестом и вполне приличным количеством витражей под крышей — просто цветных стекол, без всяких изображений и фигур.
Кладбищенский сторож, человек совестливый, подмел ведущую к склепу дорожку и ступени перед его дверями. Огромный железный ключ леденил ему пальцы даже сквозь перчатки, и ему пришлось поворачивать его обеими руками. Замок заскрипел. Служащие похоронного бюро распахнули широкие двойные двери и внесли гроб внутрь. Со стороны родственников донеслось неясное бормотание по поводу эмблем коммунистического профсоюза на крышке гроба, которые теперь тоже будут украшать склеп.
— Считайте это братским прощальным приветом от тех, кто его лучше всего знал, — предложил им директор похоронного бюро и кашлянул в перчатку. Для коммуниста гроб выглядел слишком роскошно, подумалось ему, и он попробовал прикинуть, какова же была наценка.
У сторожа в кармане был тюбик с техническим вазелином. Он намазал им две дорожки по каменному постаменту, чтобы основание гроба скользило по ним, пока его устанавливали в предназначенную для него нишу сбоку, и носильщики порадовались этому обстоятельству, когда им пришлось задвигать гроб на место, толкая его с одной стороны и не имея возможности его поднять.
Все огляделись по сторонам, переглянулись друг с другом. Никто не выразил желания прочесть молитву, так что они заперли склеп и быстро пошли к своим машинам под бьющим в лицо снегом.
Отец Дортлиха лежит на своем ложе из произведений искусства, неподвижный и маленький, и в сердце его образуется лед.
Годы придут, и годы уйдут. Голоса будут доноситься сюда с гравийных дорожек снаружи. Изредка внутрь просунется свежий побег вьюнка. Цвета витражных стекол поблекнут по мерс оседания на них пыли. Полетят осенние листья, потом снег, и вновь то же самое, снова и снова. Живописные полотна, лица, столь памятные Ганнибалу Лектеру, лежат, свернутые рулоном, во тьме, словно свитки памяти.
60
Огромные мягкие хлопья снега падают в недвижимом утреннем воздухе на берега реки Льевр в провинции Квебек в Канаде и ложатся пухом на порог магазина под вывеской «Карибу. Уголок охотника и таксидермиста».
Огромные хлопья, как перья, падают на волосы Ганнибала Лектера, когда он пробирается по лесной дорожке к бревенчатому дому. Магазин открыт. Из него слышна мелодия «О, Канада!», доносящаяся из радиоприемника, установленного в его заднем помещении, за которым вот-вот начнется хоккейный матч школьных команд. На стенах развешаны чучела — охотничьи трофеи. Выше всех висит голова американского лося, ниже, как святые ниже мадонны в Сикстинской капелле, располагаются песец и куропатка, потом олень с грустными глазами, серая рысь и рыжая рысь.
На прилавке стоит поднос со множеством отделений — в нем лежат глаза для будущих чучел. Ганнибал опускает на пол свою сумку и перебирает пальцем эти глаза. Подбирает пару самых бледно-голубых, предназначенных для чучела оленя или почившей в бозе лайки. Ганнибал поднимает их с подноса и кладет рядышком на прилавок.
К нему выходит владелец магазина. Борода Бронюса Гренца теперь почти седая, на висках тоже седина.
— Да? Чем могу служить?
Ганнибал смотрит на него, перебирает глаза на подносе и находит пару, соответствующую ярким карим глазам Гренца.
— Так что вам угодно? — спрашивает Гренц.
— Я приехал забрать голову, — отвечает Ганнибал.
— Которую? Где ваша квитанция?
— Я ее здесь не вижу, на стене.
— Она, видимо, в задней комнате.
У Ганнибала наготове предложение:
— Можно мне туда пройти? Я вам покажу которая.
Ганнибал берет с собой свою сумку. В ней сложены кое-какая одежда, большой мясницкий нож и резиновый фартук с клеймом «Медцентр Джонса Хопкинса».
Интересно было бы сравнить почтовые поступления Гренца и его адресную книгу со списками разыскиваемых преступников из дивизии СС «Мертвая голова», который британские власти рассылали после войны. У Гренца много корреспондентов в Канаде и Парагвае, есть несколько в Соединенных Штатах. Ганнибал внимательно изучил все доставшиеся ему документы, пока ехал обратно на поезде, наслаждаясь одиночеством в отдельном купе, оплаченном из кассы Гренца.
На обратном пути в Балтимор, где он учился в интернатуре, он сделал остановку в Монреале, откуда отправил голову Гренца почтовой посылкой на адрес одного из корреспондентов таксидермиста, а в качестве обратного адреса указал место жительства другого такого же корреспондента.
Его отнюдь не терзала ярость по отношению к Гренцу. Его теперь больше не терзали такие чувства, как ярость, как не тревожили и былые сновидения. Просто у него выдался свободный день, и убить Гренца было предпочтительнее, нежели кататься на лыжах.
Поезд, покачиваясь, несется на юг, по направлению к Америке, в нем так тепло и удобно на прекрасных рессорах. Это так отличается от его поездки на поезде в Литву, когда он был еще мальчишкой.
Он сделает остановку в Нью-Йорке — в отеле «Карлайл», также за счет Гренца — и сходит в театр. У него уже куплены билеты на «Наберите „М“ в случае убийства» и на «Пикник». Он решил, что пойдет на «Пикник», поскольку считает, что на сцене убийство выглядит неубедительно.
Америка поражает его. Такое изобилие тепла и электричества! Такие странные, широкие машины. Лица американцев, открытые, но не невинные, легко читаемые. В свое время — в качестве достойного покровителя искусств и мецената — он воспользуется полученным доступом за сцену, чтобы из-за кулис изучать зрителей, их восторженные лица, сияющие в свете огней рампы, и читать, читать, читать их.
Упала ночь, и официант вагона-ресторана принес на его столик свечу. Кроваво-красный кларет чуть подрагивал в его бокале в такт движению поезда. Ночью он вдруг проснулся на остановке и услышал, как железнодорожные рабочие сбивают наледи с колес, обдавая их паром из шланга, — пар огромными клубами летел мимо его окна, гонимый ветром. Поезд снова тронулся с легким толчком, а потом мягко скользнул прочь от огней станции, в ночь, пыхтя и покачиваясь, в сторону Америки. Окно очистилось от пара, и он снова мог видеть звезды.
Примечания
1
Das Mannlein (нем.) — маленький человечек. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Маленький человечек безмолвно и тихо стоит в лесу, / На нем — маленький плащик ярко-пурпурного цвета, / Скажите-ка, что это может быть за человечек, / Который стоит в лесу совсем один / В своем пурпурно-красном маленьком плащике?..
(обратно)3
Христиан Гюйгенс (1629–1695) — нидерландский естествоиспытатель.
(обратно)4
Гномон — столбик-указатель или стрелка солнечных часов; указатель высоты солнца.
(обратно)5
Йо-йо — детская игрушка «чертик на ниточке».
(обратно)6
Кетоз — свидетельство серьезного нарушения углеводного и жирового обмена в организме.
(обратно)7
Дерьмово (фр.).
(обратно)8
Ты что дрейфишь? (фр.)
(обратно)9
Пошел ты… (фр.)
(обратно)10
Почему? (фр.)
(обратно)11
Брудер — питомник для молодняка — цыплят, поросят и т. п.
(обратно)12
Кендо — искусство фехтования, букв. «путь меча» (кен — меч, до — путь); особый вид фехтования бамбуковыми мечами.
(обратно)13
Граф Лектер называет жену именем царицы Савской (англ. Sheba), созвучным с японским именем леди Мурасаки — Сикибу (англ. Shikibu).
(обратно)14
Боевой веер — тяжелый стальной веер, служивший не только знаком воинского (в данном случае — высокого) ранга, но и боевым оружием самурая. Был распространен лишь в Японии.
(обратно)15
Доктор медицины, доктор философии, психиатр (фр.).
(обратно)16
Джозеф Нибб (Joseph Knibb, 1640–1711) — лондонский мастер часовых дел, изобретший оригинальную систему боя часов.
(обратно)17
Фердинанд Фош (1851–1929) — французский военачальник.
(обратно)18
Под мостами Парижа (фр.).
(обратно)19
Овощи Бюло (фр.).
(обратно)20
Вот моя, а где твоя? (фр.)
(обратно)21
Таксономия — расположение по порядку, систематизация.
(обратно)22
Вишист — сторонник профашистского французского правительства, находившегося во время войны в г. Виши.
(обратно)23
«Маленькая стойка» (фр.).
(обратно)24
Презрительное прозвище немца (нем.).
(обратно)25
«Лягушки» (англ. frogs) — в Англии и США презрительное прозвище французов.
(обратно)26
Эпоха Хэйан в Японии — IX–XI вв. н. э., время становления и расцвета японской классической (придворной) литературы; герои романов того времени изъясняются преимущественно стихами.
(обратно)27
Генрих II (1515–1559) — король Франции (с 1547 г.) из династии Валуа.
(обратно)28
Везалий (Andreas Vesalius, 1514–1564) — фламандский естествоиспытатель, врач, ученый-анатом, основоположник современной анатомии человека.
(обратно)29
Тропические рыбы, мелкие птицы и экзотические животные (фр.).
(обратно)30
Разрешите войти (яп.).
(обратно)31
Добро пожаловать (яп.).
(обратно)32
Нет, мне очень жаль, месье (фр.).
(обратно)33
Дерьмо! (фр.)
(обратно)34
Джозеф Мэллорд Уильям Тернер (1775–1851) — английский художник.
(обратно)35
Франческо Гварди (1712–1793) — итальянский живописец-пейзажист венецианской школы.
(обратно)36
«Лисьи пятна» — бурые пятна на бумаге, на холсте и т. п.
(обратно)37
Зал для игры в мяч (фр. Jeu de Paume) — зал в крыле Лувра, где обитатели дворцового комплекса играли в мяч. Теперь — музейный зал, где представлены главным образом картины импрессионистов.
(обратно)38
Бернардо Беллотто (1720–1780) — итальянский живописец и офортист.
(обратно)39
Каналетто (Джованни Антонио Канале) (1697–1768) — венецианский художник-пейзажист, весьма популярный не только у себя на родине, но и у английской аристократии того времени.
(обратно)40
Караваджо (1573–1610) — итальянский живописец, основоположник реалистического направления в европейской живописи XVII в.
(обратно)41
Траншейная стопа — отморожение стоп в результате длительного переохлаждения и повышенной влажности (обычно в военных условиях), влекущее за собой разрыхление, размягчение и инфицирование тканей и, как следствие, другие тяжкие осложнения.
(обратно)42
Суп «Вишиссуа» (фр. Vichyssois) — очевидная шутка автора, так как буквально означает «вишист», «вишистский».
(обратно)43
Телячий пейяр. Тоже явная шутка, так как фр. «paillard» означает «распутник».
(обратно)44
Шарль Гарнье (1825–1898) — французский архитектор, автор помпезных и эклектических по стилю построек, в том числе здания Гранд-Опера в Париже.
(обратно)45
Беньямино Джильи (1890–1957) — итальянский певец, представитель искусства бельканто. Исполнял партии драматического и лирического тенора.
(обратно)46
Исидор Пиль (1813–1875) — французский художник, академик. Автор лестницы и росписи плафона парижской Гранд-Опера.
(обратно)47
Хокку — классическое японское трехстишие.
(обратно)48
Музей Карнавале — музей истории Парижа с середины XVI в. по настоящее время.
(обратно)49
Баран; подвесной молот (фр.).
(обратно)50
Французский сатирический журнал. «Канар эншен» — букв. «Утка на цепи», или «Цепная утка» (фр.).
(обратно)51
Большой Шарль — прозвище Шарля де Голля (фр.).
(обратно)52
Да здравствует Франция! (фр.)
(обратно)53
Дерьмо! (фр.)
(обратно)54
Точные слова (лат.).
(обратно)55
Луи Журдан (р. 1919 г.) — французский актер, в кино с 1939 г. Много снимался в Голливуде (в фильмах «Осьминожка», «Большое ограбление» и т. д.).
(обратно)56
Клаус Барбье — нацистский военный преступник, был шефом гестапо в Лионе; занимался, в частности, депортацией евреев из Франции в лагеря уничтожения.
(обратно)57
Аушвиц — принятое на Западе немецкое название концлагеря Освенцим.
(обратно)58
Французская сыскная полиция.
(обратно)59
Упомянутые награды, как и многое другое в данной главе, — плод фантазии автора.
(обратно)60
Бремерхафен — аванпорт Бремена в устье реки Везер.
(обратно)61
Штази — управление государственной безопасности, политическая полиция Германской Демократической Республики.
(обратно)62
Бригада Дирлевангера — соединение в войсках СС, формировавшееся в основном из уголовников и заключенных концлагерей.
(обратно)63
Рене Плевен — премьер-министр Франции в 1950–1952 гг.
(обратно)64
Полицейские (фр. жаргон).
(обратно)65
Ёсано Акико (1878–1942) — японская поэтесса.
(обратно)66
«Посторонним вход воспрещен» (фр.).
(обратно)67
Клуб «Ротари» — международный клуб, объединяющий бизнесменов и людей интеллектуального труда в целях службы обществу и на благо всеобщего мира.
(обратно)68
В Великобритании калибр оружия обозначается в тысячных долях дюйма. 455-й калибр (0,455) соответствует 11,55 мм.
(обратно)69
Мияги Митио (1894–1956) — японский композитор, представитель направления «новая традиционная музыка», автор многих композиций для кото.
(обратно)70
Здесь: на танцплощадке (фр.).
(обратно)71
Дерьмовая голова (нем.).
(обратно)72
Федерико Гарсиа Лорка (1898–1936) — испанский поэт и драматург. Расстрелян фашистами во время гражданской войны в Испании.
(обратно)73
Архитектурный стиль, одно из направлений конструктивизма.
(обратно)74
Гамен (фр. жарг. gamin) — уличный мальчишка, безотцовщина, шпана.
(обратно)75
Лоуренс Уэлк (1903–1992) — американский музыкант, импресарио, руководитель оркестра и шоумен.
(обратно)76
Коул Портер (1891–1964) — американский композитор. Ниже приводятся слова из его песни к кинофильму «Ночь и день».
(обратно)77
Энтони Куинн (1915–2001) — американский актер, дважды лауреат премии «Оскар». Известен также своими живописными и скульптурными работами в стиле импрессионизма.
(обратно)78
Черт побери! (нем.)
(обратно)79
Торговец рыбой (фр.).
(обратно)80
«Сладкое мясо» — мясо зобной и поджелудочной желез.
(обратно)81
Анри-Филипп Петэн (1856–1951) — маршал Франции. В 1940–1944 гг. во время немецкой оккупации Франции возглавлял правительство Виши. В 1945 г. был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.
(обратно)82
«Мысли», сочинение Блеза Паскаля (1623–1662), французского физика и математика, оказавшего большое влияние на развитие иррационалистической философии и на формирование французской классической прозы.
(обратно)83
Дверь из двух створок, нижней и верхней, которые можно открывать по отдельности.
(обратно)84
Князя.
(обратно)85
Центральный рынок в Париже.
(обратно)86
Симона Синьоре (1921–1985) — французская киноактриса.
(обратно)87
Жесткой чисткой (фр.).
(обратно)



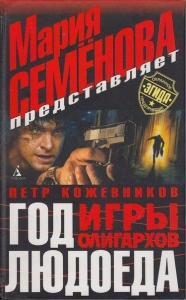

Комментарии к книге «Восхождение Ганнибала», Томас Харрис
Всего 0 комментариев