Владимир Демичев Хранитель детских и собачьих душ
Хранитель детских и собачьих душ
И синими сумерками, и розовой зарей ходит-бродит пустырями Хранитель детских и собачьих душ. Одет в стеганое, как одеяло из многоцветных лоскутов, распахнутое пальто и охотничьи сапоги выше колен. На голове – круглая, по брови, шапка с блестящим кокетливо козырьком, уши шерстяные ниже плеч свисают – если случится мороз, их можно обернуть вокруг шеи, заменяя шарф.
Но Хранителю не бывает холодно даже в самый лютый мороз и не бывает жарко в летний зной. Его пальто, как и шапка, – одна видимость, он сродни туману, ветру и дождю, Хранитель, и его рассеянная улыбка дрожит, как отблеск на воде.
За спиной он носит мешок, мешок шевелится, как живой. Кто одет в распахнутые одежды, тот дружен с ветром. Ему нет нужды ловить души малышей – ветер приносит их на крыльях, и Хранителю остается только приоткрыть свой мешок.
Почему он любит бродить на пустырях и заросших дикой травой свалках? А куда же еще летят души умерших детей, как не в те места, где им было радостней всего играть, когда они были живы? А куда же еще бегут гибкие, звонкие, как тонкие льдинки, собачьи души, как не туда, где им никто не станет мешать?
У Хранителя очень ответственная миссия – ему доверено присматривать за самыми беззащитными, робкими. Перед дальней дорогой, куда в конце концов отправляются все, ему поручено успокоить, убаюкать в своем мешке тех, кто слишком мал, чтобы как-то ориентироваться в этом мире, предназначенном для сильных и бессердечных.
Хранитель пребывает всегда и везде: и на пустошах Гваделупы, где шакалы провожают восторженным тявканьем катящуюся консервную жестянку, поднимающую на своем пути песчаные облачка, и на ледяных кручах Гренландии, где люди закутаны так, что видны лишь глаза, и в лондонских предместьях, где снулая трава не колышется и сверчки простужены от вечного дождя, и на островах, так далеко забежавших в океан, что пальмовые листья, волосы женщин и роговые отростки жучков, судорожно цепляющихся за древесную кору, чтобы их не унесло в воду, имеют одинаково забавный, всклокоченный вид.
Едва живое становится мертвым, оно попадает в странный, непривычный мир, где цвета блеклы, словно их старательно стирали ластиком, уши заполняет тишина, что звучит громче самого оглушительного рева, и дуют пронзительные ветра – насквозь продувают коридор между землей и небом, – невозможно удержаться, души летят, отчаянно блестя испуганными глазами, летят листья, снежинки, частички пепла, летит паутина и конфетти, летит все тусклое и блестящее, все, все уносит ветер.
Трудная задача – поймать невесомые, почти невидимые души тех, в ком ни греха, ни вины, но Хранитель отлично справляется. В мешке не душно, там, внутри, тихо, но это мелодичная тишина, и струится зеленоватый свет, как если бы лежать на дне и смотреть сквозь толщу воды на солнце.
При таком свете невозможно ни ссориться, ни бояться, ни волноваться понапрасну. Напев, древний, как солнечный свет, качает на волнах, баюкает, и души хвостатых и бесхвостых выйдут отсюда повзрослевшими, будто ласка мирового океана сделала их мудрее, выносливее, и потом, двигаясь среди потока прочих душ, взрослых и недовольных, они будут держаться с достоинством, порожденным безмятежностью и терпеливым ожиданием новой ласки.
Декабрь выдался бесснежным и пронизывающим до костей, под утро выпадало немного пудры, но поземка тотчас размазывала ее по очерствевшему, насупленному асфальту. Собаки, обегая перед рассветом мусорные баки, старались касаться земли одними когтями, потому что подушечки лап становились грузом, – леденящие шипы росли вверх, вонзаясь в кости, выворачивая суставы, заставляя зубы колотиться друг о друга, и глаза слезились, и нос становился как бумага.
Зимой и людям-то нечего жрать, бомжи отгоняли четвероногих бродяжек пинками. Собаки уходили неохотно, ведь там, в железных баках, громыхающих ужасно, вся жизнь – пища, а значит, тепло. Летом собаки более пугливы, зимой призрак голода стоит за плечами постоянно, и собаки с угрюмой настойчивостью возвращаются к мусорным бакам, где их ждут побои, возвращаются, готовые снести любые обиды ради черствой хлебной корки.
Вагончик-бытовку, длинный, без колес, в незапамятные времена бросили возле запасного подвального входа в общежитие. В вагончике люди, заведующие ключами, хранили обломки мебели, ветхие тряпки, снятые со стендов метровые плакаты и подобную ерунду. Позже общежитие сузилось до тридцати комнат, и оставшиеся помещения расхватали дельцы, многочисленные ОАО и ЗАО, те, кто ничем конкретным, кроме верчения денег, не заняты.
Здесь были Совет ветеранов и Бюро по трудоустройству, и ремонтная фирма с женским именем, и турфирма, и пункт продажи биологических добавок. Потом сюда въехал Институт торговых отношений. Каждый день, кроме воскресенья, сюда приходили одинаково дорого и безвкусно одетые девочки и мальчики, громко разговаривали, разбрасывали окурки, скрывались в недрах обветшавшего здания, а часов через пять-шесть уходили, чтобы вернуться на следующее утро.
Под вагоном-бытовкой было много места, сюда гонимые ветром и голодом, прибились собаки. Среди них были:
1) Тощая, как Смерть, Найда с тремя щенками. Когда-то ее сбила машина, и задняя лапа была изувечена. Она боялась людей до дрожи и не давалась в руки. Ее шея, тонкая и длинная, как у жирафки, придавала меланхоличной морде выражение еще большей невесомости, оторванности от жизни, словно собака прислушивалась к потустороннему зову, готовая вот-вот взлететь. Самых некрасивых, нескладных и несчастных всегда называют Найда, будто это гриб или брошенная на дороге варежка, которую увидели случайно, небрежно подобрали. У Найды трое щенков – коротколапый, с белой звездой во лбу и трусишка.
2) Маленькая, черная как смоль, с седой бородкой, злая сука, которую подкармливали женщины из столовой и звали Маней.
3) Пират, жутковатая помесь с бассет-хаундом, пес с торчмя торчащей щетиной, едва не волочащимся по земле брюхом и энергичным, пружинистым хвостом. Блестящая вакса в его окрасе соседствовала с невероятными оранжевыми пятнами, будто он влез в краску. Пират без зазрения совести обворовывал Найду, таская у нее из пасти куски пищи, однако иногда на него накатывали приступы великодушия, и он приносил долговязой дурочке кости.
4) Безродный Барбос, огромный и настолько худой, что казался тенью, картинкой, нарисованной на стене углем. Он приходил под вагончик редко, когда уже не было сил терпеть холод, и ложился отдельно от всех, сбившихся в кучу, собак. Он был брюзга, но не наглец, и коротышка Пират позволял себе осыпать его бранью.
5) Кокос – большеголовое существо со скептическим взглядом. Он провел свое детство на стройке, всем известно, какие поэтические натуры встречаются среди строителей. Пес был упрям, целеустремлен, обладал хорошим аппетитом и длинным хвостом, чрезвычайно развитым в процессе постоянного виляния. Кокос не столько льстил людям, сколько требовал пищи, он твердо верил, что виляющий хвост – податель кормежки, и ничто не могло разубедить его, пока не наступил сезон холодов и людская совесть сразу куда-то подевалась, очевидно замерзла.
Кокос насмехался над уродцем Пиратом, оказывал покровительство Найде, выглядевшей в его глазах мечтательной простушкой – материнство ничуть ее не отрезвило, и, даже вылизывая щенков, Найда рассеянно думала о своем, – и ухарски приставал к злюке Мане. Маня огрызалась с видом кухарки, которую ущипнули в сенях, но стоило Кокосу прекратить ухаживания, набрасывалась на него с еще большей злобой, обиженная отсутствием внимания.
Собаки жили дружно, на людях демонстрировали глубокое безразличие друг к другу, но держались вместе и как-никак помогали. Если щенки, расшалившись, разбегались в разные стороны, а Найда, мечтая с открытой пастью, никак не реагировала на это безобразие, ворчливая Маня и Пират собирали озорников, подталкивая носами. Кокос распределял скудную пищу, стараясь, чтобы самые жирные куски получала Найда, до сих пор ухитрявшаяся кормить щенков молоком из высохшей, тряпичной груди. Маня приглядывала за порядком и добровольно взяла на себя роль сторожа: лежала ближе всех к входу и рычала, заслышав шаги. Кокос с Пиратом, так сказать, совершали сношения с внешним миром, они убегали далеко от вагончика, перебегали через кишащую машинами дорогу, бродили по рынку, сверля молящими глазами торговок мясом, обходили дозором окрестные свалки или садились рядышком и хором высмеивали домашних собак, пристегнутых к людям длинными веревками.
Безродный Барбос приходил, как сказано выше, редко и был безучастен к собачьему общежитию – разве что рассеянно оближет хнычущего щенка или подвинется, загородив длинным телом Маню от ветра. На него собаки смотрели как на пустое место, но тем не менее, когда он долго не приходил, беспокоились, вглядываясь в темноту, вслушиваясь в свист ветра.
Холода держались третью неделю и не желали спадать, пару раз подтаивал ледок на лужах, но к ночи намерзало еще сильнее, высунутый из-под вагона собачий нос тут же покрывался инеем.
Замдиректора Института торговых отношений по хозяйственным вопросам, человек с расплющенным лбом и водянистыми, цвета размытой известки, глазами, ненавидел свою работу. Он терпеть не мог тех, с кем так или иначе сталкивался в течение дня, будь то начальство, подчиненные или студенты. Каждый шаг, ведущий к конкретному действию, вызывал у него почти физическую боль сродни зубной.
Ему бы работать проявителем фотопленки где-то в подвалах, в одиночестве, среди тусклого красного света, либо тихо пылиться засохшим листком в бумажных гималаях.
Вот и сейчас, постукивая ложкой по стакану, он терпеливо ждал, пока свежезаваренный чай остынет, то есть дойдет до нужной температуры: не любил ни слишком горячий, ни холодный чай.
Он не думал о чем-то определенном, однако губы его шевелились – пожалуй, на его целлулоидном лице только губы были способны выражать эмоции.
Вошла уборщица, такая же линялая, как и он, женщина в неопределенном платье, бывшем ни серым, ни зеленым.
– Ты слышишь, Андрей, эта сволочь на меня накинулась, – сказала она со злобой в голосе, но без резких жестов.
Замдиректора шумно выпустил воздух из ноздрей, возвращаясь в мир забот, – гиппопотам, всплывший на поверхность.
Уборщица убедилась, что ее слышат, но не слушают. Она не стала повышать голос, подошла к столу, уверенно выхватила чайную ложку из костлявых желтых пальцев и положила на верхнюю полку железного шкафа, оставшегося еще от химлаборатории, занимавшей это здание в довоенные годы. Захлопнула с лязгом дверцу. Теперь приземистому замдиректора, чтобы вызволить из плена ложку, придется вставать на табурет.
Он вынужден был слушать.
– Развелись шавки под бытовкой, – сказала уборщица. – И прикармливают еще всякие. А они лают, на детей скоро кидаться начнут.
– Шваброй их, – меланхолично предложил замдиректора, расползаясь губами в разные стороны. Как разваренные в кипятке пельмени, губы колыхались и подрагивали, передавая, как могли, волнение хозяина.
– Умный какой, – отрезала уборщица и будто невзначай потянула руку к столу. Замдир качнулся на стуле и прикрыл птичьей лапой чашку, чай брызнул, потек бурой струйкой между пальцами, средним и безымянным.
– Вот комиссия придет санитарная. Они любят в начале года наезжать. Схватишь, Андрюша, по самые эти самые.
Замдир дрогнул кадыком и почервячил губами.
– Надо гнать, – сказал полуутвердительно, глядя не в глаза линялой бабе, но на ее хищные руки. Руки-коршуны прикинулись цыплятами и теребили передник – не зеленый, не серый, как и платье.
– Займись, и не откладывая. Если укусит кого-то, пойдешь сам объясняться. Я тебе свое мнение донесла.
И прежде чем закрылась дверь за не серым – не зеленым, уколола:
– Ты за дрова еще не отчистился.
Хлоп.
Одиночество испоганено. Отодвинув на середину стола ставший ненужным чай, замдир закусал свои беспокойные губы, пережевывая всю глубину угрозы.
Да, действительно, дрова. Неприятная летняя история. Спилили несколько деревьев по согласованию с Зеленстроем и должны были вывезти на машине. Вывезти-то вывезли, но КамАЗ ушел заполненным едва ли на треть, остальное он выгодно загнал владельцу кафе «Маришка», для шашлыков.
Начальство узнало и устроило драло.
Замдир достал из шкафа толстую бумажную тетрадь формата А4 с надписью «Фонды» на клетчато-канареечной обложке и привычным жестом раскрыл ее на нужной странице. Склонившись над столбиком цифр, он подпер голову руками, чтобы настроить себя на деловую волну. Голова бугрилась между ладонями, как старый искалеченный мяч, и локти острились, угрожая прорвать плохонький пиджак, в котором замдир ходил в любое время года – демонстрируя, что он человек небогатый и простой.
Собаки, собаки…
– Собаки, – сказал он столбу цифр. Черные каракули, плывущие чернила. Но на редкость аккуратные запятые.
Затем он взял из шкафа калькулятор «Электроника 350», воткнул в розетку и долго стучал ногтем по пластмассовым квадратам.
Он нарочно затягивал время, он знал, что проблему нельзя разрешить так сразу, что проблема – как хвост, как пятно мазута, как… как… Только возьмись, и отовсюду к тебе потянутся жадные руки, и придется присматривать за всеми, и переделывать, и проверять, а может быть, и выполнять самому.
Замдир подставил табурет, достал умыкнутую ложечку с верхней полки шкафа и поместил ее в книгу «Фонды» на манер закладки. Потом он позвонил в службу ликвидации и договорился на послезавтра.
Потом считал на калькуляторе, проверяя и перечеркивая кой-какие цифры в тетради, отчего колонка словно зашаталась, стала неустойчивой.
И под конец замдир, которого студенты звали между собой Жиляга, спрятал свою чайную ложку, засунув ее в переплет «Фондов», а невыпитый чай выплеснул в фикус, чьи листья были белесы и склизки, как слезящиеся глаза извращенца.
Кормили собак люди разные и случайные: девушки из кафе, работающие недавно и еще не согнутые безразличием рутины; некоторые из тех, кто сам держит собак, причем беспородных (хозяева породистых собак обычно отчаянные снобы); иногда и студенты подбрасывали то ли печенье, то ли недоеденный пирожок, играя в великодушие. Люди всегда начинают строить руками нелепые фигуры и сюсюкать при виде щенков, умиляясь их шаткой походке и вислым брюшкам, но щенкам от такого внимания достаются лишь тисканья и пошлепывания. Печенье и конфеты они не едят.
Все эти огрызки людской щедрости резво подбирал Пират, затаскивал внутрь и прятал под рваной лоскутной тряпкой, чтобы вечером, засыпая, взять в пасть засохший, горький от плохого масла кусок и посасывать, как величайшее лакомство.
Собак нередко обвиняют в нечистоплотности, но это сущая клевета. Любой, у кого дома собака, знает, как тщательно, не хуже кошки, заботится она о своей шкуре. Лапы и область хвоста должны быть тщательно вылизаны, а если собака ненароком насорит на ковре, то сейчас же вылижет это место до блеска.
Уборщицы в институте имели не больше оснований для жалоб на собак, чем на студентов, разбрасывающих окурки и масляные обертки от пирожков, однако всегда злость выплескивается на самых безответных, ведь беспризорная псина не может послать обидчицу нах, как любой великовозрастный балбес.
В ночь с четверга на пятницу луна так сильно прибавила в объеме, что стала почти полной; Пират смотрел, и у него под языком клокотала слюна – так хотелось завыть. Но он понимал, что выглядел бы при этом глупо, да еще злюка Маня следила за ним цыганским косящим глазом, предвкушая, как бы еще выбранить своего горе-поклонника.
Мане тоже не спалось; легко, невесомо вздыхая, копошились возле нее щенки: белая звездочка во лбу изогнулась, вычесывая блох из холки, коротколапый вцепился в хвост трусишке и слегка жевал его – малыши имеют обыкновение засыпать с чем-нибудь в зубах, – а трусишка, давно привыкший к незавидной участи младшего брата, терпел, лишь изредка пища, когда коротколапый больно прикусывал. Безродный Барбос, спрятав между лап длинный, в шрамах и отметинах прошлых болезней, нос, вздрагивал от голодной икоты: бесполезные пузыри, выпрыгнув на поверхность желудочного сока, лопались так мощно, что эта волна шла наверх и била в пасть, Барбоса не то чтобы подташнивало – его знобило от слабости.
Кокос, пользуясь отсутствием ветра, гулял вокруг бытовки, делал вид, что высматривает в потемках кошек, а может быть, и правда что-то видел – вздыбливал загривок, рокотал, как детский мотороллер, убегал, пропадая во тьме, но сейчас же возвращался, иногда притаскивая в зубах какую-то ерунду с мусорки, абсолютно несъедобную. Он трепал зубами эту тряпку, деревяшку или кусок пенопласта, наступал на него лапой, проникаясь чувством формы и запахом, и в конце концов отбрасывал прочь – старая игрушка, надоела! – чтобы тут же бежать за новой. Кокос гордился своим здоровьем, оно бодрило его, как холодный душ – спортсмена, как бенгальский огонь – ребенка, и лишь одно обстоятельство было досадным в его глазах – что щенки спят, и некого потормошить, не с кем развлечься. И ладно, говорил Кокос, я и сам могу, глядите, какой я душка!
«Лет пять назад я был таким же, – уныло думал Безродный Барбос, – ничего, братец, придет и твоя старость».
Маня тихо подбиралась к меланхоличному Пирату, раздумывая, не цапнуть ли его в шутку за голень.
А жирафка-тростиночка, бестолковая и исполненная флегмы, сладко спала, свернувшись так, что не видно было ни головы, ни хвоста. Ей снились целые клубки забавных розовых зверьков, голых, суетливых, пахнувших так, что у нее щекотало в носу. Она схватила одного из них, раскусила пополам, и на языке появился вкус сахара. «Фу! – думала собака, морща нос во сне. – Какие бесполезные звери, шумные и невкусные». Тут ей вдруг показалось, что среди этих розовых она потеряла собственных щенков и может случайно их перекусить. От жалости она задрыгала задними лапами и толкнула в бок Безродного Барбоса, который вежливо отодвинулся.
А где-то в темноте, среди невидимых кошек и снега, которого еще не было, но который вот-вот должен был начаться, бродил не знающий покоя Хранитель. Он тоже поглядывал временами на луну и чувствовал то же, что и Пират, но вместо воя ему хотелось протянуть руку и стереть с поверхности луны черные пятна, а нельзя было: эти пятна – чья-то собственность. Иногда он встряхивал мешок и глубоко внутри, где летали маленькие мягкие полые тельца, раздавался звон, и словно проходила легкая щекотка, и так хорошо и привольно чувствовалось маленьким душам, будто их погладила мамина рука или облизал заботливый язычок.
Хранитель был готов распахнуть свой мешок в любое мгновение: хоть и без ветра, но стоял мороз, коварный, вкрадчивый убийца, и заснувшие могли больше не проснуться никогда – ни в эту ночь, ни утром.
Он поглядел на вагон-бытовку и насчитал: один, два… восемь.
«Не сегодня, – сказал себе Хранитель, – а может быть, завтра или на той неделе, ведь зима будет долгой и нелегкой».
В потоках лунного света и невесомых снежных бус он был похож на большую неловкую птицу, притворившуюся человеком.
В пятницу в институте был выходной по случаю Дня Района – нововведенного праздника, отражающего полет фантазии градоначальника.
С утра хорошенько присыпало снежком – не тем, мелким и колючим, а обильным, мягким, снежинки сцеплялись по нескольку штук, словно парашютисты в показательном выступлении. Щенки визжали и хрюкали от восторга, как маленькие поросята, Маня брезгливо отряхивала лапы, совсем как кошка, а жирафка-мать сидела посреди дороги, глядя то на занесенные белым гаражи, то на суетящихся возле них людей, пыхтящих паром изо рта, то на саму дорогу, где только что были ее следы, а теперь нет, – и удивлялась.
Через час пришли с кормежкой две кумушки, что особенного принесли? – миска с накрошенным, размоченным в бульоне хлебом и белыми комками жира.
Собаки ели деликатно, нехотя: от жира болят животы. Кумушки разговорились о том, сем, и в частности, о приюте для собак – вот бы вывезти туда щенков, замерзнут ведь!
Одна из доброжелательниц была на пенсии, другая чего-то там вершила в горсовете.
– За мной заедет шофер, – сказала она подруге, – я на пять минут на работу, а оттуда и в приют можно!
Подъехала зеленая «Нива», шофер курил и сплевывал сквозь выщербленный зуб, пока тетки, кряхтя от честно нажитых килограммов, ловили кутят. Удалось поймать лишь коротколапого – звездочка во лбу была не в духе и забилась в привычное убежище, не откликалась ни на какие посулы. А трусишка всюду следовал за сестрой, копируя любой ее каприз, потому что она задирала его меньше, чем старший брат, и с ней было спокойнее.
– Подожди, сейчас выползут! – сказала тетка 1.
– Некогда ждать, вон меня человек ждет, опаздываю! – сказала тетка 2 и сделала большие глаза, подчеркивая тем самым значимость своей работы для города и человечества в целом.
Тетка 1, как безработная, скисла и не стала настаивать. Коротколапый, оказавшись в узком пространстве, где резко пахло металлом и кожей, заплакал и описался.
Тетка 2 попрощалась, уместилась на переднем сидении, старательно подобрав колени и милостиво сказала шоферу: «Поехали, Коля!»
Коля последний раз цвиркнул на снег желтой слюной, постучал ботинком по переднему колесу, надвинул на уши кепку, бросил окурок, захлопнул дверь, повернул ключ зажигания и сказал: «Кхехм».
Все получилось так торопливо, по-ненастоящему, что жирафка даже не поняла сразу, что у нее забрали ребенка. Потом, когда заползла под бытовку, она облизывала оставшихся щенков и близоруко мигала: где же коротколапый? Через час явились Пират с Кокосом, Кокос притащил тонкую, обсосанную, почти прозрачную баранью лопатку и гордо предложил жирафке, но той было не до еды – она все ворочала носом сонных щенков, может, третий где-то здесь, спрятался?
Приплелся, пошатываясь, с инеем на бровях, Безродный Барбос. Он так закоченел, что пролез поближе к сородичам, и щенки, довольно урча, уткнулись в его впалый, холодный живот.
Снег падал, падал, со́баки уснули.
Во втором часу дня подъехал небольшой крытый фургон, из него вышли двое коренастых, в защитной форме, мужчин: короткие стрижки, толстые пальцы, ботинки на толстой, со скрипом, подошве.
Водитель фургона вышел с гаечным ключом и сказал: «Ну?»
Двое в болотно-пятнистых телогрейках расчехлили ружья. Водитель фургона подошел к бытовке, наклонился и заколотил по стальной арматуре, крича надтреснутым, сивушным голосом: «Э! Э!»
Зарычала Маня, черным клубком выскользнул Пират, и пуля вонзилась ему между лопаток. Завизжав по-щеньи, Пират упал на брюхо и пополз.
Безродный Барбос решил проскочить, как делал обычно, между стеной здания и бытовкой. Далеко он не убежал – пуля вошла в крестец, парализовав задние ноги. Барбос взвыл и закрутился на месте, волоча нижнюю часть туловища. Следующая пуля расплескала ему глаз и вышла из затылка – звук раскалываемого грецкого ореха.
Найда-жирафка могла бы пересидеть, забившись в угол, но отчаянный вой умирающего Пирата поднял шерсть на ее загривке и потащил к выходу – не было сил сопротивляться. Щенки, попискивая, выскочили за матерью. Один из болотно-пятнистых ватников быстро поднял винтовку и опустил с силой приклад, давя позвоночник вылезающей из-под вагона со́баке.
Другой ватник пристрелил звездочку во лбу, пуля оказалась слишком велика для такого маленького тельца, – щенок не плакал, а умер сразу.
Кокос, выскочив одновременно с щенками, но с той стороны, что до него – Безродный Барбос, сделал две безрассудные попытки противостоять творящемуся на его глазах хаосу. Он бросился на ватник, дробящий прикладом Найду, и схватил за сапог. Тут же он увидел трусишку, растерянно озиравшегося по сторонам, отпустил сапог и попытался затолкать малого обратно под вагончик.
Водитель машины в самом начале бойни отступил и стал позади своего фургона, голова торчала над колесом, как черная редька.
На Кокоса, озлясь, потратили четыре пули, – последняя поразила и трусишку, опрокинувшегося лапами кверху.
Только Пират до сих пор еще полз, медленно, упорно, толчками, и полоса крови за ним делала снег розовым, будто бросили длинную муслиновую ленту.
Мане удалось сбежать лишь чудом. За свою сволочную жизнь она уже дважды бывала в облавах и потому знала, как бежать и как скрываться. Конечно, она была отчетливо видна на снегу, но выскочив, она сразу метнулась к куче картонных ящиков из-под писчей бумаги и папок. Ко всему, ящики были прикрыты обрывками черной полиэтиленовой пленки, так что Маня, взметнув пленку, миновала проволочное ограждение – а там и мусорные баки рядом, и строй кооперативных гаражей.
Водитель крытого фургона, убедившись, что дело сделано, надел резиновые перчатки и постаскивал собачьи трупы к заднему борту машины. В углу кузова лежала тряпка, жирная, сажистая от мазута и рыжая от засохшей крови. На нее водитель положил собачьи трупы и ею же их прикрыл.
Затем фургон ехал по улицам города, и никто из людей, кому он попадался на глаза, не обращал на него никакого внимания – фургон был невелик, выкрашен зеленой краской и казался нелепой старой игрушкой среди потоков «тойот», джипов и «мерседесов». Даже если бы внутри этой неказистой машины лежали людские тела, никто бы не остановил на ней свой взгляд, – все верно, смерть скромна и не любит выделяться в толпе.
За городом, километрах в тридцати, на свалке, среди монбланов битого стекла и эверестов жеваной дождем бумаги, в яме, набитой осколками CD-дисков, со́бак вытряхнули из тряпки, как вытряхивают пыль, и оставили лежать вперемешку: лапы-животы. Но им и раньше приходилось так лежать, когда они прижимались друг к другу, спасаясь от холода, так что мертвые не испытывали никакого неудобства.
Завтра ватники вернутся, чтобы по инструкции засыпать органические останки слоем негашеной извести. Сегодня принадлежит снегу и воронам.
Замдир сидел на колченогом стуле в своем гараже, который он снимал за триста в месяц. «Таврия» на кирпичиках, прикрытая чехлом, спала летаргически, а меховая шапка на верстаке была похожа на потрепанного черного кота. Замдир любил свой гараж больше машины – здесь он мог укрыться от проблем, от жены, от всех тех, кто периодически злобно вторгался в его жизнь и заставлял что-то предпринимать, куда-то бежать, кому-то угрожать, а перед кем-то лебезить.
На потолке – две лампы, длинные, люминесцентные, одна над входом, другая в глубине. Над верстаком тоже была небольшая лампа, но она зажигалась не щелчком, а если потянуть за шнурок, – поэтому была любимой и благодаря абажуру струила свет розовый, винный.
Предыдущий владелец гаража оклеил стену над верстаком фотографиями обнаженных моделей «Плейбоя», и замдир из деликатности не стал их уничтожать, а завесил шторкой.
Из радиоприемника тихо шелестела приятная скрипичная пьеса, замдир, разомлевший от чая с ежевичным джемом, бутерброда с ветчиной и стопочки коньяка, покачивался на стуле, прищурив глазки и наслажденно сопя. Завтра рабочий день – мысль кислила язык и портила дремоту. Хотелось жить, хотелось жить именно здесь и сейчас, в этом сыроватом, но теплом, пыльном и глухом пространстве, и сытость в желудке, и коньяк хороший, и он даже согласен спать в машине, на сидении.
Жить!
Замдир включил любимую лампу, отодвинул шторку и расстегнул ширинку теплых, на ватине, брюк. Его избранницей последние несколько недель была загорелая блонди с высокой копной волос, уложенных башенкой, и игриво оттопыренной нижней губой. Замдир издал звук, похожий на урчание, и потискал своего младшего. Блонди глянцево усмехалась, потянувшись коленками к благодарному зрителю, но младший упрямился, не подавая признаков жизни.
Замдир расстроился. Неужели из-за одной рюмочки?! Он подумал: это старость. А потом: проклятая жизнь!
Шторка вновь была задернута, и свет погашен.
Замдир шел домой под завывания ветра и тяжелые, подобные барабанному бою, мысли о завтрашнем дне. Холод был не страшен ему благодаря ушанке и практичной одежде, снежинки разбивались о бастионы бровей, а морозу оставалось лишь пощипывать слегка за крылья носа.
Вдруг замдир услышал звон, громкий, жестоко от-чет-ли-вый, словно по железной полосе порывом ветра пронесло тысячи осколков стекла.
Звон, визг и скрежет.
Замдир обернулся, отыскивая во тьме, заметаемой снежной завесой, источник мучительного звука. Он слегка присел на ноги, испуганный, ошарашенный, – и толстые уши шапки не могли ничем ему помочь.
Этот страх, это черное, засасывающее, безумное видение обрушилось на него: в прожекторном столбе луны вращались огромные собачьи фигуры – и тонкошеяя Найда, и девочка с белым пятном на лбу, и непримиримый Кокос, и ощерившийся, с высунутым смертной натугой языком Пират, – они перебирали лапами, убегая прочь от земли, но не стремились сбежать, а снежинки летели насквозь, и вьюга бомбардировала лунный свет, но делала его еще прочнее, монолитом, навечно впаянным в пустырь, – и замдир вмиг потерял все, что имел или надеялся, —
а вьюга жирела, клубилась, —
и звон, и визг, и скрежет!
Рукой подать до шахматной скуки огней многоэтажек, но их тоже может стереть вьюга, а пустырь незыблем – спящий вулкан, каменное сердце – и в вышине, под лунным теневым бочком, невидим, презрительный и нежный страж – разорванный ветром на трепет и вой, но грозный и бдительный часовой – хранитель душ собачьих и ребячьих.
Вивисектор
Артанки – человекообразные психоневрологические паразиты; существа, обладающие необычайно высоким интеллектом и беспредельным любопытством. Представляют угрозу для человека. Владеют способностью, легко входя в контакт с будущей жертвой, доводить ее (человека – жертву) до помешательства. Лабораторные опыты свидетельствуют о том, что артанки (название предложено Смитом Ларри, ведущим проконсультом Всемирного института Ограничения Аномалий в 2111 г. на Лозанской международной конференции нейролингвистов) каким-то образом изменяют частотность и «концентрирацию» мозговых импульсов, полностью блокируя отдельные участки мозга. При этом их цель – поглощение некой неопределимой физическими методами «энергии», которая в дальнейшем, накапливаясь в организме артанка, приобретает вполне материальное воплощение. О годовом цикле артанка см. стр. 319. О попытках исследования «энергосуществ» см. стр. 397. О знаменитых охотниках на артанков см. стр. 403. О зафиксированных контактах с артанками (4 контакта) см. стр. 301. По всей видимости, эта раса с древнейших времен развивалась параллельно с человеческой, однако до последнего времени никаких сведений о следах этих существ в мировой истории выявить не удалось.
!!! Внимание!!! Будьте бдительны! Не выходите из дома/офиса/автомобиля без сенсоблокатора! Встреча с артанком может стоить вам жизни!
(Толковый словарь Вольного Гражданина под ред. А. А. Вонга, том 3, Лос-Пассос, 2206 г. изд.)…иже еси багрянородные, псоумцами разумяхо. Бо велми бестыжи и злокознены паче чловяко. Презорны еси и многомудры, губители неверных сердец. С ласкою много выспрашиват, а наутро душу изымат да исыдет аки тать.
(Неизвестная рукопись XVI века, Гордиев монастырь)Кап,
Кап,
Кап.
Монотонные удары о бетон. Посторонний приоткрыл тяжелые веки, брезгливо поморщился: вечно у людей какие-то проблемы, неполадки. Сырость, сквозняки, крысы, инфекции – порождение человеческой безалаберности, неаккуратности. Вкупе с хлипким, несовершенным эмоциональным аппаратом, подверженным постоянным встряскам любви, страха, тревоги, жалости и прочей шелухи.
Кто-то должен ответить за капающий кран, за нарушенный уют. Посторонний решительно поднялся и распахнул дверцу шкафа. В комнате было темно и холодно, даже студено. Посторонний неторопливо двигался, лавируя между угловатыми островками хлама – здесь были покореженные столы и стулья, сваленные дряхлыми горами, такого же вида тумбочки, ведра, остовы стенных шкафов и разрозненные ящики столов; на одном из островков возвышался здоровенный прохудившийся самовар, увенчанный для смеха бюстиком Ленина с облупленным носом.
Посторонний протянул руку к запертой двери – замок послушно клацнул и выпустил его в коридор. В коридоре тоже было темно – четвертый, последний этаж института не освещался по той причине, что здесь не было людей, а только складские помещения. В следующем году склад собирались перенести на первый этаж – так и удобнее, но руки пока не доходили.
Институт являлся тем ущербным монстром, что и многие институты в его положении: финансирования почти нет, большинство кабинетов вынужденно сдается под разные частные лавочки. Фактически, нетронутым оставался до сих пор только первый этаж и подвалы института, в которых помещались разрозненные осколки лабораторий. Наука упорно цеплялась за родные стены, вздыхая и всхлипывая, а остальные этажи были заняты фирмачами: ООО «Алевтина», ООО «Уют», ООО «Старт», ООО «Темп» и еще штук десять таких же скороспелок. Востроглазые толстые румяные мальчики в кричащих пиджачках насмешливо поглядывали на обшарпанных ученых мужей, слегка придавленных годами; от их взглядов хотелось втянуть голову в плечи, ученые еще больше сутулились, мрачнели. Горделивая когда-то алая вывеска над крыльцом, гласившая «Областной институт крови», еще напоминала о былом величии сего заведения, но стены ветшали, слезились сыростью, осыпались кусками штукатурки.
Вот такое помещение, сыроватое и мрачноватое, наполненное более предметами, чем людьми, и привлекло внимание Постороннего, когда он искал место для зимовки. Осенне-зимний сезон надлежало провести в максимальном комфорте, не беспокоясь о возможных досадных случайностях – метаболизм Постороннего претерпевал существенные изменения; день ото дня он становился все более мрачен, неуклюж и с трудом контролировал свои настроения, переменчивые сейчас, как у людей. За лето он неплохо потрудился – на его счету значились пятеро; теперь их надлежало переварить в покое и уюте.
Охота на людей требовала изящества и изобретательности; обработка добычи – времени, спокойствия, сосредоточенности. Людское «шань», подобно кипящему супу, бурлило, клокотало внутри; и нужна была мудрая осторожность, чтобы сохранить, не расплескав, то, что получил.
На третьем этаже горел свет; сонно елозил тряпкой одинокий уборщик. Посторонний подошел ближе и некоторое время стоял, рассматривая грустного человека, отрешенно толкавшего швабру вдоль коридора. В мозгу его шевелились мысли о жене, теперь уже бывшей жене, о разводе, об истеричном скандале с пеной у рта, о потухших глазах маленькой дочки. Посторонний пролистал его мысли и, пожав плечами, ушел.
На втором этаже, на лестничной площадке, стояли трое деловых ребят и курили. Посторонний не переносил дыма, был ужасно брезглив («Тьфу, сибарит облезлый», – частенько говаривал его учитель Богги Куролес), зато отличался неукротимым любопытством, совал нос во все дыры. Любопытство, конечно, неплохое качество, нередко полезное, но оно часто вступало в конфликт со строгой функциональностью его организма – неотъемлемой принадлежностью расы, к которой относился Посторонний, – расе интеллигентных крыс, паразитов-душегубов.
«Смотри, мальчишка, – поучал Куролес, – ты пребываешь в постоянном состоянии взвеси, доиграешься!», но Посторонний не очень-то жаловал старого ворчуна; признавая его несомненное умственное превосходство, считал себя более деятельным и восприимчивым к зыбким людским побуждениям. Компания деловых ребят мешала ему пройти, воняя дымом и преграждая дорогу. Конечно, они его не видели, он был прозрачен для их восприятия. Посторонний нырнул в их мысли – здесь царила та же вонь, туманные душные полотна с винегретом аляпово блестящих нагроможденных предметов и декораций: машин, фонтанов, обитых кожей кресел, россыпей золотых побрякушек; груды мехов, ростбифы с кокетливыми веточками петрушки, поросята, обнимающие ананасы, водопады пенящейся браги, голые женские окорочка, мелькающие в дебрях колосящейся во все стороны жратвы.
Посторонний сосредоточился на одном из беседующих. В сознании темноволосого парня с короткими пухлыми руками возникла явственная картинка – это было настоящее озарение, – будто его собеседник, рыжеватый крепыш, спер его деньги, выпотрошил бумажник прямо у него за спиной. Рыжеватый увидел совсем другое – его машину крепкими ударами крушит банда подростков. Третий паренек представил такое, что тихо охнул и стал даже меньше ростом – сослуживцы проделывают с его Анютой то, чего и вообразить-то нельзя!
Атмосфера растерянности и враждебности окутала их гуще дыма. Зыркнув друг на друга, обеспокоенные, разбежались – проверять бумажник, машину, звонить жене. Посторонний мог бы зайти в одну из контор и подразнить демона вероятностей, сидящего в компьютере. Но в данный момент его интересовал кран.
Второй этаж: половина контор пустует; в дальней комнате, имеющей несколько захламленный вид, спят молодые рабочие-строители. Один не спит, что-то меланхолично вырезает толстым лезвием ножа из древесного бруска, – похоже, рожицу. Здесь не стоило задерживаться.
Первый этаж. Каменные сырые стены, даже пауки с ревматизмом. Светильники тлеют, как болотные гнилушки, у стен – железные шкафы, шкафы, шкафы, набитые жалким мусором и стеклянной грязной мелочью – пробирками, мензурками, колбами. Но кран капал еще ниже, в подвале, где располагались лаборатории с не разворованным еще оборудованием, всяческие медицинские аппараты и виварий, в котором всегда дремали несчастные звери.
Ночной вахтер чуть посапывал, и Посторонний автоматически просмотрел его полусонные мысли; проникать в человеческие мысли было привычкой, инстинктивной настороженностью хищника; его зацепила фамилия вахтера – Беспланов. «Надо же, – думал Посторонний, – какое значение имеет фамилия, какую символическую, магическую власть приобретает она над человеком! У директора банка, скорее всего, была бы фамилия Чемоданов, или Злотник, или Хватило. А всяческие Бездомные, Хворые, Мушкины достаются беднякам, обделенышам». Для себя самого Посторонний выбрал простое прозвище – Флай; пару лет назад, когда гостил в Англии, ему импонировала ассоциация с назойливым насекомым, распространяющим заразу, настырным, пирующим повсеместно – и на столах королей, и на трупах. Он находил это забавным.
Дверь в ближайшую лабораторию была полуоткрыта, в глаза ему ударил такой неистовый свет, что Посторонний прищурился, зло оскалясь. Среди стеклянно-причудливой обстановки, на круглом табурете, предназначенном скорее, для чертей (у которых, как известно, задница отсутствует), чем для людей, горбился седой старикан в очках с внушительными линзами, с тонкими породистыми руками, довольно крепкий на вид.
«Этот может», – оценил Флай.
Он подошел к эмалированной раковине и закрыл кран, грозно цыкнув на каплю, вознамерившуюся было упасть, но шмыгнувшую испуганно в жерло водопроводной трубы. Дедуля ловко возился с чем-то мелким, лежащим на деревянной подставке. Не услышав больше стука капель, он оглянулся, но Флай уже отошел от раковины и теперь смотрел из-за его плеча.
На подставке лежала обычная белая лабораторная мышь – задние и передние лапки стянуты проволокой, концы закреплены на колышках подставки, похожей на услужливо изогнутую ладонь. Мышь пребывала в трансе неудержимого ужаса: Флай слышал барабанную дробь маленького сердечка, словно отчаянный стук в дверь, за которой никого нет. Старик с тихим удовлетворением разглядывал подопытный экземпляр; встал, подошел к шкафу, отомкнул дверцу и шуршал, роясь в темноте, пока не извлек два небольших темных предмета, оказавшихся при ближайшем рассмотрении диктофонами. Он достал из карманов своего белого халата две кассеты – одна была новенькая, еще в целлофане. Ловко поддел желтым ногтем, целлофан треснул и сполз. Старик зарядил оба диктофона. Диктофон с чистой кассетой нацепил на передний карман халата, второй диктофон положил рядом с мышью. Подошел к двери и плотно закрыл ее, вернулся к столу.
«Интервью, что ли, он собирается брать?» – заинтересовался Флай. Старик достал из белого ученического пенала длинную тонкую иглу, включил изогнутую настольную лампу, направив свет чуть в сторону от мыши; зачем он так поступил, Флай не понял – комната и так сияла, как огромный фосфоресцирующий рыбный хребет.
Привычно скользнув в чужие мысли, Флай оторопел, все волоски на нем встали дыбом: визг, лязг и скрежет, глухие, надрывные удары сотен молотов, сверла вгрызаются в металл, искры, гомон и гул – целая фабрика в голове у дедушки. Флаю неоднократно приходилось бывать в мозгах у сумасшедших, но там он наблюдал нечто ленивое, замедленное, как не до конца проявленная фотография. Здесь же – суровый грохот могучих машин – что это значит? Ни человека, ни тени, ни запаха человека – лишь сосредоточенно колотящийся металлический хлам. Такое он встречал впервые.
Старик как будто учуял, что его подслушивают, дрогнул плечами, повел осторожным ухом, спина напряглась.
Затем расслабился и продолжал свое занятие. Задумчиво покатав иглу между пальцами, включил карманный диктофон и заговорил ясным, неожиданно чистым, хорошо поставленным голосом:
«Занятие 45.
Объект испытания: белая мышь.
Пол: женский.
Возраст: полгода.
Орудие испытания: игла длиной 75 мм, диаметром 0,3 мм».
Выключил диктофон, положил на стол рядом с первым, но ближе к хвостатой пленнице. Нагнулся над мышью так низко, что она могла бы укусить его, имей возможность освободиться и встать на задние лапки. Переместил лампу таким образом, что свет слегка слепил мышь, но все же не бил ей в глаза; включил диктофон на запись.
Флай предвкушал развлечение, ноздри его затрепетали, адреналин вознесся по венам огненным фонтаном. Кончиком иглы старик слегка взъерошил волоски на животе мыши. Та слабо пискнула; старик улыбнулся. Игла скользнула к мышиному горлу, слегка прикоснулась и медленно, плавно пошла вниз. Экзекутор словно бы разделял мышь на две половинки, хотя игла чуть трогала маленькое тельце, не впиваясь. Это длилось с минуту – мышь ощущала холодный острый предмет, медленно ползущий по коже; все ее слабые силенки шли на то, чтобы унять бешеное дыхание. Она испытывала муку от невозможности освободиться, стряхнуть чуждый холод острия.
«Мышь явно чувствует себя некомфортно», – улыбнулся Флай. Но смех его угас при взгляде на лицо старика: впечатанная накрепко полуулыбка, отвратительная, как вонь грязных носков. Старик отнял иглу от тщедушного мышиного тельца, помедлил, затем быстрым и точным уколом вонзил иглу в живот. Мышь вскрикнула. Старик снова убрал иглу, выждал мгновение, затем проделал серию уколов – один, два, три. Мышь пискнула несколько раз, обреченно, тоскливо, как всхлипнул бы расстроенный ребенок. Научный работник помедлил еще, явно предоставляя зверьку возможность отдохнуть от внезапной боли и предчувствовать новую муку. Легким, небрежно-расчетливым движением всадил иголку в ухо жертвы, пригвоздив к деревянной подставке; появилась капелька крови. Мышь судорожно вздохнула в ожидании следующих терзаний.
Наклонившись к диктофону, старик произнес: «Начинаю запись испытуемого номер 44», и включил второй диктофон, из которого внезапно раздался отчаянный вскрик, идущий словно из глубины души истерзанного, замученного существа. Мышь на столе билась мелкой дрожью, лапы дергались и вытягивались, будто ее тянул в разные стороны невидимка. Мышь начала кричать. На фоне нечеловеческого визга, несущегося из динамика, ее голос короткими настойчивыми толчками безумия вбивал гвоздь в остекленевшее пространство лаборатории; казалось, что бюретки не выдержат такого темного надрыва и разлетятся на острые слезки.
Удовлетворенно кивая головой, как китайский болванчик, старик достал из ящика стола скальпель и зажигалку. Флай, нахмурившись, неслышно выскользнул из комнаты; он не мог пожаловаться на свои нервы, но присутствовать на экзекуции ему не хотелось: методичное превращение живого существа в фарш было ему скучно и казалось нерациональным, хотя… кто их разберет, умников чертовых.
Вернувшись в свою кладовку, Флай принял привычную позу смирения-пульсации, так что колени легли на плечи, а оттопыренные закостеневшие пальцы ног упирались в стену, желудок бесследно провалился. Любой, кому вздумалось бы заглянуть в кладовую, решил бы, что там лежит манекен либо дьявольски изувеченный, сломанный пополам труп. Но желаемая отрешенность не приходила. Плавал в каком-то тягостном междучувствии и думал: скверно. Как человек, открывший поутру глаза и увидевший на розовых чистых обоях отвратительную серебристую дорожку слизня. Настроение подпорчено, порядок разумной тишины смазан неряшливым мазком.
Вкус гадливости.
Часы, которых не существовало в реальности, но созданные Посторонним внутри, терпеливо делили сутки на одинаковые белые палочки-коконы, в каждом коконе сидел Флай и занимался своим особенным.
Флай ведет шахматную партию с черной тенью – король танцует фуэте и опрокидывает всадника со скорбным лицом.
Флай дрессирует хрустальных собак; собаки делают гоп! – и нежным звоном – лапами – о мраморный пол; хозяин доволен; самые непослушные разбиваются.
Флай по колено в шелковистой траве, ночь, ноги, тяжелые от усталости, нож в рукаве; впереди, во тьме, враг, испарения его трусливого пота застыли в воздухе, как туман.
Флай умер и лежит под зеленым глубоко в зеленом рядом с зеленым от плесени мертвецом. Руки вросли в мох, язык разложился, но не важно – им приятно беседовать без слов. Долгие, мятные, зеленые разговоры.
Солнце шаманит в бесчисленных каплях воды – большие и крохотные, они растут из земли, приникли к деревьям, висят в воздухе, набухают или тают, скользя тончайшими прозрачными полосками. Разноцветие распада. Улиточный рай. Люди ползут сонными мухами, глупо щурят глаза – не по душе им цветовой взрыв. Флай пьян ликованием: вдалеке, на белом портике, между колонн он видит свою будущую самку. Она рассеянна и нетороплива. Пожалуй, он успеет настичь ее и несколькими быстрыми рывками отсечь ей руки, выколоть глаза: гарантия, что он останется в живых после совокупления. Но если он останется жив, задумывается Флай, в чем тогда смысл? Ведь он не испытает самого главного: последней боли-наслаждения, высшего ТАХЭ. Круг не завершится, лицо будет потеряно. Ну хорошо, тогда он оторвет ей только одну руку с условием, чтобы она после убивала его медленно и тщательно.
Внутренние часы смолкли, белые палочки обратились в пыль.
Был день. Флай выбрался из укрытия и отправился на первый этаж. Встречным людям казалось, что солнце блеснуло в глазах или же неясные тени пританцовывают на стене; они не замечали, да и не могли заметить Постороннего. После нескольких неглубоких погружений в мысли сотрудников Флай отыскал регистрационный табель со списками фамилий.
Вчерашнего старика-садиста звали Пров Провыч Колодный. Профессор. Архивного вида седой гном выдал информацию, что он работает в институте более сорока лет. Живая история. Великий человек. Флай вспомнил его улыбку на бледном лице, словно взятую напрокат. Великий человек. Искусный палач.
Около часа он бродил по комнатам, развлекаясь тем, что ронял на людей различные предметы или заставлял их говорить друг дружке неприятные глупости. Зашел в комнату с компьютерами и своими издевками довел демона вероятностей до белого каления: мировая сеть с шумом схлопнулась, оставив обиженно черные экраны мониторов. Девочки с птичьими лицами заохали, забегали по коридорам, но компьютеры безмолвствовали.
Флай вернулся в кладовую и провел остаток дня, решая воображаемое уравнение с семью неизвестными. Первое неизвестное – человек с жесткими усиками и черной шляпой детектива – все озирался тоскливо, руки в брюки. Второе неизвестное – румяный толстяк в необъятной белой футболке – довольно похохатывал, подмигивая ему озорным глазом. Третье неизвестное оказалось расплывчатой темной фигурой с вкрадчивой женской повадкой. Остальные – один причудливее другого – напоминали не то старинных, полузабытых знакомцев, не то вычитанных из книг персонажей.
Вечер холодным колобком луны выкатился в ночь; Флай спустился в подвал навестить Великого Мышиного Ненавистника.
Лампы надрывно горели, воздух пах звериным страхом, Пров Провыч по-птичьи умостился на высоком табурете, протирал очки. К деревянной плашке был примотан продолговатый длинношерстный зверь, длинные зубы беспомощно щерились.
Флай прислонился к столу и попытался снова проникнуть в мысли старика, но отпрянул из-за грохочущего безумия шестеренок и гула прочей мозговой машинерии. На сей раз Флай досмотрел до конца. Он сидел в двух метрах от Пров Провыча, но брызги крови долетали даже сюда. Мучения зверька («Как же он называется, – вспоминал Флай, – хорек? куница?») выпластались в один бесконечно долгий вопль; казалось, он кричал и после того, как легкие были разрезаны на кусочки.
«Это уникум, – думал Посторонний, – Пров Провыч Колодный, человек Средневековья. Ни сомнений, ни малейших эмоций, словно остро заточенный инструмент. Интересно, кто выделяет деньги на такие опыты? Институт? Вряд ли. Скорее, некий таинственный покровитель. Для чего все это: записи, пытки? Неужели кто-то всерьез заинтересовался энергоинформационным потенциалом, накапливаемым в результате страданий? Проклятые люди. Мало им своего хлама, так еще и чужие привилегии подавай».
Флай чувствовал, что его грабят. В самом деле, если допустить на минуту, что эти жалкие опыты принесут конкретные плоды и людям удастся смоделировать алгоритм подчинения, то бишь искусственно создать психоневрологическую пиявку, каковой, по сути, и являлся Флай, в таком случае на рынке эмоций у него и его сородичей появятся серьезные конкуренты. Как ни крути, а артанков в мире не более 20 000, а людей гораздо больше. Как-то довелось Постороннему наблюдать охоту на волков: снайперы прицельно били с вертолетов, засевая снежную равнину кровавыми телами. Никому не захочется быть в числе обреченных. Флай представил себе бесконечные жестокие войны, раздел сфер влияния, бесчисленные напрасные смерти, оскалившийся, взъерошенный, неуютный мир будущего.
Какого чёрта? В течение долгих столетий совершенствовать свои тела, вырабатывать безупречные охотничьи кодексы, до блеска оттачивать межсезонные ритуалы; развиваться, эволюционировать. И все это отдать за здорово живешь? Уступить примитивным выскочкам, нарушить пищевую цепочку? Флай готов был тут же, на месте прикончить старика, но взял себя в руки. Убийство вызовет подозрение, ненужные вопросы, обыск. Поздняя осень, ему уже несподручно искать новое место зимовки. Необходимо все обдумать, просчитать варианты, а затем представить произошедшую смерть как несчастный случай. Пусть это будет, к примеру, сердечный приступ.
Он вернулся в кладовку и застыл в оцепенении, решая участь Колодного. Загвоздка, кроме всего прочего, состояла еще и в том, что Флай был наполнен до краев, эмотивно сыт. Пять несмешиваемых субстанций, опутанных надежной сетью нервных импульсов, ворочались внутри, занимая все доступное пространство. Приходилось тратить немало сил, чтобы удержать и – больше того – чтобы впитать, усвоить посмертные сгустки эмоций обреченных существ; ни одного свободного уголочка, никаких запасов. Пров Провыч выглядел довольно-таки крепким; чтобы справиться с ним, потребуются силы. Флай пришел в уныние от одной мысли, что придется расстаться с одной из жертв, освобождая силы для новой охоты. Честь запрещала оставлять врага в живых, жадность не позволяла упускать один из прежних трофеев.
Туман растекался по долине его сознания, клубистый, удушливый, отупляющий. Посторонний потерялся в тумане; чтобы вовсе не пропасть, сел, как ребенок, на сырой траве, обхватил руками колени. Голоса и шаги в молочно-белой тоске, холодные капельки сна: он чувствовал, что дошел до самых глубин себя, но дальше все терялось в густом дыму, Флай не желал разделить с Флаем свое истинное, алое, цельное, и седая тоска накатила со всех сторон.
Очнулся от яркого света, слишком твердого и назойливого, чтобы быть сном. В горле – шерстистый ком, мякиш темноты, запястья зудят, как будто ему обрубили кисти. Лампы режут глаза, пробует повернуть голову – виски сдавлены, закреплены холодом железа. Наверху, под потолком, сиял мертвой улыбкой проф. Колодный П. П.
– Доброе утро, голубчик. Как спалось?
«Он меня видит?! Что происходит? Неужели…»
– Не пытайтесь, золотце, освободиться, лежите уж смирно. Физиологически вы довольно-таки странный экземпляр, не скрою, я поражен. Но той дозы наркотика, что я вам вкатил, хватит, чтобы оглушить роту солдат. Если бы даже вам удалось встать, вам и шагу отсюда не сделать. А сердечко у вас могучее, да-с, я поражен. И весьма.
– Ч-ччто… <язык не ворочался абсолютно, проклятый свет ввинчивался в мозг, подобно буравчику, тело не ощущалось вовсе>.
– Что я собираюсь с вами делать? Ну как же, голубчик, как же! Вы послужите бесценным материалом для опытов. Обычный человек, рядовой, так сказать, индивидуум – одна статья, но вы, с вашей уникальнейшей нервной системой – совсем другое дело!
Старик исчез из поля зрения, послышался звон железа о железо. Флай еще раз попытался потянуться, но руки и ноги, видно, накрепко были прикручены к столу.
– К сожалению, – выскочил Пров Провыч, как петрушка из коробочки, – времени у нас не так много. Пять дней всего. А столько нужно сделать!
– Зав. Тра. («Сюда придут», – хотел выговорить.)
– Завтра суббота, дорогуша! Выходной. И воскресение – выходной. А следующие три дня лаборатория в бесплатном отпуске – спасибочки администрации! Ну-ну, лежите-лежите, отдыхайте. Вы понадобитесь мне целиком, с вашим незамутненным сознанием. Вот завтра действие наркотика кончится, там и займемся.
Флай закрыл глаза и настойчиво собирал свои ощущения, сбивал их в строй; было муторно.
– Да, голубчик! Не старайтесь вы так с вашей невидимостью. Плюньте – все равно уж попались, не морочьте мне голову. Я вас и на ощупь…
«Не сомневаюсь».
Колодный ушел, погасив свет. Он ходил неслышно, как домашний кот.
«Как он меня подловил? Не иначе обладает сенсорным чутьем, как и я. Почему я не заметил нападения? Был оглушен. Скорее всего, газом. Он говорил о наркотиках, значит, еще и уколы мне делал. Сколько же во мне сейчас плещется дряни?»
Посторонний хорошо понимал, что сутки без движения грозят застоем крови и развитием процесса омертвения тканей, но в нынешнем своем состоянии был бессилен что-либо предпринять. Можно укорять себя за беспечность, можно действовать. Флай принялся раскачиваться в надежде ослабить путы, но очень скоро понял, что занят самообманом – судя по всему, его сдерживали железные скобы, накрепко вделанные в твердую неподвижную основу.
Для того чтобы увеличить свою силу, Флай попробовал было избавиться от одного из пяти «шань», угнездившихся в его нутре. Осторожными ментальными движениями распутал жертву, освободил от паутины защитных импульсов и подтолкнул горячий, дряблый шар к выходу. Не тут-то было. Освободиться от полупереваренной энергии не удалось; необходимо было для начала встать или сесть, принять определенную позу; да и похоронить, скрыть после отторжения это псевдосущество тоже было негде.
Что за невезение! Флай не страшился боли: что боль – позор был нестерпим! Грузные, мешковатые, сонные мысли – последствия наркотика. Даже сосредоточиться как следует не удается. Флай решил ждать и действовать по обстоятельствам.
Острый оранжевый лист пламени с фиолетовой каемкой на конце: профессор Колодный включил горелку, демонстрируя ее Флаю.
– Сейчас вам будет больно, – заботливо предупредил он.
Пламя жадно лизнуло оголенную грудь Постороннего, рыжеватые волоски скрутились, вспыхнули и истаяли, пахнуло паленым, боль разъяренной осой впилась в нежную плоть.
– Не нужно терпеть. Кричите, – посоветовал профессор.
Флай подождал, пока волна боли накроет его целиком, растворит в себе. Затем волна неохотно отхлынула.
– Что вы делаете с этими кассетами? Кто ваш заказчик?
Пров Провыч добродушно рассмеялся, показав белоснежные крепкие зубы.
– Ну, к чему вопросы? Лежите смирно. Ваше дело маленькое.
– Вы ведь не на правительство работаете. Или мышиные крики в большой цене у садомазохистов?
– Нет, родной вы мой. И членом тайной секты флагеллянтов я тоже не состою.
Еще трижды Пров Провыч использовал горелку, помечая его тело багровыми полосами. Флай больше не мог терпеть и закричал: боли стало слишком много, часть просилась наружу. При этом отметил с некоторым удивлением: как странно, что, даже пребывая в геенне огненной, откуда-то берутся силы на крик.
– Интересно, – сказал профессор, делая пометки в блокноте.
– Теперь перейдем к иссечению тканей, – и взялся за скальпель.
Когда Флай открыл глаза, выныривая из засасывающей трясины небытия, Пров Провыч стоял рядом, заботливо протирая его виски чем-то сильнопахнущим.
– Что же вы так, голубчик, – укоризненно говорил Колодный, – у нас с вами еще долгие часы работы впереди, а вы этак расползлись, а?
Ненависти к нему Флай не испытывал, врагом не считал: просто существо, которое необходимо уничтожить. Нелегкая и неотложная задача.
– Скажите, Колодный, почему вы не пользуетесь видеокамерой? Что вам дает одна лишь звукозапись? А как же фиксирование давления, частоты ударов сердца, мозговых импульсов? Что, так плохо с оснащением?
– Увы, необходимое оборудование стоит дорого. Да не переживайте вы так, – все, что надо, я и так не пропущу.
– Поделитесь со мной, профессор. Я ведь не крыса: интересно все же, за что умираю.
Профессор блеснул очками и неожиданно взял в рот мизинец. Покусав его слегка, сдержанно отметил:
– Нет, любезный мой, вы – крыса. И весьма оригинальная крыса, смею сказать. Вы в своем роде феномен.
– В моем роде все такие.
– То-то и настораживает. В какой-то мере я вам, знаете, завидую, – отсутствие пищевода, идеальная приспособляемость к перепадам температур, поразительная гибкость костей. Ну, и невидимость к тому же, хотя это скорее психический фактор.
– Вы нашли меня по запаху?
– И это тоже, голубчик. У меня разнообразные способности. Но главным образом – по вашим тепловым следам.
Посторонний не видел в этом ничего особенного. Некогда он знал старика-пасечника, который, стоя босиком на асфальте, мог, допустим, распознать, что час назад здесь проходила кошка и куда она направилась потом.
– Вы надеетесь выгодно продать результаты опытов?
– Нет, ну что вы. За такое открытие меня могут просто нивелировать, себе дороже. Лучше использовать их для себя.
– Гиперболоид инженера Колодного?
– Ваша ирония понятна, молодой человек, но неуместна в данной ситуации. Изучив скрытые психологические механизмы возникновения ужаса, боли, отчаяния, я смогу контролировать любого индивида, не говоря уже о мелких тварях.
– Собрались устроить государственный переворот?
– Не глупите, юноша. Со временем отыщутся пути насильственного управления целыми регионами, а то и государствами.
– Вы профан, Пров Провыч, и ни черта не смыслите в перераспределении энергии. Где вы возьмете лейденскую банку для своих грязных манипуляций? Накопившийся заряд нужно куда-то девать.
– Милый вы мой, а вы-то мне на что? Я подозреваю, что вы-то и есть та самая «банка».
Посторонний внутренне поморщился: проницательный старикан, мать его!
– Зря вы так раздухарились, профессор. Я не собираюсь с вами сотрудничать. Если вы надеетесь с моей помощью найти других, таких же, как я, знайте, – едва они узнают о ваших планах, вы будете уничтожены.
– Артачитесь, юноша? До ваших сородичей мне дела нет – на первых порах и вас довольно. Вас я сумею склонить к сотрудничеству, не сомневайтесь. Это лишь вопрос времени. А родных ваших я нимало не опасаюсь. На этот счет имеются две теории.
Первая: вы – изгой, infant terrible. Вторая: все существа, подобные вам, ведут себя сходным образом – охотятся в одиночку, не сбиваясь в стаи. Посему нет причин тревожиться – вашего исчезновения никто не заметит, драгоценный мой.
Флай устало закрыл глаза и мысленно нарисовал барашка. Все аргументы были исчерпаны, старикан, твердый, как орех Кракатук, оказался хитрой шельмой.
– Вы уже закончили со мной на сегодня, профессор?
– Вижу, вы успели отдохнуть, юноша. Пожалуй, продолжим наши исследования.
– Последний вопрос. Вы не хотели бы посмотреть, каким образом я извлекаю и поглощаю чужую энергию? Готов предоставить вам такое удовольствие.
– Ах, что вы, что вы. Вовсе незачем так напрягаться. К тому же я сам хочу нащупать те пружинки, с помощью которых можно… м-м-м… руководить вами. Одолжения мне ни к чему.
– Смею вас уверить, Колодный, что процесс изымания чужой энергии и преобразование, «переваривание» ее, не говоря уж об обратном выделении, – дело долгое и сложное; это вам не за рукоятки дергать. Не боитесь, что игрушка сломается?
– Что ж, определенная доля риска имеет место. Но не будем отчаиваться, мой бесценный, не будем отчаиваться. Нужно надеяться только на лучшее.
Флай нашел в себе силы улыбнуться. Пров Провыч подобрал нечто острое и длинное, с несколькими загнутыми краями, и пытка продолжилась. Тряпичный зайка, бесполезно тараща глаза– пуговки, был смыт равнодушной волной и вновь завертелся в безбрежном и бездонном океане боли.
Взгляд словно пробивался сквозь песок. О, благословенная темнота! Флай услышал шаги на лестнице – идет, мучитель. Ничего, что бы не болело, не осталось. Вчера он даже охрип. Если бы удалось освободить руки! Но для этого надо хотя бы взглянуть на оковы, а как?
Резко зажегся свет, и песок в глазах стал осколками стекла.
– Доброе утро, голубчик. Отдохнули?
– У меня к вам разговор, Колодный.
– Слушаю.
– Вы не могли бы убавить свет или хотя бы изменить направление лучей?
– С какой стати?
– В осенне-зимний период яркий свет мне противопоказан. Он может вызвать аллергические процессы, что негативно скажется на моем иммунитете и пищеварительных способностях.
– Не улавливаю связи.
– Уверяю вас, она есть. От длительного излучения внутренние узы ослабнут, узы, при помощи которых я удерживаю пищу, или, по-вашему, энергопотенциалы.
– Разыгрываете меня?
– Вовсе нет. Если я не сумею удержать полупереваренные сущности, вам придется нелегко, профессор.
– Вчера вы не жаловались.
– Вчера это продолжалось недолго.
– Вы предлагаете мне работать в темноте?
– В полутьме, если быть точным.
– Исключено.
– Но по крайней мере ослабьте освещение.
– Что вы имеете в виду?
– У вас есть зеркала, чтобы отразить световой поток? Или же поверните меня боком к источнику света.
– Я не знаю, что вы задумали, милейший, но мне это вовсе не нравится. Хотите неприятностей? Не стоит испытывать мое терпение.
– Пеняйте на себя. Возможно, вам стоит продумать вариант: что вы будете делать с живой энергией, когда я ее выпущу. Эта субстанция может быть опаснее шаровой молнии.
Колодный подошел совсем близко, наклонился над его лицом, впился паучьими глазами, словно хотел выдавить, как помидор:
– А вы скользкий тип, оказывается. Блефуете?
– Рискните. Испытайте меня. Я ведь обездвижен.
– Ну, не знаю…
– Или вы считаете, что во тьме ко мне прибывают титанические силы?
– Черт вас побери с вашим ведьмовским метаболизмом. Я пойду вам навстречу, но предупреждаю: при первой же попытке побега жестоко накажу.
– Умоляю, ни слова о жестокости. У меня слабые нервы.
– Заткнись, выродок.
«Кто здесь выродок?» – изумился Флай, но промолчал. Колодный обошел вокруг операционного стола и, наклонившись, что-то переместил. Флай почувствовал, что его тело меняет положение, наклоняясь вбок под небольшим углом.
– Спасибо, профессор.
Вчерашние мучения повторились вновь с той лишь разницей, что теперь, пропадая в крапивных дебрях боли, Флай испытывал скрытое кошачье удовлетворение от сознания своей маленькой победы. Иногда в просветах кровавой пелены он удивлялся тому, сколько полос мяса можно откромсать от живого существа, не умертвив его при этом. Профессор перерезал ему сухожилия на ногах. Увы! – еще день, и он превратится в обездвиженный мешок, наполненный отчаянием.
Темнота, как верная собака, зализывала его раны. Пытаясь растормошить увядшие мышцы, потянулся всем телом, рванулся, как гусеница в коконе, и охнул от боли. Чертовски стыдно иметь человеческое тело.
Напрягаясь так упорно, что на лбу выступил пот, Флай исторг из себя один за другим три студенистых «шань», благо в наклоненном состоянии это не представляло проблемы. Шары-медузы, мрачно искрясь, взлетели вверх и закачались под потолком, наполнив воздух запахом раздраженного зверя, горячего металла.
– На минуту нельзя оставить вас – тут же начинаете безобразничать, – послышался голос в темноте. Профессор стоял где-то рядом, но голос его шел отовсюду, как у чревовещателя.
– И что будем делать с этой красотой? – поинтересовался он.
Взаимодействуя с воздухом, желеобразные шары чуть потрескивали, слабо мерцая водянистым зеленым светом.
– Неужто не знаете, Колодный? – насмешливо ответил Флай. – Возьмите их. Используйте. Не того ли вы добивались?
Теперь он понемногу восстанавливал утраченные силы и знал, где расположился враг – в глубине лаборатории, за массивным лабораторным столом, нашпигованным железом и стеклом: в качестве оружия можно использовать что угодно.
– Забавный фокус, – отметил старикан, и голос его прозвучал глухо и стремительно, как бросок кобры. – А теперь, юноша, спрячьте все это великолепие обратно.
Флай сильно подался всем телом – стальные капканы, сжимавшие его руки и лоб, искореженными лепестками разлетелись в стороны. Он повернулся к профессору. В лицо ему смотрело дуло пистолета.
– Я знал, что им придется воспользоваться рано или поздно, – огорченно, как показалось Постороннему, сказал Пров Провыч.
– Какой калибр? – поинтересовался Флай.
– С глушителем. Никто ничего не услышит, – продолжал свое Колодный. Его голос поднялся от вкрадчивого полушепота до почти полной силы, как идущий вверх по ступенькам человек.
– Первое животное, которое вы замордовали, – это была кошка, профессор?
– Птица. Сипуха обыкновенная. Великолепный образчик Tyto аlba.
Флай добрался до сердцевинки, – слизываешь белый крем, а внутри шоколадка! – сквозь механическую неумолимую монотонность фабрики, из-за вращающихся и грохочущих колес, молоточков блеснули темные птичьи глаза, светлые перья взъерошены, клюв полуоткрыт, аккуратные дырочки ноздрей пузырятся кровью. Птичьи глаза манили безумием, и Посторонний с наслаждением нырнул внутрь, каждой частицей своей алчущей сущности ощущая привычный ад, милое рабочее пространство. Ноги его по-прежнему были прикованы, но его самого уже не было в комнате, осталась лишь его глупая оболочка.
Тонкие детские пальцы мягко и упорно давили беспомощно-податливое птичье тельце; на бледно-серой, светлой грудке появилась трещина, словно приоткрылась дверная щель в другой мир, напряженный, горячечный, – поток черной крови хлынул, заливая легкий пух, беззащитный перед вязкой жижей, заливая детские пальцы, круглые розовые лунки ногтей. Пальцы, как жадные пиявки, проникли вглубь раны и с силой разомкнули, раскрыли птицу, как орех.
– Крак! – сломались кости, тельце заколотилось в судорогах; почти небрежным, хищным движением он впился двумя пальцами, нащупав ошалевший комочек сердца, и рванул к себе.
Глаза Колодного остановились, округлились, потухли, став точным подобием дула пистолета, который он все еще сжимал в руке.
Потянув за ниточку – погубишь весь клубок; Посторонний с привычным наслаждением углублялся в пульсирующее безумие своего врага. Врага ли? Нет, просто очередной жертвы.
Холод, визг коньков, – он несет домой пойманную кошку, стреноженную, перевязанную грубыми ремнями; несет, словно дыню, в авоське, прохожие оборачиваются, но у него ЕСТЬ ПРАВО причинять боль; если остановят, скажет, что к ветеринару. Кошачья пасть завязана чем-то липким: не время орать; отец уехал на выходные, доверяет – ты уже большой мальчик; отец – врач, в ящике стола у него отличный набор инструментов, блестящих, манящих штук; с их помощью можно вскрыть что угодно. Все анатомические атласы не в силах показать то, что выявит один надрез скальпеля, – если бы не кровь, липкая, отвратительная, – если бы все существа были устроены строго и точно, как часовой механизм, например, – разве не было бы лучше?
Мальчик замечает странную закономерность – когда у него в руках РАССЕКАТЕЛЬ, они кричат, предчувствуя боль. Но даже когда его нет, они все равно кричат и убегают при одном появлении мальчика: как они чуют свою грядущую смерть? Может, у боли (будущей, предполагаемой, но неизбежной) есть свой запах, как у крови? Собаки облаивают его издали, кошки норовят удрать. Добывать материал все труднее, но это не повод для прекращения опытов.
Флай видит юркую, убегающую змейку – червячок торопится скрыться в норе, – напрасно! Э, да это крик! Сконцентрированный безмозглый вопль маленького пушистого зверька, предсмертная дрожь, пропитанная страхом и отчаянной тоской; Флай с удовольствием комкает существо и швыряет в зияющий чернотой колодец. Живинка-мертвинка не тонет в этом омуте, извивается, электризует сонную воду. Колодный приоткрывает рот, но вместо крика – сип, оружие игрушкой вываливается из руки, клюет плитку пола.
Флай когтистым зверем ползет глубже, урчит от наслаждения – сколько вас, гремучих змеек! Взрывает рыхлый грунт, разбрасывая кровавые корешки, с прицельной, выработанной долгими занятиями меткостью отправляет их друг за другом, – действуя четко и быстро, как на конвейере, – в колодец вонючей душонки.
Профессор валится на пол, как куль с мукой, и дергается, царапая ногтями лицо, задыхаясь в тяжелом песке воспоминаний, который движется сквозь него мертвой пустыней, истирая до основания все его хваленые колесики-молоточки-валики, уничтожая годами налаженную систему мозговой обороны. Здесь и птицы, и белки, и кошки, и собаки, и ящерицы, и змеи, и лошади, и свиньи, и кого только нет! – даже два перепуганных смердящих человечка с позавчерашней кожей и гноящимися глазами <бомжи?>. Кровь, моча, обломки костей; монотонный визг работяги-пилы; и – крики, крики, крики! Большие и маленькие, отчаянные и усталые, наполненные хрипением и бульканьем кровавых пузырьков, клокотанием обрубка языка, вибрирующие в загнанной гортани.
Лавина криков наседает, затопляет все свободное пространство. Клубок тягостных ощущений, или отпечатков ощущений, исступленно дрожит, погребая под собой последние остатки рассудка. Плотина сломлена, и бешеная ярость бурлящей прорвы сметает все на своем пути.
Вертясь юлой среди всей этой свистопляски, Флай умудряется вязать узлы, закольцовывая мертвинки, вновь и вновь направляя их по проторенному пути. Только сейчас он ощутил голод. Как хочется есть! Но на то гноящееся месиво, что представляет собой безумный ученый, и глядеть противно. С сожалением выползает из лохмотьев извращенной души. Колодный упал на спину, мелко подергивается всем телом, на губах – пена. Сколько он сможет выдержать в таком состоянии? Час? Сутки? Несмотря на преклонный возраст, сердце его – здоровое сердце, привыкшее к физическим нагрузкам. Ни один час не будет для него отдыхом.
Флай сбрасывает защелки с ног и встает на пол; сразу падает на четвереньки: мышцы не функционируют. Часы над входной дверью показывают третий час ночи. Флай ползет на руках, упрямо сцепив зубы, и его боль хвостом тянется следом.
Студенистые шары, напрасные жертвы, несъедобные более, выдохшиеся, разрядившиеся, как батарейки, неслышно следуют за ним, подчиняясь ментальным путам. С большим удовольствием Флай возвратился бы в свое заветное убежище, но для начала следовало скрыть следы.
Вахтер храпит, как Илья Муромец; на улице – ветер, колючий снег впивается в кожу. Волоча непослушное, страдающее тело по сугробам, Посторонний стремится отползти как можно дальше, прочь от света уличных фонарей, возможных случайных встреч. Приподнявшись на локтях, согревает дыханием пальцы. Слегка передохнув, начал рыть землю; земля твердая, пружинит, как резина; очень холодно, снег проникает сквозь рубашку; обнаженные ноги – сплошь кровавые рваные лоскуты – замерзли так, что почти не чувствуются. Шары-медузы съежились, опали в холоде, напоминают сейчас студень, бесформенную рыхлую массу. Закончил похороны. Спокоен. Через несколько часов они превратятся в мелкий, похожий на песок, материал. Руки выпачканы в грязи до локтей.
Ползет обратно, настойчивыми толчками передвигая полуживое тело. Промок. Озяб. Вдруг в ладонь впилось что-то острое, – вскрикнул! Рука кровоточит, поднес к глазам – под снегом скрывался старый выцветший значок с расстегнутой заколкой. Несмотря на блеклые краски, серая нахохленная птица на значке – как живая.
Альпинисты покоряют Эверест, а Флай покорил три этажа ступенек, превратившие его ноги и живот в вопящий бифштекс. Никакая пуховая перина не могла быть для него такой желанной, как пыльная кладовка. Сон распахнул милосердные объятия, и тихая вода, качнув ряской, сомкнулась над его головой. Завтра он проснется и будет чертовски голоден.
Профессор Колодный бултыхался в расплавленном стекле. Стеклянными стали, застывая в прозрачной массе, его руки, ноги и туловище – растянулись на тысячи тонких нитей. Он отражал сам себя, и лицо его – зеркало – отражалось в гигантском, нависающем над головой витраже. Пров Провыч испытывал жесточайшие неудобства; теряя контроль над своим телом, он вглядывался в витраж, пытаясь поймать отражение собственных глаз, но глаз не было, на месте глаз металось, дрожало, расплывалось нечто неопределенное, тусклое, как пыльный вихрь. Остановить бы на минуту это терзание, сфотографировать – стоп-кадр! – сфокусировать, но нет, не удастся ему рассмотреть свое лицо. А лицо тоже не пребывало в покое: пошло рябью, скукожилось, лоб и щеки исчеркали невесть откуда взявшиеся лезвия, плоть пузырилась, обнажилась черепная кость. Он кричал, но горло не повиновалось, крик возник чуть ниже грудной клетки, пробив живот, высунулся, ощерился мордочкой хорька. Мельтешащие упругой толпой красные кровяные шарики смешались с алчным потоком предсмертных воплей; зеркала таяли, издевались, плевались иглами осколков. Не существовало такого мельчайшего осколка, который невозможно было бы разбить на еще более мелкие; Колодный дробился, делился, мельчал. И так – бесконечно.
Посторонний спал, и сны ему снились яркие, хмельные, одомашненные животным вожделением и мятной детской радостью. Завтра он проснется и отправится за новой добычей.
Вивисектор не проснется никогда.
Со́бак
Белые хлопья таяли, едва касаясь земли; было промозгло. Перрон словно вымер, лавочки похожи на изогнутые скелеты ископаемых зверюг. Поезд, видимо, не придет никогда, я сдохну в ожидании.
Черт меня дернул пуститься по кочкам да буеракам, по бездорожью и сонным лощинам российской глубинки! Засопленным оборванцем в грязной куртке. Но выбора-то у меня не было.
«Поезда скоро не жди, – сказал путевой обходчик, – сильные заносы».
Ну и заносы. Торчу в этой дыре почти сутки; на тебе – заносы! Вокзальная скамья привыкла к моей спине, досточки, истыканные сигаретами, с вырезанными ножом незатейливыми народными выражениями – как родные.
Деревенька – двадцать дворов, сплошь кулачье, фиг подступишься. И в карманах почти не звенит. Маршрут моих передвижений строго выверен: продуктовый магазин – лавка – туалет. Елки глядят хмуро, настроение – мрак. Вечно бухая Маня из продуктового имеет привычку покидать свой пост до срока; нужно поторопиться, не то останусь не жрамши. Последние бабки я растягивал, как мог, но аскет не аскет, а в желудке урчит. На все свои медяки я мог приобрести лишь полтора пирожка с мясом. Или пирожок и сигарету. Или пирожок и несколько коробок спичек. Хоть и не нужны мне спички.
Снег меж тем повалил стеной. Усталой, пришибленной поступью влачусь к заветному строению. Открыто, слава те…
Лицо продавщицы, опухшее не более, чем всегда, помято и маловыразительно. Подозрительные поросячьи глазки осмотрели меня с раздражением, а мои честные медяки – с откровенным презрением. Ей ли, мымре, презирать меня? Ей ли, свинообразнице местечковой? Ей ли, невыносимо антиженственной даме, закапавшей своими бесчисленными жировыми подбородками сомнительную белизну непрезентабельного халата, меня осуждать?
Да, я осунут, небрит, бледнолиц. Да, я одет весьма неприглядно. И все же… все же… Неужто ей не видна печать благородного страдания на скорбном моем челе? О плебейская душонка…
Я купил-таки пирожок, сигарету, коробок спичек и пакетик сухой вермишели, коей сердобольные китайцы повсеместно осчастливили российский народ. Пакетик устроился за пазухой. Спички и сигарету сунул в карман – курить не хотелось. Хотелось медленно и печально играть ноктюрн на старом пианино, а затем поглубже улечься в кресло, грея ноги у камина, огонь которого отбрасывает волнительные блики на хрустальный бокал с красным вином.
Пирожок, зажав, как пинцетом, двумя пальцами, я держал на почтительном расстоянии от органа обоняния. Пирожок напоминал своей масляной сухостью и несвежим запахом застарелый грех из разряда мелких пакостей, невзначай вспоминающихся на смертном одре, неприятно поражая исповедника своей незначительностью.
В здании вокзала отряхнулся, хотя брюки уже промокли – не тягаться забугорной джинсе с нашенскими зимами. Скорбно сел на лавку, попытался причесать мысли или расслабиться, то бишь – разогнать смурь и неуют хотя бы частично. Пирожок пах вызывающе, накатили голодные спазмы; я поместил его на краешке скамьи и отодвинулся на другой край. Для счастья не хватало слишком многого.
Кто бы мог подумать, что столь благоразумный юноша попадет в такую бяку? Хмельное задиристое настроение толкнуло меня в авантюру – сильные мира сего озлились на мою безыскусную прямоту и вознамерились жестоко наказать.
Проще говоря, моя возлюбленная оказалась также возлюбленной желчного, мелочного, неврастеничного душегуба, старческой, но железной рукой держащего сеть подпольных притонов. Жестокая девчонка вовремя предупредила меня по телефону и испарилась из моей жизни, пока я, смущенно оглядывая разгромленную квартиру, стоял истуканом посреди холла и слышал лишь «пи… пи… пи… пи…» в трубке.
На сборы не было времени. Выбегая из парадного с холщовым рюкзачком, я заметил черную машину, въезжающую в проем дворовой арки. Как и следовало ожидать, оттуда вышли четыре неулыбчивых тролля и направились в мой подъезд. Спрятавшись под лестницей, я переждал, затем дал деру.
Конечно, поезда – дело ненадежное, однако я езжу по малопопулярным веткам, пересаживаясь на разных станциях, пользуюсь добротой дальнобойщиков, а чаще всего полагаюсь на свои ноги. Все то, что некогда изучалось на географическом факультете, предстало ныне воочию.
Как же велика и многообразна ты, Родина!!!
Какое изобилие нетривиальных маршрутов, какие пленительные капризы и сюрпризы неизведанных местностей! Не предполагалось, что я так быстро одичаю и видоизменюсь. То, на что я раньше и не взглянул бы, ныне представлялось донельзя привлекательным. То, что я ел, то, где я спал, то, какими делами я занимался, стремясь к выживанию, – непередаваемо. Об этом не принято рассказывать в модном будуаре. Об этом можно только плакать. Простите за манерность, нервы, знаете…
Пока я жалел сам себя, рука потихоньку тянулась к пирожку – то требовал своего предательский желудок. Однако вместо сухого, жирного, возможно, все еще теплого продукта ладонь уткнулась во что-то мокрое и холодное. Возле лавочки, неслышно подкравшись, стоял со́бак. Беспородный, неприкаянный. Ростом чуть выше лавочки, похож на сеттера, но худышка и трогательно косолап. Светлая, но грязная шерсть с черным пятном на полморды. Пронзительно-детский взгляд карих глаз был мудр и невинен одновременно. Пол животного определению не поддавался – густая мокрая шерсть плотно облепила брюхо и лапы. Мама всегда жалела таких замухрышек и подкармливала, звала ласкательно: «Со́-о-обак… Фи-и-има…» А я тогда был мелкий и не читал ни Ильфа с Петровым, ничего не читал. И учился я в школе так себе…
Господи, осознал я, как же давно не общался я с нормальными людьми (мурло продавщицы не в счет), если даже собачьи глаза способны меня смутить.
Однако со́бак не тронул пирожок. Хотя в его глазах повис недвусмысленный вопрос.
Я, конечно, мог бы сказать: «Пш-ш-шла!» и топнуть ногой, но в таком разе лишился бы общества. Честно! – хочется присутствия кого-то рядом, чтобы сочувствовал и не грузил. Со́бак в данном случае пришелся кстати.
Случайный знакомый отвернулся и начал ожесточенно выкусывать из грязной лапы. Сиротинка, как и я. Чей? Ничей. Вышел из снежной пелены и вернется туда же.
Так вот: облезлые зеленые стены, кое-где с потеками, зарешеченное окошко кассы, лавочка и мы с со́баком.
Окончив туалет, он поднялся и последовал к двери. Зачарован снежнейшей пеленой, остановился, качнул хвостом наискось – рассеянный артистический жест, словно задумавшийся музыкант, уловив чутким ухом отрывок знакомой мелодии, проследил течение нот взмахом тонких пальцев. Я не хотел, чтобы он ушел.
– Кутя! – заискивающе сюсюкнул, – Кутя, на!
Со́бак задумчиво оглянулся через плечо, помедлив, вильнул хвостом из вежливости.
– Иди, на! – я протянул пирожок.
Не спеша, мелкими шагами, пошел – остановился, пошел – остановился, – гордость не позволяла показывать, как он голоден, – приблизился ко мне. Он не смотрел на руку – смотрел мне в глаза, силясь угадать, не сволочь ли, из тех пропивших последний стыд уродов, что подманивают животное, чтобы ударить или плюнуть. «Худо мне, брат», – сказали мои глаза. Со́бак распознал родственную душу, подступил ближе, деликатно, как умная лошадка, охватил зубами пирожок и отделил половину, словно ножом, чисто. Жевал в задумчивости, а не глотнул целиком, что также свидетельствовало о его необычной деликатности.
Хвостом – благодарю! – уселся на задние лапы, продолжая рассматривать снег. Недоеденный пирожок медленно каменел у меня на ладони. Не стал есть все, постыдился. Ну и со́бак! Уникум. Я доел пирожок, вытер руку о штанину. Грязнее она от того все равно не будет.
«Можно почесать вас за ухом?» – протянул руку.
«Да не стоит, пожалуй», – ответили взглядом. Со́бак рассматривал снег внимательно, словно Амундсен, прикидывающий путь для своей экспедиции. Снег все падал, падал; пелена обволакивала мягко, но требовательно – я вроде бы уснул. Лохматый приятель подошел и ткнулся носом.
«Чего тебе, малыш?»
«Пойдем, увидишь».
Забавная игра – вот я, взрослый человек (бомж на самом деле), иду выгуливать свою псюшу (ничью на самом деле). Метель прекратилась. Снег лег глубокий и основательный. Не больно-то хотелось бродить, проваливаясь по щиколотки, но все лучше, чем сидеть сиднем в одиночестве.
Со́бак двигался уверенно, изредка останавливаясь и поджидая меня. Фантазия, единственная верная подружка, рисовала занятные картинки, вроде: Иван-царевич и Серый Волк пробираются сквозь заколдованный лес к прекрасной королевне. Хотя псюш и не дотягивал до волка – коренастый, угловатый, весь какой-то крученый, не то осторожный, не то чересчур воспитанный.
Ни разу не остановился даже дерево пометить. Задумал что-то лохматый. Сосны застыли в торжественном сне, лапы в голубоватых муфтах. Смеркалось: небо – нахохленный голубь, страдающий несварением желудка; в смысле серые разводы в разваре молочной каши – перед употреблением рис рекомендуется промывать, господа китайцы! Фигово зимой. Сыро, хмуро, голодно. Съежилось все, округлилось, притихло, – а вот прыгнет, вот треснет разкогтенной лапой – жуть!
Подлое время.
Обувка моя промокла, и я злился – на себя в первую очередь. Со́бак периодически исчезал, возникал снова, кружился около, подбадривающе тыкался носом – «Не дрейфь, паря!», растворялся в туманящей снежности, терялся из виду… Я закурил – желудок, обманутый мизерной подачкой, обиженно замычал. А пожалуй, сам я отсюда не выберусь! Елки-палки, лес густой, бродит ежик холостой – все одинаковое, все чужое. Что ж, свернусь калачиком, лягу под кустом (тепло ли тебе, девица?), и – адью. Так жалко стало себя, хоть плачь. Со́бак вынырнул из ниоткуда, удивился – «Ты еще здесь? Ну, тогда поторопись!»
Блин, дурная пса! Блин, дурак я! Какого поперся?
И тут же увидел избушку. Точнее, избу. Бревенчатое строение об одном окошке, но без куриной ножки. Возликовал. «Милей мне домик сей неприхотливый, чем сто домов каких-то там Распони!» Возле дома – густые следы. Эге, еще и сарай рядом приткнулся! Теремок-теремок, кто в тереме живет? – Ни гугу. Дверь подалась с трудом – снежком привалило. Внутри на удивление уютно. Печь. Еще теплая. Лавка. Стол. На столе – казанок. Что в казанке?
Ах ты, Боже мой, прости, пёсынька, – вернулся, приоткрыл дверь. Со́бак исчез. Ну, как знаешь. Что же в казанке? Четыре вареных картошины! Ура!
Простите уж, неведомые хозяева, же не манж па сис жур. Приютите, обогрейте беднягу. Там воздастся. Сжевал картошечку с кожурой – няма! Шмыгая мышкой по углам, обнаружено: полмешка картофеля, древняя берданка, почти новые, неношеные валенки. Кряхтя от волнения, набиваю карманы.
«Фи, какой стыд! Презренный воришка!» – скажете вы и будете правы.
А спать в канавах – не стыд? А побираться – с университетским образованием – не стыд? Увы, замечено и проверено – если полагаться лишь на доброту ближнего своего, долго не протянешь, потому как ближний бывает добр лишь изредка, а кушать хочется постоянно. Это вам не Одиссей с богоугодным свинопасом: «Странник, – сказал, – не угодно ль тебе поросятины, нашей пищи убогой, отведать…» и т. п. Такие персонажи уместны лишь в эпосах и сказках.
Рассчитывая поскорее убраться из домишки, я присел на минуту на лавку, ноги не держали. Лавка была застелена чьей-то звериной шкурой – не разбираюсь в фауне.
Бульк!
Так бывает – глупые трюки вытворяет порою жизнь. Я потерял сознание. Точнее, выпал из настоящего. Отсутствовал где-то. Очнулся – лежу на лавке, укутанный шкурой.
«Момент, – говорю себе, – я ведь не собирался баюшки-баю. Мне бы линять отсюда – вот вернутся семь гномов, забуцают до крови. Как же так вышло – уснул? Чудеса!»
Должно быть, очень давно я не испытывал такого ощущения уюта, что источала избушка всеми своими бревнами. Тепло. Тихо. Голод на время отступил. А где же со́бак, кстати?
Отворил дверь и снова подивился многочисленным следам во дворе. Мохнатая морда выглянула из-за сарая – здрасьте!
Спасибо, дружище, но мне пора.
Хозяева вряд ли мне обрадуются, сердцем чувствую. Псюш кружит поодаль и вновь зовет за собой. Что, лохматый? Наелся я, выспался, небось, и баньку мне теперь предложишь?
Со́бак не унимался, вертелся рядом, вынуждая своими умильными ужимками следовать за ним.
Чудны дела твои, Господи!
Иду к сараю. Снег здесь не такой скрипучий, как в лесу, мягкий, слякотный, но под ним – ледяная корка. Со́бак аккуратно трусит впереди, собираясь, видимо, обойти сарай вокруг. Зачем бы? Поленница дров, присыпанная с краю копенкой сена. Хозяйственные люди тут обитают!
Кто может жить в лесу? Возможно, отшельник. Лесничий. Просто странный одинокий человек.
Но почему тогда столько следов натоптано? Взгляд скользит вниз, я машинально отщипываю кусок коры и прикусываю, как маленький. И тут я вижу пару сапог, торчащих из-под снега. Носки сапог, черные, подернутые пудрой инея. Тревога колотит во все колокола, мгновенно зажигая огонь внутри моего заторможенного со сна тела.
Первый порыв – смыться! Но любопытство сильнее: как сомнамбула, нагибаюсь, дотрагиваюсь вялой рукой до зарытой в снегу обувки. Рука скользит – сапог остекленел.
Мертвец.
Мертвый человек под поленницей.
«Беги, малый, беги, во что ты вляпался, дурень», – говорю себе, а поджилки-то дрожат. Со́бак просунул морду под локоть, смотрит прямо в глаза, серьезно так: «Видишь теперь?» Значит, ты меня не к домику привел, не в гости зазвал, псинка, ты меня к мертвецу привел, за помощью…
Недооценил я тебя, приятель.
Ноги что-то подкашиваются, отдышаться бы, грузно сел на снег, привалился к дровяной стенке. Мысли вязли, как мошка в киселе. Бежать на станцию, звать людей. А – кто я, что я? Привлекать к себе внимание вовсе мне не с руки, небось, меня и обвинят. Внезапно подумалось: что ж ему, бедняге, так и коченеть в снегу, непогребенным, неоплаканным? А если бы вместо него оказался я, лежал в ледяной корке, равнодушно забытый всеми, а другой испуганный пацан, взглянув на меня, смылся бы отсюда? Стыдоба.
Вечер близок. Свет стал пегим, сгустился, скис.
Живешь ведь себе и живешь, ползаешь кое-как, а чуть припекло – сразу чувствуешь себя развалиной. Сердце, оказывается, колет, и одышка, и ноги не гнутся. Со́бак смотрит на меня, жжет, как паяльной лампой.
«Ну что ты смотришь, а?
Что – я – могу – сделать – а???»
Вдруг насторожился, поднял уши. По-волчьи оскалился. Чу – шум. Невнятно, будто люди идут. Со́бак тихо-тихо отползает, прячется в дрова. Мне бы тоже спрятаться. Дверь сарая слегка приотворена, слава те… – шмыг туда, плашмя животом на пол, лежу тихохонько, глаз – в щелку.
Трое идут. Крепкие, сутулые мужики. Двое волокут на еловых лапах что-то черное, большое. Звериная туша?
Трое. И звериный, дикий оскал моей псины. Ясно – враги. Его враги. Значит, и мои. Черт!!!
Ведь я порядком наследил в избе. И картошку сожрал. Все, кранты. Сейчас примутся меня искать.
В сарае – полок – второй, верхний этаж. Сени, кажется, называется. Лестница прислонена.
Закусив губу, чтобы удержать нервную икоту, вскарабкиваюсь туда, запинаясь, что колченогая белка.
Сушь травы. Мягко. Солома. Кто-то пищит и порскает под руками. Забиваюсь в самую крупную кучу, под угол. Фигушки, не взять меня. Нервно роясь в карманах, достаю нож. Спер его на одной из бесчисленных станций, в столовой, где подработал грузчиком за борщ с котлетой. Нож грубый, кривой, но!..
Острый, зараза.
Был у меня лучше. Фирменный. Перочинный. Финский. Обломал лезвие, когда потрошил ворованного поросенка. Помню, гадство, всю одежду залил кровью, пока кишки вычищал. Еле отполоскал в пруду. И лезвие сломал, о ребра что ли? Хороший был ножик. Не чета этой железяке.
Итак, трое мужиков и труп, цинично заваленный дровами. Что он им сделал? Явилась ли смерть эта следствием давней неприязни, или же попал под горячую руку, по пьяни там, я знаю? Был ли он хозяином избы или непрошеным гостем? Почему они ведут себя столь беззаботно, даже не пытаясь скрыть злодеяние, так уверены в своей безнаказанности? Что за люди такие? И – люди ли вообще эти выродки?
Я устал лежать. Затекли ноги. Секунды больно клацают в ушах: что же, Колобок, и от дедки ушел, и от бабки ушел, а от лиски-то?
Дверь заскрипела. Шаги.
– Э-эй, придурок! (Жирный, насмешливо-барский баритон.) Вылазь, не прячься! Деться тебе некуда.
Полы скрип-скрип. Плохо дело. Кто-то звучно прочищает нос.
– Вилы бери, Мотря! Пощекочи земелю! (Скомороший, змеино-ехидный хрипатый тенор.)
Внезапный удар в пол, на котором лежу. Вздрагиваю – бьют снизу.
– Старый, а мо, спичкой чиркнуть? Согреется наш гостюшка! (Тенор.)
Блефуют. Загорится ваш сарай – вся округа увидит, чай не свечка. А огласка вам не нужна.
– Лезь, Мотря, не ссы! А зафордыбачит – мы его враз утешим из волына.
Черт. Черт! Явные урки. Уже кто-то взбирается по лестнице, натужно сопя. Влез. Скрипит.
Ш-ш-шух! – мимо уха, в пол. Неужели правда, с вилами? Чертов со́бак! Чтоб ты сдох! Во что ты меня втянул!
После третьего удара мои нервы сдали. Вилы воткнулись совсем рядом, чуть не в лицо, я вскочил, схватившись за древко, и как есть, в сене, в страхе, налетел на противника. Младше меня – совсем пацан – с тупым, одутловатым лицом в прыщах – лет восемнадцать, не больше. Я толк– нул его с налету и падал вместе с ним вниз, но он – спиной, а я успел дрыгнуть ногами и почти обрел равновесие.
Пол встретил меня оглушительным ударом. Копчик огненной спицей отозвался в темени, глаза заволокло сизой мутью, вполуприсядку кинулся в дверь, прочь, – и открыл ее, и успел сделать пару шагов наружу, – но голова взорвалась белым ярким огнищем – гу-у-у!
Черно. Тошнит. Глухо бухает нечто близкое – невнятно – точно плотный мешок с опилками бьет по ушам. Бьет в определенном ритме. Бух…бух… бух. Пытаюсь сглотнуть, а слюны и нет, соображаю, что это ведь мое сердце стучит, бухает, забравшись в самые виски. Живой, слава те…
– Гляди, очухался! – тенор.
– А-а – пидор, а-а – сука, щас на тряпки порву, и-и-и! – злой детский голосок, весь шмыгающий, хлюпающий, как одушевленная сопля.
– Остынь, Мотря! Получил по сопе, так сиди – не пужся. Зёма слабенький еще, вишь – глазки не продерет никак.
Гадская урла. Чего они меня сразу не прикончили? Хотят позабавиться?
– Глазки открой, милый! – тенор. – Мы заждались уже, отчаялись, не емши, не спамши!
– Ответьте нам, молодой человек, – баритон. – Невежливо молчать, когда вас просят.
Героическим усилием поднимаю веки – глазные мышцы скрипят.
Зловещий (при иных обстоятельствах – уютный) полумрак, созданный двумя свечами, сиротливо прилипшими к поверхности стола, и огненной бородой, снующей в печи. Да, их трое.
Приятной внешности мужчина (баритон, догадываюсь, он же – Старый), глядит почти ласково, но что-то в его взгляде заставляет меня внутренне съежиться. Скользящая рассеянная улыбка, словно кровь, запекшаяся под ногтями.
Большие уши, нервно косящие глаза, костистый нос, губы чуть подергиваются – говорят сами с собою. Крысиная неуемность угловатых, жадно-опасливых движений. Это тенор, должно быть.
Прыщавый пэтэушник глядит обиженно, правая рука на перевязи – замусоленная тряпица через плечо – не повезло парнишке, приземление было жестким.
Что-то не так с их одеждой: топорные, грубые фуфайки, слишком мешковатые штаны. И вообще – будто пылью присыпаны, замызганы, насторожены, все время вроде как прислушиваются.
Не – у – же – ли?!
«Определенно, зэки», – шепчет мне неуловимый далекий друг, чей дымящийся хвост всегда предупреждает об опасности, – моя осторожность. И мне становится действительно жутко.
Тенор. Доброе утро, земеля!
Я. Здра-а-асссь…
Баритон. Как себя чувствуем?
Я. Как дерево. (По крайней мере честно.)
Баритон. Не желаете присоединиться к нашей скромной трапезе? (При слове «трапеза» мои ноздри затрепетали под напором жареной волны. Мясо!!!)
Я. Спасибо.
Павший пацан. Куды ж его кормить? Давить его, суку, надо!
Тенор. Цыц.
Баритон (широким жестом). Прошу к столу!
Откуда-то – мне не видно, в глазах еще рябь, – вытаскивает горячую, дымящуюся сковороду. Пацан в возмущении открывает и закрывает рот. Тенор фокусником снует в тенях, вьется и приносит стеклянную посуду, без сомнения, со спиртным.
Я пытаюсь приподняться – опасная затея! – тенор помогает мне, упираясь в спину. Ма-ма! Голова ныряет в прорубь, в сизую муть.
Кто-то. Очнись, слышь! (Толкает.)
В нос бъет резкий спиртовой дух, глазные яблоки куксятся улитками в тщетной попытке спастись, текут ручьями. Стеклянная явь. Кряхтя и содрогаясь, выхожу на орбиту.
Стол крепкий, дубовый (еловый, сосновый). Приятно на него опереться, налечь всем колеблющимся весом.
Баритон. Угощайся, горемыка.
Я. Мугу. (Чавкаю, тщательно пережевывая.)
Тенор (наливая в единственный стакан и протягивая Старому). Грянем!
Обжигаясь, ем руками. Мясо сочится. Сыроватое, но горячее. Длинные темные ломти отправляются в рот, торопливо сглатываю. Колеблясь от сквозняка, свечи отбрасывают тонкие косые тени – пальцы, указывающие на меня.
В тропических реках водятся мрачные рыбы, что всегда плавают против течения, пробираясь по дну своими тайными тропами; в компьютерных играх водятся не менее мрачные монстры, в которых стреляй не стреляй – пройдут по тебе каменным шагом и не обратят внимания; шкворчит раскаленное масло на коже экстатирующих йогов, безучастных ко всему… Подобные создания разделили со мной трапезу, чтобы потом сделать мое существование чрезвычайно болезненным.
Стакан меж тем двинулся по кругу, и я тоже опалил гортань. Опустошенную сковороду унес расторопный Мертвяк (так я обозвал обладателя тенора за его постоянное брезгливое подергивание всем телом – точно труп под током). Сидели молча. Сложилось впечатление, что действие пьесы приостановилось, зависло: все ждут реплики суфлера.
«Ну, давай, рассказывай», – шепнул мне в ухо воображаемый суфлер.
– Ну, давай, что ли, рассказывай, – нарочито дружелюбно осклабился Старый. – Кто ты, чей, откуда и куда идешь.
Зал неприязненно смотрел на меня, молодого бесталанного актера, откровенно презирая, грыз семечки и шуршал обертками от конфет. Зрители с нетерпением ждали моего провала.
– Прохожий, так… – неопределенно пробормотал я, – застрял вот на станции, заносы, говорят…
– Заносы, – внятно, чуть в нос, повторил Мертвяк, таким тоном, будто «го-о-онишь!».
– Погода нынче тяжелая, неустойчивая, – кивнул Старый. – И куда путь держишь?
– В Сибирь, – твердо ответствовал я, честно глядя ему в глаза, – там можно заработать хорошие деньги. Я у местного одного остановился, пока заминка с поездом. Жду.
– А в лесу ты что делал? – не сдержался пэтэушник. – Гулял? Турист, а?
Старый тепло улыбнулся пацану, тот сразу завял и сделался незаметен.
Веретено моей судьбы раскручивалось все быстрее, а нить – я чувствовал – становилась все тоньше, все ненадежней. Это как на льду – скользит под ногами, не можешь остановиться; я понимал, что начинаю завираться, но иного выхода, чем продолжать врать, у меня не было.
– Глупо, – говорю, – получилось. Заблудился. Вижу – заяц, да жирный такой, килограммов на пять, и весь бок в крови. Думал: сдохнет, подранок. Пошел по следам. Может, то был ваш заяц? Я выстрелов не слышал, правда… Ну. Иду, и снег начался, запорошило! Заяц, гад, делся куда-то, сиганул в ельник, и нате вам! Повернулся домой идти – да все занесло кругом. Ходил, ходил… Заплутал, одним словом. Вижу – изба, как в сказке, – повезло! Постучал – хозяев нет. Я и прикорнул слегка на лавочке – умаялся бродить.
– Прятался от нас зачем? – перебил Мертвяк.
Старый закрыл глаза и чуть покачивал головой по ходу моего рассказа: не то соглашался, не то злорадствовал.
– Забоялся, – пожал я плечами. – Стыдно стало. Я у вас картошку из казанка доел, и стыдно стало.
– Оголодал, бедный?
– Холодно. Брюхо подвело.
Тишина и за окном совсем темно. Пацан встал, чтобы подбросить дров в огонь.
– Мне очень жаль, молодой человек, – молвил Старый и открыл глаза, из которых на меня дохнуло могилой. – Но вранье никому еще не приносило пользы. Так же, как и чрезмерное любопытство.
В это время Мертвяк встал за моей спиной, обойдя сзади. Старый неспешно поднимался с места, стул скрипуче елозил по полу. Этот момент я запомнил навсегда, потому что – верите? – понял, что за этим последует – удар ножа. Оставались доли секунды до черноты колодца, в котором, подобно брошенному камню, лететь мне вечно.
И тут в дверь кто-то постучал.
Старый весь сжался, становясь вдруг словно меньше ростом. Пэтэушник сдавленно охнул у печки. Мертвяк за моею спиной натужно засопел.
– Открой! – одними губами приказал Старый, мотнув головой пацану.
Тот бочком-бочком подкрался к двери, Мертвяк нагнулся и пф-ф-ф! – задул свечи; Старый уже держал в руках ружье, довольно-таки впечатляющую винтовку, целя в дверь. Вильнув к окну, Мертвяк вытянул цыплячью шею, да где уж там разглядеть! Ночь. Я привстал от любопытства. Всхрапнув жеребенком, пэтэушник отворил дверь и, юрко отпрыгнув в сторону, присел на корточки. За дверью никого не было. Луна несмело выглянула из-за туч, и дальние сосны казались сейчас опушенными бледным сиянием по верхушкам, будто рой светляков устроился на привале.
– Поди проверь! – рыкнул пацану Старый.
Испуганно покосившись на него, пацан выглянул на улицу – выкатился бледный стриженый затылок, затем вышел, похрустел валенками, поколебавшись, пошел направо.
Скрип-поскрип-скрип: шаги удалялись. Мертвяк дышал глухо, с присвистом, а Старый безмолвно набухал черной злобой.
– А-аак! И-и-и!!! – придушенный дальний вскрик, затем визгливый, срывающийся вопль, и – стихло.
Старый нетопырем пронесся мимо меня, в ярости оттолкнув вбок, – я плюхнулся на лавку, скрипнув зубами, в голове отозвалось золотом искр, бокальным звоном, – выбежал на улицу.
Рука сама потянулась к чугунку, сиротливо забытому на краю стола; Мертвяк оглянулся и тут же получил прямой удар в нос; кисть заныла; хрустнула кость – второй и третий удары нанес по голове. Мертвяк рухнул, осел расслабленным кулем вниз и рассыпался по полу, гремя суставами, как будто состоял из одних костей. Нож – аккуратная узколезвенная заточка с фигурной рукояткой – выпал из пальцев и воткнулся в дос– ки. Поверженный кощей. Из тьмы послышался выстрел, потом отчаянная ругань, потом еще выстрел. Печь не очень-то светила, в потемках я заметался по избе, лихорадочно искал чего-нибудь поувесистей. На стене среди пегих звериных шкурок висела винтовка – старого образца, двустволка. Вряд ли она заряжена, нет времени проверять, – сдернул с гвоздя, кинулся в ночь.
Бежал налево, к сараю, зажав оружие под мышкой.
– Стой, – слышу сзади, – стой, твою душу!..
Куда там стой. Поворот, поленница, плечом с разбега вышиб дверь, как фигурист на льду, въехал на коленях на середину. Развернулся, вскочил, схватился за ствол обеими руками, поднял «дубину», монументально замер.
«Но у него-то, – думаю, – заряжено».
Адреналин – чертовски замечательная штука. И думать забыл о головной боли, о вывихнутом плече… Дыхание кукушонком ворошится в горле, лицо застыло маской. Не думаю, не двигаюсь, струной натянут.
Он уже здесь – Старый.
– Выходи! Выходи, говнюк! – орет. – Спалю тебя вместе с сараем к чертям! – орет.
Гонишь, дядя. Слабо тебе сарай поджечь и чесать ночью через лес; вас, урок, небось, хватились, ищут вовсю. Не в масть вам светиться. На слабачка давишь? Не пройдет.
– Бах! – влепил пулю в бревна сарая.
Нервишки, дядя?
Интересно, пойдет ли в избу за огнем или так ворвется?
– Я тя дождусь, сучонок! – орет.
Жди, дядя.
Руки дрожат, устал держать над головой ружбайку, а опустить боязно.
Скрип-скрип-поскрип. Учесал-таки, за светом. Неужто правда подожжет сарай?
«Вряд ли», – успокаиваю себя, а сердце ёкает.
Серый волк под горой Не пускает нас домой.Оставаться здесь далее опасно, кроме того, понятия не имею, что случилось с другими. Мертвяк мог очухаться, да и пэтэушник, волчонок, где-то неподалеку. Надо было бы обойти дом с тыла, но тогда придется бежать в неизвестном направлении, явно удаляясь от станции. К тому же до леса со стороны сарая казалось не меньше пятидесяти метров открытого пространства – далеко, можно схлопотать пулю в спину; гораздо ближе сосны подступали к дверям избы. «А вдруг, – подумалось мне, – они в это время обходят дом с двух сторон, чтобы зажать в клещи?» Между сараем и поленницей было узкое пространство, открытое только со стороны сарая, не со стороны избы. Я с трудом втиснулся в этот закуток, с дрожью представив, что, может быть, топчусь сейчас по лицу мертвого человека.
Показался отблеск огня. Отдуваясь, как ломовая лошадь, пропыхтел мимо Старый, сжимая в одной руке топор, а другую – с горящей веткой – вытянул далеко вперед, подобно бегуну– марафонцу с факелом.
«Патрончики-то тю-тю! – порадовался я, – но топор… хм…»
Тишком-тишком выглянул из-за угла и припустил к дому. Обежать поленницу – три секунды, повернуть, пробежать шагов двадцать, повернуть еще – к лесу, и что есть сил!!!
Нога неловко подвернулась, и я зарылся носом в снег, что меня и спасло. Приподняв голову, увидел, что впереди, в снегу, лежит топор. Не успев еще оценить ситуацию, я потянулся рукой, приподнимаясь из сугроба, дикий яростный зверь налетел сзади, сбил, прижал горячей тушей. Отчаянно выворачиваясь, увидел запрокинутое оскалившееся лицо с выкаченными белками глаз; кулак впечатал меня в сугроб. Зыбко балансируя на краешке обморока, я увидел, как зэк тянется за топором, внутренне охнул, заерзал слабо, с намерением рвануться, и вновь был вдавлен, вжат в снежную кашу – на спину убийце вскочил лохматый грязный клубок – со́бак!! – вцепился в ухо, в щеку, повалил на бок. Нога зэка мешала мне встать, прижала шею, валенок елозил возле самого лица. Зверь рычал, яростно вздымался; человек, задыхаясь, полз, откашливаясь ржавой пеной.
Я откатился вбок, нетвердо встал на четвереньки, зачерпнул в ладонь ледяной колкий пух, отирал лицо, пытаясь промыть глаза, – а темнота наступала, издеваясь, зацеловывала. Зрение проявлялось как бракованная фотопленка – кадрами, выхватывая из ничего: бревна, сосны, зарево за поленницей (сарай горел?). Растерзанный Старый дотянулся-таки до топора, пока я пытался встать на ноги, шатаясь и пыхтя, ударил псюшу раз, другой… Он не мог далеко замахиваться – отважный пушистик почти растерзал его левое плечо, не желал отцепляться, вис, впившись намертво.
Когда я подковылял, все было кончено. Зверь лежал ничком, человек надрывно хрипел, вяло ерзал в снегу. Зыркнул на меня, не узнавая.
Я вырвал топор из слабой, когтисто сведенной руки и глухо опустил на затылок, хрупнувший спелым арбузом. Он упал. Я ударил еще раз. И еще. И еще.
Со́бак умирал. Стекленели гранатово-жаркие глазёны, язык вывалился блеклой тряпкой. На коленях – колотила дрожь – пытался погладить его, но огонь, разраставшийся за поленницей, осветил мою руку, в крови, в грязи, и я не посмел его тронуть. Огонь уже лизал верхний слой дров, а мне становилось все холодней – одному в черном, равнодушном лесу. Чтобы знать наверняка, я должен был зайти в избу, но для начала оттащил тело собаки и ее хозяина подальше от жара; труп примерз, отдирать его от земли пришлось с помощью топора.
За углом лежал пацан с разорванной глоткой, широко распахнутый рот вечно говорил: «о». В избе стояла тишина. Мертвяк негромко сипел. Увидев меня, заскреб по полу, забулькал. Я снова вырубил его. Обухом.
Кстати, рядом с убитым хозяином избы я выронил, наклонившись над ним, картошину – ел торопливо, не заметил, как юркнула за пазуху, – так они меня и вычислили.
Огонь гудел рассерженным шмелем. Пламя растекалось по небу, отражаясь в тяжелых тучах, пугая луну нездоровым багрянцем. Сарай выгорел за полчаса и, когда заполыхала изба, почти погас. Лопаты я не нашел, зато отыскал в золе свой нож, страшнючий, покореженный, который и использовал в нужном качестве. Теплая закопченная земля с трудом, но поддавалась. Яма не получилась большой, скорее широкой; и усталости почти не ощущал – потому что твердо задал себе программу, как автоматическому устройству.
В избе я подобрал сумку с документами на имя Афоньева Петра Сергеевича, 1932 года рождения, справку-разрешение на ношение оружия, карту лесничества. Другие трупы оттащил в избу, вывернув им карманы, нашарил около двух тысяч рублей и подобрал с пола самодельную заточку Мертвяка.
Со́бак покоился сверху тела хозяина, так что лапы упирались ему в плечо, а заострившаяся морда прильнула к сердцу. Сомнений не возникло – никто до утра не хватится, не придет на помощь, а под открытым небом они могут стать добычей хищников. Что еще я мог сделать для них, сам беглец? Присыпав яму землей, выбрался из леса – шел по карте. Спустя три часа уже ехал на поезде, стук колес убаюкивал, уносил все мысли, все печали. Опять падал снег, я задремал.
У Старого в кармане была ружейная пуля. Интересно, почему он ею не воспользовался? Теперь она лежит в моем кармане – в качестве талисмана.
Вдоль зеленого забора
Кто пойдет вдоль зеленого забора?
– Я не пойду, – сказал Славик, натягивая одеяло на подбородок, – глупости все это.
– Да ты трус! – презрительно сощурилась Светка.
– И не трус. Я в ваши игры не играю.
Толстая Катя поправила чепчик и хрустнула яблоком. Поморщилась. У нее болели уши – отсюда и чепчик.
– Подумаешь, зеленый забор! – заявил Артем. – Обычный забор. Железные палки, выкрашенные зеленой краской. Может, в прошлом году он был желтым, а?
– Нет, – твердо сказал Димка. Он был худой и маленький, но его черные жесткие глаза были так требовательны к собеседнику и глубоки, что все к нему прислушивались.
– Нет. Забор ВСЕГДА был зеленый. И в прошлом году, и десять лет назад, и сто лет. Может быть, изредка его подновляют, но я думаю, что краска в него въелась навсегда. Потому что так надо.
– Больница не такая уж большая, – предположил Сеня, – я помню… Хотя мы приехали ночью, но здание не очень большое, то есть, я хочу сказать, обойти его можно за пару часов. Или час.
– Или час! – передразнила Светка, скривив по-обезьяньи мордашку.
– Ну ты ска-а-азал! То больница, а то – забор! Он ведь огибает сад! А сад больше больницы.
– А я не согласен, – возразил Артем, – вовсе сад не больше. Он КАЖЕТСЯ больше, потому что очень густой, кусты – не пролезешь. Такая чащоба! Вот и кажется, что больше.
– Я разговаривал с одним пацаном из третьей палаты, – сказал Славик, – он знает одного пацана, который ходил вдоль забора. И вернулся.
– И что?
– Ничего, – обиделся Славик. Отвернулся демонстративно к стене.
– Славочка, заичка! – Светка мигом вспорхнула с места, уселась к нему на кровать и стала теребить, ласково пощипывая за уши, за щеки.
– Славочка, расскажи!
– А чего они…
– Они будут тихо! Слышьте-ка, цыц! Говори, Славочка!
Артем громко фыркнул – ему хотелось, чтобы Света его так тормошила, и ему было досадно, что – Славку. Света погрозила ему кулаком. Славка раскраснелся и оттаял.
– Вот и говорит – ходил тот пацан вдоль всего забора, кликал Батьку. А вернулся бледный такой – лица не видно, как стена белый. И молчал все.
– Почему же молчал?
– Потому что видел его. Говорил с ним. Поэтому и молчал. То, что узнаешь от Батьки, говорить нельзя никому – беда будет.
– Но он узнал всё?
– Он узнал, кто следующий… – прошептал Сеня.
Все затихли, то ли от благоговения, то ли от сладкой жути, таящейся в словах мальчика.
– Я знаю, что было потом с этим пацаном, – прервал молчание Димка, – он проболтался.
– Его увезли той же ночью, – торопливо захлебываясь словами, говорил Славик, стремясь вновь привлечь к себе внимание.
– А родителям сказали, что сердечный приступ. А просто он Батьки ослушался и сказал то, что нельзя говорить. А родители потом пришли такие – все плачут, говорят: где наш ребенок, покажите, а врачи такие – делать им нечего – говорят: ну, смотрите, типа, удушье у него, как там…аф-фик-сация, – ну, они глядят, а лицо у него такое… Черное-черное, и глаза лопнутые.
– Как лопнутые!? – дурашливо заржал Артем.
Света шикнула на него, махнула ладошкой.
– Ну… глаза-то белые, а у него были все в красных пятнах, красные, как если бы он кровью плакал, – объяснил Славик.
– Дальше что было?
– Что… Ничего… Второй, ну, тот, кому он рассказал, сразу мрачный стал ходить, все заметили. И отодвигались, и с ним вообще не говорили. А потом его в другую больницу увезли, я точно не знаю.
– Не может быть, чтобы в другую, – не поверила толстая Катя, – его, наверно, тут, в другой палате, отдельно держат, как заложника.
– Какого заложника?
– Чтобы не болтал чего попало.
– Это точно, – сказала Светка, – это да. Болтать зря нечего.
Цок-цок-цок. Прошла медсестра по коридору. Заглянула в палату:
– Девочки, заканчивайте посиделки! Пора в процедурную!
– Счас, Зоя Михална!
– Поспешите, – и уцокала прочь.
– Ну, так как же? – поинтересовалась Светка.
– Мы договорились, – прищурил свои колдовские глаза Димка, – уговор на крови. Кому выпадет жребий – тому и… – показал царапину на запястье. Такие же царапины, конечно, были и у других ребят.
– Так давайте, что ли, жребий тянуть! – спохватилась толстая Катя. – Пока не вернулась медичка!
– Девчонкам нельзя.
– Вот и льзя. Думаешь, трусливее тебя? – негодующе нахмурилась Светка.
– Не-а. Я думаю, Батька с тобой и говорить не станет, не то что показываться.
– А вдруг станет?
– А-а. Не то еще рассердится, что девчонка пришла, – сгинешь ни за что!
– Что ж, тогда сами. А мы за вас пальцы держать будем, – покорилась Светка (хоть и боевая девчонка, а страшно ей было, да признаться стыдно).
– Я тянуть не буду, – скуксился Славик. – Пусть я трус, но тянуть не буду.
– Блин, педик ты и баба! – выругался Артем.
– Выбирай выражения! – прикрикнула Светка.
– Де-е-евочки-и-и! – позвала медсестра из коридора.
– Я буду тянуть, – сказали из угла. Тиша– Тимофей сказал.
Он все лежал на своей кровати незаметно, как мышонок, и в разговоры не встревал. Незаметный молчун. Невидимка. Тихушник. От процедур его рвало очень сильно, надолго потом вырубался, а когда болело внутри, прятал голову под подушкой, залезал совсем под одеяло, закукливался, – не дай бог, услышит кто, как он плачет. Гордый. Никакой. Ничей друг.
– Мы тебя в свои не звали, – подбоченился Артем.
– Не дури, – оборвал его гонор Димка, – он тоже имеет право.
Сенька-непоседа вывернулся из одеяла, подсеменил к Тише, хлоп по плечу: уважаю, мужик!
Девчонки возбужденно заблестели глазками. Чуть сдвинулся Димка на кровати, остальные подсели в кружок, сгрудились около.
– Четыре спички, – предупредил Димка, показал коробок на ладони, – одна короткая. Торжественно обвел ребят взглядом.
– Тяни, Катя. А Света скажет, кому.
– О’кэй, ма шэр!
Катя раскраснелась, вытерла потные ладони о халат.
– Кому?
– Сене!
Спичка как спичка.
– Кому?
– Димке!
Димка усмехнулся, вздрогнул. Обычная спичка.
– Кому?
– Тимоше!
Все затаили дыхание. Слышно было – вдалеке, но все ближе – цокали недовольно медсестричьи каблуки.
Спичка короткая.
– Фффу-у-у… – выдохнул Артем и тут же устыдился – его удача лежала, паинька, нетронутой в картонном склепе.
– Когда ты?..
– Да сейчас и пойду… Только вот… соберусь… – не глядя на них, обреченно сказал Тиша.
– Девочки! Совесть есть?! – ворвалась возмущенная Зоя Михайловна.
– Идем-идем-идем! – вспорхнули девочки с кровати.
Светка прижалась вдруг к Тише, мазнула горячими губами по щеке: удачи!
И выбежали из палаты. Ворчанием грозовой тучи в коридоре долго слышались раздраженные упреки медички.
– Нормалек, брат. Скоро тихий час, тогда и рванем, – подбодрил Сеня.
– А то, может, перетянем? – сыграл благородство Артем. Ему, понятно, перетягивать не хотелось, но показаться-то надо, пацан какой пацанский! Широкая душа.
– Не нужно. Все честно. Девочки ведь тянули.
Славик молчал, делая вид, что не участвует в жизни мальчишечьей палаты, но на самом деле ему было стыдно, досадно и жарко от трусливой муки. Лежал, отвернувшись к стене, простыня на нем промокла насквозь.
Полдень жаркий, жадный, пьяный, мятный, наглый, – лез в окна, черкал на стене золотистые узоры, тепло облизывал голые руки. Жеваная временем лиловая занавеска не справлялась с прямой атакой солнечных лучей.
– Главное – миновать коридор, а там – через боковую дверь, – учил Димка. – Вот, возьми. – Протянул темно-синюю тряпку – халат уборщицы, который стибрил из кладовки. – На пижаму натяни сверху, чтобы не светиться – белое на фоне зелени хорошо заметно!
В полном молчании мальчики прокрались по коридору, счастливо избежав столкновения с персоналом больницы, и выскользнули в боковую дверь. Пять метров от входа – заросли сирени и жимолости приветливо распахнули зеленые объятия.
– Ты, главное, ничего не бойся. Встретишь – долго с ним не болтай. Только спроси: кто следующий? – и бегом назад.
– А как я его узнаю?
– Да узнаешь.
Отцветала сирень, – поникшие соцветия почти уже не пахли, свисали лиловыми жалкими тряпочками, пеплом. Жимолость-акация, жимолость– акация, и вокруг, и рядышком, как шерочка с машерочкой. Тиша с трудом протиснулся меж кустами, боялся, что не найдет тропинки, так и завязнет, стиснутый цепкими пальцами ветвей. Ан нет – вьется, ползет неширокая тропка, едва различима в молодой траве, будто коты протоптали. Бузина пахнула прямо в нос; вишня осыпала плечи, голову розовыми звездами.
Раньше, говорят, до революции, здесь граф жил, большой любитель садово-парковой красоты, понавез растений, засадил цветами всю округу. Уж как их позже не топтали, не рубили строители нового мира, а кусок старого сада все же выжил, уцепился за землю и выдюжил, не сдался под порывами безжалостного времени.
Главврач, человек мягкий и даже сентиментальный, не причинял никакого вреда зеленому постояльцу, а саду лишь того и надобно – не лез сад в больничный двор и за ограду далеко не высовывался – соседствовали мирно. При западном крыле больницы, где фабрика-кухня цинковой крышей задорно перемигивалась с солнцем, буйно разросся малинник в окружении шелковицы, поварихи варили компоты, медсестры выбегали в перерыв набрать в пластиковые стаканчики матовых тутовых ягод.
Все выше деревья, все затейливее переплетения ветвей над головою – живой шатер колышется, шумит; нет-нет и промелькнет за деревьями железная ограда – легендарный зеленый забор. Что за забором? Пустырь, где живут лишь одуванчики и осколки битых бутылок внезапно вспыхивают изумрудами в волнах песка; свалка – клочки газет и рваные шины, проржавевшие гармони батарей, мертвые велосипеды, мышиное царство?
Больница располагалась на окраине города, дальше – ветер, ветер… Идти мальчику не то чтобы слишком неудобно, а как-то щекотно, сказочно, – листва нашептывает, обнимает, уговаривает… Тише представляется, что необъятный зеленый зверюга льнет к его телу, желая либо чем-то одарить, либо, напротив, забрать у него что-то важное. Здание больницы отсюда не видно, – слишком глубоко он забрался; хорошо, значит, и его никто не увидит, не поймает, не станет ругать.
В отделении кардиологии к детям относились заботливо, но строго: шумные игры запрещались, режим соблюдался до мелочей, гулять детей выводили на площадку напротив парадного входа под надзором нянечек.
Зеленый забор – четкая граница между мирами; там – воля и безвременье, безбрежный воздушный океан с запахом диких трав, здесь – больничные стерильные запахи, узкие коридоры, белые одежды. Сад настороженным псом между – охраняет больницу, заглушает лукавые голоса пустыря.
«А если попытаться перелезть ограду, – подумал мальчик, – и уйти далеко-далеко в степные травы? Может быть, я оставлю свою болезнь здесь, а там я уже буду не я – другой, сильный и странный?» Ноги сами переступали по тропке; ветки, ветки, ветки… От запаха жасмина в глазах пляшут золотые червячки. Ограда ближе, близко… вплотную – шероховатая, прочная решетка.
Тиша смотрит вверх. За оградой, кажется, даже небо другого цвета – глубже, что ли. Тошно от болезни, измучила совсем, кожа да кости, халат болтается, как на вешалке, стыдно перед девчонками. Об этой больнице ходят нехорошие слухи, здесь разбивается в кровь святое детское «хочу» («хочу быть большим, хочу играть, хочу, чтобы не болело»). В больнице живет страх, липкий, колючий.
Церковь – дыхание глаз – молитва, глаза дышат в такт колыханию свечей; в больничной палате молитва – детский смех. Как дорого стоит здесь смех! Каждый час пропитан мукой, и процедурные комнаты вкрадчиво надвигаются, подстерегают, словно пауки.
Есть детская тайна – маленькая, сладкая: можно легко узнать, кто из ребят умрет в ближайшее время, стоит только прогуляться вдоль зеленого забора, держа путь по солнцу, чтобы в глаза било. Отсчитать двести, и двадцать, и пять шагов.
Встать, прижаться спиной к забору.
Царапнуть колючкой руку, чтобы выступила кровь.
Ждать.
Если все сделано по правилам – скоро появится он, который все знает, ведун, Батька. Он и назовет имя (узнаешь – бегом беги назад, не оглядывайся. Да смотри никому не рассказывай, не то разделишь чужую злую долю). А ребята ведь ждут. Что сказать им? – скажешь просто: его среди нас нет.
Относительно того, как выглядит Батька, ходили разные толки, одинаково сомнительного свойства. Некоторые утверждали, что он – невысокий старик с косматой гривой волос и бородой, другие – что широкоплечий, статный молодец в черном плаще и шляпе. Разные прочие твердили, что внешность его обманчива, запомнить толком невозможно, в памяти держится лишь низкий голос и горькое, землистое дыхание.
В чем сходились все – так это в том, что ни при каких обстоятельствах не стоит смотреть ему в глаза. Потому что в глазах его – мрак, и голод, и пустота, и если взглянешь ему в глаза, то не удержит его забор, не защитят тебя железные прутья – и проникнет, просочится, вопьется страшный Батька, высасывая твою жизнь, как пиявка…
Заветное предание обладало невероятной живучестью. Бытуя среди детей, оно, передаваемое из уст в уста, стало привычным и непреложным фактом, вроде штампа на больничных простынях, овсянки-размазни или ежедневных процедур. Существовал восход и закат солнца, существовал горький больничный режим, предусматривающий любую мелочь, существовал страшный человек, знающий очередность смертельных исходов.
Тиша, стоя спиной к ограде, обнял прутья ладонями, задрал вверх белобрысую голову. Солнце слепило правый глаз; он прищурился, отворачиваясь. Вздохнул. Закусил губу. Уперся верхней частью спины в решетку, попытался приподнять ноги вверх, как будто находился на шведской стенке. Худые руки дрожали, силенок не хватало. Полуденный жар, как подушка, лег на правое плечо, припекая, пощипывая за ухо. Вроде теплый ветер за спиной – прилетел с пустыря, затрепетали широкие больничные пижамные штанины.
– Здравствуй, Ти-и-иша.
Мальчик от неожиданности разжал пальцы и скользнул по ограде вниз, припал на корточки, больно стукнулся затылком. (Он!)
– Я тебя зажда-а-ался. Думал, что придет Ди-и-има.
(Не оборачиваться, не говорить с ним.)
– Зачем тебе знать, Ти-и-иша? Какая тебе разница, кто следующий?
(Для чего он это спрашивает? Втягивает в беседу?)
– Не мо-о-олчи, Тиша. Я пришел, а ты мо-о-ол– чишь? Некрасиво.
(Что ему сказать?)
– Я уйду-у-у.
– Не уходи. Те.
– Ты, наверное, очень боишься меня?
Дыхание близко-близко; стоит прямо за спиной, наклонился, высокая неуклюжая тень ступенчато, углами, легла на траву.
– Нет.
– Обманщик. Бои-и-ишься. Вдруг я назову твое имя? Что тогда-а?
– Не могу же я бояться того, чего не знаю!
– Разумно. Хочешь знать, как я узнаю имена обреченных?
– …
– Они записаны у меня на полях шляпы. Смотри!
Глупейшим образом Тиша повернулся и встретился с ним глазами.
Острый клин подбородка. Мясистые губы с ленивой томной улыбкой. Под горлом – шаль или платок пепельного цвета. Длинный нос и сильно выдающиеся скулы. Глаза – черные, круглые, вонзаются булавками.
Он взглянул в глаза смерти.
Красный, красный овал – золотые звездочки разбегаются во все стороны, исчезают по краям, в центре вспухает темный жесткий пузырь – бездна вспухает в мире чувственном, больном, хаос всколыхнул океан жизни, хаос координирует, дирижирует болью.
Как. Ему. Плохо.
Тиша ползет, надсадно дыша, тычется беззащитной мякотью в растопырь ветвей, губы перемазаны кровью и соком травы. Щеки исцарапаны, но он не пытается защититься рукой или встать. Ползет, переваливается; все силы уходят на то, чтобы удержаться на плаву, – тяжелые мерные волны бьют в висок, сознание дробится, расходится кругами. Собственное тело – теперь кукла – предает его, играет с ним, издевается.
Что это было? Что он видел?
Убирайся, говорит он солнцу, да, убирайся прочь; солнце насмешливо тычет в затылок свои спицы, руки скользят, медью выжжено горло.
Где-то далеко гул, как от труб, и странно… далеко бегут фигурки в белом, машут тонкими руками, все это солнце виновато, и… и… вспомнить, как…
Жасмин! – вспоминает.
ЖАС. МИН.
Бездна сыто чмокает.
– Не нужно было отпускать его одного, – шепчет Света.
Остальные молчат, нахохлились.
На окнах теперь решетки.
Посреди коридора, что ведет в центральный холл, тоже решетка-дверь, ее запирает на ключ охранник, мощный усатый дядя в пятнистой униформе. Прогулки отменены.
Ходят слухи, что директора больницы вот-вот снимут с должности. А ведь он ни в чем не виноват. Несчастный случай – мальчишка ходил где не надо, упал, напоролся на острую ветку. Умирал на удивление долго и мучительно, хотя, казалось бы, с рваной раной на шее должен был сразу, в первые же минуты, истечь кровью.
Рабочие в одинаковых уродливых комбинезонах кромсают сад, истошно визжат пилы.
– Наверное, он сделал что-то не так, – говорит Сеня, – он совершил ошибку.
Общая подавленность. Бледный и замкнутый на все внутренние засовы Димка. Глаза закрыты и зрачки тик-так за веками, мучается, казнится.
Не нужно было Тишу отпускать. А кто же знал, что он – следующий? Умирать, наверно, больно. Но теперь ему уже не будет больно. Никогда.
А вот им – терпеть еще и терпеть.
Свист одинокой птицы в небе. Жаворонок, зачем ты здесь? Теплый ветер подхватил гарь, брезгливо уносит ее подальше, держа на кончиках прозрачных пальцев. Летят мельчайшие опилки, пустырь осыпан мертвым деревом. Зеленые ребра забора неприлично оголены, и кажется, что это пустырь, а вовсе не больница прячется от людей, пугливо жмется за оградой, втягивая лысую башку в землю.
Полевые мыши попрятались в норы – запах мертвой зелени, запах порчи тревожен. На белых кучевых облаках траурная ало-черная кайма. Травы пригнулись. Пепел.
Земля тут странная. Возможно, когда-то было русло высохшей нынче реки.
Он вдыхает гарь всей грудью, наслаждаясь острым пощипыванием в носу. Сожаление. Зачем он так поступил с мальчишкой?
Многочисленны и терпеливы племена кочевников. Везде им дорога, вращают мир огрубевшими мозолистыми ногами. Смерть им не в смерть, а жизнь – лишь слово. Ветер, дождь и солнце – вот их тело. Сухое, горячее дыхание – их душа.
Посмотри на это дерево – зачем? – оно безмерно – правда? – желудь и дуб, дуб и желудь, вечно тлен и всегда рождение.
Дикие гуси летят на юг и обратно, ведомые лишь инстинктом. Мерзкая маленькая гусеница превращается в хрупкую цветочную фею. Сотни лет движения по кругу, и смерть не в смерть, и жизнь – лишь слово.
Мог ли он предположить, что игра станет его совестью? Что глупая детская считалочка, повторенная сотни раз, навсегда привяжет его к этому месту? Он был дик, темен, весь воля и голод, а стал, как Робин Бобин Барабек. Сила детских иллюзий придала ему плоть, наделила правом окончательного приговора – оракул-утешитель, вот оно как!
Тиша вовсе не был тем бедолагой, который… Тот метался сейчас в сумрачных потных снах, где сломанная спичка, ловко подмененная, жгла ему пальцы, скользила во тьме, как утлая лодочка Стикса. Тиша знал, что спичка не его. Просто он очень устал. И ему нужен был повод, чтобы уйти. Вежливый маленький мальчик, которому нужен повод.
Простите, можно выйти? Можно, Тиша.
Хуже нет проступка, чем тот, который продиктован состраданием. В данном случае сострадание и цинизм исходят из одного источника. Он мог бы просто дотронуться до ребенка, взять у него чуть-чуть, чтобы слегка утолить жажду, и отпустить невредимого. Но, взглянув в его глаза, понял: нет, не может он его отпустить. Потому что в глазах мальчика было такое мудрое и страшное понимание, была просьба, требование, согласие, что он не выдержал.
В конце концов, при всей своей грубой силе, длинных клыках и нелепом получеловеческом обличии, он лишь кукла – неизбежная кукла всех этих обреченных мальчишек и девчонок, из которых лишь единицам суждено выжить.
Жаворонок укоризненно кружил над пеплом, выкликая доброе солнце. Облака лепили вялую стену. Мир был сер.
Песни любви и печали
Незаметно, украдкой, густой черный дым от горящих автомобильных покрышек проникал в бетонный ангар, заваленный металлическим ломом. Ангар, а точнее полуразрушенный туннель, располагался под сваями городского моста; будучи построен незадолго до войны, он никогда не использовался в качестве бомбоубежища, потому что стены из-за неудачного инженерного решения скоро просели под собственным весом, расползаясь безобразными трещинами, – радиационная защита нарушена, решила комиссия, – к тому же городская канализация, проходившая поблизости, весьма ощутимо напоминала о себе постоянной сыростью и скверным запахом. Даже неприхотливые местные бомжи избегали этого места, находя его неприятным. Постоянный грохот поездов и гул машин распугали всю живность на десять миль вокруг, лишь малочисленные блеклые колючки упорно цеплялись за серые камни моста, вызывая жалость своим печальным видом.
До войны здесь было шумно. Теперь же мост разрушен, автотрасса внизу изрыта глубокими ямами снарядов и искореженными обломками противотанковых ежей. Цивилизация рассыпалась на мелкие кусочки, скорчилась пыльной мышью, юркнула в норку – затаилась. Единственная из уцелевших наук – наука выживания – сделала человека маленьким и неприметным.
Город стар, город болен. Город пережил несколько нашествий. Город пропах страхом и смертью. А люди, те, что гордо именовали себя горожанами, несмотря на вшей и струпья, несмотря на землистые нездоровые лица обитателей катакомб и подвалов, несмотря на необходимость питаться чем придется – дерном, трупами животных, а порой и человеческим мясом, – они никуда не ушли из города. Да и куда они могли уйти?
На востоке свирепствовали банды, но в город не входили, опасаясь нелюдей-прыгунов. На севере в лесных чащах охотились бесшумные быстрые твари, по внешнему виду напоминающие лошадей, но с острыми костяными иглами на боках и холке, которыми со смертельной ловкостью вспарывали плоть неосторожным путникам. Юг был выжжен и высосан радиацией настолько, что земля светилась голубоватым мертвым светом, отчетливо видимым ночью; а в тумане, что постоянно висел, застилая чахоточное солнце, двигались, причудливо изгибаясь, смутные желтые тени: не то мутанты, не то демоны. Северо-запад зиял исполинской ямищей, заглянуть в которую охотников не находилось. Из бездонной глубины тянуло сладким смрадом, порой доносились слабые голоса, словно бы птичьи и детские одновременно.
Короче говоря, выхода из города не было. Каменные обрубки и развалины, перекошенные в плесневеющей улыбке щели подвалов, нагромождения ржавых свай, битого стекла и гнилых тряпок в лужах расплавленной пластмассы, фантастическое переплетение проводов, обнаженной арматуры и робких виноградных побегов, – все это держало горсточку чудом выживших и выживающих людей в уродливых ладонях; изувеченный город по-своему, по-сиротски пытался помочь своим бледным детям.
А покрышки горели не случайно. Дым отпугивал крыс. От дыма у них слезились глаза и портился нюх, и они не могли взять след беглецов. Люди, укрывшиеся в бомбоубежище под мостом, знали, что это ненадолго. Рано или поздно покрышки догорят, и крысы, влекомые жадной яростью голода, придут за ними. Груда железа, забившая вход, металлические листы и трубы, с величайшим трудом воздвигнутая баррикада не выдержит бурного звериного натиска, и все будет кончено в считанные минуты.
Дети сидели на полу безмолвной кучкой, почесываясь под лохмотьями. Самые маленькие спали. Взрослые негромко перешептывались в полумраке; некоторые стояли, бессильно прислонясь к щербатым стенам, иные сидели на корточках, низко повесив головы и равнодушно уставясь в пол. Лица взрослых и лица детей одинаково усталы, черны, безразличны. Женщины пытались было плакать, но раскашлялись от гари и поспешили проглотить слезы.
Вся беда в том, что зима выдалась слишком голодной. Крысы совсем взбесились, сотни разъяренных тварей размером с собаку носились по городу, сбивались в стаи, стаи дрались насмерть, но пищи все равно не хватало, и крысы пошли на отчаянный шаг – заключили союз с прыгунами.
Некогда прыгуны были подобны людям. До войны эти существа гордо именовались Homo Super, сильная раса, другая порода. Измененный генетический код позволял этим созданиям, не знающим ни усталости, ни сомнений, двигаться быстрее и легче, расходовать силы экономнее и проще, ощущать сильнее. Длинные ноги, из-за которых они и получили свое прозвище, никогда не пребывали в покое. Даже во сне (а спали они часа два-три в сутки) пальцы ног шевелились, подрагивали. Бессловесный покорный пролетариат, выведенный искусственным путем, чтобы служить людям, за годы послевоенной разрухи тотально мутировал, опустившись до дикого, первобытного состояния. Их постоянные войны с крысами носили артистический характер. Словно участники пародийной корриды, они возвышались над серыми тварями на длинных ногах-ходулях, а жесты их были быстры и грациозны. Крысы шипели, кидались, намереваясь вцепиться когтями и зубами, разорвать врага; прыгуны двигались чуть наигранно, словно в рассеянности – внезапно перепрыгивая своих противников, оказывались совсем в другом месте, чем до того. Иногда крысам везло, и они разрывали неудачливого прыгуна на части с необычайной свирепостью и в глумлении нанизывали отдельные куски его тела на острые сучья деревьев или прутья арматуры, выставляя их на посмешище, как дикие племена в старину украшали свои жилища черепами поверженных врагов. Прыгуны и крысы презирали друг друга, и то, что эти давние враги объединились, означало одно – людям не на что было больше надеяться.
– Легко обмануть крысу, – говорили старики, – она глупа, подслеповата. Один инстинкт и ярость. Были случаи, когда удавалось даже напугать ее и обратить в бегство – где забияка, там и трус. Не то прыгуны: с ними не поспоришь. Однако ленивы и не любят долгого преследования: бежишь, бежишь от него, и уже, кажется, настигает, так ведь нет – остановится, как задумается, хлопнет себя по коленкам, да и прочь повернет.
С объединением двух вражеских племен людям стало совсем неуютно. К отдельным смертям относились спокойно, но теперь началась методичная, целенаправленная резня, и улицы города окрасились кровью. Загонщики держались уверенно, зная, что сила на их стороне. Кольцо облавы, устроенной нелюдями, сжималось до тех пор, пока не сбились в толпу все оставшиеся еще в живых люди, испуганные, обозленные, отчаявшиеся. Огнестрельного оружия у них не было, а топоры и пики не много значили перед стеной ощетинившихся хищников. Чуть не попались, но кто-то вспомнил о старом бомбоубежище под мостом.
Глупая затея – да и черт с ней – последний заслон, который сдержит убийц хоть на час, последний приют представлялся желанным и надежным местом. Никто не хотел признаваться в том, что устал, что измучен, жаждет смерти. «Мне-то уж все равно, а она как же?» – думал мужчина, глядя на свою подругу. Женщины, забыв себя, тревожились о детях. Дети понимали все, даром что малы; но ребенок вообще не верит в смерть, считая ее страшным недоразумением, никоим образом не касающимся его самого.
Металлическая баррикада была хлипкой, ненадежной, дым от горящих шин ел глаза, а крыс еще не было слышно. Часовые, крепкие мужчины с пиками, старательно прислушивались, в любой момент готовые принять бой, но все было тихо. Надолго ли?
Кислая душная полутьма, жара, запах страха и немытых тел, тусклые детские глаза и женские всхлипы, покорное сопение мужчин – все походило на липкий кошмар, хотелось криком разорвать напряжение, вскочить, делать что-нибудь.
Медленный странный звук проплыл в воздухе. Дети мигом вздернули головы и заозирались, как потревоженные зверята в стае, женщины прекратили плакать. Звук был так нежен и мелодичен, что люди забыли о своих заботах, полностью обратившись в слух.
Вслед за первым возник новый звук, он был тоньше и жалобнее, трепетным чувством повеяло от него, словно птица прочищала горлышко. Люди, удивленные и заинтригованные, устремились вглубь тоннеля, откуда доносились звуки.
Четверо оборванцев по-птичьи невесомо мостились на обломках ящиков, держа в руках инструменты. Музыка! Что-то невыносимо легкое и страстное, что просится в глаза, набухая слезами и заставляя сердца биться чаще обычного. Что-то живое и мягкое, как трава, но сильное и с пламенным характером, объемлет весь мир и едва ли уместится в груди.
Четверо незнакомцев играли ладно и естественно, как дышали. Скрипка слегка кокетничала с гитарой, а меланхоличная труба совсем не заглушала флейту, давая ей выговориться вволю. Звуки плыли, сияли, слагаясь в мелодию причудливой, ясной, немного грустной красоты.
Снаружи бомбоубежища уже собралась порядочная толпа. Взъерошенные серые твари не решались подходить вплотную – дым раздражал им ноздри. Длинные, белесые прыгуны терпеливо ждали. Они были уверены, что крысы не удержатся и рванут в атаку первыми. Прыгуны осторожничали и хотели действовать наверняка, не нарываясь на пики отчаянных защитников убежища. Крысы раздражались все больше, их голые хвосты хлестали по земле, с клыков слетали брызги желтой слюны. Изредка наиболее отчаянная из них подбегала к завалу, устроенному людьми, но попадала в полосу дыма, фыркала, чихала и отскакивала прочь.
Когда серые звери и белые выродки услышали звуки музыки, они насторожились. Что-то странное происходило там, внутри, что-то страшное и непонятное. Крысы отошли на всякий случай подальше и застыли, нервно попискивая. Прыгуны опустились на корточки, – уморительное зрелище – длинные колени торчали вверх, как лапы саранчи, – и недоуменно переглядывались между собой, лица их сделались пустыми и растерянными. В это время солнце пропало, тучи наползли на небо, и горизонт превратился в сплошной синяк, предвещая неизбежную грозу.
Робко струилась флейта, гитара бежала вслед, подпрыгивая на ухабах, которые сама же и создавала, темно-красное зарево трубы вспыхивало и гасло огромным добрым сердцем, а скрипка, милая девочка, легко входила к каждому в душу, как в дом, простирала тонкие руки, звала, целовала искренне и вдруг.
И не стало больше духоты, и полутемная глубь тоннеля озарилась от восторженного потрясения горстки людей, бывших еще минуту назад усталыми и обреченными. И старик зашептал на ухо замарашке-мальчугану, взяв его нетвердой рукой за плечо: «Это они. Я знал, что придут. Мой отец рассказывал, что так будет, да я не верил! Прости, отец. Когда придется совсем худо, и смерть подступит к порогу, и слезы обратятся в пыль, а кровь в воду, и все станет безразлично; и сама жизнь покажется маленькой и тусклой, и руки опустятся, и страх обовьет сердце, они придут, – говорил отец, – придут играть песни любви и печали. И голоса их будут не грубые, не тонкие, а как раз такие, что поймут все, и все примут их в себя и насытятся ими, утолят боль и уничтожат страх». Так говорил старик, безумно блестя широко открытыми глазами, – но мальчуган не слышал, музыка очаровала и пленила его.
Снаружи хлынул дождь. Резкие прямые струи внезапно пали на землю, и всё уверенней, и жестче, и яростней били, словно хотели извлечь из нее тайну, взломать, добиться хоть стона, хоть вздоха. Ни крысы, ни их белесые спутники не обращали внимания на ливень. Они не двинулись с места, – крысы вздрагивали, переступая розовыми лапами, и щурились сквозь мокрую пелену, прыгуны закрыли глаза, охватив себя руками и слегка покачивались в такт музыке.
«Прекратите! Прекратите немедленно!» – закричали бы крысы, если бы могли.
«Где мы? Что мы? Ничего не знаем: мимо, прочь, все пустяки», – покачивались прыгуны.
Музыка смолкла так же внезапно, как и началась. Люди оглядывали странных чародеев, впитывая их черты глазами, затем собрались вместе и стали раскидывать завал у входа. Тишина царила в их рядах, но музыка звучала внутри, не прерываясь ни на миг.
Дождь иссяк, небо просветлело, и только редкие золотистые нити вонзались в мокрую почву.
Навстречу крысам, облепленным влажной шерстью, дрожащим от холода, выходили люди. На их лицах утвердилось спокойствие, прочная, окончательная власть. Они шли с оружием наперевес, но шли не защищаться, а убивать. Крысы зашипели и подались чуть назад, готовые к кровавой битве, но их ярость захлебнулась в ясных человеческих глазах. То, что несли они в себе, было вне смерти, вне боли. Смирение и уверенность, слабость и непоколебимость сплавились в единое целое, и людская воля смертельным острием нацелилась в мохнатые рыла.
Прыгуны исчезли мгновенно, скрывшись в персиковых сумерках дряхлого города-калеки. Крысы не смели убежать и не решались начать бой.
Маленький мальчик, с прозрачной от голода кожей, едва заметный, как осенний ломкий стебелек, поднял с земли камень и бросил в ближайшую усатую морду. Крыса завизжала.
Мастер иллюзий
Метель замотала своими белыми бинтами все улицы и площади Старого Города. Снежинки, прикидываясь сахарной пудрой, поблескивали в свете фонарей, полирующем пространство Базарного Круга. Их сестры, не попавшие под холодный огонь лучей, скромно ложились на снег и исчезали в общей массе, так и не удостоившись предстать во всей своей красе перед редкими прохожими.
Считаете, не на что здесь любоваться? Напрасно! Сам Пипин Шинкельмайзер фон Дуфф, не последний человек в городском Совете, академик и провидец, посвятил строению и форме маленьких ледяных странниц здоровенный фолиант. Частенько он говаривал своему внуку, покачиваясь в кресле с любимой трубкой в зубах: «Помни, Мирти, самые незначительные явления заслуживают самого пристального внимания. Иначе как же ты сможешь доказать свою причастность к этому миру? Только через созерцание и размышление!»
Но оставим старика в покое. Эта история вовсе не о нем.
Мороз и разыгравшаяся метель не способствовали торговле – сегодня Базарный Круг был пуст. Прохожие, скрыв лица под капюшонами, торопливо перебегали огромное голое пространство, чтобы затеряться в каменных лабиринтах города. Кто-то подсчитал, что на каждые двадцать шагов здесь приходится один трактир или пивной зал. Ну, в такую погоду это к лучшему. Да и где еще согреться простому человеку, как не в теплой атмосфере, среди запахов жаркого и щекочущих обоняние соусов и приправ, среди веселых краснощеких людей, так оживленно болтающих друг с другом, будто их языки оттаяли с мороза, где пышная хозяюшка с длинными, как шелковые кисти, ресницами, ловко разносит пузатые кружки, наполненные отличным элем? В конце концов, одна кружка может здорово поднять настроение озябшему прохожему, что немаловажно в такой ужасный вечер.
Позвольте, какой еще вечер? Часы на городской ратуше недавно пробили три часа!
Вечер не вечер, а пасмурно. От мороза перехватывает дыханье, снег липнет на ресницы. Будто город накрыли огромным одеялом, – и в глазах темнеет, и дышать трудно.
В это самое время, а может быть, чуть раньше, но вполне возможно, что и позже, в город вошел человек в светло-сером дорожном плаще и простом холщовом капюшоне, грубо окрашенном в коричневый цвет. Да так, что казался в разводах грязи, словно человек напялил на голову старый мешок. Человек шел налегке – ни котомки, ни даже дорожного посоха. Хотя, конечно, если он имел с собой достаточно денег, то не нуждался в обременительной поклаже. Жители Старого Города всегда готовы оказать дружескую услугу одинокому путнику, застигнутому метелью. За какие-то пару-тройку монет он найдет здесь самый радушный прием.
Но, увы, когда человек скинул плащ при входе в трактир, его пояс оказался обычным поясом – никакого кошелька на нем не висело.
Улыбчивая трактирщица сразу раскусила пришельца. Что-то шепнула здоровенному бородачу, и через минуту тот уже выпроваживал беднягу:
– Иди, иди! Здесь не место всяким проходимцам!
Пирующие за соседним столиком профессора– богословы упрекнули его в жестокосердии:
– Куда ты его гонишь, хозяин? В такую погоду и собаку тронуть грех, не то что человека!
На что последовал ответ:
– Будьте покойны, господа книжники, занимайтесь своим делом. Добро, если бы просто бродяга, а то ведь – эвон!.. Неужто не признали мастера иллюзий?
Люди сразу приумолкли. Вопросительные и испуганные взоры обратились на мужчину, который только грустно улыбался, щурясь на огонь. Бражники пристально рассматривали его, и на всех, без исключения, лицах, лежала печать враждебности.
Мужчина, который выглядел совсем молодо, – жидкая бородка едва пробилась на подбородке, мокрые волосы густо облепили лоб, близорукие агатовые глаза мягко сияли, как два маленьких очага, – сделал попытку смягчить людей:
– Не хлеба прошу у вас, высокочтимые, не ночлега! Погреться, дайте мне только час отдохнуть у огня!
Молчание в ответ.
Здоровяк трактирщик сильно толкнул его в спину:
– Нечего, нечего! Иди себе мимо! Закон не велит якшаться с такими мазуриками. Убирайся, откуда пришел!
Когда за незнакомцем захлопнулась дверь, тихий вздох облегчения, вырвавшийся из двух десятков уст, облетел помещение. Но разговоры не возобновились – людям казалось, что дух изгнанника все еще витает поблизости. Они чувствовали себя не лучшим образом.
Мастер иллюзий, опершись о гранитный столп, воздвигнутый в память давно забытого императора, исходил кашлем. Алые капли крови, слетевшие с его губ, вонзились в снег, как зернышки граната. Равнодушие и черствость этих людей убивали его. Слишком долгой была дорога; часто ему приходилось ночевать, укрывшись в придорожных канавах под грудами сырой листвы. Или прятаться за деревьями при любом намеке на приближение конного экипажа. Он опасался погони.
Скверное дело. Если в ближайшие час-два он не найдет пристанища и горячей пищи, то не дотянет до следующего утра.
Однако он не испытывал ненависти к людям, прогнавшим его взашей, потому что знал – они боятся его до обморока, до истерики…
Мастер иллюзий испытывал странное ощущение, что боль и усталость разливаются рекой по всему телу и холодят его, превращают в студень. Это даже не было связано с погодой – он боялся, что начинает терять контроль над своими рефлексами. Неужели преображение началось без его участия?
Белый покров так обманчив! Снежные ловушки под ногой – где-то ступишь по щиколотку, а где-то ухнешь чуть ли не по колено.
Он сосредоточенно смотрел под ноги, словно мог что-то изменить. Например, выровнять свою походку, шаткую от голода. Или высушить усилием мысли насквозь промокшие сапоги.
Нет ничего хуже дырявых сапог. Без хлеба, без крова можно перетерпеть некоторое время, но сапоги непрерывно напоминают своему обладателю о его горькой доле.
Мимо пролетел снежок. Пущенный детской рукой, он едва не угодил в ухо мастеру.
Он повернул голову на звук заливистого смеха: чуть больше дюжины детей, мальчики и девочки, затеяли веселую возню.
И верно, отчего бы им не веселиться! На них надеты теплые вещи. Когда они почувствуют усталость или замерзнут, то поспешат домой, где их ожидают горячий ужин, очаг, теплая постель.
Тепло. Огонь. Жар…
Он представил себе это. Представил себя свободными, извивающимися крыльями пламени.
Дети прекратили свою игру. Они подошли ближе, разглядывая незнакомца с удивлением и восторгом.
– А еще покажите что-нибудь, дяденька! – дернула его за рукав маленькая девочка, закутанная так сильно, что из-под пухового платка выглядывали лишь глаза и острый носик.
Мастер иллюзий устало улыбнулся. Какая– никакая, а все же аудитория! Дети, видимо, совсем не боялись его. Детям не было дела до взрослых запретов и суеверий.
Он смотрел в эти глаза, чистые, не отягощенные подозрением или сомнением. Только любопытство. И вера.
Мастер иллюзий развел руки на ширину плеч и помахал ими вверх-вниз.
– Сейчас будет медведь, – пообещал он детям. – Но не надо бояться – медведь добрый.
Бурая шкура, плечи горбом, мокрый черный нос. Неуклюжие шаги, довольное покряхтывание и ощущение мощи, от которой делалось даже щекотно.
Дети заверещали от восторга. Делая большие глаза, они скакали вокруг, а мишка грузно уселся на задние лапы, поднял башку вверх и размахивал когтистыми пальцами, разгоняя назойливых белых мух.
– Кошку, кошку! – закричали дети. – А теперь кошку!
Медведь превратился в кошку. Гибкое балансирование на самых кончиках лап. Усы промокли от снега – фи, гадость! Кошка недовольно отряхнулась и принялась вылизывать подушечку лапы, чтобы хорошенько пройтись по ушам, по пушистым щекам, по шее. Что за глупые дети! Не подходите, грязнули!
Кинувшийся было погладить ее мальчишка отпрянул, едва не получив пощечину. Кошка предостерегающе зашипела. Неужели они теперь попросят ее сделаться мышкой? Торопясь предупредить глупые желания детей, Мастер иллюзий стал королевой – где кошка, там и королева!
Горностаевая мантия, тяжелыми складками спадающая на снег, надменный взгляд, безупречность черных локонов, увенчанных жемчужной тиарой. Дети, как один человек, преклонили колени.
– Боже, как она прекрасна! – ахнула самая маленькая девочка, в порыве благоговения складывая руки на груди, где под складками одежды таился серебряный нательный крестик.
Королева окинула своих маленьких подданных надменным взором и обернулась эльфом.
Прозрачным эльфом, сквозь которого просвечивали снежинки, да еще к тому же тихо звенели, ударяясь в невероятно прекрасные хрустальные крылья. Хотя была зима, и метель заметала все кругом, раскрашивая мир в сонный цвет ваты, но детям казалось, что они видят радугу на кончиках стеклянных перьев.
Через несколько минут, когда дети привыкли к этой метаморфозе, а некоторые от восхищения так и остались сидеть на снегу, – Мастер иллюзий превратился в баклажан.
Обычный баклажан, правда, довольно большой. Такое волшебство порадовало детей не меньше, чем эльф, даром что было совсем простым, не требующим особой сноровки.
Затем превращения шли друг за другом беспрерывно, как картинки в окошке шарманки.
Он сделался деревом. Мускулистым лесорубом. Орком с Забытых гор. Голубоглазой лошадью с застенчивыми мягкими губами – дети пожалели, что в карманах не завалялся хоть кусочек сахара или мякиш хлеба! Цикадой. Недовольной выдрой в смешном остроконечном колпаке. Изнеженным придворным музыкантом в кружевах, запонках и брелоках. Старушкой в чепце. Телегой о трех колесах.
Дети забыли о времени. Они не обращали внимания на мороз и снег.
А Мастер иллюзий забыл о своей боли. Он чувствовал, как холод постепенно забирает его тело, последние остатки тепла растворяются в ледяных пальцах, словно кусочек масла – в горячем какао. Однако это медленное угасание вовсе не беспокоило его. В свете восторженных детских глаз он являл все свои способности, демонстрировал все трюки – и давно отрепетированные, и новые, придуманные только что.
Он импровизировал. Он замерзал.
Он творил, играл, дарил.
Он умирал.
Он был счастлив.
Предметы и живые существа в его исполнении смешивались, менялись местами, переходили друг в друга. Вот колдунья с головой совы. Вот табурет, из которого растет трава, а среди травы торчат, как грибы, несколько любопытных длинных носов. Стена, на которой углем нарисован трубочист. У трубочиста – живые васильковые глаза. Олень с хвостом павлина, на рогах свил гнездо изумрудный паук с рябой физиономией деревенского дурачка. Рыцарь в латах из зеркал, в каждом кусочке зеркала отражалась довольная улыбка Мастера иллюзий. Рыцарь улыбок.
Большая рыба на собачьих лапах. Девушка в платье из лесных трав, с волосами цвета утренней дымки, всплеснула руками и внезапно рассыпалась сотнями мыльных пузырей.
Наступил вечер. Темнота властной рукой разогнала ребятишек по домам – как-то вдруг неинтересно и холодно стало им.
Мастер иллюзий продолжал свое выступление, его не смущал мрак. До тех пор пока хотя бы один ребенок следил за его волшебством, он не ощущал усталости. Ни прошлого, ни будущего. Ни мыслей, ни забот.
Он оглянулся вокруг.
Никого.
Лишь ветер воет в тесных проулках, свистит по-разбойничьи, протискиваясь в печные трубы, с любопытством проверяет все доступные щели и дыры, закручивается спиралями, ложится на снег и вздыхает, как усталое дитя.
А он даже не заметил, что ноги замело снегом почти до колен. Вьюга так сладко шептала в уши, так заботливо укутывала мохнатым платком…
Он попытался сделать шаг и понял, что больше не чувствует своих ступней. Холод заполнил тело, ледяная вода прихлынула к глазам… неожиданно ему стало жарко… так горячо, что, казалось, тело его не сможет вынести такого пыла и скукожится, свернется в пепельный кокон.
Тогда Мастер иллюзий лег на снег, сразу принявший его форму, и широко раскинул руки, словно стремился разом обнять целый мир, и это седое небо, неустанно засыпающее землю своими слезами. Колючими сиротскими слезами.
Мастер иллюзий превратился в птицу и взлетел. Ему не нужно было махать крыльями или ждать ветра – тело птицы медленно просачивалось сквозь снег, сквозь суровые городские тени, сквозь иглы звезд. Птица летела в те края, где обличье ничего не значит и ничему не служит преградой.
Птица лежала на снегу. Остекленевшие глаза ее были похожи на бусины. Птицу постепенно заносило белой равнодушной крупой.
Ласло, сын обер-гофрейтора, зарылся глубоко в одеяла, лишь один нос торчал наружу. Он пододвинул свою кровать к самому окну и теперь смотрел на снег в свете фонарей, на звезды и крыши соседних домов. Он лежал в темноте. Только что отец здорово поколотил его и оставил без ужина. Спина и ягодицы мальчишки ныли от тяжелых отцовских ударов, поэтому он лежал на животе.
За что отец рассердился на него? Ласло только рассказал, как здорово им было играть с Мастером иллюзий, как весело они с ребятами провели время.
– Не желаю этого слышать! – ревел папаша, полосуя бедного мальчугана широким поясом из сыромятной кожи, отделанным медными заклепками. – Будешь знать, как шататься со всякими проходимцами! – орал он, избивая сына.
Мать не посмела вступиться, только всхлипывала за спиной отца. Потом она тайком принесла на чердак, где спал Ласло, кружку молока и кусок белого хлеба.
Мальчик смотрел на звезды, но звезды молчали. Снежинки образовали на стекле прекрасный узор, состоящий из множества лепестков и треугольников. И все-таки этот узор не был так хорош, как крылья прозрачного эльфа или убор королевы.
Ласло припомнил рыцаря, в латах которого плясали сотни улыбок. Наверное, такой рыцарь непобедим в бою. Кто же решится поднять меч на улыбку?
Мальчик сжал пальцы в кулак и погрозил звездам. От его дыхания на стекле ширилось, стекая неровными краями, расплывчатое пятно.
– Я тоже стану мастером иллюзий, – пообещал себе мальчик. – Непременно.
Два прощания
I
Черные тени преследовали его всю жизнь. Они были не страшные – рваные клочья, бесформенная надоедливая сволочь. «Зрения ни черта нету, – говорил он друзьям, – зато вкус, господа!» – и звонко откупоривал шампанское.
Из всех звуков, обычных звуков, знакомых любому человеку, тех звуков, которых не было у него сейчас, но которые он помнил, лучше всего память сохранила именно хлопанье пробки шампанского, смех и отчего-то негромкое лошадиное ржание. И скрип снега под сапогами. И звук капли, падающей из крана и ударяющейся о стенку цинкового ведра.
На всех квартирах, где он жил когда-то, в роскошных и так себе квартирах, почему-то постоянно текли краны. Странно, но это было так.
Итого: пробка, смех, лошадь, скрип снега, капли. Пять впечатлений, пять драгоценных камней – он мог по желанию извлекать их из шкатулки памяти и прятать назад. Да, скудное богатство после тридцати трех лет жизни, но и за то спасибо.
Вокруг него, справа и слева, стонали и беспокойно ворочались на койках дурно пахнущие люди. Он не обращал внимания, лежа с закрытыми глазами, играл со своей памятью, иногда морщился от боли, дыхание кололо легкие, и воображаемые звуки сразу становились тише, едва уловимее.
Можно было сращивать эти звуки, обменивать между собой, например: пробка и смех, лошадь и скрип снега – это обычно, а так: капля и пробка, лошадь и смех – необычно, забавно.
Он мог бы сочинить отличную театральную пьеску, из пары звуков сделать целую историю – люди бы хохотали до колик над ней или, напротив, сопереживали. Он сердился на себя за то, что и теперь, когда в больной груди скрипело и трещало, не может отвлечься и придумывает пустяки, занося их в воображаемую тетрадку: вдруг да пригодится.
«Куда? Тпру! – говорил себе. – Это конец, Аркашенька. Завтра не будет». Не будет уютных старых театриков с въевшимся на века запахом карамели, не будет восторженных, гладко причесанных дам-поклонниц в ослепительно белоснежных кружевах – бумажных дам, как говорил его приятель.
Развлекаться же зрительно он не желал. Что тут увидишь особенного? Длинное, мрачное от недостатка света помещение, с узкими койками в два ряда, высокий потолок, который чувствуется – нависает, – но не виден, ужасный запах болезни и такая неудобная, плоская, как блин, подушка, набитая соломой. Голова беспокойно ворочается на этом блине, чувствуется каждый шейный позвонок.
Доктор с бородкой клинышком, словно земский откуда-нибудь из Рязанского уезда. Пришепетывающая, щелкающая речь. Да, вот что: слишком подтянут – видно иноземца, – наши всегда хоть чем-то небрежны: пуговица расстегнута, пенсне смешно висит под ухом или волосы не в порядке.
И еще обратил внимание: лампы. Между кроватями, на одинаковом расстоянии, крепятся к стенам, но далеко не всем больным доступна такая роскошь. Крепятся достаточно высоко, чтобы ни лежа, ни сидя больной не достал, а только тот, кто стоит – врач, санитар.
Лампы стеклянные – розовые бутоны. Свет от них кислый, словно сквозь мучное облако пропущен. Розан. Что же, и в других больницах, и в комнатах, где стоят ванны для больных, и в женских палатах, и в покойницкой. Да, везде, повсюду. А теперь надобно представить завод, где делают такие лампы. Рабочие (или стеклодувы?) одеты в чистое – это не угольная шахта, не домна. Конвейерная лента несет сотни и тысячи розанов для казенных учреждений, больниц, учебных заведений, уборных. Штампованное убожество.
Надоевшая вещь, поджидающая человека, куда бы тот ни направлялся. Вещь-призрак. И перед разверстыми вратами могилы увидишь себя, белокурого бутуза в чулочках, с обручем, а затем – стеклянный розан.
Мерзость.
Природа наполняет мир существами, человек – вещами, кто выйдет победителем из этого соревнования?
«Я полежу чуток, соберусь с силами, встану и раскокаю эту лампу», – думает со злорадством.
Напротив, в ряду коек, все лежачие больные; сквозь железные прутья видны одни лишь ноги. Богаче или беднее господин – легко понять по носкам. У кого их и нет вовсе, у кого – серые, заскорузли от грязи, у иных с дырами, а вот, глядите, – толстые, бежевые, вязаные в два слоя заботливой супругой.
День – блекло и мутно, будто мухи кружат в воздухе, очень маленькие, едва оживляющие воздух, мухи.
Вечер – воздух вспухает, наливается чернилами, как синяк, кроватей напротив не видно, а так – одни прутья, как вдоль поскотины прогуливаешься.
Ночь – зажигают розаны, и возникают неуверенные шары света, повисают в длинном, необозримом помещении: не пушистые, не колючие, какие-то неприятно рукотворные головки одуванчиков. Мысленно он ходит и задувает эти шары – темнее, еще темнее, тьма сгущается, и вот совсем уж хорошо, здорово, весело, носа не видать. И на крики, жалобы, стоны не придут врачи – побоятся темноты, и люди поймут, наконец, что плакать бесполезно, и тогда станет очень просто – либо умрут, либо уснут. Тишина. Колыбель тьмы.
Однако утром есть некий час (условно говоря, полчаса или несколько минут), по безмятежной тишине не сравнимый ни с одним из временных отрезков мучительных, бесконечных суток. Больничные запахи как будто растворяются, уходят в стены или в уродливые стеклянные бутоны, а воздух делается прозрачен до рези в глазах. Видна любая пылинка, случайно повисшая в пространстве. Тяжелые больные, утомившиеся от затяжных приступов, спят, дыша надсадно, как после долгого бега. Менее тяжелые – везунчики! – счастливы и во сне. Они дышат невесомо, и даже укладываться под тонкими одеяльцами приспособились так, что одни носы торчат – подоткнуты, завернуты в коконы.
И умирать, верно, хорошо в такой час – не тревожа докторов, не всхрипывая, не раскидывая рук, не испытывая брезгливой неловкости от десятков устремленных на тебя враждебных или испуганных взглядов.
Боже, помоги мне умереть именно в такой час!
Несколько раз его навещали. Приходил Пшебыцкий, антрепренер, помогавший ему организовывать чтения. Пшебыцкий вертел в холодных, с фиолетовыми ногтями, пальцах мундштук и был учтив, как сотрудник похоронной конторы. Для чего многие люди носят с собой вещи, которыми не пользуются? Ведь он не курит, а – мундштук.
Забегала Борисова-Гельгофер, экзальтированная старая княжна, у той в руке вместо мундштука извивался кружевной белый платочек с инициалами. И если Пшебыцкий вертел мундштук всеми пальцами руки, деловито, основательно, будто тренировался для фокуса, то Борисова обходилась тремя пальцами, щепотью, скомкивая кружевную тряпочку, пропуская ее между указательным и ладонью. Она была так любезна, что сделала попытку заплакать, подносила платок к глазам, но не слишком близко, чтобы не задеть тушь.
Заходил также Архангельский, босяк-кутила, ноздревской кости молодчик. В балаганной рубахе, с обвисшими щеками, оснащенный треснутым пенсне и за версту отдающий трактирной стойкой. Он изрядно рассмешил тем, что был пьян и просил денег.
– Братец, какие деньги? – говорил Аркадий. – Умираю я.
– Ничего, мы будем! Мы еще ого-го! – тряс кулаком Архангельский, шмыгал носом, божился, что устроит товарища в лучшем виде, договорится с могильщиками, а гроб возьмет глазетовый, шикарный.
– Пре-ши-карнейший одр, ей-богу! – пристукивал ногой пьяный Архангельский, глядя выцветшими серыми глазами в окно, в сторону, поверх головы Аркадия. Еще он говорил о каких– то дамочках, что очень интересуются, о каких-то подтяжках и, совсем завравшись, величал Аркадия жемчужиной российской словесности. Притом что язык его заплетался, Архангельский ловко успевал подхватывать то и дело выглядывавшую из ноздри соплю.
В конце концов, бесцеремонными речами балаганного шута возмутились больные и позвали санитаров, выставивших его вон. Зато Аркадий вдоволь насмеялся, до ломоты в гортани, до боли в углах рта.
Помещение топили высокой «голландкой», но из экономии средств не все время, а трижды в сутки. Аркадий от этих мер не находил пользы, а хуже всех приходилось тем из больных, кто лежал ближе к печи. Другие больные им завидовали, а на самом деле припечные страдальцы терпели попеременно то жар, то холод – печь остывала быстро, нагревалась медленно, а контраст между этими двумя состояниями оборачивался простудой и мокротою, скрипел, чавкал в легких, носах, горлах, выскакивал на бледной коже бледными же крепкими прыщиками.
Когда Аркадий попал сюда, у него еще брезжила надежда выздоровления, пусть нескорого, но верного. После же того, как ему сделалось хуже, и еще хуже, он понял, что попался.
– Я сам врач, – представился сосед справа, с седеньким ежиком волос, – до войны обслуживал три десятка постоянных пациентов, представьте!
– А я – человек без собственности, – отрезал Аркадий и не захотел больше разговаривать. И действительно, это так! Костюмы и галстуки, даже подтяжки – привет Архангельскому! – это ли имущество? Нет, все – игрушки, все – вздор.
Приятно было одно: сознавать, что вокруг ничего нет неизменного, видеть ясно свои ошибки. Раньше считал, что болезнь – это тиканье часов и запахи карболки и йода, мята под языком. Теперь же – жесткие пружины и еле слышный гуд. Пружины вросли в мышцы спины, при любом движении они стонали, как люди, и казалось, эти жестяные, ненатуральные звуки издавало его больное тело. Гудели голоса больных. Из-за окон доносился цокот, звон, лязг, – там не то строили, не то рушили дом, там ходили трамваи. Все вместе сливалось в один шелестящий, не отличающийся разнообразием тональностей поток, в единый гуд, от которого было не уснуть и который был явно присущ этим стенам, как лампы-розаны, как пыль, как полумрак и пружины в спине.
«Умирать некомфортно, – мысленно записывал Аркадий. – Ведь человек – не кошка». Он хотел придумать, чтобы вышло смешно, про кошку, но вдруг уснул. А проснулся – забыл, заспал свою воображаемую тетрадку.
Дни, приковавшие его к больничной койке, проходили одновременно медленно и быстро. Кроме болезни, делать было нечего, и он много размышлял, жалел о том, что не может читать, но все его мысли и воспоминания исчезали, как припасы рассеянной белки, все уходило в никуда. Поначалу его остроумие требовало перчика, и Аркадий шутливо препирался с врачами, с санитарами. Однако наскучило; стал неразговорчив – сдался.
«Если я выберусь, не смогу написать больше ни строчки, – подумал он однажды. – Хорошо, что я уже не выберусь».
Пружины скрипели – больные гудели – сверкала, повиснув, пыль в воздухе, – струились запахи мочи и карболки, – и так по кругу, постоянно. Организм его сдавал, он чувствовал слабость и режущую боль; слабость накатывала раз за разом все сильнее, как вода в приливе, а боль, всегда врывавшаяся незваной гостьей, стала злее и вгрызалась глубже. Тем не менее все происходящее с ним казалось Аркадию по-прежнему непонятной, неуместной шуткой, ошибкой, случайностью.
Просыпаясь утром, он все так же лежал в тишине, глядя на игру пылинок в бледном свете окон, и не понимал, что он делает здесь, и не мог привыкнуть к своему новому, обреченному смерти телу, как нельзя привыкнуть к узким, жмущим ногу ботинкам.
Однажды Борисова принесла два томика его книг; надеясь развлечь больного, листала, отыскивая наиболее смешные, по ее мнению, места, и смеясь деланно, как учительница для ребенка. Аркадий хмурился, выбранные для чтения отрывки казались ему слишком мелки и малохудожественны – сейчас он бы не так написал. А Борисова будто не замечала его терзаний, находя новые и новые отрывки, один другого хуже. Терпеть не стало сил, – он сделал вид, что засыпает, гостья ушла, оставив книги на тумбочке у кровати.
Аркадий не притронулся к ним; позже кто-то из врачей забрал почитать и не вернул. Но все было не важно.
В тот день он проснулся с ясной мыслью о смерти. Ощутил даже некоторую досаду: казалось, вот она стояла рядом, еще немного… нет, ушла. Больные спали, тишина висела такая густая, что он боялся шевельнуться, чтобы никого не разбудить, хотя спина совсем занемела в тисках пружин.
И тут вошла она. Белокурая девочка лет семи– восьми, в самом простом, даже строгом, платьице, с косичками, заплетенными голубыми лентами.
Девочка очень тихо прошла вдоль кроватей, дотрагиваясь ручонкой до прутьев в спинках; так обыкновенно дети ходят вдоль забора, постукивая по доскам. Ребенку хочется все сделать своим, заключить в свой мир; заметив вдруг что-то важное, хоть и бесполезное на взгляд взрослого, он непременно побежит и дотронется до этой вещи.
Девочка тихо бормотала под нос. Заметив, что Аркадий наблюдает за ней, она засмущалась, ахнула и подошла ближе.
– Я не хотела разбудить, – сказала девочка. – Извините, дядя.
– Я давно не сплю, ты еще не пришла, а я уж проснулся, – поспешил успокоить ребенка Аркадий. – Ты чья дочка?
– Папина, – удивилась девочка, но не глупости взрослого – она к такому явлению давно привыкла, а тому, что дядя спрашивает чепуху вот так сразу, в самом начале разговора.
– Я не то хотел сказать… Папа твой – он доктор? Он в больнице работает?
– Мой папа сторожем, – сказала девочка, – а мама умерла, бабушка болеет, старенькая, ей не до меня, и мне скучно сидеть одной, хорошо, папа забирает иногда, а то я бы со скуки позеленела.
«Как хорошо, – подумал Аркадий, – встретить русскую девочку в пражской больнице, это удача». Он очень хотел говорить с ней, но не знал, что спросить, поэтому сказал первое, что пришло в голову:
– А кто же тебе косички шнурует?
– Шнуруют ботики, – засмеялась девочка, – а косички я сама могу заплетать, не маленькая.
– А что ты еще можешь, барышня? – продолжил на той же шутливой ноте Аркадий.
– Ой, многое могу. Во-первых (загнула пальчик), могу шитье вышивать, и песен много знаю, только не могу долго петь – грудь болит. Это во‑вторых, – спохватилась девочка, загибая второй пальчик. – Да еще стряпать научена: и котлеты, и суп, и овощи сварить, а лучше – жарить, но масло нынче дорого, – всплеснула руками, как хозяюшка, по-взрослому. Заметив интерес Аркадия, она немного порозовела на щеках и продолжала: – Могу танцевать и выдумывать разные фигуры. Могу ходить за ребенком и за больным.
– А за кошкой? – спросил, забавляясь, Аркадий.
– Зачем же за кошкой? – строго ответила девочка. – Кошка сама где хочет, там ходит. Она глупая – она же зверь.
– А если кошке плохо? Заболела? – не отступал Аркадий.
– Если заболела, тогда можно. То есть, – поправилась честная девочка, – я не пробовала, но, наверное, можно и кошку лечить. Всех лечат одинаково, укутывают тепло и дают горькие порошки. Я знаю, я болела, – знающим тоном закончила она.
– Еще умеешь что-нибудь?
– Ах, что же тебе еще… – призадумалась малолетняя девица. – Ну, могу целую ночь не спать! Могу в подвал спуститься без света и не бояться! Потому что чертей нет вовсе, а есть наука, – добавила она, вероятно, повторяя отцовские слова. – Еще я в церковном хоре могу подпевать, не очень громко. И с горки зимой могу съехать и не упасть, даже если очень крутая. И рисовать могу угольком – лучше всего у меня выходят сердца и голубки. И царь – он в короне.
Девочка сделала паузу, обдумывая продолжение, делая вид, что запыхалась, – чтобы новый знакомец не счел ее глупыхой.
– Это в скольких будет? – спросил, дурачась, Аркадий, и кивнул на ее все еще сжатые два пальчика на левой руке.
– Ох ты! – захлопала ресницами девочка. – Считать-то я позабыла! – и опять так мило порозовела, что Аркадий крякнул от удовольствия.
Девочка говорила негромко, но уже начинали ворочаться и вздыхать больные, и стало страшно, что сейчас их нечаянное свидание нарушится чужими голосами.
– Ты умеешь играть в салки? – спросил он, торопясь, волнуясь.
– Умею. А вы… ты разве можешь? Ты же не ходячий больной!
– Давай так играть: ты будешь бежать взаправду, а я – как будто бы побегу. Вот, смотри! – осенило Аркадия. Он с усилием наклонился к тумбочке и достал карманные часы с широким циферблатом. Стекло часов поймало свет из окна, и на дощатый пол прыгнул круглый, чуть приплюснутый, зайчик.
– Это будешь ты? – серьезно спросила девочка.
– Я.
– Ладно, только чур, не жулить! Я же не могу так быстро, как солнышко, бегать, – девочка внимательно оглянулась, увидела, что больные еще дремлют, и, опустившись на корточки, разулась, аккуратно поставив желтые ботики возле ножки кровати.
Аркадий сказал: «Чур-чура!» – и ребенок побежал. Она высоко отталкивалась от пола, похожая на молодого олененка. Забыв про боль в груди и боку, он свесился с кровати, преследуя ее бликом от часов. Девочка на бегу оборачивалась, следя за круглым желтым пятном, и кусала нижнюю губку, сдерживая смех.
Даже в игре она оставалась сосредоточенной, помня, что вокруг спящие люди. Ее ноги в чулочках касались досок пола почти неслышно, тем более что девочка бежала на цыпочках, как юная балеринка. Но вот световой кружок коснулся ее платья – Аркадий понимал, что не может долго «бегать», потому что потеряет связь с солнцем. Девочка почти мгновенно остановилась, всплеснула ручками: «Охо-хо!» – и бросилась вдогон за зайчиком.
Аркадия увлекла игра, он бежал глазами по черным, не очень ровным доскам пола, и казалось ему, впервые в своей жизни видел так ясно, различая всякую трещину. Между тем выражение девчачьей мордашки изменилось: теперь она из олененка сделалась охотницей, хищницей.
Чуть замешкавшись, он позволил девочке наступить на световой кругляшок. Малышка вскинула руки высоко над головой и закружилась, притопывая ножкой, празднуя победу.
Трижды Аркадий «гнался» за девочкой, добегавшей почти до конца длинной залы, и столько же раз юная артемида преследовала белого проворного зайчика.
В разгар забавы явился отец девочки: в зеленом, словно пылью притрушенном, френче. Аркадия неприятно поразило то, что он был весь согнут, придавлен грузом лет и жизненных тягот – опущенные плечи, обвисшие щеки, даже усы двумя растрепанными щетками сползали, устремляясь к выбритому до синевы подбородку, очевидно, намереваясь покинуть исполненное скорби лицо.
Надевая ботинки, – а отец выжидающе стоял за ее спиной, кратко и печально извиняясь за «неосознанные шалости» дочки, – девочка на мгновение сжала горячими пальцами руку Аркадия и прошептала: «Выздоравливай скорее!»
Потом они ушли.
Аркадий не притронулся к принесенному сиделкой завтраку. Он думал о том, что так и не успел сказать своей юной подруге, что это была самая счастливая встреча в его жизни – как будто солнечный зайчик, сойдя со страниц лучшего из его рассказов, показал ему высшую правду, согревая больное сердце не в пример лучше голландской печи.
Ах, я выдумал тебя, милое дитя, но в твоем задорном смехе, в стуке твоих маленьких пяток мне улыбнулся Господь.
Аркадий дышал тихо, умеряя торопливость растревоженного сердца, не желая, чтобы чем-то нарушали его великолепные, волшебные сны. Он улыбался так светло, что пришедший с обходом врач не посмел будить его, подвергая привычным расспросам.
Аркадий умер в пражской больнице в марте 1925 года, когда солнце уже подбиралось к полудню, и белый шершавый зайчик покинул позолоченную крышку карманных часов.
II
Газовый фонарь, изогнувшись вороватым кошачьим манером, бросал рассеянный свет на вывеску недорогого ресторанчика «Три кролика и вострушка Бесс».
Неподалеку от входа располагалась длинная скамья – хозяин ресторанчика баловал своих клиентов-курильщиков, и разморенные сытной пищей и ленивой беседой мужчины могли с комфортом пускать клубы дыма, любуясь звездами, застрявшими в ветвях слегка распушенной, нацеленной ввысь кроны серебристого тополя. К тому же, когда время от времени рядом останавливался фиакр, доставляя очередных клиентов папаше Вильямсу, отсюда было удобно наблюдать за посетителями.
Фонарь – гибкая кошка – старательно облизывал накрахмаленные лацканы, начищенные до блеска ботинки, как вор, гладил золотую цепочку, свисавшую из кармана франта, а то и обволакивал мягким золотистым туманцем прелестную ножку, робко тянущуюся со ступеньки фиакра.
– Понятия не имею, почему папаша Вильямс до сих пор не разорился! – лениво, углом рта, занятого трубкой, проговаривал де Линт. – Кажется, в окружении французских рестораторов англичанин должен чувствовать себя достаточно щекотливо.
– Тем более что ассортимент его блюд не балует особенным разнообразием, – услужливо поддакивал Бюфон.
– Вы забываете, милые, что сюда съезжаются не за вкусным, а за приятным! – возразил малыш Золя. – В Париже и окрестностях хватает заведений, потакающих самым привередливым вкусам, однако чтобы просто провести часок с такой тихой радостью! Заметьте, что здесь никто не суетится, никто не пытается навязать вам блюдо подороже – словом, никто не купечествует, будто дух наживы обходит это место стороной. Официанты вежливы и незаметны, а посетители – даже самые невежественные и громогласные – едва переступив этот порог, понижают голос на полтона! – это ли не волшебство, господа?
Четыре тонкие струйки дыма – от трубки и трех сигар, – не переплетаясь, устремлялись в фиолетовое небо. Иногда, если дул подходящий ветер, они оплетали шею фонаря, словно ленты серпантина.
– Я думаю о той разнице, – включался в разговор Анри, – что отличает так называемую благовоспитанную женщину от кокотки. Это со всей очевидностью подсказывает нам дружище фонарь. Присмотритесь! Женщина из приличного общества, сходя со ступенек кареты, непременно помедлит, прежде чем поставить ножку. Эта неуверенность – признак породы. Всеобщая же девица не опасается забрызгать обувь грязью, ее движения резки и уверенны.
– Дружище, – возражал де Линт, – ты склонен к обобщениям. Выводы твои – прости! – надуманная нелепость. Или добродетель не способна к решительным поступкам?
– Да, Анри, – подхватывал Эмиль, поворачиваясь всем телом к собеседнику, как паяц в кукольной комедии, – помнится, ты сам рассказывал о прекрасных смуглянках Мессины, что за плату ныряют в море с отвесной скалы.
– Тут другое, – спокойно возражал Мопассан, – риск оправдан, ведь это – единственный способ добыть пропитание для голодных детей. А фонарь выказывает нам откровенную наглость, развязность, вошедшую в привычку.
– Привычка? Там – привычка рисковать, здесь – привычка хищницы, но ведь все равно – привычка! – не уступал малыш Эмиль.
Мопассан выпускал протяжное кольцо дыма и молча наблюдал за тем, как оно, меняя на лету очертания, устремляется к черной древесной кроне. И каждая звезда, ютящаяся в кроне старого дерева, сияла горделиво, будто орден на генеральской шинели. Простуженный голосок настырного Золя стрекотал подобно цикаде, но ничто не могло нарушить теплого, тяжеловесного покоя, сотканного из солидной ночной глубины, из гордого великолепия тополя-исполина и дружеского света фонаря.
– Вернемся к нашим баранам? – предлагал наконец Бюфон.
Приятели неспешно поднимались и направлялись в ресторан.
Туда, где обитые дубом стены отражали блики огня, пылающего в камине, где свечи на столиках горели ровно, словно вбитые огненные гвозди, не колеблясь даже на сквозняке, туда, где на стене напротив входной двери висели огромные муляжи кроликов, и в их стеклянных глазах тоже плясал огонь, туда, где запах жаркого перекрывали пряные травяные запахи, так что легко было представить, будто обедаешь на лугу, словно устроили пикник на природе, туда, где портрет высокой кареглазой женщины, «королевы Бесс», по утверждению ресторатора, был похож на жену самого хозяина, розовощекую, сдобную, всю в мелких кудряшках.
Итак, они заходят в «Три кролика…» и шествуют к своему столу – в глубине залы, у самого камина. Хилый Эмиль садится спиной к огню (малышом его кличут не столько за малый рост, сколько за милую привычку с патетическим видом вещать глупости), грузный де Линт не садится, а по-медвежьи, всей грудью валится на свою часть стола и тотчас цепко хватается за кружку. Бюфон сидит обычно, скрестив ноги, как нервный господин, ожидающий врача; его глаза, близорукие, но живые, перебегают с одного предмета на другой, нигде подолгу не задерживаясь. Это, пожалуй, похоже на «кошачьи глазки» – модные часы с маятником, в такт движению которого глаза на вырезанной из дерева кошачьей морде бегают туда– сюда, туда-сюда.
– А как, позвольте спросить, расположился г-н Мопассан? – С комфортом, друг мой, с комфортом.
Утром ему стало плохо. Неизвестно, что явилось причиной – несвежая или слишком жирная пища, или приступ давления – вставая с кровати, он ощутил жгучую боль, волной поднимающуюся из желудка к горлу. Упав в бессилии на перину, он перегнулся через край кровати и попытался подставить ночную вазу – но не успел.
Рвота расколола его пополам, заставила корчиться и изгибаться подобно выброшенному на берег морскому животному. Густой поток хлынул из глотки, из носа, кажется, даже из ушей, пятная великолепный ширазский ковер; при этом в вазу угодило лишь незначительное количество его извержений.
Он долго не мог успокоиться; даже после опустошения его корчило, выворачивало сухими судорогами.
Служанка, которую он отпустил на свадьбу сестры, не придет – во всем доме он один, больной, беспомощный.
«Вы горгулья, мосье, – пошутил Анри над собой. – Проржавевшая насквозь, изломанная дожделейка». Не находя сил подняться, он так и лежал на животе, обозревая результаты своего приступа.
Ночная ваза – тяжелое, старинное изделие вольтеровских времен, украшенное позолотой, с узорами из переплетающихся листьев и цветочных бутонов, – запестрела красными сгустками. Может, это кровь? Мопассан стал вспоминать, когда последний раз у него шла горлом кровь.
Давненько, не сказать точно.
И ковер испорчен. Право, какое унижение чувствовать слабость во всех членах и неспособность подняться на ноги.
Старость? – Кого ты обманываешь, Анри. Это всего лишь смерть, пунктуальная, серьезная дама, дает первый звонок, как в театре. Ты должен спешить, чтобы занять свое место, а вместо этого все еще мешкаешь в буфете, увлеченно заталкивая в рот безе. Стыдно, брат!
Молю вас, мадам, подождите немного, я сейчас, я не посмею опоздать…
Бледный свет с трудом пробивается сквозь кремовые гардины, и на розовые обои, которые когда-то казались верхом изящества, а сейчас вызывают скуку, и на тяжелую, добротную мебель времен Луи-Филлипа ложится как бы легкая белая дымка.
Оттого и представляется происходящее фальшью, сном, оттого и ведет он себя, будто во сне: голова – чугунное ядро, мышцы одеревенели, слова, рождаясь в недрах души, вылезают из губ немощными, отвратительными уродцами.
Графиня стоит вполоборота, лицом к двери, и рассеянно перебирает пальцами китайскую безделушку, ее длинные ногти постукивают по толстому животу, по поджатым коленям ехидно улыбающегося Будды.
Боже мой, как он любит эти ногти, эти пальцы, это узкое запястье, с которого так ненужно свисает браслет. Браслет – это наручники, узы.
– Я узник, – говорит Анри, сглатывая слюну, странно, собственный организм предает его, будто пытается помешать ему сказать главное, будто затыкает рот.
– Я несчастный человек, запертый в тесной конуре пошлости и мрака. С Вашим уходом из моей жизни уйдет солнце. Знайте же… знайте, я болен Вами, я не смогу дышать без Вас, не смогу нести свое тело, силы покинут, и я рассыплюсь на угольки, на мелкий речной песок…
Графиня не поворачивается, не перестает терзать игрушку, и глаза ее нисколько не меняются – та же бледная дымка, наполнившая комнату. Она зачарована, как сказочная принцесса, она отравлена!
– Всё слова, – говорит спокойным тоном женщина. – Писатели любят слова, не так ли? Вы так естественно произносите красивые фразы, как роза – пахнет розой. Но ведь это неправда.
– Я молю Вас!
– Пустое. Милый вы, усталый человечек. Для чего играть такую древнюю роль? – зрители не в настроении, и театр пора бы закрыть. Наконец, это скучно!
Мопассан теребит простыню, на которой сидит. Он чувствует приметы приближающегося гнева, но гнев перемешан с отчаянием, редкие всплески, как пузыри на болотной жиже. Рвануть простыни, с сухим треском разодрать на полосы, наброситься на нее, связать по рукам и ногам! Заткнуть рот, завернуть в палас, кликнуть фиакр, и – на пристань, в теплые моря, в зелень широких листьев, в солнце, в крики попугаев, в соленый здоровый воздух!
Может быть, это способно пробудить ее? Может, одно безумство сотрет все глупости и мелкие досады, что наросли на их отношениях, как ракушки на корабельном днище, и тянут ко дну?
– Слишком поздно, – говорит она, оставляя свою задумчивость, и глаза ее сливеют, наливаясь силой, страшной в своей необратимости.
– Прощайте, милый мой, и не думайте обо мне плохо.
Она берется за ручку двери… Мопассан готов вскочить, он напрягает шею, тянется, как легавая в стойке, но… остается сидеть, впившись белыми от отчаяния пальцами в края постели.
Графиня исчезает, дверь за ней закрывается совершенно беззвучно, хотя имеет обыкновение скрипеть, – да-да, это особенно невыносимо по утрам, когда служанка…
– Постой, – шепчет Анри, – постой, не уходи, я еще не успел, я еще не могу…
Резь в глазах становится совершенно нестерпимой.
Цветы, которые не вянут. Торжество плюша. Жирный, животный праздник. Похоть складками, пузырями, сдобными боками.
Попался, Анри!
Помнится, обои того же цвета были в заведении мадам Рюша. Розочки, лопающиеся от сытости и самодовольства. Розочками обита мебель, и даже зеркала в бальной зале завешены все теми же розочками!
Девица томно разбрасывает руки по постели, отворачивает набок голову, как подыхающая курица, шепчет напомаженно: «уи, ма шер…», и со всех концов комнатушки к ней начинают сползаться розочки. Словно улитки, тяжелые, с сырым запахом виноградные улитки.
Едва перевернешь куколку на живот, чтобы продолжить жаркую схватку – глядь, ее тело облеплено розочками, словно коростой. Тут требуется осторожность, чтобы в пылу страсти не наткнуться распаленным ртом на одну из них – может хрустнуть марципаном на зубах, а может и разбрызнуться, как кусок слизи.
Однажды он был настолько неразборчив, что оклеил подобными обоями собственную комнату. Розочки тут же освоились – постепенно отвадили друзей, а потом и ее… любимую, единственно необходимую женщину.
Теперь эти изверги издеваются над ним. Они покрыли все видимое глазу пространство розовым плюшем, гнилым бархатом. Напрасно он говорил с доктором, доктор ответил: где вы тут видите розаны? Он прав, прав, иудей! – розанов нет, но вместе с тем они есть, они присутствуют за цветом, внутри, они – как всплывающие со дна ягоды во время варки варения.
С разбегу ударить кулаком – и на руке след от раздавленной розы. Да что они, издеваются?
Радует лишь одно – что конец близок.
Он чувствует это по странному вкусу во рту – будто вместе молоко и железо, детство и смерть. Время от времени, выныривая из вязкого омута забвения, он пытается припомнить, где он находится и что с ним происходит. Очень важно, необходимо пробить эти розовые мягкие стены – за ними, конечно, скрывают выход.
Но руки часто скручены за спиной – видимо, он представляет серьезную угрозу для врагов, его боятся.
И тогда Анри бьется в стену плечами, головой, падает и снова поднимается, он не может сдаться, ведь его отец – Иисус, он зовет, он давно ждет его.
В силу определенных навыков Анри знаком практически со всеми запахами, производимыми неутомимой парфюмерной машиной; он не модник по обычаю, но легко отличит пармскую фиалку от брабантской розы. Так надобно определяться и с винами, и с дорогими сортами табака, – жизнь в свете – постоянная проверка на соответствие модному кодексу.
Жюстин пахнет свежими, только что сорванными цветами. В своем шоколадном, с кружевными оборками, платье, она похожа на институтку, впервые одевающуюся самостоятельно, без маминой указки. Платье хорошо, недурны туфельки и перчатки, но лишь сами по себе, как вещи, не имеющие хозяйки – а все вместе смотрится жалко. Такие женщины приходят молить о справедливости в судейские дома, таких изображают художники, выбравшие темой «провинциальный сюжетец».
Она надоедлива. Ее глаза поплыли от рыданий разводами туши. Она лихорадочно мнет в руках шляпку с вуалью, и Анри страшно за эту шляпку – в тишине слышно, как хрустит, разламываясь, соломка.
Окна его комнаты выходят в глухой переулок – не слышно ни уличного гама, ни сухого перестука фиакров, ни голосистых мальчишек – разносчиков газет. Каштан раскинул зеленые руки, скрыв убогую стену дома напротив, с разводами потекшей штукатурки и серыми хлопьями развешенного для просушки белья – белья бедняков, ветхого и жалкого. Белые гроздья каштана, словно узкие рты, ползут в комнату, и запах этот превосходит все человеческие парфюмы, – комната прелестна и стоит сущие гроши – конечно, если не оставаться на ночлег. Вечером, даже при закрытых окнах, проникают грубые запахи кухни – топленый жир и лук, а хуже всего запах низкосортного сыра – похожий на запах плесени или несвежего белья.
– Мне жаль, милочка, – снисходительно говорит Анри, поднося к глазам круглую китайскую табакерку. – Но нам нечего делать вдвоем. Поймите же, наконец, ваше положение, мое положение, и признайте всю безосновательность этой просьбы!
В табакерке нет табака, и никогда не было. Но вещица так хороша, что вполне могла бы служить чернильницей или чем угодно – хотя бы защищать чистые листы бумаги от шалостей ветра.
Красивые вещи куда как лучше красивых женщин – они то, что они есть, они радуют владельца своим безмолвием. Стоит ими пресытиться – убрать с глаз долой, в сервант, шкаф, сундук – и спустя несколько лет, случайно найденные, они доставляют столько же радости, если не больше! – чем в день покупки.
Другое дело – встретить на улице давнишнюю пассию: чувство умиления смешано с чувством горечи, в голове теснятся воспоминания обо всех досадных и пустых минутах, проведенных с нею, – эти чувства не чисты, противоречивы! Так и жди после расстройства аппетита.
Жюстин все еще здесь, терзает шляпку, она ничего не понимает и не желает понимать, маленькое злое животное, смазливая грубиянка! (Вы правы, дружище Эмиль, продажная любовь имеет очевидные выгоды, и главная из них – отсутствие ненужных сантиментов).
– Я… могу подождать, – отчаянный, убитый взгляд карих глаз, нижняя губа изжевана до того, что похожа на кусок рыхлого, недолепленного теста, – вы добрый, вы не оставите меня вовсе без надежды, я знаю! Я ничем не стесню вас… позвольте только быть рядом, неподалеку… Мы будем видеться очень редко, правда! – только тогда, когда вы того захотите!
Девочка, в том-то и дело, что я не хочу больше тебя видеть. Никогда.
Г-н Мопассан поднимается с кресла, сжимая в руке табакерку, широкими шагами подходит к двери и раскрывает ее. Это нарушение всех приличий, это жестоко. Но это и необходимо, иначе черт его знает, куда заведет их эта глупая, пошлая, ненужная сцена…
Когда встает Жюстин, ее глаза – сплошь зрачки, и рот кажется раной.
– Прощайте.
– Не прощу.
Утром, как никогда, человек ощущает свою слабость и случайность в этом мире. Отчаянно– веселый кутеж усталых путников, в соединении с необычайно жаркой – даже для Африки – погодой, сделали свое черное дело.
Анри чувствовал, что его голова похожа на костяной шар, которым всю ночь – и до сих пор! – играют в бабки. Он искал воды – воды не было, а вино невозможно было взять в рот, конечно, не из-за вкуса самого вина, а из-за того осадка неумеренных возлияний, что сохранился на языке и стенках гортани.
Он подошел к окну, отодвинул штору – раннее утро, солнце едва расправило золотые крылья. Повеяло прохладой, скорее же, скорее из дому, из плена четырех глинобитных стен! Рассчитывая, что попутчики его едва ли разлепят глаза раньше полудня, Анри твердо решил прогуляться, чтобы укрепить мышцы и избавиться от вялости.
На пути в Кайруан им следовало преодолеть не менее ста километров, и все, естественно, по отвратительным дорогам – «чудесам» современной инженерии.
Анри хмыкнул, вспоминая о полуразрушенных мостах, о грязи, которую пришлось месить, когда они угодили в болото, о том запахе, который издает обшивка дорожной коляски на полуденном солнце – нечто вроде жженой пробки и несвежих пикулей.
Он отошел от поселения уже далеко, оглянулся – сплошное белое пятно на месте деревни, с острым клювом минарета и двумя небольшими куполами кубб. Видел ли человек когда-нибудь что-то более захватывающее, более великолепное, чем игра облаков на африканском небе или танец света на белом куполе куббы? Преломляясь, свет выливается в такое разнообразие оттенков, что поневоле дух захватывает! После минутного ослепления белым огнем, глаз, отдыхая, различает сочные, бесчисленные, почти нераспознаваемые оттенки, для которых нет слов в человеческом языке. Привыкшим к эффектам и отражениям европейской природы трудно удержать в памяти образ природы арабской, так подходящей для экстатических прозрений магометанина!
Через одинаковые, будто щепотью сеятеля разбросанные, заросли крушины он вышел к небольшой роще мастиковых деревьев, среди которых, как строгие часовые, возвышались две-три алепских сосны. Становилось жарко, он снял жилетку и перебросил через плечо. Конец трости скрипел в песке, странно, что было не слышно мошкары, хотя небо то и дело прочерчивали быстрокрылые малютки, напоминавшие стрижей.
Чем и жить, как не путешествиями? Чем и любоваться, как не тем, что вечно ново и свежо, несмотря на тысячелетнюю повесть – природой, деревьями, камнями, небом – живым храмом, построенным в радость и укор суетному человечку?
На этой богатой чудесами земле даже вечерние тени сообщают душе нечто важное: вчера они миновали заросли кактусов, похожие на тени драконов со вздыбленными лапами, покрытыми колючей чешуей. Завороженный и слегка шокированный этим зрелищем, он шептал: «Я не сумею передать это словами. Глаголы, существительные и прилагательные здесь бессильны». Дантов лес под круглым блюдом луны слегка серебрился, вырезая из темноты острые куски.
Г-н Мопассан не то дремал, прикрыв глаза и опершись на свою трость, не то прислушивался к биению сердца, аромат листвы щекотал ноздри бархатными лапками.
Вдруг он услышал крик – на него мчались с холма трое незнакомцев. Эти люди были одеты в причудливые, немыслимые одежды – с одной стороны, довольно типичные для бедняков, с другой – являющие идеальную натуру для того или другого представителя школы «барбизонцев». Живописные лохмотья: фески, халаты с торчащим там и сям верблюжьим волосом, некое подобие штанов – сплошные связки разноцветных лоскутов, бесформенные грубые башмаки, будто вырезанные из засохшей коровьей лепешки, – поражали своим залихватским смешением, самим сочетанием несочетаемости. Тут только он заметил, что эти люди вооружены крепкими дубинами. Разбойники? Да, но как жалки! На свирепые физиономии наложил отпечаток голод – запавшие в глазницы глаза, хрящеватые носы, глубокие, как трещины в засушливой земле, морщины, а также жилистые руки с кожей, жестоко выдубленной солнцем, и грязные, разметавшиеся волосы.
Анри поднял трость и приготовился обороняться. Первый удар он отбил с легкостью, для второго пришлось проявить смекалку и отпрыгнуть в сторону. Две минуты – и все кончено, один из нападавших корчился, держась за голову, товарищи его сбежали.
Возвращаясь с прогулки, Мопассан улыбался. Никогда раньше он не чувствовал себя настолько живым, таким удивительно свободным!
Ах, солнце, солнце! Податель жизни и источник мук, тысячи зеленых стеблей благословляют тебя, десятки тысяч мух роятся над падалью – останками животных и людей, погибших в засуху. Таков и Господь: жизнь и смерть, благо и возмездие.
Навстречу уже неслись, виляя хвостами, большие белые собаки из деревни, которых он вчера кормил.
«Нужно стараться быть как солнце», – записал г-н Мопассан в своем путевом дневнике; усмехнувшись, подчеркнул.
По больничному коридору, мимо одинаковых в своей безыскусной строгости шкафов с инструментом и медицинскими препаратами, мимо мучнолицых, будто покрытых паучьими сетями, сестер милосердия, мимо невозмутимых докторов, мимо окон, забранных коваными решетками, шла Госпожа.
Ее имя не блистало в свете, и сама она ничем не была обязана свету, покидая свой уютный дом в десяти километрах от Парижа только ради исполнения долга.
Сегодня ее призвал долг сестры – мать несчастного Анри просила в письме навестить кузена, так как ее расстроенные нервы не позволяют, увы, бывать в доме призрения так часто, как это необходимо для бедного мальчика.
Черепаховый гребень в густых, слегка тронутых сединой волосах, сумочка-пудреница в форме головы пуделя, серая вуаль, темное, непроницаемое, но обладающее способностью вдруг блеснуть, отражая случайный луч, платье, слуга с заметно выступающей нижней челюстью и тяжелыми плечами, угрюмо шествующий за своей повелительницей – таков мгновенный набросок к портрету Госпожи.
Подошел доктор, наблюдающий болезнь несчастного Анри.
– Ах, голубчик, нет ли улучшения?
– Конечно, всегда остается надежда, сударыня. Однако, будем терпеливы.
Дверь, закрытая хитро, будто сейф; доктор заметно напрягается, поворачивая тяжелую круглую ручку. Госпожа дышит тяжелее, стягивает нервы, как музыкант – проверяет струны гитары, – готовясь к печальному зрелищу. Это должен быть зверинец – вонь, безобразие – и Анри в испражнениях, с тупым взглядом, какой бывает у одурманенного человека. Такой взгляд Госпожа неоднократно встречала на лице собственного мужа – пьяное животное! Однажды, не в силах сдержать отвращения, она плюнула в его бессмысленные глаза.
Дверь отворена. Внутри – очень милый розовый плюш, словно в детской. Анри сидит в углу, если уместно применить такое выражение к старательно закругленной, неопределенной формы комнате. Он вполне опрятен, одет в белый халат и свободные панталоны, и выражение его лица – осмысленное, серьезное, печальное выражение взрослого человека, застигнутого недомоганием либо невеселым раздумьем. Госпожа не находит в нем заметных перемен, разве что лицо, и раньше довольно полное, стало обрюзгшим, одутловатым.
– Вы можете говорить с ним, – наклонившись к ее уху, шепчет доктор, – видите, он сегодня держится молодцом!
Госпожа беспокойно оглядывается.
– Ничего, – успокаивающе говорит доктор, – мы с вашим человеком побудем пока за дверью. С этим он выходит.
Мопассан заметил кузину – следует попытка улыбнуться, но угол рта лишь слегка дрогнул.
– Дорогой, я страшно рада! – фальшивит Госпожа, делая пару шагов к больному и останавливаясь в нерешительности – опасно уходить далеко от двери, эти сумасшедшие непредсказуемы…
Анри заинтересовался ее сумочкой. Он не понимает, почему у пуделя такой жалкий вид, и глаза– пуговицы совсем не кажутся ему убедительными.
– Матушка шлет тебе привет и надеется, что тебе легче, дорогой! – еще одна фальшивая попытка привлечь внимание кузена. – Доктор хорошо тебя лечит? У тебя хороший аппетит?
Анри находит, что пудель выглядел бы гораздо живее, если бы был перекрашен в зеленый цвет. Но не спешит сообщать родственнице об этом – ведь она дура.
Пока сестра размышляла, как бы поавантажней завершить свой визит, Анри закрыл глаза и, казалось, совсем осовел. Но, когда она повернулась уходить, Анри сказал: «Я знал, что ты навестишь меня. Мне сказал Флобер».
Флобер? Флобер давно в могиле! Может быть, это один из пациентов лечебницы, возомнивший себя великим писателем? Но доктор говорил, что Анри никуда не отпускают, значит, он ни с кем не виделся…
Госпожа улыбается, тщетно стараясь удержать злые слезки, выкатывающиеся бисером из-под нижних век.
– Вот и отлично, – говорит она. – Это очень, очень хорошо.
Флобер, в своем знаменитом клетчатом пальто и с отделанной перламутром тростью, кривит губы и говорит Анри:
– Извини, мальчик мой, но твоя сестра – полнейшая дура.
– Я знаю, – кивает ему Мопассан.
Госпожа уходит, прижимая к глазам платок, извлеченный из сумочки-пуделя. Анри рад ее уходу.
– Ну что, – говорит, присаживаясь рядышком, Флобер. – Начнем, пожалуй?
В его руке – стопка старых, потемневших от времени карт. Китайские мандарины на рубашках едва не лопаются от жира, драконы похожи на водосточные трубы, увитые водорослями, а девы в расписных кимоно хрупки и смешливы, но совсем не имеют лиц.
Пароход дал еще один, до-о-олгий гудок и стал стремительно уменьшаться – казалось, солнце намеревается спрятать его среди назойливого мельтешения ярких бликов.
Два человека – опоздавшие – скорбно стоят на мостках. Мопассан с интересом наблюдает за товарищем по несчастью. Это молодой человек, едва ли старше двадцати лет, в легких парусиновых брюках и совсем прозрачном, поношенном, но трогательно опрятном пиджаке. Широкополая шляпа не может скрыть непокорные вихры юноши, торчащие аристократически небрежно. Весь его багаж составляют потертый кожаный чемодан и круглая картонная коробка.
– Боже мой, Господи! – бормочет молодой человек в ужасе. Мопассан подходит к нему и рассматривает, как диковинку, в то время как мальчишка ничего вокруг не замечает, весь – глазами, лицом, наклоном фигуры – устремленный за ушедшим пароходом.
– Не стоит так переживать, любезный! – говорит он снисходительно, раздумывая, не стоит ли покровительственно похлопать молодого человека по плечу.
– Это конец, – шепчет тот, поеживаясь, как от сильного порыва ветра, и, не глядя, садится на свой чемодан, который протестующе скрипит под непосильным грузом.
– Следующий пароход придет через три часа, – размышляет вслух Анри. – Неприятно ждать зря. Конечно, досадно! Не желаете составить мне компанию, друг? Проинспектируем меню здешнего кафе? С этими дорожными хлопотами я, признаться, и позавтракать как следует не успел!
Молодой человек смотрит на писателя так, как смотрит на собаку загнанная в угол кошка: с ужасом, но и с некоторым оттенком превосходства во взгляде.
– Я разминулся с нею, – говорит он медленно, тщательно выговаривая буквы, как взрослый, что-то растолковывающий ребенку. – Теперь мы не встретимся, время ушло, и все нарушено, – понимаете? – навсегда нарушено! Это я сам сделал, не судьба, не бог, я собственноручно все погубил!
Юноша закрывает глаза и пытается уйти внутрь себя, словно одного желания достаточно, чтобы перестать существовать.
Мопассан садится рядом, на корточки, пояс на его брюках натягивается и хрустит.
– Первыми вашими эмоциями стали отчаяние и страх. Затем наступит безразличие и отвращение к собственной персоне. Следом придет усталость, одуряющая, тяжелая, вы будете искать место, куда бы прислониться, но без особого успеха. Все будет не то, все противно вашим желаниям, и сама кровь ваша, толкаясь в груди, не даст вам уснуть.
– Откуда вы взяли? – мрачно спросил страдалец.
– Со мной было то же самое когда-то. Я не видел смысла в дальнейшем существовании, но глядите – жив! Значит, и у вас пройдет.
– Вы недобрый, – сказал, поднимаясь, юноша и решительно взялся за ручку чемодана. – Вы, может быть, и обожглись, а теперь поучаете. Но уж я-то не буду никого поучать!
– Может быть, и так, – согласился Мопассан.
Через два часа они вновь повстречались. На сей раз, кроме них двоих, на пристани было достаточно народа, однако каким-то случаем они опять очутились рядом, хотя ни один, ни другой не искали этого соседства.
Видя, что молчать и отворачиваться выходит явно по-детски и неприлично, юноша заговорил первым:
– Вы-то основательно собрались в дорогу. И чемодан какой приличный, и сверх того большая сумка.
– К старости ценишь комфорт, – смеясь, отвечал Анри. – Отсутствие под рукой зубной щетки или одеколона способно испортить настроение, а затем и весь день погубить!
– Зубная щетка… – Молодой человек снял с головы шляпу, предоставляя волосы порывам юго-восточного ветра, отчего те разметались, словно трепещущие вороньи перья или водоросли в приливе. – Совсем недавно я свою жизнь видел вот так, как песчинку. – Он сделал презрительный жест. – И решил, что все кончено.
– А теперь? – серьезно, без улыбки спросил Мопассан.
– Всегда остается надежда, – тонкая морщинка улыбки запечатлелась на щеке.
– Символ которой – якорь – делает в виде татуировки каждый моряк, – подал реплику Анри.
– Но вы бы предпочли зубную щетку? – поддел юноша.
– Я бы предпочел… парус! Смотрите, парус!
И тотчас десятки ладоней вскинулись к вспотевшим лбам, образуя козырьки – полуденное солнце слепило, застирывая все прочие краски.
Из-за белого, почти до голубой пелены в глазах, горизонта, где солнце с морской водою устроили игру в перевернутые зеркала, нарисовался треугольный лоскут паруса. Этот неправильный треугольник, такой же искривленный, как молодой месяц в морочащих блеклых тучах, отчего-то показался людям прекрасным, хотя все на пристани ожидали прихода парового судна.
Парус вздымался широко и вольно, как дышит молодая грудь на просторе, и по мере того как очертания суденышка становились отчетливее, тоска понемногу отпускала сердце влюбленного юноши, а сердце писателя билось горячей и тверже, лицо его оживилось, и в глазах появился блеск.
– Это прекрасно! – взволнованно сказал юноша. – Это словно начало чего-то важного и совсем нового, неожиданного!
Мопассан молчал. Ему хотелось сказать многое, но в теперешнем чувствовании слова были бы лишними.
Парус рвался на ветру, трепетали женские шали и кисеи, прицепленные к шляпкам; снующие по набережной мальчишки-птицы, полуголые и чумазые, радостно верещали.
«Поток воздуха и кусок материи, – думал Анри, – а душа уже запела! Что же ты такое, человек? В чем твоя вера, твоя воля к жизни? Свобода! – вот и все счастье!»
Глаза юноши говорили о том, что он счастлив. Чтобы не расплескать торжественной минуты, г-н Мопассан накрыл ладонью сердце и дышал глубже, глубже, всей своей неистраченной мечтой.
Нянька
Действующие лица:
Соломон, 65 лет, продувная бестия, доверенное лицо хозяев поместья.
Енох, 65 лет, его приятель, повар.
Мамаша Блэквилл, 70 лет, хозяйка поместья.
Эдгар Блэквилл, 49 лет, сын ее, вдовец.
Мэригольд, 19 лет, дочь Эдгара Блэквилла, источник раздражения.
Патрик Блэквилл, 2 года, сын Эдгара Блэквилла.
Вивиана, 75 лет, кухарка.
Ребекка, 14 лет, ее внучка.
Холден Трой
Джеймс Картенфилд окрестные фермеры.
Морри Пипс
Ленни Добсон, жених Мэригольд.
Лесли Сторнер, управляющий поместьем Блэквилл.
Вернон Лаки, бывший управляющий поместьем.
Место и время действия: Луизиана, 1861 г.
Полуденный час. Все живое прячется от жестоких лучей солнца. Поместье Блэквилл тоже погружается в полусонную вялую тишь: мамаша Блэквилл по обыкновению дремлет над своими пяльцами или над Библией, всегда раскрытой на одной и той же странице; и не имеет значения, что старческие пальцы не способны выполнить аккуратный стежок, а глаза устало закрываются от одного вида мелких черных букв, похожих на муравьев. Главное, что занятие это вполне благочестивое, а благочестие в представлении мамаши Блэквилл – самая незыблемая вещь на свете, не считая тыквенного варения.
Все поместье живет, повинуясь ритму, раз навсегда заданному хозяйкой: коли та изволит почивать, то и прочие обитатели здешних мест становятся равнодушны к мирским заботам. Само собой, работа на поле продолжается, да и в кухне проворная Вивиана не сидит сложа руки, даром что по возрасту может считаться старшей сестрой мамаши Блэквилл. Вивиана – мулатка с пепельной кожей, она почти белая и уже этим отличается от прочих рабов.
Строго говоря, считается, что главный повар в господском доме – старый Енох, но лукавый сей кулинар давно сдал поле боя упрямой Вивиане. Кухонные мальчишки скалятся за его спиной, а суровая стряпуха, обладающая, как и ее хозяйка, крутым нравом, чуть случись что не по ней – хвать Еноха за волосы и задает ему такую таску, что у бедного старика слезы из глаз. Каждый знает – с Вивианой шутки плохи.
Вот потому-то, улучив подходящую минутку, повар выходит на двор «освежиться» или, как он еще любит говорить, «приглядеть за хозяйством».
«За твоим хозяйством смотри не смотри, старый греховодник, а толку никакого. Сядь в сторонке, а не шкандыбай, как колченогий кролик, не путайся под ногами, гляди, старый, весь песок просыплется…» Енох мог бы резонно возразить, что не такой уж он и старик, по крайней мере, сама Вивиана лет на десять старше будет, но по опыту знает, что дождется лишь новых насмешек да тычков, потому и хранит царственное спокойствие.
Тощий желтый петух, вылинявший, словно старинная картонная игрушка, уверенно вышагивает по двору аккурат против сарая; время от времени останавливается и, склонив голову на бок, скептически изучает нечто среди песка, разрывает лапой и склевывает либо, презрительно загребая, шествует дальше.
Енох пытается незаметно подобраться к своему приятелю, уютно устроившемуся на ступеньках сарая, да где там! Старые кости хрустят при ходьбе, как сухие ветви, и Соломон, не оборачиваясь, расплывается в улыбке: вот и компания. Енох садится рядом с другом. Некоторое время оба молчат, затем Енох достает из кармана клетчатой жилетки, подаренной хозяином, кисет с табаком и трубку, сосредоточенно набивает ее. Соломон молча протягивает и свою. Закурив, друзья ведут неспешный, как полноводная река Миссисипи, разговор.
– Откуда, дружище Сол, ты выкопал этого ощипанного урода? Похоже, он голодал последние две недели.
– Неужели, братец мой Енох, ты стал настолько стар, что не в состоянии отличить настоящего бойцового петуха от супового бедолаги? С эдаким молодцом я возьму все призы на завтрашней ярмарке!
– Непременно, Соломон, уж конечно, возьмешь, если только этот зверь доживет до утра. Гляди, как он пошатнулся!
– В глазах у тебя рябит, куманек. Мой красавец непоколебим, как скала. Он просто наклонился, чтобы почесать перышки.
– Еще и блохастый, как дворняга.
В подобных разговорах легко мог пройти весь день, если бы Вивиана не позвала старого повара на кухню.
Соломон живет в поместье с самого своего рождения: вначале служил мальчишкой на побегушках, затем – помощником садовника, работал на поле, был кучером, помогал в кузнице… Всего не упомнить. Господин Блэквилл, храни его небеса, всегда отличал своего любимца, ведь, кроме расторопности да смекалки, необычных для раба, у него имелось еще одно чудесное свойство: он с первого взгляда мог отличить по-настоящему ценную вещь от никуда не годной поделки. Например, кинжал с пятнами ржавчины на рукоятке, приобретенный по совету Соломона, впоследствии принес его хозяину большие деньги; а вот когда сэр Блэквилл купил выездную коляску, не посоветовавшись с Соломоном, наказанным в тот день за какую-то провинность, коляска во второй же выезд развалилась – дерево оказалось никудышным.
Своими привилегиями Соломон пользовался очень сдержанно: имя библейского мудреца подходило ему как нельзя лучше: старый мошенник с величайшей важностью играл роль наставника молодых и выступал последней инстанцией в спорах. Он обладал способностью постоянно объявляться в разных местах, поминутно попадаясь на глаза хозяевам, отчего создавалась иллюзия кипучей деятельности, хотя на самом деле отдача от него была минимальной. При этом все, от мала до велика, от сопливого негритенка до Еноха-скептика, не сомневались в незаменимости старика.
От предстоящей ярмарки Соломон ожидал многого, и прежде всего – неплохих барышей. Если прочие обитатели хижин в Блэквилле рассчитывали на выручку от продажи яиц, молока да каких-нибудь нехитрых женских рукоделий, Соломон предпочитал торговать азартом и суевериями (помимо тощего петуха, осмеянного его приятелем, он имел еще немало тузов в рукаве).
Ярмарки в Растоне проводились трижды в год: весной, летом и осенью. Каждая такая ярмарка была значительным событием как для местных помещиков, так и для их работного люда. Со всей округи на продажу свозили лошадей, овец, коров, собак, сельскохозяйственные орудия, мануфактуру. Иногда приезжал бродячий цирк с клоунами и дикими зверями, фокусниками и канатоходцами.
Время в поместье Блэквилл тянулось медленно, как растаявшая нуга, так же, как тянулось оно во всей расплавленной от зноя Луизиане. Дождей не было уже две недели – адово пекло! Засуха угрожала посевам.
Судьба редко заглядывала в эти глухие края, настолько обленившиеся, патриархальные, что казались вырубленными из цельного куска бытия, как деревянная кукла, безо всяких метаморфоз и непредвиденных событий. Однако на сей раз кто-то из божеств, вероятно, спохватился: как же так! – и запустил незримую пружину, которая привела в действие цепь случайных совпадений и удивительных происшествий.
* * *
Вечером, часу в девятом, коляска м-ра Пипса, того самого Морри Пипса, что, несмотря на солидные лета, наряжался словно щеголь-мальчишка – носил белоснежные бриджи, и невообразимо крикливые шейные платки, и плоскую шляпу – не шляпу, а скорее шляпку из крашеной соломы, которая была известна всей округе; так вот, его коляска привезла м-ра Блэквилла, который был до того пьян, что не стоял на ногах. Мамаша Блэквилл, никогда не испытывавшая особого расположения к Морри, сочла тем не менее нужным проявить обходительность и пригласила его отужинать. Морри отнекивался, твердил, что спешит и все такое, но Мамаша Блэквилл знала о его слабости (как впрочем, знала слабости и секреты всех своих соседей): Морри страшно любил сплетничать; о его болтливости ходили легенды. Так, холостяцкое положение Морри объясняли тем, что он любую женщину способен заболтать до смерти; вспоминали легенду о том, как юный Пипс, в молодости служивший во флоте, спасся из пиратского плена – головорезы едва не сошли с ума от его болтовни и отпустили назойливого аристократа на волю безо всякого выкупа.
Итак, Мамаша Блэквилл полагала, что пара чашек чая с печеньем и роль внимательной собеседницы вознаградят Морри за его любезность по отношению к Эдгару. «Что на него сердиться, беднягу, – рассуждала старуха, кивая болтливому гостю в знак внимания к речам его, – Эдгар сам не свой со дня смерти жены. Забросил все дела, бежит из дому, словно ему здесь все чужие, вращается в дурных компаниях. Дай Бог моему сыночку оправиться от этого горя! Жанетта была замечательной женой и теперь, конечно, пребывает на небесах, но малютка-то растет без матери!»
Морри тем временем разглагольствовал в свое удовольствие: его маленькие глазки поминутно вспыхивали и гасли, подобно уголькам в камине, а толстые, унизанные бриллиантовыми кольцами пальцы постоянно теребили лацканы жилета, шейный платок, блюдце, край скатерти, описывали круги и дуги, прищелкивали – сосед так и лучился от радости, что нашел такую внимательную слушательницу. Говорил он обо всем: о ценах на скот и зерно, о новейших способах охоты на диких зверей, о лекарствах, о докторах, о постройке новой церкви, о своих друзьях и своих завистниках (он полагал себя очень ловким дельцом, у которого тьма завистников), о своей очередной даме сердца, о политических дрязгах, о модах, о методах осушения болот, в которых мнил себя знатоком, о недавних событиях и последних слухах. Большую часть его болтовни Мамаша Блэквилл терпеливо пропускала мимо ушей, но, услыхав имя своей внучки, насторожилась. И вовремя. Эта вертихвостка Мэри, уже два года живущая отдельно от семьи, в городе, где училась музыке (Мамаша Блэквилл зубами скрипела при каждом воспоминании о свое– нравной девчонке), объявила о своей помолвке!
Подумать только, без ведома отца и бабушки, будто они ей и не родня вовсе! Вынуждены узнавать обо всем в последнюю очередь, как посторонние! И за кого она выходит замуж, Боже правый! За какого-то нищего газетчика! Пройдоху без гроша в кармане! Мамаша Блеквилл сильно взволновалась и тотчас же выпроводила за порог болтуна Морри, учтиво, но настойчиво. Возмущения, кипящего у нее внутри, хватило бы на две стоведерных бочки да еще на тазик бы осталось.
Понимая, что в таком состоянии она вряд ли способна принимать разумные и взвешенные решения, Мамаша Блэквилл немедленно вызвала к себе свою приживалку, Гертруду, у которой за давностью лет, проведенных под боком у семейства Блэквилл, и фамилия-то позабылась. Вслед за Гертрудой без спросу явилась и Вивиана, почуявшая скандал. Гертруда, глупая, как рождественская индюшка (нафаршированная вместо риса слухами и французскими романами), и Вивиана, расторопная и бойкая, как нельзя лучше подходили Мамаше Блэквилл. Парламент в сборе, пора начинать дебаты. Вначале хозяйка поместья высказала все, что думает о своей легкомысленной внучке и ее слабовольном отце, затем спросила совета у молчаливо внимавшей аудитории.
Гертруда старательно наполнила слезами свои поблекшие (когда-то голубые, как незабудки!) глазки и закудахтала: «Ах, какое горе! ах, какая неприятность!» Вивиана была более практична: она рассудила, что Мамаше Блэквилл непременно нужно ехать в Растон, чтобы расстроить недостойный союз, причем надлежит явиться в полном блеске. Старуха была в смятении: последние тридцать лет она никуда из поместья не выезжала! Разговор вместо ожидаемого построения стратегии спора с юной мятежницей вдруг перешел на обсуждение нарядов Мамаши Блэквилл. Она с огорчением вынуждена была признать, что ее платья несколько отстали от нынешней моды. Порасспросив молодых востроглазых служанок, спешно пригнанных Вивианой, о современных нарядах: «Вы, бесстыдницы, постоянно бываете в городе и, небось, глаза пялите на что попало…», и сверившись с французскими журналами, принадлежащими покойной невестке, старуха пришла к выводу, что ее платьям недостает ярких воланов и рюшей.
«Завтра же, слышишь, Вивиана, завтра же вы с Герти поедете в город и купите в модной лавке все, что нужно. Отправляйтесь прямо с утра», – непререкаемо заявила она, а на возражения служанки: «Кто, мол, присмотрит на кухне?» – ответила: «Енох присмотрит, а не справится, так отведает плетей!»
Право, положению несчастного Еноха не позавидуешь.
Ночь предназначена Господом для сна; но в эту ночь в Блэквилле мало кто спал, кроме мертвецки пьяного Эдгара: Мамаша Блэквилл печалилась о внучке, Гертруда, взволнованная предстоящим выездом, перебирала парики и пыталась сделать что-нибудь со своим лицом, хотя разровнять эту местность за давностью лет не под силу было никакой бороне. Вивиана припугнула повара, чтобы глядел в оба, и надавала ему всяческих указаний; Енох тут же поделился новостью с Соломоном; последний живо сообразил, как воспользоваться отсутствием хозяйки. «Небось, и массу Эдгара с собой в город утащит, эт уж как пить дать утащит! А может статься, что и Горлодера-надсмотрщика, так что на сутки одни мы, черные, останемся хозяевами поместья». Пожалел Соломон о своем бойцовом петухе – не скрести ему ярмарочной пыли! Но грядут дела поважнее пустых развлечений.
Совсем уже под утро, в пятом часу, Соломон подкараулил Вивиану, которая поднялась раным-рано – собираться в дорогу, – и поделился с ней своими соображениями. Он знал, что может доверять этой женщине, ведь их связывала многолетняя дружба, к тому же Вивиана тоже была заинтересована в предстоящих планах хитрого старика.
* * *
Необоримые кольца рабства, объятия питона, кандалы, накрепко сцепившие черного и белого человека, первому принесли праздность и развращенность, другому – муку и безнадежность. Доля раба – как бирка, ценник на товаре, где указано, что и сколько отмерено ему. Но, давая рабам христианские имена, белые люди только выставляли на посмешище своего бога; они, видно, не понимали, что этим нельзя торговать. Толпы бездельников-миссионеров рыскали по чужим землям, землям иной крови – неужели они действительно верили, что несут темнокожим нечто ценное, необходимое? Они несли им только господскую плеть, болезни и ненависть. Там, где сусальные проповеди смыкались с черной волной голоса крови, там, где деревянные кресты и глянцевые картинки встречались с ритмом вечно бодрствующих, алых, дурманящих, вздымающих свои руки джунглей, рождалось и набирало силу тайное учение, движение неприкасаемых, религия, не знающая понятия «грех», но знающая слово «табу», коррида горячечного сердца и голодного духа – вуду.
Ритуал устраивался по решению девяти старейшин, в число которых входили люди из Блэквилла и соседних поместий. Соломон, Вивиана и Сципион, такой дряхлый старик, что проводил большую часть дня на лежанке в хижине, где распределял свое немощное время между сном и курением бесчисленных трубок, – представляли верховное жречество. Босоногая почта в считанные минуты разнесла благоприятную весть: Блэквилл остается на целые сутки без хозяев!
Гертруда и Вивиана привезли из города много кружев и ткани разных цветов для отделки платьев и прямиком отправились в покои госпожи, даже не задержавшись, чтобы привести себя в порядок после долгой дороги.
Подготовка к церемониалу началась ближе к вечеру: пока Мамаша Блэквилл и ее «генеральши» возились с платьями наверху, притачивая к подолу оборки, меняя форму рукавов на современный манер, украшая лиф тончайшими кружевами, внизу, в людской, точились ножи, заострялись деревянные колья, придирчиво осматривались предназначенные в жертву домашние птицы, а в соседнем поместье «Красный лис», где властвовал спесивый Холден Трой, заботливые руки кормили, расчесывали и протирали мокрой губкой годовалого черного козла, предназначенного через несколько часов к превращению в судорожно дергающийся, истекающий алым соком кусок мяса, разрываемый алчными пальцами.
Мамаша Блэквилл (наверху). Осторожнее, дуреха, с иглой, сядь ближе к свету! Подумать только, какие тонкие кружева, того и гляди растают, как взбитые сливки! Ну да я этой особе все скажу, будьте покойны, раз отец за ней не смотрит, придется мне, старухе, учить бесстыдницу уму-разуму. А этого мерзкого газетчика…
Енох (внизу). Оставь эту, Молли! Пестрая – прекрасная несушка, не дело – разорять свой дом. Бери вон ту, колченогую, ей все равно супа не миновать, не птица, а так, одно лишь название!
Мамаша Блэквилл (наверху). Самое верное средство – говорят старые люди – молитвы и строгое поведение. Самое лучшее от ветра в голове – труд. И снова: труд! Я-то еще в невестах ходила, а и не знала, что такое сон – вечно по хозяйству, всегда с делом! И за кухней приглядывала, и уборка в доме – глаза и руки никогда не бездельничали!
Соломон (внизу). Неладно дело, говорю вам – старик совсем из ума выжил, требует, чтобы его в носилках тащили. Не иначе кто-то тайком носит ему виски; дознаюсь – шкуру спущу! На сей раз Олоферна брать с собой не следует.
Енох. И как же мы ввосьмером-то? Мамаша Блэквилл еще, пожалуй, и Вивиану с собой в город прихватит, так и вовсе семеро останемся.
Соломон. Не в первый раз такое случается. На моей памяти уже происходило нечто подобное, тридцать лет назад, в день смерти доброго мистера Лаки.
Енох. Не нужно об этом говорить. Забот хватает – пора избирать новую мамалои – Ева тяжела, ей скоро рожать.
Соломон. Зря не болтай, работай. Завтра трудный день.
Мамаша Блэквилл. Кто бы он ни был, этот человек, посмевший одурачить нашу Мэри, я ему спуску не дам! Имя Блэквиллов хоть что-то да значит в наше время! Мой покойный Гарри, земля ему пухом, был в числе строителей Растона. Его улицы и площади еще помнят Гарри Блэквилла, и пускай меня черти заберут (прости, святая Мария!), если я позволю глумиться над нашим именем. Герти, не порви кружева!
* * *
Ранним утром – небо еще не сбросило темную шкурку, но звезды уже начали гаснуть, – из дальних далей пришли темные, важные, набухшие соленой океанской водой тучи, но спохватились – что им делать в такой глухомани? – и последовали дальше, чтобы пролиться дождем где-нибудь в Мидлтауне. Крокодилы на болотах задумчиво крякали, призывая к порядку непоседливый молодняк, кошки на чердаках вслушивались в утреннюю тишь, усами-антеннами телеграфируя призрачным существам, заселяющим равнины Луизианы, сведения исключительной важности, а на полке сенного сарая неподалеку от господского дома Блэквиллов ворочалась без сна четырнадцатилетняя девочка. В ее душе бушевали ураганы и содрогалась земля, молнии танцевали, сверкая, как столовые ножи, и острые клыки ночных тварей разрывали людей на куски. Бекки нестерпимо страдала от того, что ей запретили присутствовать на завтрашнем празднике. Хотя она достаточно взрослая, чтобы быть там, и даже – кто знает! – ее могли бы выбрать следующей мамалои. Она молода, сильна и сметлива. «Дурные наклонности», – сказала бабушка. На полках в чулане уйма банок с вареньем – никто бы и не заметил! Многие банки закрыты несколько лет назад. Все равно варенье некому есть – кроме крошки Патрика, детей в господском доме нет, а он слишком мал. Надо же было такому случиться, что стул под ней пошатнулся, и банка выскользнула у нее из рук! Вивиана пришла в ярость. На глазах у дворни она вывела внучку во двор (за ухо, как последнюю соплячку!) и исполосовала ей всю задницу вожжами. Боль от зудящих ран не так тревожила Бекки, как жгучий стыд, что с ней поступили таким образом.
Ничего, она им всем еще покажет! Отплатит всем ухмыляющимся черномазым! А бабушке своей – поцелуй ее гадюка! – она еще устроит сюрприз. Бекки размечталась, как соберет кусочки ногтей или волосы с ее гребня и нашлет на Вивиану злую лихорадку, чтобы ее кости сделались мягче палых листьев, а кожа горела огнем! Бекки знала кое-какие специальные приемы и кое-что даже пробовала делать, весьма небезуспешно: взять хотя бы тот случай, когда она выдрала зуб у самого крупного аллигатора в окрестностях, усыпив его, или заставила кур ходить строем, будто на параде – вот умора! Правда, ей здорово досталось в те разы, но Соломон поглядывал на девчонку с симпатией – умница, хоть и шалунья!
Нет, о Господи, нет, она не переживет, если не будет на празднике вместе со всеми! Скорее всего, новой мамалои выберут девушку из соседней деревни, красивую двадцатилетнюю скотницу с ее сильными руками и сладкой улыбкой. Ее Бекки ненавидела пуще всех. Она знала – время придет, и она, Бекки, созреет и раскроется, как цветок орхидеи, но до той поры ей суждено оставаться худощавой замарашкой, девчонкой «не путайся под ногами». Но она ведь знала, знала, что лучше их всех! Неугасимым огнем в ней пылала воля к действию и жажда новых знаний.
Задремала Бекки поздно и проспала все утро, не заметив ни суеты слуг, ни отъезда госпожи. Вопреки опасениям Соломона, Мамаша Блэквилл не взяла с собой кухарку. В коляске, управляемой молодым кучером – родственником Соломона, выехали сама хозяйка, Гертруда, бледный с похмелья мистер Блэквилл и Лесли Сторнер. Поместье осталось на помощника управляющего, метиса Хатченса, и тот, в восторге от своего повышения, тут же принялся напиваться. В сущности, Мамаша Блэквилл могла не волноваться за хозяйство: все шло своим чередом, чернокожие, будто муравьи, заняты делами, да и на Вивиану с Соломоном она могла положиться, так как прожила с ними бок о бок всю жизнь и верила в их добросовестность. Единственное, о чем жалела старуха, так это о том, что оставляет маленького Патрика, но ведь всего на один день! Когда она уезжала, малютка спал, как ангелочек, в своей колыбели: золотые кудри разметались во сне, пухлые губки плотно сжаты в упрямой гримаске.
– Бог мой, как же похож на своего отца в детстве! – умилилась Мамаша Блэквилл, едва не всплакнув. Но мысли ее были заняты предстоящей битвой, и старуха поспешила сесть в коляску и отдать окончательные распоряжения склонившимся почтительно домочадцам.
От сильного тычка в плечо Бекки проснулась и уселась на своей сенной постели, сонно моргая. Над ней возвышалась бабушка.
– Дрянная девчонка! – приветствовала ее Вивиана. – Солнце уже к полудню клонится, а наша принцесса все почивать изволит? Ну-ка, живо, поднимайся и выходи во двор – тебя ждет работа! Экая лентяйка!
«Прекрасный день», – горько подумала Бекки, спускаясь с верхней полки сарая, отряхиваясь и потягиваясь всем телом, гибкая, как камышовая кошка.
– Поможешь Ноэлю прибраться в стойле, затем почистишься, явишься на кухню – Бьянка и Мариса вдвоем с обедом не управятся! – поможешь отнести обед на поле, а вечером присмотришь за хозяйским дитем. И если что – шкуру спущу! Ясно тебе, воришка?
«Неправда!» – хотела возразить Бекки, но, вспомнив про варенье, осеклась. Самым смиренным тоном, на который была способна, девочка спросила:
– Ба, а когда же мы пойдем на праздник?
– Ч Т О?! – Вивиана вскинула подбородок, подбоченилась и с презрением оглядела внучку с ног до головы. – Ты разве не поняла, мерзавка, что наказана? Сладенького, вишь ли, захотелось! Ты у меня, чертова кукла, отработаешь «сладенькое», пока мозоли на руках трижды кровью не заплачут! Праздник ей! Нишкни, и чтоб я в ближайшую неделю и слова лишнего от тебя не слыхала!
* * *
За последние два часа, показавшиеся ей бесконечными, Мамаша Блэквилл вся пропиталась пылью, потом и злобой. Жара стояла нестерпимая. Едва очутившись в городе, она направилась в редакцию газеты, но наглеца-репортеришки там не оказалось, а редактор, краснощекий усач с замашками барчука (но на деле оказавшийся фальшивым, как поддельный цент), в ответ на ее расспросы о местожительстве мистера Добсона наговорил ей пустяков, ловко залакированных любезностями.
Из газеты семейство Блэквиллов направило свои стопы на ярмарку. Людей-то! пруд пруди; уж верно, все как один бездельники. Ржали лошади, кружили карусели, пахло дымом и печением, в воздухе летали воздушные шары и разноцветные ленты. Мамаша Блэквилл надеялась, что репортер где-нибудь неподалеку – ярмарка только открылась и должна бы привлечь его внимание как единственное заметное событие в этом захудалом городишке. «Да, сэр, именно ЗАХУДАЛОМ, говорю я, и не возражайте, я видывала Нью-Йорк и Лондон, бывала в Париже и Вене; все города весьма многолюдны, но нигде нет такого скотства, я говорю СКОТСТВА, как здесь: людишки беспрестанно галдят, непристойно хохочут и плюют на землю, а запах-то, запах! Господи помилуй! В стойле пахнет лучше!»
Эдгару Блэквиллу и так не моглось после вчерашней попойки, но, тащась на слабых ногах за своей матерью, он и вовсе скис, – хорошо, его поддерживал под руку Сторнер. Мамаша Блэквилл в тяжелом муаровом платье дышала жарко, словно топка, и пот оставлял дорожки сквозь пудру на щеках. Ее компаньонка пыталась жаловаться, но на нее цыкнули. Сторнер согнал со скамейки бедно одетых горожан и усадил своих хозяев, а сам отправился снять номер в гостинице. Два часа у него ушло на бесконечные поиски – гостиницы и постоялые дворы оказались забиты до самых чердаков, хорошо еще, что подвернулась немолодая супружеская чета, из чиновников, согласившаяся уступить пару комнат на ночь (при этом заломив за ночлег несусветную цену). Но выбирать не приходилось. К тому времени, когда управляющий вернулся с докладом, мистер Блэквилл самым жалким образом лежал, повалившись на Гертруду, которая сама пребывала в плачевном состоянии из-за жары, гнева своей повелительницы и ужасного своего платья в рыжую строчку, – всякий проходящий сброд окликал ее «несушкой-пеструшкой». Мамаша Блэквилл тоже готова была упасть в обморок, но силы ей придавало сознание собственной значимости и праведное негодование. Препровожденная в свою комнату, она умылась, распорядилась насчет обеда и прилегла на минутку («Господи, силы у меня уже не те, что раньше!»), но затем велела подавать коляску – ехать на квартиру к внучке. Предусмотрительный Сторнер оказался начеку: мэм, я уже ездил по указанному адресу, и хозяйка пансиона сказала, что мисс Мэри уже месяц как съехала, мэм. Куда она переехала – про то не сказывала, так что, мэм, незачем туда ехать.
Мистер Блэквилл, несмотря на болезненное состояние, почел за лучшее поскорее убраться подальше от матери, хорошо зная, какова она в гневе. Конечно, пить он не пил, это нет, иначе не избежать ему немедленной взбучки; он укрылся на ярмарке, затерялся в толпе, шатался здесь и там, наблюдал за тем, как господа в забаву швыряют мячи в прибитые на картонный щит стаканы, чтобы выиграть безделушку для своих милых спутниц; торговался с лошадиными барышниками, не для того, чтобы купить, а просто из удовольствия поторговаться; посмотрел «самого большого в мире аллигатора», обезьян, дрессированных собак, «живые картины» и обычный набор балаганных уродцев: женщину с бородой, карликов, юношу с чешуйчатой кожей рептилии и старика с тремя руками (лишняя рука росла из живота выше пупка и казалась игрушечной, до того была мала, или же рукой ребенка).
Блэквилл, глядя на эту ручонку, вспомнил о своем сыне, потом о жене-покойнице… Жанетта назвала его Патриком в честь своего героического прадеда, павшего в одной из войн. А он-то хотел назвать сынишку Джоном! Жена даже многим черномазым давала другие имена, взять хоть ту кухарку, как ее… да, Вивиана. Вначале-то она была вовсе даже не Вивиана.
Эдгар с удивлением посматривал на людей вокруг, недоумевая, зачем те явились сюда. Он постепенно осознавал, что долгие годы прожил в своем поместье почти безвыездно, – добрая Жанетта заменяла ему весь мир, и что ему весь этот балаган! Кривые зеркала, клоуны, маски… Ему стало горько, направился было в ближайший кабак, но вездесущий Сторнер перехватил его и повел домой – пора собираться на вечер к мэру.
Бекки стояла на вершине холма, насквозь мокрая от пота. Платье облепило ее стройное тело, а знойный ветер трепал волосы. Руки девочки упирались в бока, на лице застыло выражение непреклонной решимости. Песок у ее ног волновался, вздувался и опадал, точно ворочающееся животное. Еще одно, очередное, содрогание – и из песка неким странным растением потянулась серая кисть человеческой руки с фиолетовыми длинными ногтями. Пальцы согнулись и подгребали песок – рука искала твердой опоры, чего-то, за что можно уцепиться. Песок вздрогнул – и сквозь белую крупу проросла вторая рука, такая же безобразная, как ее сестрица. Эта рука попыталась пощупать воздух, но не преуспела; затем руки пришли к соглашению и разом легли на песок, словно пожухшие пальмовые листья. Вслед за тем из песка выступило нечто багровое, пестрящее черными и серыми пятнами, похожее на человеческую голову, перемазанную в пепле, а более всего – на одну из деревянных масок, которые часто видела Бекки в доме у старика Сола. Страшилище выбиралось из песка долго и упорно; казалось бы, Бекки должна испытывать страх, панический ужас… Нет! Даже близко не так. Все что угодно: усталость, раздражение на свою глупую родственницу, саднящую боль в исцарапанных руках, удовлетворение от содеянного и легкое любопытство. Только не страх.
– Должно быть, у меня вовсе нет сердца, – подумала она, – иначе сердце просто выпрыгнуло бы из моей груди и зарылось в землю, как крыса.
Такое равнодушие обрадовало девочку, так что она даже хлопнула в ладоши в ответ на свои мысли. Зомби, выбравшийся из могилы и сидевший на корточках, согнувшись по-обезьяньи, зыркнул на нее огромными глазищами, лишенными век. Нос его и верхняя губа от долгого пребывания под землей совсем разрушились, и желтоватые крупные зубы торчали напоказ. Из-за отсутствия носа он был до смешного похож на японскую собачку покойной миссис Блэквилл, тоже глазастую и плосконосую; собачка, впрочем, тоже давно сдохла.
– Чего расселся? – прикрикнула на мертвеца Бекки. – Шевелись-поторапливайся! Для тебя готова работенка!
Она прошла мимо безмолвного создания и стала живо спускаться с другой стороны холма. Зомби последовал за ней. Движения его были порывисты, неуклюжи, ноги скрипели при ходьбе, как несмазанные дверные петли. Он не почувствовал, что песок круто уходит вниз, и кувыркнулся вперед головой. Бекки вздрогнула, когда мимо нее пронеслось темное неуклюжее тело, разбрасывая во все стороны песок и взбрыкивая конечностями, чтобы замедлить падение. Зрелище предстало таким комичным, что Бекки не удержалась и прыснула. Черный костюм и белая рубаха под ним, а также крапчатый шейный платок (мистер Лаки при жизни, видать, слыл заправским щеголем) были изъедены сыростью и кое-где поползли прорехами, зато кожаные сапоги выглядят почти как новые, лишь ссохлись немного и стали плоскими в носах. Бекки представила, что за боль чувствуют ноги в такой ссохшейся обуви, – но вспомнила, что он же мертв и не чувствует никакой боли, хотя бы ему и вовсе ноги оторвали! Она поморщилась – дурацкие, детские мысли.
Мистер Мешок Костей уже поднялся на ноги и ждал ее внизу. На всякий случай, чтобы ее не заметили, она повела своего раба через болотистую канаву, сквозь камыши, рассчитывая подойти к господскому дому как можно ближе, чтобы проскользнуть незамеченной. Конечно, все ушли на праздник, но могли остаться двое-трое бездельников, по поручению стариков, на всякий случай, – вдруг заедут незваные гости.
То, что хозяева не вернутся как минимум до завтрашнего полудня, было только на руку Бекки. Оживленный ею мертвец был послушен, как собака, он брел сзади, похрюкивая, словно боров, а может быть, не он хрюкал, а чвакала вода в его сапогах или же звуки рождались в прорехах его гнилого туловища. Камыш шуршал и ломался под руками Бекки, бредущей почти по горло в зеленоватой воде, впереди взлетали мелкие пичуги, жабы громко выражали свое возмущение, а один раз водяная змея, здоровенная, футов десяти длиной, скользнула у самого носа девчонки. Продвигаться вперед было нелегко не столько из-за камышей, сколько из-за вязкой, отвратительно густой тины, предательски охватывающей ступни ног. Бекки совсем выбилась из сил и шла, закусив губу, из одной только злости: увидят! они все увидят! Дом Блэквиллов не отличался большой высотой, и Бекки скорее угадала его присутствие, чем увидела – густые камыши закрывали весь обзор.
Двинувшись в сторону дома, Бекки сперва не поняла, куда именно она вышла, но вскоре догадалась и возликовала: вот удача! Это была старая деревянная галерея, пристройка, затеянная из прихоти покойной госпожи, давно уже пустующая и заброшенная. Сам дом Блэквиллов представлял собой часть дуги, словно часть подковы, а старые здания, соединенные поверху галереей, – другую часть подковы. В юности молодая хозяйка любила гулять по галерее, где на стенах развешены были различные вышитые бисером ткани, куклы и пучки растений. Бабушка Вивиана рассказывала внучке, что в одном из зданий мисс Шалунья (как называл ее счастливый новобрачный, а затем – конечно, между собой – и все прочие обитатели поместья) устроила мастерскую, где занималась скульптурой и лепила из глины диковинные фигуры, в другом велела натянуть на разной высоте широкие, похожие на рыболовные, сети и прыгала, словно цирковая артистка, заливаясь смехом. В самом большом здании, крытом стеклянной (вот умора!) крышей из множества кусочков, точно в гигантском парнике, затевались чудные заграничные игры, и Вивиана подсматривала, как миссис бьет длинной палкой с молоточком на конце по крохотному мячику, и мяч катится, минуя всякие воротца и холмики с флажками.
Был еще один дом в старом крыле – дом призраков. Дом был превращен в лабиринт многочисленными деревянными перегородками, и холщовые разноцветные шпалеры, завешивающие эти перегородки, создавали жуткие звуки при малейшем дуновении ветра. Словом, будто для маленькой девочки созданы были всяческие развлечения. Но вскоре после рождения дочери молодая госпожа стала к ним охладевать, а потом и вовсе забросила: проемы, соединяющие дом со зданиями-игрушками, были заколочены досками, а ветер, дождь и древесные жуки оказались единственными их посетителями.
Бекки сделала знак своему безмолвному спутнику оставаться на месте и, выбравшись из камышей, последовала к ветхому зданию, где когда-то располагался зал для игры в крикет. Негритята, раскачав доски, давно уже облюбовали это место, и Бекки хотела удостовериться, нет ли случайно здесь кого– нибудь из них. В пыльном воздухе столбиками стояли солнечные лучи, падая отвесно из разбитых окон крыши; другая часть окон заросла грязью, и потому свет и тьма причудливо переплетались, создавая впечатление искусной декорации к странной пьесе. В здании было тихо и пусто – дети, верно, играли где-нибудь в другом месте. Бекки вернулась за своим слугой и, не переставая удивляться, как точно, будто дрессированная собачка, он реагирует на ее команды, повела его в место для игр.
Чистоплотная девушка досадовала, что ее ноги и тело облеплены тиной, но времени, чтобы привести себя в порядок, у нее не было: следовало торопиться, чтобы успеть на праздник. Ступени в углу, рассохшиеся и просевшие, вели в галерею, по которой Бекки намеревалась добраться до комнаты покойной госпожи Блэквилл. После ее смерти в ее комнате все осталось по-прежнему, все стояло на своих местах: баночки с пудрой и кремом, помады и духи, платья в сундуках и на стульях – Эдгар распорядился ничего не трогать. Иногда он приходил в эту комнату погоревать, но, мучимый беспричинными страхами и нечистой совестью (почитая себя великим грешником за отчаянные попойки с друзьями-приятелями), перестал сюда приходить. Детская комната, смежная с комнатой покойной миссис, отличалась от нее разве что меньшими размерами.
Пока юная колдунья со своим странным спутником осторожно шли, точнее, крались по галерее, девушка испытала несколько неприятных моментов, когда, казалось, пол вот-вот треснет под ее ногой – так скрипел и трещал дощатый настил. Но все сложилось удачно. Миновав ряд заброшенных зданий, они без происшествий добрались до заколоченных досок, закрывающих вход в дом Блэквиллов. Зомби без труда обратил сей заслон в груду щепок, пройдясь по ним кулаками.
Малыш находился там же, где его оставила Бекки, – в колыбели, привязанный ремешком к одному из прутьев кроватки; Бекки продела ремешок через прорезь для пуговицы в помочах малыша и таким образом решила проблему, как ограничить движения непоседливого мальчугана, чтобы он за время ее отсутствия что-нибудь не натворил. Маленький Патрик лежал на спине, устремив взор небесно– голубых глазенок в потолок, и пытался расправиться с краем простыни, упорно мочаля его детскими зубками. При виде Бекки он возликовал и принялся что-то лепетать и пускать на радостях пузыри.
– Стереги его! – приказала Бекки мертвецу. – Следи за ним! Смотри, чтобы с ним ничего не случилось! Оставайся с ним рядом, пока я не вернусь!
И бегом выскочила из комнаты, торопясь поспеть к началу празднества. Прежде всего она, спустившись на первый этаж, заглянула в людскую, чтобы ополоснуть ноги от тины, и заодно постирала в тазу свое платье, такое же зеленое и пахнущее увяданием, как водяные травы.
Сунув нос в угол, где располагалась постель бабушки, отделенная от остальных рваной шторой, девочка поискала под кроватью и извлекла блюдце с плоским серым камешком – великим богом Дамтала. Выкупав его в кукурузном масле, она с почтением и осторожностью поместила бога на место. Она не считала себя преступницей, оживив мертвые кости без надлежащего дозволения со стороны высших сил, но понимала, что все же иногда следует проявлять почтительность: кто знает, когда это может пригодиться? Польстив таким образом высшему существу, Бекки задвинула его обратно под кровать, натянула мокрое платье и поспешила в лес, где, вероятно, вовсю шло празднование.
* * *
Дом мэра – внушительное каменное строение, точно вырубленное из скалы, с высокими косоватыми окнами, наводившими на мысль о неуверенности архитектора в своих силах, славилось мраморными лестницами, бесшумными проворными лакеями и изобильным угощением. Еще не было и восьми часов вечера, на улице совсем светло, а в доме уже ярко полыхали люстры, сияли факелы в приемной зале, горели три огромных камина в зале для танцев – огонь гудел, рассыпаясь оранжевыми искрами, а маленькие негритята в костюмах, изображающих пастушков с французских гравюр, с ужимками, подтанцовывая, кормили огонь постоянно доставляемыми дровами, причем каждое полено было обернуто цветной бумагой и перевязано бантом. Да, здешние «шишки» умели пустить пыль в глаза!
Гертруда в своем пестром одеянии вкушала унижение полной мерой: дамы, составлявшие вечернее общество, разоделись, точно герцогини, – блестки, пух, жемчуга и рубины, невесомые газовые шарфы и белопенные веера; платья самых ярких, капризных, невероятных цветов, – бедная женщина и впрямь чувствовала себя хохлаткой, забредшей в цветник. Ради справедливости следует отметить, что Мамаша Блэквилл тоже ощущала себя не лучшим образом, когда увидела, что ее шляпка… несколько отстала от моды и вызывает улыбки на устах юных чаровниц и почтенных матрон, рассматривающих старуху с интересом и некоторой жалостью, словно некую древнюю вещь. Эдгар Блэквилл не знал, куда себя деть: до сих пор круг его общения ограничивался лишь домашними, а после смерти жены – двумя-тремя беспечными приятелями, постоянными партнерами по висту и выпивке. Он отошел в сторонку и кидал оттуда смущенные взгляды на чашу с пуншем, водруженную на отдельный столик у окна. Верного Лесли с ним сейчас не было – слугам не место на званом вечере. Мэр мило приветствовал Мамашу Блэквилл и представил ее некоторым из гостей; дамы сходного с ней возраста сейчас же увлекли ее в свой круг и любезно старались втянуть в светскую беседу, но ее мысли были слишком заняты предстоящей встречей с внучкой, и потому старая дама на все вопросы отвечала невпопад. Мисс Мэри первой увидела бабушку и вздрогнула от изумления, но смело пошла вперед – решимости Блэквиллам не занимать!
– Здравствуй, милая бабушка! – поспешила она перехватить инициативу. – Я так рада, что вижу тебя в добром здравии! Ах, что за чудесное платье! Как поживает братик? Отец? Кстати, позволь тебе представить моего жениха: Ленни Добсон, – а это моя бабушка, Ленни, – правда, она прелесть?!
От унижения оттого, что родная внучка сюсюкает с ней, точно с комнатной собачонкой, старая леди едва не лишилась дара речи, но, овладев собой, ринулась в атаку:
– Ты, я погляжу, времени зря не теряла, Мэри, милочка, вот и жениха нашла – наверно, занятия музыкой располагают к сердечным знакомствам. Как поживаете, мистер Добсон? Вы нынче на ярмарку по делу или проездом? Сегодня на торгах столько лошадей, а вы торгуете лошадьми, молодой человек, или живете рентой? Моя память слаба, сэр, извините старуху, но мне что-то не приходилось слышать о поместье Добсонов; что ж, не диво, вы, наверное, из новых соседей, сейчас ведь столько людишек стремится в Луизиану, Боже помилуй!
Ленни смотрел на старуху с вызовом, но и с уважением. Да, крепкий орешек!
Элегантен, но не вызывающ, аккуратен, но не скучен, одет небогато, но со вкусом, – словом, молодой человек, знающий себе цену и отличающийся безукоризненным поведением. Добсон покорил Мэри Блэквилл своим терпением, ненавязчивым, искренним обожанием, а своих будущих родственников надеялся склонить к себе единственными достоинствами честного бедняка – услужливостью и почтительностью.
– Целую ваши руки, дражайшая миссис Блэквилл, – сказал он, низко поклонившись старой даме. – Мэри рассказывала мне о вас столько замечательного, что я жаждал этой встречи, чтобы выразить вам свою привязанность. Вы ошиблись, упомянув о поместье; нет, я не богат, да и не приспособлен для работы на земле. Природа дала мне пытливый ум и критический настрой мыслей, что служит мне достаточной опорой в жизни и дает пропитание: я репортер, мэм, и смею вас заверить, неплохой. Когда-нибудь, я не сомневаюсь, мне придется быть и владельцем газеты, но пока моя цель – нести людям свет знания и уведомлять их обо всех заслуживающих внимания событиях, дабы не дать погрязнуть в невежестве.
– Как трогательно! – всплеснула руками Мамаша Блэквилл. – Как благородно – заботиться о благе ближних. Достаточно же вы просветили мою внучку, мистер Добсон, малышка так и светится от радости! Но скажите, любезный, что вы можете предложить будущей жене, кроме духовной пищи и чистых помыслов? Каково ваше жалование? Надеюсь, оно достаточно велико, чтобы содержать семью? Боюсь, мы не сможем регулярно оплачивать счета юной Мэри Добсон – дела, знаете ли, идут в поместье не слишком хорошо, и лишних трат нам не перенести.
– О, бабушка, что ты говоришь! Опомнись! Как тебе не стыдно! – ужаснулась Мэри.
Добсон сочувственно улыбнулся, являя своим видом аллегорию уязвленной добродетели.
– Стыдно? Ты смеешь упоминать о стыде? Тебе ли говорить об этом? Мать – в могиле, отец сам не свой от горя и забот, маленький братец растет как трава, без присмотра, без ласки, а ты бросаешь семью, выходишь замуж за первого встречного и притом же еще обвиняешь меня в бесстыдстве? Огромное спасибо, юная леди, польщена вашей доб– ротой.
– Вы хозяйка Блэквилл-холла, мэм, а я всего лишь хозяйка своего сердца, которое зовет меня любить и быть любимой. Возможно, в ваших глазах я поступаю дурно, бабушка, но вы не в праве меня остановить. Я молода, я счастлива, да, я хочу быть счастливой без оглядки: нравится это кому-то или нет!
– Вот как, дерзкая девчонка? Ну так запомните: с этой минуты у вас больше нет ни бабушки, ни отца, ни брата! Раз уж вы так послушны своему сердцу, пусть оно и ведет вас под руку на венчании, пусть оно нянчит ваших детей, утирает ваши слезы, готовит вам горячее питье, когда вы заболеете, и утешает советом, когда вы попадете в беду. И если люди спросят вас о вашей родне, не смейте упоминать имя Блэквиллов, но кивайте на ваше строптивое сердце!
С этими словами Мамаша Блэквилл развернулась на каблуках – щелк! – словно бравый офицер на параде! – и пошла к выходу; насмерть перепуганная Гертруда поспешила за ней. Ленни Добсон успокаивающе взял руку невесты в свою, но Мэри вырвалась и засеменила в дальний угол залы, откуда затравленным зверьком на нее взирал отец.
– Папа! Папа! – возопила девица, бросаясь на шею дрожащему, потному Эдгару, уже успевшему отдать дань многочисленным джулепам и кобблерам, что так заботливо подносили черные слуги. – Неужели и ты оттолкнешь свою несчастную дочь! О! Скажи, что любишь меня, скажи, что не бросишь свою Мэри!
– Полно, малышка, полно… – он пятился, пятился назад, пока не уперся спиной в стену. Малышка Мэри весила немало, а Эдгар чувствовал себя усталым, разбитым стариком, едва удерживающимся на ногах.
– О, папа! О! – заливала голубыми от туши слезами его белоснежный воротничок. Мистер Блэквилл растерянно глядел по сторонам, пытаясь найти поддержку, но старуха к тому времени уже удалилась, а Сторнера рядом не было, не было никого, кроме прищурившегося, точно кот на мышку, Добсона.
– Уверен, что это недоразумение, сэр, – положив тяжелую руку на плечо Блэквилла, молвил он. – Когда буря эмоций схлынет, мы с вами сможем поговорить по-простому, как честные люди и джентльмены. Бог свидетель, я нисколько не желал обидеть вашу матушку, сэр, и искренне сожалею обо всем, чему вам пришлось стать свидетелем. Я надеюсь видеть вас своим гостем, почтеннейший мистер Блэквилл, – мы с Мэри проживаем по адресу: улица Лэвен, дом 12. И клянусь: как скоро вы узнаете меня поближе, обретете в моем лице преданного сына. Искренне ваш. И, отрывая увлекшуюся Мэри от отца:
– Пойдем, драгоценная моя. Нам пора.
Несчастный Эдгар Блэквилл! Он не был флагманом в житейском море: знал, как возделывать поле, растить рис и хлопок, неплохо разбирался в лошадях и собаках, был отважен в картах и выпивке, при случае мог и за женщинами приволокнуться; но при всем том характер имел скорее философский, нежели бойцовский. Очаровательная и деятельная жена-француженка так долго воплощала для него все совершенство мира, что с ее смертью он абсолютно потерял нить бытия и опустился в пропасть отчаяния и меланхолии. Сегодня от него требовался решительный поступок: поддержать свою мать или дочь, словом, как-нибудь подтвердить свой статус главы семьи, – но увы, слишком долго он пробыл на четвереньках, ползая в пыли жалости к себе, чтобы вот так вдруг выпрямиться и встать во весь рост; нет, он был слаб.
Все, что он мог выдавить из себя в тот миг:
– Да, доченька, да, конечно… м-м-м… да…
Мэригольд уходила под руку с женихом вполне довольная сегодняшним вечером: отец за нее или, вернее, не против – очко в ее пользу! Ленни же втихомолку посмеивался над людской слабостью: раскусить Блэквиллов для него не составляло никакого труда, он все предвидел заранее: отец – тряпка, бабушка – кипящий чайник, да ну! – к чертям, подобреет, едва пойдут внуки. Ленни не испытывал ни малейшей жалости к слабакам и сам слабаком не был; он по праву считал себя ловким парнем: сын сапожника, затем – помощник мелкого стряпчего в мелкой конторе, воровал, бежал, чтобы не попасться, в другом городе устроился при сиротском приюте, снова воровал и бежал опять; и вот – Луизиана, сонный городишко, где жители, ленивые, как мухи, газета, наивная девица с бреднями в голове, а вдалеке ясным маяком светит неплохое состояние. Старуха не вечна, ну, а Блэквилл скоро сопьется, труха – только ткни, так и рассыплется в прах! Что до Блэквилла-младшего, чего проще! – дети часто болеют, они слишком хрупкие и доверчивые существа. Добсон почти видел себя на вершине богатства.
* * *
Едва Бекки выскользнула из детской, малыш расплакался: он не мог понять, почему его все время оставляют одного. Но слезы иссякли так же быстро, как и полились, – Патрик увидел осу, влетевшую в полураспахнутое окно. Оса приземлилась на прут кроватки и принялась исследовать его внимательными прикосновениями усиков. Патрик предпринял попытку достать ее, но не дотянулся и возмущенно завопил. Оса взлетела и, привлеченная запахом мертвечины, села на щеку мистера Лаки, чья фигура в лучах заходящего солнца казалась вешалкой, на которую впопыхах накидали всякой рвани – шляпа набекрень, топорщащийся пиджак, украшенный гирляндами речных трав, расползающиеся штаны. Оса заинтересованно поползла к ноздре, размышляя, как бы поудобнее разместиться в этом гнезде. Зомби проворно схватил ее пальцами и отправил в рот – полосатая жужжалка раздражала его, к тому же он обязан охранять маленького человечка. Оса не растерялась. Побродив немного в темноте, она выбралась наружу через дырку в черепе Вернона, ту самую, что когда-то, двадцать лет назад, пробила мотыга Соломона, подкравшегося сзади, пока Вернон отбивался кнутом от ватаги негров, наседавших с кольями в руках.
Патрик испустил торжествующий вопль и рассмеялся – происходящее показалось ему забавным. Правда, от незнакомого дяди плохо пахло, но какие смешные штуки он вытворял! Вернон вторично поймал осу и раздавил пальцами, протянув малышу осиную голову на ладони, все еще подергивающую усиками. При этом у него отвалился ноготь и упал на простыню. Патрик благодушно замурлыкал и взял осу в рот, покатал языком и проглотил, а затем, заприметив ноготь, начал с ним играть.
Зомби рассматривал малыша, и какие-то смутные обрывки воспоминаний, словно клочья тумана, мелькали у него в глазах. Оглядевшись, Вернон взял со стола бутылочку с молоком и сунул ребенку. Патрик бросил ноготь и с удовольствием присосался к бутылке: он ел давно и успел проголодаться. Конечно, лучше бы Бекки подогрела немного жидкой тыквенной каши, но и молоко сгодится.
Вернон услышал шаги и тихо встал за дверью, готовый защищать малыша от кого бы то ни было. Шаги приближались – дробное цоканье, как если бы торопливо шла женщина, и вот на пороге появился… петух. Тот самый худосочный «чемпион», которого не так давно один чернокожий прощелыга расхваливал другому. Хитрая бестия умудрилась каким-то образом удрать от хозяина, выбралась на волю и с собачьим любопытством принялась изучать окрестности. Длинная шея казалась игрушечной, желтый глаз презрительно мигнул, узрев ребенка (а Патрик замер с открытым ртом, не решаясь зареветь; он еще не понял – следует ли испугаться или нет; на всякий случай всхлипнул). Петух важно прошел в комнату и вспрыгнул на стул, а оттуда – на стол, ища, чем бы поживиться. Вернон соображал очень туго – ведь от его мозгов мало что сохранилось за двадцать лет пребывания в земле, но все же догадался, что петух не оса – проглотить его будет труднее. Он бросился на петуха, растопырив пальцы, но птица оказалась куда проворнее и с клекотом унеслась прочь. Явно уступая петуху в быстроте, зомби, тем не менее, был гораздо терпеливее. Он прыгал на петуха всем телом, падал на пол, подымался и вновь прыгал. После многих неудачных попыток ему удалось схватить петуха за голенастую ногу и свернуть отчаянно сопротивлявшемуся крикуну шею. Теперь Патрик получил во владение новую игрушку – петушиную голову. Вернон таким образом приобрел маленького друга, восхищенного ловкостью и силой большого дяди, столь щедрого на подарки. Пока Патрик играл, Вернон, испытывая смутное нетерпение, прошелся по комнате взад-вперед и схватил с пола окровавленную птичью тушку, стал рвать ее зубами, не насыщаясь, но чувствуя, однако, теплую жидкость, стекающую по его горлу и щекам. Малыш, совсем расшалившись, потребовал перьев – Вернон протянул ему петушиный хвост.
* * *
– Ничтожный, жалкий трус! – гремела Мамаша Блэквилл, как органная труба, и топот ее каблуков разносился по всему дому, так что другие постояльцы, вместо того чтобы готовиться ко сну, вынуждены были выслушивать это безобразие.
– Мой сын – трусливый ребенок! Да на вашем месте, сэр, я бы убила этого наглого выскочку, я бы втоптала его в грязь, из которой он выполз, я бы разбила всю рожу этому прощелыге, этому мерзавцу, опутавшему вашу дочь паутиной лести и лжи! Где были ваши глаза! Что же ваша честь, фамильная честь Блэквиллов, смолчала? Мало того, что вы согласились пойти к нему в гости, так еще и пригласили этого мерзавца в наш дом! Стыдитесь, сын! Неужели виски так разбавило вашу кровь, что в ней не осталось ни капли мужества? Ах, Боже мой, отчего я не мужчина! Генри, мой бедный покойный муж, будь он жив, не стерпел бы этакой обиды! Отдать родную дочь за мошенника, рвань, мелкую сволочь с улицы! Пустить по ветру честь, а затем и все состояние семьи!
– Оставьте, мама, ваши причитания, – мрачно возразил Эдгар. – Я люблю дочь и желаю ей счастья. Раз уж так случилось – ничего не попишешь, – видно, скоро у Патрика появится племянник.
– Да я, сударь, лучше пущу в дом черномазого, чем эту белую шваль! По крайней мере, это люди честные, хоть и скоты, но кровь вола достойней крови лисицы!
– Что вы все: кровь, кровь… Заладили тоже. Глядите, накликаете беду.
– Протри глаза, сударь мой! Беда на пороге!
Эдгар подошел к столу и со всей силы, на которую был способен, ударил кулаком; зазвенели чашки, кофейник опрокинулся набок, и темное пятно быстро залило скатерть.
– Я сказал, что завтра поеду к ним, и точка! Спокойной ночи, мама.
С этими словами он покинул комнату, оставив миссис Блэквилл в совершенном расстройстве.
– И что ты скажешь мне, Гертруда? – спросила выдохнувшаяся от гнева старуха у своей компаньонки, что сидела по своему обыкновению в уголке, ни жива ни мертва от страха.
– Я дивлюсь вашему долготерпению и вашей великой кротости, Мэри, – тщательно подбирая слова, пробормотала та. – Дети, видит Бог, приносят одни неприятности. Вероятно, такова наша горькая доля, милая, хоронить мечты и надежды.
– Ты права, – бессильно опускаясь на кровать, промолвила старуха, – девчонка опозорила наш род, а я-то видела ее невестой знатного, приличного человека! Горе мне, горе…
– Не убивайтесь вы так, золотце мое, – Гертруда присела поближе и обняла подругу за плечи. – Подумайте, ведь есть еще крошка Патрик.
– О, милый малыш! – глаза старухи наполнились слезами. – Как-то он один, спит, малютка, сиротинушка. Но я слишком стара, Герти, и не дожить мне до его свадьбы, никогда не увидеть его взрослым джентльменом.
– Господь даст, и увидите, – как могла успокаивала ее компаньонка, – все в руках творца. Но во всяком случае вы достаточно бодры и полны сил, чтобы заложить в маленького Блэквилла те семена чести и порядка, что не дадут ему сгинуть бесславно. Кто, как не вы, наставит его на путь истинный?
– Верная, славная моя Герти, – растрогалась старуха, горячо сжимая ладонь подруги, – ты права, ты опять права! Ну да уже поздно. Ляжем спать, а завтра продолжим наши хлопоты.
* * *
Дважды бывала Бекки на празднествах, потому и не боялась заблудиться. Сильно изрезанная каналами почва кое-где ветхими мостками обозначала дорогу, миновав сеть проток, Бекки добралась до леса. К храму вела узкая дорога, по обеим сторонам которой торчали воткнутые в землю колья, на которых насажены были трупы животных: камышовые коты, еноты, вертишейки, черные и белые курицы. Некоторые из них были еще живы – судорожно разевали рот, подергивались, а черная кровь густо стекала вниз по свежеструганному дереву, как смола. Между кольями на земле лежали индюшачьи яйца, извилистые корни и странной формы камни. Храм представлял собою огромную соломенную хижину с дырой в потолке, чтобы дым уходил в небо. Хижина-гонфу располагалась посредине лужайки, выровненной и утрамбованной как площадка для танцев.
Девочка подбиралась к храму осторожно, помня о том, что она нежеланная гостья; на четвереньках подползла к одной из стен хижины и замерла, жадно рассматривая сквозь щель все, что происходило внутри. Бекки почти не опоздала: младший из церемониальных барабанов, Гун, только что начал свою песню.
Хижина освещалась изнутри смоляными факелами, красные отблески на черных блестящих телах создавали определенное настроение, преображая привычные глазу предметы, делали их таинственными, необычными. На возвышении стояла корзина. Рядом, чуть поодаль, горели два костра. Над одним, пламя в котором почти погасло, висел здоровенный котел. Казалось невероятным, чтобы его мог поднять человек: котел был словно похищен из дворца сказочного великана. Другой костер, сложенный очень симметрично, тщательно, гордо тянул ввысь оранжевые пальцы.
Позади котла, около барабанов, сидели, скорчившись, барабанщики: звонкой дробью сыпал крошка Гун, Гунтор и Гунторгри пока безмолствовали. Колоссальный барабан Ассаунтор, похожий на бочку, обнимал огромного роста атлет. Ассаунтор разговаривал только в самые торжественные минуты; ходили слухи, что он обтянут человеческой кожей.
Толпа была огромной – больше ста человек – возбужденные, одетые в свои лучшие одежды: женщины – в ярких хлопчатобумажных платьях, мужчины – в голубых рубахах и штанах. Некоторые надели красные башмаки, другие стояли босиком. Они терпеливо ожидали начала действа. Служащие гонфу – авалу – оттеснили толпу к стенам и освободили небольшое пространство посредине храма. Они бросили на землю хворост и зажгли кос– тер, а затем ввели в круг четырех адептов – двух женщин и двух мужчин; барабан Гун смолк.
Папалои (конечно, Соломон) выступил из толпы. Его отличала от прочих присутствующих голубая лента, повязанная вокруг головы. Он торжественно рассыпал в пламя поданные его помощниками пучки травы и волос и воззвал к небесным близнецам – Сауго и Бадо – молнии и ветру – с просьбой раздуть священный костер посильнее. Затем он приказал адептам прыгать в огонь, и те подчинились – прыгая взад и вперед сквозь пламя, они выдержали ритуал посвящения до конца. После этого папалои повел их к дымящемуся котлу, из которого адепты должны были голыми руками достать куски вареного мяса и раздать присутствующим на больших листьях. Все это совершалось под музыку Гуна и Гунтора, в то время как папалои обращался с воззванием к божественному индюку Опэтэ, моля благословить трапезу. Ошпаренные руки то и дело погружались в кипящий бульон, что продолжалось бесконечно долго, пока наконец последний из гостей не получил своей порции мяса. И только когда котел опустел, тощий старик принял адептов в общину в качестве равноправных членов во имя великого мирового духа Аташоллоса и передал их родственникам, держащим наготове мазь для обожженных рук.
Бекки, приникшая к щели, возбужденно облизывала губы. Она знала, что манящий рокот барабанов мог загипнотизировать, увлечь за собой кого угодно. У нее тем не менее имелась надежная защита от магии, сплетающей там, внутри, десятки душ в одну: ее безмерная, ликующая гордыня. Бекки прикрыла глаза и вспоминала, вспоминала…
…Песчаный холм на краю кукурузного поля был местной достопримечательностью. Земля в Луизиане капризная: сухие глинистые почвы сочетаются с влажными, болотистыми – сплошь чересполосица. В Нижней Луизиане строят дома как для живых, так и для мертвых, возводят прочно, из камня – стоит пару раз копнуть лопатой, как ямина наполняется водой, хоронить невозможно. Хорошая земля здесь – редкость. Поэтому большая груда песка, неизвестно как возникшая на капризной земле, где урожаи случались нечасто, стала для негров особенным местом. Легенды и сказки овевали песчаный холм, редко кто отваживался приближаться к нему вообще, а не то чтобы пытаться забраться наверх. Много лет назад там свершилась казнь, а затем похороны жестокого надсмотрщика, мистера Лаки. Ребекка узнала об этом у старого Сципиона, своего учителя. Отчаянная воришка, она потихоньку отливала спиртное, таская его у кого придется. И ни разу не попалась! Пьяный Зип выбалтывал ей много заветных тайн и проклятых секретов, делился самыми черными сторонами своего мастерства.
В отличие от Соломона-хунгана, Зип был бакором – черным колдуном. Его боялись. Его не любили, однако окружали почетом и слушались, памятуя о том, как неугодные ему люди просто исчезали бесследно. Например, шли на охоту в лес и не возвращались. Каково было Соломону, ревнивому к своей власти, терпеть такое соседство? Но, с другой стороны, кто-то ведь должен оказывать почести и дьяволу – Симби-Китасу. Пусть его, рассуждали старейшины, если хочет якшаться со злыми духами, – только бы нас не тревожили…
Служители подбросили дров в огонь и утвердили над костром деревянный толстый кол. Тут же они приволокли за рога двух козлов – черного и белого – и поставили их перед папалои. Папалои ударил каждого козла жертвенным ножом в горло и медленно отделил голову от туловища. Обеими руками подняв отрезанные головы вверх, он показал их всем верующим и бросил в кипящий котел, посвятив их владыке хаоса Кота Бадагри. Кровь козлов была собрана в большие сосуды, смешана с ромом и подана всем присутствующим. Пока сосуды ходили по кругу, верующие прикладывались к питью. Служители содрали шкуру с животных и насадили их на кол над костром.
Толпа заволновалась: волнами, тяжким дыханием теней пришло жадное опьянение, разжигающее кровь и толкающее присутствующих на безумства. Никто не остался в стороне; ни один не смел сказать: «Это я», каждый чувствовал то же самое, что его сосед, – здесь больше не было отдельных личностей, только великое, алчное «мы», многоглазое, жаждущее чудовище.
Папалои подошел совсем близко к огню и громко обратился к богу Аллегра Вадра, который знает все, умоляя его просветить его, жреца, и всю общину. Бог ответил через него, что все просветятся только тогда, когда вдоволь насладятся козлиным мясом. Люди прихлынули к костру и стали рвать руками горячее полусырое мясо и запихивать его в рот. Они обгладывали кости и швыряли их через отверстия в крыше, произнося славицу богу Аллегра Вадра.
Общее возбуждение подогревали барабаны. Гун, Гунтор, Гунторгри наперебой загрохотали, и к ним присоединился могучий Ассаунтор. Авалу затоптали костер и убрали кол – толпа сразу устремилась вперед, а над бушующим морем голов возвышалась, стоя на каменном алтаре, мамалои – верховная жрица – раздавшаяся в талии Ева. Волосы ее тоже украшал голубой платок, а на теле, как и у прочих жрецов, вместо одежды лишь красные платки – на бедрах и вокруг левого плеча. Почтительно склонив перед ней голову, папалои протянул ей солидную чашку, полную рома, и она залпом выпила ее. Барабаны разом смолкли, а женщина начала сперва чуть слышно, потом все с большим и большим подъемом великую песнь божественной змеи.
Люди стали приплясывать, повинуясь странному напеву. Робко, как маленький ребенок, вступил Гун. Черные тела блестели от пота, жрица извивалась всем телом, имитируя движения пресмыкающегося. Чей-то голос выкрикнул слово «Дамбалла!», и хор ответил: «Кровь, стань серебром!»
Позади жрицы ловкие руки открыли плетеную корзину, и в круг танцующих вступил мужчина со змеей на шее. Бум… бум… бум… – били барабаны.
По другую сторону от барабанщиков встали четверо женщин, раздетых догола – на них были лишь маски – два добрых и два злых духов лоа. Добрые духи – изображения черепа, а злые – вытянутые птичьи профили с хохолками на затылке. Они не танцевали, вообще не двигались, – только Бекки знала, каких усилий им стоит не шевелиться во время всеобщего торжества.
Вдруг барабанщики прекратили выбивать общий ритм и застучали вразнобой, словно переругиваясь друг с другом: это привело всех присутствующих в совершенный восторг. Бум-бум… бум… бум… бум-бум-бум-бум… бум-бум. Мужчина со змеей на руках – «Дамбалла!» – танцуя, приблизился к жрице – «Дамбалла!» – и поднял змею над головой.
Бекки, сама того не замечая, прижала ладони к щекам. Пальцы впились в виски с жадностью пиявок, острые зубки закусили нижнюю губу до крови. Она напряженно всматривалась внутрь хижины, но мысли ее витали далеко, далеко…
…Как тяжело ей было, стоя на вершине холма, погружая руки по локоть в песок, ставший вдруг ледяным, вызывать мертвеца! Она чувствовала себя такой хрупкой, ужасно ранимой, уязвимой, словно была стеклянным графином, внутри которого плескалась горячая, испуганная кровь. Вот кто-то страшный, жадный ползет из глубины, тянется мертвыми корнями к тончайшему стеклу, почуяв кровь. «Беги!» – кричали ей в уши голоса. «Останься, терпи!» – надрывались другие. Бекки цепенела. С натугой, с зубовным скрипом она молила, тянула, призывала к себе то, страшное. Две противоборствующие силы разрывали ее на половинки: одна взлетала прочь легкими крыльями, – беги, беги! другая росла вниз, впивалась настойчивой колючкой, каменела рыболовным крючком, – еще, еще, еще!!!
Когда на свет показались руки мертвеца, черные, странные, Бекки лишилась дыхания. В ней не осталось места для каких-то эмоций. Она чувствовала себя обворованной. Но так, словно она сама просила этого.
Бекки точно помнила – на одну минуту ей вдруг захотелось очутиться там, под толщей песка, на его месте, чтобы никто не искал ее и не тревожил, чтобы она смогла наконец-то успокоить свое ретивое сердце…
Жрица выгнулась колесом, становясь на руки и ноги; по живому «мосту» поползла змея; светлая блестящая кожа на черном торсе, тяжелые кольца на животе, узкая змеиная голова приблизилась к горлу и облизала его раздвоенным языком.
Человек, принесший жрице змею, начал вдруг бешено извиваться, подпрыгивая высоко вверх. Мускулы его застывали один за другим, пока он не застыл в оцепенении, остановившись после очередного отчаянного прыжка. Он стоял недвижимо, будто деревянное изваяние человека, глаза его закатились – видны были одни белки. Одна из женщин, выйдя из круга, подтанцевала к нему и повязала зеленый платок через плечо, завязав на груди концы; потом она вложила ему в руку мачете. Как заведенный механизм, он снова принялся танцевать.
Бум-бум… бум-бум… бум-бум… Человек с мачете подтанцевал к тлеющим угольям костра. Вокруг него вились женщины, нанося себе пощечины. Одна из них вертелась так быстро, как раскручивающееся веретено, она вцепилась ногтями в щеки, следуя охватившему ее наваждению, лицо ее походило на страшную маску. Казалось, она одна из сонмищ Лоа. Мужчина в танце бешено рассекал ножом воздух, чуть-чуть не задевая других танцующих. Жрица свернулась клубком на боку и словно спала; змея делась неизвестно куда.
Мужчина бил танцующих по лицам плоским боком мачете, под его ударами они валились, подобно колосьям в жатву. Мерные песнопения основной массы танцоров изредка взрывались пронзительными воплями. Барабаны били реже и реже, их ритм стал успокаивающим, беспечным – пропал зловещий автоматизм, пришла ненавязчивая лиричность обычной праздничной мелодии; старшие барабаны вскоре смолкли совсем, только Гунтор продолжал убаюкивать воспаленную ромом и безумством толпу, иногда врывался кроха Гун, вмешиваясь в текучий ритм, словно маленькая бойкая собачонка.
Женщины сбросили маски и поднесли их жрице; за каждую такую маску колдунья одарила их куклой «худу». Из кукольных толстеньких тел торчали блестящие длинные булавки.
Бум… бум… бум… Звучал лишь один Гун. Жрица, вновь поднявшись над всеми, над толпой, частично сидящей на голой земле, а некоторые лежали лицами в землю, словно пережившие ужасное потрясение люди, – жрица вытянула руки над головой, встав на цыпочки, и затянула песню со странными словами, не принадлежащими ни одному из языков мира. Она вращала красивыми кистями рук, колыхала бедрами, и глаза ее были закрыты, будто там, внутри себя, она видела кого-то, молчаливо внимающего ее песне, которая пелась лишь для этого неведомого существа. Бекки чувствовала слезы, стекающие по ее горящим щекам. Она знала эти слова наизусть и до боли сжала маленькие кулаки – досада и ревность терзали ее нестерпимо.
И вот жрица промолвила сонным голосом:
– Идите! Гуэдо, Великая Змея, слышит вас!
Все устремились к ней. Авалу с трудом удерживали толпу. У каждого был свой вопрос, свое желание – черная пророчица отвечала всем.
– Будет ли у меня новый осел этой осенью? Выздоровеет ли моя дочь? Вернется ли ко мне милый, покинувший меня ради другой?
Глаза жрицы по-прежнему были закрыты, голова опущена на грудь, а пальцы судорожно растопырены. Явных «да» или «нет» не содержалось в ее ответах, но люди радовались любым намекам, которые могли толковать в свою пользу, как желали. Получив ответ, вопрошающие отходили в сторону, оставляя в соломенной корзинке плату – медные монеты, узорчатые вышитые платки, маленькие зеркальца, засахаренные сухие фрукты.
Барабаны снова загрохотали, и на передний план вышел папалои, призвал собравшихся к вниманию.
– Сегодня мы должны выбрать новую жрицу! – воскликнул Соломон. – Но вначале мы спросим волю бессмертных богов.
Он подал знак одному из служителей, и ему поднесли «доску Ифы». Усевшись на пол, жрец важно собрал в пригоршни все шестнадцать гадательных костей и, нараспев произнеся молельную фразу, рокочущую не хуже барабана, бросил их перед собой. Все кости легли «ртами вниз». Соломон вздохнул и раздраженно почесал макушку. Вторично собрав в горсть кости, он потряс ими, выкрикнул ту же фразу и снова бросил кости. Собравшиеся ахнули – кости вновь безмолвствовали, что предвещало большую беду. Папалои чувствовал себя очень неуютно под пристальными взглядами своей паствы. Когда он в третий раз произносил ритуальную фразу, его голос дрожал – дыхание пресекалось. В волнении он бросил кости высоко вверх – зрители отпрянули назад, чтобы не оказаться на пути божественной воли.
Кости сложились в оду Офун: «Где родилось проклятие».
Паства возроптала, кое-где раздались гневные выкрики и женский плач.
– Молчите! – воскликнул папалои. – Пророчества не касались новой жрицы! Они говорят о беде, подстерегающей наши дома! На сегодня все закончено – поспешим же в свои стены и встретим судьбу, как подобает стойким и мудрым людям! Я сказал!
Ответом ему было молчание. Бекки, торопясь улизнуть, пока ее не заметили, побежала в темноту, но случайно нога ее подвернулась о камень, и девочка со всего духу налетела на осиновое дерево, тонкое и иссохшее, увешенное жертвенными сосудами из глины – раздался такой шум, словно пьяный дебошир вторгся в горшечную лавку. Люди с факелами тут же окружили девочку и привели ее к хмурому жрецу.
– Глупая, глупая дочь койота! – набросилась на нее старуха Вивиана. – Откуда ты взялась, рыбий корм? Разве не велела я тебе сидеть в доме? Кто остался с хозяйским ребенком? Кто нянчит маленького Блэквилла?
Бекки решила молчать, хотя бы ее за язык рвали. Но, увидев среди прочих черных лиц насмешливое лицо Мириам, той, которая должна была сегодня принять корону новой жрицы, она не стерпела:
– Чего скалишь зубы, толстая крокодилица? Не бывать тебе мамалои, и не мечтай! – все против тебя!
– Отпустите! Отстаньте! – Рвалась она из рук удерживающих ее авалу. – Кто в доме, ведьма? Мертвец нянчит хозяйского сыночка! Старые кости качают его на ночь, безгубый рот поет колыбельную! Прочь от меня! Прочь! Симби-Китас дал мне силу, и власть ада перешла ко мне! Не смейте меня трогать! Там, где поет Азилит, прочие лоа молчат!
Бекки вырывалась и шипела, как кошка, оплевывая всех, кто приближался; но Соломон тяжелым наконечником посоха, в который был вделан камень, сильно ударил ее по голове, и девочка обмякла в чужих руках, теряя сознание. Оставив авалу убрать храм и скрыть любые следы празднества, Соломон приказал не медля ни минуты возвращаться. Сильные мужчины подхватили Бекки, и черная человеческая лавина хлынула через манговый лес, через мостки, через камышовые заросли – в поместье; все тревожились; матери боялись за оставшихся дома детей, отцы думали, не случилось ли чего с запертой в хлеву скотиной.
* * *
Патрик давно спал, а Вернон застыл на страже, как изваяние. Он еще издали заметил большое скопление огней – негры с факелами приближались к дому, и в передних рядах шел Соломон, крепко держа за руку очнувшуюся и присмиревшую Бекки. Вернон перешел в комнату покойной миссис Блэквилл и, поискав глазами, обнаружил массивное, черного дерева, кресло. Он принялся разламывать кресло, пока не выломал длинную крепкую палку; вооруженный таким образом, он вернулся в детскую. Патрик от шума проснулся и захныкал. Мужчины, поднимавшиеся по лестнице, второпях вооружились, кто чем смог: вилы, колья из ограды птичьего двора, увесистые камни. Соломон сжимал крючковатой рукой освященный нож с ритуальными письменами на лезвии, но не торопился соваться первым в логово зверя; он суетился, отдавал распоряжения, успокаивал напряженных и испуганных людей, а сам отчаянно желал быть сейчас как можно дальше отсюда. Не обладавшая большим терпением Вивиана взяла на себя смелость ринуться в атаку; растолкав смущенных мужчин, она с факелом наперевес первой вошла в детскую и встретилась взглядом с мертвецом.
– Вылитый Вернон Лаки! – вынесла она свой вердикт. И, обернувшись к приостановившейся, застывшей на ступенях процессии, воскликнула: – Ну же, идите! Он только один, в отличие от вас, без… (дельников – не успела произнести, потому что в этот миг сильный удар самодельной дубины разнес ей череп.)
Толпа ахнула и отхлынула вниз – тело Вивианы рухнуло на ступеньки и разметалось, как соломенная кукла. Мертвец воспользовался всеобщим потрясением, подошел к детской кроватке, подхватил под мышку ребенка и пустился бегом в соседнюю комнату, а оттуда через пролом – в крытую галерею. Упав на колени, он засеменил, словно зверь на трех лапах, перекинув Патрика через плечо. Преследователи не торопились гнаться за ним – слишком глубоко укоренился в их душах страх и благоговение перед собственностью хозяев. Двое смельчаков, правда, вскоре пустились в погоню, переборов робость, но вдвоем не смогли пройти по тесной галерее. Пробежав несколько шагов, один из мужчин провалился по колено в пол – подгнившая доска треснула, не выдержав его веса. Они вернулись ни с чем. Соломон тут же распорядился оставить пять человек охранять пролом, а с остальным ополчением спустился вниз, приказав им войти в тот же сарай, куда Бекки днем привела зомби, – перехватить похитителя с другой стороны.
Вернон, выбравшись на открытое пространство, огляделся. Его нисколько не смущал ночной мрак, ночь к тому же была лунная, и ему вполне хватало света, что пробивался сквозь щели ветхого строения. Взглянув вниз, он увидел нечто вроде громадной паутины, натянутой в двух шагах от него по всему периметру комнаты. Без сомнения, это был зал цирковых батутов – Вернон вспомнил место, где он сейчас находился. Но вспомнил не обычным человеческим воспоминанием, а его осколком, ничтожной частицей давнего впечатления: он, Вернон Лаки, по распоряжению хозяина крепко натягивает непослушные каучуковые нити, чтобы вставить их в железные кольца, прибитые к стенам, веревка выскальзывает из его руки и разрезает палец – острая боль – и красная жидкость льет так сильно, что на пыльном полу через несколько минут образуется топкое месиво цвета ржавчины.
Едва воспоминание встрепенулось в голове Вернона, как он испытал приступ голода – раздраженный капризный комок неприязни подкатил к глазам, затмив на секунду зрение. Патрик не кричал и вообще не издавал никаких звуков, кроме чуть слышного сопения – ребенок решил, что с ним играют; топот и обилие огней не испугали его, скорее озадачили, – теперь он терпеливо ожидал, что будет дальше. Такой маленький… Вернон с силой втянул воздух носом, но запаха ребенка не ощутил: сердце его не билось, легкие не работали, да их, в общем, и не было, они давно истлели. Вернону с нестерпимой жаждою захотелось сейчас же, сию минуту, взять в ладони голову ребенка и раздавить как орех, а затем окунуть лицо в эту теплую, сочащуюся мякоть. Он не сомневался, что это будет приятное ощущение. Но что-то мешало ему так поступить. Возможно, приказания, отданные черной девчонкой, все еще сковывали его волю, возможно, его раздражало присутствие людей – смутное намерение спрятаться, скрыться, уйти отсюда подальше делало его беспокойным. Покрепче ухватив ребенка, он прыгнул вниз. Сетка крякнула под неожиданным грузом, и с полдюжины веревок тут же порвались, но Вернон со своей ношей уже летел вниз, где на нижнем уровне была натянута еще одна паутина, не менее пыльная и не более пощаженная временем, чем первая. Под его весом сети лопались одна за другой; наконец он обеими ногами стал на землю. Чувствуя влагу, он безошибочно выбрал направление и несколькими ударами разнес стену сарая, пробив немалую брешь. Не более тридцати футов теперь отделяло его от камышей. Патрик смеялся от радости – новая забава пришлась ему по вкусу.
На углу стояла большая деревянная бочка – из тех, в которых доставляли для рабов солонину. Мистер Блэквилл придерживался той методы, что кормить негров следует соленой пищей, вызывающей сильную жажду, – чем больше жидкости выпьет черномазый, тем меньше сожрет пищи; следовательно, прямая экономия. Бочка была пуста. Кристаллики соли окаймляли ее внутренние дуги, словно седой мох или мелкие белые цветы. Вернон, руководствуясь какой-то случайной тенью мысли, мелькнувшей в его заплесневелом мозгу, посадил Патрика в бочку и, взвалив ее на плечи, побежал к протоке.
Негритянское воинство подоспело слишком поздно, и отблеск смоляных факелов осветил только смыкающиеся стебли камышей. Преследовать монстра в протоках не решились; Соломон принял решение дождаться рассвета, который был уж недалек: утренняя звезда взошла на востоке, а ночь посвежела, укутавшись молочной шалью; небо постепенно меняло цвет, и через какие-нибудь два часа стало бы достаточно светло, чтобы продолжить погоню. На всякий случай старик послал часть людей туда, где мостки пересекали протоку, хотя и не особо надеялся на успех. То, что он успел вытянуть из девчонки, вселило в него мрачные мысли: чудовище слишком сильно, чтобы бороться с ним как с человеком. К тому же у Соломона не было уверенности, что Бекки сможет вернуть его обратно.
* * *
Ни свет ни заря Мамаша Блэквилл разбудила своих домашних и велела собираться домой. Эдгар возразил, что остается, – Мамаша Блэквилл передернула плечами и не пожелала с ним говорить. Сторнер воспринимал настроение хозяйки спокойно, даже благодушно; при любых раскладах он оставался в выигрыше: хозяйка нуждалась в нем, почитая за единственного надежного мужчину в поместье, а Эдгар, переложив на его плечи самые важные заботы, отдалился и от жизни поместья, и от собственной прежней жизни. Теперь, наедине с Лесли, он либо тащил его с собой «за компанию», либо плакался ему в жилетку о своих обидах и огорчениях. На своих благодетелей Сторнер привык смотреть с почтительным равнодушием, приправленным снисходительной улыбкой лакея, сила которого до поры скрывается, как у кошки, в мягких подушечках лап. Видя, что хозяйка сильно не в настроении, он решил не жалеть лошадей, чтобы сократить путь до поместья. По утренней прохладе лошади бежали с охотцей, пыль из-под копыт так и вилась; за три с небольшим часа кони проделали весь путь, почти не взмылясь, – Сторнер искусно чередовал быстрый бег с медленным. Не то чтобы он был рачительным хозяином – что ему чужие лошади! – но зверем он не был, да и миссис Блэквилл умела благодарить.
На границе поместья их дожидался Соломон с отрядом из пяти кое-как вооруженных негров. Остановив лошадей, он объявил хозяйке новости, не упоминая, впрочем, о сверхъестественной природе похитителя. Отряд его надежных людей, объявил старик, уже послан в погоню за негодяем.
Мамаша Блэквилл не разрыдалась, не обмякла в обмороке, не схватилась за сердце. Твердым, властным тоном сильная женщина отдала необходимые распоряжения: управляющему – сейчас же возвращаться в город и сообщить шерифу о краже ребенка, Солу – сформировать и направить еще один отряд в погоню, а кроме того, разослать людей, чтобы уведомить о преступлении окрестных помещиков и просить их о помощи.
Лесли, высадив хозяйку и ее испуганную тень, то бишь Гертруду, повернул лошадей к городу. Однако не прошло и часа, как он встретил на дороге Эдгара вместе с Мэригольд и Добсоном: решимость Эдгара возразить против тирании матери выразилась в том, что он, посетив с утра свою дочь и будущего зятя, пригласил их немедленно отправиться в свое поместье. Расторопный Добсон нашел наемную повозку и, рассыпаясь перед «папашей» в комплиментах и остротах, направил пегих лошадок по пыльной дороге, проходящей через кукурузные поля. Светило солнце, пели птички, и Добсон, сидя на козлах, вовсю очаровывал Блэквилла, бесконечно расхваливая его платье, его шляпу, его усы, его манеру держаться на людях, вести разговор и т. д. и т. п.
Печальная весть, принесенная Сторнером, поразила Эдгара в самое сердце. Он растерялся, не зная, как поступить, куда бежать. Добсон же сразу разглядел в данной ситуации уникальный шанс для себя: привязать мистера Блэквилла и заставить миссис Блэквилл переменить свое мнение касательно их с Мэри женитьбы. С твердым намерением принять самое деятельное участие в поисках маленького Патрика он разразился вдохновенной речью, призывая всяческие кары на голову преступника и отдавая себя всецело в распоряжение мистера Блэквилла.
Итак, Сторнер в городе разговаривал с шерифом, посланцы Соломона обходили окрестных хозяев, исполняя возложенное на них поручение, а два отряда крепких здоровых мужчин, собранных Соломоном, прочесывали камыши в поисках ребенка и его похитителя.
* * *
Утренняя прохлада давно улетучилась, и солнце-пекарь вновь начало свою горячую вахту. Мертвец прокладывал путь, раздвигая своим равнодушным к любым препятствиям телом зеленую шуршащую стену, руки за спиной обхватывали бочку, в которой сидел Патрик. Раньше монотонное хлюпанье и шелест убаюкали его и малыш уснул, но сейчас он проснулся и плакал, потому что был голоден, и к тому же ему было жарко. Видя, что ребенок раздраженно отмахивается ручкой от роя настырных мошек и стрекоз, Вернон остановился, сломал несколько стеблей и, помяв в руках, положил сверху головы ребенка, как бы смастерив бочке травяную крышку. Но плач все не унимался. Вернон задумался. Ему приходилось нелегко, потому что на жаре его туловище, неплохо сохранившееся в песке, начало размякать, словно тесто, сползать тонкими чешуйками, как мел тает под дождем. Он не оперировал категориями человека, но тыкался в воспоминания, словно внюхивался в ворох листьев. Он смотрел на детские руки, припомнил те же руки, забавлявшиеся с кровавым ошметком – головой петуха, перебиравшие разноцветные длинные перья, комкавшие простыню в кроватке, охватывающие бутылку с молоком.
Молоко! Вернон выпустил бочку из рук, проследил, насколько велика ее осадка в воде, затем затолкал бочку поглубже в зеленую чащу, так что она прочно застряла между камышами. Он наломал осоки и прикрыл бочку со всех сторон. Он развернулся и пошел назад с намерением принести ребенку молока. Его не смущало то обстоятельство, что он уходил от поместья больше пяти часов, он вообще не думал о времени, которое для него ничего не значило в его теперешнем состоянии нечеловека. Он не заботился о том, что его враги могут схватить его – неторопливого и не прикрытого темнотой ночи. Ему было все равно – ни прошлого, ни будущего – только сейчас имеет значение. Он приказал себе идти – и шел, как самозаводящийся механизм, как шар, катящийся под уклон, как раскачивающиеся детские качели, как флюгер под ветром. Не человек, не животное, почти вещь, равнодушный ко всему, кроме одного – хранить и оберегать ребенка, заботиться о нем. Птицы и насекомые взлетали перед ним, но далеко не удирали, понимая, что это странное существо ничего им не сделает, так как вовсе не обращает на них внимания. Голова его была свободна от раздумий – ноги шли, отмечая путь, которым он сюда пришел, ноги находили свои следы в тине и двигались точно, как лыжник по своей лыжне. Ноги были сейчас умнее него. Глаза – двигались, отмечали любое изменение в окружающем мире. Это походило на какую-то разновидность лунатизма, когда все нервы и мускулы находятся в предельно энергичном состоянии, а мозг дремлет.
Без тяжелой ноши на спине Вернон шел гораздо быстрее. Лягушонок вскочил ему на шляпу, когда в одном из глубоких мест Вернон провалился по подбородок, посидел, восторженно озирая окрестности, и спрыгнул в воду, наверное, хвастаться перед подружкой. Птичьи головы шныряли там и тут в траве, глаза-скорострелки прицельно делили сектор обзора на равные доли, мгновенно высчитывая траекторию полета мелких жужжащих тварей; прирожденные математики, они с блестящей точностью выбирали момент атаки и поимки беспечной пищи. В птичьих глазах зомби выступал огромным черным предметом, недоразумением, вторгнувшимся в чужой мир. Ему следовало уступить дорогу, чтобы тут же забыть о нем.
В любую минуту навстречу Вернону мог выйти человек с оружием, а то и несколько противников: он создавал при ходьбе довольно-таки сильный шум. Но почему же никто не спешил к нему наперерез? Никто не слышал Вернона. При ночном бегстве он шел напрямик через самые болотистые и забитые сплошным жестким плавником места, но шел автоматически, не выбирая направления. Если ноги его натыкались вдруг на камень или застрявшую в тине корягу, он поворачивал и снова шел, – так он сделал несколько зигзагов и длинных запутанных переходов; а те, что были посланы ему вдогон, решили, что похититель движется к большой воде, туда, где все протоки и каналы и ручейки сливаются в неглубокую, но многоводную реку – пристанище свободных рыбаков, голытьбы и просто людей, у которых нелады с властями. Говорили, что дальше к югу, там, где почти нет человеческих поселений, скрываются беглые каторжники и сбежавшие от хозяина негры, но Боже упаси от этих диких, с тяжелым прелым запахом мест, где человек уподобляется зверю и сам обрастает тиной, как рыба, которую он ест!
Потому-то поисковые отряды обогнали его и ушли далеко, – никто не подумал о том, что за мотивы движут похитителем и на что он рассчитывает в своем безумном бегстве. Вот и оказалось, что Вернон, не будучи умнее или хитрее своих врагов, оставил их в дураках: подобное тянется к подобному, и едва человек видит что-то не похожее ни на что, что-то, не отвечающее его представлениям об окружающем мире, он сразу становится беспомощнее любого животного. Муха, бьющаяся о стекло, кажется нам глупой, но и мы всю жизнь бьемся о стекло своих иллюзий, теряя бесценные года, тратя шансы впустую. Вернон вышел из камышей, косматый, страшный, облепленный водорослями и жидкой грязью, издающий сильный запах гнилого мяса. Он выбрался аккурат в том же месте, откуда и вышел ночью, – футах в тридцати тот же сарай с выбитыми досками, и чернеет пустой круг от бочки среди бурой каменистой земли.
Дойдя до сарая, Вернон постоял в раздумье, затем повернул к хозяйственным постройкам, словно мираж, реющим вдалеке: из-за расплавленного солнцем воздуха все предметы, находящиеся на расстоянии броска камня, плыли и колыхались. Судьба распорядилась так, что Вернон вновь остался незамеченным; он пересек немалое пространство и зашел в коровник. Едва его нескладная долговязая фигура скрылась в воротах, как появилась Мириам – та самая красотка, что так и не стала новой жрицей прошлой ночью. Несмотря на то, что девушка не спала больше суток, несмотря на досаду в связи с известными событиями, – а ведь как хотелось примерить венок жрицы! – она не хмурилась и не вздыхала. По натуре бойкая хохотушка, Мириам свято верила в то, что родилась под счастливой звездой, и не сомневалась, что удача ей еще улыбнется. Весь дом стоял вверх дном: старая мисус и ее приживалка тоже ушли с мужчинами, – много мужчин ушло, даже старики ушли; никто не вышел на поля, никто не позаботился о том, чтобы задать корма скоту и подоить коров, которые стояли с налитым выменем и жаловались, изливая свое негодование в протяжных гудящих звуках, стонали, напрягая нежные органы горла, призывая людей одуматься и скорее освободить их от гнета. Царственные влажные глаза блестели в полумраке приземистого длинного коровника, а бархатные ноздри, обычно влажные, пересохли от напряженной муки.
Мириам позвала с собой еще двух девушек, но те, копуши и лентяйки, не больно-то торопились. Подоив флегматичную буренку, Мириам поставила полные ведра на землю и затем поспешила к своей любимице, из-за странно вытянутых пятен на шкуре прозванной Морячка. Несколько дней назад Морячка родила теленка, тонконогого, беспомощного, и девушка навещала его так часто, как только удавалось. Теленок лизал ей руки, а Морячка смотрела настороженно – мало ли что, – но покорно вздыхала, подпуская девушку к себе. Молоко, конечно, требовалось теленку – Мириам не собиралась ее доить, но решила потом, после дойки остальных коров, вернуться и отереть влажной тряпкой бока и вымя своей любимице. «Как бы она не приболела, по такой-то жаре», – думала Мириам. На сей раз Морячка вела себя как-то странно, не так, как раньше, – прижавшись к стене стойла, настороженно фыркала и нервно встряхивала хвостом, глядя на противоположную перегородку.
– Никак крысы? – забеспокоилась Мириам, но не обнаружила никаких следов наглых грызунов.
Ясно, корова беспокоилась за малыша – такую кроху кто угодно обидит! Даже хорек, прокравшись незаметно, может укусить за тонкие ноги, прокусит вену и слизывает кровь, мерзавец этакий! Мириам села на корточки и тщательно оглядела пол. Морячка вдруг резко ударила копытом почти у самого лица девушки. Мириам отпрянула в сторону и нервно хихикнула. Ей показалось, или правда? – странный запах, будто сдохло какое-то животное, доносился из-за перегородки между стойлами. Девушка встала на цыпочки и заглянула в соседнее стойло. То, что она увидела, повергло ее в шок. На земляном полу пустого стойла сидел мертвец, привалившись к бревенчатому углу. Настоящий труп со сгнившим лицом – клочья черного мяса вместо щек, оскаленная нижняя челюсть, разбухшие кисти рук, словно набитые соломой перчатки, а ногти на руках – о, ужас! – настоящие звериные когти, загибающиеся внутрь. Мертвец приподнял голову и хрипло заклекотал, как птица; его серый, нереальный, с желтым лоснящимся когтем, указательный палец потянулся к девушке и чуть согнулся, подзывая ее. Мириам пискнула и потеряла сознание, завалившись набок, – теленок тут же подполз и начал ее облизывать, задумчиво зажевал подол цветастого платья.
Через несколько минут в коровник вошли девушки. Не найдя подруги, они стали ее бранить последними словами. Отведя душу, принялись за работу. Каждая надоила по два ведра молока. Наполнив ведра, девушки понесли их на кухню. Там распределялись продукты, там происходил учет и решалось, что и куда должно пойти. Хотя мертвая Вивиана еще не была похоронена, а лежала в темной кладовой, накрытая старой скатертью и охапками травы от насекомых, – не до нее было сейчас, на кухне вовсю распоряжалась ее младшая сестра, такая же непреклонная, желчная особа. Скорбь по сестре не мешала ей радоваться новому месту – теперь она главная на кухне, она – хозяйка! Она-то и отдала распоряжение подоить коров, а позже – задать им корма.
Нагруженные ведрами, девушки ступали медленно, хотя их походка ничуть не потеряла грациозности. Вернон поднял ведро на плечо и двинулся следом, – расстояние между ними составляло не более пятидесяти футов, но девушки, увлеченные болтовней, не слышали ничего. В камышах, скрипуче-шелестящих, стоял тот неотвратимый запах тины, который бывает весьма навязчивым для людей с хорошо развитым обонянием; если комочки гнилой жидкости случайно попадают на одежду, то след запаха остается надолго даже после стирки. Молоко плескалось при каждом шаге, и брызги орошали зелень листьев и бурую ржавь мертвеца; многочисленные мошки, привлеченные сладким запахом, отважно ныряли в ведро – скоро черная пленка покрыла млечную поверхность, да так густо, что могло показаться – в ведре находится что-то роящееся, безумное, беспокойное. Словно муравейник. Будто воплощение жизни вообще – нелепое, суетное, блестящее кипение. Птицы с завистью посматривали на этот движущийся буфет, но не решались претендовать на чужую добычу.
Малыш, утомленный зноем, а больше – собственными воплями, крепко спал. Вернон разбудил его и принялся поить, перед тем заботливо очистив молоко – сгреб мошек в пригоршню. Патрик лакал, как животное, и находил такой способ питания гораздо веселее, чем из бутылочки; он забрызгался до ушей и был очень доволен.
* * *
Отряды чернокожих, посланные на рассвете, вернулись ни с чем – никто из расспрашиваемых жителей округи ничего не видел и не слышал. Сторнер, воспользовавшись предоставленной свободой, после беседы с начальником полиции тут же направился в ближайший кабак с намерением провести там значительную часть дня – он хорошо представлял себе, как хозяйка вымещает свой гнев на любом, кто подвернется под руку; к тому же рассчитывал, что чем позже он возвратится, тем больше ему будут рады. И когда он, спокойный и решительный, начнет наводить порядок посреди всеобщей суеты, то… Приятные мысли нужно запивать чем-нибудь прохладным и бодрящим.
Мамаша Блэквилл сопровождала своего сына и мистера Добсона, за ними шли десятка полтора негров, одетых в свою лучшую одежду; когда взгляд хозяйки обращался к ним, лица чернокожих тут же принимали напыщенное, свирепое выражение – они вовсю раздували щеки и сводили брови, стараясь выглядеть как настоящие солдаты. Старая женщина почти не разговаривала с сыном – не было сил.
С самого начала их предприятие казалось сомнительным: куда мог направляться коварный похититель? Где его искать? Если взглянуть на карту, то увидишь, как три самых крупных города в здешних краях – Уинфилд, Джена и Кларкс – образуют треугольник. Проведя линию от Растона до отрезка, соединяющего Уинфилд с Кларксом, получишь обглоданный рыбий скелет. Где-то в центре рыбьего хребта располагалось поместье Блэквиллов, а ближайшими полноводными реками к нему были Ред-Ривер и Уошито. Кто знает, к которой из них направлялся сейчас злодей? Бесконечно мелкая сеть каналов, ручьев и речушек, до того густая, что ее невозможно изобразить на карте, покрывала окрестности. Преступник, если, конечно, он местный, легко мог по незаметным протокам выйти к любой из названных рек. Правда, до Уошито ближе, к тому же на Ред-Ривер днем и ночью кишит масса лодок и пароходов – там не так легко остаться незамеченным.
В конце концов, поисковые отряды сделали ставку на Уошито.
Не один час они бродили по окрестностям. Выйдя к реке, они некоторое время двигались вдоль берега, затем отдалились от него и снова приблизились через какое-то время. Лошадей они оставили далеко позади – мнительной старухе казалось, что похититель ребенка может услышать конский топот издали и спрятаться. Она брела еле-еле, непривычная к таким нагрузкам, но по мере усталости сила воли ее только росла – казалось, если она упадет, то все равно будет двигаться вперед, пускай даже и ползком. Ее внучка и Гертруда остались дома; первая – совершенно ошеломленная произошедшим, вторая – впав в тихую, но затяжную истерику.
* * *
Соломон не мигая смотрел в глаза Бекки, и та корчилась под его взглядом, как медуза на песке.
– Они не смогут остановить его, даже если найдут, – сказал Соломон. – Страшно представить, что произошло с малышом.
– Он его не тронет.
– Это ты так думаешь. Ты говорила, что можешь все контролировать, так что же сейчас молчишь?
– Я ошибалась.
– Слишком дорогая цена твоей ошибки! Зомби повиновался, пока ты была с ним рядом. Ты ушла – он вычеркнул тебя из памяти.
– Тем не менее он все так же охраняет ребенка.
– Если не убил и не пожрал его в камышах.
– Мы должны что-то сделать, что-то придумать, ведь это всего-навсего мертвый человек!
– Что же ты предлагаешь?
– Ритуальные ножи, я полагаю, не убьют его, могут только раздразнить. К тому же никто не обладает достаточной силой, чтобы одним ударом отсечь ему руку или ногу.
– Он непобедим.
– Нет, выслушайте меня. Он убил мою бабушку.
– Она плохо тебя воспитала.
– Это может показаться кощунством, но… – девушка подняла темные глаза на своего мучителя, собираясь с духом, закусила на миг губу… – Но только мертвец может померяться силами с мертвецом.
Соломон улыбнулся улыбкой мясника: он ожидал чего-то в этом роде. И откуда у юного создания столько злобы? Столько неприкрытой, расчетливой злобы и презрения ко всему, что составляет суть жизни? Нет, никогда ей не быть жрицей… Хотя черная колдунья, прислужница Симби-Китаса, наверняка живет в этом хрупком теле. Старый кудесник поежился, будто от холода, – рядом с жестокой девчонкой он чувствовал себя неуютно.
– Я буду внимательно следить за тобой, – сказал Соломон, сжимая и разжимая пальцы рук. – Ты все сделаешь сама, но будь осторожна, не спеши.
Самой неприятной частью дела было перенести труп Вивианы в «зал канатов», ведь любой встречный мог тут же поднять тревогу. Хотя хозяева отсутствовали, но молодая мисс и чудачка Гертруда были в доме и могли заметить их из окна, или еще что-нибудь непредвиденное могло произойти. Старик весь изошел потом, как от напряжения (мертвые всегда тяжелее живых), так и от страха быть застигнутым врасплох. Бекки, конечно, помогала, но какая от девчонки помощь? И лишь когда бугристое, нелепое, как куча хлама, тело старой женщины оказалось на пыльном полу, усеянное множеством тончайших иголочных уколов – солнечные лучи пробивались сквозь щели и дыры в крыше, – он слегка успокоился. Глядя на ее скрюченные пальцы рук, на ее лицо, казавшееся странно безмятежным (а ведь он помнил ее молодой, сильной, яркой, как майское пламя праздничного костра), Соломон ощутил, что нечто важное, какая-то часть жизни покидает и его тело тоже, словно он усыхает или его становится меньше, как тесто оседает на воздухе.
Бекки начала колдовать – став вдруг напряженной и сосредоточенной, угловатой и резко-размашистой, словно старуха или птица, она временами будто деревенела в своих движениях, торопливых и точных. Натянутой ниткой между порядком и хаосом она то вскидывалась, отдавая свое тело судорогам, то плавно разводила руками и нежно, самыми кончиками пальцев, чертила в воздухе магические фигуры. «Нельзя, чтобы такие существа находились рядом со мной, с нами, с людьми, – подумал внезапно Сол. – Когда наступит развязка, нужно будет убить девчонку. Она ничего не боится и никого не уважает. Она слишком опасна».
На этот раз Бекки по совету старика сделала следующее: чтобы держать зомби в подчинении и остановить его, когда потребуется, на плечо ей был повязан красный платок с колдовскими знаками; стоило сорвать платок, как зомби будет обездвижен и дух его вернется в высшие поля, откуда он сейчас вызван.
Так как со времени смерти Вивианы прошло меньше суток, она выглядела не слишком отвратительно – только землистый, непривычный цвет кожи выдавал в ней покойницу, да еще, конечно, вмятина в черепе с засохшими подтеками крови и мозгов.
Когда все необходимые действия были выполнены, старик и девушка стали свидетелями пробуждения мертвой плоти. Мгновенно, точно кто ее подтолкнул, Вивиана села и огляделась по сторонам мутными нездешними глазами. Когда ее взор остановился на Соломоне, от страха дергающем себя за ухо, она открыла рот и попыталась что-то произнести, – но язык только мертво трепыхался во рту, как выброшенный на берег угорь. Вивиана стала сжимать и разжимать кулаки, глядя на свои руки с каким-то неудовольствием. Казалось, что она не считает эти руки своими, будто пока она отсутствовала, кто-то приставил ей чужие руки, а ее руки забрал.
«Какая мерзость, – подумал Соломон, – мерзость какая!»
Боком, по-рачьи, мертвая перевернулась, упираясь в пол костяшками пальцев, и встала, слегка покачиваясь. Бекки наблюдала за ней с открытым ртом, что придавало ей дурацкий вид: на нижней губе собралась лужица слюны и побежала вниз по подбородку клейкой струйкой. Та, что была Вивианой, подошла к девушке, переставляя ноги, как жерди, возможно, с некоторой уверенностью, но не человеческой, а скорее птичьей, – и ткнула указательным пальцем в грудь. Бекки охнула и захлопнула рот. Соломон осознавал, что бездушный манекен запросто может подойти и забрать его жизнь, – и старик ничего не сможет сделать для своей защиты; не успеет, да и не способен он серьезно противостоять этому созданию. При этом Соломон оставался спокоен, совершенно спокоен, странно спокоен, хотя, с другой стороны, внутри него все кричало от невыразимого ужаса и отвращения.
Но Бекки уже собралась с духом.
– Ты моя раба, – сказала Бекки, – ты должна мне повиноваться. А сейчас иди и отыщи того, кто убил тебя.
Та, что была прежде Вивианой, слушала ее, качаясь на своих журавлиных ногах и чуть-чуть склонив голову, – сходство с птицей бросалось в глаза. Уверенным движением отодвинув в сторону девчонку, как предмет мебели, она пошла к выходу, миг – солнце пронзительно озолотило всю ее тяжелую фигуру (это сочетание мешковатости и легких, механических, птичьих движений было особенно неприятно) в проеме сарая, – и скрылась за стеной. Бекки и Соломон, переглянувшись, последовали за ней. В руке Соломон нес завернутые в тряпицу магические ножи, скорее для собственного успокоения, чем для чего-то еще.
Мертвая женщина уверенно шагала к камышам, как притягивается железная крошка к магниту. Откуда-то появился Енох, выскочил балаганным паяцем и ошарашенно уставился вслед мертвой.
– Даже не спрашивай, – оборвал его немой вопрос Соломон, – просто молчи и забудь.
Енох и остался, где стоял, – окаменевший от несуразности происходящего. Нимало не сомневаясь в правильности своего решения, старик и девочка следом за мертвецом шагнули в протоку, торопясь, чтобы не упустить Вивиану из виду.
* * *
Вернон вытолкал бочку на большую воду; камыши здесь кончались, и дно сразу уходило из-под ног, словно в омуте. Неподалеку, у самого берега, стояла хижина на сваях. Узкий причал рассохся и зиял дырами-проплешинами. Здесь жил один из тех бездельников, которые не подвержены лихорадке наживы, не желают гнуть спину на хозяина, не страдают от отсутствия семьи. Река кормит их: рыба, птица, изредка – крокодильи шкуры на продажу. Они живут смутными инстинктами, порывами, как дикари. Окрестные владельцы больших поместий рады были бы избавиться от такого соседства, только вот прав на реку у них нет; река – общая, и стоят то там, то здесь убогие постройки отщепенцев человеческого сообщества; их хозяева, зачастую не просыхающие от постоянного пьянства, жалкие оборванные людишки, бывают страшны в своей звериной непредсказуемости.
Понимая, что идти становится все труднее, а ребенок снова заплакал – вода постепенно просачивалась сквозь незаметные щели в бочке, и он стоял почти по колено в воде, – зомби подобрался к лачуге и оборвал ветхую веревку, за которую привязана была лодка – длинная плоскодонная посудина. Ее хозяин явно отсутствовал – скорее всего, валялся пьяный дома. Поместив Патрика в лодку, зомби оттолкнул ее от берега и шагнул было следом, но оступился, и руки соскользнули с борта.
Лодка неторопливо плыла по течению, малыш лежал на дне ее и забавлялся легкими дутыми шариками, привязанными по краям рыболовной сети – с берега его совсем не было видно, и каждый подумал бы, что лодка идет порожняком. Вернон после нескольких настойчивых попыток всплыть окончательно погрузился на дно и продолжал следовать за лодкой, ступая по илистому песку. Он ничего не мог видеть в мутной воде, но движение лодки, рассекающей речное пространство, улавливал очень хорошо. Его шляпа всплыла наверх и следовала за лодкой на некотором расстоянии. День поворачивался к вечеру. Лениво порхали стрекозы.
– Все, стойте, я больше не выдержу, – сказала Мамаша Блэквилл и тяжело осела на землю; многочисленные ее юбки образовали внушительный бордовый круг, в центре которого задыхалась мешковатая желтая старуха.
Тени жадно расползлись по ее лицу, словно жаркие лужицы кипящего сахара – по печеному яблоку; она держалась за грудь, со свистом втягивая прелый прибрежный воздух. Камыши пахли неимоверно, а старухе в бреду казалось, что этот запах исходит от нее; она так устала, что не испытывала больше ни злости, ни раздражения. Охотнее всего она бы потеряла сознание, как малохольная Герти, но даже это было для нее сейчас непозволительной роскошью. Оставалось лишь задыхаться от жары и унижения, не в силах пошевелиться, на глазах всех этих черномазых и будущего зятя – мерзавца, который изо всех сил изображал заботу и сочувствие, но от него за милю несло лицемерием; уж кто-кто, а Маргарет Блэквилл достаточно навидалась в жизни людишек такого сорта: хорьки, пронырливые вонючие воришки.
Эдгар тотчас же послал одного из негров за повозкой, велев немедленно пригнать ее как можно ближе к берегу. Через полчаса миссис Блэквилл уложили в коляску и отправили домой с тремя провожатыми. Сам Эдгар все порывался ехать с ней, но Маргарет Блэквилл строгим тоном остановила его, приказав продолжать преследование мерзавца, укравшего ее единственного внука. Как только коляска с больной скрылась из глаз, Добсон вздохнул свободнее – ему приходилось нелегко рядом с чванливой старухой. Он, конечно, тоже устал от бесплодных блужданий по желтой топкой почве, но Эдгар Блэквилл устал еще сильнее, к тому же пребывал в отчаянии, и Добсон наслаждался его униженным, зеленым от недомогания и тревог лицом, нервными движениями, точно он хватался за воздух в робких попытках удержаться в сознании. Добсон чувствовал себя хозяином положения. Он знал, что легко может манипулировать Эдгаром, захочет – тотчас заставит его вернуться в поместье или будет продолжать вести его туда, куда сочтет нужным.
– Жаркий денек сегодня, не так ли? – начал он плести паутину, положив руку на плечо Эдгару, как старому приятелю. – Думаю, нам стоит поступить следующим образом…
И в эту минуту из-за поворота реки в поле их зрения возникла лодка. Эдгар и Добсон вскрикнули одновременно – они увидели ребенка!
– Эдгар! Смотри, смотри!
– Господи! – воскликнул Блэквилл с перекосившимся от потрясения ртом. – Сыночек… Стой, стой, сыночек! Люди, остановите!
«Что за кретин, – поморщился Добсон, – бездарный, растерянный олух». Двое негров бросились в воду и поплыли к лодке, намереваясь остановить ее и пригнать к берегу. Другие, более осторожные, остались на берегу, громко подбадривая своих товарищей и забрасывая их беспорядочными, бессмысленными советами. Но нашелся-таки один, который молчал, – он увидел шляпу, медленно плывущую следом за лодкой, и вспомнил, на ком он видел эту шляпу. Страх ли запечатал его уста или опасение подвергнуться насмешкам в случае, если он обратит внимание своих товарищей на шляпу, – но он молчал.
И случилось неожиданное. Один из негров, подплыв вплотную к лодке, вдруг забился, словно в судорогах, и исчез под водой. Его напарник прекратил грести, неуверенно озираясь по сторонам – явно не зная, что предпринять.
– Назад! – закричал тут до сих пор молчавший парень. – Плыви назад! Он там, там, под водой! Спасайся!
Однако было поздно. Невидимый хищник расправился с беднягой так же, как с его приятелем, – без единого звука мужчина скрылся под водой.
Лодка между тем начала двигаться вдвое быстрее, словно бы кто ее подталкивал сзади. Мужчины бросились в погоню – да где там! Не догнать – притом же река множество раз петляла, а топкие, болотистые ее берега затрудняли движение – ноги вязли, сбивался шаг. Запыхавшиеся преследователи вскоре осознали свою беспомощность. Последние лучи солнца ласкали горизонт, мешая розовый и сиреневый цвета, – мужчины приняли решение заночевать тут же, на берегу.
Костер, разведенный из сухого камыша, горел высоко в сухом воздухе, взметая алую луковицу пламени до самого неба. Добсон спал вполглаза, чутко, как кот, время от времени поглядывая на Эдгара Блэквилла, который, раскинув широко руки, лежал на спине, глядя на звезды с отчаянием. Он уже не думал ни о раздоре матушки с внучкой, ни о чем – Патрик занимал все его мысли. Словно молясь, словно высказывая звездам свою боль, он весь изливался в черное, глухое небо. Негры меж тем затянули песню – длинный, заунывный мотив почти без слов, лишь пара строчек припева шелестела на толстых губах, как сухая трава. Усталость, боль в ногах, страх за сына – или бесконечная песня рабов тому причиной – Блэквилл уснул мгновенно, даже не ощутив перехода в забытье. Ленни улыбался в полудреме и лениво репетировал, воображая себя спасителем маленького Патрика, составлял речи, подбирал фразы, которые он адресует – Мамаше Блэквилл или мистеру Блэквиллу. Он представлял себе то выражение лица, которое надобно будет выбрать из сотни других выражений, позу, жесты – так, будто это случится не с ним, а с манекеном, куклой, которую надо поудобнее разместить в витрине галантерейного магазина. Ленни Добсон тоже был магом в своем роде, но использовал в роли зомби самого себя. Человеку, настолько привычному ко лжи, как Добсон, не было нужды задаваться лишними вопросами, он без колебаний входил в роль, которая могла принести наибольшие выгоды, и без колебаний оставлял ее, когда она теряла актуальность. Звезды входили в силу, проступая все явственней, подобно сыпи на коже зачумленного, и сон незримо ковал призрачные оковы для усталых людей. Никто не заметил, как, тихо плеская веслами, мимо затухающего костра проплыла еще одна лодка, в которой сидели Ребекка, Соломон и Вивиана.
Вот уж кому действительно было не до сна! Могло показаться, что они забрались уже достаточно далеко от дома, но река петляла густо, и даже самый опытный кормчий не поручился бы за то количество миль, что были пройдены.
– Эта тварь никогда не спит, – проворчал Соломон, в раздражении бросив весло. – А я бы вздремнул.
– Но как мы тогда нагоним Вернона? – возразила Бекки.
– Кто сказал, что мы его нагоним? Мы не койоты, чтобы видеть в темноте! Слабеют руки, слипаются глаза… Нам необходимо пристать к берегу.
– Ты же не собираешься спать! – растерялась девочка.
– Именно собираюсь.
– Как же так! А мне что делать? Оставаться наедине с этой… с этим…
– Настоящий колдун ничего не боится! Настоящая мамалои не знает страха! – расхохотался старик.
Девочка сердито надула губы и отвернулась. Лодка пристала к берегу. Располагаясь на ночлег, Соломон предусмотрительно подтянул поближе к себе обнаженный мачете, а девочка и вовсе устроилась в ветвях старого баньяна, свернувшись клубком в перекрестье трех мощных ветвей.
Вивиана же молча сидела, как странная кукла, тараща глаза, круглые, как луны, в непроглядную тьму. Так прошла ночь.
* * *
Поутру Эдгар Блэквилл проснулся первым, вскочил, рассеянно огляделся вокруг, не помня себя, и стал теребить прикорнувшего неподалеку Добсона, поднимавшегося с явной неохотой. Грубая мина немедленно ичезла с лица Добсона, уступив место выражению сочувственной заботливости, едва он столкнулся взглядом с бледным от душевного потрясения Эдгаром. Приободряя своего будущего тестя, Добсон быстро собрался, принес ему воды умыться и почистил платье от пыли (в холщовой сумке он носил постоянно с собою всевозможные щеточки, гребенки, ваксу и другие хозяйственные мелочи – с одной стороны, будучи чистюлей, с другой – приучившись к походной жизни за годы своих странствований и афер). Он ухаживал за Эдгаром, как родной брат, проявляя настойчивость и такт в разумных пропорциях; Эдгар блуждал мыслями далече, печалясь то о своем сыне, то о больной матери, от которой не имел никаких вестей.
– Драгоценный друг мой! – говорил Ленни с чувством, блестя воодушевленно глазами. К чему нам такой эскорт! Или мы не мужчины! Оружие при нас, и таскаться по полям с толпой вооруженных чернокожих за спиной неблагоразумно.
Эдгар Блэквилл едва понимал, что делается вокруг него. Он покорно отослал слуг домой, приказав одному из них непременно воротиться, чтобы принести весть о здоровье матушки. Хозяева не заметили, как рабы вздохнули с облегчением от этого приказа: они-то знали, за кем охотятся мистер Блэквилл со своим спутником!
Итак: хозяин поместья Блэквилл с обольстителем своей дочери шагал среди густой прибрежной травы, внимательно разглядывая реку и противоположный берег.
Мамаша Блэквилл, отошедшая уже от обморока и прибавившая за последние несколько часов еще желчи, обрушивалась со всей злобой растревоженного сердца на свою наперстницу, выговаривая за мельчайшую оплошность.
Старик, девочка и оживленное орудие возмездия медленно передвигались в лодке, время от времени затаиваясь в камышах, когда им чудилась опасность.
Между тем похищенный ребенок находился не так уж далеко. Дряхлая лодка не могла плыть долго – постепенно напитывалась влагой, старое дерево утяжелялось, вода находила путь, просачиваясь сквозь щели, и скоро дно было залито, что сильно замедлило скорость лодки. Патрик ужасно перепугался. Вдобавок ко всему, запутавшись в разросшихся водорослях, лодка остановилась, накренившись и порядком зачерпнула воды. Вернон попытался ее сдвинуть с места, однако нос лодки еще сильнее запутался. Тогда он подхватил ребенка на руки и выбрался на берег, противоположный тому, по которому двигались их преследователи. Местность казалась дикой и безлюдной: топкие места повсюду разбросаны так часто, что никто из фермеров не претендовал на эти болота. Вернон одолел не меньше дюжины миль, – уж и солнце погасло, но он шел вперед с решимостью лунатика, иногда проваливаясь в грязевые ямины по колено, – пока не набрел на покинутую рыбацкую хижину. Неизвестно, что случилось с ее хозяином: умер ли, стал добычей алчности крокодилов или таких же грубых бродяг, позарившихся на жалкий его скарб, возможно, перебрался в другие места, ближе к цивилизации, женщинам и порокам. Летучие мыши ночевали под потолком, пауки вили гнезда в трухлявом тюфяке, набитом почерневшей, издающей запах гниения, соломой, скользкие постояльцы – жабы и змеи – выбирались из-под свай и прогуливались по сырому полу, спасаясь жаркими полуднями от всепроникающего солнца, нежили холодные тельца в лужицах речной воды.
Вернон распахнул незапертую дверь и вошел. Уложив Патрика на стол – единственный предмет из мебели в доме, производящий при взгляде на него впечатление прочности, – Вернон пощекотал его живот, пытаясь промычать что-то похожее на колыбельную, но поскольку язык его давно провалился в брюхо, сгнив до корня, а зубов почти не осталось, не говоря уж о двух дырявых свалявшихся мешках, бывших ранее его легкими, – песенка не удалась; изо рта его вырвалось нечто напоминающее фырканье собаки, забившей нос пылью. Патрик поглядел на страшилу с презреньем; он был слишком слаб, чтобы распускать нюни, а потому сразу уснул, свернувшись в клубок. Зомби уселся прямо на пол, привалившись спиной к ножке стола, и окаменело устремил взор в темноту. Летучие мыши, потревоженные нежданным соседством, раздраженно сновали за окном, заглядывая сквозь щели в крыше, пища свои мышьи угрозы; пауки забеспокоились и завозились в соломе. Но вскоре робкие твари привыкли к новым гостям и перестали дичиться: мыши под утро вернулись, повиснув вниз головами, пауки, напротив, выползли, чтобы проверить сети: пересекли бугристый тростниковый пол и скрылись из виду, пройдя по самым ногам мистера Лаки, хранящего прежнее молчание.
Голод не позволил Патрику спать долго. Крохотный червячок беспокойно ерзал в желудке ребенка, не евшего со вчерашнего дня. Патрик подполз к краю стола и потянул Вернона за тулью шляпы. Зомби повернул голову, не пошевелив более ни единым членом, и заглянул в глаза мальчугана, пытаясь понять, чего ему надо.
– Ам… а-а-ам… – нетерпеливо озвучил Патрик свое желание.
Зомби встал, сделал несколько шагов взад-вперед по комнате, внимательно осматривая каждый угол в поисках съестного. Быстро нагнувшись, он схватил в горсть лягушку и протянул ее Патрику.
Малыш нахмурился – он не был расположен к забавам. Зачем дядя дает ему игрушку? Лягушка мазнула лапой по носу Патрика и попыталась удрать; но мистер Лаки прихлопнул ее с маху тяжелой ладонью, так что мозги брызнули из расплющенной квакушки.
Патрик сел на столешнице, притянув коленки к худеньким плечам. Он уже понял за прошедшие двое суток, что ни плач, ни капризы не возымеют никакого влияния на его странную няньку, пока тот сам не соизволит сделать что-нибудь. Патрик всхлипнул пару раз, скорее по привычке, чем всерьез, и затих, впадая в полудрему, спасительное состояние, ниспосланное свыше маленьким детям, старикам и собакам.
Утро кончилось, не начавшись, – новый день обещал быть таким же жарким, как предыдущий. Вернон не понимал, почему ребенок отказывается от пищи, но раз так, следует поискать нечто другое. Погрозив ему пальцем, Вернон покинул избушку, отправившись на поиски еды.
Мистер Блэквилл, не обладая выдержкой своего молодого спутника, быстро устал и слегка замедлил шаг – он не привык к продолжительным пешим прогулкам. Добсон посмеивался про себя, оглядываясь на пыхтящего Эдгара, – волосы взлохмачены, пот стекает по лбу. «Еще немного, – думал пройдоха, – и он запросит пощады». Немощь пожилого мужчины была ему на руку – о, как самоотверженно ухаживал за ним Добсон! Заботливый, предупредительный, любезный Добсон. Незаменимый Добсон.
– Они не могли уйти далеко, мистер Блэквилл! – ободрял он измученного беднягу. – Даже если он плавает, как рыба, и дышит через камышинку, все равно здесь очень коварное дно, и водяные травы вперемешку с корягами задержат лодку. А то и вовсе вынудят его бросить ее и идти по суше!
– Но что ему нужно, бога ради, Ленни? – в который раз вопрошал несчастный отец. – Зачем ему мой малыш? Ради выкупа? Что он собирается с ним делать?
– Не думайте об этом, сэр! – всякий раз отвечал Добсон. – Не нужно забивать себе голову предположениями и давать волю фантазиям! Будем руководствоваться фактами. Он пытается скрыться, мы идем по пятам. Уже одно то обстоятельство, что он бежит в глушь, пробираясь по непроходимым чащобам, должно внушать нам оптимизм – значит, он один, и у него нет сообщников!
– Патрик, Патрик, малыш мой… – вздыхал Эдгар, а Добсон хлопал его по плечу, утешая:
– Кем бы он ни был, но ему так же жарко, как и нам, так же хочется есть и пить. Как бы скоро он ни двигался, но, небось, не быстрее пули!
Эдгар с завистью поглядывал на водяных крыс, плескавшихся у самого берега. Животные прячутся между камышей или вымазывают шкуру илом, защищаясь от солнца, и лишь человек ничего не может сделать для своей выгоды. Вода, которой умывался Блэквилл, пытаясь облегчить муки, сильно отдавала гниющими водорослями, и со временем он перестал умываться – когда кожа высыхала, этот запах переходил на кожу, и к терзаниям палящего солнца прибавлялось раздражение от нестерпимой вони. Все чаще перед глазами его прыгали большие оранжевые круги, и тогда ему казалось, что он бредит на ходу, впадая в забытье.
Добсон испытывал те же неудобства, но зрелище страданий Блэквилла придавало ему сил, а неизменный в своей дикости ландшафт сообщал его шагам автоматизм, помогающий справляться с трудностями похода. Тот же песок, травы, камыши – казалось, они всё идут и идут, оставаясь при этом на одном месте.
Эдгар остановился, вытащил из жилетного кармана часы на длинной цепочке, отщелкнул великолепную серебряную крышку: час дня.
– Мне представляется, мистер Добсон, что нам не пройти более ни одной мили, – сказал он, вздыхая, – я совсем выбился из сил, да и вы, я вижу, устали. Нужно поискать какое-нибудь убежище от жары, не то мы просто испечемся, как кролики на вертеле.
– Правда ваша, сэр, – ответил Добсон, – но взгляните-ка, что там впереди? Неужели лодка?
Действительно, на середине реки они увидели полузатонувшую лодку, запутавшуюся в водорослях.
– О-о-о! Мы близки к похитителям! – воскликнул мистер Блэквилл, совсем забыв об усталости. – Они бросили лодку, они идут пешком!
– Вполне вероятно, – пожал плечами Добсон. – Остается только угадать: передвигаются они по тому берегу или по этому?
– Но не думаете ли вы, дружище, – в сильном волнении спросил Блэквилл, – что они могли вообще удалиться от реки?
– Вряд ли, – успокоил Добсон. – Держаться речного течения – единственно верный путь, иначе нетрудно попасть хищникам в лапы или угодить прямиком в болото. Поскольку малыш не может передвигаться самостоятельно, похититель несет его на плечах. Но он тоже нуждается в отдыхе и подкреплении сил, как всякий живой человек.
После этих слов с удвоенной энергией двинулись они вперед. Отражения в бегущей воде метались, дробясь: два человечка, смешно перебирая ногами, бежали, то далеко выбрасывая ноги, то едва приволакивая, – одежда, казалось, бежит за ними следом, сбитая набок, вкривь и вкось, пропыленная, бурыми пятнами темнела она среди блестящих от пота частей оголенного тела. Речные обитатели – скользкие, пучеглазые, скрытые хлопьями тины, – с изумлением провожали взглядами эту парочку.
Конечно, воодушевленный неожиданной находкой затонувшей лодки, Эдгар Блэквилл столь же быстро и выдохся. Если бы вовремя не поспевший Добсон, он рухнул бы на землю, как загнанная лошадь.
– Поберегите силы, – ласково укорил его репортер, пытаясь успокоить дыхание. – Они вам вскоре понадобятся.
Этот привал был продолжительнее обычного, и Добсон еще раз проверил оружие, а Блэквилл просто лежал, отдавшись усталости, но сквозь барабанную дробь о ребра, сквозь одуряющую липкую полудрему он собирал все оставшиеся в его теле возможности, словно король, стягивающий верных вассалов к месту битвы.
Дальше они продвигались в полном молчании; держали ружья на изготовку. Скоро они заметили на противоположном берегу рыбацкую хижину; кивком на кивок ответствовав друг другу, подобрались к самой воде, обдумывая переправу. Наконец, по обоюдному молчаливому уговору, Эдгар остался на берегу, взведя курки, прикрывал своего приятеля от возможного нападения. Грести одной рукой, удерживая другой над водою ружье, не очень-то удобно; несколько раз Ленни окунался в реку с головой, но скоро поправил свое положение, старательно удерживая равновесие; длинные мягкие метлы, облепившие дно, хватали его за ноги, одежда вздулась мешком, а затем обхватила его туловище наподобие рубашки обитателя Бедлама. Выбираясь из реки, Добсон весьма сожалел о воротничке и манжетах, приобретших пегую, буроватую окраску; больно ему было думать и об испорченном жилете небесно-голубого цвета, влетевшем ему когда-то в копеечку. «Надеюсь, что щенок окупит это с лихвой», – думал он со злостью.
Патрик упорно не желал есть жабу. Отказался он также и от другой снеди, добытой мистером Лаки, который разложил свои охотничьи трофеи на поверхности стола. Здесь присутствовала пара оглушенных рыбин, задушенная водяная крыса, змееныш и даже гнездо с яйцами малиновки. Некоторый интерес маленький барчук проявил к стрекозе с оторванным туловом – искристые крылья приковали внимание ребенка, и он осторожно потеребил злополучную летунью пальчиком. Однако есть он не желал. Впрочем, зомби не принуждал своего подопечного. Он выполнил свою задачу – раздобыл пищу, а там уж как хочет. Гораздо серьезнее дела обстояли с самим мистером Лаки: он вдруг обнаружил, что впадает в забытье. Сложно говорить о самочувствии трупа, но определенные перемены все же происходили. Ноги все менее повиновались ему, пальцы становились непослушными, вялыми; он ходил теперь осторожнее, экономя каждое движение. Концентрироваться же становилось все труднее – множество блестящих, мельтешащих образов сбивало его с толку, швыряя его сознание, прямое и логичное, как механизм музыкального автомата, в хаос дезориентации. «Должен», – по-прежнему маячило в его сознании, но рядом с этим негасимым огнем возникло столько бликов, что мистеру Лаки приходилось трудно. Он вдруг увидел в двери петушиную голову, возникшую ниоткуда: сделал шаг, другой – нет ничего, свет играет на салфетках листьев старого гикори, тени пляшут по лачужке. Патрик забавлялся с мертвыми зверьками: открыв разорванную лягушку, как портмоне, прятал внутрь подергивающую лапой стрекозу.
Вернон, мотая головой от ставшего назойливым солнечного света, распахнул дверь и вышел наружу, на мостки; вода чуть слышно плескала, биясь о сваи, курлыкала, протискиваясь сквозь щели досок. Вернон присел на корточки, как зверь на пороге своей норы, и встретился глазами с Добсоном, выходящим из воды. Добсон опешил; вскинул ружье уже на стук захлопывающейся двери. С другого берега донесся протяжный крик Блэквилла: он кричал, как птица, возмущенная проникновением хищника в ее гнездо. Ленни выбрался из воды, производя большой шум своими сапогами, загребающими жидкую грязь.
– Эй, любезный! – кричал он.
Солнце ли тому виной или усталость, но Ленни показалось, что он видит мертвеца: клочья изорванной одежды свисали с него, мешаясь с клочьями слезающей кожи, глаза сидели так глубоко в глазницах, что казались ненатуральными, будто стеклянные шарики, носа не было вовсе – две проваленных дыры, вылинявшая коричневая шляпа с прорехами резко контрастировала с белоснежной сатанинской усмешкою – могло ли статься, чтобы у него не было губ? – лишь оскаленная челюсть? Прокаженный, изгой, калека! – по-своему истолковал мозг ужасное зрелище. Ясно, почему он скрывается в глуши, вдали от людских поселений. Добсон не мог знать наверняка, похититель ли перед ним или нет, но сама внезапная и отталкивающая встреча сразу настроила его на подозрительный лад. Блэквилл, прижимая к груди ружье, как драгоценное сокровище, ступил уже в воду, но все не решался броситься в канал, зная, каким уязвимым он станет при переправе. Он хотел кричать, приободряя своего товарища, но вместе с тем боялся отвлечь его внимание – вполне возможно, странный бродяга вооружен. Он уже видел в нем похитителя своего сына – ночной безрадостный сон вовсе не принес ему облегчения, – нервы Эдгара были напряжены до предела: встреться ему сейчас кто угодно, Эдгар накинулся бы на него как на врага. Наконец он решился – вскинул ружье на плечо и бросился в реку, поспешая; Добсон уже колотил в дверь лачуги.
Патрик вскинул глаза на незнакомца и издал тонкий протяжный звук, соединяющий приветствие, сомнение и некоторое опасение. Добсон окинул взглядом хижину, ужасаясь запустению и убогости сего жилища. Дуло его ружья было устремлено вперед и чуть вверх. Едва он открыл рот, чтобы выкрикнуть угрозу, как Вернон шагнул из угла, где стоял неподвижным манекеном и схватился за ружье ладонью. Ленни вздрогнул – прогремел выстрел; Блэквилл от неожиданности едва не ушел с головой под воду и принялся грести еще быстрее. Малыш широко открытыми глазами уставился на Ленни. Вернон осмотрел свою ладонь, где зияла порядочная дыра, и вновь схватился за ружье, вырвав его из рук Добсона. Не устояв на ногах от рывка, тот повалился на мертвеца; они упали на пол, и лица их оказались так близко друг к другу, что Ленни увидел больше, чем мог бы вынести. Вонь разлагающейся плоти ударила в его ноздри, сморщенный шевелящийся червяк между оскаленными челюстями потряс его – он вскочил на ноги, содрогаясь от ужаса. Вернон, поднимаясь, протянул к нему руки – Добсон сдавленно забулькал горлом, как умирающая курица, и, не выбирая путей отступления, прянул в окно, потревожив обрывки вощеной бумаги, некогда заменявшей здесь стекла. За спиной его жарко дышал сам ад: метнувшись в одну, в другую сторону, Добсон едва не угодил в болотные ямины, поросшие жесткой темной травой. Почувствовав пустоту под ногой, он живо отшатнулся и поспешил назад к дому. Выказывая акробатические чудеса ловкости, полез по стене на крышу, цепляясь коленками, пальцами, зубами за хлипкие доски. Дом заскрежетал, заскрипел, забранился под его весом; соломенные колечки взметнулись вверх, просыпалась пыль и стружка, летучие мыши завозились под стропилами – казалось, крыша ожила; волны возмущения прокатились по ней, будто лачуга брезгливо отряхивалась, как кошка от водяных капель. Ленни распластался на самом гребне, выбросив широко по обе стороны ската оцепеневшие руки и ноги, с натугой процеживая железный воздух страха сквозь побелевшие губы.
Блэквилл, преодолевающий последние ярды канала, не мог понять ровным счетом ничего; он слышал выстрел и крик ребенка, он дивился распластанному по крыше человеку, странно походившему сейчас на ящерицу, но в его голове ничего не связывалось, не соединялось. Он знал одно: спешить, не думая ни о чем, досадуя лишь на задержку. Он двигался инстинктивно, не рассуждая, и напоминал сейчас Вернона – движения упреждали мысль, порыв заменял стратегию. Вместо того чтобы выбраться на сушу, он подплыл к сваям и начал карабкаться на причал. Закинув сперва ружье, которое занимало руки, он подтянулся и, пыхтя, встал на четвереньки. Вода сбегала с него ручьями, дыхание перебивалось. Торопясь встать, он поднялся на колени, потянувшись к двери.
Дверь распахнулась так стремительно, словно изнутри произвели пушечный выстрел: увесистый чурбак, когда-то заменявший засов, ударил Эдгара в лоб и скинул с причала обратно в воду. Черные круги в глазах… черные круги на воде… плеск, который он уже не слышал… Тело Эдгара Блэквилла лицом вверх медленно, едва заметно относило течением, пока он не зацепился ногой за полузатопленную ветку. В тот момент он был необычайно красив, если не обращать внимания на багровое пятно на лбу: редкие волосы струились в потоке, руки далеко раскинуты, ладони, словно бледные рыбины, мерцают, подрагивая по желанию реки, на одежде более не заметна пыль и грязь, лицо безмятежно, как у младенца, да и весь он так гармонично вписан в речную сказку, так искусно декорирован камышами, словно водяное создание, само собою выросшее из илистого дна; словно родился здесь – родственник жабам и лилиям, не пасынок, а обожаемое дитя природы.
Ленни прекрасно все видел, но не пошевелился на своем насесте, не издал ни единого звука, хотя внутренне скулил от досады и страха. Время текло незаметно, и вскоре солнце порядочно напекло ему спину – пот стекал по страдающей коже, и ему казалось, он слышал шипение поджаривающегося на железных прутьях мяса. Осторожной рукой Ленни раздвинул настил крыши и заглянул в щель. Патрик спал на столе, его кружевные штанишки сиреневым мазком выделялись на грубом холсте древесины; рядом лежала мертвая птица и еще какие-то предметы, смутно различимые в пятнистой полутьме. Вернон стоял, облокотившись о край стола. Он поднял голову, отыскивая заячий взгляд Добсона. Качнув головою, монстр взял что-то со стола и поднял на вытянутой руке, демонстрируя Ленни. То была раздавленная жаба; мертвец качал головою и глумливо смотрел на незадачливого охотника. «Вот так и со мною будет», – разгадал нехитрую пантомиму Добсон. Каким далеким казалось ему сейчас прошлое: надежды на выгодный брак, преимущества любимца редактора и владельца газеты, мечты о собственном конном экипаже и надежных кредитах у бакалейщика и мясника; да, наконец, две дорогие сорочки английского шитья, аккуратно сложенные на полке платяного шкафа, любезно предоставленного ему квартирной хозяйкой, мисс Сойер… Каждый удар сердца звучал издевкой, набатом, призывающим Смерть. Стук сердца – больше не нужно мыслей и чувств. Стук сердца – все, что ему осталось.
Рассеянный ветерок, вырвавшись из цепких рук камышей, растрепал волосы Бекки, которая сосредоточенно работала веслами, сидя почти у самого носа ялика. Соломон примостился на корме, наблюдая за ней прищуренными от солнца глазами, словно кот. Вивиана мешковатой грудой возвышалась посреди лодки. Чтобы не попасть в ловушку топляка, приходилось быть внимательной, но Бекки уже устала, к тому же в животе глухо урчало – голод давал о себе знать. Девочка не успевала утирать пот, заливающий глаза, и мелкий гнус, жужжащий среди травы, так и вился вокруг, раздражая кожу мелкими укусами.
Невысоко над ее головой трепетала парочка топазовых колибри. Их оперение играло под солнцем, каждое перышко так и бросалось в глаза. Самочка флюоресцировала волшебным одеянием, где зелень, охра и строгая голубизна слились в одно целое, лишь предплечья будто обожгло кипятком. Ее хвост-веер ловко поворачивался, скользя вдоль чуть ощутимого потока воздуха. Самочка не пропускала ни одной мошки, настойчиво кружась над лодкой, самец выглядел глупее – он не столько ел, сколько ревниво увивался возле подруги, охраняя от невидимых соперников. Розовые его перышки смотрелись робко и инфантильно рядом с пылающей милочкой, а раздвоенный ножницами хвост так и норовил дотронуться до нее.
Но живые драгоценности оставляли девушку равнодушной. Бекки не могла ни на миг забыть о той, что сидела позади – так тихо, так неподвижно, но от этого было еще тревожней. Впервые она задумалась о смерти – но совсем не о той призрачной абстрактной фигуре, которая ожидает каждого из нас, и не о той грубой убийце, что превращает живое деятельное существо в груду мяса. Она думала о спокойной уверенности смерти, о ее удивительной способности изменять все вокруг, исключать из числа живых ненужных людей, животных, птиц. Словно бросить ветку в огонь. Через миг от ветки остается только зола. «Правильно, – думала Бекки, – не надо бояться сиюминутных затруднений, ни боли, ни завтрашнего дня. Раньше я была слишком нетерпелива – впредь буду умней».
Понемногу усталость поглотила все ее существо. Весло все так же касалось чистой водной глади, но движется ялик или стоит на месте – она не могла сказать точно. За мгновение до того, как она соскользнула в обморочную паутину, Соломон прислонил руку козырьком к глазам и воскликнул: «Вон там! К берегу, к берегу!» Бекки встрепенулась, стряхивая звенья усталости, и привстала, глядя вперед. В отдалении, где канал становился извилистей, где линия берега, вся в коричневом иле, постепенно пестрела оттенками серого, зеленого и багряного, что указывало на близость болот, возможно, подобравшихся к самому речному рукаву, прямо из воды росла ветхая лачуга, вернее, стояла двумя ногами-сваями в реке, и мостик-причал клонился под острым углом; все это напоминало нелепого зверя, наполовину вылезшего из воды – только хвост еще мок в реке. Если зрение не подводило Бекки, на крыше кто-то лежал, а может, просто сушилась одежда.
Раз-два – ялик уткнулся в песок. Разминая затекшие ноги, сошла на берег девушка, старик последовал за нею. Вивиана двинулась за ними, только услышав свое имя. Она сделала несколько шагов и остановилась. Затем, наклонив голову, будто к чему-то прислушиваясь, она сильно подалась вперед всем телом. Нерешительно двинулась и затем вдруг без всякой причины бегом припустила к домику, оставив далеко позади старика с девчонкой.
– Эге! Учуяла обидчика, – пробормотал Соломон.
Они встретились на узкой дощатой террасе, огибающей хибару по периметру: Вернон, уловив движение в окне, почувствовал угрозу и вышел наружу. Вивиана, точно хищный зверь, налетела на него и прижала к стене, сцепив руки на горле своего убийцы. Вернон без особых усилий оторвал ее руки от себя и столкнул вниз, так что старуха упала на спину, растянувшись на песке. Мистер Лаки повернулся к ней спиной и пошел на мостик, где валялось ружье Блэквилла, которым он так и не успел воспользоваться. Зомби наклонился, подбирая ружье с настила, и в этот миг Вивиана вновь напала, совершив прыжок ему на спину: от неожиданности Вернон потерял равновесие, и оба бултыхнулись в воду. Под мостом было неглубоко – взрослому мужчине по пояс; монстры барахтались, сцепившись в плотный безобразный ком: не разобрать, где чьи руки, где чье тело. Со дна поднимались клубы ила, мутная влажная грязь облепила дерущихся. Вот бывший управляющий обхватил кухарку за шею и мощным движением почти оторвал ей голову – жилы лопались со звуком, с которым вскрываются от жары бобовые стручки, пересохшие на солнце; старуха ушла под воду, и какое-то время поле боя замерло в неподвижности. Но Вернон, уже выходя из реки, вдруг поворотился, покачнулся, взмахнул руками и наклонился, шаря в глубине. Он нырнул с головой… показался вновь… опять скрылся… вот он захромал, отползая на четвереньках, – старуха впилась ему зубами под коленку, будто гигантская пиявка в человеческом облике волочилась позади.
Соломон с Ребеккой подошли уже вплотную к дому – вся битва свершалась от них в двух шагах; напряженно следили они за поединком нежити; скрежет зубов о кость слышал даже Добсон, почти свихнувшийся от страха и горящей огнем кожи. Вернон дернулся сильнее, упершись руками и свободной ногой; то ли его остов порядочно износился за время пребывания в стране живых, то ли адская ярость кухарки наделила ее железными челюстями – нога монстра оторвалась легко, словно лапка кузнечика. Вивиана встала на колени, размахивая свежим охотничьим трофеем; из ее рта вырвался почти орлиный клекот.
Вернон же оказался достаточно проворен и с одной ногой; боком, скоком, по-крабьи он вскарабкался на террасу и снова поспешил к причалу; Вивиана – за ним. На сей раз он успел схватить ружье и, развернувшись, с лету опустил его на голову подобравшейся ближе старухи. После ужасного удара последовал глухой хруст, и череп ее, который и до того напоминал треснувший орех, разъехался на две половины, точно до этого они были слеплены друг с другом столярным клеем или тестом. Зубы брызнули во все стороны, кашица мозга всплеснула, заливая глаза и яркое цветастое платье. Трещина остановилась на нижней челюсти, две части головы торчали под углом одна к другой, глаза сильно выдавились из орбит.
Бекки наблюдала бесстрастно, сцепив руки на животе, как она наблюдала бы за ссорой дворовых собак. Соломон влез в окно и снял со стола Патрика, что-то удивленно лепечущего на своем детском языке.
– Поди сюда, девчонка! Помоги! – он стал подсаживать ребенка в окно, передавая на руки Ребекке.
Все это не осталось без внимания мистера Лаки. Одноногая нянька, опершись на ружье в качестве костыля, спешила к своему чаду. Ребекка, прижав дитя к себе, бросилась бежать прочь от лачуги, но ее ноги вязли в податливой почве – Патрик был тяжелехонек! – она знала, что долго ей не продержаться. Старик выкарабкался наконец из окна и бросился вдогонку, размахивая над головой острым мачете, как заправский разбойник с большой дороги. Позади него переваливалась по траве, как каракатица, обезображенная Вивиана: глаза ее смотрели по разные стороны, и потому ее шатало то вправо, то влево, но она чуяла Вернона Лаки и жаждала поквитаться; пока еще в ее теле, пусть изуродованном, оставалось достаточно воли для новой схватки.
Так они бежали: впереди летела девочка с ребенком на руках, потом ковылял Вернон, сзади поспешал Соломон и шлепала Вивиана.
Ленни медленно, как обожравшийся кот, съехал с крыши и упал на терраску; его неудержимо рвало сухим зловонным кашлем, и несколько минут он простоял на четвереньках, трясясь в ознобе панического ужаса. Он помнил, что в доме есть ружье – его ружье, – а в ружье остался еще патрон. Вот все, что его сейчас заботило. Непослушные пальцы цепляли за окно, он попытался подтянуть свое тело вверх и не смог. Но Добсон попытался снова. И еще раз. Потому что сил обходить дом у него просто не было. Очутившись внутри, он схватил ружье и, прижав к груди, разрыдался. Сел в углу, направив дуло на дверь. Бежать некуда – знал он. В таком состоянии ему не уйти далеко.
Бекки не могла видеть то, что делается у нее под ногами; она была сосредоточена на своем дыхании и на том, чтобы держаться ровно. Малыш ерзал у нее на руках и цеплялся ручонками за волосы – маленькая мартышка! Ямы с водой, скрытые бурой растительностью, почти не отличались от обычной почвы; Бекки угодила ногой в одну из них и упала, даже не успев понять, что, собственно, случилось. Патрик кувыркнулся через голову и запищал. Пока девочка силилась освободиться и встать, зомби настиг ее и, ухватив за плечо, развернул к себе лицом. Этого момента ей не забыть никогда в жизни.
Губы ее пытались пошевелиться, она собиралась вымолвить: «Повинуйся мне! Я твоя хозяйка!», но не способна была произнести ни слова.
Полуистлевшая вещь смотрела на нее глазами, полными ненависти. Запах стоял такой сильный, словно она очутилась в конюшне и лежит, уткнувшись лицом в кожаные седла. Вот медленно, как во сне, поднимается искореженная рука с дырой в ладони, пальцы, кое-где обнажившиеся до костей, скрючены в щепоть… Бекки еще успевает подумать: схватит ли монстр ее за горло, сдавливая в смертельные тиски, или направит удар в лицо, сворачивая голову, как цветок обламывают на стебельке.
Соломон подоспел вовремя. Он рубанул с маху, и рука зомби упала на песок, обнажившаяся бледно– серая кость торчала из локтевого сустава. Вернон немедленно обернулся и отбросил старика назад, так что тот кубарем покатился, отлетев далеко, и ударился головой – мачете звякнуло о камень. А Вернон встретился с новым противником – Вивианой. Чудовища устремились друг к другу, и кухарка вцепилась длинными пальцами в лицо Вернону. Лишившись руки и ноги, он все же оставался сильным бойцом и не собирался отступать. Его рука схватила старуху за волосы и тянула вниз; ее пальцы ворочались в его глазницах и разрывали лицевые мышцы.
Они упали на землю. Они шипели, ерзая в траве, перекатывались, брызгали черной кровью и клочьями мяса. Девочка не двигалась с места, пораженная кошмарным зрелищем. Чудовища уже лишились всякого сходства с людьми: у Вернона больше не было глаз, а лицо напоминало одну из масок вуду, но сколько зла исходило от этой оскаленной маски! Вивиана рвала его горло, его рука впилась ей в живот, и ярко-розовые кишки прыгали тут же на земле, как сытые толстые змеи.
Ком плоти, ком злобы, ком ненависти барахтался, сотрясался, перекатывался с боку на бок. Бекки подползла к Соломону и подобрала мачете, – а Соломон сидел в нескольких шагах, скорчившись, обхватив руками седую голову и что-то напевал вполголоса – девочка, хоть и не могла разобрать ни слова, подумала, что он успокаивает сам себя. Он ведь всего лишь старик – можно ли ожидать многого от старика! Смертоносный клинок оказался довольно тяжелым, но она была уверена, что справится. Подойдя вплотную к намертво вцепившимся тварям, она принялась наносить методичные, размашистые удары, вкладывая в них все свои силы.
Копошащиеся под ее ногами твари не обращали на увечья никакого внимания; казалось, они срослись друг с другом. После очередного ловкого удара у Вернона отлетела голова. Девочка разрубила ее пополам, как капусту, и, поддев на кончик острия, швырнула далеко в камыши. Искромсанное туловище сочилось мутной жижей, подергивалось, издавая тошнотворные чавкающие звуки. Когда создания, простершиеся в грязи, превратились в груду багрового мяса, Бекки выпустила из рук мачете и села на землю, чтобы отдышаться.
– Все кончено? – спросил за ее спиной старик.
Бекки кивнула, не раскрывая рта.
Старик подхватил плачущего Патрика на плечо, подобрал оружие и направился к домику. Бекки не пожелала следовать за ним, вместо этого она пошла к реке и, зайдя в воду по пояс, смывала с себя пот и кровавые брызги, густо покрывавшие ее лицо и платье, залепившие волосы. Она зачерпывала воду полными пригоршнями и обливала себя, она окунала голову в воду, она оттирала платье. Она остановилась вдруг и застыла с закрытыми глазами, опустив руки глубоко, чувствуя тихую щекотку прохладного течения. Она не хотела уходить отсюда – желала бы сделаться водой, превратиться в пар, молочный туман, растекающийся над рекой. Она стыдилась своей плоти: рук, ног, усталого, больного тела.
Соломон поставил Патрика на доски, чтобы дотянуться до дверной ручки; едва он сделал шаг – прогремел выстрел – старик упал бездыханным. Ленни Добсон выстрелил бы в любого, кто попытается открыть дверь, и старик поплатился случайно. Молодой человек хохотал, глядя на свою жертву, и нажимал пальцем снова и снова бесполезный курок. Он мог бы выскочить в окошко – но сидел, скорчившись диким зверем в углу, и все смотрел на дверь. Он хохотал и всхлипывал, всхлипывал и хохотал. Рассудок его распался на мелкие осколки: он стерег дверь.
Бекки была недовольна тем, что ее прервали. Бормоча проклятия, она вышла из воды и направилась на звук выстрела. Один взгляд сказал ей все: труп Соломона, беснующийся человек в углу хижины… девочка подобрала мачете, потянула за руку многострадального Патрика и побрела к лодке; с каждым гребком усталые плечи протестовали, но душа ее постепенно успокаивалась; шепот реки сделался совсем родным. Девочка плыла по течению, стараясь оставить как можно больше миль между собой и людьми. Решение, которое приняла она за последние часы своей жизни, требовало мужества и спокойствия.
* * *
Небо белесыми клочками просилось в окно; луна пропитывала воздух; квакали жабы. Добсон прорвался сквозь оцепенение, встал на четвереньки и осторожно, не торопясь, подполз к двери. Труп негра глядел на него выпученными белками глаз; Добсон равнодушно обнюхал неподвижный предмет и перешагнул его. На причале было свежо. Вот, вмешиваясь в пение жаб, вступили цикады; что-то булькало в камышах, по траве скользили продолговатые тени – летучие мыши рыскали в поисках еды. Он чувствовал себя странно родственным этой ночной жизни: плеск и шуршанье, уханье и стрекот обнимали его, будто удобная одежда; страх совсем исчез из души его. Было прохладно, под коленями и ладонями Добсон чувствовал приятную сырость. Он дышал полной грудью. Он, как ночной зверь, весь был внимание и трепет. Маленькие, едва заметные во тьме твари благоразумно разбегались от него прочь, чувствуя превосходство крупного зверя. Добсон отлично передвигался на четвереньках, едва не урча от наслаждения; жизнь внезапно предстала во всей полноте ощущений; он больше не различал, где его рука, где одежда, где камень, где вода, – он вибрировал, как струна, пораженный внезапным явлением жизни, которая до сих пор скрывалась за кирпичными стенами рассудка, за воротами логики, запорами привычек.
Он обнюхивал землю, он слушал, он смотрел в ночь; и ночь так же настороженно глядела ему в глаза, еще не признавая в нем своего, но уже успокаиваясь, сливаясь звуками с его частым дыханием и тяжелыми шагами. Он было попытался поймать нечто, скользнувшее юркой тенью мимо; не поймал; шумно вздохнул, с досадой ударив рукой по земле. Обострившийся нюх открывал перед ним все новые тайны, набор запахов, образующих простое дуновение ветра, преображался в разнообразные волнующие метки, неясные, но многообещающие. Там и тут, там и здесь, нос его совершал порывистые движения, подхватывая малейшие обонятельные намеки. Ах, как ново! Как упоительно!
Внезапно счастливый хоровод запахов был прерван густой, тяжелой вонью: похоже, где-то рядом лежало мертвое животное. Робко приблизившись, Добсон ткнул лапой бесформенную кучу и застыл в страхе: из глубины черных жирных складок, из затекших кровью расселин и ошметков на него уставился глаз, желтый, отчаянно голый кругляш в патоке лунного света. Добсон заворчал, как дворняжка на незнакомый предмет. В ответ куча зловонного мяса зашевелилась и сделала движение по направлению к нему.
Захлебнувшись визгом, дворняжка-Добсон кинулся к камышам, в грязь, прочь, не разбирая пути, не обращая внимания ни на что, кроме страха, охватившего все его существо.
Груда скверной, вялой плоти попыталась приподняться – нечто аморфное, тестообразное, нечеткое, как пролившееся чернильное пятно, сделало шаг, другой, бугрясь и перекатываясь раздавленной гусеницей, и поплелось вослед за беглецом.
Красная повязка – когда-то красная – теперь бурая, вымазанная тиной, – все еще навязана была у предплечья той, что раньше звалась Вивианой. Красная тряпица, грубо сшивающая жизнь со смертью, не отпускала чудовище в небытие. Даже теперь, преображенный дикой сечей, этот фарш двигался и жаждал разрушения – безмозглая медуза, дурной сон, нелепая сказка.
Добсон кричал, плескаясь в густых травах. Чудовище не издавало других звуков, кроме глухого шума приминаемых тяжелой массой стеблей.
К утру подоспели негры из поместья Блэквиллов и сборная команда добровольцев из других поместий, привлеченные кто сочувствием, кто – жаждой награды за поимку преступника. Мертвый старик и смятая трава в следах недавней бойни мало что смогли сказать пришельцам. Ниже по течению нашли Эдгара Блэквилла, вытащили из воды. Бедняга был жив, но, находясь в состоянии шока, никого не узнавал, не способен был отвечать ни на какие вопросы. Его немедленно доставили домой.
Дальнейшие поиски так и не увенчались успехом. Ребенок пропал навсегда. Эдгар вследствие пережитого страдал слабоумием, и дом вела его дочь, так как Мамашу Блэквилл вскорости хватил удар. Исчезновение Ребекки осталось не то чтобы незамеченным – просто никто не обратил на это внимания в такой-то кутерьме. Да и кому она, сирота, нужна была после смерти бабушки-то? Потерю своего жениха Мэригольд перенесла мужественно. Одевшись в траур после смерти бабушки, она так и продолжала носить его день за днем, месяц за месяцем, горюя то ли обо всех несчастных потерях своей семьи, то ли о собственной пропащей судьбе. А вскоре началась война, и все мужчины отправились на защиту Юга. Вернулись немногие.
Вконец разоренное мошенником Сторнером поместье Блэквиллов ушло с молотка и было порезано на земельные участки.
Старый дом опустел. В засушливую осень деревянный лабиринт вспыхнул, сгорел, как спичка. Дряхлая полуслепая Гертруда какое-то время таскалась за своей молодой хозяйкой, не из любви, а потому, что некуда было ей податься. Мэригольд, раздраженная назойливостью беспомощной старухи и вечным безденежьем, однажды утром съехала с наемной квартиры, отбыв в неизвестном направлении, оставила ее одну.
Что же до Ребекки – темна ее судьба! Рыбаки поговаривали, что некая знахарка поселилась между рукавами Миссисипи и Биг-Блэк-Ривер, в излучине. Другие же говорят, что видели молодую чернокожую девушку в районе озера Гранд-Лэйк, откуда рукой подать до побережья Мексиканского залива. И те и другие утверждают, что в помощниках знахарки ходит белый мальчуган, красивый и старательный, но умственно отсталый. Несомненно, это один из сирот военного времени, подобранный доброй девушкой. Его голубые глаза смотрят на мир по-детски, но с долей укоризны, а на шее, свисая на лохмотья грязного рубища, на шнурке болтается высохший человеческий палец с длинным желтым ногтем.
Пояснительный словарь
Авалу – храмовые служки.
Аллегра Вадра – всевидящий бог-пророк, одно из главных божеств в пантеоне вуду.
Аташоллос – мировой дух, дыхание, сонм лоа.
Бакор – черный колдун, чернокнижник.
Гонфу – молельный дом, храм вуду.
Гуэдо – Великая Змея, верховное божество, а также ритуальное животное, роль которого в церемонии сходна с ролью библейского Иоанна.
Дамтала – бог-вещун, пророчащий будущее.
Доска Ифы – гадательные кости, по знакам на них верховный жрец узнает будущее. Используются редко, лишь в особых случаях.
Кота Бадагри, Симби-Китас, Азилит – злые божества, враждебные людям.
Лоа – духи вообще, как добрые, так и злые.
Мамалои (искаж. франц. «мать и королева») – верховная жрица.
Папалои (искаж. франц. «отец и король») – верховный жрец.
Сауго, Бадо, Опэтэ – небесные защитники и помощники, верховные божества.
Хунган – белый колдун.
Сердце паука
Прозрачное кружево паутины, затянувшее угол крохотного подвального окошка, сияло золотом. Дождь лил целый день и кончился внезапно, как сменяется кадр на экране кинотеатра. Капельки воды покрыли паутинку, растянувшись во все стороны, и тончайшая пленка переливалась теперь под лучами солнца, этакое дешевое чудо.
Но этот солнечный узор вовсе не радовал девушку, которая лежала ничком на полу подвала. Она умирала, закатив от боли глаза, впиваясь ногтями в землю.
Впрочем, «умирала» – не очень подходящее выражение. Девушка была вампиром, а эти существа постоянно находятся на границе жизни с чем-то иным. Поэтому смерть не является для этих созданий чем-то ужасным. Пища и сон – вот вещи, которые по-настоящему заботят вампира.
Руфь жестоко страдала. Отчаянные усилия ее истощенного тела сводились к тому, чтобы сохранить сознание. Несмотря на рой черных точек, что кружились перед глазами. Несмотря на липкий животный страх, что запустил щупальца вглубь мозга. Несмотря на судорожные позывы желудка, который словно горел огнем, требуя пищи.
«Вот полежу немного, и встану. Обязательно встану», – думала Руфь. Невероятным усилием воли девушка повернулась набок. Затем – спустя вечность – попыталась встать на четвереньки, но рухнула на пол. Еще попытка. Еще! Еще!
Звук движений ее тела напоминал шорох бумаги. Комок смятых газет шелестит по асфальту, гонимый ветром.
Время стучит в висках, требуя жертвы.
«Я не стану жертвой, – пообещала кому-то Руфь, – я охотница».
Наконец ей удалось приподняться. Качаясь от слабости, напоминая больного паука, девушка поползла к выходу из подвала.
А ведь впереди еще ступеньки! Много ступенек. Ступенек, ведущих вверх.
Обессиленная и злая до чертиков, вампирша испустила крик отчаяния. Гулко прокатившись по пустому помещению и отскочив мячиком от стен, звук исчез, испарился в темноте. Стало вдруг холодно и страшно.
Руфь, в отличие от вампиров-патриархов, которые могли при неблагоприятных обстоятельствах впадать в спячку, превращаясь в высохшие мумии, не имела никаких шансов выжить. Преданная своим сородичем, она была обречена на гибель в вонючем подвале, обескровленная, раздавленная болью.
Внезапно краем глаза девушка уловила какое-то смутное движение. Вдоль стены тихо кралась крыса, с опаской поглядывая на Руфь. По-видимому, крик потревожил мохнатую тварь в ее норе, и она вылезла наверх посмотреть, в чем дело.
За все время своего существования под личиной вампира девушка научилась ничему не удивляться, принимая удары и подарки судьбы как должное. Вампирша поймала крысу в свои мысленные сети и усилием воли заставила подойти ближе, хотя тварь упиралась и отчаянно шипела, сопротивляясь. Но судьба ее уже была решена. Впившись в шею крыски, Руфь жадно поглощала ее жизнь, кровавыми каплями стекающую по рукам и подбородку, горячую, такую желанную…
Подкрепившись, Руфь обрела силы, чтобы встать. Пошатываясь, она выбралась из подвала в летние сумерки большого города. Заходящее солнце окрасило серые стены домов нежно-розовым. Людей на улице почти не было, лишь редкие прохожие неторопливо шли по своим делам, да воробьи купались в лужах.
– Милая девушка, вам плохо? – К ней подошел мужчина. – У вас на лице кровь!
Руфь и не заметила, что ее лицо исцарапано – крыса сопротивлялась смерти. Славно, должно быть, она сейчас выглядит – осунувшаяся, с синяками под глазами, платье все в крови, лицо исцарапано.
– Позвольте, я отведу вас в больницу, – мужчина заботливо взял Руфь под локоть.
«Постой, милый, мне бы только дотянуться до твоего горла», – подумала вампирша. И потеряла сознание.
* * *
Белый потолок. Запах камфары. Нега и шум в голове. Руфь очнулась и долго не могла понять, где она находится. Потом сообразила: в больнице.
Соседка по палате справа громко сопела и изредка всхлипывала во сне. Кровать слева была пуста, но не застелена, словно больной только что встал и вышел. Пора прогуляться, решила Руфь и встала с постели. Голова тут же закружилась, да так сильно, что девушка чуть не упала обратно, однако пересилила себя. Это слабость, это пройдет. А сейчас нужна пища. Любая. И желательно поскорее.
Выйдя из палаты, Руфь осторожно двинулась по коридору. Навстречу ей шли больные, куда-то спешили медсестры. И никто, похоже, не обращал внимания на худенькую девушку в больничной одежде, что было только кстати. Руфь двигалась как тяжелобольной человек, но ее глаза, цепкие, как у дикого зверя, замечали любую мелочь.
Пройдя ряд больничных палат, девушка увидела комнату с надписью «Ординаторская» и вошла, плотно закрыв за собою дверь. В комнате царил полумрак. Несколько пустых кушеток, стол, шкафы с лекарствами. На вешалке у входа висели халаты и белые шапочки, какие носят медсестры.
То что надо, подумала вампирша. Она выбрала белый халат, подходящий ей по размеру, и, не колеблясь ни минуты, надела его. На груди был приколот значок «С. Хауэлл, младшая сестра».
Искусство маскировки – необходимое условие выживания в мире вампиров, да и только ли вампиров? Все мы играем в этом мире определенные роли, и от того, насколько хорошо мы играем, зависит наша уверенность в завтрашнем дне.
Сестра Хауэлл шла по коридору твердой походкой женщины, у которой уйма дел, и она намерена немедленно с ними разобраться.
Двадцать семь шагов до ближайшего лифта – ее слегка тошнило от едва сдерживаемого возбуждения, но она терпела. Четыре этажа вниз – подвал. Все внутри нее пело, пело: я жива, я контролирую ситуацию!
В подвале (опять подвал, горько усмехнулась Руфь) желтый линолеум, притушенный свет люминесцентных ламп, холод – отлично работают кондиционеры. Множество лабораторий за стальными одинаковыми дверями. Руфь подошла к ближайшей двери и рванула ручку на себя – ее вел инстинкт, безошибочный инстинкт дикого зверя, почуявшего добычу.
Дверь с трудом подалась, Руфь вошла, и белоглазый рыбообразный сморчок в мятом халате близоруко уставился на нее сквозь толстые линзы очков.
– Я должна забрать анализы, – сказала Руфь/Хауэлл. – Профессор требует срочно анализы крови всех больных, поступивших к нам за последние двое суток.
Ее тон был приказом, не оставляющим ни минуты для сомнений или раздумий. Если он что-то заподозрит, я убью его. Но белоглазый повиновался немедленно, распахнул шкаф-холодильник и вытащил оттуда два штатива с пробирками, в которых чернела кровь. Да, да, да.
Когда Руфь вышла из лаборатории – Рыбий Глаз услужливо придержал дверь, – ей отчаянно захотелось сесть на пол и выпить всю кровь тут же, не сходя с места. Но нельзя!
Руфь нашла убежище в туалете, этажом выше. В отдельной кабинке, запершись на задвижку. Отгородившись от жестокого мира фанерной дверью и запахом жасмина, дешевого одеколона для дезинфекции помещений. Что за милое местечко! Можно спать, курить травку, заниматься сексом. Или пить кровь, черную мертвую кровь из пробирок. Кровь с кристалликами льда на языке, жирную тягучую жижу.
Утолив голод, Руфь почувствовала себя счастливой и сонной. За последние несколько часов слишком резкие перемены произошли с ее организмом: от полного истощения до блаженной сытости. Если бы Руфь была котенком, она бы замурлыкала от внутреннего тепла и уюта. Но она не была котенком. О нет, господа. Скорее чертенком. Поэтому она умылась, прополоснула рот и привела как могла волосы в порядок. Хорошо, что дальше?
Ей следовало бы позаботиться о трех вещах.
1. Найти убежище, надежное и безопасное.
2. Найти пищу про запас – как она это называла.
3. Разыскать кое-кого и взыскать старый должок (глаза крошки при этой мысли опасно сузились).
Волевым усилием стряхнув с себя сон, Руфь двинулась к лифту. Выйдя из лифта на третьем этаже, вампирша на миг смутилась – вокруг было слишком много народу.
Фу, как стыдно, глупая деревенская девчонка, – тут же отругала она себя и, одевшись в лучезарную улыбку ангела-медсестры, пошла по коридору. Она не искала ничего конкретного, просто полагалась на случай.
– Милый вы мой, да это же проще простого! – толстый врач с курчавой кокетливой бородкой, проходя мимо, так громко заговорил, что Руфь вздрогнула. Врач разговаривал со своим пациентом, а возможно, другом. Он катил собеседника в инвалидной коляске.
– Я найду для тебя сиделку без труда! В конце концов, это же больница! Здесь работает высококвалифицированный персонал. Да и женский присмотр тебе не помешает, а, старик? – Толстяк густо хохотнул, а его друг поморщился.
– Не хочу создавать тебе проблемы, Генри. Я вполне могу сам о себе позаботиться, только вот руки… слегка подводят меня.
– Какие ещё проблемы, Людвиг! Мы же выросли вместе! Как-никак тридцать лет дружбы!
Руфь не верила своим ушам – вот так удача! Мужчина-инвалид, нуждающийся в сиделке, одинокий. Это шанс!
– С таким нестабильным кровяным давлением, как у тебя, Людвиг, нельзя быть одному. Ни в коем случае! Это я говорю тебе как врач. Ты не калека, нет, но за тобой нужен хороший уход. Как в горах – ты можешь быть лучшим среди скалолазов, но даже самому лучшему нужна страховка.
Толстяк так и сыпал словами, Руфь даже слегка разозлилась. Она уже некоторое время шла за ними следом, готовясь выйти на сцену. ПОРА.
– Простите, доктор? – Руфь обогнала собеседников и обратила сияющий взгляд на толстяка.
– Чем могу служить, мисс?
– О-о-о, прошу прощения, доктор! Дело в том, что я уже некоторое время прислушиваюсь к вашей беседе. Я – сестра Хауэлл. Мне кажется, нет, я просто уверена, что могу помочь вам и вашему другу! Я работаю в больнице на полставки, и у меня уйма свободного времени. Я могла бы поработать сиделкой.
Взгляд толстяка, откровенно разглядывающего молодую нахалку, несколько смягчился.
Еще бы, папик, я ведь такая лапочка!
– Вы давно работаете у нас, деточка? Что-то я вас не припомню, – взгляд толстяка скользил по ее ногам, бедрам, раздевая, а мужчина в кресле выглядел безучастным и, казалось, не интересовался ею. Это отчего-то задело Руфь.
– Я работаю только два месяца, доктор. Но старшая сестра говорит, что я справляюсь.
(Руфь скромно потупила глазки – не девушка, а цветочек полевой.)
– Ну что ж, Людвиг, вот тебе и решение проблемы! – толстяк был явно счастлив, что выполнил свой долг, не шевельнув и пальцем.
– Как ваше имя, сестра? – инвалид поднял голову, и она вдруг захлебнулась в его глазах, светлых, как июльское небо. – Как ваше имя?
– Руфь.
* * *
Кроме всего прочего, первым делом она избавилась от мисс Хауэлл. В тот день медсестра была в отпуске, поэтому Руфь беспрепятственно воспользовалась ее рабочей одеждой. Разыскать сестру Хауэлл оказалось совсем не трудно. Она жила в своем доме, в пригороде и была одинока. Звонок в дверь, приветливая улыбка, молниеносный взмах скальпеля – разорванное горло.
Насытившись, вампирша-малютка опустила свою жертву в подвал, крепко обмотав со всех сторон целлофановой пленкой, затем накидала сверху старые тряпки и всякую всячину. Разыскала хозяйскую кошку и задушила ее. Голодная кошка способна поднять всю округу на ноги, знаете ли. Кошачий труп она положила в хозяйственную сумку и взяла с собой. Надо же иметь хоть небольшой запас пищи.
Уладив все формальности в больнице с помощью документов убитой медсестры, она отправилась к своему работодателю. Людвиг Бирс жил почти в самом центре города. Квартира его выходила окнами во двор, где весь день бродили кошки, дети и женщины с выстиранным бельем и пакетами. Шум машин с улицы не был слышен, да и солнце заглядывало в окна как-то искоса, освещая комнаты по частям, отчего, например, на потолке и правой стене танцевали солнечные блики, а левая сторона была темной. М-р Бирс, большой выдумщик, придумал забавную штуку: он прикрепил десятки небольших зеркал на стены и потолок, захватывая в плен солнечные пятна, и заставлял их плясать по всем комнатам.
Не думайте, что Руфь боялась солнца. О, нет! Она была очень молода для вампира – со дня ее смерти прошло не более трехсот лет. А ведь только патриархи, то есть старшие вампиры, не выносят солнца. Тем не менее она чувствовала усталость, долго пребывая в солнечных лучах, поэтому бывала на свету нечасто. Зеркал Руфь тоже не боялась – любое материальное тело отражается в зеркале, а Руфь была вполне материальной особой и в сказки не верила.
Квартира Бирса сразу показалась ей ужасно милой. Зеркала и картины на стенах, запах трав, наполнявший кухню, цветы в вазах, смешные пластиковые куклы на каминной полке – таким уютом веяло от этих стен! Руфь тут же решила, что останется здесь надолго.
С обязанностями сиделки Руфь справлялась неплохо, хотя поначалу ей пришлось трудновато. Находиться весь день рядом с человеком, предполагаемой пищей, и при этом удерживаться от соблазна! В ее обязанности входили мелкая уборка по дому, походы по магазинам и в прачечную, чтение книг вслух. Кроме нее в доме еще была приходящая кухарка, но через пару недель Руфь так очаровала Бирса, что заменила ее собой. Людвиг был неприхотлив в еде, а она выросла в деревне и умела готовить быстро и сытно.
Бирс следил за собой, переодевался и купался самостоятельно, хотя она видела, как ему трудно поддерживать себя в форме. Это был мужественный человек, но при этом застенчивый и деликатный. Несмотря на ограниченность движений, он был очень чистоплотен – в доме царила идеальная чистота, поэтому Руфь лишь изредка протирала от пыли столы и следила за чистотой пола. А когда вся работа по дому была выполнена, Руфь садилась рядом со своим хозяином, брала в руки иглу и вышивала, часами вышивала узоры по чистому полотну. Бирс рассказывал ей замечательные истории о дальних странах, о диковинных обрядах чужеземцев, о пальмовых рощах и коралловых островах, о бурях и штормах, о верности и предательстве, о солнечных бликах на воде и скрипе мачт, о запахе моря и неописуемой, ни с чем ни сравнимой радости, когда в голубой дали вдруг покажется земля. Руфь готова была слушать его бесконечно. Как жаль, что она так мало видела в жизни! Только лишь голод, ненависть и смерть. Сам того не подозревая, отставной моряк Людвиг Бирс открыл ей дверь в незнакомый и удивительный мир, наполненный яркими красками и свежим ветром, мир, в котором она хотела бы жить.
Но однажды вечером случилось то, что должно было случиться рано или поздно. Когда Руфь вносила поднос с чаем, у Людвига случился приступ. Глаза его закатились, дыхание стало учащенным, руки безвольно повисли вдоль колес инвалидной коляски. Руфь заволновалась. Она не знала, что ей делать – у нее не было никакого медицинского образования. В сильном волнении она схватила его за руку. Людвиг был без сознания – зрачки беспокойно метались за шторами век, губы пересохли. «Неужели это конец?» – подумала она.
И сделала первое, что пришло в голову, – полоснула острым как бритва ногтем по запястью его руки. Брызнула кровь. Когда под креслом натекла небольшая лужица, больной стал дышать реже, потом дыхание его стало глубоким и спокойным, как во сне.
Руфь перевязала запястье бинтом из аптечки и молча смотрела на Людвига. Он дремал.
Кровопускание помогло – приступ боли прошел, оставив лишь усталость и упадок сил.
Запах крови щекотал ей ноздри, Руфь осторожно встала на колени и приникла губами к окровавленному паркету. Пока она жила в этом доме, она питалась только кровью кошек и собак, которых ловила по ночам. Теперь ей представилась возможность узнать вкус крови человека, под защитой которого она жила и которому была обязана крышей над головой и спокойными часами.
Его кровь была теплой и сладкой, словно кровь ребенка. Руфь стояла на коленях, с красным ртом и давилась от слез. Да, она рыдала! Чувство горькой утраты, невыразимой потери переполняло ее, словно она прощалась с детством, зная, что безмятежное вчера никогда больше не повторится.
«Неужели я боюсь за Людвига? Боюсь, что потеряю его, что он умрет? Да, я боюсь! Ведь я люблю, люблю, люблю его…» Руфь была ошеломлена – земля ушла из-под ног. Она, нелюдь, живой мертвец, влюблена в человека! Как это вышло? Да, верно, он очень мил. Скромный, деликатный, знает массу интересных вещей и забавных историй. Ну и что с того? Возможно, она слишком долго была лишена нормального человеческого общения? Подвалы, чердаки, кладбища. А ведь она родилась свободной, беззаботной крестьяночкой– хохотушкой, впитавшей с детства просторы полей, щебет птиц, ласковую свежесть весенней зелени… Не то, все не то… Острова и капитаны, чудесные рассказы по вечерам, теплые сумерки, веющие мятой и ванилью, щекотно и сказочно… Нет! Людвиг такой хрупкий, мужественный и трогательный, как ребенок, он щедр, он добр, он нуждается в защите и заботе. Кто угодно мог бы обидеть его, да я сама могла бы убить его без всякого труда, – калека, беспомощный калека! В нем, в Людвиге, с беспощадной ясностью вдруг отразилась ее мечта, ее тоска по красоте, по нежному, беспечальному миру, щедрому к хорошим и сердечным людям. «Девочка, ты погибла», – сказала себе Руфь. Когда вампир рождается, когда он приходит в мир, дитя смерти и боли, злобы и страха, он расстается со своим прежним человеческим «я». Мысли, чувства, желания – ничего этого больше нет и быть не должно.
«Я привязалась к этому человеку, я погибла. Конечно, выход есть. Выход есть всегда. Чтобы вновь обрести свободу, я должна убить его. Немедленно. И бежать, бежать прочь отсюда, не оглядываясь. Вперед к своей старой, привычной жизни дикого зверя. Прятаться в подвалах и на чердаках, кочевать из города в город, меняя адреса и страны в поисках новых жертв. Таиться. Выжидать. Охотиться».
Руфь поняла, что не хочет больше так жить. Жить вдали от Людвига.
«Что ты можешь дать ему, глупая? – шептал внутренний голос. – Семью, детей? Ты мусор. Просто мусор, проклятое богом и людьми чудовище. Когда он узнает, кто ты на самом деле, он отшатнется от тебя с омерзением. Не тешь себя напрасной надеждой на призрачное счастье. Он никогда не будет твоим».
Руфь все понимала, но ничего не могла поделать. То, что росло в ней, было выше и сильнее ее. Корни странного растения оплели ее мертвое сердце, и ветви шумели высоко над головой. Она чувствовала себя птицей, беззащитной безропотной птицей, замершей на волнах ветра. Ветер, ветер нежности омывал каждое перышко, делая ее душу свободной и зыбкой как песок, она была горда и несчастна одновременно.
Мне ничего не нужно от него, просто быть с ним рядом. Рядом.
* * *
Она не ожидала, что беда случится так скоро. Просто однажды ночью ее прошлое постучалось в дверь.
Эта ночь была вполне подходящей для охоты, чистое небо, новолуние. Вампирша проехала несколько остановок на метро (тайком выскользнув из дома), затем некоторое время шла пешком. Вот и пустырь. Заброшенный клочок земли на окраине города, поросший дикими травами, пристанище бездомных кошек и собак. Здесь она находила себе пищу, гуляла под луной, жадно вдыхая запахи трав и уносясь мечтами к звездам. Давно, еще до встречи с Людвигом, она приходила сюда, это место было для нее особенным. Она любила представлять, что этот островок диких трав – дверь в другой, неведомый мир. Травы и звезды над головой. Ветер в волосах. Запах свободы. «Вот сейчас я закрою глаза, – говорила она себе, – а потом открою, и окажусь совсем в другом месте, неизвестном, удивительном мире, где нет запретов и страха, где все свободны, как этот ветер, и нежны друг к другу, как эта ночь». Сюда не доносился шум машин с автострады, и роза ветров исключала всякое проникновение запахов человека – запахов кухни, пластмассы и немытых тел от близлежащих многоэтажек. Руфь была счастлива здесь.
Она плотно поужинала, отловив какую-то несчастную пеструю кошку, и теперь стояла с закрытыми глазами, подставив ноздри свежему ветру. Ветер, ветер, вей с луны, принеси мне лунные сны. Внезапно она ощутила чье-то присутствие за спиной.
– Расслабься, малышка. Это всего лишь я, – произнес знакомый до отвращения голос.
Она резко обернулась. В нескольких шагах от нее стоял, ухмыляясь, ее враг. Тот, кому она когда-то доверяла, слепо доверяла. Тот, кто предал ее и оставил подыхать в сыром подвале. Дэвид.
Ее кулаки сжались, глаза превратились в узкие щелочки.
– Я и не думал, подруга, что ты такая живучая.
– Как видишь, ты ошибся, – Руфь с трудом выплюнула эти слова.
Они молча смотрели друг на друга, оценивая, просчитывая шансы, вычисляя следующий ход.
– Ты выжила, молодец. И даже неплохо устроилась, как я погляжу. Сестричка милосердия, а? Но что же ты делаешь ночью на этом вонючем пустыре, а? Где твой дружок-калека? Почему ты не высосешь его, а жрешь здесь всякую падаль?
– Убирайся прочь! – Руфь была вне себя от гнева. Этот ублюдок следил за ней, подумать только! Вот дерьмо.
– И не подумаю. Я хожу, где хочу, и ни у кого не спрашиваю разрешения. А может, нам с тобой вспомнить старые добрые времена, сестренка, а? Я чуток проголодался. Угости меня своим пациентом, медсестричка. Мы славно поужинаем.
– Не смей его трогать! Если ты к нему прикоснешься хоть пальцем, я…
– Что ты? Что ты можешь мне сделать, глупышка?
Руфь не знала, как у нее вылетели эти глупые слова. Она была испугана за Людвига и обозлена. Хуже всего то, что я ничего не могу сделать с этим подонком. Он сильнее меня, к тому же большой специалист по дракам – Руфь не раз наблюдала, как Дэвид, кичась своей силой, приставал к ночным прохожим, а затем быстро и хладнокровно их убивал. Ломал позвоночник. Отрывал голову. Отнимал их жизни, как игрушки, и разбивал на мелкие кусочки.
Он был похож на ягуара, опасную дикую кошку. Просто стоял напротив нее и поигрывал невидимыми под одеждой мускулами. Как кошка с мышкой.
– Что тебе нужно, Дэйв? – во рту у нее все пересохло от напряжения.
– Ничего, сестренка. Пытался быть дружелюбным. Приятно было вновь тебя повидать. До скорого.
Он растворился в темноте прежде, чем Руфь смогла что-то предпринять.
* * *
Никогда еще в своей жизни она не боялась так сильно, как в тот день. Открывая дверь, она еле-еле нащупала щель замка, несколько раз роняя ключи – так дрожали руки. Руфь не могла решиться на что-либо. Вдруг она войдет, а Людвиг уже мертв? Этот подонок Дэвид мог осуществить свою угрозу, она всегда знала, что он псих, и подумать только, что когда-то ей это нравилось!
Нет, о боги, нет, Людвиг был жив. Он крепко спал, и дыхание его было чистым и глубоким.
Руфь чувствовала себя обессиленной, выжатой тряпкой. Дэвид ушел, но он еще вернется. Он всегда возвращается, когда не ждешь.
Он вернется, чтобы убить меня. И Людвига.
Мертвая зыбь тоски длится вечность, но сердце, падая в пропасть, обрывается в один миг. Приняв решение, Руфь больше не сомневалась.
Той же ночью она отправилась на кладбище. Словно тень, прошла сквозь узловатые чугунные ворота, скользнула по дорожке, ведущей в самый дальний закуток кладбища – туда, где рабочие складывали мусор: ржавые ограды, спиленные ветви деревьев, срезанную зелень, камни и облезшие венки. Из мусорной ямы, хранившей в своем чреве эти кусочки хаоса, тянуло сыростью и гнилью.
Маленькая вампирша стала на колени и принялась быстро разгребать руками свежую землю. Она торопилась – скоро рассвет. Когда она случайно наткнулась на камень и сломала ноготь, то даже не почувствовала боли. Наконец, ее старания увенчались успехом – рука коснулась скользкого холодного существа, которое в испуге попыталось скрыться. Не уйдешь! Превозмогая отвращение, Руфь вытащила из норы кладбищенскую жабу, мерзкую и черную, как смола. Остро заточенный прут из омелы она ткнула в жирное брюхо, и белая древесина окрасилась черным. Руфь швырнула жабу обратно в яму. Оружие готово.
Завернув прут в тряпицу, она поспешила домой, чтобы с первыми лучами солнца как ни в чем не бывало улыбаться своему повелителю.
Владыка сердца, желанный мой.
Владыка сердца, побудь со мной.
* * *
Прошла неделя, затем другая. Дэвид ничем не давал о себе знать, и Руфь слегка успокоилась. Нет, она не потеряла бдительность, просто устала постоянно озираться и прислушиваться к малейшему шороху.
Она любила Людвига, как прежде, даже еще сильнее. Острота ощущений придавала новый, свежий вкус ее чувствам. Она знала, что обречена, что каждая ее минута с Людвигом может стать последней. И оттого ей было сладко, сладко и больно. Но это была желанная боль, которую носят, как мать – образ родного ребенка, не расставаясь с ним ни на миг.
Вечер постепенно перетекал в ночь, Бирс задремал у камина, а Руфь хлопотала на кухне. Она пекла булочки – мягкие, пахнущие корицей и ванилью. Она страшно гордилась собой сегодня – такая умелая хозяюшка, теплая и мягкая, как булочка, с пятнами муки на прелестном личике, такая домашняя…
В дверь позвонили. Руфь недовольно нахмурилась и пошла открывать. На пороге стоял Дэвид. Он выглядел так, словно только что слез с мотоцикла – кожаная куртка с заклепками, высокие армейские ботинки.
– Кто там, Руфь? – донесся из гостиной голос Людвига.
Руфь стояла как замороженная, не сводя с Дэвида глаз. Дэвид широко, во весь рот, улыбнулся, сверкнув зубами.
– Это… это мой знакомый – проговорила она, запинаясь.
– Ну, так пригласи его в дом, дорогуша.
– Пригласи меня, сестренка! – Дэвид торжествовал.
В его глазах плясали маленькие язычки пламени, отблески камина. «Это огонь у него внутри, – думала Руфь, – это часть его ада».
– Невежливо держать гостя на пороге, мисс Хауэлл, – голос Бирса был недоуменным. Руфь твердо знала, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не следует приглашать вампира войти. Без приглашения он не сможет переступить порог дома. Но если его пригласить, то он уже не уйдет, не забрав жертвы. Ситуация была гротескной: один вампир должен пригласить в дом другого. Руфь шагнула вперед, ее взгляд уперся в грудь Дэвиду.
– Не беспокойтесь, мистер Бирс. Это мой двоюродный брат, он уже уходит. Он очень спешит.
– Я уйду только вместе с тобой, малышка, – насмешливый вкрадчивый шепот.
– Я провожу брата, мистер Бирс, и тотчас же вернусь.
Она захлопнула дверь перед носом этой твари, быстро скинула кухонный фартук и всунула ноги в расстегнутые туфли с красными пряжками.
Прощайте, тапочки. Прощай, домашний уют и сладкие булочки. Прощай, Людвиг. Прощай навсегда. Теперь она была готова платить по счетам.
Странно, Дэвид действительно приехал на мотоцикле.
– Садись сзади, малышка.
– Куда едем?
– На край моей души.
К чему такая канитель, думала Руфь. Хочешь убить меня, так давай, не тяни резину. Городские улицы проносились мимо разноцветной каруселью, и ветер бил в лицо, щипал ноздри парами бензина и запахом разогретого металла. Мы едем на пустырь, сообразила Руфь.
На мой пустырь. Чтобы прикончить меня без свидетелей.
Когда мотоцикл затормозил, она все поняла. На пустыре их ждали. Руфь шла медленно, еле передвигая ватные ноги. Она знала, что будет впереди.
Суд вампиров в полном составе.
Суд старейшин при полной луне.
Руфь не смела поднять глаз. Лица древних старцев в черных капюшонах и других, более молодых, но не менее порочных, говорили одно: ВИНОВНА!
Навстречу ей вышел, тяжело опираясь на клюку, ее учитель, Марвелл. Единственный вампир, которого она уважала.
– Учитель…
– Ученица?..
И больше ни слова. Они стояли друг против друга и молчали. Такая горечь в его глазах! Наконец он заговорил. Его голос был подобен скрипучему дереву.
– Правда ли это, дочка? Правда ли то, что сказали мне? Ты полюбила смертного? Я вложил в тебя, Руфь, свои знания, свой опыт, свой разум. Что же ты натворила, глупая девчонка?
Руфь стояла перед строем убийц. Безучастные ко всему, они легонько покачивались, как былинки на ветру, безжалостные, окончательные.
– Да, учитель. Это правда.
– Но это не может быть правдой! Ты есть тьма, и сердце твое – сердце паука! Камень не принесет плода, сухая ветка не даст росток, вампир не может любить. Вампир – это ненависть!
Это смерть. Смерть – это ненависть.
– Нет, отец. (Марвелл вздрогнул, как от пощечины). Нет, отец. Жизнь – это любовь. И смерть тоже. Нет жизни и нет смерти. Они не имеют никакого значения. Есть только любовь. Только она одна – смысл и суть.
– Чем ты докажешь свои слова?
– Я отрекаюсь. Я больше не хочу быть вампиром.
* * *
Много лет спустя старый вампир вспоминал ту странную ночь с содроганием и внутренним трепетом. Его ученица стояла среди палачей, юная и прекрасная, словно Жанна-воительница, и произносила страшные слова.
Глухой ропот пронесся среди судей, и волна черных плащей содрогнулась, готовая выплеснуть свой гнев на дерзкую девчонку.
– Отдайте ее мне! – закричал Дэвид. – Она принадлежит мне!
– Нет.
Тихое, непоколебимое слово. Скала в океане ненависти. Это сказала Руфь.
– Нет. Я принадлежу только своему любимому.
Марвелл в волнении схватил ее за плечо, но девушка легко, как соринку, сбросила его руку. Дэвид ухмылялся.
– Я буду драться с любым, кто хочет моей крови. Но не за свою жизнь. Только за свою честь.
Наклонившись к Марвеллу, она прошептала: «Отец, позаботьтесь о Людвиге. Он должен жить, когда я уйду».
Затем она шагнула вперед, в круг черных плащей, резкая и упругая, как стальная пружинка. Плащи качнулись назад.
Навстречу вышел Дэвид. Он больше не улыбался, теперь он был похож на волка – хищный, опасный. И Руфь улыбнулась ему. На одно мгновение она подняла голову к небу, к холодным белым звездам и, зажмурившись, глубоко вдохнула морозный воздух, словно хотела унести этот кусочек ночи с собой в смерть. Затем она бросилась вперед. Не слишком быстро. Дэвид ждал ее броска. Он грациозным жестом вскинул лезвие ножа, направляя его в горло девушки.
Вдруг Руфь начала падать. Похоже, она зацепилась носком туфли за камень или корешок, торчавший из земли. Все происходило мгновенно и вместе с тем медленно для чутких глаз вампиров – словно на кинопленке.
Вот Руфь падает, падает, даже не поднимая рук для защиты, падает нелепо, горлом натыкаясь на острие в руке Дэвида. Безжизненное тело лежит лицом вниз у ног предателя, темная лужа крови быстро расползается вокруг ее волос. Дэвид наклоняется с оттенком недоумения и легкого презрения во взгляде, и тут – быстрое движение снизу вверх. Что-то впивается в его ногу.
– О, ЧЕРТ! – орет Дэвид. Он отскакивает от тела, извиваясь, как гадина. Проклятие кладбищенской жабы кипит в его жилах, выплескиваясь пузырями на бешеных губах. Дэвид хрипит, выпучив глаза, отчаянно вертится, кидаясь во все стороны. Падает навзничь. Судороги выгибают его тело дугой, но он уже мертв.
Вампиры расходились с пустыря в молчании, не глядя друг на друга. Один из них подошел к Марвеллу, который все еще стоял над телом любимой ученицы.
– Это был хороший урок для всех нас, – сказал вампир. – Мы не думали о том, что плоть может быть больше, чем просто плоть. Мы не знали, что у паука есть сердце.
Затем и он уходит.
* * *
Прошли годы, пролетели десятилетия. Людвиг Бирс умер. Пустырь так и не был застроен, на нем все так же растет трава и цветы, множество ярко– алых, как кровь, цветов каждое лето. Никто не знает, откуда в городских трущобах взялись цветы. Просто однажды вдруг расцвели, вот и все.
Но старый Марвелл помнит все. Иногда, морозными ночами ранней зимы он смотрит на звезды и глаза его увлажняются.
Он шепчет: «Сердце паука…»
Яма
Луна ломилась в окно сторожки грубо и властно, как подгулявший купчина в трактир, и сторож Сергеев был вынужден задернуть стекло рогожкой, что делал редко. Ему нравилось голое стекло, возможность беспрепятственно наблюдать за всеми проходящими мимо врачами.
Иногда – редко – ковыляли больные, вырвавшись из лап заразы, с осунувшимися синими лицами, похожие на голодных птиц.
Но луна эта – стерррва! – ругался Сергеев – своей багровой мордой нагло протискивалась сквозь рогожу и лезла, вкатывалась в сторожку.
Сторож крякал огорченно и пытался игнорировать незваную гостью.
Сторожка – неприметная хибара, косо лепившаяся к зданию больницы, была вдохновенно забита рухлядью. Хлам стаскивали сюда при двух прошлых государях, затем при Керенском, и теперь сторож нет-нет да и приволочет обломок стула или заржавленную, смотрящую сиротой, посудину. Свободного места оставалось – только сесть, и Сергеев садился в кресло без ножек, с широченными подлокотниками, в одном из которых угнездилась лампа, в другом – медная, затянутая чайной гущей кружка и шкатулка с табаком и леденцовыми конфетами.
Сторож был лакомка. Леденцы липли к хлопьям махры или сухой травы, если махры не было. Спроси его кто, зачем весь этот хлам в сторожке, Сергеев ответил бы емко: «Надыть». Твердая уверенность, что каждой вещи свое место отпущено, не покидала его ни на минуту. Те, кому приходится по долгу службы следить за порядком, то есть проводить много времени в одиночестве, строго соблюдают букву ритуала.
Сергеев помнил мельчайшие подробности каждого своего дня, потому что последовательность событий контролировалась им с тщанием, с трепетом не меньшим, чем тот, что испытывает опытный заводской рабочий к своему станку.
Сергеев знал распорядок смен врачей и знал, с кем ему не хочется сталкиваться сегодня, – и не сталкивался. Он был хозяином своего времени, как и ключей на большом железном кольце, которое он носил на поясе. При ходьбе ключи глухо шелестели и били его по правому бедру – через несколько лет на бедре образовалась небольшая вмятина, и Сергеев с полным на то основанием мог гордиться ею, как фронтовики гордятся боевыми шрамами. Да, время щадило своего верного эмиссара, и новые морщинки, появляясь, тут же тонули в клочковатой бороде или стыдливо уползали вверх, под защиту взъерошенной, диковатой, точно пушистая шапка на ветру, шевелюры.
А на войну Сергеева не брали из-за колченогости.
…………………………………………………………………………………
Однако теперь стало не то, что было раньше: сторож делил свою жизнь на сейчас и тогда. Причина такого четкого разграничения крылась не в войне, не в суматохе и не в остром дефиците харчей и одежды, и уж не в том, что на рукавах серых солдатских шинелей появились красные повязки, – причина крылась в яме.
Да и не крылась она, а была вся как есть на виду, любому видна. До того Сергеев охранял больничные склады да обходил на ночь палаты в госпитале, чтобы вдруг строго зыркнуть на шутников-хохотунов, нарушающих предписанную тишину, или подслушать неподобающие разговоры и доложить начальству. Еще, бывало, обнаружит в тумбочках нечто запрещенное: продукты, не прошедшие карантин, или курево. Естественно, реквизировал – приходилось, правда, делиться с дежурным фельдшером.
Народ в госпитале не задерживался надолго – кто отправлялся на фронт, кого за непригодностью демобилизовали, а кого – в могилу. Вещи, оставшиеся от умерших, тоже переходили в ведомство Сергеева и шли на склад или в прачечную, редко – и неохотно – вдовам-вопленицам, а частью и в пристроечку-сторожку, пополняя бессчетную не то коллекцию, не то кладовую.
За Сергеевым знали грех собирателя, стаскивателя, барахольщика, но он не обижался, если кидали в спину: крыса! – потому как берег все это не для себя – много ли надо старинушке? – а для кого тогда? – не смог бы ответить, насупился, отвернулся бы да и рукой махнул с досадою.
Лесной воздух до поры вольно мешался со степным, сладость клевера с горчинкой хвои, но потом пришли люди в рукавицах и мешковатых одеждах, множество людей, и началась жизнь ямы. Сергеев помнил эти суматошные дни – прожект некоего Фингельгартена – тысячи фонарей и скрежет, стук, движение по ночам, больные жаловались, что не могут уснуть, врачи стали раздражительны и рассеянны. Появилось всеобщее чемоданное настроение: слухи грозились, что больницу выселят в другую местность, а здание отдадут под жилье рабочим.
Люди в больничных халатах неприязненно толковали с обитателями бараков – да, лес значительно поредел, появились куцые, вонючие, наспех– на смех бараки, и директор, Павел Самсоныч, все звонил куда-то наверх, доказывал, что, мол, антисанитария, да как же в таких условиях прикажете больных пользовать! Да что хотите, да переселяйте нас уже куда-нибудь, примите решение!
Яма ширилась и углублялась, она гордо именовалась «котлованом» и должна была в дальнейшем стать гнездом для фундамента гигантского здания, каких и в самой Москве не видано!
Здание то – Дом Народов – должно было, по задумке вельможных умов, стать не то гостиницей, не то лекторием-санаторием, не то черт его знает чем для заезжих гостей. Так сказать, шатер прекрасный, оазис для отдохновения на скудной земле, не являющейся однозначно ни востоком, ни западом.
Лесостепь. Дождик. Хмарь. Блеяние коз и запах портянок. Да, господин поручик, верст тридцать до ближайшего городка – все полем, полем…
Не стала яма котлованом, а котлован – зданием. Грянула война, и снова война. Где теперь тот инженер, как его, собаку Фингельгартен? Сергеев сохранил на память пару новеньких заступов, любовно обернул промасленными тряпочками, чтобы не ржавели, и несколько замысловатых чугунных шишечек: много странных машин, по большей части не работавших ни дня, привез немец, и всякие детальки на них накручены, этакие финтифлюшки…
Где и рабочие те? Наверное, многие полегли в окопах германского фронта, а иные и сейчас кровь проливают. За что? Эх-хе, – и жевал с хрустом копеечные леденцы седой сторож, и смотрел на лепесток огня прокопченной лампы, горевшей в его берложке, как будто в этой оранжевой капле были ответы на все мировые вопросы.
Павел Самсоныч, вот уж умнейшая голова, и тот говорил: я, говорит, после пятнадцатого года отказываюсь понимать в этом государстве что-либо! Скифия, господа, Скифия на колесницах катит! Теперь только и жди!
И Сергеев ждал.
Ждала и яма.
…………………………………………………………………………………
Восемнадцатый год был страшен, он окрасил черным все – живое и мертвое. Горели торфяники, горели сухие поля, горели эшелоны. От людской ненависти стыл воздух, и выпавший снег, покрытый пеплом, стал черен, и чернели изъеденные сыпняком лица: глаза глубоко западали в глазницы, вваливался рот – яма, и еще яма, и еще. В госпитале не хватало коек, и были заделаны, замазаны, залеплены все щели и положены соломенные матрасы сплошным ковром. Люди на матрасах стонали и ворочались, закутаны в белое, как огромные личинки. Врачи вынуждены были работать в тяжелейших условиях, с минимальным запасом лекарств – люди умирали тысячами, на радость воронью.
Сергеева пытались привлечь к похоронным работам, но он отказался – надрываться охота ли! – и взял на себя обязанности руководящего.
Края у ямы отвесные – не подходи, оступиться можно, лишь у дальней стороны, на том конце, где одинокая осина, кривая, дрожит – не надломится под ветром, – ступени прорублены. Когда мертвых стало слишком много и спускаться в яму стало хлопотно, тела бросали так, с размаху. Но далеко ведь не бросишь таким макаром, и яма стала наполняться горкой, неравномерно – посредине пусто, а с края – вот-вот, и некуда будет.
Напарник Сергеева по погребению, фельдшер– энтузиаст, румын Мирча придумал особенный механизм, названный им «козел». Энтузиаст он был потому, что не имел врачебного образования, но в условиях жесткого военного времени пришелся ко двору – ловок, умел и находчив. Говорил по-русски довольно чисто, но иногда не к месту пришепетывал, присвистывал, словно держал во рту посторонний предмет, катая языком.
Разве не козел? Ногами взбрыкнет – и готово! – широкая доска, на которую помещалось три, а то и четыре тела, противовес-валун закидывал высоко в воздух – дьявольские качели! – и трупы долетали до середины ямы. Этот «козел» постепенно двигали вокруг ямы, чтобы тела ложились равномерно, и валун, веско скатываясь, оставлял углубления в почве, как огромное яйцо или удар великанского кулака. Приходили смотреть больные. Это неаппетитное зрелище доставляло им странное удовольствие.
– Эка рукавом взмахнул! – указывали с интересом. – Ровно не ймется ему, горемыке. А тот, в голенищах, камнем вниз. Видать, грехи тянут.
Сергеев остерегался дотрагиваться до мертвецов – их таскали молодые санитары, но «козла» подталкивал с усердием – полезность машины была налицо, и сторож гордился своей сопричастностью к процессу.
Раз в неделю являлся синюшный от недоедания поп, сперва харчевался у фельдшериц, а потом кадил над ямой, отпевал. Сергееву поп не нравился, больно презрительная рожа.
Но тут пришла другая напасть – заморозки отступили, из ямы понесло тлением, да так сильно, хоть беги прочь! Вороны граяли день и ночь – шевелящееся черное покрывало.
Выручил опять-таки Мирча. Чем укрыть покойников? Ни земли порядочной, ни извести. Мирча придумал возить песок со степи и другую машину соорудил – пескоструй. За свою бродяжью жизнь он где только не побывал, довелось и у мартеновских печей постоять. Огромная бочка, в несколько человечьих охватов, поставлена на раму, рама – на колеса. В бочке – песок, к бочке крепится рычаг, качнешь – и забьет тугая струя песка из отверстия.
Теперь так и делали: положат в яму очередную партию мертвых и поверху – песочком.
Смрад от разлагающихся тел уменьшился, и только слегка сладковатым отдавало, когда ветер дул в сторону больницы. Почти как на яблокодавильне. Самые отчаянные из больных (что поправлялись или могли кой-как стоять на ногах) держали пари на мертвецов: кто дальше ляжет в яму, кто ближе. В залог шли спички, махорка, леденцы, портянки, пуговицы. В условиях дефицита все имело цену.
– Тьфу ты, как на лошадей ставят! – ругался Сергеев, однако в душе он был рад такому положению дел. Все, связанное с ямой, повышало его авторитет в глазах простого народа, хворых, как он выражался.
Впервые за свою кислую жизнь он охранял не здание, не какие-то предметы, более-менее ценные, а людей. И это ничуть не походило на работу кладбищенского сторожа, потому что яма постоянно, едва ли не ежедневно, полнилась новыми жильцами, обнаруживая в этом нескончаемом процессе волнующую динамику, словно вела некую мертвенную жизнь.
Однажды ночью Сергеев выследил мародеров – дураки полезли в яму с фонарем, чтобы порыться в скудном имуществе мертвых: они не знали, что все мало-мальски ценное уже отнято у детей смерти. Сергеев поднял тревогу, их поймали и отдали военно-полевому суду в лапы. С того случая сторож взял за правило в обязательном порядке дважды за ночь обходить яму дозором.
…………………………………………………………………………………
Сегодня, вернее, сегоночь Сергееву не хотелось выходить из сторожки. Моросил дождь, ревматически ныли колени, лампа потрескивала, коптила – керосин ни к черту, да вдобавок он неловко рассыпал остатки махры на пол. Кипяток неприятно отдавал железом, леденцовая конфета – старым, слежавшимся вкусом, лекарством. Все не ладилось, все было не так нынче: неуютно, сиротски, зябко. Сергеев с ногами забрался на кресло и обхватил себя старой шинелью всего, как моряк, забываясь тяжким трудовым сном на палубе, мертвым сном, – оборачивается в парусину. Шинель вопреки ожиданиям вызвала не чувство уюта, а тоску – как пустой дом с множеством комнат, – сторожу она показалась колючей.
– Вот еще на-апасть! – с сердцем крякнул Сергеев, сбрасывая шинель с плеч.
Он вертелся, досадовал, так и не умостился на своем привычном месте, наконец встал и подошел к окну.
Дождь.
За сплошной булавчатой пеленой скакнул белый просверк, и грянуло так, что откликнулось скрипом кресло.
– Илья катит, бесам грати не велит, – вспомнил детское Сергеев и перекрестился небрежно скрюченным троеперстием.
Он дохнул на стекло и зачем-то протер его.
И только хотел вернуться на место, как услышал звук.
Это походило не то на стон, не то на протяжный вздох, – но что бы то ни было, у сторожа похолодела спина.
– Ветер, баловень! – сказал он, обращаясь к креслу, и лампа неистово заплевалась, зачадила.
Сергеев – весь уши – постоял без движения спиной к окну, ожидая повторения странного звука. Но лишь вода била о стекла.
Сторож выругал матерно коптящую лампу и приготовился влезть в кресло: смахнул рукавом пыль или невидимый сор и занес уже колено, как вдруг лампа подскочила – жалобно и пронзительно звякнуло стекло, и вой раздался совсем рядом. Под самым ухом.
Сергеев трясущимися руками подхватил едва не разбившуюся лампу, ожегся – слезы брызнули из глаз, – но успел поставить керосинку на место.
Он мазнул рукавом по глазам, как только что протирал оконное стекло, и растерянно огляделся. Предметы, сколько их ни есть, молчали: и обломки столов, и колченогие стулья, и матрасы, и железные, и стеклянные запыленные, заброшенные уродцы.
– Та-а-а-ак! – угрожающе протянул Сергеев, но тут же понял, как жалко повисла его фраза во всеобщем молчании.
Лампа же больше не шипела, не плевалась. Ее огонек мигал тихо, растерянно, будто она, как и сторож, была ошарашена происходящим.
Сергеев взял винтовку системы Мосина, это было хорошее оружие, не вполне современное – сегодня на фронтах в фаворе считались винтовки Маннлихера или даже американские Вестингауз, – но проверенное, привычное, и приклад сам ложился в руки. Всякая привычная, давно знакомая вещь является почти тобой, и потому Сергеев нисколько не сомневался.
Он вышел в ночной дождь, накинув на плечи кусок брезента.
Звезды потускнели от грозы, небо было неясным, и темнота текла уколами, сыростью, запахами озона и давленых яблок.
Сергеев всматривался в яму. Фонарей не было видно – не мародеры. Но сомневаться не приходилось, что звуки исходили именно отсюда, из серой – от серого, грязного песка – глубины. Сергеев сел, поджав под себя ноги по-турецки, во всяком случае, он считал такую позу турецкой.
Скоро голова его совсем промокла, и ствол ружья заблестел при свете выглянувшей на миг луны, как смазанный маслом. Дождь бил по брезенту, дождь танцевал и пел, и в его песне были бесконечные буквы «ш», и Сергееву казалось, словно его плечи кто-то разминает тонкими слабыми пальцами.
Ветра не было, потому что ветер с дождем не дружны, но ведь ясно, что не ветер все это затеял. Яма, коварная, молчала. Сергеев слегка водил дулом из стороны в сторону, готовый ко всему. Вдруг ему показалось, что в яме – там, далеко, метрах в двухстах – зажегся огонек. Он не был похож на свет лампы или фонаря, слишком тусклый, но Сергеев тут же поднялся и поспешно стал обходить яму, чтобы добраться до ступеней. «Если я еще раз услышу этот вой, – решил он, – буду стрелять в огонек».
Почва под ногами неровная, бугристая, из-за следов колес «козла» и вмятин от камня, посылающего трупы в тартарары. Слегка припорошенный светло-серым песком бурый суглинок квасился, проступал, и отпечатки сапог сторожа чернели отчетливо, как в снегу.
Спускаясь по ступеням, сглаженным временем и непогодами, Сергеев собирался уже гаркнуть «кто там?», но уж и сам прекрасно видел, что яма безмолвна. Однако огонек?
Сергеев опускался очень осторожно, боясь поскользнуться и расшибиться, а уж к огоньку подбирался целую вечность: крался, бесшумно ступая косолапыми кирзачами, словно боялся излишней поспешностью спугнуть светляк.
«Осколок, ей-богу!» – решил он, подойдя совсем близко. Но это не был осколок.
Стеклянный глаз полузасыпанного бурого, почти сравнявшегося по цвету с землей трупа сверкал, как крупный бриллиант.
«На тебе! – удивился Сергеев, приседая на корточки и щелкая по глазу ногтем. – А вроде бы они матовые должны быть, эти шарики. Из фаянса, что ли, их делают».
Он точно не решил, то ли досадовать ему, то ли рассмеяться, и, зачерпнув горсть песка, засыпал маленький светящийся шар.
Дождь все так же мерно барабанил по брезенту, и хотя одежда не промокла, сторожу вдруг стало так зябко, неуютно, словно он только что проснулся и обнаружил себя лежащим в канаве.
Он поднял голову – далеко, высоко, будто не наяву, а на картинке, светились два окна – самые верхние, четвертый этаж госпиталя.
«Санитары в буру режутся», – подумал он безо всякого чувства, поднялся с колен и пошел к лестнице. Земля-песок-жидкая каша чавкала под ногами, было противно.
А лестницы-то нет!!!
«Дурень, не туда повернул в темноте», – досадовал Сергеев, стукнув прикладом по отвесной глиняной стене. Придется идти вдоль обрыва, чтобы ступени отыскать. Он продвигался вдоль стены, время от времени дотрагиваясь до нее прикладом винтовки, будто стена без этих понуканий могла отвлечься и сбежать.
Освещенные окна постепенно уходили влево и вверх – вообще они должны были бы приблизиться, но в действительности зависли где-то рядом со звездами. Там, где должны были находиться звезды, но звезд не было – дождь скрыл все.
Через какое-то время Сергеев устал, а лестница не находилась. Он понял, что снова пошел не туда, но упрямо решил обойти яму. Сторож вспомнил, как однажды на спор с приятелями калека-больной на одной ноге обогнул яму за полчаса – значит, идти не так уж далеко.
Сапоги вязли в мокром песке, и от усталости казалось, что почва стала более вязкой. Теперь сторож опирался на винтовку, как на костыль, однако не прекратил своего ритуала, выражающего его раздраженность, – он тыкал в стену ямы тыльной стороной ладони, костяшками пальцев. Стена сочилась сыростью, влажная слизь висла на ладони, как сопли.
На душе у Сергеева стало совсем беспросветно. Он забрел уже так далеко, что огни больницы скрылись, и все: винтовка, тяжело и шершаво скользящая в руке, громыхающий брезент, и даже собственное тело – представлялось ему громоздким и нелепым, словно не он сам заблудился, а заставили, как нанятого актера, выполнять глупые и утомительные движения.
Темнота, а в особенности ночная темнота, как сокровенная, первозданная сущность, обладает неповторимым свойством скрадывать пространство и время. Ни зги не видать – и неясно, минуты гибнут под твоими сапогами или чавкает, засасывая ненасытной утробой, вечность.
Сергеев ругал себя, что вышел из сторожки, не позаботившись захватить огниво. Даже маленький язычок пламени, казалось, отогрел бы его сейчас, освободив от горьких дум.
Он обернулся – ага, больничные окна висели за спиной! Значит, он сделал почти полный круг.
«Птицы разносят заразу, – думал Сергеев, – и звери разносят заразу. Наверное, и мухи разносят заразу».
Он вспомнил, как в детстве его родное село и еще три окрестных пали жертвами мора. Правда, выкосило тогда больше детей и старух, а сам он чудом остался жив – отпаивали бульоном, горькими кореньями, привязывали к горлу липкую, затхло смердящую тряпицу.
Ведь пройдет же война – когда-то пройдет, – и яму сровняют с землей, и никто не вспомнит о погребенных здесь сотнях безвестных людей, сраженных болезнью. Нужно непременно поставить таблички, чтобы не смели ни распахивать, ни разрывать это место.
Сергеев думал о блестящих на степном солнце табличках. Пускай они будут сделаны из металла. Или нет, пусть это будут зеркала, сразу ослепляющие прохожего человека, чтобы обязательно обратил внимание, – а на зеркалах красной, густой как венозная кровь, краской, написано…
Сергеев снова подумал о том, смог бы он работать кладбищенским сторожем. Раньше эта мысль была неприятна, ноюща, как ревматическая боль, теперь же представлялась вполне логичной и не вызывала в нем противодействия.
«Страх губит человека, – думал Сергеев, – он парализует, как красные флажки – волка, человек теряет цельность, становится как трещина, и тогда в человека входит смерть. Нужно всегда держать ухо востро, а уж если застигнет гроза, либо драться, либо делать вид, что ты абсолютно ни при чем. Вот, скажем, яма. Что она мне?.. Я мог и не выйти из дома, тем более погода. Сейчас я топчу песок и всех этих безродных мертвецов, – почему? В сущности, я не имею никакого отношения к этой яме, к дождю, ко всем необъяснимым звукам и огонькам. Я случайно, я ни при чем».
Такие мысли успокаивали его – неопределенные мысли, ни о чем: то ли да, то ли нет. Сергеев поднял лицо, чтобы поправить налезающий на глаза брезент… в небе светились три белых огня, два были квадратными, один – круглым, два – больничные окошки, над ними – бледная, томная, болотистая луна.
Это означало, что он вернулся на то же место, с которого начал поиски лестницы. Дьявольщина! Кабы не боль в натруженных ногах, он взъярился, затопал бы, поднимая тучи брызг. Но песок не только затруднял движение, но и сдерживал чрезмерные порывы чувств.
До рассвета – первых его проявлений – белесых полосок на синюшном теле неба – оставалось часа четыре. Он точно схватит простуду, упорный дождь, непрекращающийся, втопчет его в хлябь, как былинного Муромца, – по плечи. Звать на помощь, подвергнуться насмешкам? Сергеев решил: присядет, передохнет чуток, совсем немножко – и еще раз внимательно обойдет яму и разыщет распроклятые ступени. Но теперь он не будет думать, мечтать о чем-то. Он будет полностью сосредоточен.
Сергеев сел на корточки, было трудно, ныла спина, – перенес вес на колени – ничего, что вымокнут штаны, не так уж и холодно! Главное ведь – отдых. Он умышленно отошел подальше от стены: было странно и внушало омерзение прикоснуться к ней спиной. Стена казалась сродни студню и в то же время чем-то живым, опасным. Так внушает отвращение сброшенная кожа змеи, еще хранящая память о своей хозяйке.
Для чего нужны глаза, если все, что можно видеть, – это усыпляющая пелена дождя, серое надоевшее марево? Сторож смежил веки, накидывая брезент так, что он почти касался почвы, получалась словно бы палатка.
Он чувствовал, как постепенно, расползаясь, промокают штаны на коленях, разрастаются островки влаги. Вода, забираясь между мокрой тканью и кожей, льнет холодной ящеркой, пузырится, робко, но настойчиво нащупывает пути возможного продвижения.
С одной стороны, утомленный сторож почти задремал – в его возрасте старикам в эти часы полагается спать, а с другой стороны, он с каким-то самоуничижающим удовлетворением ощущал, как промокает его одежда и стягиваются на коже мурашки – верные вассалы холода. Полуявь, озвученная дождем, убаюкивала его и раздражала, вызывая эмоции капризного ребенка – томное, сладкое недовольство.
Очнулся Сергеев от резкой боли в позвоночнике – будто ледяная спица вонзилась. Потянувшись, обнаружил, что находится по бедра в жидкой, холодной жиже, которую с трудом можно было принять за песок. Он по-собачьи отчаянно, руками расшвырял песок и от испуга сразу поднялся на ноги, чтобы тут же уйти в засасывающую дрянь по колено. Ружья не было ни рядом, ни поблизости. Сергеев сбросил брезентовую накидку, хрипло закричал, как попавший в западню зверь, и кинулся бежать – наугад, не разбирая пути.
Бежать ему не удавалось: при каждом шаге сапоги проваливались со звуком, напоминающим всхлип замешиваемого теста, то по щиколотку, то гораздо выше. Он словно в болото угодил. В довершенье бед сторож заметил, что ливень так размыл почву, что обнажил кое-где тела мертвецов, и теперь он бредет, то и дело натыкаясь на тугой, словно резиновый, труп.
Сергеев беспомощно оглядывался – куда же подевались стены ямы? Повсюду, насколько хватало взгляда, в лунном свете, как на огромной поляне, лоснились спины и животы мертвых. В светло– серой, застиранной добела одежде они напоминали гротескные каменные изваяния, которым кто-то специально старался придать человекообразные черты.
«Если я упаду, – мелькнула отчаянная мысль, – если я сейчас свалюсь с сердечным приступом, то с высоты стану неотличим от прочих тел».
Сергеев представил, как, побежденный усталостью, он ложится и как его постепенно засасывает песок.
– Ненавижу! – сказал громко Сергеев, потрясая кулаком, грозя неизвестно кому. – Ненавижу, ненавижу!
Мертвецы, мерзко раздутые, как тюлени на лежбище. Спины, животы. Пузыри с гнилым газом.
Сергеев панически, до исступления боялся бездействия, словно каждая минута, проведенная им в столбняке, обескровливала его организм, приравнивая к этим.
«Только не здесь, – думал он, – только не с ними. Лучше сдохнуть среди привычных сердцу вещей, среди рухляди, старых пыльных занавесок, в кресле с продранной обивкой».
Надо что-то делать! Нельзя позволить яме себя проглотить!
Превозмогая отвращение, Сергеев начал раскапывать трупы и стаскивать в одно место, образуя из них гору – точно остров среди зыбкого серого песчаного моря. Кожа мертвых, скрипучая, рыхлая, мыльная, выскальзывала из рук сторожа, а дрянная больничная одежонка рвалась. Сергеев катил неповоротливые, несуразные предметы, которые не считал людьми, падал на колени, расплескивая грязь, выкрикивал невнятное, хрипел с натуги, закусив губу, – тела лениво оползали, их невозможно было заставить стать образцовым строительным материалом, им не лежалось в куче, они ползли обратно к земле, из которой только что были извлечены…
Сергеев выдохся не скоро: подстегиваемый страхом, он здорово наворочал – и уселся среди мягких, безвольных телес, наверху, как в гнезде, и сжался комком, накрывшись, как мог, брезентом, мокрым, пропахшим мертвым мясом еще сильнее, чем все вокруг, – будто и сделан был из продубленной шкуры мертвых.
Дождь вошел внутрь Сергеева и остался там. Миазмы обволакивали, туманя мозг, и сторож, не помня себя, с облегчением провалился в яму, которой так долго бежал и которая приняла его в объятия с нежностью курицы, накрывающей душным крылом своего неразумного цыпленка.
– Каюк, – сказал врач, снимая перчатки, розовые от раствора марганцовки. Он осторожно пошевелил ими, следя, чтобы не слиплись пальцы, и положил в бюретку.
– Пару часов, вы думаете? – спросил его молодой веснушчатый ассистент.
– Это в лучшем случае, – сказал врач, рассматривая в зеркале над умывальником нежно лелеемую бородавку на левом крыле носа.
– Славный старик был. Символ, так сказать, заведения.
– И главное – почему же так быстро? – не унимался любопытствующий юнец. – По всем канонам, болезнь должна выждать не меньше двух суток, а тут – бац!
– Оставьте каноны теоретикам, – вздохнул врач, щекоча любимую бородавку кончиком ногтя, длинного, розового, острого, как скальпель, который только что держала эта рука.
– Каждый охотник желает знать… собственно, белая горячка – жуткая вещь. В отдельных случаях она может выступить катализатором кризисного процесса.
– Но он же не пил, – с сомнением возразил веснушчатый, раздумывая, удобно ли будет закурить при старшем товарище.
– Что мы знаем об этом мире? – горестно подражая водевильному тенору, пропел врач, подмигнув своему замутненному отражению. Бородавка согласно качнулась.
Прежде чем отправить в полет своего бывшего напарника, санитар Мирча высморкался и отер нос, прижавшись на миг лицом к костлявому плечу. Других выражений чувств не последовало. По причине скверной погоды возле «козла» находились лишь Мирча и веснушчатый.
– Ну… – сказал Мирча.
– Ага, – подтвердил готовность веснушчатый и столкнул камень. Сергеев и еще два обезжизненных солдата взмыли вверх, взмахнув рукавами-крылами, и упали в грязь.
Яма знала, что все так и будет.
Ведьма
Пришел черный вечер, такой же, как и предыдущий, такой же, как все прочие вечера. Солнце пока не торопится уйти за горизонт, тщательно слизывая розовым языком дворняжки все светлые пятна. Постепенно, неохотно, деревья и дома отдают белое тепло, натягивая на себя свои тени, закутываясь в синевато-серое ОСТЫНЬ.
Время детей заканчивается. Нет, они вовсе не торопятся спать, они визжат и носятся как угорелые, маленькие чертенята, раскаляя асфальт звонким «тра-та-та-та» сандалий. Они стремятся сжечь свою энергию полностью, истратить все до копейки – вся жизнь впереди, незачем экономить. Сейчас, мама, еще минуточку! Наконец, загнанные суровой родительской рукой в дом, неугомоныши успокаиваются, глотают ужин и подзатыльники и уходят в сон, как в прохладную чистую воду, мгновенно, без колебаний.
Настало время взрослых. Они приходят с работы и расслабляются в компании с бутылкой или телевизором, или в ссоре с дражайшей половиной, или в драке с соседом. В сумерках особенно приятно бить морду, синее незаметно на синем, а вся энергия уходящего дня, скопившаяся в кистях рук, требует непременного выхода, напоминая о себе покалыванием в кончиках пальцев. Так хочется ударить чем-нибудь обо что-нибудь – хотя бы костяшками домино об стол! Недаром индийские мудрецы учат, что энергия не должна застаиваться, но должна свободно течь сквозь чакры. В этом залог здоровья и долголетия. Итак, каждый половозрелый член общества имеет возможность вечером отвлечься от ежедневной рутины и предаться любимому хобби.
Тимофеев любил черное. Его излюбленным занятием было наблюдать за тем, как сумерки перекрашивают людей в черный цвет. При этом он искренне верил, что по ночам люди поддаются своей второй, незаметной при дневном свете сущности, отбрасывая в сторону мораль и нормы социума, как змея – старую кожу, и надевают звериную личину. Тимофеев видел черный цвет во всех областях жизни, он жил ради того, чтобы констатировать факты озверения людей. Возвращаясь вечером домой, в тесную однокомнатную квартиру на пятом этаже многоэтажки, где он жил один, Тимофеев весело насвистывал, предвкушая очередное развлечение. Наспех поужинав и смыв с себя грязь, он занимал пост у окна и ждал сумерек. Когда дома окрашивались в темно-лиловый цвет, вот как сейчас, он доставал из шкафа бинокль, хороший, цейсовский, и вглядывался в окна напротив.
Так он узнавал немало интересного о ночной жизни. Ссоры и драки соседей доставляли ему не меньше удовольствия, чем случайно подсмотренные эротические сценки. Своей жизни у него не было, да это было и неважно. Подобно тому, как скальпель хирурга вскрывает белую, гладкую плоть, выпуская наружу поток черной крови и внутренности, Тимофеев обнажал людей, вскрывая их черноту. Иногда ему даже казалось, что его бинокль обладает некой волшебной силой, способной заставлять людей творить такие вещи, на которые они не решились бы при свете дня. Но бывало и по-другому. Тщетно проторчав у окна несколько часов и так и не насытив свое любопытство подходящими сценами, Тимофеев мрачнел и ложился спать в прескверном расположении духа. Когда же ему везло и он мог лицезреть жестокую или непристойную картину человеческих страстей, Тимофеев так и лучился счастьем.
Конечно, так было не всегда. Когда-то давно у него была семья, были друзья, но все это облетело, как пух с тополей. В конце концов остались лишь ночные бдения у окна с биноклем в руках, своего рода рыбалка. Долгое ожидание поклева, и вот – о, радость! Рыбка дергает леску! Муж– пропойца ли лупит бедную жену, или страстная парочка в экстазе сверкает голыми сплетенными телами – его устраивало все.
«Попались, голубчики», – мурлыкал Тимофеев, пожирая глазами окна дома напротив. Бинокль чудесным образом приближал картинки чужой жизни, выхватывая из мозаики окон отдельные фрагменты. Вначале Тимофеев с нежностью проходил взглядом по любимым окнам, которые знал наперечет. Затем старательно вглядывался в малознакомые, те, где он редко видел людей или же не видел никогда.
Как старательная пчела облетает все цветы на лугу, кропотливо собирает нектар, уделяя внимание и ярким красавцам с пышными бутонами, и их более скромным собратьям, так и он не пропускал ни одного окна, надеясь на удачу.
Сегодня ему везло. В доме напротив, на четвертом этаже, загорелся свет. Насколько он помнил, в этих окнах никогда никого не было. Окна постоянно были зашторены, лишь нечеткие тени порой двигались за занавеской.
Тимофеев слегка напрягся, как собака перед броском, его пульс участился. Окно не было зашторено! В ярко освещенную комнату вошли две девушки, блондинка и брюнетка. Настоящие красавицы, и одеты просто шикарно. Брюнетка оглянулась и поманила кого-то рукой. В комнату вошла еще одна девушка, светленькая, с короткой челкой. В отличие от подруг, она была одета скромнее и накрашена не так вызывающе.
Брюнетка-хохотушка так и порхала вокруг своей гостьи, помогая той снять верхнюю одежду, а блондинка тем временем отодвинула стол, загораживающий Тимофееву обзор. «Умница, девочка», – одобрил он. Оставшись в простеньком синем платье, девушка пригладила волосы рукой и робко что-то сказала. Было видно, что она немного стесняется, так скованно и несмело она держалась. Блондинка подошла к ней, ласково положила руку на плечо и внезапно поцеловала, сильно и страстно прижимаясь ртом к губам девушки. С этого момента они забыли обо всем: целовались и самозабвенно ласкали друг друга. Брюнетка тоже не тратила время даром. Зайдя сзади, она принялась расстегивать платье подруги.
«Повезло мне», – подумал Тимофеев, удобно разваливаясь на стуле.
Девушка с челкой не смогла устоять под таким страстным напором, ее васильковое платье было сброшено вниз и отброшено в сторону. Следом полетели лифчик и трусики. Однако сами девушки, раздев подругу, не спешили раздеваться, что показалось Тимофееву немного странным. Осыпаемая щедрыми ласками, девушка опустилась на ковер, а блондинка легла сверху, покрывая поцелуями каждый сантиметр ее прекрасного тела, стала медленно опускаться вниз, от грудей к пупку. Наконец, ее голова очутилась между бедер девушки. Было видно, что та откровенно наслаждалась, – лицо ее сильно раскраснелось, волосы разметались по полу. Брюнетка же страстно целовала красавицу в губы, лаская ее маленькую грудь рукой, стоя над девушкой на коленях.
От этого зрелища Тимофеева кинуло в жар. Не отрывая взгляда от заветного окна, он стал расстегивать ворот рубашки, его дыхание участилось. Между тем лежащая на ковре девушка приближалась к пику наслаждения – вцепившись в волосы блондинки, она кричала во весь голос, исступленно мотая головой в разные стороны. Брюнетка с удовлетворением смотрела на свою подругу. Внезапно девушка дернулась всем телом и сильно прогнулась в пояснице – она достигла оргазма. Брюнетка улыбнулась, сверкнув ослепительно белыми зубами, и устремилась вниз, к лицу девушки, накрыв его своими длинными волосами. Тело девушки отчаянно задергалось, стуча по полу руками и ногами. Затем безвольно замерло.
Брюнетка оторвалась, наконец, от своей любовницы и подняла голову. С нескрываемым удивлением Тимофеев увидел, что лицо ее испачкано чем-то красным, а изо рта свисает нечто розовое, извивающееся червем.
Брюнетка перегрызла горло своей любовнице.
Тимофеев почувствовал, что по спине прошел ледяной ветер и волосы на голове зашевелились. Блондинка поднялась с колен и поправила юбку. Ее лицо тоже было в крови. Хихикая, она приблизилась к брюнетке и поцеловала ее. Девушки накинулись на бездыханное тело и стали рвать его зубами.
Тимофеев сидел ни жив ни мертв.
Или это только показалось ему, или на самом деле лица девушек изменились. Они стали плавиться, словно воск, карикатурно вытягиваться, трансформироваться во что-то странное. Большие темные глаза брюнетки стали маленькими, похожими на капельки, волосы торчали во все стороны, как иглы дикобраза, жесткие, щетинистые. Рот вместе с нижней челюстью выдвинулся далеко вперед, превращаясь в пасть с мелкими острыми зубами, между ними проворно мелькал розовый, раздвоенный на конце язычок, а нос провалился, остались только две дырки, поросшие белесыми волосками, напоминающими плесень.
Метаморфоза, происходящая с блондинкой, была прямо противоположна той, что случилась с брюнеткой, но не менее чудовищна. Ее лицо тоже вытянулось, удлинилось, при этом кожа сильно натянулась и заблестела, будто жиром смазанная. Подбородок девушки съежился, собрался в складки, а затем и вовсе исчез, исчезли рот и нос, а глаза выкатились вперед и выдвинулись наружу на тонких бледных стебельках, как у краба. Из середины того, что раньше было девичьим лицом, начал быстро расти покрытый мелкими струпьями отросток, все больше и больше походивший на хобот слона в миниатюре. Из отверстия на конце хобота торчали, шевелились короткие зеленоватые трубки.
Девушка-крыса и девушка-насекомое пировали, погружая руки и пасти в растерзанную плоть несчастной жертвы. Их рыла ходили ходуном, пережевывая, перемалывая, перетирая человеческое мясо.
Тимофеев закричал. Он закричал беззвучно, не раскрывая рта, но так отчаянно, что стекла в его окне и окнах напротив наверняка повылетали бы, если бы он кричал вслух. Твари в окне напротив замерли. Затем они, как по команде, подняли головы и уставились на Тимофеева. Их глаза встретились.
В этот миг он испытал такой ужас, какой ему не доводилось испытывать никогда прежде. Тимофеев почувствовал, что сердце его оборвалось и упало куда-то вниз, как камешек в воду. Сосущие глаза тварей впились в него и держали цепко, не выпуская ни на мгновение.
Холодно.
Он попытался оторвать взгляд, пошевелиться, собраться с силами, но ощутил лишь холод в позвоночнике. Медленно, очень медленно, словно в замедленной съемке, одна из кошмарных тварей повернула рыло к другой и что-то произнесла. Блондинистая тварь ухмыльнулась и кивнула головой, соглашаясь. Она подошла вплотную к окну, причем ее мерзкая морда снова превратилась в обычное девичье лицо, и прижалась к стеклу губами, скользкими от крови, в насмешливо-издевательском жесте. На стекле остался кровавый отпечаток.
Чудовища отвернулись от окна, утратив всякий интерес к еде, и исчезли в глубине квартиры. Направляясь к выходу, они прошли прямо по телу, как по куче мусора; при этом правый каблук брюнетки на миг зацепился за порванную губу мертвой девушки. Брюнетка раздраженно дернулась, высвободив туфлю из плена, за ней потянулась крохотная нитка кровавой слизи. Дверь закрылась. Свет погас.
Тимофеев испытал небывалое облегчение.
«Ф-ф-ф-т-ф-т-ч-ш-ш-ш…» – воздух с глухим шумом вырвался из его легких, словно из меха волынки. Оказывается, все это время он просидел, затаив дыхание. Он отнял бинокль от глаз и замер в оцепенении, шокированный увиденным. Потом вновь поднес бинокль к глазам (и ему было страшно, впервые за всю его жизнь страшно подглядывать за кем-то), навел на те самые окна. Темно.
Траектория его взгляда сместилась вниз, описывая длинную дугу, скользнула по соседним окнам, по окнам нижних этажей. Затем он взглянул во двор, привстав со стула и собираясь отложить бинокль. О Боже! От ужаса его волосы приподнялись, как трава под ветром. Блондинка и брюнетка вышли из подъезда соседского дома и шли по направлению к его дому. Они держались за руки, как школьницы, и в этом заговорщицком жесте Тимофеев усмотрел угрозу. Торжествующую ухмылку кошки, разкогтившей пойманную мышь по полу перед тем как полакомиться пойманной добычей.
БЕЖАТЬ!!!
Времени на раздумья или сомнения у него не осталось. Он превратился в амебу, безмозглую малютку, стремящуюся выжить. Сознание странно раздвоилось, теперь внутри у него жили два человека: первый – жалкий, испуганный ребенок, и второй – решительный, быстрый, одним словом, боец. В то время как первый трясся от страха, пытаясь спрятаться в каком-нибудь темном уголке, второй требовал решительных действий. Под его влиянием Тимофеев бросился в кухню, схватил коробку спичек и нож, побежал в прихожую, накинул плащ, шляпу на голову, надел ботинки, даже не застегивая их на молнию, и выбежал из квартиры.
Вернулся, побежал в спальню, открыл тумбочку, выгреб оттуда все имеющиеся в наличии деньги, рассовал их по карманам плаща, комкая как попало. В голове тикали часы, торопя, подгоняя его. Он выбежал из квартиры, не закрыв дверей. На лестничной площадке остановился и прислушался. И услышал ИХ. Они поднимались вверх не спеша, уверенные в том, что ему некуда деться. Тимофеев затаил дыхание и, крадучись, скользнул к лифту. В лифте уже кто-то ехал, кнопка светилась ровным белым светом. Не успеть! Он устремился вверх по лестнице, тихо-тихо, чуть ли не ползком. Взбежав на верхний этаж, он прижался спиной к колонне мусоропровода и попытался задержать дыхание. Это ему почти удалось, но сердце в груди билось очень сильно, так и норовя выскочить наружу. Тимофееву казалось, что его предательский стук способен привлечь к нему адских тварей, что они могут услышать его, почувствовать вибрацию, распространяемую биением сердца насмерть перепуганного человека, как тараканы чувствуют человеческие шаги.
Звук шагов приближался. Вот он уже рядом. Тимофеев закрыл глаза и молча взмолился. Его мольба была подобна яркой белой вспышке, острой эмоциональной молнией пронзившей тело и унесшейся куда-то ввысь. Шаги на нижней лестничной площадке. Шаги приблизились к двери. Его двери.
Скрип петель, знакомый до дрожи. Монстры вошли внутрь.
Тимофеев сорвался с места, как хороший спринтер. Перепрыгивая через ступеньки, напрочь забыв о боли в сердце и прерывистом дыхании, он устремился вниз, к выходу из подъезда, и лестничные пролеты мелькали в его глазах серыми зигзагами. Почти выбив дверь, Тимофеев выбежал из подъезда, перепугав охнувшую старушку-соседку, и бросился наутек. Он знал, он ощущал спиной задумчивый взгляд, которым его проводили разочарованные охотницы. Он почти не сомневался, что, обернувшись, увидит их лица в окне своей квартиры, поэтому улепетывал во все лопатки.
За прямоугольником десятиэтажных домов, составляющих двор, ставший свидетелем драмы, располагался небольшой базарчик, робко прилепившийся к трамвайному кольцу. Здесь была конечная остановка, а рядом, в двух шагах, пролегла автотрасса. Днем машины шли непрерывным потоком, зато ночью движение почти прекращалось. Тимофеев вырвался из объятий двора, пегой растрепанной птицей пролетел по базарчику, забавляя прохожих искаженным от страха лицом и развевающимся за спиной плащом, который он не потрудился застегнуть. Улучив подходящий момент, пробежал сквозь поток машин и через дворы, через соседнюю улицу выбрался на проспект Космонавтов. Памятник Космонавтам, гигантская гранитная глыба, из которой торчали исполинские лица в шарообразных шлемах, располагался напротив троллейбусной остановки. Слабо соображая, что именно он делает и зачем, Тимофеев вскочил в подошедший троллейбус, встал в угол, цепко держась за поручень. От окружающих несло потом, уютная говорливая толпа чуть покачивалась, и ее грубое тепло чуть успокоило Тимофеева. Он проехал с десяток остановок и почти созрел для того, чтобы привести мысли в порядок. Случайно взгляд его наткнулся на девушку, сидящую в метре от него на заднем сидении.
Девушка, явно студентка, ехала из института домой. Клетчатая сумка на коленях, раскрытый конспект с паучками формул, толстая коричневая коса, усталые глаза за стеклами очков. Типичная студентка. Она сняла очки, выудила из кармашка сумки пестрый платок и бережно протерла стекла. Подняла глаза на Тимофеева и, поймав его изучающий взгляд, улыбнулась в ответ.
Ее улыбка была подобна смраду из распахнутой пасти дикого зверя.
«Вот ты где, стервец! Попался!» – сказала ее улыбка. Девушка ме-е-е-едленно опустила очки на кончик носа, словно издеваясь над ним, а потом все так же неторопливо высунула кончик языка и облизнула верхнюю губу. Это был спектакль для одного – никто из попутчиков ничего не заметил. Тимофеев в ужасе уставился на девушку, а та снова улыбнулась.
«Ну и что ты теперь будешь делать?» – сказала ее улыбка. Бледный как мел Тимофеев поспешил к дверям, расталкивая людей. Выйдя из троллейбуса, он беспомощно оглянулся, ожидая, что девушка-оборотень выйдет вслед за ним. Но этого не произошло. Он стоял совсем один на незнакомой пустой остановке, холодный осенний ветер осторожно обнял его тело, подержал в объятиях и отпустил, погнавшись за увядшими листьями.
Куда идти? Где искать убежища? Часов у Тимофеева не было, но он и так знал, что сейчас около девяти вечера. Если эти твари сумели его выследить, каким-то образом перевоплотившись в обычную, ничем не примечательную девчонку, они могут найти его еще раз. И снова. И еще. Кошки-мышки. Это сравнение вновь пришло ему в голову. «Они доведут меня до крайней степени отчаяния, измотают до предела, отравят мой мозг непереносимым ужасом, а затем, загнав в угол, как больную обессилевшую крысу, сожрут, чавкая и жмурясь от наслаждения. Адские твари. Ведьмы».
Как бы то ни было, нельзя стоять на месте. Если усталый мозг отказывался служить своему хозяину, то ноги пока что были в порядке. Он двинулся навстречу огням, туда, где сверкали витрины магазинов и зажигались первые фонари. Деревья проводили его чуть слышным шелестом, в котором Тимофееву слышалось предостережение. Ему хотелось сейчас быть в толпе, оказаться среди людей, затеряться в безликой массе, равнодушном теле тысячеглазой инфузории. Но, вспомнив, с какой легкостью ведьмы выследили его в троллейбусе, он раздумал.
В бытность студентом Тимофеев с удовольствием посещал занятия по психологии, поэтому знал, что на смену любому, самому яркому всплеску эмоций неизбежно приходит апатия. Несколько минут (или часов?) назад ему отчаянно хотелось действовать, бежать, прятаться, инстинкт самосохранения непрерывно подталкивал его, сжимая сердце в груди холодными тисками отчаяния. А теперь – все, как отрезало. Походка отяжелела, накатила усталость. Он рад был бы просто сесть на скамейку в парке и сидеть, пока неведомые хищницы не найдут его. Тимофеев отчетливо представил, как садится на скамейку, по щиколотку утопая в сухих листьях, и закрывает глаза в ожидании смерти. Теплые пульсирующие толчки крови успокаивают, принося желанное забвение, это будет похоже на плеск волн, или как если бы лежать в ванной, расслабившись, и тогда, быть может, он даже не заметит, как придут охотницы, не услышит, как приглушенно чвакнет его перегрызенное горло, или позвоночник хрустнет и взорвется короткой и окончательной вспышкой боли, сломавшись под ударом когтистой лапы.
Но вот беда – он был реалистом. Накопившийся за долгие годы пессимизм, разбросанный по всем потайным местечкам его мозга, не давал ему никакой возможности расслабиться. Легкой смерти не будет. Смерть вообще не бывает легкой. Они будут играть с ним долго, умерщвляя по частям. Так и будет.
Тимофеев поймал себя на мысли, что эти незнакомые улицы, по которым он плутал, все же чем-то смутно знакомы ему. Ощущение дежа вю было настолько ярким, что он приостановился, и оторопело покрутил головой. Овощной магазин, аптека, частный лицей, затем – подъезд жилого дома, опять магазин, на этот раз обувной. «Сейчас будет церковь», – подумал Тимофеев. Свернув за угол, он увидел ее. Лепные ангелы на стене, укрытые за металлической оградой, простирали руки вверх, один держал арфу, другой – трубу. Под самым куполом узким причудливым шрифтом шла надпись «Церковь Воскресения Господня». Тимофеев испытал чувство, подобное тому, что испытывает команда корабля, завидев порт. Он поспешил к воротам, переходя с торопливого шага на бег. Уж в церкви-то проклятые твари его не достанут! Он схватился за оградку и толкнул дверь. Напрасно. Церковь была заперта. Внутри него все сжалось от разочарования, а где-то на периферии сознания, глубоко внутри, раздался насмешливый хохот. Не то чтобы громкий хохот, а так, злобное ехидное хихиканье. Даже лепные ангелы, казалось, глядели на него с сожалением, как врач на тяжелобольного, обреченного на смерть пациента.
«Сейчас девять часов вечера», – подумал он. Конечно же, служба давно закончилась и все разошлись по домам. Если вдуматься, просто удивительно, насколько хрупкой оказывается на поверку человеческая жизнь. Кажется, что твой дом надежен, и само течение судьбы неизменно. И вдруг один случайный взгляд в чужое окно разрушает до основания все, привычное тебе. Твое мировоззрение, твой способ жить, установившийся за много лет, оказывается под угрозой. Какие-то пятнадцать минут – и у тебя нет больше дома, нет крова, нет чувства защищенности. Твоя жизнь под угрозой! После долгих лет покоя внезапно оказаться висящим на волоске над пропастью! Не каждая нервная система в состоянии вынести такое.
Тимофеев с удивлением отметил, что думает о себе, как о постороннем человеке, отвлеченно. Казалось бы, не время философствовать, надо делать ноги! Его взгляд остановился на ладонях. Оказывается, все это время он стоял, крепко вцепившись в церковную решетку обеими руками. С трудом заставив себя разжать пальцы, он побрел прочь, уныло опустив голову.
«Эй, парниша!» – чьи-то цепкие пальцы ухватили его за локоть. С остановившимся сердцем Тимофеев оглянулся. Маленькая старушонка, росточком чуть выше метра, стояла рядом, широко улыбаясь.
– Вам чего, бабушка?
– А мне-то ничего, милок. Тебе чего, – смешно залопотала бабуля.
При этом она переминалась с ноги на ногу и непрерывно перебирала пальцами свободной руки, словно лепила из воздуха фигуры. Второй рукой она продолжала держать его за локоть.
«Маленькая, а хватка какая!» – подумал Тимофеев. И внезапно догадался: юродивая. Мало ли их вокруг церквей ошивается!
– Ты туда не ходи, – лопотала старушка, – ты там ничего не найдешь. Ты иди назад, закол ищи.
– Какой еще закол?
– Закол-засов, от нечистой затвор. Ночная птица порог стережет, тропу охраняет. Окрест трех дорог сидит, беду прочь гонит. Сыщи ту птицу, заколи сердце, вот тебе и облегчение выйдет.
– Что-то я не пойму, бабка, – рассердился Тимофеев. – Какой засов? Какая птица! Ты лучше скажи, как от ведьмы уйти!
Старушка всплеснула пухлыми ладошками и звонко расхохоталась. Давясь от безудержного смеха, пуская пузыри беззубым ртом, она проговорила:
– Уйти – не уйти! Не будет тебе пути! Птицу ищи! Ведьмин отворот!
Покрутив пальцем у виска, Тимофеев вырвался и поспешил прочь от полоумной старухи. А та, сухонькая, сморщенная бестия, долго еще хохотала вслед. И закричала:
– Беги! Беги! Ведьмин гон!
Тимофеев прошел по запыленной тесной улочке, внутренне поеживаясь от обилия освещенных окон, за которыми шла своя жизнь, где знать не знали о его существовании и не думали ни о каких ужасах, ни о каких ведьмах, разрывающих людей на куски. Никто не выглядывал на улицу, никто не прижимался к стеклу окровавленными губами.
– Листья засохнут и в топках сгорают, – сказал сам себе Тимофеев. – А я умру, и никто не узнает.
За этой улочкой была другая, такая же пыльная и чужая. Потом он вышел на проспект, слепящий мириадами огней витрин и проносящихся мимо машин. Витрины зазывали покупателей громкими названиями иностранных фирм, предлагая все мыслимые наслаждения. Дверь ближайшего магазина отворилась, окунув его в запах кондитерской, щекочущий ноздри, сладкий запах конфет. Жадно, по-детски вдохнув воздух, наполненный карамельками, Тимофеев прошел мимо.
«Электротовары». «Ювелирный магазин». «Одежда, обувь, меха». За прозрачным стеклом печально поводили усами морские жители – рыбная лавка.
«Инопланетяне, как и я», – подумал Тимофеев. Такие же испуганные и бездомные, в ожидании, пока их съедят. Он ускорил шаг. «Универмаг». «Спорттовары». Безразличные манекены провожали его гипсовыми взглядами. Едва не наткнувшись на невесть откуда взявшийся газетный киоск, он остановился, разглядывая яркие обложки журналов и крикливые заголовки газет. Глаза бесцельно скользили по строчкам, нимало не заботясь о смысле прочитанного. В одном из журналов, кажется, это был Harpers Bazaar, он увидел женское лицо потрясающей красоты. Изысканная блондинка в серебристой лисьей шубе сверкала глазами-изумрудами, лукаво улыбаясь. Эта улыбка ему не понравилась. Где-то он уже видел такую улыбку. Улыбку окровавленных губ за стеклом. Надпись под фотографией гласила: «Тебе не уйти, милый!»
«Это мы посмотрим», – сказал себе Тимофеев и двинулся дальше.
Следующий магазин, а точнее магазинчик, был таким маленьким и неприметным, что он сначала прошел мимо. Но вернулся. «Филателия». От этого названия повеяло чем-то детским, сокровенным, давно забытым. Он вспомнил, как тысячу лет назад уже стоял, склонившись над застекленным прилавком, и с восторгом рассматривал разноцветные прямоугольники сквозь толстую лупу, завидуя кудеснику-продавцу, обладателю несметных сокровищ. Маленькие кусочки бумаги имели таинственную власть над пространством и временем. Они преодолевали сотни и тысячи километров, наклеенные на конверты, и все дороги мира были им нипочем. В детстве у него было три альбома с марками, которые потом куда-то делись. Толстые картонные страницы заполняли космонавты и пираты, танки и корабли, и много, много людей, занятых своими делами, независимо от того, были ли они в напудренных париках или же в рабочих робах. Сглотнув ком в горле, Тимофеев толкнул дверь и вошел внутрь. Пожилой продавец с неприязнью взглянул на позднего посетителя и буркнул: «Через десять минут магазин закрывается».
– Я ненадолго, – сказал Тимофеев, подходя к прилавку.
Магазинчик был невелик, но очень мил. Стены позади прилавка были задрапированы светлой тканью с изображением птиц, сидящих на ветках. «В июльскую жару, когда двери распахнуты настежь и теплый ветер от старенького вентилятора гуляет по помещению, птицы, должно быть, колышутся, вздрагивают на ветках, как живые, – подумал Тимофеев. – Если еще поставить пластинку с птичьим щебетом, будет просто класс. А впрочем, нет. Покупатель тут серьезный, дотошный, и птичий гам будет отвлекать посетителей». Он внимательно рассматривал марки, как отдельные, так и целые блоки, выискивая что-нибудь оригинальное. Марки были обычные, ничем не примечательные, хотя пару раз ему попадались действительно любопытные экземпляры.
– Приходите завтра, – предложил продавец. – Во второй половине дня будут новые поступления.
– Угу, – сказал Тимофеев, продолжая шарить глазами по прилавку.
В следующем отделении были выставлены значки. Неужели их кто-то еще собирает? Бесконечные профили Ленина, гербы городов, символика спортивных клубов, звери. На одном из значков взгляд Тимофеева задержался. Он присмотрелся внимательней и почувствовал холодок между лопатками, увидев дорожный указатель с тремя стрелками, а под ним – угрюмый филин на темно-красном фоне. Под филином узкой змейкой вилась полуистертая надпись, гласившая: «От ворот поворот».
– Я куплю этот значок, – дрогнувшим голосом сказал Тимофеев.
– Который? Вот этот? – продавец склонился над стеклом.
– Бросьте! Это дрянь. Глупая картинка. Вот завтра будет действительно хороший товар! Приходите завтра, и увидите.
– Нет, я хочу этот.
Тимофеев не хотел расставаться со значком, а в ушах стоял хохот старушки: «закол-засов, от нечистой затвор».
– Что ж, берите что хотите. Мне-то все равно. С вас пятьдесят четыре копейки.
Не отрывая взгляда от находки, Тимофеев вытащил из кармана мятую бумажку, не глядя, протянул продавцу.
– А помельче денег нет? Я не найду сдачи.
– Помельче нет, – выговорил Тимофеев, двигая ртом, как автомат.
– Разменяйте. А лучше – приходите завтра. Завтра он точно здесь будет, я вам обещаю.
– Нет! – воскликнул в отчаянии Тимофеев. – Нет, мне сейчас нужно, мне очень нужно сейчас, вы поймите!
– Ну ладно, – опешил продавец. – Берите так, деньги занесете после.
– Да, я помню, пятьдесят четыре копейки, спасибо, – он схватил значок и выскочил из магазина. Продавец только озадаченно хмыкнул и запер двери.
Очутившись на улице, Тимофеев первым делом подошел к ближайшей витрине, распахнул плащ и в лучах белого света приколол значок на рубашку, напротив сердца. Теперь он чувствовал себя гораздо лучше. От старого значка странным, непостижимым образом распространялось волшебное тепло, несущее уверенность и силу.
Сейчас он был готов ко всему. Даже вернуться домой и встретиться лицом к лицу с адскими тварями. Но делать это вот так, сразу, не хотелось, а хотелось праздника, хотелось пойти к людям, затесаться в толпу, съесть мороженое, прокатиться на карусели, хотелось стать ребенком хоть на полчаса. В душе поднималось большое и сильное чувство, неописуемое обычными словами. Может быть, ликование? Торжество? Не колеблясь более, Тимофеев вскинул руку, призывая свободное такси. Через несколько минут он был уже на центральной площади, где как раз гостил чешский «Луна-парк». Народа было не много, по причине позднего часа. Тимофеев купил палочку сладкой ваты и билет на колесо обозрения, а также на карусель. Пряный ветер балагана закружил его, дразня цветными огнями и громкой музыкой, льющейся из репродукторов. Полчаса счастья, что пронеслись единым мигом, были съедены им без остатка, как сахарная вата. Голос из репродуктора с сожалением объявил о закрытии парка, пообещав, что завтра с утра парк вновь раскроет объятия желанным гостям. Тимофеев пошел по направлению к аллеям, примыкавшим к площади.
– Здравствуй, милый! – из темноты неожиданно выплыла блондинка, запомнившаяся Тимофееву длинным белесым хоботом с копошащимися внутри червями.
Блондинка сделала шаг вперед, перегородив ему дорогу. Он отступил назад и оглянулся. Так и есть – в двух метрах позади него стояла, плотоядно улыбаясь, брюнетка.
– А ты заставил нас побегать, красавчик, – сказала брюнетка. – Любишь азартные игры?
– Сейчас мы с тобой поиграем в одну игру, – подхватила блондинка. – Она называется «последний поцелуй». Что скажешь, дурачок?
– Плохих мальчиков надо наказывать. Плохих мальчиков, которые подсматривают за девочками. Которые суют нос в чужие дела, – наставительно сказала брюнетка.
Девицы рассмеялись.
Их голоса вызывали отвращение. Они были похожи на магнитофонную запись, сделанную на плохой пленке и воспроизведенную затем на дешевом аппарате китайского производства. Совершенно неживые голоса.
Внезапно блондинка метнулась вперед и, вцепившись в ворот плаща, тряхнула Тимофеева, как собака тряпку. Пуговицы разлетелись во все стороны, зубы громко клацнули, к лицу прихлынула кровь.
– Ты, падаль, думал сбежать от нас?
Сила ее рук была просто нечеловеческой. Скрюченные пальцы напоминали своей твердостью деревянные бруски, зеленые глаза метали молнии. Небрежным движением откинув полу его плаща, она протянула лапу (по-другому не скажешь) и цапнула его за грудь. «Сейчас она вырвет мне сердце», – подумалось Тимофееву.
С громким шипением и визгом, словно ошпаренная кошка, ведьма отшатнулась от него, нелепо взмахнув руками и едва-едва устояв на ногах. «Ага, тварь! Дотронулась до значка!»
– Что за черт! Откуда… ты… взял…
Сам себе удивляясь, Тимофеев шагнул к блондинке, корчащейся в бессильной ярости, и громко произнес:
– Вон! Убирайся прочь! От ворот – поворот!
Что-то захлопало, засвистело в сгустившемся воздухе. Блондинистая тварь закричала тонко и пронзительно, как ребенок. Тимофеев мог бы поклясться, что видел, как откуда-то извне, из ничего, возникло на миг гигантское пестрое крыло и хлестнуло ее по лицу. В следующее мгновение она уже убегала прочь по боковой аллее в сторону парка, пытаясь укрыться в темноте, а следом неспешно двигалась, скользя по асфальту, зловещая тень, тень огромной птицы.
Тимофеев не стал оглядываться. Он был уверен, что брюнетка испарилась еще быстрее, чем ее подруга. «Ты пожалеешь! Очень пожалеешь!» – донеслось из-за деревьев. А может быть, просто разыгралось воображение.
Он очень устал. Холодно. Запахнул плащ, с сожалением подумав об оторванных пуговицах, и отправился восвояси. Свобода, слово со вкусом сахарной ваты, медленно таяло на языке. Редкие прохожие, попадающиеся на его пути, суетливыми муравьями мелькали мимо, возвращаясь домой, к семье и детям. Старые деревья с шершавыми стволами, молчаливые великаны, были равнодушны и величавы. Все это: ночь, капельки-звезды, деревья и прохожие – было бы похоже на старую декорацию, украшающую последний акт пьесы (таким нелепым и ненатуральным казалось ему все это), если бы не ветер, холодный, пробирающий до костей. Ветер, единственная черта реальности в этом театре абсурда.
Он долго ждал троллейбуса. А может быть, десять минут. Он сильно продрог. И вот, когда троллейбус показался из-за поворота, Тимофеев услышал за спиной мужской голос.
– Эй, уважаемый.
Он обернулся. Два милиционера, один совсем молоденький, с наглым лицом, и второй, старше и выше первого на две головы, с тяжелым взглядом страдающего запором человека, глядели на него с интересом.
– Чем могу быть полезен? – спросил Тимофеев, удивившись такому повороту событий.
– Предъявите ваши документы.
– У меня их нет. Видите ли, – развел руками Тимофеев, – выскочил в спешке из дома, вот и… забыл.
– Он забыл! – подмигнул товарищу молоденький.
– Встаньте, уважаемый, возле стенки, – указал старший коп. – И расстегните плащ.
– Зачем?
– Давай-давай, мужик, без разговоров, – грубо процедил младший коп, хлопнув его по плечу.
Тимофеев повиновался. Прижавшись спиной к стеклянной раме, ограждающей остановку, он распахнул плащ. Милиционеры тщательно обыскали его, вытащили из кармана кухонный нож. В их взглядах читалось усталое удовлетворение, словно они увидели то, что ожидали увидеть.
– Гляди-ка, еще один забулдыга, – хмыкнул молодой. – Берем, сержант?
– Вы ошибаетесь, – растерялся Тимофеев. – Я вовсе не…
– Что же ты, уважаемый, всегда гуляешь с ножом в кармане? – спросил старший коп. – А пуговицы от плаща дома забыл?
– Вы не понимаете, – попытался возразить Тимофеев. – Я не бродяга, я только…
– Степаныч, он нас дураками обозвал! – повеселел молодой хам. – Не понимаем, говорит, мы ни черта!
– Бери голубчика. Там разберемся, – сказал Степаныч.
Тимофеев поднял руку, протестуя, но удар дубинкой в пах, а затем по голове развеял все его возражения.
В полубессознательном состоянии – кажется, его били ногами, а потом волокли под руки, кажется, он вяло сопротивлялся, – Тимофеев в конце концов очнулся в камере. Он находился в сыром помещении подвального типа, где по стенам, испещренным непристойными надписями, стекали капли воды, где пахло плесенью, а в грязном толчке что-то копошилось, где в раковине был оторван кран, и невозможно было открыть воду. Черные точки, назойливо рябящие в глазах, вращались все медленнее, пока Тимофеев приспосабливался к своему новому состоянию, лежа на жесткой скамье. Все тело жутко болело, он чувствовал себя совсем старым и лежал, боясь пошевелиться, чтобы не вызвать новый приступ боли. Скомканный грязный плащ, который, по-видимому, с него сорвали, валялся в углу кучей тряпья.
Ему было паршиво.
Медленно-медленно он пошевелил рукой, затем приблизил руку к лицу. Осторожно ощупал свою физиономию. Правый глаз опух и почти закрылся. Губы ссохлись и покрылись коркой – должно быть, разбиты в кровь. Тимофеев со вздохом уронил руку на грудь. И вскрикнул от испуга – вместо тяжести железного значка пальцы нащупали дыру. Дыра в рубахе. Моментально забыв о боли, не думая ни о чем, кроме значка, он вскочил с нар и затравленно огляделся по сторонам. Где может быть значок? Он встал на четвереньки и заглянул под нары. Он обошел камеру несколько раз, обшарил все углы, поискал под плащом, заглянул в раковину и даже в унитаз, от одного вида которого его затошнило. Он шарил в карманах, выворачивая их наизнанку, он разулся до носков и обследовал пустые ботинки, словно значок каким-то диким образом мог туда завалиться. Размазывая по лицу слезы отчаяния, он схватил плащ и стал трясти его в надежде, что значок мог оказаться за подкладкой.
Ничего. Значок испарился. Должно быть, обозленные менты в драке оторвали его и вышвырнули. Сквозь безобразные прутья решетки показалась луна, ядовито подмигивая Тимофееву желтым глазом. Он осиротело опустился на нары, поджав под себя ногу, и впал в ступор. Скорчившись в немом горе, его тело в темноте было похоже на большую куклу-манекен, брошенную в спешке беспечным ребенком. Ощущение безысходности, тоски и бессилия окутало его сердце плотным саваном, сквозь который никакие другие чувства не в состоянии были пробиться. Он долго сидел, дыша сквозь стиснутые зубы, то ли грезя, то ли бодрствуя, пока саван не покрылся паутиной трещин, через которые, подобно сорной траве, просочилось новое ощущение. Тело вдруг стало покалывать все сильнее и сильнее. Сотни иголок выпустили стальные жала, пробуя его плоть на вкус. Ему стало жарко, кожа горела огнем. Тимофеев вскочил со своего ложа и подошел к умывальнику, подергал за трубу. Черт, ни капли воды! Кожа продолжала гореть и вдобавок начала чесаться. Вскоре зуд стал нестерпимым. Тимофеев яростно скреб себя под мышками, расчесывал грудь, терся спиной о стену.
«Я болен. Это проказа, лихорадка. Временное помутнение рассудка, возникшее под влиянием стресса. Враг внутри меня. Глубоко внутри».
– Эй, кто-нибудь! Откройте! Мне нужен врач! – его кулаки забарабанили в железную дверь.
Но было уже поздно. Луна с сожалением наблюдала, как человек превращается в животное. Тяжелая теплая волна прилила к его глазам, почти выдавив глазные яблоки из орбит. Ногти скрюченных, сведенных в судороге пальцев разорвали рубашку и теперь с наслаждением рвали кожу на лице, груди, животе. Кровь разлеталась в стороны щедрыми брызгами, как если бы безумный художник размахивал кистью направо и налево, пачкая стены. Кожа лопалась и сползала с разгоряченного неведомым азартом тела неохотно, но содрать ее было необходимо! Ведь то, что рождалось под кожей, вылуплялось из него, как цыпленок из яйца, было больше и выше всех запретов и преград.
Ведьмин гон. Черная радость.
Он чувствовал, как в каждой клеточке его обновленного тела бурлит и клокочет то, что он пытался остановить, то, что уже готово было родиться и поглотить его, подмять под себя весь мир и владеть им с похотью бездомной кошки.
О, полукруги и пятиконечные звезды! О, запах крови и можжевельника, пьяный запах сырой земли и копошащихся бледных личинок! О, бедные, немощные твари, живущие по глупым, выдуманным законам, беспомощные и отвратительно слабые, хрустящие на зубах мозговыми костями! О, буря, дождь и град! О, бешенство молний и плач ребенка! О, полнолуние!
Я иду иду иду к тебе иду.
Сонный дежурный по отделению, бормоча ругательства, отпер дверь, тут же был сбит с ног и очутился на полу, придавленный тяжестью дикого животного. В один миг его шея оказалась повернута на 180 градусов с громким хрустом. Бывший ранее Тимофеевым в три прыжка преодолел расстояние до стойки с телефонами, где с перепуганным видом замер другой милиционер. Легко, одним небрежным взмахом лапы он ободрал его лицо до кости, расплескав глаза по линолеуму болотного цвета, которым был застелен пол. Крик изуродованного человека повис в воздухе, как столб мела, а зверь подскочил к зеркалу, висящему на стене, и с наслаждением, переходящим в безумие, зарычал, глядя на свое отражение:
Ведьма! Ведьма! Ведьма!



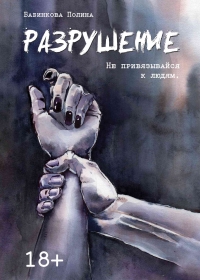

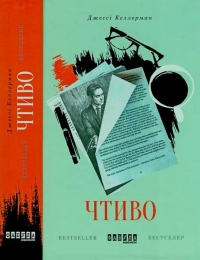

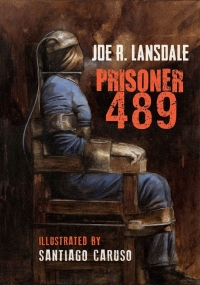
Комментарии к книге «Хранитель детских и собачьих душ», Владимир Демичев
Всего 0 комментариев