Джон Коннолли Любовники смерти
John Connolly
THE LOVERS
Copyright © John Connolly 2009.
This edition published by arrangement with Darley Anderson Literary, TV & Film Agency and The Van Lear Agency.
© Кононов М. В., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016
* * *
Посвящается Дженни
Пролог
Правда часто оказывается
страшным оружием агрессии.
Ради правды можно лгать и даже убивать.
Альфред Адлер (1870–1937)Проблемы неврозаЯ говорю себе, что это не расследование. В отношении других все должно быть расследовано, но не для меня и моей семьи. Я готов копаться в жизни чужих людей и выставлять напоказ их тайны и ложь – иногда ради денег, а иногда потому, что это единственный способ развеять старые призраки, – но я не хочу копаться и ворошить то, что я всегда считал личной жизнью моих родителей. Они умерли. И пусть спят спокойно.
Однако в повествовании, построенном на событиях их жизни, в сказке, рассказанной ими самими и продолженной другими, осталось без ответа слишком много вопросов, слишком много нестыковок. Я больше не могу позволить им оставаться невыясненными.
Мой отец Уильям Паркер, которого друзья звали Уилл, умер, когда мне было почти шестнадцать. Он служил копом в Девятом округе Нью-Йорка, в Нижнем Ист-Сайде. Его любила жена, он был ей верен, и у него был обожаемый и обожавший его сын. Отец предпочитал ходить в форме и не искал повышения, так как его вполне удовлетворяла служба на улицах в качестве обычного патрульного. У него не было секретов – по крайней мере, таких страшных, раскрытие которых могло бы серьезно повредить ему и его близким. Он жил обыкновенной жизнью в маленьком городке, или настолько обыкновенной, насколько это возможно, когда циклы твоего дня определяются перечнем обязанностей, убийствами, кражами, наркоманами и господством сильных и безжалостных над слабыми и беззащитными. Его упущения были незначительными, грешки – простительными.
Все вышесказанное – ложь, за исключением того, что он действительно любил своего сына, хотя сын иногда и забывал любить его в ответ. В конце концов, когда он умер, я был всего лишь подростком, а какой мальчишка в этом возрасте не бодается с отцом, стараясь продемонстрировать в доме свое превосходство над стариком, который уже не понимает природы постоянно изменяющегося вокруг мира? Так любил ли я его? Конечно, любил, но под конец я отказывался признать это перед ним, да и перед собой тоже.
А вот правда.
Мой отец умер не от естественных причин – он покончил с собой.
Он не продвигался по службе не потому, что сам не хотел, а таково было его наказание.
Жена не любила его, а если и любила, то совсем не так, как когда-то, потому что он изменил ей, и она не могла заставить себя простить ему эту измену.
Он вел не обыкновенную жизнь, и люди умирали, чтобы сберечь его тайны.
У него были страшные слабости, и грехи его были смертные.
Однажды ночью на пустыре неподалеку от того места, где мы жили в Перл-Ривер, мой отец убил двух безоружных подростков. Они были не намного старше меня. Сначала он убил паренька, а потом девушку. Он воспользовался своим личным кольтом тридцать восьмого калибра с двухдюймовым стволом, потому что в это время был в штатском. Парню пуля попала в лицо, девушке в грудь. Убедившись, что они мертвы, отец, словно в трансе, поехал обратно в Нью-Йорк, принял душ и переоделся в раздевалке в Девятом полицейском участке. Менее чем через двадцать четыре часа он застрелился.
Всю свою взрослую жизнь я не мог понять, зачем он все это сделал, но мне казалось, что ответа на этот вопрос все равно не найти, – а возможно, я лгал себе, потому что так мне было легче.
Но пришло время назвать вещи своими именами.
Это расследование обстоятельств смерти моего отца.
Часть первая
Хоть ненавижу, люблю.
Зачем же? – пожалуй, ты спросишь.
И не пойму, но в себе чувствуя это, крушусь.
КатуллСтихотворения, 85[1]Глава 1
Бобби Фарадей уже три дня как пропал.
В первый день ничего не предпринималось для его поисков. В конце концов, ему было двадцать два года, а молодой человек в этом возрасте больше не обязан соблюдать комендантский час и установленные родителями правила. И все же обычно он так не поступал. Бобби Фарадей заслуживал доверия. Он был студентом последнего курса, хотя и взял академический отпуск, прежде чем определился с направлением своего обучения в области машиностроения, и поговаривал, что уедет на пару месяцев за границу или поработает у своего дяди в Сан-Диего. Но вместо этого так и остался в своем родном городке, копил деньги, живя с родителями, и клал в банк сколько мог от своего заработка, а это было чуть поменьше, чем в предыдущий год, поскольку теперь он мог безнаказанно пить, и, может быть, позволял себе новообретенные вольности с бо́льшим энтузиазмом, чем это можно было бы счесть вполне благоразумным. Пару раз после Нового года у него было убийственное похмелье – и его старик посоветовал ему притормозить, пока печень еще сама не взмолилась о пощаде, но Бобби был молод, бессмертен, и он был влюблен, – по крайней мере, до недавнего времени. Возможно, было бы правильнее сказать, что Бобби был по-прежнему влюблен, но объект его привязанности дал ему отставку, и Бобби завяз в трясине своих эмоций. Из-за этой девушки он и предпочел остаться в городе, вместо того чтобы увидеть чуть побольше в окружающем мире, и тогда его родители восприняли его решение со смешанными чувствами: с благодарностью со стороны матери и с разочарованием со стороны отца. Сначала об этом шли споры, но потом, как два измотанных войска на грани никому не нужного сражения, отец и сын заключили нечто вроде перемирия, хотя обе стороны смотрели друг на друга настороженно, ожидая, кто первый моргнет. Тем временем Бобби пил, а его отец внутренне кипел, но молчал, полагая, что разрыв отношений может заставить сына принять необдуманные решения до окончания обучения осенью.
Несмотря на периодические уступки своим прихотям, Бобби никогда не опаздывал на работу в автомагазине и на бензоколонке, потому что там всегда оставалась работа, он всегда что-то не хотел оставлять незаконченным, даже если это можно было без особого труда доделать утром. Это было одной из причин, почему отец, несмотря на их разногласия, не особенно беспокоился о перспективах сына: Бобби был слишком сознательным, чтобы надолго оставаться выбитым из колеи. Он любил порядок и всегда его соблюдал. Он не был похож на многих молодых разгильдяев ни по внешности, ни по отношению к делу. Разгильдяйство просто было не в его натуре.
Но вчера вечером он не пришел домой и не позвонил родителям, чтобы сообщить, где он может быть, и это само по себе было необычно. Потом он не появился на работе следующим утром, и это было так нехарактерно, что Рон Невилл, владелец бензоколонки, позвонил Фарадею домой, чтобы узнать, что с ним и не заболел ли он. Мать выразила удивление, что ее сын еще не на работе. Она просто думала, что он пришел домой поздно и рано ушел. Она проверила его спальню, которая располагалась в цокольном этаже. Постель была не тронута, и не было никаких признаков, что он провел ночь дома.
Не дождавшись известий до трех часов дня, мать позвонила на работу мужу. Вместе они обзвонили друзей Бобби, случайных знакомых и его бывшую девушку Эмили Киндлер. Этот последний звонок был деликатным делом, поскольку она и Бобби разорвали отношения всего пару недель назад. Отец подозревал, что из-за этого сын и стал пить больше, чем следовало, но он был не первым, кто пытался утопить любовную печаль в дозе алкоголя. Беда в том, что несчастная любовь не тонет в спиртном: чем больше ты стараешься ее утопить, тем упрямее она выплывает наверх.
Никто о Бобби ничего не слышал, и его не видели со вчерашнего дня. После семи часов вечера позвонили в полицию. Начальник полицейского участка отнесся к заявлению скептически. Он был новичок в этом районе, но знаком с поведением молодежи. Тем не менее он признал, что такое необычно для Бобби Фарадея, что с тех пор, как он покинул бензоколонку, прошло двадцать четыре часа, что Бобби не заходил после работы ни в один из местных баров и что последним его видел, похоже, Рон Невилл. Начальник собрал воедино описание парня, позаимствовал его снимок, сделанный прошлым летом, и проинформировал местные правоохранительные органы и полицию штата о возможной пропаже человека. Ни один из этих органов не проявил большой активности, поскольку они были почти так же циничны во взглядах на поведение молодых парней, как и начальник полицейского участка. В случае пропажи они были склонны ждать не двадцать четыре, а семьдесят два часа, прежде чем предположить, что за исчезновением кроется что-то более серьезное, чем просто пьянство, гормоны или домашние проблемы.
На второй день его родители и друзья начали неофициальный опрос в районе и близлежащих кварталах, но безрезультатно. Когда начало темнеть, мать и отец вернулись домой, но уснуть в ту ночь не смогли, как и в предыдущую. Мать лежала в постели, повернув лицо к окну, прислушиваясь, не раздадутся ли приближающиеся шаги, знакомая походка ее единственного сына, наконец, возвращающегося к ней. Она лишь слегка пошевелилась, услышав, что муж встал и надел халат.
– Что случилось? – спросила она.
– Ничего, – ответил он. – Я хочу заварить чай и посидеть немного. – Он помолчал. – Хочешь чаю?
Но она знала, что он спрашивает только из вежливости, а на самом деле предпочел бы, чтобы она не вставала. Ему не хотелось сидеть с ней, молча, за кухонным столом, вместе, но каждый сам по себе, питая своим страхом страх другого. Ему хотелось остаться одному. И потому она отпустила его, а когда дверь спальни закрылась за ним, заплакала.
На третий день официально начались розыски.
Множество золотистых колосков двинулись как один, бесчисленные фигурки послушно нагнулись в унисон от легкого касания позднего зимнего ветерка, как паства в церкви согласованно кланяется во время службы, ожидая момента освящения Святых Даров.
Колосья шептались между собой мягким, тихим шепотом, напоминавшим прибой далеких волн, и этот шум было странно слышать здесь, в этом удаленном от моря месте. Их бледность нарушалась пятнышками маленьких цветочков, красных, оранжевых и синих, – горсточкой лепестков, рассеянных в океане семян и стеблей.
Колосья пережили жатву и выросли высокими, слишком высокими, а их верхушки сгнили. Сезонное зерно пропало зря, поскольку старик, на чьей земле оно росло, умер прошлым летом, а его родственники дрались за право продажи собственности и спорили о том, как будет поделена выручка. Пока они конфликтовали, колосья вытянулись к небу – море тусклого золота посреди зимы, – приглушенно разговаривая между собой о том, что лежало рядом, скрытое и обдуваемое ветром.
И все же нива казалась умиротворенной.
Внезапно ветер на мгновение стих, и колосья выпрямились, словно обеспокоенные этой переменой, чувствуя, что все уже не так, как было. А потом ветер поднялся снова, сильнее, переходя в небольшие рассредоточенные порывы, покрывавшие поле рябью и водоворотами, и их ласка была уже не такой нежной. Умиротворение сменилось смятением. Солнце выхватывало разрозненные участки еще стоящих колосьев, пока они не упали на землю. Шепот стал громче и заглушил тревожный крик одинокой птицы, возвещавшей о чьем-то приближении.
Какая-то темная фигура появилась на горизонте, как огромное насекомое, парящее над колосьями. Она росла, становилась выше, вот появилась голова, плечи и наконец все тело человека, идущего между стеблями пшеницы, а впереди него пробиралась фигурка поменьше, принюхиваясь и тявкая на бегу, – первые, кто появился здесь, с тех пор как умер старик.
Потом показалась вторая фигура, более крупная, чем первая. Этот человек словно боролся с пространством и страдал от непривычных усилий, к которым его вынудило участие в поисках. На расстоянии от себя, к востоку, эти двое могли видеть других участников. Так получилось, что они отбились от основной группы, да и сама она с течением дня уменьшилась. Уже смеркалось. Скоро настанет время прекратить поиски, а в следующие дни соберется еще меньше людей.
Они начали утром, сразу же после воскресной службы. Участники поисков были прихожанами католической церкви Св. Фаддея, поскольку у нее был самый большой внутренний двор и, что любопытно, самая малочисленная паства – этого парадокса Пейтон Кармайкл, человек с собакой, никак не мог до конца понять. Возможно, думал он, когда-то в будущем следовало ожидать массового обращения в католичество, что, в свою очередь, заставляло его задуматься, не являются ли католики просто более оптимистичными, чем другие люди.
Начальник полиции и его люди разделили район на участки, а жителей района – на группы и каждой группе поручили определенный участок. Близлежащие церкви обеспечили их бутербродами, картофельными чипсами и газированными напитками, сложив все это в коричневые мешки, хотя большинство участников поисков на всякий случай принесли еду и воду с собой. В нарушение воскресной традиции никто не нарядился по-праздничному. Вместо этого они надели просторные рубахи, старые штаны и стоптанные башмаки или удобные кеды. Некоторые взяли палки, другие садовые грабли, чтобы шарить в кустах. Несмотря на поставленную перед ними задачу, среди собравшихся царила возбужденная атмосфера ожидания. Они расселись по машинам и выехали на назначенные участки. Когда один участок был прочесан и ничего не обнаружено, их посылали на другой – или это делали копы, координировавшие наземные действия, или они сами связывались со штабом операции, расположившимся в помещении за церковью.
Когда начинали, было не по сезону тепло – необычная и недолгая фальшивая оттепель, – и хождение по раскисшей земле и талому снегу поубавило энтузиазм многих, а в полвторого они устроили перерыв на обед. На этом этапе некоторые люди постарше вернулись по домам, удовлетворенные тем, что сделали что-то для Фарадеев, но остальные продолжали поиски. В конце концов, завтра уже понедельник, и придется идти на работу, обязанности нужно выполнять. А сегодня единственный день, который можно провести в поисках парня, и этот день нужно использовать полностью. Но постепенно смеркалось, к тому же становилось холоднее, и Пейтон был рад, что не оставил свою теплую непромокаемую куртку в машине, а обвязал ее вокруг пояса, пока не понадобится.
Он свистнул своему псу, трехгодовалому спаниелю по имени Молли, и в очередной раз подождал, пока товарищ его догонит. Арти Хойт – из всех людей, именно он попался ему в напарники. В последний год или даже больше отношения между ними были прохладными – с тех пор как Арти поймал Пейтона на том, что тот пялился на задницу его дочери. Для Арти не имело значения, что он увидел не совсем то, что ему показалось. Да, Пейтон смотрел на задницу его дочери, но вовсе не с похотью или вожделением. Не то чтобы он был выше таких низменных чувств, а просто временами проповеди пастора были такими нудными, и, чтобы не заснуть, Пейтону оставалось только любоваться гибкими женскими формами, прикрытыми праздничными воскресными одеждами. Пейтон давно миновал тот возраст, когда его бессмертной душе могли грозить потенциальные последствия от таких плотских мыслей в церкви. Он заключил, что у Бога есть дела посерьезнее, чем беспокоиться о том, что Пейтон Кармайкл, шестидесятичетырехлетний вдовец, обращает больше внимания на предметы женской красоты, чем на старого хвастуна на кафедре – человека, в котором, по мнению Пейтона, было меньше христианского милосердия, чем у среднестатистического аллигатора. Как любил говорить ему его врач, живи вином, женщинами и песней, – все в меру, но всегда соответствующей марки. Жена Пейтона умерла три года назад от рака груди, и хотя в районе было множество женщин нужной марки, которые могли бы обеспечить ему некоторое утешение зимними вечерами, они его просто не интересовали. Он любил свою жену. Порой он чувствовал себя одиноким, хотя и реже, чем раньше, но это чувство одиночества было конкретным, а не обобщенным: он тосковал по своей жене, а не по женскому обществу, и рассматривал случайную радость от какой-нибудь попавшейся на глаза миловидной женщины просто как знак, что он еще не совсем омертвел ниже пояса. Бог, забрав у него жену, мог позволить ему такую маленькую вольность. Если же Бог собирался раздуть из этого большое дело, то, что ж, Пейтон бы тоже нашел, что ему предъявить, когда они, в конце концов, встретятся.
Проблема дочери Арти Хойта заключалась в том, что, несмотря на свою юность, она вовсе не была хорошенькой. Как и гибкой. По сути, совсем наоборот, а если подумать, то это можно было сказать и о ее легкости. В ней никогда не было такого, что бы можно было назвать стройностью; к тому же она уезжала из Нью-Йорка, чтобы пожить в Балтиморе, а к тому времени, когда вернулась, накопила еще немало фунтов. Теперь, когда она входила в церковь, Пейтон мог поклясться, что ощущает легкое содрогание пола от ее шагов. Будь она еще чуть побольше, ей бы пришлось входить боком или понадобилось бы расширить проходы между скамьями в церкви.
И вот, в первое воскресенье после ее возвращения в отчий дом, она вошла в церковь со своими мамой и папой, и Пейтон поймал себя на том, что потрясенно уставился на ее задницу, колыхавшуюся под красно-белым цветастым платьем, как землетрясение в цветнике роз. Возможно, его челюсть оставалась отвисшей, когда он обернулся и увидел, что Арти Хойт сердито смотрит на него, а после этого, как бы это сказать помягче, отношения между ними уже стали не совсем такими, как были раньше. Пейтон с Арти и до того не были так уж близки, но, по крайней мере, вели себя вежливо, когда их пути пересекались. А теперь редко обменивались даже кивками и не разговаривали друг с другом. И надо же – исчезновение парня Фарадея свело их вместе. Они входили в группу из восьми человек, которая начала свои поиски утром и быстро сократилась до шестерых, когда старик Блэкуэлл и его жена, похоже, почувствовали себя неважно и неохотно вернулись домой. Потом в группе осталось пятеро, потом четверо, трое – и вот теперь они с Арти остались вдвоем.
Пейтон сначала не понял, почему Арти не сдастся и тоже не пойдет домой. Даже когда они с Молли передвигались весьма умеренным шагом, для Арти это было чересчур быстро, и им приходилось то и дело останавливаться, чтобы Арти мог отдышаться и глотнуть воды из бутылки, которую он тащил в рюкзаке. До Пейтона не сразу дошло, что Арти не хочет доставить ему удовольствие остаться последним, кто продолжает поиски, в то время как сам он скис, даже если толстяку придется умереть в этом соревновании. Поняв это, Пейтон испытывал злорадное удовольствие, ненадолго ускоряя шаг, пока не понял, что его никому не нужная жестокость ничего ему не принесет и лишь сведет на нет его предыдущие усилия в молитвах и покаянии за случайные взгляды на молодых женщин.
Они уже почти дошли до ограды между этим владением и следующим – невозделанным, заросшим полем с маленьким прудом в центре, укрытым деревьями и камышом. У Пейтона осталось совсем мало воды, а Молли хотела пить. Он решил, что можно напоить ее из пруда и на этом закончить день. Тут он не видел возражений со стороны Арти, поскольку он сам, а не толстяк предложит пойти домой.
– Давай, зайдем на это поле и проверим, – сказал Пейтон. – Все равно мне надо напоить собаку. А потом можем вернуться на дорогу и спокойно дойти до машин. Тебя устраивает?
Арти кивнул. Он подошел к ограде, положил на нее руки и попытался перелезть. Одну ногу он оторвал от земли, но другая не отрывалась. У него просто не было сил продолжать. Пейтону показалось, что Арти готов лечь и умереть, но он не лег и не умер. В его отказе сдаваться было нечто достойное восхищения, хотя это упорство больше вызывалось злобой на Пейтона Кармайкла, чем тревогой за Бобби Фарадея. Впрочем, в конечном счете ему все-таки пришлось признать поражение, и он приземлился с той же стороны ограды, откуда стартовал.
– Черт возьми! – выругался толстяк.
– Держись, – сказал Пейтон. – Я помогу тебе перелезть.
– Я и сам могу, – ответил Арти. – Дай только минутку перевести дыхание.
– Брось. Оба мы уже не так молоды, как были. Я помогу тебе перелезть, а потом ты подашь мне руку с той стороны. Глупо нам обоим убиваться, чтобы настоять на своем.
Обдумав предложение, Арти согласно кивнул. Пейтон привязал Молли за поводок к ограде на случай, если она что-то почует и решит вырваться, потом наклонился и подставил руки, чтобы Арти поставил свой сапог ему на ладони. Когда сапог надежно уперся и Арти крепко схватился за ограду, Пейтон рванул его ногу вверх. То ли он оказался сильнее, чем думал, что вполне возможно, то ли Арти оказался легче, чем выглядел, что вряд ли, только Пейтон перебросил его через ограду, как из катапульты. Лишь благоразумно зацепившаяся за штакетник левая нога и ухватившаяся правая рука уберегли Арти от того, чтобы неуклюже шлепнуться на другую сторону.
– Какого черта? – спросил он, когда с трудом поднялся и снова твердо уперся обеими ногам в землю.
– Извини, – сказал Пейтон. Он силился не рассмеяться, но успех был лишь частичным.
– Ну, не знаю, что ты ешь, но мне наверняка нужно это попробовать.
Теперь на забор полез Пейтон. Он был в хорошей форме для своего возраста, и это доставило ему некоторое удовольствие. Арти протянул руку, чтобы его поддержать, и, хотя Пейтон не нуждался в помощи, он ее принял.
– Забавно, – сказал он, соскочив с забора, – но я уже не так много ем. Раньше у меня был чертовский аппетит, но теперь я лишь завтракаю и перекусываю вечером, и мне вполне хватает. Мне даже пришлось проделать лишнюю дырочку в ремне, чтобы штаны не сваливались.
Арти Хойт с каменным выражением лица взглянул на свое пузо и слегка покраснел. Пейтон поморщился.
– Я ничего не имел в виду, Арти, – спокойно сказал он. – Пока Рина была жива, я весил на тридцать фунтов больше, чем сейчас. Она кормила меня, словно собиралась заколоть на Рождество. А без нее…
Он пошел вперед, глядя в сторону.
– И не говори, – через какое-то время сказал Арти. Теперь, когда долгое молчание между ними наконец прервалось, он как будто стремился продолжить беседу. – Моя жена считает, что это не еда, если она не прожарена и не запрятана в булочку. Наверное, если бы могла, она бы и конфеты жарила.
– В некоторых местах так и делают, – заметил Пейтон.
– Да ты что? – На лице Арти прочиталось легкое отвращение. – Боже, только не говори ей. Из того, что она ест, шоколад, как он есть, ближе всего к здоровой пище.
Они направились к пруду. Пейтон спустил Молли с поводка. Он знал, что она учуяла воду, и не хотел ее мучить, заставляя идти рядом. Собака бросилась вперед коричнево-белой стрелой и вскоре исчезла из виду в высокой траве.
– Красивая собачка, – сказал Арти.
– Спасибо, – откликнулся Пейтон. – Хорошая девочка. Она для меня, как ребенок.
– Да, конечно. – Арти знал, что Пейтона и его жену Бог не благословил детьми.
– Послушай, Арти, я давно хотел тебе сказать…
Пейтон помолчал, пытаясь найти нужные слова, потом глубоко вздохнул и решил идти напролом:
– Тогда в церкви, когда Лидия вернулась домой, я… В общем, я хотел извиниться за то, что смотрел, понимаешь, на ее…
– Задницу, – закончил за него Арти.
– Да, так. Извини, вот что я хотел сказать. Это было неправильно. Особенно в церкви. Не по-христиански. Но это было не то, что ты мог подумать.
И вдруг Пейтон осознал, что, фигурально выражаясь, ступил в трясину. Теперь, возможно, ему придется объяснять и то, что, по его мнению, Арти мог подумать, и то, что же было на самом деле, – а на самом деле дочь Арти Хойта напомнила ему дирижабль «Гинденбург» перед крушением.
– Она крупная девушка, – грустно проговорил Арти, избавляя Пейтона от дальнейших затруднений. – И это не ее вина. Когда ее брак распался, доктора прописали ей пилюли от депрессии, и она вдруг стала набирать вес. Что она ест за двоих, тоже не идет на пользу, но, знаешь, не это главное. Ей грустно, и она ест, ей становится еще грустнее, и она опять ест. Порочный круг. Я не упрекаю тебя, что ты на нее глазел. Черт, будь она не моя дочь, я бы тоже на нее так же пялился. Стыдно сказать, но на самом деле я иногда пялюсь на нее.
– Все равно, я прошу прощения, – сказал Пейтон. – Это было… нехорошо.
– Я принимаю извинения. Следующий раз, когда будем у Дина, купи мне выпить.
Арти протянул руку, и они обменялись рукопожатием. Пейтон похлопал толстяка по спине. Он чувствовал, что слегка прослезился, и упрекал себя за это проявление слабости.
– А как насчет того, чтобы выпить пива, когда закончим с сегодняшним? Мне бы хотелось поднять тост за конец этого долгого дня.
– Идет. Напоим твою собаку и пойдем в…
Он замер. Они уже были в пределах видимости укромного пруда. Когда-то, когда Арти и Пейтон были гораздо моложе, это было популярное место свиданий, но потом земля перешла к новому собственнику, богобоязненному человеку, за чье состояние теперь дрались его безбожные родственники, и он дал понять, что не потерпит никаких подростковых сексуальных приключений близ его пруда. Над водой склонилась большая береза, ее ветви едва не касались поверхности воды. Неподалеку стояла Молли. Но воду она не пила. Она остановилась в нескольких футах от берега и теперь ждала, подняв лапу и неуверенно виляя хвостом. А сквозь камыши виднелось что-то синее.
Бобби Фарадей стоял на коленях у кромки воды, верхняя часть его тела слегка наклонилась, словно он пытался взглянуть на свое отражение. У него на шее была веревка, привязанная к стволу дерева. Он раздулся, лицо его было красновато-фиолетовое, и черты изменились почти до неузнаваемости.
– Ах, черт! – воскликнул Пейтон.
Он был в шоке, и Арти подошел и обнял его за плечи. За спиной у них садилось солнце, подул ветер, и колосья низко склонились, скорбя.
Глава 2
Я сел на поезд до Перл-Ривер от станции Пенн. Я не поехал в Нью-Йорк на машине из Мэна и не потрудился взять напрокат машину, пока был в городе. В этом не было нужды. То, что мне предстояло, было легче сделать без автомобиля. Когда маленький поезд с одним вагоном подошел к станции, так почти и не изменившейся с тех пор, когда это была ветка железной дороги Эри-Рэйлроуд, я увидел, что и все другие перемены в сердце городишка были тоже чисто косметическими. Я спустился вниз и медленно прогулялся по Мемориальному парку, где знак у необитаемой будки оранджтаунской полиции объявлял, что Перл-Ривер все еще остается городом дружественного народа. Этот парк заложил Джулиус Э. Браунсдорф, отец-основатель Перл-Ривер, который также спланировал и сам город после приобретения здесь земли, а также построил железнодорожную станцию, начал производство швейных машинок «Этна» и печатных станков «Америка & Либерти», усовершенствовал лампочку накаливания и изобрел фонари с электрической дугой, которые освещали не только этот парк, но также район Капитолия в Вашингтоне. Браунсдорф был одним из тех парней, рядом с которыми большинство людей кажутся заторможенными и вялыми. Вместе с Дэном Фортманном из «Чикаго Беарз» он был в Перл-Ривер главным предметом гордости и хвастовства.
Звездно-полосатый флаг по-прежнему развевался в центре парка, чтя память молодых парней города, погибших на войне. Любопытно, что в списке погибших оказались также Джеймс Б. Мур и Зигфрид У. Бутц, которые погибли не на войне, а во время ограбления банка в 1929 году, когда Генри Дж. Фернекс, печально известный бандит того времени, пытался ограбить Первый Государственный банк в Перл-Ривер, переодевшись электриком. Что ж, по крайней мере, их помнят. Теперь убитых банковских служащих не часто упоминают на общественных мемориалах.
Перл-Ривер, с тех пор как я уехал оттуда, так ни на йоту и не освободился от своих ирландских корней. В кафе «Грязный ручей» на улице Норт-Мэйн, у дальнего края парка, по-прежнему предлагали кельтский завтрак, а рядом располагались ирландская мясная лавка Галлахера, магазин подарков «Ирландский коттедж» и туристическое агентство «Хили-О’Сэлливан Тревел». За Ист-Сентрал-авеню, рядом со скобяной лавкой Хенделера, был ирландский магазин «Полпенни», где продавали ирландский чай, конфеты, чипсы и копии гаэльских футболок, а за углом старого отеля «Перл-стрит» находилась ирландская пивная Грейса Ф. Нунана. Как часто замечал мой отец, им следовало бы покрасить весь город в зеленый цвет, и дело с концом. Впрочем, кинотеатр «Перл-Ривер» был теперь закрыт, и здание заняли претенциозные магазинчики, продающие кустарные поделки и дорогие подарки, а также здесь расположились более функциональные авто- и мебельные магазины.
Теперь мне кажется, что все мое детство я провел в Перл-Ривер, но это не так. Мы переехали туда, когда мне было около восьми лет, когда отец стал уставать от долгих поездок в Нью-Йорк из маленького городка, где они с моей матерью жили дешево благодаря доставшемуся ему дому после смерти его матери. Отцу было особенно тяжело в те недели, когда он работал в смену с 8:00 до 4:00, что на самом деле оказывалось с 7:00 до 3:30. Ему приходилось вставать в пять утра, иногда даже раньше, чтобы добраться до Девятого округа, неспокойного района, занимавшего менее одной квадратной мили в Нижнем Ист-Сайде, но где случалось до семидесяти пяти самоубийств в год. В эти недели мы с матерью почти не видели его. Да и другие смены в шестинедельном цикле были не намного лучше. От него требовалось работать одну неделю с 8:00 до 16:00, одну – с 16:00 до 00:00, еще одну – с 8:00 до 16:00, две – с 16:00 до 00:00 (в эти недели я видел его только по выходным, так как он спал, когда я утром уходил в школу, а когда я возвращался, он был уже на работе), и обязательно одну с 00:00 до 8:00, и это так сбивало его внутренние часы, что под конец он чуть ли не впадал в бред от усталости.
Полиция Девятого округа работала по так называемой «девятиотрядной схеме» – девять отрядов по девять человек, в каждом сержант. Такая система возникла в пятидесятых, и с ней было покончено в восьмидесятых, а заодно и с большей частью порожденного ею товарищества. Мой отец служил в Первом отряде, где сержантом был человек по имени Ларри Костелло, и это он предложил отцу подумать о переезде в Перл-Ривер. Там жили все копы-ирландцы, и этот городок славился своими парадами на День святого Патрика, самыми большими после парадов в Манхэттене. Этот городок был также побогаче, средний уровень дохода тут вдвое превышал средний уровень по стране, и здесь царил дух комфорта и процветания. И здесь имелось достаточно свободных от службы копов, чтобы построить полицейское государство. Тут водились деньги, и город имел собственное лицо, определяющееся общими национальными связями. Хотя мой отец сам не был ирландцем, но он был католик, знал многих жителей Перл-Ривер, и ему было легко с ними. Мать не выразила никаких возражений против переезда. Если это даст ей больше времени видеть мужа и в какой-то мере избавит его от стресса и напряжения, к тому времени так явно запечатлевшихся на его лице, она была готова переехать хоть в земляную яму, накрытую брезентом, и довольствовалась бы этим.
Итак, мы переехали на юг, а поскольку все в нашей жизни, что после этого пошло наперекосяк, связано с Перл-Ривер, для меня этот городок стал главным воспоминанием о детстве. Мы купили дом на Франклин-авеню, недалеко от перекрестка с Джон-стрит, где до сих пор стоит объединенная методистская церковь. На особом риелторском языке дом назывался «требующий ремонта»: пожилая леди, прожившая в нем бо́льшую часть своей жизни, недавно умерла, и ничто не говорило о том, что с 1950 года она много занималась домом, разве что иногда проводила веником по полу. Но зато дом был больше, чем мы могли бы себе позволить в иных обстоятельствах, а такие вещи, как отсутствие заборов между соседями и открытые дворики, выходящие на улицу, очень привлекали отца. Это давало ему ощущение пространства и общности. Идея о том, что хороший забор порождает хороших соседей, не имела большого хождения в Перл-Ривер. Зато некоторые здесь находили концепцию забора слегка тревожной – как признак разъединения, что ли, какой-то обособленности.
Моя мать погрузилась в местную жизнь. Если существовал какой-нибудь комитет, она в него вступала. Для женщины, которая, по большинству моих воспоминаний, казалась самодостаточной и замкнутой, отдаленной от себе подобных, это было изумительное преображение. Мой отец, наверное, задумывался, не завела ли она интрижку на стороне, но это было всего лишь реакцией женщины, оказавшейся в лучшем месте, чем было раньше, с мужем, более удовлетворенным, чем раньше. Впрочем, она по-прежнему досадовала, что он каждый день уходит из дому, и вздыхала с плохо скрытым облегчением, когда он невредимым возвращался после дежурства.
Моя мать: теперь, когда я перерыл подробности нашей жизни в этом месте, мои отношения с ней стали казаться мне все менее и менее нормальными, если это слово вообще можно применять для семейных взаимоотношений. Порой она казалась отдаленной от своих сверстниц, но то же самое можно сказать про ее отдаленность от моего отца и от меня. Не то чтобы она скрывала свою привязанность или не была со мной ласкова. Она восторгалась моими успехами и утешала в моих неудачах. Она выслушивала и наставляла – и любила. Но на протяжении большой части моего детства мне казалось, что она не действовала сама, а я вынуждал ее к этому. Я приходил к ней, и она делала все, что мне было нужно, но никогда это не делалось по ее инициативе. Как будто я был своего рода экспериментом, зверюшкой в клетке, чем-то таким, за чем наблюдают, следят, чтобы вовремя покормить и напоить, проявить любовь и высказать одобрение, чтобы обеспечить выживание, но не более того.
Или, возможно, это просто игра памяти, начавшаяся, когда я взбаламутил резервуар прошлого, а когда муть уляжется и откроет мне вид до дна, станет видно, что же было на самом деле.
После убийств и того, что за ними последовало, она сбежала на север в Мэн, взяв меня с собой в то место, где выросла сама. До самой ее смерти, когда я еще учился в колледже, она отказывалась обсуждать со мной подробности событий, которые привели к смерти моего отца. Она замыкалась внутри себя, а там был только рак, который отнимет ее жизнь, постепенно колонизируя клетки ее тела, как плохие воспоминания вытесняют хорошие. Теперь я задумываюсь, как долго рак поджидал ее, если действительно тяжелая эмоциональная травма каким-то образом включила физическую реакцию, когда моя мать оказалась преданной на двух фронтах: своим мужем и своим телом. Если это действительно было так, то рак начал свое дело за несколько месяцев до моего рождения. Я стал своего рода стимулом наряду с поступками моего отца, поскольку одно вытекает из другого.
Наш дом не сильно изменился, хотя краска облупилась, верхние окна покрылись грязью, а разбитая черепица, как темные, искрошившиеся зубы, говорила о плохом уходе. Его серый цвет слегка выцвел, стал бледнее, чем раньше, когда я жил здесь, но двор был все так же не огорожен, как и у остальных соседей. Крыльцо застеклили, и кресло-качалка и ротанговая кушетка, обе без подушек, стояли на улице. Оконные рамы и дверные косяки были теперь выкрашены черным, а не белым, а там, где раньше на клумбах росли заботливо опекаемые цветы, остался лишь газон с худосочной клочковатой травой, видневшейся там и сям сквозь собранный в кучи смерзшийся снег. И все же во всем этом узнавалось место, где я вырос. Там, где когда-то была гостиная, шевельнулась штора, и я увидел с любопытством смотрящего на меня старика. Я кивнул ему в знак того, что знаю о его присутствии, и он отступил в тень.
Над входной дверью располагалось двойное окно, в одной его половине стекло разбилось, и вместо него был вставлен картон. Когда-то там сидел мальчик и смотрел на городок, который был его миром. В той комнате что-то оставалось от меня после смерти отца: может быть, доля невинности или последние остатки детства. Все это было отобрано у меня выстрелом, заставившим меня сбросить прежнее, как змеиную кожу или оболочку куколки насекомого. Я чуть ли не видел его, этот маленький призрак, – фигурку с темными волосами и прищуренными глазами, слишком погруженную в себя для своих лет, слишком одинокую. У мальчика были друзья, но он так и не избавился от чувства, что навязывается им, когда зовет их выйти, и что они делают ему одолжение, играя с ним или приглашая посмотреть телевизор. Было легче, когда они собирались вместе, играли летом в парке в софтбол или в футбол, если из летнего лагеря возвращался или еще туда не отправился Дэнни Йетс, единственный из его знакомых, кто восторгался «Космосом» и которому его дядя, служивший на военной авиабазе в Англии, присылал журнал Shoot!. Дэнни был на пару лет старше остальных ребят, и они отставали от него во многом.
Я гадал, где теперь мои друзья. Среди них не было ни одного негра, так как Перл-Ривер был бел, как лилия, и черных детей мы встречали только на играх университетских команд. Когда мы уехали в Мэн, я потерял все связи с ними, но некоторые, наверное, по-прежнему жили здесь. В конце концов, Перл-Ривер – клановый, люто защищавший себя от чужаков городок, – был таким местом, которое стало домом для нескольких поколений. На другой стороне улицы чуть ближе к центру жил Бобби Греттон. Его родители ездили только на «Шевроле» и не больше двух лет на одной машине, а потом ее продавали и покупали новую модель. Я посмотрел налево и увидел коричневый «Шевроле-Аплендер» на подъездной дорожке к дому, где всегда жили Греттоны. На заднем бампере виднелась выцветшая наклейка в поддержку Обамы на президентской кампании 2008 года, а рядом желтая ленточка. На машине были ветеранские таблички. Наверняка она принадлежала мистеру Греттону.
В окне моей бывшей спальни изменилось освещение, проплывающее облако создало впечатление какого-то движения внутри, и я снова ощутил присутствие там мальчика, которым когда-то был сам. Он сидел там, ожидая, когда на улице появится возвращающийся отец, а возможно, что мелькнет Кэрри Готтлиб, которая жила напротив. Кэрри была на три года его старше, и все признавали, что это самая красивая девушка в Перл-Ривер, хотя некоторые шептали, что она и сама это знает, и это знание делало ее менее привлекательной и милой, чем другие, менее одаренные и скромнее себя ведущие молодые женщины. Но эти нашептывания не волновали мальчика, как и многих других ребят в городке. Сама обособленность Кэрри Готтлиб и чувство, что она идет по жизни по пьедесталам, возведенным только для ее замыслов, делали ее столь желанной. Будь она более приземленной и менее самоуверенной, их интерес к ней значительно снизился бы.
Кэрри уехала в Нью-Йорк-сити, чтобы стать моделью. Ее мать рассказывала всякому, кто задерживался достаточно надолго, о том, что Кэрри суждено украшать своим видом модные товары и телеэкраны, но в последующие месяцы и годы этих изображений Кэрри так и не появилось, и со временем ее мать перестала говорить так о дочери. Когда ее спрашивали (обычно с блеском в глазах, чуя запах крови), как дела у Кэрри, она с несколько натянутой улыбкой отвечала: «Прекрасно, просто прекрасно», – и переводила разговор на более спокойную тему или, если собеседник настаивал, просто удалялась. Потом я слышал, что Кэрри вернулась в Перл-Ривер и нашла работу официантки в ресторане, а в конечном итоге стала там менеджером, выйдя замуж за владельца. Она была по-прежнему прекрасна, но большой город взял с нее свою дань, и ее улыбка уже не была такой уверенной, как прежде. Тем не менее она вернулась в Перл-Ривер и переносила разочарование в мечтах с достоинством, и люди восхищались ею за это, и, может быть, из-за этого она нравилась им больше, чем раньше. Она была одной из них и была дома, и когда навещала своих родителей на Франклин-авеню, призрак мальчика видел ее и улыбался.
Мой отец не был крупным мужчиной в сравнении со своими товарищами полицейскими, он едва отвечал требованиям Нью-Йоркского полицейского департамента к росту и скроен был не так крепко, как они. Впрочем, для моей юной особы он представлялся внушительной фигурой, особенно когда был в форме, с болтающимся на ремне четырехдюймовым «Смит-Вессоном» и сверкающими пуговицами на темно-синем фоне мундира.
– Кем ты собираешься стать, когда вырастешь? – спрашивал он меня, и я всегда отвечал:
– Копом.
– И каким же копом?
– Нью-йоркским. Нью! Йоркского! Полицейского! Департамента!
– И каким же нью-йоркским копом ты хочешь стать?
– Хорошим. Самым лучшим.
И отец ворошил мне волосы – в отличие от легкого подзатыльника, который я получал, когда делал что-то, что ему не нравилось. Он никогда не бил меня по лицу или кулаком – достаточно было легкого подзатыльника его твердой мозолистой рукой, означающего, что я переступил черту. За этим иногда следовали дальнейшие наказания: домашний арест, невыдача денег на карманные расходы на неделю или две, а подзатыльник был предупредительным знаком. Он был последним предупреждением и единственной мерой какого-никакого физического воздействия, которое ассоциировалось у меня с отцом до того дня, когда погибли двое подростков.
Некоторые из моих друзей, которым надоело жить в городке, где порядки устанавливали копы, остерегались моего отца. Фрэнки Марроу, в частности, когда поблизости был мой отец, обычно съеживался и уходил в себя, как испуганная улитка. Отец Фрэнки работал охранником в большом универмаге; возможно, какое-то значение имел тот факт, что оба носили форму. Отец Фрэнки был болван, и, может быть, Фрэнки просто предположил, что и остальные люди в форме, что-то охраняющие, склонны быть болванами. Когда Фрэнки было семь лет и он хотел взять отца за руку, переходя дорогу, тот спросил: «Ты что, сопляк?» Как однажды выразился мой отец, мистер Марроу был «первоклассный сукин сын». Мистер Марроу терпеть не мог негров, евреев и латиноамериканцев, и у него на языке всегда были презрительные клички, чтобы их ужалить. Впрочем, он так же ненавидел и большинство белых, так что это не выглядело расизмом. Он просто был мастер позлобствовать.
В возрасте четырнадцати лет Фрэнки Марроу отправили в исправительную школу за поджог. Он поджог собственный дом, пока его старик был на работе. Фрэнки неплохо все рассчитал, и когда мистер Марроу вернулся на свою улицу, сразу же вслед за ним приехали пожарные машины, а Фрэнки сидел на стене дома напротив и глядел на поднимавшиеся языки пламени, одновременно смеясь и плача.
Мой отец не был горьким пьяницей. Ему не требовался алкоголь, чтобы расслабиться. Это был самый спокойный человек из всех, кого я когда-либо знал, от чего подростку было трудно понять его отношения с его товарищем и лучшим другом Джимми Галлахером. Джимми, всегда шедший в голове колонны на парадах в День святого Патрика, источая ирландский зеленый и полицейский синий цвет, весь состоял из улыбок и шаловливых тычков. Он был на три-четыре дюйма выше моего отца и шире в плечах. Если они вставали рядом, когда Джимми приходил к нам, отец выглядел несколько смущенным, словно чувствовал какую-то неполноценность в сравнении с другом. Входя, Джимми первым делом целовал и обнимал мою мать – единственный мужчина, кроме ее мужа, которому позволялись такие вольности, – а потом поворачивался ко мне.
– Ах, вот он! – говорил Джимми. – Этот мужичок.
Он был не женат. Говорил, что так и не встретил подходящую женщину, но что с радостью встречался с множеством неподходящих. Это была старая шутка, и он часто повторял ее, но мои родители всегда смеялись, хотя и знали, что он врет. Женщины не интересовали Джимми Галлахера, хотя пройдет много лет, прежде чем я это пойму. Я часто задумывался, как трудно, наверное, было Джимми держать фасад все эти годы, флиртуя с женщинами, чтобы приспосабливаться к окружающим. Джимми Галлахер, который мог приготовить из ничего самую невероятную пиццу, который мог бы устроить пир для короля (во всяком случае, я слышал, как это говорил мой отец матери), но который, играя в покер у нас дома или в окружении друзей смотря какой-нибудь матч (будучи холостяком, Джимми мог позволить себе самый современный и большой телевизор), мог накормить их начос и пивом, картофельными чипсами и купленными в магазине готовыми замороженными обедами или, если погода была хорошей, приготовить стейки и гамбургеры на пикнике. И я уже тогда чувствовал, что хотя мой отец говорил с матерью о тайных кулинарных способностях Джимми, он не упоминал об этом так беспечно среди своих собратьев-копов.
Джимми брал меня за руку и пожимал, чересчур крепко, испытывая свою силу. Я приучился не реагировать в таких случаях, потому что, если я вздрагивал, Джимми говорил: «Ага, ему еще есть над чем работать», – и в притворном разочаровании качал головой. Но если я, не моргнув глазом, изо всех сил сжимал руку в ответ, он улыбался и совал мне доллар с предупреждением: «Только не пропей его весь».
И я не пропивал его весь. Фактически пока мне не исполнилось пятнадцать, на выпивку я не тратил ничего. Я покупал конфеты и смешные книжки или откладывал деньги на летние каникулы в Мэне, когда мы останавливались с моим дедом в Скарборо, откуда меня возили в Олд-Орчард-Бич и позволяли разгуляться на аттракционах. Но когда я стал постарше, спиртное стало более привлекательным вариантом. Фил, брат Кэрри Готтлиб, работавший на железной дороге и считавшийся немного туповатым, был известен тем, что покупал пиво несовершеннолетним, забирая себе одну бутылку из шести купленных. Однажды я и двое моих друзей скинулись на упаковку из шести бутылок PBR, и Фил купил их для нас. Вечером мы пошли в лес и выпили там бо́льшую часть. Вкус мне понравился меньше, чем трепет удовольствия сразу от нарушения закона и домашних запретов, так как отец дал мне недвусмысленно понять, что без его разрешения не должно быть никаких выпивок. Как все молодые люди в мире, я соблюдал этот и другие запреты только в тех делах, о которых отец знал, поскольку если он не знал о них, они его не касались.
К несчастью, я принес одну из тех бутылок домой и запрятал подальше в чулан, чтобы употребить потом, где ее и нашла моя мать. За это я получил подзатыльник и домашний арест, плюс меня вынудили дать обет бедности не меньше чем на месяц. В тот день, а это было воскресенье, к нам зашел Джимми Галлахер. У него был день рождения, и они с моим отцом собирались загулять в городе, как всегда делали, когда один из них отмечал еще один год, в который его не застрелили, не закололи, не избили в месиво и не задавили машиной. Он насмешливо мне улыбнулся, держа доллар между указательным и средним пальцами правой руки.
– Столько лет я повторял, а ты не слушал.
И я угрюмо ответил:
– Я слушал. Я не все пропил.
Даже отец не смог удержаться от смеха.
Но Джимми все-таки не дал мне доллар и после этого никогда не давал денег. У него не было такой возможности. Через шесть месяцев отец умер, и Джимми Галлахер больше не приходил к нам с долларовой бумажкой в руке.
После убийства моего отца допрашивали, поскольку он признал свою причастность, как только столкнулся с полицией. К нему отнеслись с сочувствием и попытались понять, что же произошло, чтобы можно было смягчить наказание. Потом его передали в оранджтаунский полицейский департамент, так как убийство произошло на их территории. Кроме того, был привлечен департамент внутренних расследований, а также следователь из службы Роклендского окружного прокурора, сам бывший нью-йоркский коп, знавший, как делаются такие дела, и который мог бы пригладить перышки местным парням, прежде чем начнется расследование.
Отец позвонил моей матери вскоре после того, как его взяли, и сказал ей, что совершил. Потом из вежливости ей позвонила парочка местных копов. Один из них был племянником Джимми Галлахера, работавшим в Оранджтауне. Этим же вечером, до своего выхода на дежурство, он приходил к нам в штатском и сидел с матерью на кухне. У него на ремне был пистолет. Они с матерью делали вид, что это был просто случайный визит, но он задержался слишком надолго для обычного визита, и я видел напряжение на лице матери, когда она подавала ему кофе и кекс, к которым он едва притронулся. Теперь, когда он снова пришел к нам, на этот раз в форме, я понял, что его прежний визит был как-то связан с убийством, но еще не знал как.
Племянник Джимми подтвердил ей все случившееся – или якобы случившееся – на пустыре неподалеку от нашего дома, никак не упомянув о том, что уже второй раз за вечер приходит в этот дом. Она хотела повидаться с мужем, оказать поддержку, но он сказал ей, что в этом нет никакой надобности. Еще некоторое время будет продолжаться допрос, а потом ее мужа, вероятно, отстранят от службы с сохранением жалованья до окончания расследования. Скоро он будет дома, пообещал он. Сидите тихо. Присматривайте за пацаном. Ничего ему пока не говорите. Это, конечно, ваше дело, но, вы понимаете, может быть, лучше подождать, пока мы узнаем больше…
Я слышал, как она плакала после звонка отца, и подошел к ней. В пижаме я встал перед матерью и спросил ее:
– Что случилось? В чем дело, мама?
Она посмотрела на меня, и какое-то время я был уверен, что мама не узнает меня. Она была встревожена и потрясена. Содеянное моим отцом заморозило ее реакции, и я казался ей чужим. Только этим можно было объяснить холод в ее взгляде, отчужденность между нами, словно воздух замерз и затвердел, отрезав нас друг от друга. Я раньше видел это выражение на ее лице, но только в самые страшные моменты, когда совершал что-то такое ужасное, от чего она теряла дар речи: когда украл деньги из кухонного фонда или когда при неудачной попытке сделать бобслей для моего солдатика, разбил тарелку, завещанную ей прабабушкой.
Мне показалось, что в ее глазах был упрек.
– Мама? – снова спросил я уже неуверенно, испуганно. – Что-то с папой? С ним все в порядке?
И она нашла в себе силы кивнуть, а когда заговорила, то так закусила нижнюю губу, что я увидел кровь на белой коже.
– С ним все в порядке. Была стрельба.
– Он ранен?
– Нет, но некоторые… Некоторые скончались. Говорят, из-за твоего отца.
– Папа их застрелил?
Но она не ответила, а только сказала:
– Иди спать. Пожалуйста.
И я ушел, но не мог уснуть. Мой отец, человек, который с трудом заставлял себя дать мне подзатыльник, вытащил револьвер и кого-то убил. Я был уверен, что так и было.
И гадал, не попал ли отец в беду из-за этого.
В конце концов, его отпустили. Два болвана из департамента внутренних расследований проводили его домой и уселись на улице читать газеты. Я смотрел на них из окна. Мой отец выглядел старым и подавленным, когда шел по садовой дорожке. Он был небрит. А когда взглянул на окно, то, увидев меня, помахал мне рукой и попытался улыбнуться. Я помахал в ответ, но не улыбнулся, а потом вышел из комнаты.
Отец крепко обнимал мою мать, а она плакала у него на груди, и я слышал, как он сказал:
– Он сказал нам, что это могли быть они.
Я замер на лестнице, затаив дыхание.
– Но как такое могло быть? – спросила мать. – Как это могли оказаться те же самые люди?
– Не знаю, но это было так. Я видел их. И слышал, что они говорили.
Мать снова заплакала, но ее тон изменился: теперь это был тонкий стон, как будто кого-то разрывают на части. Как будто в ней прорвало плотину, и все, что она таила, теперь выливалось через промоину, вымывая жизнь, которая в ней была раньше, превращаясь в поток горя и ожесточения. Позже я думал, сумела ли она предотвратить все случившееся потом, если бы тогда ей удалось взять себя в руки, но она была так захвачена своим горем, что не могла увидеть, что, убив тех двоих подростков, ее муж разрушил нечто критически важное для своего собственного дальнейшего существования. Он убил двух безоружных подростков и, что бы ни говорил ей, сам не знал точно зачем; или же он не видел возможности жить дальше, если все, что сказал ей, было правдой. Он устал, как еще никогда не уставал. Ему хотелось спать. Хотелось уснуть и никогда не просыпаться.
Они заметили мое присутствие, и отец убрал правую руку с плеча матери и пригласил меня присоединиться к их объятиям. И так мы стояли минуту, пока отец не похлопал нас обоих по спине.
– Хватит, – сказал он, – а то мы так простоим целый день.
– Хочешь есть? – спросила мать, вытирая глаза передником. Теперь в ее голосе не было никаких эмоций, как будто, дав выход своей боли, она не оставила внутри ничего.
– Конечно. Хорошо бы яичницу. С беконом. Хочешь яичницу с беконом, Чарли?
Я кивнул, хотя есть мне не хотелось. Мне хотелось побыть рядом с отцом.
– Тебе надо принять душ, переодеться, – сказала мать.
– Да, я так и сделаю. Но сначала мне нужно сделать кое-что еще. А ты позаботься о яичнице.
– Поджарить гренки?
– Да, хорошо бы. Пшеничные, если есть.
Мать начала хлопотать на кухне. Когда она повернулась к нам спиной, отец крепко сжал мое плечо и сказал:
– Все будет хорошо, понял? А пока помогай матери. Чтобы с ней было все в порядке.
Он ушел от нас. Задняя дверь открылась и снова закрылась. Мать замерла, прислушиваясь, как собака, учуявшая что-то тревожное, а потом продолжила разогревать масло на сковороде.
Глава 3
Солнце скрылось за облаками, от чего освещение быстро изменилось, и солнечная яркость в мгновение ока сменилась зимними сумерками, а вскоре подкрадется и настоящая тьма. Входная дверь открылась, и на пороге показался старик. На нем была куртка с капюшоном, но на ногах оставались шлепанцы. Он протрусил до края дороги и остановился на границе своих владений, пальцы его ног выровнялись по газону, словно дорога была водоемом, и он боялся упасть с берега.
– Помочь чем-нибудь, сынок? – крикнул он.
Сынок.
Я перешел улицу. Старик слегка напрягся, задумавшись, удачная ли это была мысль – выйти, как ни крути, к незнакомому человеку. Он взглянул на свои шлепанцы, вероятно, соображая, что следовало потратить время и надеть ботинки. В ботинках он бы не чувствовал себя таким уязвимым.
Приблизившись, я смог рассмотреть, что ему было лет семьдесят, если не больше. Это был маленький, с виду хрупкий человечек, и мне представилось, что он всегда был таким; он не держался как человек, некогда бывший значительно больше и крепче, и все же ему хватило внутренней силы и уверенности, чтобы выйти к незнакомому человеку, наблюдающему за его домом. Бывают люди помоложе, которые бы просто позвонили в полицию. У него были карие слезящиеся глаза, но морщин на лице было сравнительно немного для человека его возраста. Кожа особенно натянулась вокруг глаз и на скулах, создавая впечатление, что она начала сжиматься, а не растягиваться на черепе.
– Я когда-то жил здесь, в этом доме, – сказал я.
Настороженность в нем немного ослабла.
– Вы один из Харрингтонов? – спросил он, прищурившись, словно силясь узнать. По обе стороны его переносицы виднелись следы от очков. Возможно, он решил оставить очки внутри, чтобы не казаться таким хрупким.
– Нет.
Я даже не знал, кто такие Харрингтоны. Купившие дом после нашего отъезда носили фамилию Билднер. Это была молодая пара с маленькой дочкой. Однако с тех пор, как я последний раз видел этот дом, прошло более четверти века, и я представления не имел, сколько хозяев он сменил за эти годы.
– Хм. А как тебя зовут, сынок?
И каждый раз, когда он произносил это слово, для меня эхом звучал голос моего отца.
– Паркер, – ответил я. – Чарли Паркер.
– Паркер, – повторил он, пережевывая это слово, как кусок мяса, во вкусе которого он все еще сомневается. Потом он три раза быстро моргнул и его рот сжался в некоторую гримасу. – Да, теперь я понял, кто вы. А меня зовут Эйза, Эйза Дьюранд.
Он протянул руку, и я пожал ее.
– Как долго вы тут живете? – спросил я.
– Двенадцать лет, плюс-минус. До нас тут жили Харрингтоны, но они дом продали и переехали в Дакоту. Не знаю, в Северную или Южную. Не думаю, что это так важно, учитывая, что такое Дакота.
– Вы бывали в Дакоте?
– В которой?
– В какой-нибудь.
Он озорно улыбнулся, и я ясно увидел молодого человека, попавшегося в тело старика.
– С чего бы это я поехал в Дакоту? Не хотите войти внутрь?
Я услышал свои слова еще до того, как понял, что принял решение.
– Да, если не сочтете навязчивостью.
– Ничуть. Моя жена скоро вернется. Она по воскресеньям после обеда играет в бридж, а я готовлю ужин. Если хотите есть, то добро пожаловать. Тушеное мясо. По воскресеньям у нас всегда тушеное мясо. Больше я ничего готовить не умею.
– Нет, спасибо. Хотя с вашей стороны было очень любезно предложить.
Я прошел вместе с ним по садовой дорожке. Он слегка приволакивал левую ногу.
– Что вы получаете взамен за приготовление ужина, если позволите спросить?
– Более легкую жизнь, – ответил Дьюранд. – Сплю у себя в постели, не боясь, что меня задушат. – К нему вернулась улыбка, мягкая и теплая. – Ей нравится моя тушенка, а мне нравится, что ей нравится.
Мы дошли до входной двери. Дьюранд прошел вперед и открыл ее. Я на мгновение замер на ступеньке, а потом проследовал за ним внутрь, и он закрыл за мной дверь. Прихожая была ярче, чем я ее помнил. Она была покрашена в желтый цвет с белой каемкой. Когда я был мальчишкой, прихожая была красная. Теперь справа располагалась большая столовая со столом красного дерева и стульями, не очень отличавшимися от наших. Слева была гостиная. Там стоял телевизор с плоским экраном высокого разрешения, где некогда стоял наш «Зенит», в те дни, когда видеомагнитофоны были еще в новинку, и телекомпании учредили семейный час, чтобы уберечь молодежь от секса и насилия. Когда это было – в 1975-м? В 1976-м? Не помню.
Между кухней и гостиной больше не было стены. Ее снесли, чтобы создать единое пространство, так что маленькая кухонька моей юности со столом на четверых совершенно исчезла.
Я не мог представить маму в этом новом месте.
– Изменилось? – спросил Дьюранд.
– Да. Все изменилось.
– Это сделали другие люди. Не Харрингтоны, Билднеры. Это вы им продали?
– Да, им.
– Какое-то время дом пустовал. Пару лет. – Он отвел глаза, обеспокоенный тем, какое направление принимает разговор. – Хотите выпить? Есть пиво, если хотите. Я теперь не много его пью. Проходит через меня, как вода через трубу. Только было на одном конце – и уже на другом. А потом приходится подремать.
– Для меня это рановато. Впрочем, я бы выпил кофе, если не придется пить в одиночку.
– Кофе – это можно. После него я хотя бы не засыпаю.
Он включил старую замызганную кофеварку, достал чашки и ложки.
– Не возражаете, если я загляну в мою бывшую спальню? – спросил я. – Это маленькая комната, выходящая на улицу, с разбитым окном.
Дьюранд снова вздрогнул и с виду немного растерялся.
– Чертово стекло. Ребятишки разбили его, играя в бейсбол, а у меня просто руки не доходят его починить. И потом, мы особенно не пользуемся той комнатой, только как складом. Она вся заставлена коробками.
– Это не важно. Мне бы все равно хотелось взглянуть.
Он кивнул, и мы поднялись наверх. Я встал на пороге моей старой спальни, но не стал входить. Как и сказал Дьюранд, здесь было множество коробок, папок, книг и старого электрооборудования, на всем этом лежал толстый слой пыли.
– Я такой барахольщик, – извиняющимся тоном сказал Дьюранд. – Все это по-прежнему работает. Я не теряю надежды, что придет кто-нибудь, кому это может понадобиться, и я ему все передам.
Я стоял там, и коробки исчезли, растворились вместе с хламом, книгами и папками. Осталась только комната с серым ковром; белые стены с картинами и плакатами, шкаф с зеркалом, в котором я мог видеть свое отражение – отражение человека на пятом десятке с седеющими волосами и темными глазами; полки с книгами, заботливо расставленными по авторам; ночной столик с цифровым будильником, высшим достижением техники, показывающим 12:54.
И из гаража позади дома донесся звук выстрела. Через окно я увидел бегущих людей…
– Вы в порядке, мистер Паркер?
Дьюранд тихонько коснулся моего локтя. Я пытался заговорить, но не мог.
– Почему бы нам не спуститься? Я сварю вам чашечку кофе.
И фигура в зеркале стала призраком мальчика, которым я был когда-то. Я выдерживал его взгляд, пока призрак не поблек и не исчез.
Мы уселись на кухне, Эйза Дьюранд и я. Через окно я мог видеть рощицу серебристых берез, где когда-то был гараж. Дьюранд проследил за моим взглядом.
– Я слышал о случившемся, – сказал он. – Это ужасно.
Комната наполнилась ароматом дьюрандовского тушеного мяса. Пахло хорошо.
– Да, ужасно.
– Они снесли его, тот гараж.
– Кто?
– Харрингтоны. Соседи, мистер и миссис Розетти – они поселились, вероятно, года через два после вашего отъезда – рассказывали мне об этом.
– Зачем они снесли его? – Но задавая этот вопрос, я уже знал ответ. Удивительно было как раз то, что он так долго простоял нетронутый.
– Наверное, некоторые чувствовали, что в нем произошло что-то нехорошее, от этого оставалось эхо, – сказал Дьюранд. – Не знаю, правда ли. Я-то сам к таким вещам не чувствителен. Моя жена верит в ангелов, – он указал на крылатую фигурку в дымчатом одеянии, висевшую на крючке на кухонной двери, – вот только все ее ангелы напоминают фею Динь-Динь. Не думаю, что мы сможем отличить ангелов от фей.
И все-таки ребята Харрингтонов не любили заходить в гараж. Самая младшая девочка говорила, что там плохо пахнет. А мать сказала миссис Розетти, что там пахло, как будто…
Он замолчал и вздрогнул в третий раз. Это словно была его инстинктивная реакция, когда что-то его расстраивало.
– Ничего, – сказал я. – Продолжайте, пожалуйста.
– Она сказала, что пахнет так, как будто там выстрелили.
Мы оба помолчали.
– Зачем вы приехали сюда, мистер Паркер?
– Сам точно не знаю. Наверное, у меня есть вопросы, на которые нужно получить ответ.
– Знаете, на каком-то этапе жизни получаешь толчок пойти и раскопать прошлое, – сказал Дьюранд. – Перед смертью моей матери я усадил ее и заставил пройти по всей истории нашей семьи, по всему, что она помнила. Я хотел все это знать, наверное, чтобы понять, частью чего я являюсь, прежде чем все, кто может прояснить мне это, ушли навсегда. Это хорошо – знать, откуда пришел. Потом передашь это своим детям, и это поможет им не чувствовать себя брошенными на произвол судьбы, не такими одинокими… Но некоторые вещи лучше оставить в прошлом. О, я знаю, что психиатры, и терапевты, и бог знает кто еще, скажут вам совсем другое, но они ошибаются. Не всякую рану стоит ковырять и открывать, и не все неправильное нужно пересматривать или пинками и криками выволакивать на свет. Лучше просто дать такой ране зажить, даже если она не хочет заживать, и оставить ошибки или преступления в темноте и напоминать себе, что не надо ступать в тень, если этого можно избежать.
– Ну, в этом-то вся и штука, – сказал я. – Иногда этих теней не избежать.
Дьюранд потеребил губу.
– Да, я полагаю, иногда не избежать. Так это начало или конец?
– Начало.
– Тогда перед вами длинная дорога.
– Думаю, что так.
Я услышал, как открывается входная дверь. В прихожую вошла маленькая, слегка располневшая женщина с завитыми седыми волосами.
– Это я, – крикнула она.
Женщина не заглянула на кухню; сначала она сняла пальто, перчатки и шарф и в зеркале у вешалки проверила свою прическу и лицо.
– Хорошо пахнет, – сказала миссис Дьюранд и, обернувшись, вдруг увидела меня. – Господи!
– У нас гость, Элизабет, – сказал Дьюранд, и я встал, когда его жена вошла в комнату. – Это мистер Паркер. Он раньше жил здесь, в детстве.
– Рад познакомиться, миссис Дьюранд, – сказал я.
– Что ж, вы…
Она помолчала, соображая, а я наблюдал за сменой чувств на ее лице. В конце концов, ее черты сложились в выражение, которое я счел их обычным состоянием «по умолчанию»: мягкость, приправленная намеком на грусть, которая приходит с долгим жизненным опытом и пониманием, что дело идет к концу.
– Добро пожаловать, – проговорила миссис Дьюранд. – Сидите, сидите. Вы останетесь на ужин?
– Нет, не могу. Мне нужно идти. Я и так отнял у вашего мужа много времени.
Несмотря на ее врожденную учтивость и добродушие, я заметил ее облегчение.
– Вы уверены?
– Вполне. Спасибо.
Я встал, чтобы надеть пальто, и Дьюранд проводил меня до двери.
– Должен вам сказать, – сказал он, – что когда вас только увидел, то принял за кое-кого другого, и я имею в виду не детей Харрингтонов. Впрочем, только на секунду.
– За кого же вы меня приняли?
– Сюда приходил один человек, пару недель назад. Это было вечером, и было темнее, чем сейчас. Он делал то же, что и вы: какое-то время рассматривал дом, и даже зашел на лужайку, чтобы заглянуть туда, где раньше был гараж. Мне это не понравилось. Я рискнул выйти и спросить его, что он тут делает. И с тех пор я его не видел.
– Думаете, он присматривался к дому для ограбления?
– Сначала я действительно так подумал, но когда спросил его, оказалось, что нет. Не то чтобы грабитель, если он не туп, как дерево, мог сразу так и заявить, что вот, мол, думаю, не ограбить ли этот дом.
– Так что же он сказал?
– Охочусь. Вот, что он сказал. Одно слово. «Охочусь». Как по-вашему, что это означает?
– Не знаю, мистер Дьюранд, – сказал я, и он прищурился, словно размышляя, не обманываю ли я его.
– Потом он спросил меня, не знаю ли я, что здесь случилось, и я ответил, что не знаю, что он имеет в виду, а он сказал, что ему кажется, что знаю. Я не обратил внимания на его тон и сказал, чтобы он шел своей дорогой.
– Не помните, как он выглядел?
– Не очень хорошо. На нем была шерстяная шапка, натянутая до ушей, и шарф, закрывавший подбородок. Вечером было холодно, но не настолько. Он был моложе вас. Под тридцать – может быть, чуть больше. И повыше вас. Я близорук и не надел очки. Постоянно их забываю. Нужно купить цепочку. – Он понял, что отвлекся от темы и вернулся к ней. – Кроме этого, ничего особенного вспомнить не могу, разве что…
– Что?
– Я был рад, когда он ушел, вот и все. Он вызвал во мне беспокойство, и не потому, что зашел на мою лужайку и рыскал в моих владениях. Что-то в нем было такое… – Дьюранд покачал головой. – Не могу этого объяснить. Могу только сказать вам, что он не отсюда, и это будет точно, насколько возможно. Он не из такого места, как это, совсем не из такого.
Старик посмотрел на городок, на движение машин на улице, на огни у входа в бары и магазины у железнодорожной станции, темные силуэты прохожих, идущих домой к своим семьям. Это все было нормально, а человек, стоявший на его лужайке, не принадлежал к этому миру.
Наступила ночь. Уличные фонари выхватывали сугробы смерзшегося снега, заставляя их сиять в темноте. Дьюранд поежился.
– Будьте осторожны, мистер Паркер, – сказал он.
Мы пожали руки. Он оставался на пороге, пока я не вышел на дорожку, а потом взмахнул рукой и закрыл дверь. Я посмотрел на окно с выбитым стеклом, но там никого не было. Та комната была пуста. Оставшееся там не имело формы; призрак мальчика находился во мне, как это и было всегда.
Глава 4
В тот вечер я ужинал с Ангелом и Луисом в «Лесном барбекю» на Парк-авеню, недалеко от Юнион-сквер. Было трудно сделать выбор между «Лесным барбекю» и «Голубым дымком» на Двадцать седьмой, но победила новизна – а для Луиса еще перспектива поесть стейка с бобами. Когда дело доходит до мяса, Луис готов есть его с чем угодно, хоть с муссами и желе «Джелло». Если ему суждено умереть от проблем с сердцем, то, по крайней мере, он сделает это со вкусом.
Эти два человека, которые оба убивали, но лишь одного из которых, Луиса, можно было назвать прирожденным киллером, были теперь моими друзьями. Я не виделся с ними с конца прошлого года, когда они вляпались в одну историю на севере штата Нью-Йорк, и я пошел по их следам посмотреть, не могу ли помочь. Все кончилось не очень хорошо, и с тех пор мы держались друг от друга подальше – не по чьей-то злой воле, а потому что Луис беспокоился о возможных последствиях того дела и не хотел, чтобы я оказался запачканным в связи с этим. Впрочем, теперь он казался довольным – таким довольным, каким казался всегда, поняв, что худшее миновало. В конце концов, не всегда, когда Луис смеялся, весь мир смеялся вместе с ним. Наоборот, когда Луис смеялся, мир имел тенденцию посмотреть вокруг, не споткнулся ли кто и не насадил ли себя на какой-нибудь штырь.
Это всегда было забавным зрелищем – смотреть, как Ангел и Луис едят ребрышки, отчасти потому, что они казались двумя антиподами. Луис – высокий, черный и одетый, как манекен в выставочном зале, который вдруг вздумал сбежать и поискать помещение получше, – ел ребрышки, как человек, который боится, что тарелка в любую секунду может исчезнуть, и потому он должен съесть как можно больше и как можно скорее. Ангел же, маленький и белый (или, как он любил называть – «белесый») и всегда выглядевший так, будто он спал в этой своей одежде, и не только он, но и другие в ней тоже поспали, клевал свою порцию, можно сказать, деликатно, как маленькая птичка, если бы она могла удержать ребрышко в лапках. Они пили эль, а я попивал из бокала красное вино.
– Красное вино, – сказал Ангел. – В заведении, где дают ребрышки. Знаешь, мы, конечно, гомики, но даже мы не пьем красное вино в таких заведениях.
– Тогда, наверное, если бы я был гомиком, то просто был бы утонченнее в своей гомосексуальности, чем вы. Вообще-то, независимо от ориентации, я и так утонченнее вас.
– Ты не ешь? – спросил Луис, указывая почти сгрызенным ребрышком на кучку обглоданных костей у меня на тарелке.
– Я не настолько голоден, – ответил я. – Да и все равно, посмотрев на вас, я задумался о вегетарианстве. Или, может быть, лучше вообще бросить есть. По крайней мере, на людях, и уж точно никогда не есть вместе с вами.
– И кой черт тебя в нас не устраивает? – с напускной обидой спросил Ангел.
– Ты ешь, как престарелая леди. А он – как будто только что оттаял, пролежав века вместе с мамонтом.
– Предложишь нам пользоваться ножом и вилкой?
– А вы знаете, как пользуются ножом и вилкой?
– Не подначивай меня, мисс Благовоспитанность. Ножи здесь острые.
Луис догрыз последнее ребрышко, вытер лицо салфеткой и со вздохом откинулся на спинку стула. Если его сердце могло бы вздохнуть с облегчением, оно бы эхом повторило за ним.
– Я рад, что сегодня надел свои обеденные штаны, – сказал он.
– Я тоже рад, – откликнулся я. – Если бы ты был в своих обычных штанах, одна из пуговиц уже бы отлетела кому-нибудь в глаз.
Приподняв бровь, он ждал, что я скажу еще.
– Извини, – сказал я. – Ты по-прежнему по-юношески строен.
Ангел сделал знак официанту, чтобы принес еще пива, после чего сказал:
– Ты об этом с нами хотел поговорить?
Но они уже в основном знали, в чем дело. Я лишился своей лицензии частного детектива, и мой адвокат, Эми Прайс, все еще боролась за ее восстановление. На каждом шагу ей препятствовала полиция штата, особенно детектив по фамилии Хансен. Насколько Эми смогла установить, ордер на аннулирование моей лицензии пришел от высокого начальства, а Хансен просто выполнял поручение. Оставалась возможность подать в суд, но Эми была не уверена, что это поможет. В вопросах лицензий полиция штата была верховным арбитром, и любой суд в Мэне, скорее всего, руководствовался бы их решением.
Мое разрешение на ношение огнестрельного оружия тоже было аннулировано, хотя формальная сторона дела оставалась неясной как мне, так и моему адвокату. Сначала мне велели передать все имеющееся у меня оружие до окончания, как они выразились, «расследования», и мне было сказано, что это временно.
Я отдал мое лицензированное оружие (и припрятал нелицензированное после анонимного намека, что придут копы с ордером на обыск), которое мне впоследствии вернули, когда стало очевидно, что уведомление об изъятии было сомнительно с юридической точки зрения и, возможно, нарушало Вторую поправку. Менее спорным было решение аннулировать мое разрешение носить скрытое оружие в штате Мэн на том основании, что мои прошлые действия выставили меня как «небезопасную» персону. Эми работала над этим тоже, но пока кирпичная стена была более податлива, чем полиция. Меня наказывали, но как долго продлится наказание, оставалось под вопросом.
Теперь я работал менеджером зала в баре «Великий заблудший медведь» в Портленде, это была неплохая работа, к тому же она занимала всего четыре дня в неделю, но я не видел в этом своего призвания. Мне показалось, что мое положение не вызвало большого сочувствия в местных правоохранительных органах. Я не мог вспомнить, каким образом я нажил стольких врагов, пока Эми не потрудилась объяснить мне в точности, как я умудрился это сделать, и тогда для меня все стало немного яснее.
Странно, но меня не волновало случившееся так, как могли подумать Хансен и его начальство. Да, это задевало мое самолюбие, и Эми боролась за меня отчасти из принципа, а в основном потому, что я не хотел, чтобы Хансен и те, кто над ним, думали, что я сейчас лягу и умру от их решения, но в некотором смысле я чуть ли не радовался, что не могу продолжать свою практику частного детектива. Это давало мне свободу, освобождало от обязанности помогать другим. Если бы я сейчас взялся за какое-то дело, даже неофициально, это, вероятно, грозило бы мне тюрьмой. Действия полиции штата давали мне разрешение быть эгоистом и заниматься собственными делами. И у меня появилось несколько месяцев, чтобы решить, что делать.
Что бы ни подумал старик Дьюранд несколькими часами раньше, для меня было не простым решением покопаться в своем прошлом и поставить под сомнение обстоятельства смерти моего отца. Один тип, гнусный тип по имени Куссиил, более известный как Коллекционер, нашептал мне, что у моей семьи были тайны, что моя группа крови противоречит моему предполагаемому происхождению. Какое-то время я пытался скрыть от самого себя то, что он сказал. Мне не хотелось этому верить. Пожалуй, моя работа в баре отчасти была формой бегства. Я заменил свои обязательства перед клиентами обязательствами перед Дэйвом Эвансом, одним из владельцев «Медведя», человеком, предложившим мне эту работу. Но время шло, снова наступила зима, и я принял решение.
Потому что Коллекционер не соврал или, во всяком случае, не совсем соврал. Группа крови и правда не совпадала.
Как только начался новый год, я начал задавать вопросы. Сначала я попытался установить контакт с теми, кто знал моего отца, а особенно с работавшими вместе с ним копами. Некоторые уже умерли. Другие исчезли с радара, выйдя на пенсию, как иногда случается с теми, кто отслужил свой срок и хочет только получать пенсию и отойти от всего этого. Но я знал имена двоих, с кем мой отец был особенно близок, усталых копов, закончивших полицейскую академию вместе с ним, – Эдди Грейса, который был на пару лет старше моего отца, и Джимми Галлахера, старого товарища и лучшего друга моего отца. Моя мать иногда ласково называла отца и Джимми «дружками дня рождения», намекая на их загулы дважды в год. Это были единственные случаи, когда отец пропадал на всю ночь, и, в конце концов, снова появлялся незадолго до полудня следующего дня, когда тихо возвращался, чуть ли не извиняясь, слегка помятый, но никогда не блюя и не спотыкаясь, и потом спал до вечера. Моя мать никогда это не комментировала. Она прощала ему такой грешок, а у него было мало грешков – или так мне казалось.
И еще был сам Джимми Галлахер. В последний раз я видел его какое-то время спустя после похорон, когда он пришел к нам спросить, как мы, и мать сказала ему, что собирается уехать из Перл-Ривер и вернуться в Мэн. Мать отослала меня спать, но что, подросток не подслушает с лестницы в поисках информации, которую, несомненно, от него утаивали? И я услышал, как моя мать сказала:
– Насколько ты был в курсе, Джимми?
– В курсе чего?
– Всего этого: девушки, появившихся людей. Что из этого ты знал?
– Я знал про девушку. Остальное…
Я чуть ли не увидел, как он пожимает плечами.
– Уилл сказал, что это были те же самые люди.
Джимми какое-то время молчал. Потом проговорил:
– Это невозможно. Ты знаешь, что это невозможно. Одну я убил, а другой погиб несколькими месяцами раньше. Мертвые не возвращаются, такого не бывает.
– Он шепнул мне это, Джимми. – Она сдерживала слезы, но из последних сил. – Это последнее, что он мне сказал. Сказал, что это были они.
– Он был напуган, Элейн, он боялся за тебя и мальчишку.
– Но он убил их, Джимми. Убил, а они даже не были вооружены.
– Не знаю почему…
– А я знаю: он хотел остановить их. Он знал, что, в конце концов, они вернутся. Им бы не понадобилось оружие. Если надо, они бы это сделали голыми руками. Может быть…
– Что?
– Может быть, так им было бы даже удобнее, – закончила она.
И теперь заплакала. Я слышал, как Джимми встал, и знал, что он обнял ее, утешая.
– Мы никогда точно не узнаем. Я знаю одно: он любил тебя. Любил вас обоих и сожалел о том, что сделал, ранив тебя. Думаю, все эти годы он пытался загладить свою вину, но не смог. Это была не твоя вина. Он не мог простить себе, вот и все. Просто не мог…
Рыдания матери усилились, и я отвернулся и как можно тише ушел в свою комнату, где стал смотреть из окна на луну, на Франклин-авеню и на дорожку, по которой отец никогда не пройдет снова.
Пришел официант забрать тарелки. На него, похоже, произвело впечатление, как Ангел и Луис уничтожали пищу, а вот я его разочаровал. Мы заказали кофе и стали смотреть, как заведение постепенно пустеет.
– Мы что-нибудь можем сделать? – спросил Ангел.
– Нет. Я думаю, это мое дело.
Он, видимо, заметил, что у меня что-то на уме, мысль проявилась у меня на лице.
– Ты чего-то не договариваешь?
– Тот старик, Дьюранд, сказал, что пару месяцев назад туда приходил какой-то парень, по его словам, под тридцать, может быть, чуть старше. Что-то высматривал. Дьюранд спросил, что ему надо, и тот ответил: «Охочусь».
– В Перл-Ривер? – сказал Ангел. – За чем же он охотился, за эльфами?
– Это могло тебя не касаться, – вмешался Луис.
– Может быть, – согласился я. – Но он спросил Дьюранда, знает ли он, что там произошло.
– Искатель острых ощущений. Турист по местам убийств. Такие встречались раньше.
– Дьюранд сказал, что ему стало не по себе, вот и все. И не мог объяснить почему.
– Тогда ты ничего не можешь сделать, если только он не появится снова.
– Да, в Нью-Йорке бродит парень под тридцать, от которого людям не по себе. Нетрудно отыскать. Черт возьми, да такому описанию соответствует половина состава нью-йоркской полиции!
Мы заплатили по счету и вышли в ночь.
– Обращайся в любое время, – сказал Ангел. – Мы рядом.
Они окликнули такси, и я проводил их взглядом. Когда они скрылись из виду, я вернулся в ресторанчик и, сев у стойки, снова стал потягивать вино. Я думал о том охотнике и гадал, не за мной ли он охотился.
И в глубине души мне хотелось, чтобы он пришел.
Глава 5
«Великий заблудший медведь» был портлендским заведением. Он занимал помещение на Форест-авеню, вдали от главной туристской трассы в Старом порту, где когда-то располагался бар под названием «Вверх дном». Там играли средней величины группы, находившиеся на пути вверх или же на пути на дно, или просто достигли плато, где важно было просто выступать перед довольно внушительной толпой, предпочтительно такой, которая не начнет швырять бутылки, когда музыканты закончат играть хиты, чтобы презентовать новую песню.
В ресторане осталось сценическое освещение, и от этого всегда казалось, что то ли ужин является только прелюдией к главному действию, то ли сам и является главным действием. Половину здания занимала булочная, и в 11:30 вечера, когда в баре наливали последнюю порцию, помещение наполнялось запахом выпечки, вызывая в посетителях пароксизм обжорства, когда кухня уже не работала.
Когда бар сменил хозяев в 1979 году, он стал известен как «Медведь гризли», пока какая-то сеть пиццерий на Западном побережье не воспротивилась этому названию, и его заменили на «Великий заблудший медведь», что все равно вызывало больше чувств. Главное, чем славился «Медведь», кроме его общей веселой атмосферы и того обстоятельства, что здесь допоздна подавали еду, – это большой выбор пива: в любой момент предлагалось пятьдесят шесть отборных сортов, а иногда даже до шестидесяти. Несмотря на свое расположение в тихой части города неподалеку от студенческого кампуса Южно-Мэнского университета, он с годами завоевал солидную репутацию, и теперь летом, когда обычно бизнес замедляется, у него было самое горячее время.
Кроме местных жителей «Медведь» привлекал пивных фанатов, большинство из которых были мужчины, и мужчины определенного возраста. Они не причиняли беспокойства, не позволяли себе лишнего и, как правило, довольствовались тем, что говорили о хмеле, бочках и малоизвестных микропивоварнях, о которых не слыхали даже некоторые бармены. По сути, чем менее известны они были, тем лучше, потому что среди определенных групп любителей пива в «Медведе» шло своего рода соревнование. Порой вид какой-нибудь женщины мог на время отвлечь их от насущной задачи, но женщины никуда не денутся. А не всегда рядом окажется парень, который перепробовал все пивоварни в Портленде штата Орегон, но знавший маловато о Портленде штата Мэн.
Я работал менеджером зала в «Медведе» чуть больше четырех месяцев. Я не испытывал нужды в деньгах, пока еще не испытывал, но имело смысл найти какую-то работу, пока Эми Прайс боролась за мои интересы. Мне нужно было поддерживать дочку, хотя ее мать не выколачивала из меня деньги. Иногда у меня возникала мысль, что Рэйчел предпочла бы, чтобы я совсем не участвовал в жизни Сэм, хотя она никогда не давала мне повода прийти к такому заключению. Мне позволялось навещать Сэм в Вермонте в любое время при условии, что я заранее предупрежу Рэйчел. И все равно иногда я вдруг ощущал потребность увидеть Сэм (и, сказать по правде, Рэйчел тоже, потому что у нас были незаконченные дела) и ехал в Берлингтон по своему капризу. Кроме неодобрительного взгляда отца Рэйчел порой, поскольку она и Сэм жили в примыкающем доме на земле ее родителей, такие незапланированные визиты пока не вызывали между нами никаких трений.
После развода мы с Рэйчел переспали пару раз, но ни она, ни я не поднимали вопроса о примирении. Я считал такое невозможным, теперь уже невозможным, но это не мешало мне любить ее. И все же такая ситуация не могла продолжаться вечно. Нас относило все дальше и дальше друг от друга. Все было кончено, но никто из нас еще этого не сказал.
Был четверг, начало пятого, и в «Медведе» было тихо. Ну, сравнительно тихо. За стойкой сидели трое. Двое были завсегдатаи, классические зимние типажи штата Мэн – в поношенных ботинках, бейсболках и достаточно укутанные, чтобы оградить себя от эффекта второго ледникового периода, когда кто-то еще не догадался открыть бар в пещере и начать варить пиво. Их звали Скотти и Фил. Обычно с ними был третий парень по имени Дэн или, как порой его называли, «Дэн-мужик», «Дэнни-пацан» или, когда он не слышал, «Дэн-болван», но в данном конкретном случае Дэн отсутствовал, и его место занимал человек, которого нельзя было считать завсегдатаем, но, похоже, пока я работал там, он собирался стать таковым.
Это могло оказаться не так уж хорошо. Вообще Джекки Гарнер мне нравился. Он был преданным и смелым и помалкивал о том, что сделал для меня, но что-то гремело у него в голове, когда он ходил, и я не был уверен, что он вполне нормален. Он был единственным человеком из всех, кого я знал, который добровольно пошел в военную школу вместо обычной, поскольку ему нравилась мысль, что его научат стрелять, колоть и взрывать. Любопытно, что он был также единственным, кого по-тихому исключили из военной школы за излишне страстную приверженность к стрельбе, колотью и особенно взрыванию; этот его энтузиазм потенциально делал его смертельно опасным не только для противника, но и для своих товарищей. В конечном итоге армия нашла для него место в своих рядах, но так и не научилась управлять им, и было трудно не почувствовать тихой радости в вооруженных силах Соединенных Штатов, когда Джекки, наконец, демобилизовали по состоянию здоровья.
Хуже было то, что кроме Джекки сюда ходили братья Фульчи, Тони и Поли, и на фоне этих братьев, двух блокгаузов в форме человека, Джекки выглядел матерью Терезой. Пока что они не почтили «Медведь» своим присутствием, но это было делом времени. Я так и не придумал, как сказать Джекки, что ему придется освободить пару стульев, закрепленных за ними. Я понимал, что, когда он услышит, что Фульчи могут стать постоянными посетителями, он просто застрелит меня или, может быть, ощетинится пушками и приготовится к осаде.
– Дэна нет поблизости? – спросил я Скотти.
– Нет, он опять в больнице. Возомнил себя шизофреником.
Это казалось логичным. Он определенно был чем-то, заканчивающимся на – ик. Шизофреник подходил, пока врачи не убедятся, кто же он на самом деле.
– Он все еще ухаживает за той девушкой? – спросил Фил.
– Ну, какой-то частью, – ответил Скотти и рассмеялся.
Фил нахмурился. Он не был так смышлен, как Скотти. Он никогда не голосовал на выборах, потому что, как говорил, машины для голосования были для него слишком сложны. Один из его братьев, еще менее интеллектуально одаренный, попал в тюрьму после того, как написал в передачу «Схватить хищника»[2] письмо с просьбой организовать ему свидание.
– Вы знаете: она не очень сообразительна, – продолжал Фил, словно Скотти ничего ему не сказал, и на какое-то время задумался. – Лиа, вспомнил. Тупа, как коробка пончиков.
Старая поговорка о живущих в стеклянных домах никогда действовала на Фила. Он был из тех парней, кто бросает камень в стеклянный дом, а потом удивляется, что камень не отскочил.
– Это мягко сказано, – сказал Скотти. – Девушка сделала себе тюремную татуировку и не смогла даже правильно написать свое имя. Три долбаные буквы. Неужели так трудно? Сейчас она вытатуировала на руке «Лаи» и рассказывает всем, что она гавайка.
– Она разве не в каком-то культе?
– Да. И его тоже не может написать правильно, или рука сбивается. Теперь она прикрывает свою левую руку, особенно в церкви.
– Да, не похоже, чтобы кто-то захотел подцепить Дэна-мужика, – сказал Джекки. – Он живет с матерью и спит на кровати в виде гоночного автомобиля.
– Джекки, – напомнил я, – ты тоже живешь с матерью.
– Да, но я не сплю на кровати в виде автомобиля.
На этом я их оставил, размышляя, не стоит ли этим троим первым запретить вход в бар, и отправился помочь Гэри Мейзеру складывать отечественные бутылки. Я нанял Гэри вскоре после того, как стал менеджером зала, и он справлялся хорошо. Когда мы закончили и я налил нам обоим по чашечке кофе, Джекки, Фил и Скотти, к несчастью, еще не ушли. Джекки вслух читал газету.
– Это снова тот парень, который из Огункита, которого похитили инопланетяне, – объяснял он. – Говорит, что больше не может включить свой телевизор. Говорит, что каналы сами все время переключаются, и у него от этого шумит в голове. – Джекки помолчал, обдумывая это. – Почему такое случается с парнями из Огункита?
– Или из Форт-Кента, – сказал Скотти.
– Да, из Форт-Кента, – подтвердил Фил. Все трое кивнули в торжественном согласии. На востоке была широко распространена вера, что, если пройти достаточно далеко на север Мэна, люди становятся действительно странными. Учитывая, что Форт-Кент находился так далеко на севере, насколько человек только может добраться без канадского гражданства, тамошние жители должны быть странными с головы до ног.
– Я вот что не понимаю, – продолжал Джекки, – что собираются эти пришельцы разнюхать, засунув зонд в задницу парню из Огункита?
– Кроме очевидного, – сказал Фил.
– Что не надо такого больше делать, – пояснил Скотти.
– Им бы надо похищать ученых-ядерщиков или генералов, – сказал Джекки. – А они, кажется, только и делают, что хватают всяких оборванцев и деревенских увальней.
– Рядовых, – сказал Фил.
– Первая волна[3], – сказал Скотти. – Инопланетянам придется их, знаешь, подавлять.
– Но зачем зондировать? – спросил Джекки. – Что им с этого?
– Может быть, кто-то дергает их за нитку, – сказал Фил. – Какой-нибудь житель с Венеры: «Эй, засуньте им в задницу зонд, и они засветятся».
– Они пляшут под чью-то дудочку, – сказал Скотти.
– Я просто этого не понимаю, – заключил Джекки.
У конца стойки какой-то человек что-то строчил в блокнот. Его лицо показалось мне знакомым, и я подумал, что мы могли видеться на прошлой неделе, хотя он не был завсегдатаем. Ему было немного за пятьдесят, на нем был твидовый пиджак и белая рубашка с отложным воротничком. Он был коротко подстрижен, и то ли он хорошо сохранился, то ли усиленно пользовался краской для волос. Когда я обслуживал его раньше, то уловил запах дорогого лосьона после бритья. Сейчас у него оставалось чуть-чуть пива в кружке, с палец толщиной. Я направился к нему.
– Не желаете добавить?
Увидев меня, он закрыл свой блокнот и посмотрел на часы.
– Спасибо, только счет.
Я кивнул и пододвинул ему чек.
– Милое местечко, – сказал он.
– Да.
– Давно здесь работаете?
– Нет. Я бы и сегодня не работал, если бы не заболел один из барменов.
– То есть? Вы менеджер?
– Да, типа того.
– Хм. – Он пожевал губами, словно бы что-то обдумывая насчет меня. – Ну, я пошел. Зайду еще.
– Конечно. – Я проводил его взглядом, и Джекки что-то уловил в выражении моего лица.
– Что-то не так?
– Да вроде ничего.
Но в тот вечер у меня не было времени подумать об этом незнакомце. Четверг в «Медведе» всегда был днем микропивоварен с особыми сортами, и в тот вечер мы угощали продукцией маленькой пивоварни близ Линкольнвиля под названием «Эндрюс Бруинг Компани», которой заведовали отец и сын. Через несколько минут на нас нахлынул вал посетителей, и весь вечер я мог лишь как-то держаться на плаву. Две большие компании справляли день рождения, одна чисто мужская, а другая исключительно женская; они ввалились одновременно и в течение вечера начали смешиваться в неразличимое целое, в массу подпитанной алкоголем похоти. Тем временем у стойки редко оставалось больше одного свободного места, словно всем приспичило поесть и выпить. Учитывая недостаток рабочих рук, это означало, что мы с Гэри работали на полной скорости в течение шести часов без перерыва. Я даже не заметил, как ушел Джекки, наверное, я менял бочонок, когда он исчез в ночи.
– Сейчас все еще февраль, верно? – спросил Гэри, готовя партию коктейлей «Маргарита» для Сары, одной из штатных официанток, которая всегда повязывала голову шарфом, от чего ее было легко заметить в такие вечера.
– Думаю, да.
– Тогда откуда же приперлась вся эта толпа? Ведь февраль.
Примерно в половину одиннадцатого стало потише, и нашлось время пополнить запасы и залатать дыры. Один из поваров здорово порезал себе ножом ладонь, и нужно было зашить рану. Теперь в «Медведе» стало поспокойнее, и он смог поехать в травмпункт. Кроме того, как обычно, на кухне случались споры и ссоры. Надо отдать поварам должное: они не давали соскучиться. Работавшие в «Медведе» были еще не из худших. Я знавал людей в этом бизнесе, которые проводили значительную часть своего времени, вытаскивая поваров из тюрьмы, подыскивая им места для ночлега, когда их старухи выгоняли их на улицу, а порой и колотя их, чтобы держать в повиновении.
У двери заняла позицию компания портлендских копов. Гэри присматривал за ними бо́льшую часть вечера. «Медведь» был у местных правоохранительных органов популярным местом для отдыха: здесь была парковка, хорошее пиво и до закрытия давали поесть, место было достаточно далеко от Старого порта и штаб-квартиры Портлендского полицейского департамента, от чего они чувствовали себя вне зоны видимости радара. Возможно, их привлекала и обстановка бункера. В «Медведе» было не много окон, да и те по большей части замурованы кирпичом, и если выключить свет, наступала кромешная тьма.
Теперь я увидел, что толпа копов слегка разделилась, и к стойке направилась знакомая фигура. Сперва я подумал, что это портлендские копы, но я ошибся. По крайней мере, один из них был из полиции штата – Хансен, детектив из Грея, который более чем кто-либо другой получал удовольствие от моего нынешнего положения. Он хорошо выглядел, его глаза были скорее зеленые, чем голубые, очень черные волосы и постоянный темный отлив на лице от многолетнего бритья электрической бритвой. Как обычно, одет он был получше, чем обычный коп. На нем был хорошо скроенный темно-синий костюм и синий узорчатый галстук с золотой заколкой, сверкавшей, когда на нее падал свет от фонарей над стойкой.
Он сел отдельно от остальной компании и поставил на стойку почти пустую кружку, потом сложил руки и стал ждать, когда я к нему подойду. Я выждал пару секунд, но потом сдался и подошел.
– Что будете пить, детектив?
Он не ответил. Его челюсть пошевелилась, задние зубы потерлись о передние. Я гадал, сколько он уже выпил, и решил, что, вероятно, не очень много. Он не выглядел человеком, который любит отрываться.
– Я прослышал, что вы здесь работаете, – наконец, сказал он.
– Полагаю, зашли проведать?
– Это не просто дружеский визит.
– Я догадался. Не думаю, что дружелюбие в вашем характере.
Он отвел глаза и слегка покачал головой – благоразумный человек встретился с неблагоразумным.
– Что вы тут делаете? – Он охватил презрительным жестом стойку, посетителей, а может быть, и весь мир.
– Зарабатываю на хлеб. Вы с вашими дружками копаетесь в моей профессиональной деятельности. Я временно нашел другую работу.
– Временно? Вы полагаете? Я слышал, ваш адвокат подает много жалоб от вашего имени. Желаю ей удачи. Берите побольше чаевых. Она работает не бесплатно.
– Что ж, у вас есть шанс внести свою лепту в это дело. Вам долить или вы сами нальете мочи и уксуса?
Хансен подался вперед, его глаза, теперь я увидел, были слегка залиты. То ли он выпил больше, чем я думал, то ли плохо переносил спиртное.
– Сюда заходят полицейские. У вас нет ни капли достоинства? Вы позволяете хорошим полицейским видеть, как вы работаете за стойкой. Чего вы добиваетесь? Хотите бросить это им в лицо?
Этот вопрос я задавал себе сам. Даже Дэйв, когда предложил мне эту работу, сказал, что поймет, если я откажусь, потому что здесь выпивают копы. Я ответил ему, что меня не очень волнует, кто что подумает, но, возможно, Хансен оказался проницательнее, чем я полагал. В моем решении пойти работать в «Медведь» был элемент упрямства. После случившегося я не хотел просто уползти прочь. Правда, некоторые заходившие в бар копы сперва смущались, увидев меня, а пара из них открыто выказывала мне пренебрежение, но эти ребята и так всегда меня недолюбливали. А остальные держались хорошо, и некоторые выражали сочувствие. Но это тоже не имело значения. Я был рад дать делам отдых. Это давало мне время заняться тем, чем хотел.
– Знаете, детектив, если бы не знал вас лучше, я бы подумал, что у вас от меня встает. Может быть, мне познакомить вас с некоторыми людьми? Это могло бы снять некоторое напряжение. Или можете поместить объявление в «Фениксе». Множеству парней не терпится повесить фото человека в форме у себя в чулане.
Хансен выпустил холодный смешок, как выдул отравленную стрелу из трубки.
– Лучше придержите свой юмор, – сказал он. – Человеку, который возвращается в пустой дом, пропахнув несвежим пивом, нужно над чем-то посмеяться.
– Не в пустой, – ответил я. – У меня есть собака.
Я забрал его кружку. Похоже, он пил «Эндрюс» темное, поэтому я налил ему того же и поставил перед ним.
– За счет заведения. Мы любим делать приятное хорошим посетителям.
– Пейте сами, – сказал он. – Мы закончили.
Он достал бумажник и положил двадцатку.
– Сдачи не надо. На это много не купишь, но в Нью-Йорке купишь еще меньше. Не хотите мне рассказать, что вы там собираетесь делать?
Он застал меня врасплох, но мне не следовало слишком удивляться. В последние месяцы меня пять раз останавливали полицейские штата – кто-то хотел показать мне, что про меня не забыли. Теперь какой-нибудь коп в портлендском Джетпорте, вероятно, узнал меня, когда я летел в Нью-Йорк или возвращался оттуда, и позвонил. Впредь надо быть осторожнее.
– Я навещал друзей.
– Друзей – это хорошо. Человеку нужны друзья. Но я вижу, что вы что-то расследуете, и я вам помешаю.
Он отвернулся и, попрощавшись со своими товарищами, ушел. Как только дверь за ним закрылась, ко мне робко подошел Гэри.
– Все в порядке?
– Все прекрасно. – Я протянул ему двадцатку. – Думаю, это тебе.
Гэри посмотрел на нетронутое пиво.
– Он не выпил.
– Он приходил сюда не пить.
– А зачем?
Это был хороший вопрос.
– Так, для компании, я думаю.
Глава 6
Вернувшись, наконец, домой в начале двенадцатого, я вывел Уолтера, моего лабрадора, погулять. Снег уже утратил для него прелесть новизны, как и для большинства тварей, будь то люди или животные, кто пробыл в Мэне зимой больше недели. Теперь он лишь быстренько понюхал там и сям, прежде чем сделать свои дела, а потом выказал предпочтение вернуться в свою теплую корзину, повернувшись и направившись прямиком обратно домой. За последний год он здорово повзрослел. Возможно, потому, что дом стал спокойнее, чем раньше, и пес как-то свыкся с тем, что Рэйчел и Сэм больше не являются частью его повседневной жизни. Мне нравилось держать в доме пса по множеству причин: безопасность, компания, и, может быть, потому что он связывал меня с семейной жизнью, которой у меня больше не было. Я потерял две семьи: Рэйчел с Сэм уехали в Вермонт, а Сьюзен с Дженнифер попали в руки к человеку, который растерзал их и за это умер от моей руки. Но я также чувствовал вину перед Уолтером за то, что так надолго оставляю его одного или с моими соседями Джонсонами. Они с радостью присматривали за ним, когда меня не было, но Боб стал слабоват на ноги, и было трудно просить его регулярно гулять с игривым псом.
Я запер двери, в последний раз потрепал Уолтера по спине и лег, пытаясь уснуть, но, когда во сне явились Сьюзен с Дженнифер, такие живые, я проснулся в темноте, уверенный, что слышал чей-то голос. Уже много месяцев они снились мне подобным образом.
Как я называю их? Даже теперь, спустя столько лет, как я произношу это? Моя убитая жена? Моя покойная дочь? Они умерли, но я слишком долго храню что-то от них в себе, и за это они проявляются фантомами, отголосками следующей жизни в этой, и я не могу найти в себе силы называть их именами тех, кого любил. Иногда мне кажется, что мы сами не даем себе покоя, или скорее мы предпочитаем не иметь покоя. Если в нашей жизни есть какая-то дыра, то что-то заполнит ее. Мы приглашаем это что-то внутрь, и оно охотно соглашается.
Но с ними я обрел покой, думал я. Сьюзен, моя жена. Дженнифер, моя дочь. Мои любимые, и я – их любимый.
Сьюзен как-то сказала мне, что если что-то случится с Дженнифер, если она безвременно умрет, раньше своей матери, то я не должен говорить ей о случившемся. Не должен пытаться объяснить ей, что ее дитя умерло. Не должен причинять ей эту боль. Если Дженнифер умрет, я должен убить Сьюзен. Никаких слов, никаких предупреждений. Она не должна успеть посмотреть на меня и понять. Я должен отобрать у нее жизнь, потому что она не верила, что сможет жить без своего ребенка. Она не могла бы этого перенести и не могла бы вытерпеть эту боль. Это не убило бы ее, не убило бы сразу, но все равно вытянуло бы из нее жизнь, и осталась бы лишь пустая оболочка, оболочка женщины, звенящая горем.
И она бы возненавидела меня. Возненавидела за то, что погрузил ее в такую печаль, что во мне не хватило любви, чтобы избавить ее от этого. Я был бы в ее глазах трусом.
– Пообещай мне, – сказала она, когда я прижал ее к себе, – пообещай, что ты не дашь такому случиться. Я даже не хочу слышать этих слов. Не хочу таких страданий. Я не перенесу этого. Ты слышишь? Это не шутка, не «что, если…». Я хочу, чтобы ты пообещал мне. Обещай, что мне никогда не придется терпеть эту боль.
И я пообещал. Я знал, что не смогу выполнить ее просьбу, и она, возможно, тоже знала, но я все же дал такое обещание. Вот что мы делаем с теми, кого любим: мы лжем им, чтобы уберечь. Не всякая правда хороша.
Но она ничего не сказала о том, что делать мне, если их обеих оторвут от меня. Должен ли я отобрать жизнь у себя? Должен ли последовать вслед за ними в темноту, пройти по их следам в преисподнюю, пока не разыщу их там – жертвоприношение с единственной целью не смиряться с утратой? Или я должен продолжать жить, а если должен, то как? Какую форму должна принять моя жизнь? Должен ли я умереть в одиночестве, поклоняясь святыне их памяти, дожидаясь, что жизнь сделает то, чего я не смог сделать сам, или мне попытаться найти способ жить с этой утратой, выжить, не предав их памяти? Что должны сделать оставшиеся жить, чтобы почтить память ушедших, и как далеко они могут зайти, не предав эту память?
Я остался жить. Вот что я сделал. Их у меня забрали, но я остался. Я нашел того, кто убил их, и убил его, но это не принесло мне удовлетворения. Это не облегчило жгучую печаль. От этого не стало легче переносить утрату, и это чуть ли не стоило мне души, если на самом деле она у меня была. Коллекционер, бывший подлинным хранилищем старых тайн, как-то сказал мне, что у меня ее нет, и иногда я склонен ему верить.
Я по-прежнему каждый день чувствую утрату. Это чувство никогда не покидает меня. Оно определяет всю мою жизнь.
Я лишь тень, отброшенная всем тем, что было когда-то.
Глава 7
Дэниэл Фарадей сидел в цокольном этаже, чувствуя, что его скорбь постепенно уступает место гневу. Сын уже четыре дня как умер, а его тело все еще в морге. Уверяли, что его выдадут для похорон на следующий день. Начальник полиции тоже обещал, когда приходил сегодня.
За несколько дней после того, как останки Бобби были найдены, Дэниэл и его жена у себя дома превратились в призраков, стали существами, жизнь которых определялась только утратой, пустотой и скорбью. Их единственный сын умер, и Дэниэл знал, что его смерть означает также полную смерть их брака, осталось лишь название. Бобби держал родителей вместе, но его отец не понимал, как многим они обязаны сыну, пока тот не поступил в колледж, а потом вернулся. Все их разговоры крутились вокруг дел любимого сына: их надежды на него, страхи, случайные разочарования, хотя последние казались столь тривиальными, что сейчас Дэниэл молча бранил себя, что ставил их в вину мальчику. Он сожалел о каждом грубом слове, каждом споре, каждом часе сердитого молчания после конфликта. И вспоминая обо всем этом, он припоминал обстоятельства каждого разногласия и понимал, что каждое слово, сказанное в злобе, было также словом любви.
Это было пространство сына. Здесь был телевизор, стереоаппаратура и место для его айпода, хотя Бобби был из тех, кто по-прежнему предпочитал слушать музыку на виниле, когда был дома. Он унаследовал старую отцовскую коллекцию записей, по большей части классику шестидесятых и семидесятых, дополнив ее полками пластинок из магазинов старых записей и со случайных распродаж домашних вещей. На проигрывателе все еще лежала долгоиграющая пластинка, оригинальный экземпляр «After Gold Rush» Нейла Янга, ее поверхность покрылась паутиной мельчайших царапин, но, очевидно, для Бобби щелчки и шипение являлись частью истории: теплота и душевность этих звуков очаровывала накопленными за годы изъянами.
Бо́льшая часть цокольного этажа была застелена огромным ковром, от которого всегда слегка попахивало пролитым пивом и старыми картофельными чипсами. Здесь были книжные стеллажи и серый металлический, из пушечной бронзы, шкаф с выдвижными ящиками, где хранились в основном старые фотографии, конспекты и учебники, а также, втайне от матери, несколько эротических фото. Здесь стояла видавшая виды красная кушетка с заляпанной голубой подушкой, с которой можно было лежа смотреть телевизор. На подушке осталась вмятина от головы сына, а кушетка хранила очертания его тела, так что в тусклом освещении от единственной лампы казалось, что призрак юноши, невидимый, но обладающий весом и плотью, вернулся сюда и занял его излюбленное место, принял его позу. Дэниэлу так хотелось свернуться на этой кушетке, влить свое тело в ее выпуклости и впадины, слиться со своим утраченным сыном, но он не стал этого делать. Ведь это бы означало нарушить оставшийся отпечаток и таким образом уничтожить что-то от его существа. Он не лег туда. Никто туда не ляжет. Кушетка останется мемориалом всего того, что отняли у него – у них.
Сначала было только потрясение. Бобби не мог умереть. Он не мог быть мертвым. Смерть – для старых и больных. Смерть – для детей других людей. А его сын был смертным, но еще не тронутым тенью смерти. Его уход должен был быть чем-то отдаленным, и его отец и мать должны были умереть раньше. Это он должен был бы скорбеть о них. Было неправильно, не естественно, что им теперь придется плакать над его останками, смотреть, как его гроб опускают в землю. Он снова вспомнил тело сына на каталке в морге, накрытое простыней, распухшее от гнилостных газов, с глубокой красной линией вокруг шеи, где в нее врезалась веревка.
Самоубийство. Таков был первоначальный вердикт. Бобби удавился, привязав веревку к дереву и накинув петлю на другом конце себе на шею, а потом всем своим весом навалившись вперед. В какой-то момент он осознал весь ужас того, что должно случиться, и пытался освободиться от петли, царапая и раздирая свое тело, даже оторвав один ноготь, но к тому времени веревка уже затянулась, узел был сделан таким образом, чтобы, если Бобби подведет мужество, инструмент его самоуничтожения не подвел.
И Дэниэл Фарадей мог думать только об Эмили – о той, для которой его сын оказался недостаточно хорош.
Но позже в тот день к ним снова зашел начальник полиции, и все изменилось. Это был вопрос об угле приложения и величине силы, сказал он, и детективы из полиции штата между собой уже высказали свои подозрения, учитывая природу повреждений, какие могла оставить на коже веревка. На шее было два повреждения, но первое скрывалось вторым, и пришлось дождаться прибытия главного медицинского эксперта штата, чтобы подтвердить подозрения своего представителя. Два повреждения: первое вызвано удушением сзади – возможно, когда парень лежал на земле, судя по синякам у него на спине, где напавший, вероятно, прижимал его коленями. Первое повреждение не было смертельным, но повлекло за собой потерю сознания. Смерть была вызвана вторым повреждением. На шею парня была надета петля, его подняли на колени, а второй конец веревки привязали к стволу дерева. Потом его убийцы – или убийца – уперлись ему в спину и стали давить, чтобы он постепенно задохнулся.
Начальник полиции сказал, что требовалась большая сила и сноровка, чтобы таким образом убить рослого и сильного Бобби Фарадея. Веревка была обследована на предмет следов ДНК, также была обследована нижняя часть ствола дерева, но…
Они ждали, когда он продолжит.
Человек или люди, виновные в смерти Бобби, были осторожны, сказал начальник полиции. Волосы и одежда Бобби были намочены водой из пруда и покрыты грязью, а также ногти и кожа на руках – с очевидным намерением не дать исследовать следы преступления. И эти меры оказались успешны.
Когда начальник полиции ушел, Дэниэл обнял плачущую жену. Он не мог точно сказать, почему она плачет, и только удивился, что у нее еще остались слезы. Возможно, она плакала от ужаса или от нового горя, вызванного знанием, что сын не сам лишил себя жизни, а его лишили жизни другие. Она не сказала, а он не спросил. Но почувствовав, как собственные слезы начали стекать по щеке, он понял, что это не слезы утраты, или ужаса, или даже гнева. И ощутил облегчение. В этот момент он понял, что раньше таил нечто вроде злобы на сына за то, что тот убил себя. Он злился на него за эгоистичность этого поступка, за его глупость, за то, что сын в момент крайней нужды в любви не обратился к тем, кто его любил. Он злился на сына за то, что тот отнял у отца силы и оставил родителям нести груз их страшного горя. Пока Дэниэл считал, что сын умер от собственной руки, он размышлял об ужасе этого поступка долгими неподвижными днями и ночами, и часы тянулись с неумолимой медлительностью. Горе, казалось, было сродни материи – его нельзя было создать или уничтожить, оно могло только принять другую форму. Печаль, которая могла толкнуть Бобби на такой поступок, не растворилась в его смерти, а просто передалась тем, кто остался жить. Не было никакой записки, никакого объяснения, будто какое-то объяснение могло кого-то удовлетворить. А у родителей были только вопросы без ответов и гложущее чувство, что они каким-то образом недоглядели за сыном.
И первым побуждением Дэниэла было обвинить девушку. С тех пор как она порвала с Бобби, тот перестал быть прежним человеком. Несмотря на свой рост и вес, внешнюю безалаберность и беззаботность, он был мягок и раним. Он встречался с девушками и раньше, и бывали разрывы и подростковые травмы, но в эту стройную молодую женщину с черными волосами и светло-зелеными глазами он серьезно влюбился. Она была на несколько лет старше Бобби, и, нельзя отрицать, в ней было что-то особенное. И другие добивались ее благосклонности, но она выбрала Бобби. И он знал это. Сила была на ее стороне, и он всегда слегка боролся с тем неравенством, которое это создавало в их отношениях.
Как и большинство отцов, Дэниэл верил, что его сын – лучший молодой человек в городке, а может быть, и лучший на свете. Он заслуживал в жизни самого лучшего – самой высокооплачиваемой и интересной работы, самых красивых женщин, самых любящих детей. То, что Бобби не разделял этого мнения, было одновременно и его лучшей, и худшей чертой: она восхищала прирожденной скромностью, но разочаровывала тем, что подавляла его самолюбие и вызывала неуверенность в себе. Дэниэл считал, что у девушки хватало ума играть на их неравенстве, но это можно сказать про весь женский пол, и Дэниэл Фарадей всегда относился к женщинам с подозрением. Он восхищался ими, и его влекло к ним (по правде сказать, влекло больше, чем знала или предпочитала знать жена, поскольку за время их брака он не раз поддавался этому влечению), но он никогда не приближался к пониманию их, и, порой добиваясь победы, а потом бросая их, он умел компенсировать недостаток понимания определенной долей пренебрежения. Он наблюдал, как эта девушка манипулировала его сыном, крутя и вертя им, словно он попался на шелковую нить, которой можно было притянуть его или оставить болтаться на расстоянии, как ей заблагорассудится. Бобби понимал, что происходит, и все же был так захвачен чувствами, что не мог заставить себя разорвать узы. Его мать и отец не раз обсуждали это за бутылкой вина, но по-разному интерпретировали их отношения. В то время как жена Дэниэла признавала в девушке ум, она все же не чувствовала в ее поведении ничего необычного. Та просто делала то, что делают все молодые женщины или те, кто понимает природу баланса сил между полами. Парень хотел ее, но безоговорочно отдавшись Бобби, она сразу утратила бы власть над их отношениями. Лучше было заставить его доказать свою верность ей, прежде чем полностью сдаться.
Дэниэлу пришлось уступить жене в этом пункте, но ему не нравилось, что его сыном играют, как дурачком. Бобби был сравнительно наивен и неопытен, хотя ему уже исполнилось двадцать два. Ему еще по-настоящему не разбивали сердце. Потом, когда Бобби вернулся из колледжа на каникулы, девушка разорвала отношения, и ему пришлось приобрести этот опыт. Не было ни предупреждения, ни объяснения, а просто она решила, что Бобби не тот мужчина, который ей нужен. Он воспринял это тяжело, до того тяжело, что это причинило ему реальную физическую боль: он жаловался на рези в животе, которые было ничем не унять.
Разрыв также погрузил его в депрессию, и депрессия усугублялась тем, что это был маленький городок: здесь было не так много мест, куда можно пойти выпить, перекусить, посмотреть фильм, провести время. Девушка работала в одном из таких заведений, у Дина, куда на протяжении поколений ходила пообщаться городская молодежь – да и не только молодежь. Если Бобби хотел побыть в компании, он не мог долго избегать этого места. Дэниэл знал, что при встрече у Дина между молодыми людьми произошла стычка. И тогда тоже девушка взяла верх. Его сын пил, а она нет. После той особенно громкой перепалки сам старый Дин, заведовавший этим баром как великодушный диктатор, был вынужден предупредить Бобби, чтобы тот не приставал к персоналу. В результате Бобби неделю держался подальше от этого бара, возвращался сразу после работы домой и направлялся в свое укрытие в цокольном этаже, едва задерживаясь, чтобы поздороваться с родителями. Он появлялся лишь для набегов на холодильник или чтобы разделить неловкий ужин за кухонным столом. Иногда он спал на кушетке, а не в примыкающей спальне, даже не потрудившись раздеться. Лишь когда к нему пришли несколько друзей и упросили его выйти развеяться, тучи над головой как будто на время разошлись, да и то только пока он избегал встреч с девушкой.
Когда нашли тело, первой мыслью Дэниэла было, что сын покончил с собой из-за своей нелепой привязанности к Эмили. Ведь, казалось, больше никаких бед у него в жизни не было. За ним сохранялось место в колледже, он, похоже, всерьез намеревался вернуться к учебе и намекал, что, возможно, Эмили может вместе с ним найти работу в Нью-Йорке. Он был популярен среди друзей и там, и в родном городке, и его врожденный склад характера всегда склонял его к оптимизму – во всяком случае, до распада их отношений.
Эмили не следовало бросать его сына, думал Дэниэл. Он был прекрасный парень. Ей не следовало ранить его. Не следовало разрывать ему сердце. Когда она пришла на место его гибели, как только тело унесли через поля к ожидавшей машине «Скорой помощи», Дэниэл не смог поговорить с ней. Она подошла к нему с блестящими глазами и протянула руки, чтобы обнять и чтобы он обнял ее, но он отвернулся, вытянув руку, отстраняясь от нее, и этот жест был ясен не только ей, но и всем, кто видел; и таким образом он не оставил сомнений, на кого возлагает вину за смерть его сына.
Мать Бобби роняла слезы горя и боли, узнав, что это другие отняли жизнь у ее сына, слезы непонимания обстоятельств его смерти, отец же ощущал, как тяжесть свалилась с его плеч, и поражался собственному эгоизму. Теперь, в цокольном этаже, вернулась злоба, и его руки сжались в кулаки от гнева на нечто безликое, что убило его сына. Где-то над ним зазвенел дверной звонок, но он едва слышал его за ревом у себя в голове. Потом его позвали, и он дал напряжению в теле отступить. И выдохнул из себя ярость.
– Мой мальчик, – проговорил он тихо. – Мой бедный мальчик.
За кухонным столом сидела Эмили Киндлер. За ее спиной жена заваривала чай.
– Мистер Фарадей, – сказала Эмили.
Он обнаружил, что уже может улыбнуться ей. Это была мелочь, но в улыбке была искренняя теплота. Не осталось ни намека на то, чтобы обвинить ее в случившемся, и теперь эта девушка стала для него чем-то вроде связи с сыном, питала огонь памяти.
– Эмили, – проговорил он, – как дела?
– Полагаю, хорошо. – Она не могла посмотреть ему в лицо. Он знал, что его поведение на месте смерти сына глубоко ее ранило, и если он теперь снял с нее свое осуждение, ей еще предстояло сделать то же по отношению к нему. Они никогда не обсуждали, что случилось в тот день, поэтому было бы правильно сказать, что он никак не искупил своей вины перед ней.
Его жена подошла и нежно коснулась ладонью волос девушки, приглаживая выбившиеся пряди. Дэниэлу подумалось, что две женщины немного похожи друг на друга: обе бледные, без косметики, и с темными кругами от горя под глазами.
– Я пришла сказать вам, что после похорон я уезжаю.
– Послушай, милая, – сказал он. – Я должен извиниться. – Он попытался взять ее за руку, и она позволила это. – В тот день, в день, когда нашли Бобби, я был не в себе. Я был так убит, так потрясен, что не мог… не мог…
У него не было слов. Он не хотел ей лгать, и не хотел говорить правду.
– Я знаю, вы видеть меня не могли, – помогла она. – Вы думали, что это моя вина. Может быть, и сейчас думаете.
Он почувствовал, как у него задрожал подбородок и защипало глаза. Ему не хотелось расплакаться перед девушкой, и он покачал головой.
– Прости, – сказал он. – Я прошу прощения, что подумал, будто это ты.
Теперь он неуверенно сжал ее руку, а жена поставила на стол три чашки и налила из фарфорового чайника чаю.
– Спасибо.
– Приходил начальник полиции Дэшат, – продолжал Дэниэл. – Он сказал, что Бобби не сам покончил с собой. Его убили. И просил пока молчать об этом. Мы никому не говорили, только тебе, ты должна знать.
Девушка издала тихий скулящий звук. От лица, и так совершенно бледного, отхлынули остатки крови.
– Что?
– Повреждения… Они не похожи на самоубийство. – Он уже плакал. – Бобби убили. Кто-то придушил его до потери сознания, а потом его привязали и нагнули вперед, чтобы он умер. Кто мог это сделать? Кто мог сделать такое с моим мальчиком?
Он пытался удержать ее, но ее рука выскользнула. Эмили встала, покачиваясь на высоких каблуках.
– Нет, – сказала она и резко отвернулась. Ее правая рука задержалась сзади и задела стоявшую рядом чашку. Чашка упала на пол и разбилась, ударившись о плитки пола. – Я должна уйти. Я не могу здесь оставаться.
И что-то в ее голосе остановило слезы Дэниэла, и его взгляд прояснился.
– Что ты хочешь сказать?
– Просто я не могу оставаться здесь. Мне нужно уехать.
По ее глазам он понял, что девушка что-то знает. Дэниэл видел это.
– Что тебе известно? – спросил он. – Что тебе известно о смерти моего сына?
Он протянул к ней руку, но Эмили отстранилась. Он слышал, как жена что-то говорит, но это для него ничего не значило. Все его внимание сосредоточилось на девушке. Ее глаза были огромны. Они смотрели не на него, а на окно у него за спиной, где в стекле отражалось ее лицо. Она выглядела пораженной, будто увиденный образ был не тем, что она ожидала увидеть.
– Скажи мне, – сказал Дэниэл. – Пожалуйста.
Она какое-то время молчала. Потом тихо проговорила:
– Это из-за меня.
– Что? Как?
– Я приношу несчастье. Я несу его в себе. Оно следует за мной.
Она в первый раз посмотрела на него, и он содрогнулся. Ему показалось, что никогда он не видел такой опустошенности в глазах другого человеческого существа – даже в глазах своей жены, когда она сказала ему, что их сын умер. Даже в собственных глазах, когда он посмотрел в зеркало и увидел отца умершего ребенка.
– Что следует за тобой?
Из ее глаз потекли первые слезы. Она все что-то говорила, но он чувствовал, что их присутствие в комнате для нее ничего не значит, они для нее бесплотны. Она говорила с кем-то другим или, возможно, сама с собой.
– Что-то преследует меня, – говорила она, – кто-то меня преследует, следует за мной по пятам. Не дает мне покоя. Не отстает от меня. И вредит тем, кто мне дорог. Это я навлекаю на них беду. Я не хочу, но навлекаю.
Дэниэл медленно приблизился к ней.
– Эмми, – сказал он, как ласково называл ее сын, – ты говоришь бессмыслицу. Кто этот человек?
– Не знаю, – ответила она, опустив голову. – Я не знаю.
Он хотел удержать ее. Хотел встряхнуть, вытрясти из нее то, что она знает. Он не понимал, говорит ли она о реальном человеке или о какой-то воображаемой тени, о призраке, созданном в воображении, чтобы объяснить ее мучения. Он хотел, чтобы она прояснила ему это. Кто-то неизвестный убил его сына. А теперь его бывшая девушка говорит о ком-то, кто ее преследует. Это нужно как-то объяснить.
Она словно ощутила его мысли, поскольку, как только он двинулся к ней, отшатнулась назад.
– Не прикасайтесь ко мне! – крикнула она, и свирепость в ее голосе заставила его остановиться.
– Эмили, тебе нужно объяснить, что с тобой происходит. Ты должна пойти в полицию и рассказать все, что сейчас сказала нам.
Она чуть ли не рассмеялась.
– Рассказать им что? Что меня преследуют призраки? – Она уже была в прихожей и шла к двери. – Мне очень жаль Бобби, но я не могу здесь оставаться. Оно нашло меня. Мне пора уезжать.
Ее рука нащупала дверную ручку и повернула. Дэниэл знал, что на улице идет снег. Это странное очарование тепла подходило к концу. Скоро все занесет сугробами, и могила их сына будет зиять темным пятном среди белизны, как рана, когда его опустят в землю.
Когда Эмили повернулась, чтобы уйти, он было бросился к ней, но она была проворнее его. Его пальцы коснулись ткани ее юбки, а потом он споткнулся о порог и грузно упал на колени. Когда он снова встал на ноги, она уже бежала по улице. Он попытался догнать ее, но у него болели ноги, и он еще не пришел в себя после падения. С искаженным болью и разочарованием лицом Дэниэл прислонился к воротам, жена держала его за плечи и задавала вопросы, на которые он не мог ответить.
* * *
Оказавшись внутри дома, Дэниэл сразу же позвонил в полицию. Девушка-диспетчер записала его имя и номер телефона и пообещала передать сообщение начальнику. Он сказал ей, что это не терпит отлагательств, и потребовал дать ему номер сотового Дэшата, но она сказала, что начальника сейчас нет в городе, и он велел, чтобы хотя бы этой ночью никто его не беспокоил. В конце концов, она пообещала позвонить начальнику, как только Дэниэл повесит трубку. Ему ничего не оставалось, как только поблагодарить ее.
Начальник в ту ночь не позвонил, хотя диспетчер сообщила ему о звонке Дэниэла Фарадея. Он отдыхал в кругу семьи у своего брата, отмечая его сорокалетие, и считал, что заслужил отдых. Он сказал Дэниэлу Фарадею и его жене не все, что разузнал. В то утро один из его людей обратил внимание Дэшата на основание дерева, к которому был привязан Бобби. Там на коре были вырезаны инициалы подростков, которые много лет приходили туда целоваться, превратив дерево в монумент любви и страсти, преходящих и в то же время бессмертных.
Но на коре было вырублено кое-что еще, и недавно, судя по цвету открывшейся под корой древесины: какой-то символ, но не похожий ни на что виденное Дэшатом раньше.
Он проследил, чтобы этот знак сфотографировали, и намеревался разузнать о нем на следующий день. Конечно, этот символ мог ничего не значить или не иметь никакого отношения к убийству Фарадея, но его наличие на месте преступления обеспокоило полицейского. Даже на дне рождения брата, как он ни пытался выкинуть его из головы, этот знак возвращался, и Дэшат ловил себя на том, что потным пальцем чертит его на столе, словно таким образом мог раскрыть его значение.
Когда праздник закончился, был уже третий час ночи, и начальник полиции решил, что Дэниэл Фарадей подождет до утра.
В ту ночь Дэниэл Фарадей и его жена умерли. Горелки на их газовой плите были открыты на полную мощность. Окна, входная и задняя двери были закрыты плотно, без щелей, поскольку Дэниэл работал инспектором в одной местной компании коммунальных услуг и знал цену утечки тепла зимой, так что газ не мог выветриться из дома. Похоже, его жена на каком-то этапе засомневалась (или была жуткая версия, что это не совместное самоубийство, а самоубийство и убийство, совершенное ее мужем), поскольку ее тело было найдено на полу спальни. На кухонном столе рядом с букетиком искусственных цветов стояла фотография Фарадеев с сыном. Полиция пришла к заключению, что они покончили с собой от горя, и Дэшат был сокрушен чувством вины, что не ответил на их звонок. Это прибавило ему решимости разыскать убийцу Бобби Фарадея, кто бы это ни был, и он начал задумываться о трех якобы самоубийствах, постигших одну семью, причем одно из них уже оказалось не тем, чем показалось сначала.
После возвращения от Фарадеев Эмили закончила паковать вещи. Она готовилась к отъезду с тех пор, как пропал Бобби, каким-то образом чувствуя (хотя и не произносила этого вслух), что Бобби не вернется, что с ним случилось что-то страшное. Обнаружение его тела и выяснение причины смерти только подтвердили то, что она и так знала. Ее обнаружили. И снова пора уезжать.
Эмили уже годы была в бегах, она убегала от чего-то, что преследовало ее. Она все лучше и лучше училась скрываться, но не достаточно хорошо, чтобы спрятаться навсегда. Она боялась, что в конце концов это что-то поймает ее.
Поймает ее и сожрет.
Глава 8
На следующий день у меня был выходной, и только тогда я заметил, каким беспокойным стал Уолтер. Он скребся у двери, просясь выйти, а через несколько минут снова просился домой. Он словно не хотел отходить от меня надолго, но все время засыпал. Когда зашел Боб Джонсон и поздоровался, как всегда выйдя утром на прогулку, Уолтер не подошел к нему, даже когда Боб предложил ему половинку булочки из своего кармана.
– Знаешь, – сказал Боб, – он уже был таким, пока ты был в Нью-Йорке. Я думал, он просто прихворнул в прошлые выходные, но, похоже, так и не поправился.
Днем я отвел Уолтера к ветеринару, но женщина-ветеринар не нашла никакой болезни.
– Он долго бывает один? – спросила она.
– Ну, я работаю, и иногда сутки или двое не прихожу домой. Когда меня нет, за ним присматривают соседи.
Она потрепала Уолтера по спине.
– Мне кажется, ему это не очень нравится. Он еще молодой пес. Ему нужна компания и поощрение. Ему нужен режим.
Через два дня я принял решение.
Это было воскресенье, и с утра пораньше я был уже в пути, Уолтер сидел на переднем сиденье рядом, то задремывая, то наблюдая за проносящимся мимо окружающим миром. До полудня я уже был в Берлингтоне и остановился у знакомого маленького магазинчика игрушек, чтобы купить для Сэм тряпичную куклу, а в булочной взял несколько кексов. В Берлингтоне я попил кофе на Черч-стрит и попытался почитать «Нью-Йорк таймс», Уолтер лежал у моих ног. Рэйчел и Сэм жили в десяти минутах езды от города, но я не спешил. Я не мог сосредоточиться на газете. Вместо чтения я гладил Уолтера, и он от удовольствия опустил веки.
Из галереи на другой стороне улицы появилась женщина, ее распущенные рыжие волосы касались плеч. Рэйчел улыбалась, но не мне. За ней шел мужчина. Он что-то сказал ей, и она рассмеялась. Пузатый и спокойный, он выглядел старше ее. Он нежно положил руку ей на талию, и они пошли рядом. Уолтер заметил Рэйчел и попытался встать, завиляв хвостом, но я удержал его за ошейник. Потом сложил газету и швырнул в сторону.
День не обещал ничего хорошего.
Когда я добрался до владений родителей Рэйчел, ее мать Джоан рядом с домом играла в мяч с Сэм. Сэм исполнилось два годика, она уже достигла того возраста, когда узнавала названия любимых лакомств и знала понятие «мое», которое покрывало очень многое из всего, что она научилась любить, – от чужих булочек до какого-нибудь дерева. Я завидовал Рэйчел и ее семье, которые имели возможность наблюдать за развитием Сэм. Я-то, похоже, видел это только урывками, как отрывки из фильма, в которых ключевые сцены вырезаны.
Когда я вышел из машины, Сэм узнала меня. На самом деле, я думаю, первым она узнала Уолтера, потому что назвала его «Уолнат», искаженной версией его клички, и протянула руки, чтобы обнять. Она никогда Уолтера не боялась. Для Сэм он попадал в категорию «мое», и пес, подозреваю, рассматривал Сэм схожим образом. Он бросился к ней, но в паре футов затормозил, чтобы не сбить на землю. Она обхватила его ручками, а он, лизнув ее, улегся и, счастливо виляя хвостом, дал ей упасть на него.
Если бы Бог наградил и Джоан хвостом, не думаю, что он бы когда-нибудь вилял. Она приложила усилия, чтобы при моем приближении выдавить улыбку на лице, и, едва прикоснувшись, поцеловала меня в щеку.
– Мы тебя не ждали, – сказала она. – Рэйчел уехала в город. Не могу точно сказать, когда вернется.
– Я могу подождать, – ответил я. – Все равно я приехал повидаться с Сэм и попросить об одном одолжении.
– Одолжении? – Улыбка на ее лице застыла.
– Я придержу просьбу до возвращения Рэйчел, – сказал я.
Сэм разомкнула свои объятия вокруг Уолтера достаточно надолго, чтобы доковылять до меня и обхватить мои ноги. Я подхватил ее и, вручая куклу, заглянул в глаза.
– Привет, красавица! – сказал я.
Малышка засмеялась и коснулась моего лица.
– Папа, – проговорила она, и мои глаза увлажнились.
Джоан пригласила меня в дом и предложила кофе. Я уже накачался кофе на день вперед, но приготовление кофе хоть чем-то занимало ее. Иначе нам бы пришлось лишь глазеть друг на друга или развлекаться наблюдением за Сэм и Уолтером. Джоан извинилась, и я слышал, как дверь закрылась, и послышалось, как она приглушенно говорит с кем-то. Я догадался, что она звонит Рэйчел. Когда она вышла, Сэм и я стали играть с Уолтером, и я слушал ее лопотанье, смесь распознаваемых слов и ее собственного языка.
Джоан вернулась и налила кофе, потом налила в пластиковую чашку молока для Сэм, и мы принялись за кексы, разговаривая ни о чем. Через пятнадцать минут я услышал, как подъехала машина, и в кухню вошла Рэйчел. Она выглядела возбужденной и рассерженной. Сэм тут же бросилась к ней, потом указала на пса и снова сказала «Уолнат».
– Какой сюрприз! – сказала Рэйчел, а потом удивление сменилось выражением сродни тому, когда обнаруживаешь у себя в постели труп.
– Решение под влиянием момента, – сказал я. – Извини, если расстроил твои планы.
Несмотря на все мои усилия, или, может быть, они не были достаточно энергичными для начала, в моем голосе слышалось раздражение. Моя бывшая заметила это и нахмурилась. Джоан, испытанный дипломат, забрала Сэм и Уолтера поиграть на улице, а Рэйчел сняла пальто и повесила на спинку стула.
– Тебе следовало позвонить, – сказала она. – Нас могло не оказаться дома, могли уехать куда-нибудь.
Она сделала попытку убрать несколько тарелок с сушилки, потом передумала.
– Ну, как ты поживал?
– Я поживал хорошо.
– По-прежнему работаешь в «Медведе»?
– Да. Там не так плохо.
Она неплохо изобразила горестную улыбку своей матери.
– Рада это слышать.
Последовало молчание, потом Рэйчел сказала:
– Нам нужно формализовать эти визиты, вот и все. Тебе далековато ехать, чтобы приезжать просто по капризу.
– Я стараюсь приезжать как можно чаще, Рэч, и всегда стараюсь позвонить. Кроме того, это не просто каприз.
– Ты понял, что я хотела сказать.
– Да, понял.
Снова молчание.
– Мама сказала, что у тебя была какая-то просьба.
– Я хотел бы оставить Уолтера у вас.
Впервые она проявила какую-то эмоцию кроме недовольства и плохо скрытой злобы.
– Что? Ты же любишь этого пса.
– Да, но я не могу проводить с ним достаточно времени, а он любит тебя и Сэм, по крайней мере, не меньше, чем меня. Он сидит дома взаперти, пока я на работе, и мне все время приходится просить Боба и Ширли присмотреть за ним, когда уезжаю куда-нибудь. Для него это не хорошо, а я знаю, что твои мама и папа любят собак.
Ее родители до недавнего времени держали собак, пока обе их старых колли не умерли с промежутком меньше месяца. С тех пор старики поговаривали о новой собаке, но никак не могли собраться и завести ее. Они все еще переживали смерть прежних.
Лицо Рэйчел смягчилось.
– Я должна спросить у мамы, но, думаю, все будет хорошо. Но ты уверен, что хочешь его отдать?
– Нет, – ответил я, – но это будет правильно.
Она подошла ко мне и после некоторого колебания обняла.
– Спасибо, – сказала она.
Перед отъездом я положил корзину Уолтера и его игрушки в багажник и теперь вручил их Джоан, когда стало ясно, что она согласна его взять. Ее муж Фрэнк уехал куда-то по делам, но она знала, что он не будет возражать, особенно если это доставит счастье Сэм и Рэйчел. Уолтер как будто понимал, что происходит. Он побежал вслед за своей корзиной и когда увидел, что ее разместили на кухне, понял, что остается. Когда я уходил, он лизнул мне руку, а потом сел рядом с Сэм в знак признания, что роль ее защитника остается за ним.
Рэйчел проводила меня до машины.
– Просто любопытно, – сказала она, – почему ты так часто отлучаешься, если работаешь в «Медведе»?
– Я расследую кое-что, – ответил я.
– Где?
– В Нью-Йорке.
– Считается, что ты не работаешь. Это может помешать тебе вернуть лицензию.
– Это не бизнес, – сказал я. – Это личное.
– Для тебя это всегда личное.
– А иначе не стоит и браться.
– Что ж, просто будь осторожен, вот и все.
– Буду. – Я открыл дверь машины. – Мне нужно кое-что тебе сказать. Я сегодня был в вашем городке. И видел тебя.
Ее лицо окаменело.
– Кто он?
– Его зовут Мартин, – ответила она после небольшой паузы.
– И давно вы встречаетесь?
– Недавно. Может быть, месяц. – Она помолчала. – Пока не знаю, насколько это серьезно. Я собиралась тебе сказать. Просто не знала как.
Я кивнул.
– В следующий раз я позвоню, – сказал я, сел в машину и уехал.
В этот день я кое-что понял: может быть, бывает кое-что и похуже, чем приехать куда-то со своим псом, а уехать без него, но таких вещей не много.
Это была долгая, молчаливая дорога домой.
Часть вторая
Ложный друг опаснее явного врага.
Фрэнсис Бэкон (1561–1626)Уведомление… герцогу БэкингэмуГлава 9
Прошло около недели, прежде чем я совершил следующую поездку в Нью-Йорк. Не то чтобы это играло большую роль: в «Медведе» снова не хватало персонала, и мне пришлось работать лишние дни, чтобы немного снять нагрузку, так что я не мог уехать, даже если бы захотел.
Почти месяц я пытался связаться с Джимми Галлахером, оставляя записки на машине у его дома, но не было никакого ответа, пока на этой неделе я не получил от него письмо – не звонок, – в котором сообщалось, что он уезжал в продолжительный отпуск, чтобы избавить себя от нью-йоркской зимы, но теперь вернулся и будет рад встретиться со мной. Письмо было написано от руки. Это было очень в духе Джимми: он писал письма каллиграфическим почерком, не пользуясь компьютером, и считал, что телефоны созданы для его удобства, а не для других. Чудо, что у него еще был автоответчик, но Джимми по-прежнему любил общаться, и автоответчик служил гарантией, что он не пропустит чего-то важного, в то же время давая возможность игнорировать нежелательные звонки. Что касается сотовых телефонов, я был почти уверен, что он считает их порождением дьявола, наряду с отравленными стрелами и людьми, которые солят пищу, еще ее не попробовав. В его письме говорилось, что он будет свободен, чтобы встретиться со мной, в середине дня в воскресенье. И снова эта точность была типична для Джимми Галлахера. Мой отец в свое время говорил, что полицейские отчеты Джимми были произведениями искусства. Их показывали учащимся полицейской академии как совершенный образец работы с документами, и это было все равно что показывать потолок Сикстинской капеллы группе маляров-стажеров, чтобы объяснить, к чему они должны стремиться, крася стены квартир.
Я заказал билет на самый дешевый рейс в Нью-Йорк и около девяти утра приземлился в аэропорту Дж. Ф. Кеннеди, а оттуда взял такси до Бенсонхерста. Еще с детских лет мне было трудно связать Джимми Галлахера с Бенсонхерстом. Из всех мест, которые ирландец-коп и скрытый гомосексуалист мог назвать своим домом, Бенсонхерст сначала казался таким же неподходящим, как Солт-Лейк-Сити, или Кингстон, или Ямайка. Да, теперь там жили корейцы, и поляки, и арабы, и русские по соседству, и даже афроамериканцы, но в Бенсонхерсте всегда царили итальянцы – говоря фигурально, если не буквально. Когда Джимми еще был мальчишкой, каждая национальность имела свой сектор, и если ты заходил не в тот, то, скорее всего, тебя бы избили, но итальянцы били сильнее, чем остальные. Однако теперь и их время прошло. Бэй-Ридж-Паркуэй был по-прежнему полностью итальянским, и там в церкви Св. Доминика на Двадцатой авеню каждый день служили мессу по-итальянски, но постепенно туда прокрадывались русские, китайцы и арабы, занимая боковые улицы, как муравьи, подбирающиеся к многоножке. Тем временем евреи и ирландцы понесли большие потери, а негры, чьи корни в этом районе уходили к временам Подпольной железной дороги[4], сжались до одного анклава из четырех кварталов близ Бат-авеню.
У меня оставалось еще два часа до встречи с Джимми. Я знал, что каждое воскресенье он ходит в церковь, но если даже он был дома, ему бы не понравилось, что я пришел так рано. Это была еще одна черта Джимми. Он верил в пунктуальность и не хотел знать людей, которые отклоняются от назначенного времени в ту или другую сторону. Ожидая назначенного часа, я прогулялся по Восемнадцатой авеню и позавтракал в «Закусочной Стеллы» на Шестьдесят третьей, где пару раз мы ели с отцом и Джимми. Хотя это и было всего кварталах в двадцати от нашего дома, Джимми был близок с хозяевами заведения, и они всегда стремились обслужить его как следует.
Когда Восемнадцатая еще называлась бульваром Христофора Колумба, здесь оставили свой след китайцы, и рядом с итальянскими адвокатскими конторами, фокаччерией Джино, пастой для гурманов «Куин Энн» и магазином DVD «Аркобалено» с итальянской музыкой, где на лавках сидели старички спиной к авеню, как будто выражая свое недовольство произошедшими переменами, теперь расположились китайские рестораны, парикмахерские салоны, магазины электротоваров и даже лавки с принадлежностями для аквариумов. Старый Котильон-Террес заколотили досками, а два розовых коктейля по краям вывески над главным входом по-прежнему грустно пускали свои пузыри.
Когда я подошел к закусочной, она тоже оказалась не та. Изменилось название. Я увидел, что у стойки по-прежнему стоят несколько табуретов, но в остальном закусочная была пуста. Когда мы ели у Стеллы, то всегда садились у стойки, Джимми слева, отец посредине, а я с краю. Для меня это было, как будто я сижу в баре, и я смотрел, как официантки наливают кофе и носят туда-сюда тарелки между кухней и посетителями, прислушивался к обрывкам разговоров вокруг, пока мой отец и Джимми тихо беседовали о своих взрослых делах. Я на прощание постучал в стекло, потом на углу Шестьдесят четвертой купил «Нью-Йорк таймс» и поел в пиццерии «J & V», которая была старше меня. Когда мои часы показали одиннадцать сорок пять, я двинулся к дому Джимми.
Джимми жил на Семьдесят первой, между Шестнадцатой и Семнадцатой, в квартале, состоящем в основном из узеньких примыкающих друг к другу домиков, в оштукатуренном доме, имеющем общую стену с соседним, с окруженным кованой железной оградой садиком и фиговым деревом в заднем дворике, недалеко от района, до сих пор известного как Новый Утрехт. Это был один из шести первоначальных городков Бруклина, но потом, в девяностых годах XIX века, его поглотил большой город, и он утратил свою индивидуальность. Раньше здесь был сельскохозяйственный район, но в 1885 году подступившая железнодорожная компания «Бруклин, Бат и Вест-Энд Рейлроуд» открыла его для застройщиков, один из которых, Джеймс Линч, построил для тысяч семей пригород Бенсонхерст-у-моря. С железной дорогой пришел сюда и дед Джимми Галлахера с семьей, который работал в этом проекте надзирающим инженером. В итоге, немного пошарив вокруг, Галлахеры вернулись в Бенсонхерст и поселились в доме, который до сих пор занимал Джимми, невдалеке от такой достопримечательности, как Ново-Утрехтская реформатская церковь на углу Восемнадцатой и Восемьдесят третьей.
В свое время появилась подземка, а с ней и средний класс, включая евреев и итальянцев, которые покинули Нижний Ист-Сайд ради сравнительно широких просторов Бруклина. Фред Трамп, отец Дональда, сделал себе имя на строительстве жилого района Шор-Хевен близ Белт-Паркуэй. И наконец, в пятидесятые годы XX века прибыли в огромном количестве иммигранты из южной Италии, после чего Бенсонхерст стал на восемьдесят процентов итальянским по крови и на сто процентов по репутации.
Я был у Джимми дома всего пару раз с отцом, и один раз из этих двух – выразить соболезнование после смерти его отца. Могу вспомнить об этом лишь потому, что была уйма копов, некоторые в форме, некоторые нет, и женщины с красными глазами передавали по кругу стопки и шептали поминальные слова об умершем. Вскоре его мать переехала на Герритсен-Бич, поближе к своей сестре, которая болела и присматривала за своими двумя внуками после того, как их отец погиб, когда его грузовик перевернулся где-то близ Ногалеса, а их мать боролась с алкоголизмом. С тех пор Джимми постоянно жил в Бенсонхерсте один.
Снаружи дом выглядел в основном так же, каким я его запомнил, – недавно подкрашенный, с опрятным двориком. Я собрался позвонить, когда дверь вдруг открылась, избавив меня от такого беспокойства, и я увидел Джимми Галлахера, постаревшего и поседевшего, но по-прежнему узнаваемого – того же большого мужчину, который больно сжимал мне руку, чтобы я мог заслужить доллар. Лицо его теперь было более румяным, и хотя теперь, на пенсии, он явно больше бывал на солнце, судя по розовому оттенку его носа, он прикладывался к бутылке чаще, чем это было бы разумно. В остальном он был в хорошей форме. На нем была свежеотглаженная белая рубашка с расстегнутым воротничком и серые брюки с острыми как бритва стрелками. Черные туфли начищены и отполированы. Он напоминал шофера в богатом доме, который наслаждается последними мгновениями отдыха, прежде чем сдуть последние пылинки со своей формы.
– Чарли, – сказал он. – Сколько лет!
Мы пожали руки, и он с теплой улыбкой похлопал меня по плечу своей мясистой лапой. Он по-прежнему был на четыре-пять дюймов выше меня, и я моментально ощутил себя двенадцатилетним мальчишкой.
– Теперь я получу доллар? – спросил я, отпуская его руку.
– Только ты должен будешь потратить его на спиртное, – сказал он, приглашая меня внутрь.
В прихожей красовалась огромная вешалка, и бабушкины часы, похоже, все еще показывали точное время. Их громкое тиканье, вероятно, разносилось по всему дому. Я задумался, как Джимми спит с этими звуками, но потом решил, что, наверное, он уже так долго их слышит, что едва ли замечает. Пролет резной лестницы из красного дерева вел на второй этаж, а справа была гостиная, обставленная исключительно антиквариатом. На каминной полке и на стенах стояли и висели фотографии, на некоторых из них я видел людей в форме. И среди них отца, но я не стал спрашивать Джимми, нельзя ли рассмотреть их поближе. Обои в прихожей покрывал красно-белый узор. Они были вроде бы новыми, но оставляли впечатление прошлого века, что соответствовало стилю всего остального.
На кухонном столе рядом с тарелкой с булочками стояли две чашки, а в кофейнике заваривался свежий кофе. Джимми разлил его по чашкам, и мы сели с разных сторон стола.
– Бери булочки, – сказал Джимми. – Они из Виллабате. Лучшие в округе.
Я разломил одну и попробовал. Она была действительно хороша.
– Знаешь, твой старик и я часто смеялись насчет той выпивки, которую ты купил на деньги, что я тебе давал. Он никогда тебе не говорил, потому что для твоей матери, когда она обнаружила ту бутылку, это был конец света. Но он увидел, что ты растешь, и был этому рад. Учти, он обычно говорил, что это я подал тебе идею, но он никогда ни на кого долго не сердился, а особенно на тебя. Ты был его золотой мальчик. Он был добрый человек, да упокоит Господь его душу. Души их обоих.
Он задумчиво отщипнул булочку, и какое-то время мы оба молчали. Потом Джимми посмотрел на часы. Это был не случайный жест. Он хотел, чтобы я это увидел, и у меня в голове прозвучал тревожный сигнал. Я посмотрел на Джимми и заметил, что ему неловко. И дело было не в том, что сын его друга, убившего двоих подростков, а потом себя, сидел у него на кухне, явно собираясь разворошить давно погасшую золу. Тут было нечто большее. Джимми вообще не хотелось меня видеть. Ему хотелось, чтобы я ушел, и чем скорее, тем лучше.
– У меня кое-какие дела, – сказал он, увидев, что я заметил его движение. – Собираются старые друзья. Ты знаешь, как это бывает.
– Кого-нибудь я знаю? Слышал их имена?
– Нет, никого. Все они появились после твоего отца. – Он откинулся на стуле. – Так ты пришел не просто так, а, Чарли?
– У меня есть несколько вопросов. О моем отце и о том, что произошло в ту ночь, когда погибли эти ребята.
– Ну, я особенно не могу помочь с убийством. Меня там не было. В тот день я даже не виделся с твоим отцом.
– Не виделся?
– Нет. Это был мой день рождения. Меня не было на работе. Я удачно арестовал партию травки, и меня наградили. Предполагалось, что твой старик придет ко мне после смены, как он всегда делал, но он так и не пришел. – Джимми повертел в руках чашку, глядя на круги, получавшиеся на поверхности жидкости. – После этого я больше не справлял день рождения, как раньше. Слишком много ассоциаций, и все плохие.
Но я не собирался давать ему так легко сорваться с крючка.
– Но в тот вечер к нам приходил твой племянник.
– Да. Фрэнсис. Твой отец позвонил мне в бар Кэла и сказал, что беспокоится. Он считал, что кто-то может угрожать тебе и твоей матери. Он не сказал, почему он так думал.
Кэл держал бар для копов, располагавшийся рядом с Девятым участком. Теперь этого бара нет, как и многого другого, что было во времена моего отца.
– И ты не спросил?
Джимми надул щеки.
– Может быть, и спросил. Да, конечно, спросил. Это было непохоже на Уилла. Он никогда не шарахался от теней, и у него не было врагов. То есть были парни, которым он перешел дорогу, и некоторых он упрятал за решетку, но это как все мы. Это была его работа, ничего личного. Тогда они понимали разницу. Во всяком случае, большинство.
– Так ты помнишь, что он ответил?
– Кажется, он сказал, чтобы я просто поверил ему. Он знал, что Фрэнсис живет в Оранджтауне. И спросил, не могу ли я попросить его зайти к вам с матерью, просто пока он не сможет вернуться сам. После этого все произошло довольно быстро.
– Откуда отец звонил?
– Черт! – Он словно бы попытался вспомнить. – Не знаю. Не из участка, это точно. Там слышался какой-то шум, так что, наверное, он говорил с телефона в баре. Так давно это было. Я не могу все вспомнить.
Я отпил кофе и осторожно сказал:
– Но это была не обычная ночь, Джимми. Были убиты люди, а потом мой отец покончил с собой. Такие вещи трудно забываются.
Я видел, как напрягся Джимми, и его враждебность стала очевидной. Я знал, что он хорошо орудует кулаками и быстро пускает их в ход. Он и мой отец хорошо уравновешивали друг друга. Отец сдерживал Джимми, а тот, в свою очередь, затачивал нечто в отце, что иначе могло бы остаться притупленным.
– В чем дело, Чарли? Ты назвал меня лжецом?
В чем дело, Джимми? Ты что-то скрываешь?
– Нет, – сказал я. – Я просто не хочу, чтобы ты что-то утаивал от меня, потому что, скажем так, пытаешься уберечь мои чувства.
Он немного отошел.
– Да, это нелегко. Я не люблю думать о том времени. Он был моим другом, лучшим другом.
– Я знаю это, Джимми.
Он кивнул.
– Твой отец просил помощи, и по его просьбе я позвонил. Фрэнсис остался с тобой и твоей матерью. Я был в городе, но я думал, понимаешь, что не могу оставаться здесь, когда, может быть, происходит что-то страшное. К тому времени, когда я добрался до Перл-Ривер, двое подростков были уже мертвы, а твоего отца допрашивали. Мне не дали поговорить с ним. Я пытался, но парни из департамента внутренних расследований меня не пустили. Я пошел к вам и поговорил с твоей матерью. Ты, наверное, тогда спал. После этого я видел его живым еще раз. Я поймал его, когда они закончили допрос. Мы пошли вместе позавтракать, но он не много рассказал. Ему хотелось взять себя в руки, прежде чем вернется домой.
– И он не сказал тебе, зачем убил тех двоих? Брось, Джимми. Вы были близкие друзья. Если он хотел с кем-то поговорить, то прежде всего с тобой.
– Он рассказал мне то же, что говорил департаменту внутренних расследований и прочим, кто был с ним в комнате. Парень притворялся, что лезет в карман пиджака, дразня Уилла, как будто у него был там пистолет. Засовывал руку и вытаскивал. Уилл говорил, что в последний раз купился. Парень засунул руку, и Уилл выстрелил. Девочка закричала и стала шарить по телу парня. Уилл предупредил ее, прежде чем тоже застрелить. Он сказал, что внутри него что-то щелкнуло, когда тот парень начал срываться с цепи. Может быть, в этом дело. Тогда были другие, суровые времена. Тогда риск никого не доводил до добра. Все мы знали парней, которые были на улице слишком щепетильны. Когда я увидел Уилла в следующий раз, он лежал под простыней, и в затылке у него была дыра, которую собирались заделать перед похоронами. Ты это хотел узнать, Чарли? Хочешь услышать, как я плакал над ним, что я чувствовал оттого, что меня не было с ним? Хочешь услышать, что я чувствовал все эти годы? Что ты ищешь? Кого бы обвинить в том, что произошло той ночью?
Он повысил голос. Я чувствовал в нем злобу, но не мог понять ее источника. Она казалась наигранной. Нет, неправда. Его печаль и гнев были искренними, но использовались для какой-то цели – как дымовая завеса, чтобы скрыть что-то как от меня, так и от себя самого.
– Нет, я не этого ищу, Джимми.
– Так что тебе на самом деле надо? – Теперь в его словах слышалась усталость и нечто вроде безысходности.
– Я хочу понять почему.
– Нет никакого «почему». Как вдолбить это тебе в башку? Люди спрашивали «почему» в течение двадцати пяти лет. Я тоже спрашивал, и ответа не было. Какова бы ни была причина, она умерла вместе с твоим отцом.
– Я не верю этому.
– Тебе придется выбросить это из головы, Чарли. Ничего хорошего из этого не выйдет. Пусть покоятся в мире оба, и отец, и мать. Все прошло.
– Видишь ли, тут есть загвоздка. Я не могу оставить их в покое.
– Почему?
– Потому что кто-то из них, или даже оба не родные мне по крови.
Это выглядело так, будто кто-то взял булавку и уколол Джимми Галлахера сзади. Его плечи обвисли, и часть объема словно улетучилась. Он сгорбился на стуле.
– Что? – прошептал Джимми. – Что ты несешь?
– Группы крови. Они не совпадают. У меня вторая группа. У отца первая. У матери четвертая. Такое просто невозможно.
– Кто тебе это сказал?
– Я говорил с нашим семейным врачом. Он уже на пенсии, старый, но у него сохранились записи. Он проверил их и прислал мне копии двух анализов крови отца и матери. И подтвердил. Возможно, что я сын отца, но не матери.
– Это безумие, – сказал Джимми.
– Ты был самым близким другом моего отца, ближе всех других. Если он кому-либо рассказывал об этом, то в первую очередь тебе.
– Рассказывал о чем? Что в гнезде был кукушонок? – Он встал. – Не могу этого слушать. И не буду. Ты ошибаешься. Наверняка ошибаешься.
Он собрал кофейные чашки, вылил остатки кофе в раковину и оставил чашки там. Джимми стоял спиной ко мне, но я видел, как трясутся его руки.
Он резко обернулся и двинулся ко мне. Я был уверен, что сейчас он меня ударит. Я вскочил и ногой отпихнул стул, приготовившись к удару, собираясь блокировать его, если успею, но удара не последовало. Вместо этого Джимми спокойно и медленно заговорил.
– Значит, это правда, которую они не хотели тебе говорить, и эта правда тебе не нужна. Они любили тебя, оба. Какова бы ни была эта правда, что бы ты уже ни раскопал, оставь это в покое. Если ты продолжишь свои поиски, это только повредит тебе.
– Похоже, ты очень уверен в этом, Джимми.
Он судорожно глотнул.
– Иди ты к черту, Чарли. Сейчас тебе нужно уйти. У меня дела.
Он махнул мне рукой, прощаясь, и снова повернулся ко мне спиной.
– Увидимся, Джимми. – Я знал, что в моем голосе он услышал предостережение. Но он ничего не ответил. Я вышел и направился к подземке.
Позже я узнал, что Джимми Галлахер, как только убедился, что я ушел, тут же позвонил по телефону. Этот номер он не набирал много лет – со следующего дня после смерти моего отца. Он удивился, когда ему ответил именно тот человек, которому он звонил, и почти так же удивился тому, что тот еще жив.
– Это Джимми Галлахер.
– Я помню, – ответил голос. – Сколько лет.
– Не поймите меня неправильно, но недостаточно много.
Ему показалось, что в трубке раздалось нечто похожее на смех.
– Ну, так что я могу для вас сделать, мистер Галлахер?
– Ко мне только что приходил Чарли Паркер. И задавал вопросы о своих родителях. Говорил что-то про группы крови. Он знает о своей матери.
На другом конце линии повисло молчание. Потом послышалось:
– Это должно было когда-то случиться. В конце концов, он должен был это выяснить.
– Я ничего ему не сказал.
– Разумеется. Но он вернется. Он не такой дурак, чтобы не понять, что вы ему соврали.
– И что тогда?
Когда послышался ответ, он стал для Джимми окончательным сюрпризом в этот день, и так уже полный ненужных сюрпризов.
– И тогда вы должны будете рассказать ему правду.
Глава 10
Я провел ту ночь у Уолтера Коула, человека, в честь которого назвал свою собаку. Это был мой товарищ и учитель в нью-йоркской полиции. Он жил со своей женой Ли. Мы вместе поужинали и поговорили об общих друзьях, о книгах и фильмах, о том, как Уолтеру живется на пенсии – а на пенсии он, похоже, в основном дремал и мешался под ногами у жены. В десять часов Ли, которую никак нельзя было счесть совой, нежно поцеловала меня в щеку и отправилась спать, оставив нас с Уолтером вдвоем. Он подбросил в камин еще полено, вылил в бокал остатки вина и спросил, что я делаю в городе.
Я рассказал ему про Коллекционера, потертую личность, считавшую себя орудием справедливости, мерзкого типа, убивавшего тех, кто, по его мнению, в результате своих поступков утратил душу. Я вспомнил никотиновую вонь у него изо рта, когда он говорил о моих родителях, удовлетворение в его глазах, когда сказал про группы крови, про то, чего он не мог знать, но знал, и как все, что я знал о себе, в этот момент начало рассыпаться. Я рассказал ему про результаты медицинских анализов, о недавней встрече с Джимми Галлахером, и как я убедился, что он знает что-то такое, чем не хочет со мной поделиться. Я также рассказал ему о том, что мы не обсуждали с Джимми. Когда моя мать умерла от рака, в больнице остались пробы ее органов. Через своего адвоката я провел тест ДНК на сравнение мазка с моей щеки с тканями матери. Они не совпадали. Я не нашел в себе сил провести подобный тест с ДНК отца. От него не осталось образцов. Для этого потребовался бы ордер на эксгумацию его останков, а мне не хотелось заходить так далеко. Возможно, я боялся того, что мог обнаружить. Узнав правду о матери, я заплакал. Я не был уверен, что готов принести и отца на тот же алтарь, куда принес женщину, которую называл матерью.
Уолтер пригубил вино и молча уставился в огонь, пока я не сделал глоток.
– Прежде всего, почему этот человек, Коллекционер, все тебе рассказал, всю правду и полуправду? – спросил он. Это был типичный полицейский ход – не браться сразу за главный предмет, а начинать с краю. Прощупать. Взять время, чтобы начать привязывать мелкие детали к более крупным.
– Потому что это его забавляло, – ответил я. – Потому что он жесток до такой степени, что мы не можем даже отдаленно представить.
– Похоже, он не из тех парней, кто делает намеки просто так.
– Не из тех.
– И это означает, что он подталкивает тебя к действиям. Он знал, что ты не упустишь такую возможность.
– О чем ты?
– Я говорю, что, судя по твоим словам, он использует людей таким образом, чтобы достичь своих целей. Черт, он и тебя использует. Просто смотри, как бы он тебя не использовал, чтобы кого-нибудь убрать.
Уолтер был прав. Коллекционер пользовался мной, чтобы установить личности падших людей, которых он выискивал, чтобы наказать за их слабости. Он был коварен и абсолютно безжалостен. Теперь он снова скрылся, и у меня не было ни малейшего желания его разыскивать.
– Но если это так, то кого он ищет?
Уолтер пожал плечами:
– Судя по твоим словам, он постоянно кого-то ищет.
Вот и тупик.
– Что касается крови, что ж, тут я не знаю, что сказать. Какие варианты? Или Уилл и Элейн Паркер тебя усыновили и скрывали это от тебя по каким-то своим причинам, или Уилл Паркер завел тебя от другой женщины, и они с Элейн вырастили тебя, как собственного ребенка. Вот так. Такие варианты.
Я не мог не согласиться. Коллекционер сказал, что я не сын моего отца, но этот тип, по моему прошлому опыту общения с ним, никогда не говорил правду – по крайней мере, всю. Это было для него игрой, способом достигать своих целей, каковы бы они ни были, но всегда замешанных на изрядной доле жестокости. Однако могло также оказаться, что он просто сам не знал всей правды, а знал лишь, что с моим рождением что-то нечисто. Я все-таки не верил, что у меня нет кровной связи с отцом. Все во мне восставало против этого. Я узнавал себя в нем. Я вспоминал, как он разговаривал со мной, как смотрел на меня. Не так, как та женщина, которую я считал своей матерью. Возможно, мне просто не хотелось признавать возможность, что это все было ложью и притворством, но я не мог принять такое без неопровержимых доказательств.
Уолтер подошел к камину и присел, чтобы поворошить кочергой угли, прежде чем заговорил снова.
– Я женат на Ли уже тридцать пять лет. Если бы я завел кого-то на стороне и другая женщина забеременела, не думаю, чтобы Ли любезно согласилась на предложение вырастить ребенка вместе с нашими дочерьми.
– Даже если бы что-то случилось с его матерью?
Уолтер задумался над этим.
– Опять же я могу говорить только на основании опыта, но напряжение, которое это наложило бы на брак, было бы почти нестерпимым. Знаешь, каждый день видеть плод неверности твоего мужа, притворяться, что любишь этого ребенка так же, как остальных, обращаться с ним, как с собственным… – Он покачал головой. – Нет, это слишком трудно. Я по-прежнему склоняюсь к другому варианту – усыновлению.
«Но у них не было других детей», – подумал я. Могло ли это изменить ситуацию?
– Но зачем скрывать это от меня? – спросил я, отогнав эту мысль. – Тут нет ничего постыдного.
– Не знаю. Может быть, усыновление было неофициальным, и они боялись, что тебя могут у них отобрать. В таком случае было лучше молчать, пока ты не вырастешь.
– Когда умер отец, я учился в школе. С тех пор прошло достаточно времени, чтобы она могла рассказать мне.
– Да, но не забывай, через что она прошла. Ее муж покончил с собой, неся клеймо убийцы. Она уезжает из штата, берет с собой сына в Мэн, и тут у нее обнаруживается рак. Может быть, у нее ничего не оставалось в жизни, кроме тебя, и она не хотела терять тебя как своего сына, какова бы ни была правда.
Он встал и снова сел на свое место. Уолтер был старше меня почти на двадцать лет, и в тот момент отношения между нами больше походили на отношения отца и сына, чем на отношения двух бывших сослуживцев.
– Потому что тут такая штука, Чарли: что бы ты ни нарыл, они все равно были твоими родителями. Это они вырастили тебя, оберегали тебя, любили. Ты следуешь какому-то медицинскому определению родителей, и я тебя понимаю. Это имеет для тебя значение. На твоем месте я, наверное, вел бы себя точно так же. Но не принимай это за реальность: Уилл и Элейн были твоими отцом и матерью, – и не дай чему-нибудь, что откроешь, затенить этот факт.
Он взял меня за руку и крепко сжал, прежде чем отпустить.
– И что теперь?
– Мой адвокат подготовила документы для ордера на эксгумацию, – сказал я. – Я мог бы сравнить свою ДНК с отцовской.
– Мог бы, но не сравнил. Не готов к этому, верно?
Я кивнул.
– Когда возвращаешься в Мэн?
– Завтра во второй половине дня, когда поговорю с Эдди Грейсом.
– С кем?
– Еще один отцовский друг-коп. Он болен, но его дочь говорит, что сейчас он может уделить мне несколько минут, если я не буду его напрягать.
– А если ничего от него не добьешься?
– Буду жать на Джимми.
– Если Джимми что-то скрывал, то скрывал хорошо. Полицейские сплетни. Тебе это знакомо. Копы как болтливые бабы – если что-то выплыло, трудно удержать это от огласки. Даже теперь я знаю, кто с чьей женой спит, кто выпал из вагона, кто нюхает кокс, кто берет откаты от проституток и наркоторговцев. Такова природа вещей. А когда погибли те двое подростков, служба внутренних расследований стала рассматривать жизнь и карьеру твоего отца с лупой и пинцетом, чтобы выяснить, что же произошло.
– Официальное расследование ничего не выявило.
– Плевать на официальное расследование. Ты лучше чем кто-либо должен понимать, как делаются такие вещи. Бывает официальное следствие и теневое: одно записано и открыто для проверки, а второе выполняется тихо и потом хоронится.
– Так что ты мне скажешь?
– Скажу, что поспрашиваю. Некоторые мне кое-чем обязаны. Посмотрим, не болталась ли где-нибудь ниточка, за которую кто-то потянул. А ты тем временем занимайся тем, чем занимаешься.
Он допил свое вино.
– На этом на сегодня закончим. А утром я съезжу в Перл-Ривер. Давно хотел посмотреть, как живут ирландцы. Всегда приятно почувствовать, что я не один из них.
Глава 11
Эдди Грейс недавно выписался из больницы на попечение своей дочери Аманды. Эдди долго болел, и мне говорили, что он не достаточно окреп, чтобы разговаривать, и по большей части спит, но, похоже, в последние недели ему стало лучше. Он захотел вернуться домой, и в больнице были рады, что он выписался, потому что персонал больше ничем не мог ему помочь. Препараты для облегчения боли точно так же можно было давать ему дома, как и в больничной палате, а в окружении семьи ему было спокойнее и приятнее. Аманда в ответ на мой запрос прислала мне на телефон сообщение, что Эдди хочет и, кажется, в состоянии встретиться со мной дома.
Аманда жила на Саммит-стрит, в пределах молитвенного радиуса антиохийской церкви Св. Маргариты, на другой стороне от того, что было нашим старым домом на Франклин-стрит. Она открыла дверь через несколько секунд после того, как я нажал на кнопку звонка, как будто в прихожей дожидалась моего прибытия. У нее были длинные русые волосы, их цвет отдавал тоном из флакона, но он был не так далек от их естественного цвета, чтобы раздражать. Она была невысокой, чуть больше пяти футов двух дюймов, с веснушками на лице и очень светлыми карими глазами. Было видно, что недавно она провела по губам помадой. От нее пахло каким-то цитрусом, и этот аромат, как и она сама, умудрялся быть одновременно непритязательным и поразительным.
Я потерял голову от Аманды Грейс, когда мы вместе учились в перл-риверской средней школе. Она была на год старше меня, и ее окружала толпа из любителей черного лака для ногтей и малоизвестных английских групп. Она относилась к тому сорту девушек, которых спортсмены делают вид, что презирают, но о которых втайне фантазируют, пока их бойкие подруги-блондинки выполняют акты, при которых от парней не требуется смотреть им в глаза. Примерно за год до смерти моего отца она начала встречаться с Майклом Райаном, чьими главными целями в жизни было чинить автомобили и открыть кегельбан – не такие уж ничтожные цели сами по себе, но не того уровня, чтобы, как я всегда полагал, удовлетворить девушку вроде Аманды Грейс. Майк Райан был неплохим парнем, но его разговорные способности были ограничены, и он хотел прожить всю жизнь и умереть в Перл-Ривер. Аманда же часто говорила о поездке в Европу и учебе в Сорбонне. Было трудно понять, где может лежать общая территория между ней и Майком – разве что на какой-нибудь скале на полпути через Атлантику.
Теперь она была здесь, и хотя я увидел линии там, где их раньше не было, Аманда, как и сам городок, почти совершенно не изменилась. Она улыбнулась.
– Чарли Паркер! Рада тебя видеть.
Я не знал, как с ней поздороваться, и протянул руку, но Аманда проскользнула мимо и обняла меня, потершись головой об меня, как раньше.
– Все тот же неловкий мальчик, – сказала она – как мне показалось, не без намека на нежность, – потом отстранилась и удивленно посмотрела на меня.
– Как это понимать?
– Ты пришел к привлекательной женщине и предлагаешь пожать руку.
– Ну, столько лет прошло. Я не люблю делать предположений. Как твой муж? Все играется с кеглями?
Она хихикнула.
– У тебя это звучит так, будто он гомик.
– Большой мужчина, нацеливающийся на твердые фаллические предметы. Трудно не сделать такого заключения.
– Можешь сказать это ему, когда увидишь. Не сомневаюсь, он задумается над этим.
– Наверняка. Или попытается пнуть меня в задницу, чтобы я улетел отсюда до Джерси.
Выражение ее лица изменилось. Шутливость исчезла, и ее заменила задумчивость.
– Нет, не думаю, что попытается.
Она шагнула назад и придержала для меня открытую дверь.
– Заходи. Я приготовила обед. Ну, то есть купила нарезку ветчины, салаты, и свежий хлеб. Всего-то и делов.
– Более чем достаточно. – Я зашел в дом, и она закрыла за мной дверь, а потом проскользнула мимо меня, чтобы провести на кухню. Ее руки на мгновение легли мне на пояс, а ее живот скользнул по моему паху. Я издал глубокий вздох.
– Что? – спросила она, широко раскрыв глаза и излучая невинность.
– Ничего.
– Давай, говори.
– Похоже, ты по-прежнему могла бы выступать за национальную сборную по флирту.
– Если на то есть причина, почему бы нет? Во всяком случае, с тобой я не флиртую. Почти. У тебя был шанс много лет назад.
– Правда? – Я попытался вспомнить какой-либо шанс, который у меня был в отношении Аманды, но ничего не пришло на ум. Я прошел вслед за ней на кухню и стал наблюдать, как она наливает в кувшин воду из крана с фильтром.
– Да, правда, – ответила она, не оборачиваясь. – Тебе стоило только назначить свидание. Не так уж сложно.
Я сел.
– Тогда все казалось сложным.
– Только не Майку.
– Ну, он был незамысловатый парень.
– Да уж. – Она закрыла кран и поставила кувшин на стол. – Таким и остался. Со временем я поняла, что это неплохо.
– Чем он занимается?
– Автомобилями. Заведует автомагазином в Оранджтауне. По-прежнему ходит в боулинг, но раньше умрет, прежде чем приобретет собственный.
– А ты?
– Раньше я преподавала в начальной школе, но бросила, когда родила вторую дочь. Теперь я работаю на неполную ставку в компании, издающей школьные учебники. Пожалуй, я продавщица, но мне это нравится.
– У тебя дети? – Этого я не знал.
– Две девочки. Кейт и Энни. Они сегодня в школе. Все еще привыкают, что мой папа у нас.
– Как он?
Она состроила гримасу.
– Не очень хорошо. Дело времени. От лекарств он засыпает, но обычно хорошо себя чувствует час или два после обеда. Скоро его придется отправить в хоспис, но он еще не готов к этому. Пока еще. Пока что он останется у нас.
– Печально.
– Ничего. Он не печалится. Папа прожил замечательную жизнь и заканчивает ее в своей семье. Кстати, он очень хочет увидеться с тобой. Он любил твоего отца. И тебя тоже. Думаю, он был бы счастлив, если бы в свое время мы сошлись.
Ее лицо помрачнело. Наверное, она сделала ряд невысказанных умозаключений, создавая альтернативную реальность, в которой могла бы быть моей женой.
– Но моя жена умерла.
– Мы читали о том, что случилось, – сказала Аманда. – Это было ужасно, все это.
Она помолчала. Конечно, она была обязана заговорить об этом, а теперь не знала, как сменить тему.
– У меня тоже дочка, – сказал я.
– Правда? Это здорово, – ответила она с несколько чрезмерным энтузиазмом. – Сколько ей?
– Два года. Ее мать и я, мы больше не живем вместе. – Я помолчал. – Впрочем, я вижусь с дочерью.
– Как ее зовут?
– Саманта. Сэм.
– Она в Мэне?
– Нет, в Вермонте. Когда вырастет, сможет голосовать за социалистов и начать подписывать петиции за отделение от Соединенных Штатов.
Аманда подняла стакан с водой.
– Ну, тогда за Сэм!
– За Сэм.
Мы поели и поболтали о старых школьных друзьях, о ее жизни в Перл-Ривере. Оказалось, что она таки съездила в Европу, с Майком. Поездка была подарком к десятилетию свадьбы. Они посетили Францию, Италию и Англию.
– И как там? Все, как ты предполагала? – спросил я.
– Кое-что. Хотелось бы съездить еще раз и увидеть побольше, но пока мне хватило.
Наверху послышалось какое-то движение.
– Папа проснулся, – сказала Аманда. – Мне нужно подняться наверх и помочь ему приготовиться.
Она вышла из кухни и поднялась по лестнице. Через пару мгновений послышались голоса и мужской кашель – сухой, тяжелый, болезненный.
Через десять минут Аманда ввела в комнату сгорбленного старика, обнимая его одной рукой, чтобы поддержать. Он так исхудал, что ее рука почти полностью обхватывала его, но даже согнутый он был почти с меня ростом.
Все волосы у Эдди Грейса выпали, даже на лице. Его кожа казалась липкой и прозрачной, чуть желтоватая на щеках и красновато-лиловая под глазами. Губы были почти бескровны, а когда он улыбнулся, я увидел, что многих зубов у него недостает.
– Мистер Грейс, – сказал я, – рад вас видеть.
– Эдди, – поправил он. – Зови меня Эдди. – Его голос скрежетал, как рубанок по неровному металлу.
Он пожал мне руку. Его пожатие было по-прежнему крепким.
Дочь не отходила от него, пока он не сел.
– Хочешь чаю, папа?
– Нет, спасибо, мне и так хорошо.
– Вода в кувшине. Тебе налить?
Он возвел глаза к небесам.
– Она думает, что раз я медленно хожу и много сплю, то не могу налить себе воды.
– Я знаю, что можешь. Я просто пыталась быть любезной. Черт возьми, какой ты неблагодарный старичок, – ласково сказала Аманда, а когда обняла его, он потрепал ее по руке и улыбнулся.
– А ты добрая девочка. Лучше, чем я заслуживаю.
– Ну, если ты это понимаешь. – Она поцеловала его в лысину. – Я оставлю вас вдвоем, поговорите. Если понадоблюсь, то я наверху.
Она взглянула на меня у него из-за спины и безмолвно попросила не слишком утомлять старика. Я еле заметно кивнул, и она ушла, предварительно удобно усадив отца и нежно коснувшись его плеча. Дверь она оставила приоткрытой.
– Как дела, Эдди? – спросил я.
– Так себе, – ответил он. – Впрочем, еще жив. Я мерзну. Я мисс Флорида. Жил один, сколько мог, но потом уже не смог сам справляться, захворал. Андреа, моя жена, умерла несколько лет назад. Я не мог себе позволить частную сиделку. Аманда перевезла меня сюда, сказала, что будет ухаживать, если больница согласится. А у меня все еще есть друзья, знаешь, с прежних дней. Это не так плохо. Только чертов холод меня достает.
Он налил себе воды и отхлебнул; кувшин лишь слегка дрожал в его руке.
– Почему ты пришел сюда, Чарли? Зачем тебе говорить с умирающим?
– Я хотел поговорить об отце.
– Ха! – Из его рта тонкой струйкой пролилась на подбородок вода, и он вытерся рукавом халата. – Извини, – сказал он, явно смущенный. – Это только когда приходит кто-то новый, я забываю, как мало достоинства во мне осталось. Знаешь, чему я научился от твоей матери? Не стареть. Избегай этого, как только можешь. Правда, болезни никому не на пользу.
На какой-то момент он словно уплыл куда-то, и его веки отяжелели.
– Эдди, – ласково сказал я. – Я хотел поговорить с вами об Уилле.
Он хмыкнул и снова обратил на меня свое внимание.
– Да, Уилл. Один из хороших людей.
– Вы были его другом. Я надеялся, что вы сможете рассказать мне что-нибудь о том, что случилось, почему это случилось.
– Через столько лет?
Он побарабанил пальцами по столу.
– Он всегда был спокоен, твой старик. Умел держаться с достоинством, понимаешь? Этого у него не отнимешь. Никогда по-настоящему не сердился. Никогда не выходил из себя. Даже переход на время из Девятого на окраину – это было его решение. Вероятно, он не придал большого значения послужному списку, попросив о переводе в начале своей карьеры, но он сделал это ради спокойной жизни. Из всех, кто мог совершить то, что он сделал, я бы никогда не подумал на него, хоть миллион лет пройдет.
– Вы не помните, зачем он попросил о переводе?
– А, он не поладил с кем-то из начальства в Девятом – он и Джимми, оба. Они были заодно, эти двое. Куда один, туда и другой. Между собой, я думаю, они могли плевать на любого. Это была оборотная сторона твоего отца. В нем скрывался дьявол, но он все время держал его на цепи. В общем, в Девятом был один сержант по фамилии Беннетт. Когда-нибудь слышал о нем?
– Нет, никогда.
– Он недолго продержался. Они с твоим отцом сцепились рогами, и Джимми, как всегда, поддержал Уилла.
– Вы не помните, из-за чего они не поладили?
– Нет. Думаю, не сошлись характерами. Бывает. Беннетт был грязный тип, а твой отец не очень любил грязных копов, сколько бы нашивок они ни носили. Короче, Беннетт нашел способ спустить с цепи дьявола в твоем отце. Однажды ночью случилась потасовка, а этого делать нельзя, когда ты в форме. Для Уилла дело обернулось плохо, но они не могли себе позволить потерять хорошего копа. К тому же подозреваю, кто-то позвонил и замолвил за него слово.
– Кто?
Эдди пожал плечами.
– Если честно ведешь себя с другими, приобретаешь поддержку, на которую можешь рассчитывать. У твоего старика были друзья. Была заключена сделка.
– И сделка заключалась в том, что отец попросит о переводе.
– Именно так. Он провел год в глуши, пока Беннетт не получил взбучку от Комиссии Нэппа как хищник.
Комиссия Нэппа, расследовавшая случаи коррупции в полиции в начале семидесятых, придумала два определения для коррумпированных полицейских: «травоядные», которые брали мелкие взятки по десять-двадцать баксов, и «хищники», которые вытряхивали из наркоторговцев и сутенеров значительные суммы.
– И когда Беннетта не стало, отец вернулся?
– Типа того. – Эдди сделал пальцами движение, словно набирает номер на телефонном диске.
– Я не знал, что у отца были такие друзья.
– Может быть, он и сам не знал, пока они не понадобились.
Я оставил эти слова без внимания и спросил:
– А вы помните тот случай со стрельбой?
– Помню, что слышал о нем. В ту неделю мне исполнилось двадцать четыре. Я и мой напарник, мы встречались с двумя другими, Клоске и Бурке, пили кофе. Они закончили дежурство в участке, когда им позвонили. В следующий раз я увидел твоего отца, когда он лежал в ящике. Над ним хорошо поработали. Он выглядел, пожалуй, как обычно, похож на себя. Иногда эти бальзамировщики делают из тебя восковую куклу. – Он попытался улыбнуться. – Я держу это в уме, как можешь сам представить.
– Вас увидят должным образом, – сказал я. – Иного Аманда не допустит.
– Мертвым я буду выглядеть лучше, чем когда-либо выглядел живым, она это умеет. И лучше одет.
Я вернул разговор к отцу.
– У вас есть какие-нибудь мысли, почему отец убил тех подростков?
– Нет, но, как я сказал, было нелегко вывести Уилла из себя. Наверное, они действительно напросились.
Он выпил еще воды, держа левую руку под подбородком, чтобы она не проливалась. Когда он опустил стакан, то тяжело дышал, и я понял, что у меня остается все меньше времени.
– Каким он был в дни перед случившимся? Я хочу сказать, не выглядел ли он подавленным, рассеянным?
– Нет, он был как всегда. Ничего такого. Впрочем, я мало его видел в ту неделю. Его смена была с восьми до четырех, моя – с четырех до двенадцати. Мы поздоровались, когда сменялись, – вот, собственно, и все. Нет, на той неделе он был вместе с Джимми Галлахером. Тебе нужно с ним поговорить. В день стрельбы он дежурил с твоим стариком.
– Что?
– Джимми и твой старик, они всегда сцеплялись на день рождения Джимми. Никогда не пропускали.
– Он сказал мне, что они в тот день не виделись. Джимми был в отгуле. По его словам, он кого-то удачно задержал, что-то связанное с наркотиками.
Отгул был наградой за серьезный арест. Ты заполняешь форму 28, потом регистрируешь ее у окружного чиновника, подчиняющегося капитану. Большинство копов, чтобы обеспечить себе прекрасный день, суют ему пару долларов или, может быть, бутылку «Чиваса», полученную за сопровождение владельца алкогольного магазина в банк. Это было одной из выгод от выполнения бумажной работы для округа.
– Возможно, – сказал Эдди, – но в тот день, когда твой отец застрелил двух подростков, они были вместе. Я помню. Джимми пришел встретить Уилла после дежурства.
– Вы уверены?
– Конечно, уверен. Он пришел в участок, чтобы потусоваться с твоим стариком. Я даже перекрылся с Уиллом, чтобы он мог уйти пораньше. Думаю, они собирались начать выпивку у Кэла, а потом закончить в клубе у Энглерса.
– Где?
– «Клуб Энглерса» в Гринвич-Виллидже. Это типа заведения не для всех на Горацио-стрит. Четвертак за банку.
Я был озадачен. Джимми уверял меня, что не виделся с отцом в тот день. А теперь Эдди Грейс говорит прямо противоположное.
– Вы видели Джимми в участке?
– Ты оглох? Я только что это сказал. Я видел, как он встретил твоего старика, видел, как они уходили вдвоем. Он сказал тебе что-то другое?
– Да.
– Хм. Может быть, он что-то путает.
Меня осенило.
– Эдди, а вы с Джимми поддерживаете связь?
– Нет, не особенно. – Он скривил губы, выражая отвращение. Это дало мне время подумать. Здесь что-то крылось, что-то между Джимми и Эдди.
– Так он знает, что вы вернулись в Перл-Ривер?
– Если кто-то ему сказал, то может быть. Но он ко мне не заходил, если ты это имеешь в виду.
Я заметил, что напрягся и подался вперед. Эдди тоже это заметил.
– Я стар, и я умираю, – сказал он. – Мне нечего скрывать. Я любил твоего отца. Он был хороший коп. Джимми тоже был хороший коп. Не знаю, какая у него была причина врать тебе о твоем старике, но можешь ему сказать, что говорил со мной. Если хочешь, сошлись на меня, чтобы он рассказал правду.
Я подождал. Тут крылось что-то еще.
– Не знаю, чего ты добиваешься, – сказал Эдди. – Твой отец действительно совершил то, в чем его обвинили. Он застрелил тех двоих подростков, а потом застрелился сам.
– Я хочу понять почему.
– Может быть, тут нет никакого почему. Ты можешь жить с этим?
– Я долго пытался.
Я подумал, не рассказать ли ему больше, но вместо этого спросил:
– Вы бы узнали, верно, если бы мой отец… завел кого-то на стороне?
Эдди ошарашенно вздрогнул, потом рассмеялся. Это вызвало новый приступ кашля, и мне пришлось дать ему воды.
– Твой отец не «ходил на сторону», – сказал он, когда кашель улегся. – Это было не в его духе.
Он несколько раз глубоко вздохнул, и я заметил блеск в его глазах. Это было неприятно, как будто я увидел, как он глазеет на молодую девушку на улице, и уловил играющие в его глазах сексуальные фантазии.
– Но он был человек, – продолжил Эдди. – Все мы совершаем ошибки. Как знать? Кто-то что-то сказал тебе?
Он внимательно посмотрел на меня с тем же блеском в глазах.
– Нет, – ответил я. – Никто ничего не говорил.
Он посмотрел мне в глаза, потом кивнул.
– Ты хороший сын. Помоги мне встать, пожалуйста. Я бы посмотрел телевизор. У меня еще час, прежде чем эти лекарства снова меня усыпят.
Я помог ему встать с кресла и переместиться в гостиную, где он устроился с пультиком на диване и включил какую-то викторину. Шум привлек Аманду, и она спустилась вниз.
– Вы закончили? – спросила она.
– Полагаю, да, – ответил я. – Я пойду. Спасибо, что уделил мне время, Эдди.
Старик на прощание поднял пультик, но не оторвал глаз от телевизора. Аманда проводила меня до двери, но, пока я еще не вышел, Эдди заговорил снова.
– Чарли!
Я вернулся к нему.
– Насчет Джимми.
Я подождал.
– Мы были в хороших отношениях, но, знаешь, никогда не были близкими друзьями. – Он постучал пультиком по подлокотнику кресла. – Нельзя доверять человеку, который всю жизнь живет во лжи. Вот что я хотел тебе сказать.
Он нажал кнопку, переключив телевизор на какой-то сериал. Я обернулся к ожидавшей Аманде.
– Как, он тебе помог?
– Да, – ответил я. – Вы оба помогли.
Она улыбнулась и поцеловала меня в щеку.
– Надеюсь, ты найдешь, что ищешь, Чарли.
– У тебя есть мой номер, – сказал я. – Сообщай мне, как дела у твоего отца.
– Хорошо, – сказала она, потом взяла листок бумаги с телефонного столика и написала номер. – Мой сотовый. На всякий случай.
– Знай я раньше, что так легко получить твой телефон, я бы попросил давным-давно.
– У тебя был мой номер, – сказала она. – Ты просто им не пользовался.
С этими словами она закрыла дверь, а я пошел вниз, к кафе «Грязный ручей», где дожидался Уолтер, чтобы отвезти меня в аэропорт.
Глава 12
Меня расстроило, что придется возвращаться из Нью-Йорка, так и не получив ответа на вопрос, где же был Джимми Галлахер в тот день, когда мой отец стал убийцей, но у меня не было выбора: я был в долгу перед Дэйвом Эвансом, а он дал ясно понять, что на следующей неделе я ему понадоблюсь в «Медведе» несколько полных дней. К тому же у меня был только рассказ Эдди, что в тот день Джимми и отец встречались. Он мог просто что-то перепутать, и я хотел убедиться в подлинности фактов, прежде чем в лицо назвать Джимми Галлахера лжецом.
Я взял свою машину в портлендском Джетпорте и вернулся домой, где принял душ и переоделся. В какой-то момент я поймал себя на том, что направляюсь к дому Джонсона, чтобы забрать Уолтера, но потом вспомнил, где сейчас Уолтер, и это вызвало во мне черную меланхолию, которая, я знал, не отпустит меня до утра.
Бо́льшую часть вечера я провел за стойкой с Гэри. Посетителей хватало, но у меня нашлось время поговорить с ними и даже заняться некоторой бумажной работой в задней конторе. Единственный волнующий момент был, когда накачанный стероидами жокей, сняв зимнюю одежду и оставшись только в майке и старых трениках, подошел к женщине по имени Хиллари Герман ростом пять футов два дюйма, блондинке, выглядевшей так, словно легкий бриз мог унести ее подобно листку. Когда Хиллари повернулась к нему спиной, у него хватило глупости положить ей руку на плечо в попытке привлечь ее внимание, и в этот момент Хиллари, которая была тренером по дзюдо в портлендском полицейском департаменте, извернулась и заломила непрошеному поклоннику руку за спину, так что его лоб и колени ударились о пол одновременно. Потом она провела его к двери, швырнула в снег, а потом выбросила ему его шмотки. Его дружки хотели было выразить свое неудовольствие, но вмешательство портлендских копов, с которыми Хиллари выпивала, спасло ее от необходимости надрать задницу и им.
Когда стало ясно, что все успокоились и никто никого незаслуженно не обижает, я стал переносить коробки из холодильной камеры к холодильникам для бутылок. До закрытия оставался еще час, но было непохоже, что нас ожидает непредвиденный наплыв посетителей, и это сэкономило бы мне время позже. Перетаскивая третью коробку, я заметил присевшего у дальнего конца стойки человека. На нем был все тот же твидовый пиджак, и справа от него лежал открытый блокнот. Тот конец стойки обслуживал Гэри, но, когда он двинулся обслужить вновь прибывшего, я сделал ему знак, что хочу сам этим заняться, и он отошел поболтать с Джекки Гарнером, к которому, похоже, стал испытывать волнующую привязанность. Хотя Джекки в это время и пытался болтать с миловидной рыжеволосой женщиной за сорок, он вроде бы был благодарен Гэри за компанию. Джекки не очень хорошо ладил с женщинами. Фактически я не мог вспомнить, чтобы Джекки с кем-то встречался. Обычно, когда с ним заговаривала представительница противоположного пола, он страшно конфузился, как ребенок, с которым заговорили на иностранном языке. И теперь он весь покраснел, как и его рыжая партнерша. Похоже, Гэри действовал как посредник, чтобы беседа текла. Если бы он им не помогал, они бы могли впасть в полное молчание или, если бы покраснели еще чуть-чуть, просто взорваться.
– Как дела? – сказал я человеку с блокнотом. – Вернулись добавить?
– Пожалуй, что так, – ответил он и снял пиджак. Рукава его белой рубашки были закатаны до локтей, галстук распущен, верхняя пуговица рубашки расстегнута. Несмотря на небрежность наряда, он производил впечатление человека, который собрался приступить к серьезной работе.
– Чего вам принести?
– Только кофе, пожалуйста.
Когда я вернулся с чашкой свежезаваренного кофе, пакетиками с сухими сливками и подсластителем, рядом с блокнотом лежала карточка лицевой стороной ко мне. Я поставил кофе на нее, не глядя, что там написано.
– Прошу прощения, – сказал человек. Он приподнял чашку, взял карточку и протянул мне. Я взял, прочел и положил обратно на стойку.
– Красивая карточка, – сказал я, и это в самом деле было так. Его имя, Майкл Уоллес, было отпечатано золотым тиснением рядом с номером бокса в Бостоне, двумя телефонными номерами и веб-сайтом. Профессия характеризовалась как писатель и журналист.
– Оставьте себе, – сказал он.
– Нет, спасибо.
– Я серьезно.
Мне не очень понравилось выражение его лица – такое выражение бывает у копов, когда входят к подозреваемому без предупреждения.
– Серьезно? – Мне не было дела до его тона.
Он полез в портфель и вытащил пару каких-то книг в мягком переплете, явно не художественных. Мне показалось, одну я видел в магазинах: она подробно описывала случай с человеком на севере Калифорнии, которому чуть было не удалось оправдаться после убийства жены и двоих детей, заявив, что они утонули, когда их катер попал в шторм. Ему бы могло сойти это с рук, если бы в соленой воде в легких у жертв лабораторный анализ не выявил едва заметных химических следов. Они совпадали с пятнами моющего средства, найденными в раковине камбуза катера, и это означало, что муж утопил все три свои жертвы, прежде чем выбросить их за борт. Когда пришлось сознаться, причину убийства он объяснил так: «Они никогда ничего не делали вовремя». Вторая книга, похоже, была более ранней работой, стандартной книжкой про серийных убийц, посвященной в основном сексуальным маньякам. Ее название было почти таким же зловещим, как и содержание, – «Кровь на простынях».
– Это я, – сказал он. В общем-то, в этом не было необходимости. – Майкл Уоллес. Это моя работа. Пишу книги про реальные преступления. – Он протянул руку. – Друзья зовут меня Микки.
– Не похоже, что мы станем друзьями, мистер Уоллес.
Он пожал плечами, словно ничего иного и не ожидал.
– Тут вот какое дело, мистер Паркер. Я много читал о вас. Вы герой. Вы одолели многих негодяев, но до сих пор никто не написал полной истории ваших дел. Я хочу написать про вас книгу. Хочу рассказать вашу историю: про смерть вашей жены и ребенка, как вы охотились за человеком, виновным в их смерти, и как после вы охотились за другими такими же. У меня уже есть издатель и название. Книга будет называться «Ангел мщения». Хорошо, не правда ли?
Я не ответил.
– Во всяком случае, аванс не такой уж большой – пятизначная сумма, что все-таки не слишком мало за такую работу, – но я готов разделить его с вами пополам за сотрудничество. О гонораре мы можем договориться. На обложке будет мое имя, но это будет ваша история, как вы пожелаете ее рассказать.
– Я не хочу рассказывать мою историю, сэр. Разговор окончен. Кофе за мой счет, но не советую вам долго сидеть над ним.
Я отвернулся, но он продолжал говорить.
– Думаю, вы меня не поняли, мистер Паркер. Я не хочу ссориться, но эту книгу я напишу в любом случае, с вашей помощью или без. Многое уже опубликовано и доступно, и я узнаю еще больше, когда продолжу расследование. Я уже провел некоторую подготовительную работу и подыскал пару человек в Нью-Йорке, которые согласны поговорить. Потом найдутся люди среди вашего старого окружения и отсюда, которые помогут мне проникнуть в вашу жизнь. Я даю вам возможность придать материалу ту форму, которая соответствует вашему видению событий. Мне нужно лишь несколько часов вашего времени в ближайшую неделю или две. Я работаю быстро и не хочу навязываться больше, чем это необходимо.
Думаю, он удивился, как быстро я придвинулся, но, надо отдать ему должное, не дрогнул, даже когда я вплотную приблизил свое лицо к его лицу.
– Слушай меня, – тихо сказал я. – Этого не будет. Ты сейчас встанешь и уйдешь, и я больше никогда о тебе не услышу. Твоя книга умрет здесь. Я понятно говорю?
Уоллес взял свой блокнот, стукнул им по стойке и засунул в карман. Потом надел пиджак, обмотал шею шарфом и положил на стойку три доллара.
– За кофе плюс чаевые. Я оставлю вам книги. Посмотрите. Они лучше, чем вы думаете. Я позвоню через день-два, узнать, не передумали ли вы.
Он кивнул на прощание и ушел. Я смел его книжки в мусорный бак под стойкой. Джекки Гарнер, который слышал весь наш разговор, слез с табурета и подошел ко мне.
– Если хочешь, я могу этим заняться, – сказал он. – Этот гондон, наверное, все еще на парковке.
Я покачал головой.
– Пусть себе уезжает.
– Я не собираюсь с ним говорить, – сказал Джекки. – А если он попытается заговорить с Поли и Тони, они бросят его тело в залив.
– Спасибо, Джекки.
– Да ну, что ты…
Послышалось, как на парковке завелся двигатель машины. Джекки подошел к двери и посмотрел, как Уоллес уезжает.
– Синий «Таурус», – сказал он. – Массачусетские номерные знаки. Впрочем, старый. Но не взят напрокат. Крутые писатели на таких не ездят. – Он повернулся к стойке. – Думаешь, сможешь его остановить?
– Не знаю. Попытаюсь.
– Похоже, упертый тип.
– Да, похоже.
– Что ж, помни: предложение остается в силе. Тони, Поли и я, мы умеем обращаться с упертыми. Для нас это вызов.
Джекки еще послонялся вокруг, когда бар закрылся, но было ясно, что я к этому не имею никакого отношения. Он шепнул мне, что высматривает женщину по имени Лиза Гудвин. Меня подмывало сказать ей, чтобы бежала без оглядки, если всерьез думала встречаться с Джекки, но это казалось нечестно по отношению к ним обоим. Если верить Дэйву, который немного знал ее по прошлым визитам в «Медведь», это была привлекательная женщина, в прошлом несколько раз сделавшая неудачный выбор в отношении мужчин. В сравнении с ее прошлыми возлюбленными Джекки был практически Кэри Грант[5]. Он был предан, добродушен и, в отличие от бывших этой женщины, никогда бы не поднял на нее руку. Правда, он жил с матерью и имел пристрастие к самодельным боеприпасам, и эти боеприпасы были не такими взрывоопасными, как его мать, но Лиза могла заняться этими проблемами, если они возникнут.
Я вылил в кружку остатки кофе из кофейника и ушел в заднюю контору. Там включил компьютер и посмотрел, что можно сделать с Майклом Уоллесом. Я зашел на его веб-сайт, прочитал некоторые его газетные статьи, которые он закончил писать к 2005 году, и рецензии на его первые две книги. Через час у меня был его домашний адрес, его послужной список, подробности его развода в 2002 году и сведения о том, что в 2006 году он был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Утром нужно будет поговорить с Эми Прайс. Я не знал, можно ли предпринять какие-то действия, чтобы Уоллес не писал про меня, а если можно, то какие. Я точно знал, что не хочу, чтобы мое имя появилось на обложке книги. Если Эми помочь не сможет, мне придется припугнуть Уоллеса, а что-то мне говорило, что он вряд ли откликнется на подобный способ давления так, как надо. Журналисты редко поддаются на такое.
Когда я уже заканчивал, вошел Гэри.
– Все в порядке? – спросил он.
– Да, все прекрасно.
– Ну, значит, мы на сегодня закончили.
– Спасибо. Иди домой, поспи. Я закрою.
– Тогда спокойной ночи. – Он задержался у двери.
– Что такое?
– Если тот парень, писатель, снова придет, что мне с ним делать?
– Подлей ему яду. Но будь осторожен, когда будешь выбрасывать труп.
Гэри вроде бы смутился, не понимая, шучу ли я. Я узнал этот взгляд. Большинство работавших в «Медведе» кое-что знали о моем прошлом, особенно местные, кто уже проработал несколько лет. Кто знает, что они рассказывали Гэри, когда меня не было рядом?
– Просто скажи мне, если его увидишь, – сказал я. – Может быть, ты бы мог дать всем знать, что я был бы благодарен, если никто ничего ему про меня не скажет.
– Это запросто, – сказал Гэри, заметно повеселев, и ушел. Я слышал, как он говорил с Сергеем, одним из поваров, а потом дверь за ним закрылась и все затихло.
Кофе остыл. Я вылил его в раковину, распечатал все, что узнал про Уоллеса, и отправился домой.
Микки Уоллес сидел у себя в номере мотеля, выходящем на Мэйн-молл, и делал записи о встрече с Паркером. Этой хитрости он научился будучи репортером: записывать все, пока оно свежо в памяти, потому что уже через пару часов память начинает выделывать фокусы. Можно дурачить себя, думая, что запомнилось только важное, но это не так. Запоминается то, что не забылось, важно оно или не важно. У Микки была привычка записывать материал подробно от руки в несколько блокнотов, а потом переносить в компьютер, но блокноты оставались первичными записями, и в процессе написания книги он обращался к ним.
Его не огорчила и не удивила реакция Паркера на его первую попытку. По сути, он рассматривал возможное участие этого человека в проекте как пристрелку для начала, но никогда не вредно спросить. А удивляло его то, что никто еще не написал книгу о Паркере, учитывая все, что тот сделал, и дела, в которых был замешан, но это была лишь одна из странностей, окружавших Чарли Паркера. Каким-то образом, несмотря на свою историю и свои поступки, он умудрялся оставаться вне поля зрения. Даже в освещении большинства громких дел его имя появлялось где-то мелким шрифтом. Как будто, когда дело касалось его, возникал элемент сговора: никто не говорил вслух, но все понимали, что его роль в случившемся должна быть преуменьшена.
И только единицы доводили его имя до сведения общества. Уоллес уже не так мало разнюхал, и имя Паркера упоминалось в связи с некоторыми делами на севере штата Нью-Йорк, где была замешана русская мафия, или так говорили. Микки удалось найти в Массене местного копа и поговорить с ним за несколькими кружками пива, и он быстро понял, что что-то здесь здорово скрывают, но когда попытался снова поговорить с тем копом на следующий день, его вывезли из города и в недвусмысленных выражениях предупредили, чтобы он никогда сюда не возвращался. После этого след потерялся, но любопытство Микки только обострилось.
Он чуял кровь, а кровь вела к хорошим продажам книги.
Глава 13
Эмили Киндлер покинула городок, в котором жила последний год, после похорон родителей своего парня. Об их смерти был вынесен «открытый вердикт», констатирующий факт смерти без указания ее причины, но в городке понимали, что они сами отняли у себя жизнь, хотя начальник полиции Дэшат все больше задумывался, почему они сделали это, не похоронив должным образом своего сына. Он не думал, что бывают родители, которые не хотят проститься с покойным сыном, как бы ни были они травмированы случившимся. Он оспорил вердикт как публично, так и частным образом и объединил смерть родителей и убийство сына как в уме, так и в собственном расследовании.
Никто не отрицал, что Эмили Киндлер была искренне потрясена их смертью. Один из местных докторов заставил ее принять успокоительное средство, и какое-то время беспокоились, что ее, возможно, придется поместить в психиатрическую лечебницу. Она сказала Дэшату, что вечером перед их смертью приходила к Фарадеям, и Дэниэл Фарадей выглядел особенно подавленным, но ничто не говорило о том, что он или они оба собираются покончить с собой.
Единственная ниточка в убийстве Бобби Фарадея пришла из полиции штата. Там обнаружили, что за две недели до своей смерти Бобби участвовал в ссоре в одном баре в восьми милях за чертой города. Бар был придорожной забегаловкой, популярной среди байкеров, и, похоже, Бобби, напившись, стал приставать к девушке, которая была отдаленно связана с байкерской бандой «Крестоносцы». База «Крестоносцев» располагалась в Южной Калифорнии, но их ответвления достигали Оклахомы и Джорджии. Слово за слово, и Бобби кого-то ударил, началась драка, пока его не выволокли на парковку и пинком под зад не отправили домой. Ему еще повезло, что его не затоптали: кто-то в баре знал Бобби и вступился за него, сказав, что это просто пацан, который не умеет пить, что с него взять, и к тому же никак не может пережить, что его бросила девушка. Возобладал здравый смысл – а также удачное прибытие полиции штата как раз в то время, когда «Крестоносцы» обсуждали, не будет ли мудро нанести Бобби какую-нибудь серьезную физическую травму, чтобы отвлечь от душевной. «Крестоносцы» были еще те ребята, но Дэшат не представлял себе, чтобы они удавили парня только потому, что с ним повздорили. И все же детективы из полиции штата, казалось, были настроены рассмотреть такую версию и теперь с помощью ФБР устроили игру в догонялки с «Крестоносцами». Тем временем Дэшат показал полиции штата вырезанный на березовой коре знак, были сделаны дополнительные фотографии, но никакой реакции не последовало.
В предположительное время гибели Бобби Эмили Киндлер была дома одна, и это означало, что у нее нет алиби, но это можно было сказать и про половину города. Газ в доме Фарадеев, по самым точным расчетам, был включен где-то между полуночью и двумя часами ночи. И опять же большинство жителей городка в это время были в постели.
Но в действительности начальник полиции не подозревал девчонку Киндлер в какой-либо причастности к смерти Бобби Фарадея, и никакие подозрения о том, как родители Бобби встретили свой конец, не касались ее, хотя он и рассматривал вероятность ее причастности просто из должной пунктуальности. Когда Дэшат тихо упомянул Эмили как подозреваемую Гомеру Локвуду, помощнику медэксперта, который жил в городке и знал в лицо обоих, Эмили и Фарадеев, старик только рассмеялся.
– У нее бы не хватило силы, чтобы такое сделать с Бобби Фарадеем, – сказал он начальнику полиции. – Там не применялось оружие.
Таким образом, когда Эмили сказала начальнику полиции, что собирается уехать из города, он вряд ли мог упрекнуть ее. Он лишь попросил известить, когда она где-то устроится, и какое-то время держать его в курсе своих передвижений. Она согласилась, и он не видел причин препятствовать ее отъезду. Девушка дала ему номер своего сотового и адрес курортного отеля в Майами, где она собиралась найти работу официантки. Она сказала, что охотно вернется в любое время, если сможет чем-то помочь следствию, но в итоге, когда Дэшат попытался с ней связаться, этот номер был уже неактивен, а менеджер курорта в Майами сказал ему, что она так и не приняла его предложения на место официантки.
Эмили Киндлер, похоже, скрылась без следа.
Эмили направилась на северо-восток. Ей хотелось запаха моря, очиститься и обновить свои чувства. Хотелось попробовать стряхнуть то, что следовало за ней тенью. Впрочем, оно отыскало ее в маленьком городке на среднем Западе и забрало Фарадеев. Эмили знала, оно найдет ее снова, но не была готова просто забиться в темный угол и ждать, что будет. Вдали манила Канада.
Мужчины поглядывали на нее, когда она сидела в автобусе линии «Грейхаунд» и смотрела на монотонный плоский пейзаж, постепенно преображающийся в небольшие холмы, на которых толстым слоем еще лежал снег. Какой-то парень в поношенном кожаном пиджаке, пахнущий потом и феромонами, пытался заговорить с ней на одной остановке отдыха, но она отвернулась от него и села на место позади водителя, человека под шестьдесят, который чувствовал ее беззащитность, но, в отличие от других, не имел намерения ею воспользоваться. Вместо этого он взял ее под свое крыло и сердито смотрел на всякого самца до семидесяти лет, кто угрожал занять свободное место позади девушки. Когда парень в кожаном пиджаке снова зашел в автобус и, похоже, намеревался пересесть поближе к объекту своего интереса, водитель велел ему вернуть свою задницу на прежнее место и больше не перемещать ее, пока они не приедут в Бостон.
И все же внимание мужчин возвращало мысли Эмили к Бобби, и ее переполняли слезы. Она не любила его, но он ей нравился. Он был забавный, милый, неловкий – по крайней мере, пока не начал пить и на поверхности не забурлила часть его злобы и недовольства отцом, городком и даже ею.
Эмили сама никогда ясно не понимала, чего она хочет от мужчин. Иногда ей казалось, что она улавливает какой-то намек, какое-то мерцание, как мимолетное свечение в темноте. Она отзывалась на это, а потом мужчины откликались в ответ. Иногда отступать было уже поздно, и она страдала от последствий: словесных оскорблений, порой даже физического насилия, а однажды чуть не случилось еще хуже.
Как многие молодые мужчины и женщины ее возраста, она старалась нащупать цель в жизни. Путь, по которому она хотела бы направить свою жизнь, был ей все еще не ясен. Она думала, что могла бы стать художником, музыкантом или писателем, потому что любила книги, живопись и музыку. В больших городах она проводила время в музеях и художественных галереях, стояла перед великими холстами, словно надеясь раствориться в них, стать частью их мира. Когда могла себе позволить, покупала книги. Когда денег не хватало, ходила в библиотеку, хотя в чтении книг, которые нельзя назвать своими, было что-то не совсем то. И все же они придавали ей чувство, что она не так потеряна, не так брошена на произвол судьбы в этом мире. Другие просто пожимали плечами при тех же проблемах и терпели.
Она не доехала до канадской границы, а вышла в небольшом городке в Нью-Гемпшире. Она сама не могла сказать почему, но научилась доверять инстинктам. Проведя там неделю, она так и не смогла вызвать в себе любовь к этому месту, но осталась вопреки себе. Местные жители не отличались культурой и склонностью к искусствам. Здесь был крохотный музей с мешаниной из истории, по большей части местной, и искусства, тоже местного. Экспонаты ощущались как запоздалые раздумья, импульс тех, кто не имел средств, чтобы удовлетворить свой вкус, или, возможно, не имели вкуса, соответствующего средствам, в городке, который считал подобающим, даже необходимым, иметь свой музей, сам толком не понимая зачем. Это отношение словно пропитало все его слои, и Эмили не могла припомнить другого места, где всякое творчество было бы так подавлено, – пока не вспомнила маленький городишко, который когда-то называла родным. Искусство и красота там тоже не нашли себе места, и дом, в котором она выросла, был лишен всяких прикрас. Даже иллюстрированные журналы не играли своей роли, если не считать отцовских тайных запасов порно.
Она так долго не вспоминала о нем. Мать бросила ее еще ребенком, пообещав вернуться, но так и не вернулась, и через какое-то время прошел слух, что она умерла где-то в Канаде и ее похоронили родные ее нового сожителя. Отец Эмили делал все необходимое для образования и прокормления дочери, но почти ничего сверх того. Она ходила в школу и всегда имела деньги на книги. Они с отцом удовлетворительно питались, но всегда дома, никогда не ходили в рестораны. Какие-то деньги откладывались на расходы по дому, и он давал ей немного на карманные расходы, но она не знала, на что уходят остальные деньги. Он не пил лишнего, не употреблял наркотики. Никогда не прикасался к ней, ни ласково, ни в злобе, а когда она стала старше, следил, чтобы не сказать чего-либо двусмысленного или непристойного. За это она была ему благодарна, хотя он не знал об этом. Она слышала истории, которые рассказывали другие девочки в школе про отцов и отчимов, братьев и дядюшек, про новых дружков усталых одиноких матерей. Ее отец был не таким. Он просто держал дистанцию и сводил разговоры с дочерью к минимуму.
И все же она не считала себя заброшенной. Когда в подростковом возрасте у нее начались трудности в школе – плохое поведение в классе, рыдания в туалете, – отец поговорил с директором школы и устроил Эмили прием у психолога, хотя тому дружелюбному человеку в очках без оправы и с тихим голосом она постаралась открыть как можно меньше, так же как и отцу. Она не хотела, чтобы ее воспринимали в чем-то отличающейся от других, и поэтому не рассказала ему о своих головных болях, о провалах в памяти, о странных снах, в которых что-то зубастое появлялось из темной ямы в земле и грызло ее душу. Она не говорила о своей паранойе или о чувстве, что ее индивидуальность так хрупка, что в любой момент может потеряться или разбиться. После десяти сеансов психолог заключил, что она то, чем и кажется: нормальная, хотя и чувствительная девочка, которая со временем найдет свое место в мире. Не исключалась возможность, что ее трудности предшествуют чему-то более серьезному, возможно, какой-то форме шизофрении, и он посоветовал обоим – ей самой и особенно ее отцу – следить, не возникнут ли серьезные перемены в ее поведении. После этого отец смотрел на нее по-другому, и два раза в месяц, просыпаясь, она видела, как он стоит в халате в дверях ее комнаты. Когда однажды она спросила, в чем дело, он сказал, что она кричала во сне, и она задумалась, не расслышал ли он ее слова.
Ее отец работал шофером на мебельном складе «Трехо и сыновья», хозяева-мексиканцы которого преуспевали. Ее отец был единственным не мексиканцем среди работавших на Трехо. Она не понимала, почему это так, а когда спросила отца, он признался, что и сам не знает. Может быть, потому что он хорошо водил грузовик, но она подумала, что, наверное, эти Трехо продавали разную мебель, дорогую и не очень, разным покупателям, мексиканцам и не мексиканцам. Ее отец внушал уважение и всегда говорил тихо и правильно. Для покупателей побогаче он представлял солидное лицо фирмы.
Вся мебель в их доме была куплена со скидкой у его работодателей, обычно потому, что имела повреждения или была такой безобразной, что уже не было надежды от нее избавиться. Отец подрезал и отшлифовал ножки кухонного стола в попытке сделать их ровными, но в результате стол оказался слишком низким, и после еды стулья было не задвинуть под него. Кушетки в гостиной были удобными, но не сочетались друг с другом, а ковры и половики были долговечными, но дешевыми. Только череда телевизоров, один за другим последовательно украшавших один угол комнаты, имела какой-то уровень качества, и отец регулярно обновлял телевизор, когда в продаже появлялась новая модель. Он смотрел исторические документальные фильмы и всякие викторины. Спортивные передачи смотрел редко. Ему хотелось что-то узнавать, чему-то учиться, и его дочь молча училась рядом с ним.
Когда Эмили, в конце концов, покинула дом, то не была уверена, что он это заметил. Даже подозревала, что он воспринял ее отсутствие с облегчением. Только позже ее осенило, что он словно бы боялся ее.
Она опять нашла место официантки в заведении, очень напоминавшем богемное кафе, которым городишко мог бы гордиться. Платили не много, но и квартиру она снимала недорого, и, по крайней мере, здесь играла хорошая музыка и остальной персонал был не полные говнюки. Она дополняла свой доход, подрабатывая в выходные в баре, что было не очень приятно, но уже встретила парня, которому как будто бы понравилась. Он пришел со своими дружками посмотреть хоккей, но отличался от них и немного пофлиртовал с ней. У него была хорошая улыбка, и он не сквернословил, как его друзья, что она высоко ценила в мужчинах. С тех пор он заходил пару раз, и она чувствовала, что он набирается смелости, чтобы попросить ее о свидании. Впрочем, она не была уверена ни в том, что уже готова к таким отношениям после случившегося, ни в самом парне. Но в нем было нечто, заинтересовавшее ее. Если бы он попросил о свидании, она бы ответила да, но все же пока удерживала дистанцию, стараясь разузнать о нем побольше. Ей не хотелось, чтобы все в итоге обернулось так же, как с Бобби.
На четвертую ночь в новом городе она проснулась от видения, будто какие-то мужчина и женщина идут по улице к ее съемной квартире. Видение было так живо, что она подошла к окну и выглянула наружу, ожидая увидеть две фигуры у ближайшего фонаря, но городок был тих, а улица пуста. Во сне она почти могла рассмотреть их лица. Этот сон являлся ей уже много лет, но только недавно черты мужчины и женщины начали делаться с каждым разом яснее, четче. Она еще не могла их узнать, но знала, что скоро настанет время, когда сможет.
И тогда придет расплата. По крайней мере, в этом она была уверена.
Часть третья
Печально как. Прерви же поцелуй прощальный,
Который наши души источает горечью потерь.
Уйди же, тень, дай мне найти свой путь печальный…
Джон Донн (1572–1631)СмертьГлава 14
Я проводил каждую пятницу в «Медведе», общаясь с нашим крупнейшим дистрибьютором Нэппи. В «Медведь» доставляли пиво три раза в неделю, но Нэппи составлял восемьдесят процентов всех наших продаж, поэтому его поставки были огромны. Грузовик Нэппи всегда приезжал по пятницам, и, когда тридцать бочонков были проверены и уложены, я оплачивал доставку согласно принятым в «Медведе» правилам, выставлял водителю обед за мой счет, и мы беседовали о пиве, его семье и экономическом спаде.
«Медведь» немножко отличался от большинства баров в своей оценке, как идут дела для посетителей. Этот бар был всегда популярен среди перекупщиков, и мы видели, как все больше их грузовики паркуются на нашей стоянке. Это была не та работа, которой мне бы хотелось заниматься, но большинство из них относились к своему делу довольно философски. Они могли себе это позволить. Все они, за исключением пары человек, были большие крепкие мужики, хотя самый крутой из них, Джейк Элмс, который сейчас у стойки ел гамбургер и проверял свой телефон, был всего пяти футов и пяти дюймов ростом и едва показывал на весах 120 фунтов. Он говорил тихо, и я никогда не слышал от него непристойных выражений, но о нем ходили легенды. Он ездил с паршивым терьером в кабине своего грузовика, а на подставке под приборным щитком держал алюминиевую бейсбольную биту. Насколько я знал, у него не было пистолета, но этой палкой он проломил в свое время несколько голов, а пес Джейка был известен своим талантом хватать человека зубами за яйца и висеть так, рыча, если кто-то имел безрассудство угрожать его любимому хозяину.
Излишне говорить, что пса в бар не пускали.
– Терпеть не могу это время года, – сказал Натан, водитель Нэппи, закончив укутываться и приготовившись выйти на холод. – Мне бы надо подыскать работу где-нибудь во Флориде.
– Любишь жару?
– Нет, не очень. Но это… – Залезая в свое пальто, он сделал жест в сторону мира за пределами темного кокона «Медведя». – Весна, называется! Какая же это весна! Зима в самом разгаре.
Он был прав. В этих местах, казалось, было только три времени года: зима, лето и осень. Никакой весны. Уже была середина февраля, но не наблюдалось никакого возвращения жизни, никакого намека на обновление. Городские улицы были загромождены снегом и льдом. Правда, худшие снегопады уже прошли, но вместо них начались ледяные дожди и унылая осада непрекращающегося холода, иногда вдобавок с сильным ветром, которого даже в своей слабейшей форме хватало, чтобы обморозить уши, нос и кончики пальцев. Укрытые улицы затвердевали от ледяных заплат, заметных и не очень. Те, кто поднимался с Коммершл-стрит к Старому порту, рисковали потерять сцепление с землей, а столь обожаемая туристами булыжная мостовая отнюдь не помогала сделать подъем менее рискованным. Задача подметания пола в барах и ресторанах становилась более нудной и утомительной от набиравшейся слякоти, песка и соли с улиц. Валы снега и льда в местах рядом с автомобильными стоянками на Миддл-стрит и у причалов достигали такой высоты, что создавалось впечатление, будто пешеходы участвуют в окопной войне. Некоторые ледяные глыбы своими размерами напоминали валуны, словно изверженные из глубин какого-то странного замерзшего вулкана.
Рыболовные катера у причалов засыпало снегом. Порой какая-нибудь отважная душа делала вылазку в залив, и по возвращении рыбья кровь окрашивала лед красным и розовым, но по большей части чайки безутешно махали крыльями в ожидании лета и возвращения легкой добычи. По ночам слышалось, как шины буксуют по коварному льду, как водители нетерпеливо топают ногами в поисках ключей, и раздавался истерический смех на грани слез от вызванных холодом мук.
А впереди маячил март, жалкий месяц капающих сосулек и тающего снега, когда последние следы зимы подло прячутся в укрытых от солнца местах. Потом апрель и май. Лето, тепло, туристы.
Но пока что была только зима без каких-либо намеков на весну. Лед и снег, и на них старые следы ног, как ненужные, отказывающиеся умирать воспоминания. Люди собирались кучками в ожидании прорыва блокады. Но тот день, когда Натан говорил про разгар зимы, принес в эту часть мира нечто странное и необычное.
Он принес туман.
И принес их.
Несколько дней, а потом и недель, стоял страшный холод, необычный даже для этого времени года. Изо дня в день шел снег, а потом, к самому Дню святого Валентина, перешел в ледяной дождь, который залил улицы и превратил сугробы в твердые глыбы льда. Потом дождь прекратился, но холод остался, пока, наконец, погода не смягчилась, и температура не стала подниматься.
И над белыми полями поднимался туман, как дым от холодного пламени; его переносили воздушные потоки, неощутимые для людей, и оттого он казался одушевленным, как какая-то манифестация с необъявленной и непонятной целью. Очертания деревьев стали неразличимыми, леса потерялись в обволакивающем их тумане. Он не ослабевал и не рассеивался, а с течением дня словно только становился гуще и плотнее, покрывая влагой города и городишки, оседая мягким дождем на окнах домов, машинах и людях.
И мгла все прибывала. Она охватила город, превратив самые яркие фонари в призраки самих себя, отрезав пешеходов на улицах от других таких же, и потому все они ощущали себя одинокими в этом мире. И каким-то образом она сделала ближе тех, кто имел семью, кто имел любимых, потому что они находили утешение друг в друге, точку соприкосновения в мире, который вдруг стал таким чуждым.
Возможно, потому они и вернулись, или просто я по-прежнему верил, что они никогда до конца и не покидали меня? Я выпустил их, этих призраков моей жены и ребенка. Я попросил у них прощения за свои неудачи, потом взял все, что сохранил из их жизни – одежду и игрушки, платья и туфли, – и сжег во дворе. Я чувствовал, как они уходят, следуя болотными ручейками в ожидавшее их море, и когда я вступил в дом снова, преследовавший меня запах дыма и утраченных вещей показался мне иным: как-то легче, словно он вычистил часть суеты, или старый, затхлый запах унесло ветерком из открытых окон.
Конечно, это были мои призраки. Я сам создал их. Я придал им форму, наделив их своей злобой и печалью, и они стали для меня чем-то враждебным, и все то, что я когда-то любил в них, ушло, а эта пустота заполнилась тем, что я ненавидел в себе. И они приняли эту форму, согласились с ней, потому что таким образом смогли вернуться в этот мир, мой мир. Они не были готовы ускользнуть в темные уголки моей памяти, стать чем-то вроде снов, отказаться от своего места в этой жизни.
Но это были не они. Это не была та жена, которую я любил, хотя и не достаточно, и не та дочь, которую когда-то лелеял. Они мелькали передо мной такими, какими были в жизни, до того, как я позволил им преобразиться. Я увидел, как моя умершая жена ведет призрачного мальчика в темный лес, держа за маленькую ручку, и я знал, что он не боится ее. Она была Госпожа Лето и вела его к тем, кого он утратил, провожала его в последний путь сквозь чащу деревьев. И там ему будет нечего бояться, потому что он не останется один: там есть кто-то еще – девочка примерно его возраста, которая подпрыгивает в зимнем солнце, ожидая, когда кто-то придет поиграть с ней.
Это были моя жена с ребенком. Это была их истинная форма. То, что я развеял в дыме и огне, было моими призраками. То, что вернулось со мглой, было ими самими.
В тот вечер я работал. Это была не моя смена, но Эл и Лоррейн, два штатных бармена, которые жили вместе почти столько же, сколько работали в «Медведе», попали в аварию на Первом шоссе неподалеку от Скарборо-Даунса, и их на всякий случай отправили в больницу. Поскольку заменить их было некому, мне пришлось провести еще один вечер за стойкой. Я еще не отдохнул после предыдущего вечера, но что поделать. Я надеялся, что получу от Дэйва день отгула, и это даст мне возможность на следующей неделе провести чуть больше времени в Нью-Йорке, но пока оставались только Гэри, Дэйв и я, чтобы подавать пиво и гамбургеры и стараться держать голову над водой.
В этот день Микки Уоллес планировал снова поговорить с Паркером в «Медведе», но дневной инцидент на стоянке у мотеля заставил его передумать. Когда Микки вышел около трех часов дня, рядом с его машиной стоял какой-то тип. Это был человек, который на той неделе в баре флиртовал с миниатюрной рыжеволосой женщиной. И его, и машину было еле видно в сгущавшемся тумане. Он не представился, но Микки знал, что его зовут Джекки. Этот Джекки дал понять, что не одобрит, если Микки снова побеспокоит Паркера, а если журналист все же продолжит приставать, то познакомит его с двумя джентльменами покрупнее его, Джекки, и менее рассудительными, чем он, которые запихнут Микки в ящик, переломают ему руки и ноги, если не будет влезать, и отправят самым медленным и непрямым путем в самую глухую дыру в Африке. Когда Микки спросил, действует ли он по поручению Паркера, Джекки ответил отрицательно, но Микки не знал, верить ему или нет. В конце концов, это не имело значения. Микки и сам не чурался грязных средств. Он позвонил в «Медведь», чтобы убедиться, что Паркер там по-прежнему работает, а когда его спросили, не хочет ли он поговорить с ним, Микки ответил, что все в порядке, и он зайдет поговорить лично.
Когда на город опустилась тьма, а над землей по-прежнему сгущался туман, Микки поехал в Скарборо.
Было восемь часов вечера, когда Микки подъехал в тумане к дому на холме. Он знал, что Паркер не вернется до часу или двух, а в соседнем доме было темно. Жившие там старики Джонсоны, похоже, куда-то уехали. Как называют людей, которые, когда холод начинает кусаться, уезжают во Флориду? Грачи? Нет, «перелетные птицы» – вот правильное слово.
Даже если бы Джонсоны были дома, это не удержало бы его от намеченного плана. Это просто означало бы, что придется дольше идти пешком. А в их отсутствие он мог поставить машину у дома и не идти по холодному мокрому шоссе, а также не рисковать, что какой-нибудь любопытный коп спросит, куда это он идет по грязной дороге в зимнем мраке.
Днем он уже пару раз подъезжал к интересующему его дому, но не имел возможности рассмотреть поближе без риска быть замеченным. Теперь, больше не работая частным детективом, Паркер больше времени проводил дома, но Микки не мог позволить себе роскошь наблюдать за домом достаточно долгое время, чтобы узнать его распорядок. Со временем узнает.
Микки все еще тешил себя надеждой, что сможет преодолеть закрытость Паркера и получить хотя бы толику сотрудничества с его стороны. Микки был по-тихому настойчив. Он знал, что большинство людей хотят поговорить о своей жизни, даже если сами этого не осознают. Им нужно сочувственное ухо, нужен кто-нибудь, кто выслушает их и поймет. Иногда для этого требовалась лишь чашечка кофе, но бывало, что и бутылка «Чиваса». Было две крайности, и остальное человечество, как Микки знал по опыту, располагалось в различных точках между ними.
Микки Уоллес был хорошим репортером. Он искренне интересовался теми, о ком писал. Ему не приходилось прикидываться. Человеческие существа бесконечно очаровывали его, и даже скучнейший человек имел скрытую где-то в глубине свою историю, о которой стоило рассказать хотя бы вкратце. Но со временем журналистика стала его утомлять и разочаровывать. У него не хватало энергии на то, что больше не доставляло удовольствия, не было жажды охотиться за людьми изо дня в день ради историй, которые он откроет, чтобы еще до конца недели все о них забыли. Ему хотелось написать нечто такое, что останется надолго. Он подумывал, не начать ли писать романы, но это было не для него. Сам он романов не читал, так с какой стати ему их писать? Реальная жизнь была достаточно любопытна без приукрашивания вымыслом.
Нет, что интересовало Микки – это добро и зло. Это интересовало его всегда, с тех пор как в детстве он посмотрел по телевизору фильмы «Одинокий рейнджер» и «Виргинец». Даже когда Уоллес был репортером, его больше всего привлекали криминальные истории. Правда, они чаще всего печатались в «подвале» полосы, а Микки любил видеть свое место как можно ближе к заголовку, но его также зачаровывали отношения между убийцами и их жертвами. Между убийцей и жертвой часто была близость, тесная связь. Микки казалось, что какая-то часть личности жертвы переносилась на убийцу, переходила в момент смерти и оставалась в глубине его души. Он также верил, в какой-то мере парадоксально, что в некотором смысле смерть жертвы в конечном счете и придавала смысл ее жизни, определяла ее, приподнимала над безымянностью повседневной обыденности и наделяла ее своего рода бессмертием, насколько это может позволить временная природа общественного внимания. Микки не считал это настоящим бессмертием, поскольку жертвы все-таки умерли, но решил называть это так, пока не подберет более удачного слова.
Будучи репортером, он впервые вошел в косвенный контакт с предметом своего интереса – Паркером. Когда были убиты жена Паркера и его дочь, Микки был в толчее у маленького домика в Бруклине в ту ночь. Он писал про этот случай, статьи становились все меньше и меньше и на полосах газеты опускались все ниже и ниже по мере того, как версии одна за другой отпадали. В конце концов, даже Микки отказался от дела об убийстве Паркеров и временно задвинул его на задний план. Ходили слухи, что федералы ищут возможную связь с каким-то серийным убийцей, но цена этой информации говорила о том, что она будет положена под сукно, пока не настанет нужный момент.
Хотя Микки искренне интересовался людьми и их историями, он знал за собой некоторую черствость, которая прививалась многим в этой профессии. Люди были ему любопытны, но не заботили его – во всяком случае, не настолько, чтобы он ощущал их боль как собственную. Они вызывали временное поверхностное сочувствие, но он не переживал за них. Возможно, это было следствием его работы – ему приходилось заниматься одной историей за другой в непрерывной последовательности, и глубина и продолжительность его вовлечения полностью зависели только от интереса публики и, как следствие, интереса газеты. Отчасти поэтому он решил покинуть мир журналистики и посвятить себя книгам. Погружаясь лишь в несколько дел, он надеялся возродить в себе чувствительность. А заодно и заработать немного денег. Нужно было только найти верный сюжет, и он не сомневался, что нашел его в Чарли Паркере.
Микки мог восстановить в памяти тот момент, когда убедился, что в этом человеке есть что-то необычное. Паркер не сник после смерти жены и дочки. Также он не ходил на дневные шоу, чтобы рассказывать о своей боли в попытке привлечь общественное внимание к тем двум убийствам и обеспечить давление на правоохранительные органы, чтобы они выследили оставшегося безнаказанным убийцу. Нет, он выправил себе лицензию частного детектива и стал сам охотиться как за убийцей, которым оказался некто по прозвищу Странник, так и за прочими. Первой, кого он нашел, была женщина по имени Модина, и тогда для Микки прозвенел первый звонок. Прямо перед ним был сюжет, достойный воскресного приложения: отец теряет жену и ребенка, погибших от руки убийцы, и начинает охоту за парой детоубийц. Здесь было все, чего желала пресыщенная публика.
Вот только Паркер не расскажет эту историю. Предложения дать интервью были вежливо, а порой невежливо, отклонены. А потом – бац! – вот он опять, на этот раз это касалось большой рыбы, которую он пытался зацепить, – Странника. За последующие годы Микки и другим ему подобным стало ясно, что происходит что-то странное, что-то совершенно исключительное. Этот человек, Паркер, обладал каким-то даром, хотя это был не тот дар, который кто-либо в здравом уме пожелал бы иметь: казалось, что его влекло к злу, а зло, в свою очередь, тянулось к нему. И когда оно находило его, он его уничтожал. Вот так просто или так сложно, в зависимости от того, как ты предпочитаешь смотреть на это, потому что Микки Уоллес не был туп и знал, что человек не может сделать то, что сделал Паркер, и не понести серьезных потерь и травм на этом пути. А теперь он работал в баре в большом городе на северо-востоке, разведенный со своей женщиной, виделся с ребенком от нее, может быть, раз или два в месяц, и жил в большом доме, на который Микки теперь осторожно светил фонариком.
Микки нужно было войти внутрь. Он хотел порыться в ящиках стола, открыть папки в шкафах и файлы в компьютерах, посмотреть, где объект его интереса ест, сидит, спит. Он хотел походить по его следам, поскольку Микки хотел сделать своего Паркера – взять его слова, его опыт и превзойти их, создать новую версию его личности, которая будет чем-то бо́льшим, чем сумма отдельных частей. Для этого Микки нужно было на время стать им, понять реальность его существования.
А если Паркер окончательно решит не сотрудничать? Микки старался не думать об этом. Этим утром он говорил с издателем, и тот ясно дал понять, что предпочитает участие Паркера в проекте. Его отказ не означал расторжения договора, но значительно повлиял бы на тираж и на сам дух и имидж книги. Точка зрения издателя была понятна, но это усложняло задачу Микки. Любой мог бы собрать вместе известные сведения, хотя и не так хорошо, как Микки, но за такую работу не платят большие деньги. Да и дело было не в баксах: нужно было рассказать реальную историю, нечто глубокое, необычное и волнующее, и слова должны исходить из уст самого героя. Микки уговорит Паркера, он был уверен, или в большой степени уверен. Тем временем он попытался установить контакт с другими подходящими источниками информации в надежде создать более подробное досье на своего героя, потому что хотел узнать о Паркере больше, чем тот знал сам.
Вот только люди, которые были близки к Паркеру, оказались преданны ему, и пока что Микки пришлось признать, что по большей части его попытки встретили полный отказ. Правда, он выстроил свои беседы, официальные и неофициальные, с парой бывших копов, помнивших Паркера по Нью-Йорку, и с бывшим капитаном службы внутренних расследований, который полагал, и Микки знал это из надежных источников, что герой повествования должен сидеть за решеткой – он сам и его дружки. Они тоже заинтересовали Микки. О них он ничего не знал, кроме имен: Ангел и Луис. Капитан сказал, что в какой-то мере может помочь и с ними. Сам он хотел остаться в тени, но пообещал Микки достать материалы расследования и некоторые неофициальные сведения, которым хороший репортер вроде него мог легко найти подтверждение. Для начала неплохо, но Микки хотелось большего.
Его одежда отсырела. Туман был очень кстати, так как скрывал журналиста от глаз случайных прохожих на дороге. Даже если бы кто-то направился по подъездной дорожке, то все равно не увидел бы машину и его самого, пока не подошел бы к самому дому. Машина стояла за деревьями, и Микки был полностью уверен, что, если только кто-то не будет специально ее разыскивать, мимо нее пройдут, не заметив. Даже если, паче чаяния, вернется Паркер, он наверняка проедет мимо. Но в то же время туман был сырой и холодный и такой густой, что, казалось, его можно схватить рукой, как сахарную вату.
В кармане пальто у Микки был набор отмычек.
Он поднялся на крыльцо и, скорее надеясь, чем ожидая, нажал на ручку двери. Дверь, конечно, была заперта. Он ненадолго задумался, потом навалился на нее плечом, от чего она загремела в раме. Ничто не засигналило. «Это хорошо», – подумал Микки. Еще одна удача вдобавок к отсутствию соседей и тому, что в доме, похоже, больше не было собаки. Он слышал, как Паркер, незадолго до того как дать ему отлуп, говорил о ней с одним из барменов.
Микки двинулся влево и заглянул в окно. На кухне в задней части дома горел ночник, отбрасывая тусклый свет в гостиную. Комнаты казались хорошо обставленными, на полках было много книг. Справа от входной двери располагался маленький кабинет с компьютером на письменном столе, на полу рядом были аккуратной стопкой сложены какие-то бумаги. Микки знал, что недавно Паркер ездил в Нью-Йорк, и гадал, зачем. Ему отчаянно хотелось просмотреть эти бумаги.
Он подошел к дому сзади и встал на разделенный на части квадрат света от ночника. Туман здесь становился гуще, и когда Микки оглянулся, он показался ему непроницаемой белой стеной, заслонявшей деревья и болото позади. Микки поежился. Он попробовал заднюю дверь – также безрезультатно. И снова прижался лицом к стеклу.
А внутри что-то двинулось.
На мгновение ему почудилось, что это отраженный свет, или по дороге проехала машина, создавая тени в комнате за кухней, но никакого шума машины не было слышно. Микки закрыл глаза, вспоминая, что же он увидел. Он не был уверен, но вроде бы это была женщина, женщина в платье ниже колен. В это время года таких платьев не носят. Это было летнее платье.
Он подумал было уйти, но потом понял, что ему представляется удобный случай войти в дом без необходимости нарушать закон. Если внутри кто-то есть, можно назваться другом детектива. Внутри ему могут предложить чашечку кофе или выпить чего-нибудь, а когда Микки сядет, его будет трудно прогнать. Труднее избавиться только от тараканов, чем от Микки Уоллеса в процессе расспросов.
– Эй! – крикнул он. – Есть кто-нибудь дома? – и постучал в дверь. – Эй! Я друг мистера Паркера. Не могли бы вы…
Огонь на кухне погас. Это было так неожиданно, что Микки в страхе отшатнулся, и какое-то время его глаза привыкали к темноте. Потом он взял себя в руки и глубоко вдохнул. Может быть, пора убираться. Не хотелось, чтобы женщина внутри испугалась и вызвала полицию. Это могло все испортить. И все же он снова осторожно подошел к двери. Фонариком в правой руке он постучал в дверь, прислонившись к стеклу и прикрыв глаза левой.
В дверях между кухней и гостиной стояла женщина. Она смотрела прямо на него, опустив руки. Сквозь тонкую ткань он видел очертания ее ног, но лицо ее было в тени.
– Извините, – обратился к ней Микки. – Я не хотел вас пугать. Меня зовут Майкл Уоллес, я писатель. Вот моя визитная карточка. – Он нащупал в кармане карточку. – Я подсуну ее под дверь, чтобы вы знали, кто я.
Он нагнулся и просунул карточку в щель. А когда выпрямился снова, женщины не было.
– Мэм?
У его ног показалось что-то белое. Его карточку вытолкнули обратно.
«Боже, – подумал Микки. – Она у двери. Она прячется за дверью».
– Я хочу только поговорить с вами, – сказал он.
– Уйди.
Сначала Микки засомневался, не ослышался ли он. Слова звучали достаточно ясно, но они словно исходили откуда-то сзади. Он обернулся, но там никого не было, только туман. Он снова прижался лицом к стеклу, пытаясь хоть как-то разглядеть скрывавшуюся внутри женщину. И почти увидел: темное пятно на полу, там явно кто-то был. Кто она? Женщина Паркера должна быть в Вермонте, а не здесь. Микки планировал поговорить с ней как-нибудь недели через две. Все равно они больше не жили вместе. Ей незачем было быть здесь, а уж если все-таки была, то совсем незачем прятаться.
Что-то заныло в Микки, отчего-то ему стало тревожно, но он попытался это прогнать. Это удалось только отчасти. Он чувствовал, как где-то на краю сознания затаилось, подобно той женщине, присевшей в тени за дверью, нечто странное, на чем он боялся сосредоточить внимание.
– Пожалуйста. Я только хотел немного поговорить с вами о мистере Паркере.
– Майкл, – снова послышался голос, на этот раз ближе. Микки показалось, что он ощутил на шее дыхание, или, быть может, просто дуновение ветра с моря – но ведь не было никакого ветра. Он быстро обернулся и, тяжело дыша, ощутил в легких туман, от чего закашлялся, и во рту появился вкус снега и соленой воды. Ему не понравилось, как голос произнес его имя. Ни капли не понравилось. В голосе был намек на насмешку и скрытая угроза. И Микки ощутил себя непослушным ребенком, которого увещевает няня, вот только…
Только голос был детским.
– Кто здесь? – сказал он. – Покажись.
Но не последовало никакого ответа, не было никакого движения перед ним. Зато Микки ощутил движение сзади. Он медленно повернул голову, не желая отворачиваться от говорившего с ним.
Теперь в кухне опять стояла женщина на полпути между задней дверью и входом в гостиную, но в ней не хватало реальности, плоти. Она не отбрасывала тени, а вместо того чтобы заслонять тот слабый свет, что проникал сквозь стекло, только рассеивала его, как лоскут газа в форме человеческого существа.
– Уйди. Пожалуйста.
И значение слова «пожалуйста» дошло до него. Он раньше слышал, как вот так же произносят это слово, прежде чем коп повалит кого-то на землю или вышибала в ночном клубе применит грубую силу к пьяному. Это было последнее предупреждение, выраженное в вежливой форме. Он повернулся, чтобы видеть и дверь, и туман, и начал отступать к углу дома.
Потому что как только он попытался усомниться в реальности тревожившей его тени, она обрела узнаваемую форму.
Женщина и ребенок. Голос девочки. Женщина в летнем платье. Микки видел раньше это платье или очень похожее на него. Это было платье, которое было на жене Паркера на фотографиях, которые распространили в печати после ее смерти.
Как только дверь скрылась из виду, Микки бросился бежать. Один раз он поскользнулся и, тяжело шлепнувшись на землю, испачкал брюки и погрузил руки по локоть в ледяной снег. Он встал и, хныча, отряхнулся. И тут сзади послышался звук. Его слегка приглушал туман, но он был ясно различим.
Это был звук открывающейся двери.
Микки побежал снова. Показалась его машина. Он нащупал в кармане ключи и нажал на кнопку «отпереть», чтобы включить свет. Сделав это, он замер и почувствовал спазмы в животе.
В машине находился ребенок, девочка, она смотрела на него из окна с переднего сиденья. Девочка прижала левую ладонь к запотевшему стеклу, а указательным пальцем правой чертила на нем узоры. Ему было плохо видно ее лицо, но он инстинктивно понимал, что не было бы никакой разницы, даже если бы он оказался не в нескольких футах, а в нескольких дюймах от нее. Она была так же бестелесна, как окружавший ее туман.
– Нет, – сказал Микки. – Нет, нет. – Он покачал головой. Сзади послышались шаги по твердому обледеневшему снегу; приближалась невидимая фигура. Как только Микки услышал эти шаги, он осознал, что если бы прошел по своим следам к задней двери, то нашел бы только отпечатки своих ног и больше ничьих.
– О, Боже, – прошептал он. – Боже, боже…
Но девочка уже двигалась прочь, отступая в туман и деревья, ее правая рука поднялась в насмешливом прощании. Микки воспользовался шансом и сделал рывок к машине. Он рванул дверь на себя, захлопнул ее за собой и с силой нажал на внутреннюю кнопку блокировки. Несмотря на страх, его пальцам не пришлось нащупывать нужные кнопки. Он рванул с места и вырулил на дорожку, не глядя ни вправо, ни влево, а только вперед, на скорости выехал на шоссе и резко повернул направо, через мост на Скарборо. Лучи фар казались существующими сами по себе, когда пытались пронзить туман. Появились дома, а потом, через какое-то время, успокаивающие огни вывесок на Шоссе № 1. Только добравшись до бензоколонки справа, он сбавил скорость. Подъехав к стоянке, он нажал на тормоза и, откинувшись на спинку сиденья, попытался восстановить дыхание.
Светофор на перекрестке начал менять цвет. Это привлекло его внимание к правому окну, и то, что сначала показалось случайным узором на мокром стекле, теперь приняло определенные очертания. Это были слова. Кто-то написал на окне:
НЕ СУЙСЯ К МОЕМУ ПАПЕ
Микки какое-то время смотрел на эти слова, потом нажал кнопку обдува стекол, чтобы стереть послание. Убедившись, что оно исчезло, он поехал к себе в мотель и направился прямиком в бар. Только после двойной порции водки он нашел в себе силы заняться записями, и принял еще двойную порцию, чтобы унять дрожь в руках.
В ту ночь Микки плохо спал.
Глава 15
Я не заметил визитной карточки Уоллеса, пока на следующий день после обеда не открыл заднюю дверь, чтобы вынести мусор. Карточка лежала на ступеньке, примерзшая к цементу. Я посмотрел на нее, потом зашел обратно внутрь и из кабинета позвонил ему на сотовый.
Он ответил после второго гудка:
– Микки Уоллес.
– Это Чарли Паркер.
Секунду или две он помолчал, а когда заговорил, то его голос сначала звучал неуверенно, но, как истинный профессионал, он быстро оправился.
– Мистер Паркер, я как раз собирался вам позвонить. Я хотел узнать, обдумали ли вы мое предложение.
– Я немного подумал, – ответил я, – и хотел бы встретиться.
– Прекрасно. – Его голос от удивления возвысился на октаву, но потом вернулся к обычному тембру. – Где и когда?
– Почему бы вам не приехать ко мне, скажем, через час? Вы знаете, где я живу?
Возникла пауза.
– Нет, не знаю. Можете объяснить?
Мои объяснения были подробны и запутанны. Я гадал, побеспокоится ли он хотя бы записать их.
– Понятно? – спросил я, закончив.
– Да, думаю, я понял.
Я услышал, как он отхлебнул что-то.
– Не хотите прочесть мне, как поняли?
Уоллес поперхнулся, а откашлявшись, сказал:
– Нет необходимости.
– Ну, если вы уверены…
– Спасибо, мистер Паркер, я скоро буду.
Я повесил трубку. Потом надел пиджак, пошел на подъездную дорожку и обнаружил под деревьями следы колес. Если Уоллес ставил машину здесь, то уезжал он в страшной спешке, умудрившись разворотить лед и снег до грязи под ними. Я вернулся в дом, уселся в кресло и стал читать «Пресс-Геральд» и «Нью-Йорк таймс», пока не услышал шум подъезжающей машины и не увидел синий «Таурус» Уоллеса. Он поставил машину не там, где прошлой ночью, а подъехал к самому дому. Я наблюдал, как он вылез, взял свой портфель с сиденья и проверил, есть ли в кармане ручка. Убедившись, что все в порядке, он запер машину.
У меня перед домом. В Мэне. Зимой.
Я не стал ждать, когда он постучит, а открыл дверь и сразу ударил его в живот. Он согнулся и упал на колени, потом сложился вдвое, и его стало тошнить.
– Встань, – сказал я.
Он не вставал. Он пытался вдохнуть, и я боялся, что он заблюет мне крыльцо.
– Не бейте меня больше, – выговорил он. Это была просьба, а не угроза, и я почувствовал себя так, будто пнул щенка.
– Не буду.
Я помог ему подняться. Он сел, прислонясь к перилам крыльца, положил руки на колени и стал приходить в себя. Я стоял напротив, сожалея о том, что сделал. Я дал своей злобе закипеть, а потом выместил ее на человеке куда слабее меня.
– Уже лучше?
Он кивнул, но выглядел неважно.
– За что?
– Думаю, ты знаешь. За то, что шарил у меня. За то, что хватило глупости обронить здесь свою карточку.
Он прижался к перилам, чтобы не упасть.
– Я ее не обронил.
– Хочешь сказать, что оставил ее для меня в грязи на заднем крыльце? Звучит странно.
– Я только сказал, что не обронил ее. Я засунул ее под дверь для женщины, которая была в этом доме прошлой ночью, но она выпихнула карточку обратно.
Я огляделся. И увидел скелеты деревьев среди хвои и протоки в соленых болотах, холодно сиявших среди смерзшегося снега. И одинокую черную ворону на фоне серого неба.
– Что за женщина?
– Женщина в летнем платье. Я пытался заговорить с ней, но она ничего не сказала.
Я посмотрел на него. Его глаза не могли встретиться с моими. Его слова не были ложью, но и не открывали всей правды, утаивали какой-то ключевой элемент. Он пытался защитить себя, но не от меня. Микки Уоллес был до смерти перепуган. Я видел это по тому, как его глаза постоянно обращались к чему-то за окном моей гостиной. Не знаю, что он ожидал там увидеть, но что бы это ни было, он был рад, что оно не появилось.
– Расскажи мне, что случилось.
– Я подошел к дому. Думал, что, может быть, вы будете более сговорчивы, чем в баре.
Я знал, что он врет, но не собирался говорить ему это. Хотел услышать, что он расскажет о происшедшем прошлой ночью.
– Я увидел свет и подошел к задней двери. Внутри была женщина. Я подсунул под дверь свою визитную карточку, а она вытолкнула ее обратно. Потом…
Он замолчал.
– Продолжай, – сказал я.
– Я услышал голос девочки, но она была снаружи. Думаю, потом женщина тоже вышла к ней, но этого я не видел, так что не могу быть уверен.
– Почему ты не посмотрел?
– Я решил уйти. – Его лицо и эти три слова сказали многое.
– Мудрое решение. Но еще мудрее было бы вообще не приходить.
– Я просто хотел посмотреть, где вы живете. Я не хотел причинить никакого вреда.
– Конечно.
Он глубоко вдохнул и, убедившись, что его не стошнит, встал и выпрямился во весь рост.
– Кто они такие? – спросил он, и теперь пришел мой черед врать.
– Моя подруга. Подруга со своей дочкой.
– Дочка вашей подруги всегда гуляет по снегу в густом тумане и пишет слова на окнах чужих машин?
– Пишет? О чем это ты?
Микки с трудом глотнул. Его правая рука дрожала. А левую он засунул в карман пальто.
– Когда я вернулся к машине, на окне было кое-что написано. «Не суйся к моему папе».
Мне понадобилось все мое самообладание, чтобы не выдать своих чувств перед ним. Мне так хотелось взглянуть на окно чердака, потому что я помнил послание, написанное там на стекле, – предостережение, оставленное существом, которое было не совсем моей дочерью. И все же дом уже не ощущался так, как тогда. Он больше не был одержим гневом, печалью и болью. Раньше я ощущал их присутствие в движении теней и скрипе половиц, в медленно закрывающихся дверях без всякого движения воздуха, в стуке в окна, рядом с которыми не было деревьев, чьи ветви могли бы коснуться стекла. Теперь дом пребывал в покое, но если Уоллес говорил правду, то что-то вернулось.
Я вспомнил, как мать однажды рассказывала мне через несколько лет после смерти отца, что в день, когда его тело отнесли в церковь, она проснулась от чьего-то присутствия в спальне, и ей показалось, что муж рядом с ней. В дальнем углу комнаты стоял стул, на который он садился, заканчивая раздеваться. Он садился туда, чтобы снять туфли и носки и иногда задерживался там, твердо уперев босые ноги в ковер, положив подбородок на ладони и задумавшись о завершающемся дне. Мать говорила, что в том сне отец снова сидел на стуле, хотя она и не видела его. Когда она пыталась сфокусироваться на фигуре в углу комнаты, там был только стул, но когда она отводила взгляд, то краем глаза видела сидящую фигуру. Было бы вполне естественно, если бы она испугалась, но она не боялась. Во сне ее веки отяжелели. «Но как же мои веки могут отяжелеть, – думала она, – когда я и так сплю?» Она боролась с этим, но сонливость была слишком сильна.
И как только она впала в дрему, сразу почувствовала чью-то руку на лбу, и чьи-то губы коснулись ее щеки. Она ощутила его печаль и чувство вины, и в этот момент, наверное, она начала, наконец, прощать его за то, что он совершил. Остаток ночи она проспала глубоким сном и, несмотря на все случившееся, не плакала, когда в церкви над ним произносилась последняя молитва, а когда тело опустили в могилу и в руки ей вложили сложенный флаг, она грустно улыбнулась о своем утраченном муже, и единственная слеза упала на землю и взорвалась в грязи, как упавшая звезда.
– Дочь моей подруги пошутила над вами, – сказал я.
– Неужели? – ответил Уоллес, даже не пытаясь скрыть скептицизм в голосе. – Они все еще здесь?
– Нет. Уехали.
Он пропустил это.
– Вы поступили низко. Вы всегда бьете людей без предупреждения?
– Это происходит от характера моей работы. Если бы я говорил некоторым, что собираюсь их ударить, они бы меня застрелили. Предупреждение несколько притупляет эффект.
– Знаете, вот сейчас мне тоже как-то хочется вас застрелить.
– По крайней мере, сейчас вы говорите честно.
– Вы позвали меня сюда просто еще раз сказать, чтобы я не совался?
– Извини, что я тебя ударил, но тебе нужно услышать это с глазу на глаз, а не в баре. Я не собираюсь тебе помогать с твоей книгой. И сделаю все, что в моих силах, чтобы дело не зашло дальше нескольких каракулей в твоих блокнотах.
– Вы мне угрожаете?
– Мистер Уоллес, помните того джентльмена в «Медведе», который обсуждал возможные мотивы инопланетных похитителей людей?
– Помню. Сказать по правде, только вчера я с ним встречался. Он поджидал меня на стоянке у моего мотеля. Я предположил, что это вы его послали.
Джекки. Мне следовало знать, что он возьмет дело в свои руки в нелепой попытке помочь мне. Какой-то частью своего существа я чуть ли не восхищался им. Интересно, сколько времени он потратил, протраливая автостоянки у городских мотелей, высматривая машину Уоллеса?
– Я его не посылал, но он из таких людей, которых нелегко контролировать, и у него есть двое дружков, по сравнению с которыми сам он выглядит невинным ягненком. Они братья, и некоторые тюрьмы не хотят их брать обратно, потому что они запугивают остальных заключенных.
– И что? Собираетесь натравить на меня его дружков? Вы крутой парень.
– Если бы я хотел так серьезно с вами разобраться, то сделал бы это сам. Есть другие способы разбираться с проблемами вроде вас.
– Я не проблема. Я просто хочу рассказать вашу историю. И заинтересован в правде.
– Я не знаю, что такое правда. Если я не понял этого за все это время, то и вы не добьетесь большего.
Он прищурился, и на его лицо вернулся хоть какой-то цвет. Зря я стал обсуждать с ним эту тему. Он напоминал рьяного христианина, который встретил на пороге человека, желающего подискутировать с ним о богословских вопросах.
– Но я могу вам помочь, – сказал он. – Я нейтральная сторона. Я могу найти кое-что полезное для вас. Это все необязательно должно войти в книгу. Вы можете контролировать, каким получится ваш имидж.
– Мой имидж?
Он понял, что не туда свернул, и поскорее дал задний ход.
– Так говорят. Это ничего не значит. Я хотел сказать, что это ваша история. Если ее изложить должным образом, она будет рассказана вашим голосом.
– Нет, – ответил я. – Вот тут вы ошибаетесь. Она не должна быть рассказана вообще. И больше не приходите ни сюда, ни на мое рабочее место. Вы конечно, знаете, что у меня есть ребенок. Его мать не будет с вами говорить. Это я могу сказать наверняка. Если вы приблизитесь к ним, если хотя бы пройдете мимо них на улице и поймаете их взгляд, я вас убью и закопаю. Вам нужно этого избежать.
Его лицо затвердело, и я увидел, как на нем проявилась внутренняя сила. И тут же я ощутил усталость. Уоллес не собирался раствориться в ночи.
– Что ж, позвольте и мне кое-что сказать вам, мистер Паркер. – Он назвал фамилию знаменитого актера, о котором давно ходили слухи сексуального характера, не находя покупателя. – Два года назад я согласился написать его биографию без его разрешения. Это не моя область, вся это голливудская дребедень, но издатель прослышал про мои таланты и давал хорошие деньги, учитывая тему. Этот актер – один из самых влиятельных людей в Голливуде. Его люди угрожали мне финансовой катастрофой, гибелью моей репутации, даже потерей конечностей, но эта книга должна выйти в свет в шестимесячный срок, и я подтвержу каждое ее слово. Он не станет со мной сотрудничать, но это не важно. Книга все равно появится, и я найду людей, которые поклянутся, что вся его жизнь – ложь. Вы совершили ошибку, ударив меня. Это был поступок перепуганного человека. Только за это я раскопаю и разворошу каждый грязный уголок в вашей жизни. Я разыщу о вас то, чего вы сами не знаете, и вставлю в свою книгу, и вы сможете купить экземпляр и прочесть об этом, и тогда вы, может быть, узнаете кое-что про себя, но наверняка узнаете кое-что про Микки Уоллеса. А если ты, гондон, снова поднимешь на меня руку, я подам на тебя в суд.
С этими словами Уоллес повернулся и заковылял к своей машине.
А я подумал: «Вот черт!»
Позже в тот же вечер ко мне зашла Эми Прайс – после того как я послал ей в офис еще одно сообщение с подробным описанием большей части того, что произошло с тех пор, как Уоллес появился в «Медведе». Она отказалась от кофе, но спросила, нет ли у меня откупоренного вина. Откупоренного у меня не было, но я с радостью открыл для нее бутылку. Это было самое меньшее, что я мог для нее сделать.
– Ладно, – сказала она, осторожно пригубив вино и решив, что оно не вызовет конвульсий, – это не моя область, так что мне нужно будет поспрашивать, но вот где мы находимся в юридических терминах насчет книги. Потенциально, как субъект несанкционированной биографии, вы можете подать иск на многих законных основаниях – клевета, злоупотребление правом на гласность, злоупотребление доверием, – но самым подходящим пунктом в вашем случае будет вмешательство в личную жизнь. Вы не публичная фигура, как актер или политический деятель, поэтому имеете определенное право на личную жизнь. Мы говорим о праве не предавать огласке факты личной жизни, если они не затрагивают интересов общества; о праве не терпеть ложных или обманчивых утверждений или предположений насчет вас; о праве на защиту от вмешательства, что означает буквальное физическое вмешательство в вашу частную жизнь путем вторжения на принадлежащую вам площадь.
– Что Уоллес и сделал, – вставил я.
– Да, но он может возразить, что в первый раз он пришел к вам выразить свой протест и оставить визитную карточку, а во второй раз, по вашим словам, вы сами его пригласили.
Я пожал плечами. Она была права.
– Так как прошел его второй визит?
– Не лучшим образом.
– Это как?
– Для начала мне не следовало бить его в живот.
– Ох, Чарли! – Она, кажется, была искренне раздосадована, а я еще больше устыдился своих действий в этот день. В попытке оправдаться за промахи я пересказал наш разговор с Уоллесом как можно подробнее, оставив в стороне только упоминание о женщине с ребенком, которых, если верить журналисту, он заметил у меня в доме.
– Так вы говорите, ваш друг Джекки тоже угрожал Уоллесу? – сказала она.
– Я его не просил. Он, наверное, думал, что делает мне приятное.
– По крайней мере, он проявил больше сдержанности, чем вы. Уоллес может обвинить вас в нападении, но, думаю, не станет. Ясно, что он хочет написать эту книгу, и это может перекрыть прочие проблемы, если вы не нанесли ему серьезного ущерба.
– Он ушел своим ходом, – сказал я.
– Ну, если он что-либо знает о вас, то может считать, что ему повезло.
Я получил прямой удар. И не имел оснований спорить.
– Итак, на чем мы остановились?
– Вы не можете помешать ему написать книгу, – просто сказала Эми. – Как он сам сказал, масса материала для нее взята из открытых источников. Все, что мы можем – это запросить или приобрести копию рукописи и прочесать ее мелким гребнем, выискивая примеры клеветы или вопиющего вмешательства в личную жизнь. Потом мы сможем обратиться в суд, требуя запрета на публикацию, но должна предупредить, суды обычно неохотно идут на такого рода запреты, ссылаясь на Первую поправку. Самое большее, на что мы можем рассчитывать, – денежная компенсация. Издатель, вероятно, имеет гарантию Уоллеса, и в лицензионный договор включен пункт, предусматривающий его ответственность в случае предъявления третьим лицом иска о нарушении своих прав. Предполагаю, что контракт формально согласован. К тому же, если все сделано правильно, для защиты работы существует страховка от рисков, сопряженных со средствами массовой информации. Другими словами, мы не только не сможем избежать неприятностей, но и не сможем сделать хорошую мину при плохой игре.
Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.
– Вы точно не хотите попробовать это вино? – спросила Эми.
– Точно. А то, если начну, могу не остановиться.
– Извините. Я поговорю еще кое с кем и посмотрю, нет ли у нас какого-то другого пути, но не питаю больших надежд. Так что, Чарли?
Я открыл глаза.
– Не угрожайте ему больше, – сказала она. – Просто держитесь подальше. Если он приблизится, отойдите. Не вступайте в конфронтацию. Это касается и ваших друзей, каковы бы ни были их благие намерения. Они только создадут нам новые проблемы.
– Тут может быть еще одна загвоздка.
– Какая?
– Ангел и Луис.
Я достаточно рассказывал Эми о них, чтобы она не имела иллюзий на их счет.
– Если Уоллес начнет копать, могут всплыть их имена, – сказал я. – Не думаю, что у них бывают благие намерения.
– Они не похожи на людей, которые оставляют много следов.
– Это не важно. Им это не понравится, особенно Луису.
– Так предупредите их.
Я обдумал это и ответил:
– Нет. Подождем развития событий.
– Вы уверены, что это хорошая мысль?
– На самом деле нет, но Луис верит в превентивные средства. Если я скажу ему, что Уоллес начал расспрашивать о нем, он может решить, что лучше сделать так, чтобы Уоллес больше никогда никого ни о ком и ни о чем не расспрашивал.
– Будем считать, что я этого не слышала. – Эми залпом допила свое вино и словно бы решала, не налить ли еще, в надежде, что это могло бы стереть из памяти мои слова. – Бог мой, куда вы придете с такими друзьями?
– Не уверен, но думаю, Бог не имеет к этому никакого отношения.
Глава 16
На следующий день рано утром Микки Уоллес уехал из Портленда. Он кипел обидой и едва сдерживал злобу, что было ему несвойственно: Микки редко по-настоящему злился, но после встречи с Паркером и запугивания со стороны его дружка-неандертальца писатель сильно изменился. Он привык, что его запугивают законники, его толкали на стену и стоящие автомобили, по крайней мере, дважды угрожали более серьезными повреждениями, но много лет его никто не бил, как это сделал Паркер. Фактически последний раз Микки участвовал в чем-то похожем на настоящую драку, когда еще учился в школе, и тогда удачным ударом выбил противнику зуб. Хорошо бы сейчас нанести подобный удар Паркеру. Садясь в автобус в Логане, Микки проигрывал в уме альтернативный сценарий, где он поставил Паркера на колени и унизил, а не наоборот. Он развлекался такими мыслями пару минут, а потом прогнал их. Найдутся другие способы заставить Паркера пожалеть о том, что сделал, и главный из них – завершить проект с книгой. Этот проект увлек Микки, и он чувствовал, что от успеха книги зависит его репутация.
Но его по-прежнему тревожило, что случилось у Паркера в доме в ту туманную ночь. Микки ожидал, что интенсивность реакции на тот случай, страх и замешательство спадут, но они не утихали. Он продолжал плохо спать и в первую ночь после происшествия проснулся в три минуты пятого утра, убежденный, что в комнате мотеля есть кто-то еще. Микки включил лампу у кровати, и экологическая лампочка стала медленно набирать яркость, постепенно заполняя светом комнату, но оставляя в темноте углы, от чего у Микки возникло неприятное чувство, что темнота вокруг отступает неохотно, забирая с собой присутствующего и скрывая его в местах, куда не достает свет лампы. Ему вспомнилась спрятавшаяся за дверью кухни женщина и девочка, водящая пальчиком по окну машины. Ему бы надо было взглянуть ей в лицо, но он не смог, и что-то говорило ему, что нужно благодарить судьбу хотя бы за это. Их лица оставались скрытыми от него не просто так.
Потому что Странник растерзал их, вот почему, потому что оставил вместо лиц кровь, и кости, и пустые глазницы. И тебе не нужно было этого видеть, нет, сэр, потому что это зрелище осталось бы в тебе, пока твои глаза не закроются в последний раз и твое собственное лицо не закроют покрывалом. Никто не может посмотреть на такие увечья, на такую жестокость, и не повредиться умом навсегда.
А если это были те, кого ты любил, твоя жена и твой ребенок, ну, тогда…
Подруга и ее дочь, две гостьи – так сказал Паркер, но Микки не поверил ни на мгновение. Да, это действительно были гости, но не такие, которые спят в гостевой комнате и зимними вечерами играют в настольные игры. Микки не понимал природы этих существ, пока еще не понимал, и пока не решил, включать ли эту встречу в книгу, которую покажет издателю. Он подозревал, что лучше не включать. В конце концов, кто же ему поверит? Включив в повествование призраков, он рискует подорвать основанный на фактах фундамент своей работы. И все же эта женщина с ребенком и то, что они перенесли, представляли собой сердцевину книги. Микки всегда думал о Паркере как о человеке, которого преследует случившееся с его женой и дочкой, – преследует, но не так буквально. Неужели это ответ? Неужели Микки стал свидетелем этого преследования?
И все эти мысли и раздумья он добавил к своим записям.
Микки зарегистрировался в отеле у Пенсильванского вокзала, в типичном капкане для туристов с рядом крошечных, как кроличьи садки, комнатушек, занятых шумными, но вежливыми азиатами и семьями деревенщины, пытающимися посмотреть Нью-Йорк задешево. К вечеру он сидел в заведении, которое по своим стандартам и стандартам большинства людей, за исключением бездомных бродяг, назвал бы забегаловкой, и размышлял, что бы заказать, не поставив под угрозу собственное здоровье. Хотелось кофе, но место выглядело таким, где заказ кофе по какой-либо причине, не связанной с похмельем, вызывает в самом лучшем случае сердитый взгляд, если не рассматривается как явное свидетельство гомосексуальных наклонностей. На самом деле, подумал Микки, даже то, что он помыл руки после туалета, в такой дыре может показаться подозрительным.
Рядом с ним лежало меню бара, а на доске мелом был написан список сегодняшних блюд, который мог бы с таким же успехом быть написан на санскрите: этот список уже давно не менялся, но никто здесь и не ел. Собственно, здесь вообще никто ничего не делал, потому что в помещении не было ни души, кроме самого Микки и бармена. Тот выглядел так, словно последние десять лет или около того потреблял исключительно человеческие гормоны роста. У него выпирало в тех местах, где ни у одного нормального человека не должно выпирать, даже на лысой голове, как будто он развивал мускулатуру на темени, чтобы оно не чувствовало себя исключенным из остального тела.
– Берете что-нибудь? – спросил он. Его голос был гораздо тоньше, чем Микки ожидал, и у последнего возникла мысль, что это как-то связано со стероидами. Особые вздутия были у бармена на груди, как будто у груди выросли еще собственные груди. Он был такой загорелый, что временами словно сливался с закопченной деревянной стойкой бара. Микки он напоминал пару женских чулок, набитых футбольными мячами.
– Я кое-кого жду.
– Ну так закажите что-нибудь, пока ждете. Считайте это арендной платой за табурет.
– Приветливое место, – сказал Микки.
– Если вам нужны друзья, позвоните самаритянам. А здесь делают бизнес.
Микки заказал светлое пиво. Он редко пил до наступления темноты, и даже тогда ограничивался кружкой-другой пива, за исключением ночи после визита к Паркеру, но та ночь была исключительной во многих смыслах. Сейчас ему не хотелось пива, от одной мысли о выпивке становилось нехорошо, но он не собирался обижать человека, который выглядел способным, не моргнув глазом, вывернуть Микки наизнанку и обратно. Пиво прибыло. Микки уставился на него, а оно уставилось на Микки. Пивная шапка вяло оседала, словно вторя нежеланию Микки пить.
Открылась дверь, и вошел высокий мужчина с естественной мускулатурой человека, никогда для наращивания мышц не прибегавшего к искусственным средствам и обходившегося мясом и молоком. На нем было длинное синее пальто, оно было расстегнуто, открывая солидное пузо. Седые волосы коротко пострижены. Нос красный, и не только от холода на улице. Микки понял, что сделал правильный выбор, заказав пиво.
– Эй, – сказал бармен. – Да это же Капитан. Давно не виделись.
Он протянул руку, и вошедший взял ее и тепло пожал, а левой рукой хлопнул по внушительному плечу бармена.
– Как дела, Гектор? Смотрю, ты все еще употребляешь это дерьмо.
– Оно поддерживает меня большим и не жирным, Капитан.
– У тебя растут сиськи, и, наверное, ты дважды в день бреешь спину.
– Может быть, я отращиваю волосы, чтобы ребятам было за что держаться.
– Ты ненормальный, Гектор.
– И горжусь этим. Что тебе принести? Первая выпивка за счет заведения.
– Это достойно с твоей стороны, Гектор. «Редбрест», если не возражаешь, чтобы прогнать холод из костей.
Он отошел к концу стойки, где сидел Микки.
– Вы Уоллес?
Микки встал. Он был около пяти футов десяти дюймов ростом, и Капитан возвышался над ним на семь или восемь дюймов.
– Капитан Тиррелл. – Они пожали руки. – Спасибо, что нашли время поговорить со мной.
– Ну, после того как Гектор мне выставит, выпивка на вас.
– С удовольствием.
Гектор поставил внушительный стакан виски, не испорченного льдом или водой, у правой руки Тиррелла. Тот сделал жест в сторону загородки у задней стены.
– Давайте выпьем там. Вы еще не поели?
– Нет.
– Здесь готовят хорошие гамбургеры. Вы едите гамбургеры?
Микки сомневался, что в этом месте делают что-то хорошее, но знал, что лучше не отказываться.
– Да. Гамбургер звучит неплохо.
Тиррелл поднял руку и крикнул Гектору:
– Два гамбургера средней прожарки со всеми гарнирами!
«Средней прожарки, – подумал Микки. – Боже!» Он бы предпочел, чтобы они прогорели на дюйм, в надежде убить все поселившиеся в мясе бактерии. Черт, а ведь этот гамбургер может стать последним в его жизни.
Гектор должным образом ввел заказ в на удивление современно выглядевший кассовый аппарат, хотя и работал на нем, как обезьяна.
– Уоллес – это хорошая ирландская фамилия, – сказал Тиррелл.
– Я по происхождению наполовину ирландец, наполовину бельгиец.
– Какая-то мешанина.
– Европа. Война.
Лицо Тиррелла печально смягчилось сентиментальностью, словно растаяло суфле.
– Мой дед служил в Европе. В королевских ирландских стрелках. За свои старания получил пулю.
– Печально это слышать.
– Да нет, он не умер. Впрочем, потерял левую ногу ниже колена. Тогда не пользовались протезами, да и сейчас, похоже, не пользуются. Обычно он каждое утро закалывал штанину брюк булавкой. И, думаю, по-своему гордился этим.
Он поднял стакан и произнес:
– Sláinte![6]
– Ваше здоровье, – сказал Микки и набрал в рот пива. К счастью, оно было таким холодным, что вкуса почти не чувствовалось. Он полез в портфель и вынул блокнот и ручку.
– Сразу за дело, – заметил Тиррелл.
– Если предпочитаете подождать…
– Нет, это правильно.
Микки достал из кармана пиджака маленький диктофон «Олимпус» и показал Тирреллу.
– Не возражаете, если я…
– Да, возражаю. Убери. А еще лучше, вынь батарейки и положи эту штуку так, чтобы я ее видел.
Микки сделал, как было сказано. Это несколько затрудняло дело, но Микки неплохо владел стенографией и обладал хорошей памятью. В любом случае, он не будет прямо цитировать Тиррелла. Это был фон – яркий фон. Тиррелл прекрасно это понимал, когда согласился встретиться с Микки. Если бы его имя всплыло в какой-либо связи с книгой, он бы выкрутил Микки пальцы так, чтобы они стали бы напоминать штопор.
– Расскажи мне чуть больше, что за книгу ты пишешь.
Микки рассказал. Оставив в стороне большую часть художественных и философских составляющих своего замысла, он попытался по возможности оставаться нейтральным, объясняя свой интерес к Паркеру.
Хотя отношение Тиррелла к детективу оставалось не совсем ясным, Уоллес подозревал, что оно скорее негативное – хотя бы потому, что пока все, кто относился к Паркеру с симпатией или уважением, наотрез отказывались говорить о нем.
– А ты сам встречался с Паркером? – спросил Тиррелл.
– Встречался. Я хотел взять у него интервью.
– И как?
– Он без всякого предупреждения врезал мне по животу.
– Это на него похоже. Он сукин сын, головорез. И это еще не самое худшее в нем.
Тиррелл отпил свое виски. Стакан был уже наполовину пуст.
– Хотите еще? – спросил Микки.
– Конечно.
Микки повернулся к стойке, и ему даже не пришлось заказывать: Гектор просто кивнул и пошел за бутылкой.
– Я хочу знать все, что знаете вы.
И Тиррелл начал рассказывать. Сначала он рассказал про отца Паркера, который убил двух подростков в машине, а потом покончил с собой. Капитан не мог предложить никаких догадок о причинах этого убийства, а только предположил, что с отцом было что-то не так, и эта странность перешла к сыну: плохие гены, возможно, предрасположенность к насилию.
Прибыли гамбургеры вместе со второй порцией виски для Тиррелла. Тот принялся за еду, но Микки воздержался. Он был слишком занят записями – или так сказал бы, если бы Тиррелл спросил.
– Насколько известно, первым человеком, которого он убил, был Джонни Фрайди, – сказал Тиррелл. – Он был сутенер, и Паркер забил его до смерти в туалете на автобусной станции. Мир от этого ничего не потерял, но дело не в этом.
– Почему вы подозреваете Паркера?
– Потому что он был там. Камеры наблюдения сняли, как он заходил и выходил из станции как раз в то время, когда произошло убийство.
– Камеры были и у двери в туалет?
– Камеры были везде, но они его не засняли. Зафиксировали только, как он входил и выходил из здания.
Микки был озадачен.
– Как это возможно?
Впервые Тиррелл проявил неуверенность.
– Не знаю. Тогда камеры не были зафиксированы, кроме тех, что на дверях. Мера для снижения расходов. Они перемещались из стороны в сторону. Наверное, он рассчитал время и двигался, когда они были направлены в другую сторону.
– Это непросто.
– Трудно. Но не невозможно. И все же это странно.
– Его допрашивали?
– У нас был свидетель, который и вывел его на сцену – уборщик в туалете. Парень был кореец. Не мог сказать больше трех слов по-английски, но узнал Паркера на снимках с камер. Ну, то есть выбрал Паркера в числе пяти других. Сложность была в том, что для того парня мы все на одно лицо. Из тех выбранных пятерых четверо отличались друг от друга, как я от тебя. И все же Паркера привлекли, и он согласился дать показания. Даже не позвал адвоката. Он признался в том, что был на станции, но больше ни в чем. Сказал, что приходил в связи с каким-то беглецом, которого его попросили разыскать. Это проверено. В то время он работал по делу какого-то подростка.
– И на этом все закончилось?
– У нас хватало оснований, чтобы его обвинить, но не было большого желания. Он был бывший коп и всего за несколько месяцев до того потерял жену и ребенка. Может быть, его не любили товарищи, но копы поддерживают своих в беде. Это было бы все равно, что обвинить Белоснежку в незаконном проникновении в чужое жилище. И, как я сказал, Джонни Фрайди был далеко не пай-мальчик. Многие восприняли это как гуманный акт – что кто-то навсегда исключил его из команды.
– А почему Паркера не любили?
– Не знаю. Ему не надо было быть копом. Он не подходил для этой профессии. В нем всегда было что-то не то.
– Зачем же он пошел в полицию?
– Думаю, какая-то неуместная верность памяти его старика. Может быть, он думал, что сможет отплатить за смерть тех ребятишек, если будет хорошим копом, лучше, чем его отец. По мне, так это единственный замечательный поступок в его жизни.
Микки не стал на этом задерживаться. Его удивила глубина неприязни Тиррелла к Паркеру, и он не мог понять, что такого мог Паркер сделать, чтобы заслужить ее, – разве что спалить дом Тиррелла, а потом на пепелище изнасиловать его жену.
– Вы сказали, что убийство Джонни Фрайди было первым, в причастности к которому заподозрили Паркера. Были и другие?
– Полагаю, были.
– Полагаете?
Тиррелл просигналил, чтобы принесли третью порцию виски. Теперь он казался немного заторможенным, и в то же время раздражительным.
– Слушай, по большей части это уголовщина: здесь, в Луизиане, в Мэне, в Виргинии, в Южной Каролине. Он как смерть с косой или рак. Если мы знаем об этих убийствах, неужели ты считаешь, что нет других, о которых мы не знаем? Думаешь, он каждый раз вызывает полицию, когда сам или его дружки останавливают чьи-то часы?
– Его дружки? Вы имеете в виду двоих, известных под именами Ангел и Луис?
– Я имею в виду призраков, – тихо сказал Тиррелл. – Призраков с зубами.
– Что вы можете рассказать о них?
– В основном слухи. Ангел – этот сидел за кражу. Могу лишь сказать, что Паркер мог использовать его как осведомителя и взамен предложил свою защиту.
– То есть это началось как профессиональные отношения?
– Можно сказать и так. А другой, Луис – его труднее определить точно. Никаких арестов, никакой истории – он как призрак. В прошлом году появился какой-то материал. Был налет на один автомагазин, в котором он имел негласную долю. Один из налетчиков попал в больницу и через неделю умер от ран. После этого…
Рядом возник Гектор и заменил пустой стакан полным, и Тиррелл замолк, чтобы сделать глоток.
– Ну, вот тут и начинается самое странное. Один из дружков Луиса, один из деловых партнеров, назови как угодно, тоже умер. Говорили, что сердечный приступ, но я слышал иное. Один из похоронных работников сказал, что им пришлось замазать пулевое отверстие у него в горле.
– Кто это сделал? Луис?
– Нет, он не делает такого близким. Он киллер другого сорта. Шептались, что это был неудачный налет в отместку.
– Так вот что он делал в Массене, – сказал Микки, скорее самому себе, чем Тирреллу, который, похоже, все равно пропустил его слова мимо ушей.
– Они вроде него: их опекают, – сказал он.
– Опекают?
– Обычно людям убийства не сходят с рук, как Паркеру, если только кто-то их не опекает.
– Я слышал, в одном из дел было убийство, заслуживающее оправдания.
– Заслуживающее оправдания! Тебе не кажется странным, что ни одно из этих дел не дошло до суда, что все расследования его действий снимали с него вину или просто прекращались?
– Вы говорите о каком-то заговоре?
– Я говорю о прикрытии. Я говорю о людях, имеющих законный интерес держать Паркера на свободе.
– Зачем?
– Не знаю. Может быть, потому что они одобряют то, что он делает.
– Но у него отобрали лицензию частного детектива. Он не может иметь огнестрельного оружия.
– Он не может легально носить огнестрельное оружие в штате Мэн. Можешь не сомневаться, у него есть припрятанные стволы.
– Я говорю, что если и существовал заговор в его защиту, то теперь что-то изменилось.
– Не достаточно, чтобы засадить его за решетку, где ему и место. – Тиррелл постучал пальцем по столу, подчеркивая последние слова.
Микки прислонился к спинке стула. Он исписал много страниц, и рука устала. Он наблюдал за Тирреллом. Тот уставился в свой третий стакан. Стаканы были большие – такие, как всегда наливали в барах. Если бы Микки столько выпил, он бы уже отрубился. А Тиррелл держался прямо, хотя был уже здорово навеселе. Микки больше не ожидал от него ничего полезного.
– За что вы так его ненавидите? – спросил он.
– К-кого? – поднял на него глаза Тиррелл. Даже несмотря на охватывающее его опьянение, он был удивлен прямотой вопроса.
– Паркера. Почему вы его ненавидите?
– Потому что он убийца.
– И все?
Тиррелл медленно моргнул.
– Нет. Потому что он не прав. Во всем не прав. Это как будто… Как будто он не отбрасывает тени или не отражается в зеркале. Кажется нормальным, а присмотришься – ничего подобного. Какое-то отклонение, мерзость.
«Боже», – подумал Микки.
– Ты ходишь в церковь? – спросил Тиррелл.
– Нет.
– Надо ходить. Человек должен ходить в церковь. Это помогает ему держать себя в рамках.
– Я это запомню.
Тиррелл взглянул на него, и лицо его преобразилось. Микки перешагнул черту, и серьезно.
– Не надо со мной шутить, мальчик. Посмотри на себя: копаешься в грязи, хочешь заработать несколько баксов на жизни другого человека. Ты паразит. И ни во что не веришь. А я верю. Верю в бога и верю в закон. Я отличаю правильное от неправильного, добро от зла. Я прожил жизнь в этой вере. Я очищал в этом городе округ за округом, искореняя тех, кто думал, будто служение закону ставит их над законом. Что ж, я показал им, что они заблуждались. Никто не должен быть выше закона, а особенно полицейские, – не важно, носят ли они значок или носили десять лет назад, двадцать лет назад. Я находил таких, кто воровал, кто вымогал взятки у наркоторговцев и шлюх, кто насаждал свое понимание справедливости на улицах и бульварах, и в пустых квартирах, и я призвал их к ответу. Я потребовал с них ответа, и они не выдержали испытания. Потому что существует процедура. Есть система юстиции. Она не совершенна и не всегда работает так, как должна, но это лучшее, что у нас есть. И всякий – всякий! – кто отступит от этой системы и начнет действовать как судья, присяжные и палач в одном лице, – тот враг этой системы. Паркер – враг этой системы. Его дружки – враги этой системы. Из-за их действий и другие начинают считать, что действовать подобным образом приемлемо. Их насилие порождает еще больше насилия. Нельзя творить зло ради большего добра, потому что добро при этом страдает. Оно искажается и марается тем, что делается во имя него. Вы понимаете, мистер Уоллес? Это серые люди. Они сдвигают границы нравственности, как им удобно, и целями оправдывают свои средства. Для меня это неприемлемо, и если в вас остался хоть клочок приличия, это должно быть неприемлемо и для вас. – Он отодвинул стакан. – Мы закончили.
– Но что, если другие не справляются, не могут справиться? – спросил Микки. – Неужели лучше дать злу действовать беспрепятственно, чем пожертвовать малой частью добра, чтобы воспротивиться ему?
– А кто это решает? – спросил Тиррелл. Он слегка покачивался, надевая пальто и пытаясь попасть в рукав. – Вы? Паркер? Кто решает, какой долей добра можно пожертвовать? Сколько зла можно совершить во имя добра, прежде чем оно само станет злом?
Он хлопнул себя по карману и с удовлетворением услышал звон ключей. Микки надеялся, что это не ключи от машины.
– Пишите вашу книгу, мистер Уоллес. Я не буду ее читать. Не думаю, что вы можете сказать мне что-то, чего я еще не знаю. Впрочем, дам вам один бесплатный совет. Как бы ни были плохи его дружки, сам Паркер еще хуже. Я бы не стал налегать на расспросы о них и, может быть, склонился бы к тому, чтобы оставить их вообще в стороне, но Паркер смертельно опасен, поскольку верит, что совершает крестовый поход. Я надеюсь, что вы выставите его негодяем, каким он и является, но при этом я бы действовал с оглядкой.
Тиррелл нацелил на Микки указательный палец, как револьвер, и опустил большой палец, будто спустил курок. И пошел, слегка пошатываясь, на улицу, еще раз пожав руку Гектору перед уходом. Микки убрал свой блокнот и ручку и пошел расплатиться.
– Вы друг Капитана? – спросил Гектор, когда Микки подсчитал чаевые и передал их из рук в руки сверх чека из налоговых соображений.
– Нет, не думаю.
– У Капитана не много друзей, – сказал бармен, и что-то было в его тоне – может быть, даже жалость.
Микки с интересом посмотрел на него.
– Что вы хотите сказать?
– Я хочу сказать, что к нам все время заходят копы, но он единственный, кто пьет один.
– Он работал в департаменте внутренних расследований.
Гектор покачал головой.
– Это я знаю, но дело не в том. Он просто… – Он не мог найти правильное слово, но потом все-таки нашел: – Просто козел, – и ушел дочитывать свой журнал для бодибилдеров.
Глава 17
У себя в комнате Микки переписал свои заметки о разговоре с Тирреллом, пока подробности еще были свежи в памяти. Дело с сутенером было интересным. Он погуглил имя «Джонни Фрайди» вместе с подробностями, которыми поделился Тиррелл, и нашел некоторые современные новости, а также статейку из одной бесплатной газеты, озаглавленную «Сутенер: скотская жизнь и страшная смерть Джонни Фрайди». При статейке были две фотографии Фрайди. Первая изображала его, каким он был при жизни, – худощавый, гибкий негр с впалыми щеками и глазами, которые казались великоваты для его лица. Он обнимал двух молодых женщин в кружевном белье; глаза женщин были зачернены, чтобы сохранить их анонимность. Микки задумался, где-то они теперь. Согласно статье, молодым женщинам, профессионально связанным с Джонни Фрайди, не суждена была счастливая жизнь.
Вторая фотография была сделана в морге и показывала степень повреждений, нанесенных Фрайди побоями, от которых он скончался. Микки предположил, что опубликовать эту фотографию, наверное, попросила семья Фрайди, или же этого захотели полицейские, чтобы сделать из его смерти пример для других. Фрайди был неузнаваем. Его лицо распухло и было залито кровью; челюсть, нос и одна скула сломаны, а несколько зубов выбиты из десен. Он также получил серьезные внутренние повреждения – одно из легких было проколото сломанным ребром, селезенка разорвана.
Имя Паркера не упоминалось, что и неудивительно, но «источник в полиции» сообщил автору статьи, что есть подозреваемый в убийстве, хотя пока нет достаточных свидетельств, чтобы выдвинуть обвинение. Микки прикинул вероятность, что этим источником был Тиррелл, и решил, что она фифти-фифти. Если это был он, это означало, что даже десять лет назад у него были сомнения насчет Паркера, причем для этого имелись все основания. Микки не очень волновал Тиррелл, но нельзя отрицать, что человек, убивший Джонни Фрайди, представлял опасность. Этот человек был способен на страшное насилие в отношении другого человека, эта личность была преисполнена злобой и ненавистью. Микки попытался сопоставить это с человеком, с которым встречался в Мэне, и с тем, что слышал о нем от других. При воспоминании об ударе, полученном у Паркера на крыльце, он потер свой все еще побаливающий живот и вспомнил вспыхнувший в глазах Паркера свет, когда он наносил удар. Но других ударов тогда не последовало, и злоба в его глазах погасла почти так же быстро, как и возникла – ее сменили, как подумалось Микки, стыд и сожаление. Тогда для Микки это не имело значения – он был слишком занят тем, чтобы не выкашлять свои кишки, – но по размышлении стало ясно, что если злоба Паркера не была еще под его полным контролем, то он научился сдерживать ее на каком-то уровне, хотя и не достаточно быстро, чтобы уберечь Микки от удара в живот. Но если Тиррелл был прав, руки этого человека были в крови Джонни Фрайди. Он был не просто убийца, а сознательный убийца, и Микки мог лишь гадать, насколько он действительно изменился с тех пор, как убил того сутенера.
Закончив с материалом Тиррелла, он открыл папку на столе. Внутри были другие записи: двадцать пять – тридцать листов, все сверху донизу исписанные почерком Микки, непонятным для других благодаря сочетанию его личной стенографии и малому размеру знаков. Один лист был озаглавлен «Мать/Отец». Одно время Микки собирался съездить в Перл-Ривер, чтобы поговорить с соседями, владельцами магазинов и всеми, кто мог иметь контакты с семьей Паркеров до убийства, но сначала ему надо было проделать кое-какую домашнюю работу.
Он посмотрел на часы. Девятый час. Микки знал, что Джимми Галлахер, напарник отца Паркера в Девятом окружном участке, живет в Бруклине. Тиррелл сообщил ему это вместе с именем следователя из службы Роклендского окружного прокурора, который присутствовал на допросе отца Паркера после убийства. Тиррелл полагал, что последний, по фамилии Козелек, раньше работавший в Нью-Йоркском полицейском департаменте, мог бы поговорить с Уоллесом, и сначала предложил свою помощь в налаживании отношений, но это было до того, как их разговор закончился в резких тонах. Уоллес решил, что сейчас не стоит звонить, хотя, если следователь не захочет разговаривать, не боялся снова потревожить Тиррелла, когда тот протрезвеет.
Напарник же, Галлахер, – другое дело. Уоллес понял, что Тиррелл любил Галлахера не больше, чем Чарли Паркера. Он вернулся к своим сегодняшним записям и нашел вопросник:
У: Кто были его друзья?
Т: Паркера?
У: Нет, его отца.
Т: Он был популярен в Девятом округе, ребята любили его. Наверное, у него была куча друзей.
У: А кто-нибудь в частности?
Т: У него был напарник, этот… Как его? Галлахер, вот. Джимми Галлахер много лет был там его напарником. (Смех). Я всегда… Ну, это не имеет значения.
У: Может быть, имеет.
Т: Я всегда думал, что он, похоже, гомик.
У: Ходили слухи?
Т: Именно: слухи.
У: Его допрашивали во время расследования убийства подростков в Перл-Ривер?
Т: Да, еще как. Я видел расшифровку стенограммы. Как будто разговор с одной из тех обезьян. Знаете таких: ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу? Сказал, что ничего не знает. Даже не виделся в тот день со своим старым дружком.
У: Но?
Т: Но когда убили подростков, у него был день рождения, а он был в Девятом округе, и попросил отгул, и ему дали. Трудно поверить, чтобы он поехал в свой выходной, к тому же в день рождения, в Девятый округ и не встретился со своим напарником и лучшим другом.
У: Так вы думаете, что Галлахер поехал туда встретиться с кем-то, чтобы выпить, и если это так, Паркер был бы среди отмечающих?
Т: Было бы логично, правда? И еще кое-что: в тот день смена Паркера была с восьми до четырех. Коп по имени Эдди Грейс немного перекрылся с Паркером, чтобы тот мог пораньше освободиться. Зачем бы Паркеру просить о таком одолжении, если не для встречи с Джимми Галлахером?
У: А Грейс не сказал, почему он подменил Паркера?
Т: Похоже, тут кто-то вмешался. Грейс ничего не знал, ничего не сказал. Окружной клерк де Мартини видел, как Паркер умотал, но ничего не сказал. Он знал, когда нужно притвориться слепым. Официантка у Кэла сказала, что Галлахер был там с кем-то в ночь убийства, но она не рассмотрела того парня, а он там не долго оставался. Она сказала, что это мог быть Уилл Паркер, но потом бармен ее опроверг, сказал, что в баре с Галлахером был кто-то другой, незнакомый, и официантка после этого решила, что обозналась.
У: Думаете, кто-то надавил на нее, чтобы она изменила показания?
Т: Они сомкнули ряды. Копы так делают. Они прикрывают своих, даже если это неправильно.
На этом месте Микки задумался. Когда Тиррелл сказал про смыкание рядов и прикрывание своих, его лицо переменилось. Может быть, в нем проявился инспектор департамента внутренних расследований, глубоко укоренившаяся ненависть к коррумпированным полицейским и защищающему их кодексу омерты, но Микки подумал, что дело не только в этом. Он заподозрил, что Тиррелл всегда держался вне круга копов, даже до того, как поступил в департамент внутренних расследований. Он был не очень приятным человеком, как заметил Гектор, и могло статься, что под видом крестового похода на коррупцию «команда крысоловов» дала ему возможность наказать тех, кого он презирал. Микки записал это соображение и вернулся к чтению.
Т: Одного я не могу понять: какая разница, был ли Галлахер с Паркером в ту ночь или нет, если только Галлахер не знал что-то о том, что должно случиться?
У: Вы говорите о запланированном убийстве?
Т: Может быть, или же Галлахер знал причину, почему Паркер в итоге убил тех двух подростков, и хотел оставить это знание при себе. Но какова бы ни была эта причина, я знаю, что Галлахер врал о том, что произошло в ту ночь. Я читал отчеты нашего департамента. После этого Галлахер был взят у нас на заметку до окончания его карьеры.
Микки разыскал в телефонной книге фамилию Галлахер. Он подумал, не позвонить ли ему, прежде чем ехать в Бенсонхерст, но потом решил, что добьется большего, если застанет его врасплох. Он сам точно не знал, чего надеялся добиться от Галлахера, но если Тиррелл был прав, то возникает хотя бы одна трещинка в официальной версии относительно событий того дня, когда в Перл-Ривер произошло двойное убийство. Будучи репортером, Микки научился, как вода, просачиваться в щелочку, расширять ее и расшатывать все строение, пока оно не рухнет, открывая правду. Убийства и их последствия будут играть важную роль в его книге. Они дадут ему возможность проконсультироваться с парой платных психиатров, которые точно опишут, как совершение отцом убийства и самоубийства повлияло на сына. Читатели любят такие вещи и едят их с аппетитом.
Чтобы сэкономить пару баксов, он добрался до Бенсонхерста на подземке, нашел улицу, где жил Галлахер, и постучал в дверь маленького аккуратненького домика. Через пару минут дверь открыл высокий мужчина.
– Мистер Галлахер?
– Точно так.
Губы и зубы Галлахера были окрашены красным: когда Микки постучал, он пил вино. Это было хорошо, если только у него не было собутыльников. Это могло означать, что его защита отчасти ослаблена. Микки достал из бумажника визитную карточку и протянул Галлахеру.
– Меня зовут Майкл Уоллес. Я репортер. Я надеялся поговорить с вами несколько минут.
– О чем?
Пришел черед Микки немного приврать – маленькая ложь ради большей правды. Вряд ли Тиррелл одобрил бы это.
– Я собираю материал об изменениях в Девятом округе за прошедшие годы. Я знаю, что вы служили там. Мне бы хотелось услышать ваши воспоминания о прошлом времени.
– Через Девятый прошла уйма копов. Почему именно мои?
– Ну, когда я искал, с кем бы поговорить, я увидел, что вы много участвовали в общественной жизни Бенсонхерста. И подумал, что общественная сознательность могла помочь вам глубже проникнуть в природу Девятого округа.
Галлахер рассмотрел карточку.
– Уоллес, да?
– Да, Уоллес.
Галлахер чуть наклонился к Микки и необычайно нежным жестом аккуратно засунул ему карточку в карман рубашки.
– Ты мешок с дерьмом, – сказал он. – Я знаю, кто ты, и знаю, что ты хочешь написать. Копы говорят между собой. Я знал о тебе с того момента, как ты начал разнюхивать то, что тебя не касается. Мой тебе совет: брось это дело. Тебе не стоит совать нос в эти закоулки. Никто из тех, с кем стоит говорить, не будет тебе помогать, и ты только навлечешь кучу неприятностей на свою голову.
У Микки засверкали глаза. Они застыли и превратились в яркие ледышки. Ему уже надоели предостережения.
– Я репортер, – сказал он, хотя это уже было не так. Но, опять же, не бывает бывших репортеров, как не бывает бывших алкоголиков. Старый голод не исчезает. – Чем больше мне говорят, что куда-то не надо заглядывать, тем больше мне хочется туда заглянуть.
– Это не делает тебя репортером, – ответил Галлахер. – Это делает тебя придурком. И еще ты лжец. Мне не очень нравятся такие люди.
– Правда? Вы никогда не лжете?
– Этого я не говорил. И в себе мне это так же не нравится, как в тебе.
– Это хорошо, потому что я полагаю, вы лгали о том, что случилось в тот день, когда Уилл Паркер убил двух подростков в Перл-Ривер. И я приложу все силы, чтобы выяснить, зачем вы лгали. А потом вернусь сюда, и мы поговорим снова.
На Галлахера словно навалилась усталость. Микки гадал, как долго он ждал, что все это снова вернется к нему. Вероятно, с того дня, когда его напарник стал убийцей.
– Уйдите, мистер Уоллес. Вы испортили мне вечер.
Он закрыл дверь перед носом у Микки. Тот постоял немного, потом вынул из кармана визитную карточку и засунул за косяк двери, прежде чем направиться назад в Манхэттен.
Вернувшись, Джимми сел за кухонный стол. Перед ним рядом с недоеденным ужином стоял пустой стакан и полбутылки красного «Сира́». Джимми любил готовить для себя даже больше, чем для других. Когда он готовил себе, то не волновался о результате, о том, что подумают другие. Он мог готовить полностью для собственного удовольствия и знал, что он любит. Сегодня он предвкушал спокойный вечер с бутылкой хорошего вина и старым добрым чернушным детективом по кабельному ТВ. Теперь же ощущение покоя, которое и так было хрупким, разбилось вдребезги. Оно стало хрупким с тех пор, как к нему пришел Чарли Паркер. В тот момент у Джимми возникло чувство, будто землю у него под ногами потихоньку подмывает. Раньше он надеялся, что прошлое, хотя и с трудом, успокоилось. А теперь земля шевелилась, высовывая истерзанную плоть и старые кости.
Его всегда беспокоила возможность, что, говоря неправду следователям, храня молчание в последующие годы, он совершил ошибку. Их сговор скрывать правду, как бы мало он сам ни знал о ней, нарывал внутри него, словно глубоко засевшая в теле заноза. Теперь он понял, что быстро приближается кризис, когда инфекция или прорвется из тела, или уничтожит его.
Джимми налил стакан, вышел в прихожую и, попивая вино, второй раз с тех пор, как приходил Паркер, набрал тот же номер. Трубку сняли после пятого гудка. На том конце слышалось, как моют посуду, женский смех.
– Алло, – произнес старческий мужской голос.
– Это Джимми Галлахер. Еще одна проблема.
– Говорите.
– Ко мне только что приходил репортер по фамилии Уоллес, Микки Уоллес. Он спрашивал… про тот день.
Последовала короткая пауза.
– Нам известно о нем. Что вы ему сказали?
– Ничего. Как всегда, придерживался той истории, как вы мне велели. Но…
– Говорите.
– Она рушится. Сначала Чарли Паркер, теперь этот парень.
– Она всегда была готова рухнуть. Я лишь удивляюсь, что она так долго продержалась.
– Что мне делать?
– С репортером? Ничего. Его книга не будет издана.
– Похоже, вы в этом вполне уверены.
– У нас есть друзья. Контракт Уоллеса вот-вот будет расторгнут. Без обещанных за книгу денег его рвение поубавится.
Джимми не был так уверен насчет этого. Он видел выражение лица Уоллеса. Деньги могли играть свою роль в этом расследовании, но были не единственным мотивом. «Он похож на хорошего копа, – подумал Джимми. – Ему платишь не за то, чтобы он делал свое дело, а за то, чтобы не делал чего-то сверх того». Уоллесу была нужна сама история. Он хотел докопаться до правды. Как на всех, кто добивается успеха, невзирая на трудности, на нем был налет фанатизма.
– Вы говорили с Чарли Паркером?
– Нет еще.
– Если будете ждать, пока он сам придет, то можете обнаружить, что его злоба возросла пропорционально прошедшему времени. Позвоните ему. Скажите, чтобы пришел поговорить.
– И рассказать ему о вас?
– Расскажите все, мистер Галлахер. Вы были верны памяти друга четверть века. Вы долго защищали его сына. Мы благодарны вам за это, но пора сделать тайное явным.
– Спасибо, – сказал Джимми.
– Спасибо вам. Приятного вечера.
Трубку на том конце повесили, и Джимми понял, что, возможно, слышал этот голос в последний раз.
И, сказать по правде, не жалел об этом.
Глава 18
На следующий день после моей стычки с Микки Уоллесом я решил сказать Дэйву Эвансу, что хочу взять недельку отдыха и не появляться в «Медведе». Я собирался надавить на Джимми Галлахера и, может быть, снова встретиться с Эдди Грейсом. Я не мог это сделать, снуя туда-сюда между Портлендом и Нью-Йорком в надежде, что в воскресенье у меня будет выходной.
К тому же всплыло кое-что еще. Уолтер Коул не смог выдать ничего нового про расследование убийства в Перл-Ривер, кроме одной любопытной подробности.
– Отчеты вполне ясны, – сказал он мне по телефону. – Все дело было отмыто. Я говорил с одним парнем, упоминавшимся в отчетах. Он сказал, что дело такое тонкое – если повернуть боком, то и не видно.
– Ничего удивительного. Они похоронили это дело. Не было никакого смысла поступить по-другому.
– Да, но я по-прежнему думаю, что там было что-то еще. Отчет был подчищен. Ты когда-нибудь что-нибудь слышал про подразделение № 5?
– Не вызывает никаких ассоциаций.
Но Уолтер еще не закончил.
– Ты знаешь, что еще прикрывает подразделение № 5? Смерть Сьюзен и Дженнифер Паркер.
– Так что это такое – подразделение № 5, чем оно занимается?
– Я думаю, тобой.
Я встретился с Дэйвом в «Арабике» на углу Фри и Кросс. Кроме того, что в этом кафе варили лучший кофе в городе, или один из лучших, оно еще и располагалось в лучшем месте, имело росписи на стенах, свет лился внутрь через венецианские окна. «The Pixies» создавали звуковой фон. Все здесь было обдуманно, придраться не к чему.
Дэйв не слишком обрадовался моей просьбе дать мне отпуск, и вряд ли я мог его за это упрекнуть. Двое из его персонала уже собирались уволиться – одна женщина для ухода за ребенком, а другой парень собирался уехать к своей подруге в Калифорнию. Я понимал, что Дэйву приходится проводить слишком много времени, занимаясь общей работой по бару, и слишком мало, занимаясь бумагами и счетами. Меня наняли, чтобы снять с него эту ношу, а вместо этого я оставляю его еще более погрязшим в рутине, чем он был до моего прихода.
– Я пытаюсь наладить здесь бизнес, Чарли, – сказал Дэйв. – А ты меня убиваешь.
– Мы не так уж заняты, Дэйв, – ответил я. – Поставками от Нэппи может заняться Гэри, и потом, я же успею к их грузовику на следующей неделе. Все равно мы затоварились некоторыми сортами из микропивоварен, так что можем снизить закупки.
– А как насчет завтрашнего вечера?
– Надин просит дополнительных смен. Пусть отработает не в самые напряженные часы.
Дэйв закрыл лицо руками.
– Я тебя ненавижу, – сказал он.
– Нет, неправда.
– Да, ненавижу. Возьми свою неделю. Если по возвращении еще найдешь нас здесь, ты мой должник. Ты в страшном долгу передо мной.
В тот вечер ничто не улучшило Дэйву настроения. Кто-то пытался украсть декоративную медвежью голову из зала, и мы заметили пропажу, только когда похититель уже собрался выехать со стоянки с торчащей из правого окна медвежьей мордой. На нас налетели любители экзотических коктейлей, так что даже Гэри, чьи познания в этой области были обширнее, чем у большинства, пришлось прибегнуть к припрятанной за стойкой шпаргалке. Студенты заказывали «Вишневые фейерверки» и «Ягербомбы», и в воздухе стоял тошнотворный запах «Ред Булла». Мы сменили пятнадцать бочонков – втрое больше, чем в обычный вечер, хотя еще оставался запас до рекорда в двадцать два бочонка.
И еще в воздухе пахло сексом. У дальнего конца стойки сидела женщина за пятьдесят, и не могла бы выглядеть более хищной, даже будь у нее острые когти и клыки, а вскоре к ней присоединились еще две или три такие же, образовав стаю. Бармены называли их «флосси» в честь полумифической продавщицы зубных принадлежностей, которая была известна тем, что обслуживала за один вечер целую серию мужчин на автостоянке. В конце концов, они привлекли пару игроков мировой лиги, эдаких мачо, чей лосьон после бритья своим запахом пытался перешибить неотвязный запах «Ред Булла». Одно время я подумывал, не повернуть ли на них всех шланг, чтобы остудить, но прежде чем возникла такая нужда, они удалились наконец в более темный закуток города.
К часу ночи все пятнадцать человек персонала изнемогли, но никто не хотел идти домой. После того как пивные башни были очищены и охладители заполнены, мы приготовили несколько гамбургеров и жаркое, и большинство выпили, чтобы снять напряжение. Мы выключили спутниковую систему, обеспечивавшую музыку в зале, и вместо этого поставили спокойный список из айпода: «Sun Kil Moon», «Fleet Foxes», повторный выпуск альбома Pacific Ocean Blues Денниса Уилсона. В конце концов люди стали расходиться, и мы с Дэйвом проверили, все ли выключено на кухне, задули последние свечи, заглянули в туалеты, не остался ли кто там, потом положили выручку в сейф и заперли. Мы попрощались на стоянке, и, прежде чем расстаться, Дэйв еще раз сказал, что ненавидит меня.
Открыв дверь своего дома, я остановился на пороге и прислушался. Моя встреча с Микки Уоллесом и его история про замеченные две фигуры выбила меня из колеи. Я же выпустил этих призраков. Они больше не принадлежали этому месту. И все же, как и раньше, после ухода Уоллеса, когда я прошел по дому, то не испытал никакого чувства трепета, никакой настоящей тревоги. Дом был просто тих, и я ощущал его пустоту. Что бы ни было в этом доме раньше, теперь оно ушло.
На моем автоответчике мигало сообщение. Я нажал кнопку и услышал голос Джимми Галлахера. Джимми, похоже, был немного выпивши, но сообщение было четким и ясным, и время выбрано точно.
– Чарли, зайди ко мне, – сказал Джимми. – Я расскажу тебе то, что ты хотел узнать.
Часть четвертая
Трое могут хранить секрет,
если двое из них мертвы.
Бенджамин Франклин (1706–1790)Альманах бедного РичардаГлава 19
Джимми Галлахер, должно быть, следил за мной, когда я пришел, потому что дверь открылась еще до того, как я постучал. Я на мгновение представил себе, как он сидит у окна, его лицо отражается в сгущающихся за окном сумерках, пальцы барабанят по подоконнику, и он беспокойно высматривает того, кого ждет, но когда я посмотрел ему в глаза, то не увидел никакого беспокойства, никакого страха или озабоченности. Сказать по правде, он выглядел более спокойным, чем когда-либо. На нем была футболка навыпуск и заляпанные краской желто-коричневые брюки, поверх футболки – толстовка с капюшоном и надписью «Yankees», и завершала наряд пара старых кожаных туфель. Он выглядел человеком на третьем десятке, которого вдруг разбудили, и он обнаружил, что постарел на сорок лет, а приходится носить все то же. Я всегда считал, что для него внешность была всем, так как никогда не помнил его без пиджака и чистой накрахмаленной рубашки, часто с подобранным со вкусом шелковым галстуком. Теперь он стряхнул с себя всю официальность, и, пока наползала ночь, я, слушая лившиеся из него тайны, гадал, не добавил ли он эти строгости к своему костюму как часть защитных сооружений, чтобы защищать не только себя и свою личность, но и память и жизни тех, кого любил.
Сначала, увидев меня, он ничего не сказал, а просто открыл дверь и кивнул, после чего повернулся и провел меня в кухню. Я закрыл за собой дверь и пошел за ним. На кухне горели две свечи – одна на подоконнике, другая на столе. Рядом со второй свечой стояла бутылка хорошего – может быть, даже очень хорошего – красного вина, графин и два бокала. Джимми нежно притронулся к горлышку бутылки и погладил ее, как любимую кошку.
– Я ждал повода откупорить ее, – сказал он. – Но в эти дни было не слишком много причин для празднования. В основном я хожу на похороны. Доживешь до моего возраста, и у тебя будет так же. В этом году я уже был на трех похоронах. Все три копы, и все умерли от рака. – Он вздохнул. – Я не хочу уйти таким образом.
– Эдди Грейс умирает от рака.
– Я слышал. Думал сходить навестить, но мы с Эдди… – Он покачал головой. – Общего у нас было – только твой старик. Когда он умер, нам с Эдди было не о чем говорить.
Я вспомнил, что сказал мне Эдди перед моим уходом: что Джимми Галлахер проводит жизнь во лжи. Может быть, Эдди имел в виду, пусть косвенно, гомосексуальность Джимми, но теперь я узнал, что бывает и другая ложь, которую не следует раскрывать, даже если это ложь умолчания. И все же не Эдди было судить о жизни других, как он судил Джимми. Все мы поворачиваемся к миру одним лицом, а другое скрываем. Иначе не выжить. Когда Джимми облегчил свою душу и передо мной постепенно открылись тайны отца, я начал понимать, как Уилл Паркер гнулся под их тяжестью, и я ощутил только печаль по нему и по женщине, которой он изменил.
Джимми взял из ящика стола штопор и аккуратно срезал с бутылки фольгу, прежде чем вкрутить его в пробку. Два поворота, небольшое усилие – и пробка вышла с приятным воздушным хлопком. Джимми осмотрел ее, чтобы убедиться, что на ней нет следов гниения, и отбросил в сторону.
– Раньше я нюхал пробку, – сказал он, – но потом мне сказали, что это ничего не говорит о качестве вина. Стыд. А мне нравился этот ритуал, пока я не узнал, что он выставляет меня профаном.
Прежде чем перелить вино в графин, он поставил рядом свечу, чтобы видеть поднимающийся к горлышку осадок.
– Не нужно оставлять его долго стоять, – сказал он, закончив. – Такое только для более молодых вин. Это смягчает танины.
Он налил два бокала и сел, потом поднял свой бокал к свету свечи, чтобы проверить цвет, поднес к носу, понюхал, легонько поболтал, прежде чем понюхать снова, и обхватил стекло рукой, чтобы согреть. Потом, наконец, продегустировал, погоняв вино во рту, улавливая оттенки вкуса.
– Сказочно, – проговорил он и поднял бокал, чтобы произнести тост: – За твоего старика.
– За моего старика, – повторил я и пригубил вино. Вкус был богатый с земляным привкусом.
– «Домен де ла Романе-Конти», урожай девяносто пятого года, – сказал Джимми. – Это был неплохой год для бургундских вин. Мы пьем вино ценой шестьсот долларов за бутылку.
– Что мы празднуем?
– Окончание.
– Окончание чего?
– Лжи.
Я поставил бокал.
– Так с чего ты хочешь начать?
– С мертвого ребенка. С первого мертвого ребенка.
Никто из них в ту неделю не хотел работать с двенадцати до восьми, но так уж выпал жребий, так легли карты, – или какое еще клише можно применить для данной ситуации, так судьба распорядилась. В тот вечер окружное управление устраивало вечеринку в Украинском национальном доме на Второй авеню, там всегда пахло борщом, пирогами и перловым супом из ресторана на первом этаже, где режиссер Сидни Люмет вскоре будет репетировать сцены к своим фильмам, прежде чем начать снимать; так что через какое-то время Пол Ньюман и Кэтрин Хепберн, Аль Пачино и Марлон Брандо будут ходить вверх-вниз по тем же ступеням, что топтали копы из Девятого округа. Вечеринка устраивалась в честь того, что трое полицейских в этом месяце были награждены боевыми крестами – так называли зеленые нашивки, которые получали те, кто участвовал в какой-нибудь перестрелке. Девятый округ уже снова стал Диким Западом: копы погибали. Если на тебя и другого парня такое свалилось, сначала стреляй, а потом беспокойся о бумажной работе.
Тогда Нью-Йорк был не такой, как сейчас. Летом шестьдесят четвертого расовые трения в городе дошли до пика, когда один патрульный при исполнении служебных обязанностей убил в Гарлеме пятнадцатилетнего Джеймса Пауэлла. То, что начиналось как мирные протесты против убийства, вылилось в беспорядки восемнадцатого июля, когда в Гарлеме моментально собралась толпа, крича «Убийцы!» укрывшимся внутри участка полицейским. Джимми и Уилла послали на подмогу, в них полетели бутылки, кирпичи и крышки мусорных баков, мародеры расхватывали продукты, радиоприемники и даже оружие из ближайших магазинов. Джимми до сих пор помнил, как какой-то полицейский капитан уговаривал участников беспорядков разойтись по домам, а в ответ слышался смех и крики: «Мы и так дома, белый парень!»
Через пять дней беспорядков в Гарлеме и Бед-Стай один человек погиб, пятьсот двадцать были арестованы, и это было зловещим предзнаменованием для мэра Вагнера. Его дни были сочтены еще до беспорядков. При его администрации уровень убийств удвоился до шестисот в год, и еще до того, как застрелили Пауэлла, город будоражило убийство женщины по имени Китти Дженовезе близ Куинса, где жил средний класс. Она была заколота посли серии нападений, совершенных одним и тем же человеком, Уинстоном Мосли, и двенадцать человек видели или слышали убийцу в это время, но большинство решили не вмешиваться сами, а только вызвали полицию. Было такое ощущение, что город разваливается, и основная тяжесть вины ложилась на Вагнера.
Ничто из этих забот о состоянии города не было новостью для полицейских Девятого округа. Служившие там, а прочие и подавно, нежно называли Девятый округ «сортиром». Они не считались ни с кем кроме самих себя, полицейские этого округа, и охраняли свою территорию хорошо, держа в страхе не только плохих парней, но и некоторых хороших тоже, – так авторитеты в спокойный день выискивают, кого бы пнуть. Кто-нибудь мог сообщить по радио: «Муха в сортире», – и тогда копы какое-то время держались чуть приличнее, но не дольше, чем необходимо.
Тогда у Джимми и Уилла еще были некоторые амбиции, оба хотели как можно скорее стать сержантами. Конкуренция стала сильнее, чем раньше, после процесса Фелисии Спритцер в 1963 году, в результате которого женщины-полицейские впервые стали допускаться к экзаменам на повышение, и на следующий год Спритцер и Гертруда Шиммель были произведены в сержанты. Не то чтобы Джимми и Уилл очень уж об этом переживали, в отличие от людей постарше, которые имели свои представления, где женщине место, куда отнюдь не вписывалось ношение трех нашивок в их округе. Джимми и Уилл имели инструкцию по патрулированию, толстую, как Библия, перехваченную кольцом из синего пластика, и носили эту инструкцию с собой, чтобы в перерыве можно было проэкзаменовать друг друга. В те дни патрульному нужно было выполнять работу детектива в течение пяти лет, чтобы получить возможность стать детективом, но тебе не станут платить сержантские деньги, пока ты не получишь вторую ступень. Впрочем, они все равно не хотели быть детективами. Они были уличными копами. И потому решили, что оба попытаются сдать экзамены на сержанта, даже если для этого придется покинуть Девятый округ и, может быть, послужить в других округах. Это было бы тяжеловато, но они знали, что их дружба с этим справится.
В отличие от многих других копов, подрабатывавших вышибалами, гонявших бруклинских итальяшек из ночных клубов или скучавших телохранителями у знаменитостей, они не имели другой работы. Джимми был холостяком, а Уилл хотел проводить с женой больше, а не меньше времени. Тогда еще в органах была большая коррупция, но в основном по мелочам. Позже наркотики все изменят, и всякие комиссии серьезно примутся за нестойких копов. Но пока лучшее, на что можно было надеяться ради случайного лишнего доллара – это сопроводить менеджера кинотеатра к ночному сейфу с дневной выручкой и за это получить оставленные на заднем сиденье пару баксов на выпивку. Даже на обед «на халяву» скоро станут смотреть строго, хотя в большинстве заведений в Девятом округе все равно это не практиковалось. Копы платили за свои обеды, кофе и пончики. Большинство обедало в столовой участка. Там было дешевле, да и все равно в Девятом округе было не так много мест, чтобы поесть – по крайней мере, таких, где копам нравилось: бекон и чеддер с горячей горчицей у Мак-Сорли или, в более поздние годы, у Джека Рибберса на Третьей, хотя пообедав у Джека Рибберса, будешь остаток дня только потирать живот и стонать. Парням из Седьмого повезло, потому что у них было заведение Каца, но копам Девятого не разрешалось пересекать границы округа лишь на том основании, что через квартал болонская колбаса вкуснее. В Нью-Йоркском полицейском департаменте так было не принято.
В ночь первого мертвого младенца Джимми первую половину смены работал регистратором. Регистратор ведет все записи в течение смены, а водитель крутит баранку. Но на полпути до конца смены напарники меняются ролями. Джимми вел записи лучше. У него был острый глаз и хорошая память. А Уилл был достаточно лих, чтобы хорошо водить машину. Вместе они составляли хорошую команду.
Их вызвали на какую-то вечеринку по адресу авеню А, дом 10, квартира 50, соседи жаловались на шум. Когда они подъехали к дому, какую-то молодую женщину рвало в водосточный желоб, а ее парень придерживал ей волосы, чтобы не падали на лицо, и гладил по спине. Они так надрались, что даже не взглянули на двух копов.
Джимми и Уилл услышали музыку с верхнего этажа дома без лифта. Разумеется, они держали руки на пистолетах. Нельзя было понять, то ли это обычная вечеринка, немного чересчур разгулявшаяся, то ли что-то посерьезнее. Как всегда в таких ситуациях, Джимми ощутил сухость во рту, и его сердце заколотилось чаще. Неделей раньше какой-то парень во время вечеринки вроде этой совершил полет с верхушки многоквартирного дома и чуть не убил одного из прибывших копов, приземлившись в нескольких дюймах от него и забрызгав кровью, когда ударился о землю. Оказалось, что прыгун крышевал парней, чьи фамилии заканчивались на гласную, – итальянцев, проявлявших свой предпринимательский талант на недавно возродившемся рынке героина. Этот рынок спал с двадцатых годов, и итальянцы еще не поняли, что их время подходит к концу и их господству скоро бросят вызов черные и колумбийцы.
Дверь в квартиру была открыта, и из стереосистемы орала музыка, Джаггер пел о какой-то девушке. За дверью виднелся узкий коридор, ведущий в жилую комнату, в воздухе стоял запах табака, алкоголя и травки. Полицейские переглянулись.
– Давай, – сказал Уилл.
Они вошли в прихожую, Джимми первый.
– Полиция Нью-Йорка! – крикнул он. – Всем оставаться на месте, не двигаться!
Джимми осторожно заглянул в комнату, Уилл двигался за ним. Там было восемь человек в разной степени опьянения или наркотическом ступоре. Большинство сидели или лежали на полу, некоторые явно спали. Молодая белая женщина со светлыми волосами в фиолетовую полоску растянулась на кушетке у окна, из ее руки свисала сигарета. Увидев копов, она сказала:
– Вот дерьмо! – и попыталась встать.
– Оставаться на месте, – скомандовал Джимми, левой рукой сделав жест, чтобы она оставалась на кушетке. Теперь один или два из наименее пьяных участников попойки начали приходить в себя и выглядели испуганными. Пока Джимми присматривал за людьми в комнате, Уилл осмотрел всю квартиру. Там была спальня с двумя кроватями – пустой детской кроваткой и двуспальной со сваленными на ней пальто. В санузле он обнаружил молодого человека лет девятнадцати-двадцати едва ли в здравом уме, стоявшего на коленях и безуспешно пытавшегося смыть унцию марихуаны в унитаз со сломанным бачком. Обыскав его, Уилл нашел у него в кармане джинсов три пакетика героина.
– Ты что, идиот? – спросил Уилл.
– А? – не понял парень.
– Ты носишь на себе героин, а смываешь марихуану? В колледже учишься?
– Да.
– Но ученым тебе не стать. Ты хоть понимаешь, как ты вляпался?
– Но как же, мужик, – промямлил парень, уставившись на пакетики, – это дерьмо кучу бабок стоит!
Уиллу стало чуть ли не жаль его, так он был туп.
– Давай, олух, – сказал он, втолкнул его в комнату и велел сесть на пол.
– Ладно, – сказал Джимми. – Остальные – руки на стену. Если у вас есть что-то, о чем мне нужно знать, – говорите сейчас, и вам будет легче.
Те, кто был в состоянии, встали и заняли позицию у стены. Уилл пошевелил ногой одну коматозную девицу.
– Вставай, спящая красавица. Тихий час закончен.
В конце концов, все девять поднялись. Уилл обыскал восьмерых, так как девятого парня уже обыскал раньше. Кое-что нашлось только у девицы с волосами в полоску: три косяка марихуаны и пакетик героина. Она была одновременно пьяна и под кайфом, но уже прошла через худшую стадию.
– Что это? – спросил ее Уилл.
– Не знаю, – ответила она. Язык у нее слегка заплетался. – Дружок дал мне, чтобы я сохранила для него.
– Сказка. Как зовут твоего дружка? Ганс Христиан Андерсен?
– Кто это?
– Не важно. Это твоя квартира?
– Да.
– Как твое имя?
– Сандра.
– А фамилия?
– Хантингдон.
– Ну, Сандра, ты арестована за хранение с целью распространения. – Он надел на нее наручники и прочитал ее права, потом сделал то же с парнем, которого обыскал раньше. Джимми записал имена остальных и сказал, что они свободны остаться или уйти, но если он увидит их снова на улице, то арестует за праздношатание, даже если они в это время будут участвовать в забеге. Все опять уселись. Они были молоды и напуганы и начали постепенно осознавать, как им повезло, что на них не надели наручники, как на их товарищей, но еще не пришли в себя настолько, чтобы смыться.
– Ладно, пора уходить, – сказал Уилл двоим в наручниках. Он повел Хантингдон из квартиры, а Джимми за ним повел парня, которого звали Говард Мэйсон, но вдруг что-то как будто вспыхнуло у Хантингдон в голове и пробило туман.
– Моя малышка, – сказала она. – Я не могу оставить мою малышку!
– Какую малышку? – спросил Уилл.
– Мою девочку. Ей два годика. Я не могу оставить ее одну.
– Мисс, в квартире нет никакого ребенка. Я сам ее обыскал.
Но она продолжала вырываться.
– Говорю вам, моя малышка здесь! – кричала она, и он видел, что она не притворяется и не бредит. Ее тревога была искренней.
Один из оставшихся в комнате, негр лет двадцати пяти, недавно начавший отращивать шевелюру для афро, сказал:
– Она не врет, мужики. У нее в самом деле ребенок.
Джимми посмотрел на Уилла.
– Ты точно все осмотрел?
– Это же не Центральный парк.
– Черт. – Он развернул Мэйсона обратно в комнату. – Ты, сядь на кушетку и не двигайся. А ты, Сандра, говоришь, что у тебя дочка. Давай ее искать. Как ее зовут?
– Мелани.
– Хорошо. Мелани. Ты точно не попросила кого-нибудь приглядеть за ней сегодня вечером?
– Нет, она здесь. – Хантингдон уже плакала. – Я не вру.
– Ну, скоро мы это выясним.
Обыскивать было особенно нечего, но они все же стали звать девочку. Двое полицейских заглянули за кушетки, в ванну, в кухонные шкафы.
Нашел ее Уилл. Она была под кучей пальто на кровати. Он убедился, что девочка мертва, как только коснулся ее ноги.
Джимми отпил из бокала.
– Девочка, наверное, хотела полежать на кровати матери, – сказал он. – Может быть, она заползла под первое пальто, чтобы согреться, а потом уснула. На нее стали складывать прочие пальто, и она под ними задохнулась. До сих пор помню, какой звук издала ее мать, когда мы нашли дочку. Он исходил откуда-то из глубины. Как от умирающего животного. А потом рухнула на пол со сцепленными сзади руками в наручниках. Она на коленях подползла к кровати и стала зарываться головой в кучу пальто, чтобы быть ближе к своей дочурке. Мы не мешали ей. Мы просто стояли и смотрели.
Она не была плохой матерью. Работала на двух работах, и ее тетя присматривала за ребенком, пока она была на работе. Может быть, она приторговывала на стороне, но вскрытие показало, что ее дочь была здорова и получала хороший уход. Кроме той ночи, никто никогда не имел причин жаловаться на нее. То есть я хочу сказать, что такое может случиться с каждым. Это была трагедия, вот и все. Никто не виноват.
Но твой старик воспринял это тяжело. На следующий день он пошел на пьянку. Тогда еще твой отец позволял себе выпить. Когда ты узнал его, он почти полностью завязал с этим, кроме случайных вечеринок с ребятами. Но в прежние времена он это дело любил. Все мы любили.
Впрочем, тот день был не таким, как все. Я никогда не видел, чтобы он так пил, как после того, как нашел Мелани Хантингдон. Думаю, это из-за его собственных обстоятельств. Он и твоя мать отчаянно хотели ребенка, но, похоже, им это не светило. И тут он видит маленького ребенка под кучей пальто, и что-то в нем ломается. Он верил в бога. Ходил в церковь. Молился. В тот вечер ему, должно быть, показалось, что бог издевается над ним без всякой причины, заставляя человека, видевшего выкидыш своей жены, снова и снова находить тело мертвого ребенка. Хуже того, возможно, он на время перестал верить, как будто кто-то отогнул краешек мира и показал черную пустоту за ним. Не знаю. Во всяком случае, малышка Хантингдон изменила его – вот все, что я могу сказать. После этого он и твоя мать прошли поистине тернистый путь. Думаю, она хотела уйти от него или он хотел ее бросить, не помню точно. Но, наверное, это не важно. Конечный результат был бы тем же.
Он поставил бокал и дал огню свечи поиграть на вине, отбрасывая на поверхность стола красные блики, как рубиновые призраки.
– И вот тогда он встретил ту девушку.
* * *
Ее имя было Каролина Карр, или так она говорила. Они приехали по вызову в связи с попыткой проникновения в ее квартиру. Таких маленьких квартирок они еще не видели – здесь еле умещались односпальная кровать, шкаф, стол и стул. На кухне стояла газовая плита на две горелки, а санузел был такой крохотный, что даже не имел двери, его отгораживали только унизанные бусами нити. Было трудно представить, чтобы кто-то задумал сюда проникнуть с целью ограбления. Один взгляд вокруг говорил, что у этой девушки нет ничего, что стоило бы красть. Если бы было, она бы продала это, чтобы снять квартиру побольше.
Но, как ни странно, такое пространство ее устраивало. Она сама была миниатюрная – эдакая тень чуть выше пяти футов ростом, и соответственно худенькая. У нее были длинные черные очень тонкие волосы и прозрачно-бледная кожа. Джимми казалось, что она в любой момент может испустить последний вздох, но когда посмотрел ей в глаза, то увидел внутри настоящую силу и жесткость. Она могла казаться хрупкой, как кажется шелковая нить, пока не попытаешься ее порвать.
Впрочем, она была напугана, в этом он не сомневался. В тот раз он списал это на счет попытки проникновения в ее жилище. Кто-то явно пытался с пожарной лестницы открыть шпингалет окна. Она проснулась от шума и сразу бросилась к телефону в прихожей, чтобы вызвать полицию. Ее соседка миссис Рот, пожилая женщина, услышала ее крики и предложила убежище у себя до прибытия полиции. Как оказалось, Джимми и Уилл находились всего в квартале, когда пришло сообщение о вызове. Взломщик, вероятно, все еще был у окна, когда раздался сигнал полицейской сирены. Они заполнили форму 61, но больше ничем не могли помочь. Злоумышленник сбежал, никакого ущерба нанесено не было. Уилл предложил поговорить с владельцем квартиры, чтобы тот поставил на окно замок покрепче или, может быть, какую-нибудь решетку, но Карр только покачала головой.
– Я не останусь здесь, – сказала она. – Я уезжаю.
– Это большой город, – сказал Уилл. – Такие вещи случаются.
– Я понимаю. Но мне придется уехать.
Ее страх был осязаем, но не казалось, что ею управляет страх. Это не было безрассудной, чрезмерной реакцией на заурядный, хотя и тревожный инцидент. То, что ее пугало, отчасти относилось к событиям той ночи.
– Твой отец, должно быть, тоже ощутил это, – продолжал свой рассказ Джимми. – Когда мы уезжали, он был спокоен. Мы остановились выпить по чашечке кофе, и когда сели, он спросил:
– Что ты можешь сказать об этом?
– Полицейский код 10–31 – преступление не раскрыто. Вот и все.
– Но женщина была напугана.
– Она живет одна в обувной коробке. Кто-то попытался к ней проникнуть, и у нее не было большого выбора, куда бежать.
– Нет, что-то еще. Она не все нам сказала.
– Ты что, вдруг стал экстрасенсом?
Тут он повернулся ко мне. И ничего не сказал. А просто уставился на меня.
– Ладно, – сказал я. – Ты прав. Я тоже это ощутил. Хочешь вернуться?
– Нет, не сейчас. Может быть, позже.
Но мы так и не вернулись. По крайней мере, я. А твой отец – да, вернулся. Возможно, в ту же ночь после дежурства.
И с этого все началось.
Уилл сказал Джимми, что не спал с Каролиной до их третьей встречи. Он заявлял, что у него никогда не было намерения иметь с ней такие отношения, а просто в ней было что-то – что-то такое, от чего ему хотелось помочь ей, защитить ее. Джимми не знал, верить ему или нет, и не думал, что, так или иначе, это имеет значение. У Уилла Паркера была сентиментальная струнка, и Джимми любил повторять, цитируя Оскара Уайльда, что «сентиментальность – это выходной для цинизма». У Уилла были проблемы дома, и он все еще был под впечатлением от смерти Мелани Хантингдон, так что, возможно, в Каролине Карр он увидел возможность своего рода выхода, что ли. Он помог ей переехать. Подыскал жилье в Верхнем Ист-Сайде, более просторное и безопасное. На две ночи он поселил ее в мотеле, договорившись, что будет платить за нее, потом поехал в город на машине вместо электрички, забрал все ее пожитки, которых было не так много, и перевез ее в новую квартиру. Роман длился не дольше шести или семи недель.
В это время она забеременела.
Я ждал. Я допил свое вино, но когда Джимми попытался снова наполнить мой бокал, я прикрыл его рукой. Голова у меня шла кругом, но это не имело никакого отношения к вину.
– Забеременела? – переспросил я.
Он наполнил бокал до половины.
– В ней было нечто, в этой Каролине Карр, – сказал Джимми. – Даже я мог это заметить.
– Даже ты? – Я невольно улыбнулся.
– Она была не в моем вкусе, – улыбнулся в ответ он. – Думаю, нет нужды больше об этом говорить.
Я кивнул.
– Но это было еще не все. Твой отец был красивый мужчина, и многие женщины были бы рады облегчить часть его невзгод без каких-либо условий. Ему бы это стоило только расходов на выпивку. Но вот он ищет жилье для этой женщины и лжет своей жене, куда идет, когда помогает ей с переездом.
– Ты думаешь, он потерял голову от нее?
– Так я подумал сначала. Она была моложе его, хотя и ненамного, и, как я сказал, в ней было определенное обаяние. Думаю, это было связано с ее размерами и производимым ею ощущением хрупкости, хотя это ощущение было обманчивым. Так вот, конечно, я думал, он потерял голову, и, может быть, поначалу так оно и было. Но потом Уилл рассказал мне остальное – или часть остального, что хотел рассказать. И только тогда я начал понимать и начал беспокоиться.
Джимми насупил брови, и я понял, что даже теперь, спустя десятилетия, ему трудно рассказывать об этой части истории.
– Мы были у Кэла в тот вечер, когда Уилл сказал мне, что, по убеждению Каролины Карр, ее преследуют темные силы. Сначала я подумал, что он шутит, но он не шутил. Потом я начал задумываться, не опутала ли эта девица его своими сетями. Знаешь, девка в беде, на горизонте злодей: может быть, сволочной дружок или бывший муж-психопат. Но оказалось другое. Она была убеждена, что кто-то или что-то, преследующее ее, имело не человеческую природу. Она говорила о двоих, мужчине и женщине. Сказала твоему отцу, что они начали преследовать ее несколько лет назад. И с тех пор она убегает от них.
– И отец поверил ей?
Джимми рассмеялся.
– Ты смеешься надо мной? Он мог быть сентиментальным, но дураком не был. Уилл подумал, что она свихнулась. Решил, что совершил величайшую ошибку в жизни. У него были видения, как она подкрадывается к нему, приходит к нему в дом, забитый чесноком и распятиями. Твой старик, похоже, немного сошел с рельсов, но был еще в состоянии вести поезд. Так что нет, он не поверил ей и, думаю, попытался выпутаться из всей этой истории. Догадываюсь, он также осознал, что ему следует остаться с женой, что разрыв с ней не решит никаких проблем, а только вызовет массу новых.
Потом Каролина сказала ему, что беременна, и мир для него рухнул. После того как она сходила в клинику провериться, вечером у них был долгий разговор. Она даже не заикалась об аборте, и твой отец, что делает ему честь, тоже никогда не поднимал этот вопрос. Это было бы неправильно, потому что он был католик. Я думаю, он все еще помнил маленькую девочку под кучей пальто и выкидыши своей жены. Даже если рождение ребенка означало для него конец брака и жизнь в долг, он не собирался предлагать прервать беременность. А Каролина, знаешь, хранила полное спокойствие в этой ситуации. Конечно, не была счастлива, но сохраняла спокойствие, как будто беременность – это незначительная медицинская процедура или что-то вроде того, нечто беспокойное, но необходимое.
Ну а твой отец был потрясен. Ему был нужен воздух, и он оставил ее одну, чтобы пройтись. После тридцати минут наедине с собой ему захотелось поговорить с кем-то, и он остановился у телефона-автомата напротив ее квартиры и позвонил мне.
И тогда увидел их.
Они стояли у входа в магазин бытовых товаров, держась за руки, – мужчина и женщина, обоим за тридцать. У женщины были мышиного цвета волосы до плеч и никакой косметики на лице. Она была стройной, в старомодной черной юбке, облегавшей бедра и слегка расширявшейся ниже колена. Черный пиджак в тон к юбке прикрывал белую застегнутую до шеи блузку. На мужчине был черный костюм и белая рубашка с черным галстуком. Его волосы были коротко подстрижены сзади и оставались длинными спереди, зачесаны налево и нависали жирной челкой над одним глазом. Эти двое смотрели на окно Каролины Карр.
Странно, но именно их неподвижность и привлекла внимание Уилла. Они стояли, как поставленные в тень изваяния, как временная инсталляция на оживленной улице. Их внешность напомнила ему о сектах в Пенсильвании, где на пуговицы смотрели как на признак тщеславия. В их полной сосредоточенности на окне квартиры Уилл увидел фанатизм, граничащий с религиозным.
И пока Уилл наблюдал за ними, фигуры пришли в движение. Они перешли улицу, мужчина на ходу засунул руку под пиджак, а когда вытащил, Уилл увидел у него в руке пистолет.
Он побежал. У него был свой револьвер тридцать восьмого калибра, и он вынул его. Пара перешла улицу до половины, когда что-то в поведении приближающегося незнакомца привлекло внимание мужчины. Он заметил угрозу и повернул голову. Женщина продолжала движение, все ее внимание было поглощено только жилым домом перед ней и скрывавшейся внутри девушкой, но мужчина уставился на Паркера, и тот ощутил, что внутри у него все сжалось и похолодело, как будто кто-то скрутил ему кишки. Даже на расстоянии он мог увидеть, что с глазами мужчины что-то не так. Они вдруг неестественно потемнели, как две черные дыры на бледном лице, и стали неестественно маленькими, словно осколки черного стекла на позаимствованной коже, слишком туго натянутой на не по размеру большой череп.
Тут женщина обернулась и заметила, что спутника рядом нет. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, и Паркер заметил у нее на лице панику.
Грузовик ударил мужчину с пистолетом в спину, подбросив вперед и вверх; его ноги оторвались от земли раньше, чем его потянуло под передние колеса. Когда шофер нажал на тормоза, тяжелый грузовик уже раздавил тело, и от незнакомца осталось лишь красно-черное пятно. От удара туфли с его ног соскочили и валялись рядом, одна вверх подошвой, а другая на боку. От переломанной фигуры под грузовиком к туфлям протянулась тонкая струйка крови, как будто тело пыталось восстановить себя, построить заново, начиная с ног. Кто-то закричал.
Когда Уилл подбежал к телу, женщина уже исчезла. Он заглянул под грузовик. Голова мужчины исчезла, раздавленная левым передним колесом. Уилл показал свой значок и сказал стоявшему рядом человеку с пепельно-серым лицом, чтобы тот сообщил об инциденте. Из кабины вылез, пошатываясь, шофер и попытался схватиться за него, но Уилл проскользнул мимо и даже не заметил, как тот рухнул на землю у него за спиной. Паркер побежал к дому Каролины, но входная дверь была по-прежнему заперта. Он вставил ключ и открыл дверь на ощупь: все его внимание было сосредоточено на улице, а не на скважине. Когда ключ повернулся, он проскользнул внутрь и захлопнул за собой дверь, а добравшись до квартиры, встал сбоку от двери, тяжело дыша, и постучал один раз.
– Каролина! – позвал он.
Сначала ответа не было, а потом тихо послышалось:
– Да.
– Милая, с тобой все в порядке?
– Думаю, что да.
– Открой.
Его глаза осматривали тени. Ему показалось, что в воздухе попахивает какими-то странными духами. Это был резкий металлический запах. Потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что так пахла кровь погибшего мужчины. Уилл посмотрел вниз и увидел, что его туфли в крови.
Каролина открыла дверь, и он вошел. Когда он потянулся к ней, она отодвинулась.
– Я видела их, – сказала девушка. – Я видела, как они пошли ко мне.
– Я знаю, – ответил он. – Я тоже их видел.
– Тот, которого сбило…
– Он мертв.
Она покачала головой.
– Нет.
– Говорю тебе, он мертв. Ему раздавило череп.
Теперь она прислонилась к стене. Он схватил ее за плечи и сказал:
– Посмотри на меня.
Она посмотрела, и он увидел в ее глазах какое-то скрытое знание.
– Он умер, – повторил Уилл в третий раз.
Она издала глубокий вздох, и ее глаза метнулись к окну.
– Ладно, – проговорила она, и он понял, что она ему не верит, хотя не мог понять, почему. – А что с женщиной?
– Исчезла.
– Она вернется.
– Мы перевезем тебя.
– Куда?
– В какое-нибудь безопасное место.
– И это место считалось безопасным.
– Я ошибался.
– Ты не поверил мне.
Он кивнул.
– Ты права. Не поверил. Не знаю, как они тебя нашли, но я ошибался. Послушай, ты никому не звонила? Не говорила кому-нибудь – подруге, родственникам, – где находишься?
Ее глаза снова обратились к нему. Она выглядела усталой. Не испуганной или сердитой, а просто изнуренной.
– Кому мне звонить? У меня никого нет. Только ты.
И поскольку обратиться было больше не к кому, Уилл позвонил Джимми Галлахеру, и пока полиция опрашивала свидетелей, Джимми перевез Каролину в один мотель в Куинсе, но до этого поколесил по городу, чтобы стряхнуть хвост, если кто-то пытался проследить за ним. Когда ее благополучно зарегистрировали, он оставался с ней в комнате, пока, наконец, она не уснула, а потом до утра смотрел телевизор.
А в это время Уилл лгал появившимся копам. Он рассказал им, что пришел навестить друга и увидел, как улицу переходит человек с пистолетом в руке. Он окликнул его, и человек обернулся и поднял пистолет, и в это время его сбил грузовик. Никто из прочих свидетелей, похоже, не запомнил бывшую с ним женщину, да другие свидетели даже не могли вспомнить переходившего улицу мужчину. Получалось, что он материализовался прямо на том месте. Даже водитель грузовика сказал, что улица перед ним была пуста, а через секунду возник человек, которого потянуло под колеса. Водитель был в шоке, хотя вопроса о его вине не возникло: сигнал светофора разрешал ему движение, и грузовик не превышал скорости.
Дав показания, Уилл посидел в кафе, наблюдая за уже опустевшим жилым домом и суетой на месте гибели мужчины в надежде снова увидеть ту женщину с безликим лицом и темными глазами, но она не появилась. Если она и горевала об утрате спутника, то делала это где-то в другом месте. В конце концов, он сдался и присоединился к Джимми и Каролине в мотеле, а пока Каролина спала, рассказал обо всем Джимми.
– Он рассказал мне про беременность, про ту женщину, про погибшего мужчину, – сказал Джимми. – Он все время возвращался к внешности того парня, стараясь выделить, что в нем было… не так.
– И что же? – спросил я.
– Чужая одежда, – сказал Джимми.
– То есть как?
– Ты когда-нибудь видел кого-нибудь в чужом костюме, или пытающегося засунуть ноги в чужие туфли на номер больше или меньше, чем надо? Ну, вот, если верить твоему отцу, это и было не так в том человеке. Было похоже, что он позаимствовал чье-то тело, но оно не было ему впору. Твоего старика беспокоило это, как кость собаку, и через несколько недель он не смог найти лучшего объяснения, чем такое: как будто в теле того парня находилось что-то живое, но это был не он сам. Кем бы он ни был раньше и чем бы ни был, его больше не было. Это нечто все изгрызло изнутри.
Он посмотрел на меня, ожидая моей реакции, а не дождавшись, сказал:
– Меня подмывает спросить, не думаешь ли ты, что все это звучит бредом, но я слишком хорошо тебя знаю, чтобы поверить, если ты скажешь да.
– Вы выяснили его имя? – спросил я, пропустив мимо ушей последние слова.
– От парня не так много осталось, чтобы установить его личность. Впрочем, рисовальщику удалось добиться сходства по описанию твоего отца, и мы разослали портрет. И бац! Появляется какая-то женщина и говорит, что портрет похож на ее мужа, его звали Питер Аккерман. Он бросил ее пять лет назад. Встретил в баре какую-то девицу и был таков. О происшедшем жена сказала, что это было совершенно не в духе ее мужа. Он работал бухгалтером и все делал в соответствии с правилами. Любил ее, любил детей. У него был заведенный порядок, и он его придерживался.
Я пожал плечами.
– Он не первый, кто разочаровал жену в этом смысле.
– Да, думаю, не первый. Но мы еще не добрались до странной вещи. Аккерман служил в Корее, так что его отпечатки, в конце концов, проверили. Впрочем, и жена дала его подробное описание, поскольку лица уже не было: у него была татуировка морской пехоты на левой руке, шрам после удаления аппендикса на животе и выдрана часть икры, когда он поймал пулю в сражении при Чосинском водохранилище. Похоже, когда бросил жену и семью, он сделал еще одну татуировку. Ну, не то чтобы татуировку. Скорее клеймо.
– Клеймо?
– Оно было выжжено у него на правой руке. Трудно описать. Никогда раньше такого не видел, но твой старик докопался.
– И что это оказалось?
– Символ ангела. Падшего ангела. Имя начиналось как-то на «ан». Анимал. Нет, не то. Черт, потом вспомню.
Теперь я ступал осторожно. Я не знал, сколько Джимми известно о мужчинах и женщинах, с которыми я встречался в прошлом, и как некоторые из них разделяли странные верования и были убеждены, что являются падшими существами, блуждающими духами.
Демонами.
– Этот человек носил клеймо в виде оккультного символа?
– Именно так.
– Вилка? – Такую метку я видел раньше. Носившие ее называли себя «Верующими».
– Что? – Джимми прищурился, не понимая, потом выражение его лица изменилось, и я понял, что он знает обо мне больше, чем мне хотелось бы, и я задумался откуда. – Нет, не вилка. Другое. Оно было не похоже на что-то осмысленное, хотя во всем можно найти что-то, если хорошо присмотреться.
– А что с той женщиной?
Джимми встал, подошел к стойке для бутылок и взял еще одну.
– О, она вернулась, – сказал он. – Чтобы отомстить.
Глава 20
Эти двое постоянно перевозили Каролину, никогда не позволяя ей задерживаться на одном месте дольше недели. Они селили ее в мотелях и на съемных квартирах. Какое-то время она жила в лесной хижине на севере штата, близ маленького городка, куда переехал один бывший коп из Девятого, родственник Эдди Грейса, чтобы стать там начальником полиции. Хижину от случая к случаю использовали, чтобы прятать свидетелей или тех, кому надо было на время скрыться, пока особая ситуация не уляжется, но Каролина терпеть не могла тишины и уединения. От этого она только больше нервничала, потому что была городским жителем. За городом любой звук говорил ей о приближающейся опасности. Через три дня в хижине у нее сдали нервы. Она была так напугана, что даже позвонила Уиллу домой. К счастью, жены не было дома, но звонок потряс Уилла. Его роман с молодой женщиной уже подходил к концу по взаимному согласию, но иногда он останавливался у себя во дворе и задумывался, как же он умудрился так все испоганить. Его постоянно толкало признаться во всем жене. Ему даже снилось, что он признался, и, проснувшись, он удивлялся, почему она по-прежнему спит рядом. Он был уверен, что она что-то подозревает и только ждет подходящего момента, чтобы высказать свои подозрения. Она ничего не говорила, но ее молчание только усиливало его паранойю.
Он стал все яснее осознавать, что, по сути, почти ничего не знает о Каролине Карр. Она вкратце описала ему лишь самые общие подробности своей жизни: выросла в Модесто, штат Калифорния; мать умерла при пожаре, – и говорила, как все больше убеждалась, что те две фигуры преследуют ее. Пока что Каролине удалось оторваться от них, но она выросла беспечной и стала уставать от жизни в бегах. Ей уже чуть ли не хотелось, чтобы они отыскали ее, пока в ту ночь, когда они попытались проникнуть в ее квартиру, ее страх перед ними не пересилил нелепое желание закончить эту гонку. Она не могла ответить Уиллу, почему они нацелились именно на нее, так как уже сказала, что не знает. Но была уверена, что они представляют угрозу и хотят лишить ее жизни. Когда он спрашивал, почему она не обратилась в полицию, она только смеялась над ним, и ее насмешливость ранила его.
– Думаешь, я не обращалась? Я пошла к ним, когда умерла моя мама. Сказала, что пожар был устроен преднамеренно, но они только смотрели на встревоженную, убитую горем девочку и не слушали меня. После этого я решила, что могу рассчитывать только на себя. А что еще я могла сделать? Сказать, что за мной охотятся без всякой причины какие-то мужчина и женщина, которых никто не видит, кроме меня? Меня бы заперли, и я бы оказалась в ловушке. Я держала все это в себе, пока не встретилась с тобой. Я подумала, что ты не такой.
И Уилл не бросал ее и говорил, что он не такой, хотя сам порой задумывался, не слишком ли увлекся перепуганной молодой женщиной с изощренной фантазией. Но потом вспоминал мужчину с пистолетом и бледную женщину с мертвыми глазами и понимал, что в рассказах Каролины Карр была какая-то правда.
Он начал делать неофициальные запросы насчет клейма на руке у Питера Аккермана, и в конце концов его направили в Бруклин-Хайтс к молодому раввину по фамилии Эпштейн. За бокалом сладкого кошерного вина раввин рассказал ему об ангелах, о темных книгах, которые, насколько понял Уилл, остались вне Библии, потому что были слишком странными по сравнению с текстами, включенными в канон. Пока они беседовали, Уилл начал понимать, что раввин допрашивает его, так же как он сам допрашивает того.
– Значит, это секта, своего рода культ, в который вовлекли Питера Аккермана? – спросил Уилл.
– Возможно, – ответил раввин и спросил: – А почему этот человек так вас интересует?
– Я полицейский. Я был там, когда он погиб.
– Нет, тут что-то еще. – Раввин откинулся на спинку стула и потеребил бородку, не отрывая глаз от лица Уилла. И, похоже, наконец принял решение. – Можно звать вас Уиллом?
Тот согласно кивнул.
– Я хочу рассказать вам кое-что, Уилл. Если я угадал, то буду признателен, если вы подтвердите мою догадку.
Уилл решил, что у него нет другого выхода, кроме как согласиться. Позже он рассказал Джимми, что как-то увлекся этим обменом информацией.
– Этот человек был не один, – сказал Эпштейн. – С ним была женщина. Вероятно, примерно одних с ним лет. Верно?
Уилл подумал было солгать, но через секунду прогнал эту мысль.
– Откуда вы знаете?
Эпштейн вынул изображение символа, который был найден на теле Питера Аккермана:
– Вот почему. Они всегда охотятся парами. В конце концов, они любят друг друга. Мужчина, – он указал на символ Аккермана, а потом передвинул от себя другой листок, – и женщина:
Уилл рассмотрел оба рисунка.
– Значит, эта женщина принадлежит тому же культу?
– Нет, Уилл. Я вообще не верю, что это культ. Тут нечто гораздо хуже…
Джимми прижал ко лбу пальцы и тяжело задумался. Я не мешал ему. Эпштейн – я встречался с этим раввином по множеству поводов и помог ему выследить убийц его сына, и за все это время он ни разу не сказал мне, что знал моего отца.
– Их имена, – сказал Джимми. – Не могу вспомнить их имен.
– Каких имен?
– Имена, которые раввин назвал Уиллу. Мужчина и женщина, у них есть имена. Как я говорил, имя мужчины начинается с «Ан», но никак не могу вспомнить имени женщины. Их как будто вырезали из моей памяти.
Он все больше расстраивался и отвлекался.
– Пока это не важно, – сказал я. – Мы можем вернуться к именам потом.
– У них у всех есть имена, – повторял Джимми. Он казался озадаченным.
– Что?
– Раввин сказал Уиллу кое-что еще. Он сказал, что у них у всех есть имена. – Он посмотрел на меня словно с отчаянием. – Что это может значить?
А я вспомнил своего деда в Мэне, говорившего те же слова, когда Альцгеймер начал гасить его воспоминания, как пламя свечей между пальцами.
– У них у всех есть имена, Чарли, – говорил он, и его лицо горело от страшных усилий вспомнить. – У них у всех есть имена.
Я тогда не знал, что он хотел сказать. Только потом, когда встретился с существами вроде Киттима и Брайтвелла, я начал понимать.
– Это значит, что даже самому худшему можно дать имя, – сказал я Джимми. – И важно знать эти имена.
Потому что со знанием имени приходит понимание предмета.
А с пониманием приходит возможность его уничтожить.
Необходимость защищать Каролину Карр легла тяжелым грузом на обоих в то время, когда в городе были беспорядки и полицейские требовались непрестанно. В январе 1966 года забастовали транспортники, все тридцать четыре тысячи, они парализовали транспортную сеть и нанесли страшный ущерб экономике города. В конечном итоге мэр Линдсей, заменивший Вагнера в январе 1966 года, сдался перед общественным недовольством и насмешками Майкла Килла, профсоюзного лидера, который из-за решетки называл его сосунком и мальчиком в коротеньких штанишках. Однако, уступив работникам транспорта, Линдсей – который на протяжении многих лет был хорошим мэром, и пусть никто не скажет иного, – проложил дорогу для последующих серий забастовок муниципальных служащих, которые будут подрывать авторитет его администрации. Начинало подниматься движение против призыва на военную службу – горшок, который постоянно угрожал закипеть с тех пор, как четыреста активистов начали пикетировать призывной пункт на Уайтхолл-стрит, и двое из них даже сожгли свои повестки. Впрочем, сезон охоты на диссидентов был все еще открыт, так как в стране правил Линдон Бейнс Джонсон, несмотря на то, что численный состав вооруженных сил Соединенных Штатов возрос со 180 тысяч до 385 тысяч, американские потери утроились, а еще пять тысяч солдат погибнут только до конца этого года. Пройдет еще год, пока общественное мнение поистине начнет меняться, но пока активистов больше волновали гражданские права, чем Вьетнам, в то время как некоторые постепенно начинали понимать, что одно питает другое, что призыв на военную службу несправедлив, потому что большинство призываемых по белым повесткам были молодые чернокожие, которые не могли воспользоваться учебой в колледже как поводом для отсрочки прежде всего потому, что не имели шансов поступить в колледж. В Ист-Виллидже обреталась так называемая богема, и все более входили в моду марихуана и ЛСД.
А Уилл Паркер и Джимми Галлахер, сами еще молодые и неглупые ребята, каждый день надевали форму и гадали, когда их попросят разбить головы их ровесникам, с которыми они, или, по крайней мере, Уилл, были во многом согласны. Все менялось. В воздухе пахло переменами.
А Джимми жалел, что встретился с Каролиной Карр. После ее звонка Уиллу домой Джимми пришлось приехать и отвезти ее обратно в Бруклин, где она оставалась в доме его матери на Герритсен-бич, у залива Шелл-Бэнк. У миссис Галлахер было маленькое одноэтажное бунгало с островерхой крышей и без всякого дворика, оно стояло на Мелба-Курт, одной из перенаселенных пронумерованных по алфавиту улочек, когда-то использовавшейся как летний курорт для американцев ирландского происхождения, пока Герритсен не оказался так популярен, что дома утеплили для зимнего сезона, чтобы люди могли жить здесь круглый год. Спрятав Каролину в Герритсене, Джимми, а порой и Уилл, получили повод видеться с ней, так как Джимми приезжал навестить мать не реже раза в неделю. Кроме того, эта часть Герритсена была тесной и плотно набитой. Чужаков сразу замечали, и миссис Галлахер предупредили, что кое-кто разыскивает девушку. Это сделало мать Джимми еще более бдительной, чем всегда, а даже в минуты отдыха она бы посрамила обычного телохранителя из президентской охраны. Когда соседи спрашивали о жившей у нее молодой женщине, миссис Галлахер отвечала, что это подруга одного друга, которого она лишилась. Ужасный позор ожидает бедную девушку. Она дала Каролине тонкое золотое колечко, раньше принадлежавшее ее матери, и велела носить на безымянном пальце. Предполагаемая утрата вызвала еще худшее любопытство и внимание на побережье, и в редких случаях, когда Каролина вечером сопровождала миссис Галлахер в древний Орден ирландцев, к ней там относились с сочувствием и уважением, от чего она испытывала благодарность и чувство вины.
В Герритсене Каролине было хорошо: она жила у моря, рядом с пляжем Кидди-бич, открытом только для местных жителей. Возможно, она даже представляла, как играет на песочке со своим ребенком, в летние дни обедает под навесами на пляже, слушая музыкантов на сцене, а в День поминовения смотрит парад. Но если она и представляла такое будущее для себя и еще не рожденного ребенка, то никогда об этом не говорила. Может быть, она боялась сглазить, произнося желание вслух, а может быть, – и это сказала миссис Галлахер своему сыну по телефону, когда он однажды позвонил справиться о девушке, – она вообще не видела для себя никакого будущего.
– Она милая девушка, – сказала миссис Галлахер, – тихая и почтительная. Не курит и не пьет, и это хорошо. Но когда я пытаюсь заговорить с ней о ее планах, когда родится малыш, она только улыбается и меняет тему. И это не счастливая улыбка, Джимми. Она все время грустит. И более того – она напугана. Я слышу, как она кричит во сне. Ради бога, Джимми, почему эти люди преследуют ее? С виду она мухи не обидит.
Но у Джимми Галлахера не было ответа, как и у Уилла Паркера. Впрочем, у Уилла были свои проблемы.
Его жена снова забеременела.
Он смотрел, как она расцветает по мере того, как подходил срок. Несмотря на перенесенные выкидыши, она говорила, что на этот раз чувствует себя по-другому. Дома он качал ее на кресле у окна кухни, тихо напевая, а она прижимала правую руку к животу. Она могла оставаться в этом положении часами, глядя, как мимо несутся по небу облака, а в саду кружатся опадающие листья, по мере того как зима вступала в свои права. Это почти что забавно, думалось ему. Он переспал с Каролиной Карр три или четыре раза, и она забеременела. А теперь жена после стольких выкидышей уже семь месяцев вынашивает их ребенка. Она выглядела так, будто из нее исходит сияние. Он никогда не видел ее такой счастливой, такой внутренне удовлетворенной. Он знал, что она чувствует вину за прошлые неудачи. Ее тело подводило ее. Оно не делало того, что ему полагалось делать. Оно не было достаточно сильным. А теперь, наконец, она получила то, чего хотела, чего они оба так долго желали.
И это его мучило. Он ждал второго ребенка от другой женщины, и сознание своей измены терзало его. Каролина сказала ему, что ей от него ничего не нужно, кроме того, чтобы он защитил ее до той поры, когда родится малыш.
– А потом?
Но, как и в случае с матерью Джимми Галлахера, она уходила от ответа на этот вопрос.
– Посмотрим, – говорила она и отворачивалась.
Ее ребенок должен был родиться месяцем раньше, чем у его жены. Оба будут его детьми, и все же он знал, что ему придется одного бросить, если хочет сохранить брак – а он хотел, больше всего хотел этого, – и тогда он не сможет стать частью жизни своего первенца. Он даже не был уверен, что сможет предложить ему что-либо сверх минимальной финансовой поддержки со своим-то жалованьем полицейского, несмотря на заявления Каролины, что ей не нужны его деньги…
И все же он не хотел, чтобы этот его ребенок просто так исчез. Несмотря на свои слабости, он был порядочным человеком. Раньше он никогда не изменял жене и чувствовал свою вину за то, что спал с Каролиной, и эта боль была так сильна, что он терял почву под ногами. Больше чем когда-либо ему хотелось признаться, но как-то вечером за пивом у Кэла после дежурства Джимми Галлахер убедил его не делать этого.
– Ты с ума сошел? – сказал Джимми. – Твоя жена беременна. Она вынашивает ребенка, которого вы оба так желали столько лет. После всего случившегося у тебя может не быть другого шанса. Кроме того, потрясение может повлиять на нее и сломить, а вместе с ней и ваш брак. Твоя жизнь – это твои поступки. Каролина говорит, что не хочет, чтобы ты участвовал в жизни ее ребенка. Она не хочет твоих денег и не хочет твоей заботы. Большинство мужчин в твоей ситуации были бы счастливы этим. Если ты не рад, то эта утрата – расплата за твои грехи и цена за сохранение брака. Ты меня слышишь?
И Уилл согласился, понимая, что Джимми прав.
– Ты должен кое-что понять, – сказал Джимми. – Твой старик был порядочным, верным и храбрым человеком, но он был человеком. Он совершил ошибку и пытался найти способ жить с этим, жить и поступать правильно по отношению ко всем, но это было невозможно, и понимание этого разрывало его на части.
Одна свеча зашипела, собираясь погаснуть. Джимми встал, чтобы заменить ее, а потом, помолчав, сказал:
– Если хочешь, я могу включить свет.
Я покачал головой и сказал, что мне нравятся свечи.
– Так я и думал, – сказал он. – Почему-то не кажется правильным рассказывать такие истории при ярком свете. Это история не для яркого света.
Он зажег новую свечу и, снова усевшись, продолжил рассказ.
По просьбе Эпштейна ему устроили встречу с Каролиной. Она состоялась в задней комнате еврейской булочной в Мидвуде. Джимми и Уилл привезли Каролину тайно под покровом ночи, к этому времени она была уже на сносях и кое-как улеглась под несколькими пальто на заднем сиденье «Эльдорадо» миссис Галлахер. Двух мужчин не посвятили в то, что произошло между раввином и Каролиной, хотя те провели вместе больше часа. Когда они закончили, Эпштейн поговорил с Уиллом и спросил его о мерах, принятых в отношении родов Каролины. Джимми никогда раньше не слышал такой формулировки и встревожился, когда ему объяснили. Уилл дал Эпштейну фамилию акушера и название больницы, где Каролина собиралась рожать, а раввин сказал ему, что будут приняты альтернативные меры.
Через связи Эпштейна для Каролины нашли место в частной клинике в самом Герритсен-Бич, близ школы № 277, на другом берегу залива, напротив дома миссис Галлахер. Джимми всегда знал, что там есть клиника и что она оказывает услуги тем, для кого деньги не проблема, но не знал, что за ее дверьми рожают детей. Позже он узнал, что обычно такого и не бывает, но по просьбе Эпштейна сделали исключение. Джимми предложил одолжить Уиллу денег, чтобы покрыть часть медицинских расходов, и тот согласился при условии, что они оговорят строгий график выплат с процентами.
В тот день, когда у Каролины отошли воды, миссис Галлахер позвонила в участок и оставила сообщение для Джимми с просьбой позвонить ей, как только сможет. Джимми и Уилл были на дежурстве с восьми до четырех и, получив сообщение, вместе поехали в клинику. Уилл позвонил жене, собираясь сказать ей, что им с Джимми нужно кое в чем помочь миссис Галлахер, и в этой лжи была крупинка правды, но жены не было дома, и звонок остался без ответа.
Когда они приехали в клинику, в регистратуре им сказали:
– Она в восьмой палате, но вам туда нельзя. Дальше по коридору, налево, есть помещение с кофе и печеньем, где можно подождать. Кто из вас отец?
– Я отец, – сказал Уилл. Эти слова прозвучали странно в его устах.
– Ну, мы вам сообщим, когда все закончится. Начались схватки, но она не родит еще часа два. Я попрошу доктора поговорить с вами, и, может быть, он разрешит вам побыть с ней несколько минут. Можете идти. – Девушка сделала руками быстрый жест, который, наверное, демонстрировала тысячам бесполезных мужчин, настоятельно просивших или пытавшихся скандалить в ее отделении, где им было нечего делать.
– Не беспокойтесь, – добавила она, когда Уилл и Джимми отказались так долго ждать, – она там не одна. С ней приехала ее подруга, пожилая дама, а всего несколько минут назад к ней зашла ее сестра.
Оба полицейских окаменели.
– Сестра? – переспросил Уилл.
– Да, ее сестра. – Служащая взглянула на лицо Уилла и мгновенно заняла оборону: – У нее было удостоверение личности, водительские права. Та же фамилия – Карр.
Но Уилл и Джимми уже бросились по коридору – направо, а не налево.
– Эй, я же вам сказала, вам туда нельзя, – кричала вслед девушка из регистратуры, но, увидев, что они не обращают внимания, по телефону вызвала охрану.
Когда они добежали до палаты № 8, дверь оказалась заперта, и коридор был пуст. Они постучали, но ответа не последовало. Когда Джимми дернул за ручку, из-за угла вышла его мать.
– Что ты делаешь? – спросила она.
И тут увидела револьверы.
– Нет! Я только ходила в туалет. Я…
Дверь была заперта изнутри. Джимми отошел и два раза ударил в нее ногой, прежде чем замок сломался, и дверь распахнулась. Оттуда дунул холодный ветер. Каролина Карр лежала на каталке с подложенными под голову и спину подушками. Рубашка пропиталась кровью, но она была еще жива. В палате было холодно из-за открытого окна.
– Позовите доктора! – сказал Уилл, но Джимми уже звал на помощь.
Уилл подошел к Каролине и попытался помочь ей, но у нее начались судороги. Он увидел рану у нее на груди и животе. «Лезвие, – подумал он. – Кто-то зарезал ее и ребенка. Нет, не кто-то, а женщина, которая видела, как ее друг погиб под колесами грузовика». Глаза Каролины обратились к нему, ее рука ухватилась за рубашку, оставив кровавые следы.
А потом появились врачи и санитары. Его оттащили от нее, вывели из палаты, а когда дверь закрылась, он по-прежнему видел ее, неподвижно лежащую на подушках, и знал, что она умирает.
Но ребенок выжил. Его вырезали из тела Каролины, когда она умерла. Клинок прошел в четверти дюйма от его головки.
А пока врачи занимались этим, Уилл и Джимми охотились за женщиной, убившей Каролину Карр.
Выбежав из клиники, они услышали шум отъезжавшей машины, и через секунду со стоянки слева от них вылетел черный «Бьюик» и приготовился повернуть на Герритсен-авеню. Уличный фонарь выхватил лицо женщины, когда она взглянула на них. Первым среагировал Уилл; он сделал три выстрела, когда женщина, заметив полицейских, повернула налево, а не направо, чтобы ей не пришлось проезжать мимо них. Первый выстрел попал в окно со стороны водителя, второй и третий пробили дверь. «Бьюик», набирая скорость, устремился прочь, и Уилл, бросившись за ним, выстрелил в четвертый раз, в то время как Джимми побежал к их машине. Потом Уилл увидел, как «Бьюик» завилял и начал забирать вправо. Он наехал на поребрик рядом с лютеранской церковью, выехал на тротуар и остановился, упершись в ограду церковного двора.
Уилл продолжал бежать. Джимми уже был рядом, увидев, что черный автомобиль остановился, он забыл о своей машине. Когда преследователи приблизились, дверь со стороны водителя открылась, и оттуда вылезла женщина, явно раненая. Она оглянулась на них, держа в руке нож. Уилл не колебался ни мгновения, ему хотелось, чтобы она умерла. И выстрелил снова. Пуля пробила дверь, но женщина уже покинула машину и ковыляла, волоча левую ногу. Она нырнула налево на Бартлетт-стрит; ее преследователи быстро сокращали дистанцию. Когда они свернули за угол, она, повернув голову и тяжело дыша с открытом ртом, замерла под фонарем. Уилл прицелился, но женщина, даже раненая, оказалась слишком проворной. Она поковыляла направо к узкой аллее, которую называли Кантон-Курт.
– Она попалась, – сказал Джимми. – Это тупик. Там дальше залив.
Друзья подождали, пока она достигнет Кантон-Курт, а потом переглянулись и кивнули. Подняв оружие, они вошли в темное пространство между двумя коттеджами, которое вело к заливу.
Женщина стояла в лунном свете спиной к набережной, в руке у нее по-прежнему был нож. Пальто было длинновато для нее, и рукава доставали до вторых суставов пальцев, но не настолько, чтобы скрыть клинок.
– Опусти оружие, – сказал Джимми, но он говорил не с женщиной, еще не с ней. Не спуская с нее глаз, он положил ладонь на ствол револьвера Уилла и слегка надавил. – Не делай этого. Не надо.
Женщина повернула нож, и Джимми показалось, что он увидел на нем кровь Каролины Карр.
– Все кончено, – сказала она. Ее голос звучал на удивление мягко и нежно, но глаза на бледном лице были как два осколка обсидиана.
– Верно, – подтвердил Джимми. – А теперь брось нож.
– Не важно, что вы сделаете со мной, – сказала женщина. – Я выше ваших законов.
Она выронила нож, но одновременно приподняла левую руку, и рукав пальто отошел, открыв маленький пистолет, до того скрытый в одежде.
Ее убил Джимми. Он поразил ее дважды, прежде чем она успела выстрелить. Какую-то секунду она еще стояла, потом опрокинулась навзничь и упала в холодную воду залива Шелл-Бэнк.
Труп так и не опознали. Девушка из регистратуры подтвердила, что это та самая женщина, назвавшаяся сестрой Каролины Карр. В кармане пальто были обнаружены поддельные права штата Виргиния на имя Энн Карр и небольшая сумма наличных. Ее отпечатки пальцев не были нигде зарегистрированы, и не нашлось никого, кто бы опознал ее по портрету, показанному в сводках новостей и опубликованному в газетах.
Но это было потом. А пока были вопросы, на которые нужно было найти ответы. Приехали другие полицейские и заполнили клинику. Они перекрыли Бартлетт-стрит. Занялись репортерами, любопытствующими зеваками, обеспокоенными пациентами и их родственниками.
Тем временем в заднем помещении больницы собралась группа людей, в том числе директор, а также врач и медсестра, занимавшиеся Каролиной Карр, заместитель комиссара Нью-Йоркского полицейского департамента по юридическим вопросам и маленький тихий человечек чуть старше сорока – раввин Эпштейн. Уиллу Паркеру и Джимми Галлахеру было велено ждать за дверью, и они сидели на пластмассовых стульях, не разговаривая. Лишь один человек, кроме Джимми, выразил Уиллу соболезнование в связи со случившимся – это была девушка из регистратуры. Она присела рядом с ним и взяла за руку.
– Я так вам сочувствую, – сказала она. – И все мы.
Он молча кивнул.
– Не знаю, хотите ли… – начала она и запнулась. – Нет, я знаю, что это не поможет, но, может быть, вы хотите взглянуть на сына?
Она провела его в комнату со стеклянными стенами и показала на крохотного младенца, спавшего между двумя другими.
– Это он. Ваш мальчик.
Через несколько минут их вызвали в комнату, где проходило совещание. Им представили всех присутствующих, кроме одного, который вошел вслед за ними и теперь пристально смотрел на Уилла. Подошедший Эпштейн наклонился к уху Паркера и шепнул:
– Сочувствую.
Тот не ответил.
Официально прервал молчание Фрэнк Манкузо, заместитель комиссара нью-йоркской полиции.
– Мне сказали, что вы отец, – обратился он к Уиллу.
– Да.
– Какая неприятность, – с чувством проговорил Манкузо. – Нам нужно распутать эту историю. Вы, двое, слушаете?
Уилл и Джимми синхронно кивнули.
– Ребенок умер, – сообщил Манкузо.
– Что? – воскликнул Уилл.
– Ребенок умер. Он прожил пару часов, но, похоже, получил повреждение от ножа, убившего мать. Младенец умер, – он посмотрел на часы, – две минуты назад.
– Что вы несете? – крикнул Уилл. – Я только что видел его.
– А теперь он умер.
Уилл попытался выйти, но Эпштейн схватил его за руку.
– Погодите, мистер Паркер. Ваш ребенок жив-здоров, но пока об этом знают только люди в этой комнате. Его уже унесли.
– Куда?
– В безопасное место.
– Зачем? Это мой сын. Я хочу знать, где он.
– Подумайте, мистер Паркер, – сказал Эпштейн. – Просто задумайтесь на минутку.
Какое-то время Уилл молчал. Потом проговорил:
– Вы считаете, что кто-то собирается добраться до ребенка.
– Мы считаем, что такое возможно. Они не знают, что он выжил.
– Но они мертвы. И мужчина, и женщина. Я видел обоих мертвыми.
Эпштейн отвел глаза.
– Могут быть другие, – сказал он, и даже за его скорбью виделось замешательство, и коп в Уилле гадал, что Эпштейн пытается скрыть.
– Какие другие? Кто были эти люди?
– Мы пытаемся это выяснить, – сказал раввин. – Это займет время.
– Верно. А что тем временем будет с моим сыном?
– В конечном итоге его отдадут в какую-нибудь семью, – сказал Манкузо. – Это все, что вам следует знать.
– Нет, не все, – возразил Уилл. – Это мой сын.
Манкузо ощерился.
– Вы не слушаете, офицер Паркер. У вас нет сына. А если будете настаивать, это будет стоить вам карьеры.
Уилл посмотрел на стоявшего у стены незнакомца.
– Вы кто? Какое вы имеете отношение ко всему этому?
Тот не ответил и не дрогнул под злобным взглядом Уилла.
– Это друг, – сказал Эпштейн. – Пока что этого достаточно.
– Так мы договорились, офицер Паркер? – снова заговорил Манкузо. – Лучше скажите сразу. Я не буду таким добродушным, если это дело выйдет за пределы этих стен.
Уилл судорожно глотнул.
– Да, – ответил он. – Я понял.
– Да, сэр, – поправил его Манкузо.
– Да, сэр, – повторил Уилл.
– А вы? – Манкузо переключил внимание на Джимми Галлахера.
– Я заодно с ним. Как он скажет, так и будет.
Все переглянулись. Дело было сделано.
– Идите домой, – сказал Манкузо Уиллу. – Идите домой к своей жене.
И когда они прошли через комнату со стеклянными стенами, кроватка была уже пуста, и лицо девушки из регистратуры сморщилось от печали, когда они проходили мимо нее. Сокрытие правды уже началось. Без слов соболезнования человеку, который в одну ночь потерял ребенка и мать этого ребенка, она могла лишь, покачав головой, смотреть, как он исчезает в ночи.
Когда Уилл, наконец, вернулся домой, Элейн ждала его.
– Где ты был?
Ее глаза распухли. Он понял, что она проплакала несколько часов.
– Кое-что случилось, – ответил он. – Погибла одна девушка.
– А мне наплевать! – Это был вопль, не крик. Уилл никогда не слышал, чтобы она издавала такой звук. Эти три слова будто заключали в себе столько боли и муки, сколько он никогда не мог представить в женщине, которую любил. Потом она повторила эти слова, на этот раз тише, заставляя каждое слово выйти, как будто выдавливая их из себя.
– А мне наплевать. Тебя здесь не было. Тебя не было, когда ты был мне нужен.
Он опустился на колени рядом с ней и взял ее за руки.
– Что? – спросил он. – Что такое?
– Сегодня мне пришлось сходить в клинику.
– Зачем?
– Что-то не так. Я почувствовала внутри.
Он крепче сжал ее руки, но она не смотрела на него, не могла поднять на него глаза.
– Наш малыш умер, – тихо проговорила она. – Я ношу мертвого ребенка.
Он обнял ее и ждал, что она заплачет, но у нее не осталось слез. Она просто прижалась к нему, молча, и потерялась в своем горе. Он видел ее отражение в зеркале на стене у нее за спиной и закрыл глаза, чтобы не смотреть на себя.
Уилл отвел жену к кровати и помог лечь. Врачи в клинике дали ей какие-то таблетки, и он дал их ей выпить.
– Они хотели стимулировать, – сказала она, проглотив таблетки. – Хотели вынуть нашего малыша, но я не дала. Я хотела держать его в себе как можно дольше.
Он кивнул, но теперь не мог говорить. У него потекли слезы. Жена протянула руку и вытерла их большим пальцем.
Он сидел рядом с ней, пока она не уснула, а потом два часа сидел, уставившись в стену и держа ее за руку, пока медленно, осторожно, не отпустил и не дал руке упасть на простыни. Элейн слегка пошевелилась, но не проснулась.
Он спустился по лестнице и набрал номер, который ему дал Эпштейн при первой встрече. Ответил сонный женский голос, и когда Уилл попросил раввина, женщина ответила, что тот спит.
– У него была тяжелая ночь, – объяснила она.
– Я знаю, – ответил Уилл. – Я был там. Разбудите его. Скажите, что это Уилл Паркер.
Женщина явно знала это имя. Она положила трубку, и Уилл услышал ее шаги. Прошло пять минут, потом послышался голос Эпштейна.
– Мистер Паркер, я должен был сказать вам еще в больнице: нам не следует продолжать контакты таким образом.
– Мне нужно увидеться с вами.
– Это невозможно. Что сделано, то сделано. Мы должны оставить мертвых в покое.
– Моя жена носит мертвого ребенка, – сказал Уилл. Он с трудом выдавил из себя эти слова.
– Что?
– Вы расслышали. Наш ребенок умер в утробе. Предполагают, что пуповина каким-то образом обмоталась вокруг шеи. Он умер. Ей сказали вчера. Они собираются стимулировать роды и удалить его.
– Сочувствую, – сказал Эпштейн.
– Мне не нужна ваша жалость. Мне нужен мой сын.
Эпштейн молчал.
– То, что вы предлагаете, не…
Уилл перебил его:
– Не говорите мне этого! Это случилось из-за вас. Ступайте к своему другу, мистеру Спокойствие в хорошем костюме, и скажите, чего я хочу. Иначе, клянусь, я устрою такой шум, что у вас брызнет кровь из ушей. – И вдруг энергия начала иссякать в его теле. Ему захотелось залезть в постель и обнять жену, жену и их мертвого ребенка. – Слушайте, вы сказали, что о ребенке позаботятся. Я могу позаботиться о нем сам. Спрячьте его у меня. Спрячьте на видном месте. Пожалуйста.
Он услышал, как Эпштейн вздохнул.
– Я поговорю с нашим другом, – наконец проговорил он. – Дайте мне фамилию доктора, который наблюдал вашу жену.
Уилл сказал. Номер был в телефонной книге у телефона.
– Где сейчас ваша жена?
– Спит наверху. Она приняла таблетки.
– Я позвоню через час, – сказал Эпштейн и повесил трубку.
Через час и пять минут телефон зазвонил. Уилл, который сидел на полу рядом, схватил трубку сразу после первого звонка.
– Когда ваша жена проснется, мистер Паркер, вы должны сказать ей правду, – сказал Эпштейн. – Попросите простить вас, а потом скажите, что́ предлагаете.
В ту ночь Уилл не спал. Он скорбел по Каролине Карр, а на рассвете отложил свою скорбь по ней в сторону и приготовился к тому, что, он не сомневался, станет смертью их брака.
– В то утро он позвонил мне, – сказал Джимми, – и сказал, что собирается сделать. Ради возможности удержать у себя мальчика он приготовился поставить на карту все: свою карьеру, свой брак, счастье и даже рассудок своей жены.
Он хотел было налить себе еще вина, но остановился и сказал:
– Не могу больше пить. Это вино напоминает кровь. – Он отодвинул бутылку и бокал. – Все равно мы почти закончили. Я допью остаток, а потом мне нужно поспать. Мы можем поговорить завтра. Если хочешь, можешь остаться на ночь. Здесь есть гостевая комната.
Я открыл рот, чтобы возразить, но Джимми поднял руку.
– Поверь мне, сегодня я тебе рассказал достаточно, чтобы ты подумал. Ты будешь благодарен, что я остановился.
Он наклонился вперед, положив руки перед собой, и я увидел, что они трясутся.
– И вот твой старик ждал у постели твоей матери, а когда она проснулась…
Иногда я думаю о том, что же мои отец и мать вынесли в тот день. Не было ли в поступках отца своего рода безумия, подстегиваемого страхом, что ему суждено потерять двоих детей – одного не уберечь от смерти, а другого обречь на анонимное существование среди людей, чужих ему по крови. Должно быть, стоя над матерью, споря с собой, будить ли ее или дать еще поспать, оттягивая момент признания, он знал, что это охладит их отношения навеки. Он собирался нанести ей двойную рану: болью от своей измены и, возможно, еще большей мукой от знания, что ему удалось сделать то, чего она не смогла сделать для него. Она носила в себе умершего ребенка, в то время как ее муж, всего несколько часов назад, видел своего сына, рожденного умершей матерью. Он любил свою жену, и она любила его, а теперь он собирался нанести ей такой удар, от которого она никогда полностью не оправится.
Он не сказал никому, что тогда произошло между ними, даже Джимми Галлахеру. Я лишь знаю, что моя мать на время бросила его и уехала в Мэн – это стало прологом для другого перелета, который случился после смерти отца, и отдаленным эхом от моих собственных поступков после того, как меня лишили жены и ребенка. Она не была моей родной матерью, и теперь я понимаю причины нашей отстраненности до самой ее смерти, но мы были более схожи, чем оба могли себе представить. После убийства в Перл-Ривер она забрала меня на север, и ее отец, мой любимый дедушка, стал руководящей силой в моей жизни, но моя мать тоже стала играть в ней бо́льшую роль, когда я повзрослел. Иногда я думаю, что только после смерти отца она действительно нашла в сердце силы простить его и, возможно, меня за обстоятельства моего рождения. Постепенно мы становились ближе друг другу. Она говорила мне названия деревьев, растений и птиц, потому что это были ее края в северном штате, и хотя я до конца не ценил тогда те знания, что она пыталась передать, но, пожалуй, понимал, почему она хочет передать их мне. У нас обоих было горе, но она не давала мне потеряться в нем. И так каждый день мы гуляли вместе, независимо от погоды, и иногда разговаривали, а иногда нет, но нам хватало того, что мы были вместе и были живы. В те годы я стал ее сыном, и теперь каждый раз, когда я называю про себя дерево, или цветок, или маленькую букашку, это напоминает мне о ней.
* * *
Через неделю Элейн Паркер позвонила мужу, и они разговаривали целый час. Уиллу предоставили неоплачиваемый отпуск, санкционированный, к удивлению некоторых в окружном участке, заместителем комиссара по юридическим вопросам Фрэнком Манкузо. Уилл уехал на север к жене, а когда они вернулись в Нью-Йорк, то вернулись с ребенком и сказкой про тяжелые преждевременные роды. Ребенка они назвали Чарли в честь дядюшки его отца Чарльза Эдварда Паркера, который погиб при Монте-Кассино. Тайные друзья держались в отдалении, и прошло много лет, прежде чем Уилл услышал о них снова. А когда они дали о себе знать, то послали к нему Эпштейна, который рассказал ему, что то, чего они так долго боялись, нагрянуло снова.
Влюбленные вернулись.
Глава 21
У Микки Уоллеса было ощущение, что туман последовал за ним из Мэна. Волокна тумана проплывали мимо лица, реагируя на каждое движение, как живые, медленно принимая новую форму, прежде чем совсем уплыть прочь, как будто сама темнота колебалась вокруг, заключая его в свои объятия, пока он стоял перед маленьким домиком на Хобарт-стрит в Бэй-Ридж.
Бэй-Ридж был почти пригородом Бруклина, совсем по соседству. Первоначально его населяли в большинстве своем норвежцы, жившие там в XIX веке, когда место было известно как Йеллоу-Хук, а также греки и немногочисленные ирландцы, но открытие моста Верразано-Нэрроуз в 1970 году изменило его состав, люди стали переезжать на остров Статен-Айленд, и к началу девяностых годов XX века Бэй-Ридж стал постепенно превращаться в ближневосточный город. Мост господствовал над южным концом области, и Микки всегда ощущал, что он выглядит более реальным ночью, а не днем. Огни придавали мосту материальность, а днем, по контрасту, он выглядел нарисованной декорацией – серая масса, слишком большая для зданий и улиц внизу, как что-то нереальное.
Хобарт-стрит лежала между Марин-авеню и Шор-Роуд, где над парком Шор-Роуд высился ряд уступов – крутой трехъярусный склон, спускающийся к Белт-Парквэю и водам Нэрроуза. На первый взгляд Хобарт-стрит состоит словно из одних лишь многоквартирных домов, но на одной стороне был небольшой ряд особнячков на одну семью, и каждый отделялся от соседнего подъездной дорожкой. Только дом № 1219 имел признаки заброшенности и запущенности.
Туман напомнил Микки, что он пережил в Скарборо. А теперь он снова стоял перед домом, который считал пустым. Это был не его район, даже не его город, и все же он не чувствовал себя здесь инородным телом. В конце концов, это был ключевой элемент истории, которую он так долго отслеживал и которую уже скоро можно будет отдать в печать. Он стоял здесь много лет назад. Первый раз – после того, как жена и ребенок Чарли Паркера были найдены мертвыми, и их кровь была еще свежа на полу и стенах. Второй раз – когда Паркер нашел Странника, а репортеры получили концовку для своих статей и пытались напомнить обозревателям и читателям начало. На стенах и окнах тогда сияли огни, и соседи вышли на улицу посмотреть, близость к месту действия была хорошим индикатором их готовности поговорить или их желания ответить на вопросы о том, что здесь произошло. Даже те, кто не жил здесь в то время, имели собственное мнение, так как неосведомленность никогда не служила помехой для хорошей байки.
Но это было давно. Микки гадал, сколько человек теперь хотя бы помнят, что случилось за этими стенами, а потом сообразил, что тем, кто жил здесь во времена убийства и живет по-прежнему, трудно стереть из памяти случившееся. Некоторым образом дом требовал простить его прошлое. Это было всего лишь незанятое помещение на улице, и его внешний вид красноречиво говорил о его пустоте. Для знавших его историю было достаточно одного взгляда на него, самой его непохожести на остальные, чтобы вызвать воспоминания. Для них его стены всегда будут забрызганы кровью.
Исследовав документы, Микки обнаружил, что в годы после убийства в доме проживали три разных жильца, а в настоящий момент здание принадлежало банку, который получил права собственности, когда последние жильцы отказались выплачивать взносы за ипотеку. Ему было трудно представить, почему кому-то захотелось жить в доме, где произошло такое кровавое насилие. Правда, в первое время здание, вероятно, продавали значительно ниже рыночной стоимости, и те, кого наняли, чтобы отскрести все следы убийства, хорошо справились со своей задачей, но Микки был уверен, что что-нибудь да осталось – какие-то следы испытанных здесь мук. Физические? Да. В трещинах на полу могла остаться засохшая кровь. Ему говорили, что на месте преступления так и не был найден один ноготь с пальца Сьюзен Паркер. Сначала думали, что убийца забрал его на память, но теперь полагали, что он был содран, когда она цеплялась за половицы, и завалился между ними. Несмотря на повторные поиски, его так и не нашли. Вероятно, он где-то так и лежал среди пыли, мусора и потерянных монет.
Но Микки интересовала не физическая сторона. Он побывал на многих местах убийств и научился улавливать их атмосферу. Бывали такие места, где человек, не знающий заранее о совершенном здесь убийстве, не видел ничего необычного и не ощущал никакого беспокойства. В садах, где были похоронены убитые дети, росли цветы. Детская комната маленькой девочки, покрашенная в яркие оранжевый и желтый цвета, отгоняла все воспоминания о погибшей здесь старой женщине, задушенной во время неумелого ограбления, когда здесь еще была ее спальня. Новые пары занимались любовью в комнатах, где раньше мужья забивали насмерть своих жен или женщины были зарезаны во сне заезжими любовниками. Такие места не были загрязнены насилием, которое они видели.
Но бывали другие сады и другие дома, которые уже никогда не станут теми, что раньше, после пролитой в них крови. Люди чувствовали, что что-то здесь не так, как только ступали сюда. И не имело значения, что в доме было чисто, что за садом ухаживали, что дверь заново покрасили. Нет, здесь оставалось эхо, как затихающий предсмертный крик, и оно вызывало инстинктивный отклик. Иногда эхо было столь явственным, что даже разрушение здания и постройка другого, совсем не похожего на своего предшественника, не могли справиться с оставшимся зловещим воздействием. Микки как-то посетил жилой дом в Лонг-Айленде, построенный на месте здания, в котором сгорели пятеро детей и их мать, когда его поджег отец двоих из них. Старая дама, жившая на той же улице, сказала Микки, что в ночь, когда они погибли, пожарные слышали крики детей, звавших на помощь, но жар был так силен, что спасти их не удалось. Микки помнил, что в заново выстроенном доме пахло дымом и горелым мясом. Никто из жильцов не прожил там больше шести месяцев. В день, когда он осматривал его, все квартиры были свободны.
Возможно, потому-то дом Паркера и стоял до сих пор. Даже его снос ничего бы не изменил. Кровь пропитала его и землю под ним, и воздух наполняли сдавленные кляпом крики.
Микки никогда не был в доме № 1219 по Хобарт-стрит, но видел фотографии интерьера. Когда он стоял у ворот, у него были их распечатки. Их дал ему Тиррелл, занес утром в отель вместе с короткой запиской, в которой извинялся за некоторые слова, сказанные во время встречи. Микки не знал, откуда у Тиррелла эти фото, и предположил, что он, наверное, после увольнения из департамента завел собственное частное дело на Чарли Паркера. Микки сильно подозревал, что это было противозаконно, но не собирался жаловаться. Он посмотрел фотографии у себя в номере, и даже после всего, чего навидался будучи репортером, и несмотря на знание подробностей убийства Паркеров, они потрясли его.
Сколько там было крови!
Микки обратился в риелторскую контору, которой банк поручил разобраться с продажей этой недвижимости, и сказал отвечающей за это женщине, что хотел бы купить и отремонтировать этот дом. В телефонном разговоре она ничего не сказала про историю дома, чему вряд ли стоило удивляться, и изъявила готовность показать ему помещения. Но когда спросила его имя и он сказал, ее тон изменился.
– Не думаю, что мне стоит показывать вам эту недвижимость, сэр, – сказала она.
– Могу я спросить почему?
– Думаю, вы сами знаете почему. Я не верю, что вы всерьез собираетесь ее купить.
– Как это понимать?
– Видите ли, мы знаем, кто вы такой и чем занимаетесь. Я не думаю, что показ вам помещения поможет его продать.
Микки повесил трубку. Ему следовало это учесть, прежде чем называть настоящее имя, но он не ожидал, что Паркер помешает ему таким образом. Микки думал, что это Паркер позвонил риелтору, но потом вспомнил предположение Тиррелла, что у Паркера есть покровители. Если это правда, то риелтора мог предупредить о деятельности Уоллеса кто-то неизвестный. Однако это не имело значения. Следуя своим целям, Микки был готов слегка обойти закон, и проникновение в старый дом Паркера не казалось ему тяжким преступлением, что бы ни сказал об этом какой-нибудь судья.
Он был почти уверен, что в доме нет сигнализации. Помещение слишком долго пустовало, и он не думал, что риелтор хочет, чтобы его будили среди ночи из-за срабатывания сигнализации в пустом доме. Убедившись, что на улице никого нет, Микки подошел к воротам сбоку от дома, за которыми увидел лишенный зелени двор. Он попробовал открыть их, они не шевельнулись. На мгновение ему показалось, что они заперты, но не было видно никакого запора, если только они не были заварены. Он нажал ручку и одновременно навалился всем весом на ворота. Они поддались, металлическая ручка задела бетонный столб, и ворота открылись. Микки вошел и закрыл их за собой, потом свернул за угол дома, чтобы его не было видно с улицы.
Задняя дверь имела два замка, но дерево отсырело и прогнило. Он поковырял его ногтем, и на землю упали деревянные крошки. Микки достал из-под пальто фомку и начал работать. Через несколько минут он проделал щель достаточного размера, чтобы добраться до верхнего замка. Тогда он засунул туда как можно глубже фомку и надавил вверх и в сторону. Послышался треск, и замок сломался. Он перешел ко второму замку. Дверная рама быстро треснула, и засов проломился через дерево.
Микки встал на пороге и осмотрел кухню. Здесь все и произошло. Это было место, где родился Паркер – Паркер-мститель, Паркер-охотник, Паркер-палач. До смерти своих жены и дочери он был просто еще одним чуваком с улицы: копом, но не очень хорошим; отцом и мужем, но и в этих ролях был не очень хорош; пьяницей – он не столько пил, чтобы стать алкоголиком, пока еще нет, но достаточно, чтобы в ближайшие годы выпивать все раньше, чтобы в конце концов уже начинать, а не заканчивать день выпивкой; никчемный человек, существо без цели в жизни. Потом, в одну декабрьскую ночь, на сцену вышла тварь, известная под кличкой Странник, и лишила жизни женщину и ребенка, в то время как мужчина, который должен бы был их защитить, сидел в баре, жалея себя.
Эти смерти дали ему цель в жизни. Сначала это была месть, но она высвободила нечто более глубинное, более любопытное. Одно желание отомстить уничтожило бы его, съело, как раковая опухоль, так что даже когда он нашел бы выход тому, чего жаждал, болезнь уже поселилась бы в его душе, постепенно зачерняя его человечность, пока, сморщившись и прогнив, та не пропала бы навсегда. Нет, Паркер нашел более высокую цель. Это был не тот человек, который легко отворачивается от страданий других, потому что в глубине себя он ощущал те же страдания. Его терзало сопереживание. Более того, он стал магнитом для зла, или было бы правильнее сказать, что осколки зла внутри него самого резонировали в присутствии еще большей мерзости и влекли его к ней, а ее к нему.
Все это родилось от пролитой здесь крови.
Микки закрыл дверь, включил свой фонарик и прошел через кухню, не глядя ни вправо, ни влево, не запоминая ничего, что видел. Он хотел совершить визит в эту комнату, как раньше это сделал Странник. Ему хотелось пройти путем убийцы, увидеть этот дом так, как видел его убийца и как видел Паркер в ту ночь, когда вернулся домой и нашел то, что осталось от жены и ребенка.
Странник вошел через переднюю дверь. Не было никаких следов взлома. Сейчас прихожая была пуста. Микки сравнил ее с первой из взятых с собой фотографий. Он аккуратно сложил их, пронумеровав с обратной стороны на случай, если рассыплет. На первой была прихожая, какой она была когда-то: справа книжный шкаф и вешалка. На полу подставка красного дерева для цветов, а рядом разбитый горшок и какое-то растение с оголенными корнями. За растением нижняя ступенька лестницы, ведущей на второй этаж. Там три спальни, одна из них не больше чулана, и маленькая ванная. Микки пока не хотел подниматься туда. Когда убийца вошел, трехлетняя Дженнифер Паркер спала на кушетке в гостиной. У нее было слабое сердце, и это спасло ее от мучений. Между временем, когда убийца вошел и когда вышел, она испытала сильный выброс адреналина в организм, что вызвало фибрилляцию сердечного желудочка. Иными словами, Дженнифер Паркер умерла от испуга.
Ее матери повезло меньше. Она боролась, вероятно, около кухни. Ей удалось вырваться от нападавшего, но только на время. Он догнал ее в прихожей и оглушил, ударив лицом о стену. Микки перешел к следующей фотографии: кровавое пятно на стене слева от него. Он нашел это место и провел по нему рукой. Потом опустился на колени и осмотрел половицы, водя рукой по дереву, как делала Сьюзен Паркер, когда ее волокли назад в кухню. Прихожая была лишь частично застелена половиком, оставляя открытыми половицы по бокам. Где-то здесь Сьюзен и потеряла ноготь.
Была ее дочь уже мертва тогда, или вид оглушенной и окровавленной матери вызвал сердечный приступ, приведший к смерти? Может быть, она пыталась спасти мать. Да, вероятно, так и было, подумал Микки, уже складывая самый подходящий рассказ, самую захватывающую версию, какую мог найти. На запястьях и лодыжках девочки остались следы веревки, и это говорило, что на каком-то этапе ее связали. Она проснулась, поняла, что происходит, и начала кричать и сопротивляться. Убийца ее ударил, сбил на пол, и повреждение было зафиксировано в акте вскрытия. Утихомирив мать, убийца связал дочь, но к тому времени девочка уже умирала. Микки заглянул в гостиную, где теперь была только пыль, бумажный мусор и дохлые насекомые. Еще одна фотография, на этот раз кушетки. На ней лежала кукла, прикрытая одеялом.
Микки двинулся дальше, пытаясь воссоздать картину, которую увидел Паркер. Кровь на стенах, прикрытая дверь в кухню; в доме холодно. Он глубоко вздохнул и обратился к последней фотографии: Сьюзен Паркер в сосновом кресле, руки связаны за спиной, ноги привязаны к передним ножкам, голова опущена, лицо скрыто под волосами, так что повреждений лица и глаз в этом ракурсе не видно. Дочь лежит у матери на коленях. На ней не много крови. Убийца перерезал девочке горло, как и ее матери, но к тому времени Дженнифер уже была мертва. Легкое сияние сквозь что-то, напоминавшее тонкую накидку, лежащую на предплечьях Сьюзен Паркер, но Микки знал, что это ее собственная содранная кожа, довершающая жуткую композицию пьета[7].
С ясным образом в голове Микки открыл дверь в кухню, готовый наложить старое видение на пустую комнату.
Только сейчас комната была не пуста. Задняя дверь была приоткрыта, и в сумерках за ней стояла фигура, наблюдающая за ним.
Микки от неожиданности попятился и инстинктивно схватился за сердце.
– Боже! Что…
Фигура двинулась вперед, и на нее упал лунный свет.
– Минутку, – проговорил Микки, еще не осознав, что последние песчинки его жизни сыплются сквозь пальцы. – Я вас знаю…
Глава 22
Джимми перешел к кофе, подкрепленному рюмкой бренди. Я предпочел просто кофе, да и к нему едва прикоснулся. Я пытался разобраться в своих чувствах, но сначала ощутил лишь онемение, которое постепенно сменилось чем-то вроде печали и чувства одиночества. Я думал о том, что пришлось перенести моим родителям, о лжи и измене отца и боли матери. Теперь я сожалел лишь о том, что их больше не было со мной, что я не могу пойти к ним и сказать, что я все понял и что все в порядке. Если бы они были живы и вместе рассказали мне об обстоятельствах моего рождения, я думаю, что полученные от них подробности было бы перенести труднее, и моя реакция была бы более бурной. Сидя у Джимми на кухне при свечах и глядя на его окрашенные вином губы, я чувствовал, что слушаю историю чужой жизни, историю жизни человека, с которым имею кое-что общее, но который в конечном счете был далек от меня.
C каждым произнесенным словом Джимми словно все больше успокаивался, но также и как будто старел, хотя я понимал, что это лишь игра света. Он жил, чтобы быть хранилищем тайн, а теперь они, наконец, просочились из него, и вместе с ними выходила часть его жизненной силы.
Он пригубил свое бренди.
– Собственно говоря, рассказывать больше особенно не о чем…
Особенно не о чем. Только про последний день моего отца, о пролитой им крови и причинах, зачем он это сделал.
Особенно не о чем. Всего лишь обо всем.
* * *
После того как Уилл и Элейн вернулись из Мэна с новым ребенком, Джимми и Уилл держались на расстоянии друг от друга и больше никому не говорили о том, что знают.
Потом одной декабрьской ночью Джимми и Уилл вместе напились в «Чамли и Белой лошади», и Уилл поблагодарил Джимми за все, что тот сделал, за его верность и дружбу и за то, что он убил ту женщину, которая лишила жизни Каролину.
– Думаешь о ней? – спросил Джимми.
– О Каролине?
– Да.
– Иногда. Чаще, чем иногда.
– Ты ее любил?
– Не знаю. Если бы не любил, знал бы. А это важно?
– Так же, как и все остальное. Ты когда-нибудь был у нее на могиле?
– Всего пару раз после похорон.
Джимми вспомнил похороны в тихом уголке Бэйсайдского кладбища. Каролина говорила Уиллу, что у нее не хватало времени на организованную религию. Ее родственники были протестанты какого-то толка, потому они нашли священника, который сказал правильные слова, когда ее и ребенка опускали в одну могилу. При этом присутствовали только Уилл, Джимми и Эпштейн. Раввин сказал им, что младенца взяли в одной из городских больниц. Его мать была наркоманка, и мальчик прожил всего два часа после рождения. Мать не взволновало, что ее ребенок умер, а если взволновало, то она этого не показала. Взволнует потом, полагал Джимми. Он не мог допустить, что женщина, как бы ни была больна или обдолбана, осталась равнодушна к смерти своего ребенка. Роды Элейн были осторожно простимулированы, когда она была в Мэне. Там не было официальных похорон. После того как она приняла решение остаться с Уиллом и защитить ребенка, вырезанного из Каролины Карр, Эпштейн поговорил с ней по телефону и дал понять, насколько важно, чтобы все считали, что этот ребенок ее собственный. Ей дали время для скорби по ее младенцу, дали покачать на руках маленькое мертвое тельце, а потом взяли у нее.
– Я бы ходил чаще, но это нервирует Эпштейна, – сказал Уилл.
«Еще бы», – подумал Джимми. Он вообще не понимал, как брак сохранился, но по случайным намекам Уилла был совершенно уверен, что сохранится впредь. И после этого его уважение к Элейн Паркер только возросло. Он не мог даже представить себе, какие чувства она испытывала, когда смотрела на мужа и ребенка, которого воспитывала как своего. И гадал, может ли она еще различать любовь и ненависть.
– Я всегда приношу два букета цветов, – продолжал Уилл. – Один Каролине и один ребенку, которого похоронили с ней. Эпштейн сказал, что это важно. На всякий случай должно быть похоже, что я скорблю по обоим.
– На какой всякий случай?
– На случай, если кто-то следит.
– Они умерли, – сказал Джимми. – Ты видел, как оба умерли.
– Эпштейн считает, что могут быть другие. Хуже того…
Он замолчал.
– Что может быть хуже? – спросил Джимми.
– Что каким-то образом они могут вернуться.
– Что значит «вернуться»?
– Не важно. Фантазии раввина.
– Боже. Фантазии – это хорошо.
Джимми протянул руку, чтобы налить еще.
– А женщина, которую я застрелил? Что с ней сделали?
– Ее тело сожгли, и пепел развеяли. Знаешь, я бы хотел провести с ней минутку, прежде чем она умерла.
– Чтобы спросить зачем?
– Да.
– Она бы ничего тебе не сказала. Я видел это по ее глазам. И…
– И что?
– Это покажется странным.
– Что?
– Она не боялась умереть.
– Она была фанатичка. Фанатики слишком безумны, чтобы бояться.
– Нет, тут было нечто большее. Перед выстрелом мне показалось, что она улыбнулась мне, словно для нее это не важно, убью я ее или нет. И эти слова «выше ваших законов». Боже, у меня от нее пошли мурашки по коже.
– Она была уверена, что сделала то, что должна была сделать. Она полагала, что Каролина и ее ребенок мертвы.
Джимми нахмурился.
– Может быть, – сказал он, но это прозвучало так, будто он не очень верит в это, и пытался угадать, что Эпштейн рассказал Уиллу насчет того, будто они могут вернуться, но не мог догадаться, что это означает, а Уилл не говорил ему.
В последующие годы они мало говорили между собой на эту тему. Эпштейн не общался с Уиллом и Джимми, хотя Уиллу казалось, что он иногда видел раввина, когда вывозил семью в город, чтобы походить по магазинам или сходить в кино, или на какое-нибудь шоу. Эпштейн в таких случаях никогда не подходил к ним, и Уилл к нему тоже, но у него было чувство, что Эпштейн, лично и через других, присматривает за ним, его женой и особенно за сыном.
С большой неохотой Уилл рассказывал Джимми о своих отношениях с женой. Его измена оставила на них отпечаток, и он знал, что этот отпечаток останется навеки, но, по крайней мере, он и Элейн остались вместе. Однако бывали времена, когда жена отдалялась от него, как эмоционально, так и физически, на несколько недель подряд. Ей было очень трудно с их сыном или, как она бросала Уиллу, когда ее ярость и боль брали верх, «твоим сыном». Но постепенно это начало меняться, потому что мальчик не знал другой матери, кроме нее. Уилл думал, что поворотный момент случился, когда Чарли, которому тогда было восемь лет, сбила машина. Чарли поблизости осваивал свой новый велосипед, а Элейн была во дворе и увидела, как машина сбила велосипед, и мальчик взлетел в воздух и тяжело шлепнулся на дорогу. Бросившись к нему, она услышала, как он зовет ее – не отца, к которому он обращался по столь многим поводам, а ее. Он получил сложный перелом левой руки – она увидела это, как только подбежала, – и из раны на голове текла кровь. Он силился не потерять сознание и что-то говорил ей, как ему важно оставаться с ней, и потому не закрывал глаза. Она снова и снова звала его по имени и, взяв у водителя машины пальто, подложила ему под голову. Она плакала, и он видел, что она плачет.
– Мамочка, – тихо сказал мальчик, – мамочка, прости меня.
– Нет, – ответила она, – это ты прости меня. Это моя вина, а ты ни в чем не виноват.
И она осталась с ним, стояла над ним на коленях, шепча его имя и рукой поглаживая по лицу. Она сидела рядом с ним в машине «Скорой помощи» и сидела за дверью, когда ему делали операцию – зашивали рану на голове и вправляли руку. Ее лицо он увидел первым, когда его вывезли из операционной.
После этого отношения между ними улучшились.
– Тебе рассказал это отец?
– Нет, – ответил Джимми, – это рассказала мне она, когда он умер. Она сказала, что от него у нее остался только ты, но она любила тебя не потому. Она тебя любила, потому что ты был ее ребенок. Ты не знал другой матери, кроме нее, а у нее не было другого ребенка, кроме тебя. Она говорила, что иногда забывала об этом или не хотела в это верить, но со временем поняла, что это правда.
Он встал, чтобы сходить в туалет. Я остался сидеть, думая о матери и ее последних днях. Я вспоминал, как она, сильно изменившаяся, лежала на больничной койке. Болезнь так ее преобразила, что, впервые войдя в палату, я не узнал ее и решил, что медсестра ошиблась, направив меня сюда по коридору. Но потом она пошевелилась во сне, приподняла правую руку, и даже в болезни это движение было так мне знакомо, что я сразу понял, что это она. В последующие дни, когда я ожидал ее смерти, она лишь на несколько часов пришла в себя. Голос у нее почти совсем пропал, и, похоже, ей было больно говорить, поэтому я читал ей свои сочинения, написанные в колледже: стихи, рассказы, – и газетные новости, которые, я знал, ее заинтересуют. Приехал ее отец из Скарборо, и мы разговаривали с ним, пока она дремала между нами.
Думала ли она, чувствуя, как темнота застилает ее сознание, подобно чернилам в воде, что, может быть, следует рассказать мне то, что она скрывала? Я уверен, она думала об этом, но теперь понимаю, почему не сказала. Наверное, она велела и моему деду ничего не говорить, так как боялась, что если я узнаю правду, то начну раскапывать дальше.
А если начну раскапывать, привлеку их к себе.
Джимми пошел в туалет, а когда вернулся, я увидел, что он сполоснул водой лицо и не вытерся до конца, и капли воды казались слезами.
– В ту последнюю ночь… – начал он.
Они вместе, Джимми и Уилл, отмечали день рождения Джимми. Кое-что в Девятом изменилось, во многом он остался прежним. Были галереи, где некогда находились забегаловки и заброшенные дома и где на пустых фасадах показывали сомнительные подпольные фильмы, которые теперь крутят в авангардистских кинотеатрах. Много старых мест еще существовало, хотя их время скоро подойдет к концу, и некоторые из них оставят о себе лишь туманные воспоминания. На углу Второй и Пятой в Бинибоне еще подавали куриный салат, но теперь люди смотрят на Бинибон и вспоминают, как в 1981 году одним из его посетителей был Джек Генри Эбботт, бывший заключенный, которого защищал Норман Мейлер, боровшийся за его освобождение. Как-то раз Эбботт повздорил с официантом, попросившим его отойти в сторону, и зарезал его. Джимми и Уилл были среди тех, кто подчищал последствия; эти двое, как и округ, в котором они работали, изменились, но были все те же, изменились внешне, но по-прежнему носили форму. Они так и не стали сержантами – и не станут. Это была цена, которую они заплатили за то, что произошло в ночь смерти Каролины Карр.
Впрочем, они по-прежнему были хорошими копами, опорой города наравне с транспортными работниками и агентами по недвижимости. Копами, работавшими на совесть, напряженно борясь с апатией, которая заразила правоохранительные органы, где распространилось мнение, что начальство в Паззл-Пэлис, как нижние чины называли дом по адресу Полис-Плаза, только вредит им. И в этом была доля правды. Захвати слишком много партий наркотиков, и начальство начнет придираться к тебе по любому поводу. Произведи слишком много арестов, и, поскольку совершение многих формальностей для доведения дел до суда требует оплаты сверхурочных, тебя обвинят в том, что ты залезаешь в карман другим копам. Лучше не высовываться, пока не отслужишь двадцать лет, чтобы уйти на пенсию. В результате теперь все меньше и меньше копов старшего возраста становились наставниками новичков. Джимми и Уилла, благодаря их многолетней службе в полиции, считали старшими. Они стали частью антикриминального подразделения в штатском – опасное назначение, которое означало патрулирование районов с высокой преступностью в ожидании признаков, что сейчас что-то начнется, как правило, со стрельбой. И впервые оба серьезно заговорили об увольнении.
Им как-то удалось найти тихий уголок подальше от остальных, отсечь себя от шумной толпы мужчин и женщин в деловых костюмах, празднующих повышение. После той ночи Уилл Паркер будет мертв, а Джимми Галлахер никогда снова не зайдет к Кэлу. После смерти Уилла он обнаружил, что не может вспомнить, как хорошо проводил здесь время. То время исчезло, стерлось из памяти. Вместо этого в памяти был только Уилл с каким-то холодным типом рядом; он поднял руку, чтобы указать на Джимми, который останется навеки безмолвным, и выражение его лица меняется, когда он смотрит Джимми за спину и видит, кто входит в бар. Джимми тогда обернулся и увидел, на кого он смотрит, но Эпштейн уже встал рядом, и Джимми понял, что происходит что-то непредвиденное.
– Тебе надо пойти домой, – сказал Эпштейн Уиллу. Он улыбался, но слова выдавали лживость улыбки, и он не смотрел на Уилла, говоря это. Случайному наблюдателю показалось бы, что он осматривает бутылки за стойкой и высматривает, где бы сесть, прежде чем присоединиться к компании. На нем был застегнутый на все пуговицы белый плащ, а на голове коричневая шляпа с красным пером за лентой. Он здорово постарел с тех пор, как Джимми видел его на похоронах Каролины Карр.
– Что-то не так? – спросил Уилл. – Что случилось?
– Не здесь, – сказал Эпштейн, когда его подтолкнул Перссон, большой швед, на котором держалось все это заведение. Был вечер четверга, и в заведении у Кэла стоял шум. Перссон, возвышавшийся над всеми в баре, передавал бокалы через головы стоявших сзади и иногда случайно окроплял посетителей.
– Благослови тебя бог, сын мой, – проговорил он, когда кто-то начал возмущаться, и сам захохотал над своей шуткой, а потом узнал Джимми.
– Эй, да это же парень, у которого день рождения!
Но Джимми уже протискивался мимо него, следуя за другим мужчиной, и Перссону показалось, что это был Уилл Паркер, но потом, когда его будут допрашивать, он скажет, что обознался или перепутал время. Возможно, он видел Джимми позднее, и Уилла Паркера не могло быть с ним, потому что Уилл уже отправился в Перл-Ривер.
На улице было холодно. Трое вышедших от Кэла засунули руки поглубже в карманы и направились прочь от бара, от полицейского участка, от знакомых лиц и любопытных взглядов и не останавливались, пока не дошли до угла св. Марка.
– Помните Франклина? – спросил Эпштейн. – Он был директором Герритсеновской клиники. Два года назад он вышел на пенсию.
Уилл кивнул. Он помнил обеспокоенного человека в маленьком кабинете, участника заговора молчания, которого так до конца и не понимал.
– Вчера ночью он был убит у себя дома. Кто-то страшно его изрезал, чтобы перед смертью заставить говорить.
– Почему вы думаете, что это как-то связано с нами?
– Сосед видел парня и девушку, выходящих из дома после одиннадцати. По его словам, это были подростки. Приехали на красном «Форде». Сегодня утром кабинет доктора Бергмана в Перл-Ривер был взломан. Доктор Бергман, полагаю, следит за здоровьем вашей семьи. Рядом стоял красный «Форд». На нем были номера другого штата, Алабамы. Доктор Бергман и его секретарша пытались выяснить, что пропало, но ящики с лекарствами остались нетронутыми. Проникшие в кабинет рылись в медицинских карточках. Среди пропавших были карточки вашей семьи. Каким-то образом эти двое связали одно с другим. Мы замели следы не так хорошо, как думали.
Уилл побледнел, но все еще пытался спорить.
– Это бессмысленно. Кто эти подростки?
Эпштейн ответил не сразу.
– Это те же люди, что шестнадцать лет назад охотились за Каролиной Карр.
– Нет, – вмешался Джимми Галлахер. – Чепуха. Те умерли. Одного задавил грузовик, а вторую я сам застрелил. Я видел, как ее тело вытаскивали из залива. И даже если они остались живы, им бы уже было теперь за сорок, а то и за пятьдесят. Они бы не были детьми.
Эпштейн повернулся к нему.
– Они не дети! Они… – Он взял себя в руки. – Что-то внутри них, что-то гораздо старше. Оно не умирает. Они не могут умереть. Они переходят из одного организма в другой. Если организм умирает, они находят другой. Они возрождаются вновь и вновь.
– Вы с ума сошли, – сказал Джимми. – Вы не в своем уме.
Он повернулся к своему напарнику за поддержкой, но не нашел ее. Уилл выглядел напуганным.
– Господи, ты же не веришь в это, а? – спросил его Джимми. – Это не могут быть те же самые. Это просто невозможно.
– Не важно, – сказал Уилл. – Они здесь, кто бы это ни был. Франклин сказал им, как скрыли смерть младенца. У меня сын того же возраста, как тот, который якобы умер. Они сопоставили, а медицинские карточки подтвердили это. Он прав: мне надо спешить домой.
– Наши люди тоже их разыскивают, – сказал Эпштейн. – Я кое-кому позвонил. Мы действуем быстро, как только можем, но…
– Я поеду с тобой, – сказал Джимми.
– Нет. Возвращайся к Кэлу.
– Почему?
Уилл схватил Джимми за локоть и посмотрел ему в лицо.
– Потому что я хочу положить этому конец. Понимаешь? И не хочу, чтобы ты в это вляпался. Ты должен остаться не замаранным. Мне нужно, чтобы ты остался не замаранным. – Тут он что-то вспомнил и сказал: – Твой племянник. Сын Мэри. Он все еще служит в оранджтаунской полиции, верно?
– Да, там. Впрочем, не думаю, что он дежурит допоздна.
– Можешь ему позвонить? Просто попроси прийти к нам и немного побыть с Элейн и Чарли. Не говори зачем. Просто придумай какой-нибудь предлог, якобы бывший заключенный затаил злобу. Можешь это сделать? Он может?
– Он это сделает, – сказал Джимми.
Эпштейн протянул Уиллу связку ключей от машины.
– Возьмите мою машину. – Он указал на старый «Крайслер» неподалеку. Уилл кивнул в знак благодарности и собрался уходить, но Эпштейн схватил его за локоть и задержал.
– Не пытайтесь их убить. Только если не останется другого выхода.
Джимми видел, как Уилл кивнул, но глаза его смотрели куда-то вдаль. И тогда Джимми понял, что он задумал.
Эпштейн пошел в направлении подземки, а Джимми из телефонной будки позвонил племяннику. Потом он пошел к Кэлу, где выпил и немного поболтал, но его ум как бы отделился от тела, и язык говорил сам по себе. Джимми оставался там, пока не пришло известие, что Уилл Паркер застрелил в Перл-Ривер двух подростков и находится в раздевалке в Девятом участке, что он в слезах и ждет, когда придут его арестовать.
А когда его спросили, зачем он поехал обратно в Нью-Йорк, он смог лишь ответить, что хотел быть среди своих.
Глава 23
Конечно, он мог отправиться к своим друзьям-копам, но что бы он сказал им? Что двое подростков пришли убить его сына; что эти двое подростков были оболочками других существ, злых духов, которые уже убили мать его сына, а теперь вернулись убить ее ребенка? Возможно, он бы мог придумать какую-нибудь байку, как они угрожали его семье, или мог бы скормить им информацию, что машину, похожую на их, видели около офиса директора клиники после убийства, когда парень и девушка в ту ночь выскользнули из того здания. Этого могло быть достаточно, чтобы их задержать, но он не хотел их просто задерживать, он хотел, чтобы они исчезли навсегда.
Предупреждение раввина, чтобы он не убивал их, не осталось незамеченным. Но оно просто сломало что-то в нем. Раньше он думал, что может справиться со всем – с убийством, с утратой, с ребенком, задохнувшимся под кучей пальто, – но теперь не был уверен, что это так. Он не хотел верить тому, что сказал ему раввин, потому что это означало бы отбросить всю уверенность в окружающем мире. Уилл мог допустить, что кто-то, какая-то еще неизвестная организация, хочет смерти его сына. Это было жуткое намерение, и он не мог его понять, но он мог иметь с этим дело, если ее агенты были люди. В конце концов, не было никаких доказательств, что предположения раввина были правдой. Мужчина и женщина, охотившиеся за Каролиной, были мертвы. Он видел, как они оба умерли и осматривал их тела после смерти.
Но они были какие-то не такие, верно? Мертвые всегда не такие: они как-то меньше, словно съеживаются. Их лица изменяются, тела разрушаются. За годы он убедился в существовании человеческой души, хотя бы потому, что он был свидетелем чего-то недостающего в телах умерших. Что-то отлетало в момент смерти, изменяя оставшееся, и свидетельством, что оно отсутствует, было изменение внешности мертвых.
И все же, все же…
Он снова подумал о той женщине. Перед смертью она получила меньше повреждений, чем мужчина. Колеса грузовика сделали его неузнаваемым, а она осталась физически целой, если не считать дырок, проделанных пулями Джимми, они все попали в верхнюю часть туловища. Взглянув на ее лицо, когда ее вытащили из воды, Паркер удивился произошедшей в ней перемене. Жестокость, оживлявшая ее черты, ушла, но, кроме того, ее взгляд казался мягче, как будто ее кости затупились, острые края удалили из скул, носа и подбородка. Несовершенная маска, так долго покрывавшая ее лицо, которая основывалась на ее собственной внешности, все-таки чуточку изменилась, спала, распалась в холодной воде залива. Он тогда посмотрел на Джимми и увидел ту же реакцию. Правда, в отличие от него, Джимми произнес это вслух.
– Это даже не похоже на нее, – сказал он тогда. – Я вижу раны, но это не она…
Свидетели всей сцены посмотрели на него в недоумении, но ничего не сказали. Они знали, что разные копы по-разному относятся к своему участию в стрельбе, причинившей смерть. Им казалось неуместно это комментировать.
Да, что-то покинуло ее, когда она умерла, но Уилл не верил – или не хотел верить, – что это что-то вернется снова.
И вот, пока племянник Джимми Галлахера охранял сына Уилла, сам Уилл объехал Перл-Ривер, останавливаясь на перекрестках, чтобы посмотреть вдоль пересекающихся улиц, освещая фонариком темные машины на стоянках, притормаживая, чтобы рассмотреть молодые парочки, заставляя их оглянуться на него, так как был уверен, что по глазам узнает тех, кто пришел за его сыном.
Возможно, ему было суждено найти их. В последующие часы он задумается, не поджидали ли они его, зная, что он придет, и в уверенности, что ничего не сможет предпринять против них. Он не знал их в лицо, и даже если раввин предупреждал его об их истинной природе, разве кто-нибудь по-настоящему поверит в такое?
А со временем кто-то придет и к Эпштейну. Раввин не был их целью. Это останется для кого-то другого. Раввин может подождать…
Итак, они не двигались, когда его фонарик высветил их на пустыре неподалеку от его дома. Они видели, как другой человек, большой, рыжеволосый, вошел в дом, и заметили пистолет у него в руке. Теперь они знали, где находится мальчик, и выяснили точно, кто его родители. Их задачей было добраться до него и завершить то, что им надлежало сделать много лет назад. Но если поспешить и совершить ошибку, они потеряют его снова. Рыжеволосый был вооружен, а им не хотелось умирать, ни поодиночке, ни вместе. Они слишком долго были разлучены, но все равно любили друг друга. На этот раз усилий, чтобы воссоединиться, было затрачено меньше, чем раньше, но предыдущая разлука принесла много страданий. Мальчика выследил другой, существо по имени Киттим, который нашептал мерзкие слова юноше на ухо, и тот понял, что это правда. Он отправился на север и с помощью Киттима своевременно нашел девушку. Теперь они горели страстью друг к другу, наслаждаясь своей телесностью. Когда мальчик умрет, они смогут исчезнуть и остаться вместе навсегда. Только нужно соблюдать осторожность. Они не хотели рисковать.
И вот к ним приближался отец мальчика, они сразу его узнали. Любопытно, подумала девушка: прошлый раз она видела его в момент своей смерти. А теперь вот он, постаревший и поседевший, усталый и слабый. Она улыбнулась про себя, потом нагнулась и схватила юношу за руку. Он обернулся к ней, и она увидела в его глазах вечность желания.
– Я люблю тебя, – прошептала она.
– И я люблю тебя, – ответил он.
Уилл вышел из машины. В руке у него был револьвер, он держал его у правого бедра. Уилл посветил фонариком в машину, и юноша прикрыл глаза рукой.
– Эй, мужик, – сказал он, – зачем так светить?
Уиллу показалось что-то смутно знакомое в его внешности. Он был откуда-то из Роклендского округа, в этом Уилл не сомневался, хотя прибыл недавно. Он что-то припоминал о несовершеннолетнем правонарушителе – может быть, когда приезжал в Оранджтаун к местным копам.
– Держите руки так, чтобы я мог их видеть, оба.
Они повиновались. Юноша оперся ладонями на руль, девушка положила свои наманикюренные ногти на приборный щиток.
– Права и регистрация, – потребовал Уилл.
– Эй, ты коп? – спросил юноша. Он лениво растягивал слова и ухмылялся, давая Паркеру понять, что все это маскарад, фарс. – Может быть, сначала ты покажешь свое удостоверение?
– Заткнись. Права и регистрация.
– За козырьком.
– Достань медленно левой рукой.
Юноша пожал плечами и, как было велено, достал права и протянул их копу.
– Алабама. Далековато от дома ты заехал.
– Я всегда был далеко от дома.
– Сколько тебе лет?
– Шестнадцать. И потом, некоторые…
Уилл уставился на него, увидев темноту в его глазах.
– Что вы тут делаете?
– Сидим. Проводим время с моей лучшей на свете девушкой.
Девушка хихикнула, но это не прозвучало приятно. Паркеру показалось, что звук похож на бульканье горшка в старой печи, как нечто, способное обжечь, если прикоснешься.
Он шагнул назад.
– Выйдите из машины.
– Зачем? Мы не сделали ничего плохого. – Тон юноши изменился, и Паркер заметил, как в нем проявился взрослый мужчина. – Кроме того, ты нам не показал свое удостоверение. Может быть, никакой ты не коп. Может быть, ты вор или насильник. Мы не выйдем, пока я не увижу твой значок.
Юноша заметил, как фонарик покачнулся, и понял, что коп засомневался. У него были подозрения, но не достаточные, чтобы действовать, и юноше доставляло удовольствие подзуживать его, хотя и не такое, как доставил бы намек, что он не сможет спасти своего сына от смерти.
Но тут заговорила девушка и решила их судьбу.
– Ну, что вы собираетесь делать, офицер Паркер? – проговорила она, хихикнув.
На мгновение повисла тишина, и юноша понял, что его подруга совершила ужасную ошибку.
– Откуда тебе известна моя фамилия?
Девушка больше не хихикала. Юноша облизнул губы. Может быть, ситуацию еще можно спасти.
– Догадываюсь, что кто-то навел вас на нас. Вокруг множество копов. Парень назвал мне их фамилии.
– Какой парень?
– Которого мы встретили. В этом городке люди приветливы к приезжим. Вот как я узнала, кто вы.
Парень снова облизнул губы.
– А я знаю, кто вы, – сказал Паркер.
Юноша уставился на него и преобразился. В нем появилась подростковая внутренняя ярость, неспособность владеть собой во взрослой ситуации. Теперь, когда этот коп бросил вызов, что-то старое внутри мгновенно проявилось, нечто из пепла и огня и обгоревшей плоти, нечто из запредельной красоты и неограниченного безобразия.
– Пошел ты на хрен, плевали мы на тебя и твоего сына, – сказал юноша. – Ты представления не имеешь, кто мы.
Он слегка повернул запястье, и в луче фонарика Уилл увидел символ у него на руке.
И в это мгновение все, что было сломано в Уилле Паркере, распалось навсегда, и он понял, что больше не может терпеть. Его первая пуля попала юноше чуть выше правого глаза и, выйдя из затылка, застряла в спинке заднего сиденья среди крови, волос и мозгов. Во втором выстреле не было нужды, но Уилл все же выстрелил еще раз. Девушка открыла рот и закричала. Она нагнулась к своему любимому и обняла его разбитую голову, а потом обратила взор на того, кто снова отнял его у нее.
– Мы вернемся, – прошептала она. – Мы будем возвращаться, пока дело не будет сделано.
Уилл ничего не сказал. Он просто опустил револьвер и выстрелил ей в грудь.
Когда она умерла, он вернулся к своей машине и положил револьвер на капот. В соседних домах светились окна, и он увидел стоящего во дворе человека, который смотрел на две машины на пустыре. Уилл ощутил соленый вкус на губах, и ему показалось, что он заплакал, но потом появилась боль, и он понял, что прикусил язык.
Ошеломленный, он сел в машину и поехал. Проезжая мимо человека во дворе, он увидел, что свидетель узнал его, но ему было все равно. Он даже не знал, куда едет, пока впереди не показались огни Нью-Йорка, и тогда понял.
Он ехал домой.
Когда его привезли обратно в Оранджтаун, то допрашивали бо́льшую часть ночи. Ему сказали, что он попал в серьезную беду, покинув место происшествия, и в ответ он сказал самое простое, что мог придумать: идя домой, он увидел на пустыре машину, а на перекрестке его предупредил о ней человек, имени которого он не знает. Машина посигналила фарами, и ему показалось, что он услышал клаксон. Он остановился, чтобы проверить, все ли в порядке. Парень спровоцировал его, притворившись, что сейчас достанет что-то из кармана пиджака – возможно, оружие. Уилл предупредил его, а потом открыл стрельбу и убил обоих. После того как он третий раз рассказал эту историю, Козелек, следователь из службы Роклендского окружного прокурора, попросил оставить их наедине, и остальные копы, местные и из департамента внутренних расследований, вышли. Когда они ушли, Козелек остановил магнитофонную запись и закурил. Он предложил Уиллу сигарету, от которой отказался еще раньше, во время допроса.
– Вы ездили на своей машине? – спросил Козелек.
– Нет, взял у друга.
– Какого друга?
– Не важно. Он к этому не причастен. Я не очень хорошо себя чувствовал и хотел поскорее вернуться домой.
– И друг дал вам свою машину.
– Ему она была не нужна. Я собирался на следующий день пригнать ее обратно в город.
– Где она сейчас?
– Какое это имеет значение?
– Она использовалась во время стрельбы.
– Не помню. Я плохо помню, что было после стрельбы. Я просто ехал на ней. Я хотел убраться оттуда.
– Вы были в состоянии аффекта. Вы это хотите сказать?
– Наверное, так и было. Я впервые кого-то застрелил.
– У них не было оружия, – сказал Козелек. – Мы посмотрели. Они были безоружны, оба.
– Я не говорил, что они были вооружены. Я сказал, что у парня могло быть оружие.
Козелек затянулся, и сквозь дым пристально посмотрел на сидевшего перед ним человека. Он казался отстраненным с того момента, как его привели на допрос. Это могло быть вызвано шоком. Из города приехали детективы департамента внутренних расследований с личным делом Уилла Паркера. Как он только что сказал, никогда раньше он никого не убивал, ни официально, ни, судя по тому, что выяснил Козелек, неофициально (он сам двадцать лет прослужил в Нью-Йоркской полиции и не имел иллюзий о таких вещах). Ему было трудно возложить на этого человека ответственность за убийство двух подростков. Но Козелек не так оценивал эту ситуацию: дело было не столько в том, что Уилл Паркер был в шоке, сколько в том, что он, похоже, хотел как можно скорее покончить с этим делом, как осужденный, который хочет, чтобы его скорее увели из зала суда в место исполнения приговора. Даже его описание событий, которое Козелек считал ложью, было лишено желания убедить в своей правдивости. Паркеру было все равно, поверят ему или нет. Они хотели объяснений – он дал им объяснение. Если они хотят искать в нем несоответствия – пусть ищут. Ему все равно.
Вот это и хотелось бы понять, подумал Козелек. Этому человеку все равно. Речь идет о его репутации и карьере. У него на руках кровь. Когда обстоятельства убийства станут выплывать, пресса начнет лаять, требуя его крови, и в департаменте полиции найдутся такие, кто будет готов бросить псам Уилла Паркера как жертвоприношение, как случай показать, что полиция не терпит убийц в своих рядах. Козелек уже понял, что идут споры, что люди с сильной репутацией, чтобы защитить Паркера, взвешивают целесообразность переждать шторм и отстоять своего служащего и возможность того, что подобное отстаивание может подорвать репутацию департамента, и так уже не популярного и все еще не оправившегося после серии коррупционных разоблачений.
– Так вы говорите, что не знали этих подростков? – спросил Козелек. Этот вопрос уже не раз задавался в этой комнате, но Козелек улавливал тень неуверенности на лице Паркера каждый раз, когда он отрицал знакомство с ними, и он увидел то же и на этот раз.
– Парень показался знакомым, но не думаю, что мы с ним когда-либо встречались.
– Его звали Джо Драйден. Родился в Бирмингеме, штат Алабама. Приехал сюда пару месяцев назад. Он уже был на заметке в полиции – в основном по мелочам, но он был на пути к чему-то посерьезнее.
– Как я уже говорил, я не был с ним знаком лично.
– А с девушкой?
– Никогда не видел раньше.
– Мисси Гейнс. Из приличной семьи в Джерси. Ее семья заявила о пропаже неделю назад. У вас нет никаких догадок, как она могла оказаться с Драйденом в Перл-Ривер?
– Вы уже спрашивали меня об этом. Говорю вам: не знаю.
– Кто приходил к вам домой вчера вечером?
– Не знаю. Меня не было дома.
– У нас есть свидетель, который утверждает, что видел, как вчера вечером в ваш дом входил какой-то мужчина. Он оставался там некоторое время. У свидетеля вроде бы сложилось впечатление, что тот человек держал в руке пистолет.
– Как я уже сказал, не знаю, о чем вы говорите, но ваш свидетель мог ошибиться.
– Я думаю, это надежный свидетель.
– Почему же он не вызвал полицию?
– Потому что ваша жена открыла дверь и позволила тому человеку войти. Похоже, она его знала.
Уилл пожал плечами.
– Мне про это ничего не известно.
Козелек сделал последнюю затяжку и затушил окурок в треснутой пепельнице.
– Почему вы выключили магнитофон? – спросил Уилл.
– Потому что департамент внутренних расследований не знает про вооруженного мужчину, – ответил Козелек. – Я надеялся, что, может быть, вы мне расскажете, почему вы решили, что ваши близкие в опасности и вам нужно защитить их, и как это может быть связано с двумя подростками, которых вы застрелили.
Но Уилл не ответил, и Козелек, понимая, что ситуация вряд ли изменится, на время отказался от дальнейших расспросов.
– Если департамент внутренних расследований узнает об этом, они допросят вашу жену. Вам нужно прояснить ваш рассказ. Господи, почему вы просто не подбросили в машину левый ствол? Ствол в машине – и во всем этом не было бы необходимости.
– Потому что у меня нет левого ствола, – ответил Уилл и впервые проявил некоторое оживление. – Я не из таких копов.
– Ну, тогда у меня для вас новость, – сказал Козелек. – В машине найдены двое убитых подростков, оба не вооружены. Так что теперь вы из таких копов.
Глава 24
Мы приближались к концу.
– Я забрал твоего отца из Оранджтаунского участка перед полуднем, – рассказывал Джимми. – На улице ждали репортеры, и они увидели копа, который был теперь не на службе. Он с накинутым на голову пальто сидел на заднем сиденье седана без опознавательных знаков, а потом его отвезли под вспышки фотоаппаратов, пока я ждал позади здания полиции. Мы поехали в заведение Грили в Оранджтауне. Его там больше нет. Теперь на его месте бензоколонка. Но тогда там было что-то вроде бара, где давали хорошие гамбургеры, свет был неяркий, и никто никого ни о чем не спрашивал, кроме как «Еще порцию?» или «Хотите к этому картошки?». Я захаживал туда иногда со своим племянником и сестрой. Мы с сестрой теперь почти не разговариваем. Она сейчас живет в Чикаго. Она решила, что я подставил племянника, когда попросил его зайти к тебе и твоей матери, но мы все дальше расходились еще задолго до этого.
Я не перебивал его. Он кружил вокруг самого ужасного, как собака, боящаяся схватить испорченное мясо из рук чужого.
– Так случилось, что, когда мы пришли, там никого не было, кроме бармена. Я знал его, а он меня. Наверное, он мог узнать и твоего отца, но, если и узнал, ничего не сказал. Мы выпили кофе, поговорили.
– И что он сказал?
Джимми пожал плечами, словно это не имело значения или не имело отношения к делу.
– То же, что и Эпштейн: это были те же самые люди. Они выглядели по-другому, но он увидел это у них в глазах, и в словах девушки, и знак на руке парня только подтвердил это. Это была угроза возвращения. Я все время думаю об этом.
Он словно бы поежился, как будто по спокойной воде пролетел холодный ветерок.
– И еще: он сказал, что мог поклясться, что перед первым выстрелом их лица изменились.
– Изменились?
– Да, изменились, как у той женщины, наверное, которую я застрелил в Герритсене. Он смог описать это так: как будто две маски, что они носили, вдруг стали прозрачными, и он увидел то, что кроется за ними. И вот тогда он нажал на курок. Он даже не помнил, как убил девушку. Он знал, что сделал это, только не помнил, как это произошло.
Через час он попросил меня отвезти его домой, но когда мы вышли от Грили, нас поджидали двое из департамента внутренних расследований. Они сказали мне, что отвезут Уилла домой. Сказали, что их беспокоят репортеры, но, думаю, им хотелось побыть еще несколько минут с ним в надежде, что я мог уговорить его рассказать всю правду. То есть они понимали, что в его рассказе концы с концами не сходятся. Им просто предстояла лишняя работа найти несоответствия в его версии. Впрочем, не думаю, что он сказал им что-то еще. Потом, когда он умер, они попытались надавить на меня, но я тоже ничего не сказал. После этого я немало сделал как коп. Я отслужил свой срок в Девятом и смог потребовать все привилегии и пенсию.
Итак, я видел Уилла в последний раз, когда парни из ДВР уводили его. Он поблагодарил меня за все, что я сделал, и пожал мне руку. Мне тогда следовало понять, что произойдет дальше, но я как-то не подумал. Раньше он никогда не жал мне руку, с первого дня, как мы познакомились в полицейской академии. У нас это было не принято. Я посмотрел, как его уводят, а потом вернулся сюда. И не успел даже разуться, как раздался звонок. Это звонил мой племянник, который все мне и рассказал. И такая штука: если бы тогда меня спросили, удивился ли я, я бы ответил, что нет. На двадцать четыре часа раньше я бы сказал, что такое невозможно, чтобы Уилл Паркер выстрелил себе в рот, но, оглядываясь назад, могу сказать, что, когда мы сидели у Грили, он был уже другой человек. Он казался постаревшим, измученным. Думаю, он сам не мог поверить в то, что видел, и в то, что сделал. Это было для него чересчур.
Похороны были странные. Не знаю, как ты их запомнил, но на них не было некоторых людей, которые должны быть. Комиссар не показался, но это неудивительно для похорон человека с клеймом убийцы и самоубийцы. Однако не появилось и другое начальство – в основном пиджаки из Паззл-Пэлиса, которые обычно ненадолго появляются на таких мероприятиях. Все это дело нехорошо пахло, и они это понимали. В некотором смысле, извини меня за такие слова, смерть твоего старика была для них лучшим исходом. Если бы расследование оправдало его, пресса за это поджарила бы их всех на адском огне. А если бы стрельба не нашла оправданий, тогда был бы судебный прецедент, копы на улицах, профсоюз, и все бы горели гневом и изрыгали пламя. А когда Уилл покончил с собой, весь шум похоронили вместе с ним. Расследование случившегося после его смерти кончилось ничем. А те, кто знал правду о происшедшем на пустыре, все умерли.
Впрочем, Уилла похоронили как инспектора, чин по чину. Играл оркестр, белые перчатки, траурные ленты, сложенный флаг для твоей матери. Из-за того, как он ушел, его привилегии были под вопросом. Ты, может быть, не знаешь, что инспектор с Полис-Плаза, парень по имени Джек Степп, тихо поговорил с твоей матерью, когда она шла обратно к похоронной машине. Степп был человеком комиссара, подчищал за ним из-за кулис. Он сказал, что о ней позаботятся, и о ней позаботились. Ей заплатили все черным налом. Кое-кто проследил, чтобы к ней отнеслись справедливо, и за вами обоими присматривали.
После похорон со мной связался Эпштейн. Его на похоронах не было. Не знаю почему. Наверное, это привлекло бы к нему внимание, а он такого не любит. Он пришел ко мне сюда, сел на стул, на котором ты сейчас сидишь, и спросил, что мне известно об убийстве подростков, и я рассказал ему то же, что сейчас рассказал тебе, все от начала до конца. Тогда он ушел, и я больше никогда его не видел. Я даже не говорил с ним, пока ты не явился и не стал задавать вопросы, а потом, после тебя, вдруг появился Уоллес, и мне показалось, что нужно сообщить Эпштейну. Об Уоллесе я больше особенно не беспокоился: есть способы, чтобы справиться с такими вещами, и я решил, что, если возникнет нужда, его можно отпугнуть. А вот с тобой… Я знал, что ты будешь возвращаться снова и снова, что если ты вбил себе в башку, будто надо что-то разнюхать в грязи, то не остановишься, пока не добьешься своего. Эпштейн сказал мне, что его люди уже работают, чтобы остановить Уоллеса, и что я должен рассказать тебе все, что знаю.
Он устало откинулся на спинку стула.
– Вот, теперь ты все знаешь.
– И ты все время это скрывал?
– Я не говорил об этом даже с твоей матерью и, сказать по правде, я был отчасти рад, что она забрала тебя в Мэн. У меня возникло чувство, что я больше не отвечаю за тебя. Возникло чувство, что можно сделать вид, будто все забыл.
– А ты когда-нибудь рассказал бы мне все это, если бы я не стал расспрашивать?
– Нет. Что хорошего из этого вышло бы? – Он вроде бы задумался. – А впрочем, не знаю. Я читал о тебе и слышал истории о людях, которых ты разыскал, о мужчинах и женщинах, которых ты убил. Все эти случаи касались чего-то странного. Может быть, в последние пару лет я подумывал, что нужно тебе рассказать, чтобы…
Он пожал плечами, подыскивая правильные слова.
– Чтобы что?
Он нашел их, хотя это не принесло ему радости:
– Чтобы ты был готов, когда они явятся снова.
Глава 25
Мой сотовый зазвонил незадолго до полуночи. Джимми ушел приготовить мне постель в свободной комнате, а я сидел на кухне за столом, все еще пытаясь осмыслить все то, что он мне рассказал. Земля у меня под ногами больше не казалась твердой, и я не был уверен, что смогу встать и выпрямиться. Возможно, мне следовало подвергнуть сомнению рассказ Джимми или, по крайней мере, отнестись скептически к некоторым подробностям, пока не смогу расследовать их лично, но я не сомневался в правдивости его слов. Сердцем я понимал, что все рассказанное им – правда.
Прежде чем ответить на звонок, я посмотрел, кто звонит, но номер был не распознан.
– Алло?
– Мистер Паркер? Чарли Паркер?
– Да.
– Это детектив Дуг Сантос из Шестьдесят восьмого участка. Могу я узнать, сэр, где вы сейчас находитесь?
Зоной ответственности Шестьдесят восьмого был Бэй-Ридж, где я когда-то жил с семьей. Копы из этого участка, в том числе и Уолтер Коул, были первыми на месте происшествия в ту ночь, когда погибли Сьюзен и Дженнифер.
– А что? – спросил я. – В чем дело?
– Пожалуйста, просто ответьте на вопрос.
– Я в Бруклине. В Бенсонхерсте.
Его тон изменился. Простая бесцеремонность и деловитость в его словах сменилась большей настойчивостью. Я сам не понял, как это произошло, но на пару секунд ощутил себя потенциальным подозреваемым.
– Можете дать мне адрес? Я бы хотел с вами поговорить.
– О чем, детектив? Уже поздно, а у меня был тяжелый день.
– Я бы предпочел поговорить лично. Какой адрес?
– Подождите.
Джимми только что вышел из ванной комнаты и вопросительно приподнял брови, и я прикрыл трубку рукой.
– Это коп из Шестьдесят восьмого. Хочет поговорить со мной. Ничего, если мы встретимся здесь? У меня такое чувство, что мне может понадобиться алиби.
– Конечно, – сказал Джимми. – Как его фамилия?
– Сантос.
Джимми покачал головой.
– Не знаю такого. Уже поздно, но, если хочешь, я могу кое-кому позвонить, узнать, что случилось.
Я дал Сантосу адрес. Он сказал, что будет в течение часа. Тем временем Джимми убрал пустую бутылку и начал обзванивать свои контакты, хотя, если ничего не удастся узнать, оставалась возможность обратиться к Уолтеру Коулу. Первого же звонка оказалось достаточно, чтобы кое-что выяснить. Когда он повесил трубку, его руки тряслись.
– Совершено убийство.
– Где?
– Тебе это не понравится. На Хобарт № 1219. На кухне твоего прежнего дома найден труп мужчины. А убитый… Приготовься испытать смешанные чувства… Это Микки Уоллес.
Через полчаса прибыл Сантос. Это был высокий черноволосый мужчина, вероятно, не старше тридцати лет. У него был голодный взгляд человека, намеревающегося подняться по карьерной лестнице так быстро, насколько это в человеческих силах, и которого не опечалило бы, если бы на этом пути пришлось отдавить кому-то пальцы. Он был явно разочарован, когда оказалось, что у меня есть алиби на весь вечер, и притом его может подтвердить полицейский. И все же он согласился на чашку кофе, а если и не был очень дружелюбен, то оттаял достаточно, чтобы смириться с тем фактом, что подозревать меня нет разумных оснований.
– Вы знали того парня? – спросил он.
– Он планировал написать про меня книгу.
– И как вы к этому отнеслись?
– Не очень хорошо. Я пытался помешать ему.
– Могу я спросить, каким образом? – Если бы Сантос был наделен антеннами, они бы затрепетали. Может быть, я не убил Уоллеса сам, но мог найти кого-нибудь другого, чтобы выполнить это.
– Я сказал ему, что не буду сотрудничать с ним. И пообещал ему, что никто из моих близких тоже не будет с ним сотрудничать.
– Похоже, он не понял намека. – Сантос попробовал кофе. Вкус его как будто приятно удивил. – Хороший кофе, – сказал он Джимми.
– «Блу Маунтин», – ответил тот. – Только лучшее.
– Так вы говорите, что работали в Девятом?
– Верно.
Сантос снова переключил внимание на меня.
– Ваш отец тоже работал в Девятом, не так ли?
Я чуть ли не восхитился его способности брать с места в карьер. Должно быть, кто-то прочел ему по телефону основные детали моей жизни, пока он ехал в Бенсонхерст, если только он сам не занимался мною раньше.
– Снова верно, – ответил я.
– Вспоминаете старые времена?
– Это касается данного дела?
– Не знаю. Касается?
– Послушайте, детектив, – сказал я. – Я хотел, чтобы Уоллес прекратил совать свой нос в мою жизнь, но не хотел его смерти. А если бы я собрался его убить, я бы не стал этого делать в комнате, где умерли мои жена и дочь, и сделал бы так, чтобы в это время находиться подальше от места преступления.
Сантос кивнул.
– Пожалуй, вы правы. Я знаю, кто вы такой. Что бы о вас ни говорили, никто не называет вас болваном.
– Приятно слышать.
– Не правда ли? – Он вздохнул. – Прежде чем ехать сюда, я поговорил кое с кем. Они сказали, что это не ваш стиль.
– А что они называют моим стилем?
– Они сказали, что этого мне знать не нужно, и я им поверил, но они подтвердили, что это совсем не похоже на то, что было сделано с Микки Уоллесом.
Я молча ждал продолжения.
– Его пытали каким-то лезвием, – сказал Сантос. – Это было не очень утонченно, но эффективно. По моим догадкам, кто-то хотел заставить его говорить. Когда он сказал то, что знал, ему перерезали горло.
– Никто ничего не слышал?
– Никто.
– Как его обнаружили?
– Патруль увидел, что открыты боковые ворота у дома. Полицейские обошли дом и увидели на кухне свет – от маленького фонарика, вероятно, Уоллеса, но его еще нужно проверить на отпечатки пальцев на всякий случай.
– И что потом?
– Вы ничем не заняты?
– Сейчас?
– Нет, на неделе, чтобы встретиться. Что думаете?
– Я здесь закончил, – ответил я.
На самом деле, конечно, это было не так. Если бы не отвлекало ничто другое, я бы остался у Джимми до утра в надежде выдавить из него все до последней подробности, раз уж выпал шанс впитать все, что он рассказал. Может быть, я бы попросил его еще раз рассказать все с самого начала – просто чтобы убедиться, что ничего не пропущено, – но Джимми устал. Этот человек провел вечер, признаваясь не только в собственных грехах, но и в грехах других. Ему нужно было поспать.
Я знал, о чем Сантос хочет попросить, и знал, что отвечу да, в каком бы свете это меня ни выставило.
– Я бы хотел, чтобы вы осмотрели дом, – сказал Сантос. – Тело убрали, но вам нужно кое-что увидеть.
– Что?
– Просто посмотрите, ладно?
Я согласился. Я сказал Джимми, что, вероятно, еще вернусь поговорить в ближайшие дни, и он сказал, что будет дома. Мне следовало поблагодарить его, но я не поблагодарил. Он слишком долго скрывал слишком многое. Когда мы вышли, он встал на крыльце и смотрел нам вслед. Потом поднял руку, прощаясь, но я не помахал в ответ.
Я не был на Хобарт-стрит несколько лет – с тех пор, как вынес из дома последние семейные вещи и разобрал их, какие сохранить, а какие выбросить. Думаю, это была одна из самых сложных задач, с какими я когда-либо сталкивался: принесение дани мертвым. С каждым предметом, который я откладывал в сторону – платьем, шляпой, куклой, игрушкой, – мне казалось, что я предаю их память. Следовало все это сохранить, так как они прикасались к этим вещам, держали их, и их частичка осталась в этих знакомых предметах, теперь ставших чужими от утраты. Это заняло у меня три дня. Даже теперь вспоминаю, как целый час просидел на краю нашей кровати, держа в руках расческу Сьюзен, гладя запутавшиеся в зубьях волоски. Расческу следовало тоже выбросить… Или сохранить вместе с тюбиком губной помады, который запечатлел форму ее губ, с румянами, хранившими отпечаток ее пальца, с невымытым бокалом, хранившим следы ее руки и губ? Что нужно сохранить, а что забыть? В конце концов, я, наверное, сохранил слишком многое – а может быть, слишком мало. Слишком много, чтобы действительно оставить прошлое в прошлом, и слишком мало, чтобы полностью потеряться в воспоминаниях о них.
– Вы в порядке? – спросил Сантос, когда мы остановились в воротах.
– Нет, – ответил я. Я увидел телевизионные камеры, и вспышки ослепили меня, оставляя красные следы перед глазами. Я увидел патрульные машины и людей в полицейской форме. И снова вернулся в другое время, когда мои колени были в синяках, брюки изодраны, и я схватился за голову с запечатленным на сетчатке образом.
– Хотите подождать минутку?
И снова лампы-вспышки, теперь ближе. Я слышал, как называют мое имя, но не реагировал.
– Нет, – повторил я и прошел вслед за Сантосом в дом.
Дело было не в крови. Крови на полу в кухне, крови на стенах. Я не мог войти в кухню. Я только смотрел на нее снаружи, пока не почувствовал спазмы в животе и на лице не выступил пот. Я прислонился к прохладной деревянной панели и закрыл глаза, пока не прошло головокружение.
– Вы видели это? – спросил Сантос.
– Да, – ответил я.
Этот символ был нарисован кровью Уоллеса. Его тело уже унесли, но место, где оно лежало, было обведено контуром, сохраняющим позу. Символ был нанесен над тем местом, где была его голова. Рядом по полу было разбросано содержимое какой-то пластиковой папки. Я увидел фотографии и понял, зачем Уоллес приходил сюда. Он хотел почувствовать атмосферу убийства, увидеть своими глазами.
– Вы знаете, что означает этот символ? – спросил Сантос.
– Никогда раньше его не видел.
– Я тоже, но догадываюсь, что кто-то так расписывается под своими работами. Мы обыскали остальной дом. Там чисто. Похоже, все произошло на кухне.
Я взглянул на него. Он был молод. Вероятно, он даже не понимал значения собственных слов. И все же я не мог простить ему бестактности.
– Здесь мы закончили, – сказал я.
Я отошел от него и снова попал под вал вспышек, лучей от осветительных приборов и криков с вопросами. На мгновение я оцепенел, поняв, что не могу покинуть это место: у меня не было своей машины. Меня привез Сантос. Я увидел, что кто-то стоит под деревом, и фигура показалась мне знакомой: большой высокий мужчина по-военному с коротко подстриженными седыми волосами. В замешательстве я не сразу узнал его.
Тиррелл.
Здесь был Тиррелл – человек, который даже после моего ухода из полиции давал мне ясно понять, что, по его мнению, мое место за решеткой. Теперь он шагал ко мне рядом с местом, где убили Микки Уоллеса. Уоллес намекал, что кое-кто изъявил желание поговорить с ним, и тогда я понял, что один из них – Тиррелл. Некоторые репортеры увидели, как он приближается ко мне, и один из них, парень по фамилии Мак-Гэрри, который столько времени проработал в полицейской хронике, что его кожа приобрела синеватый оттенок, назвал фамилию Тиррелл. По тому, как старик приближался ко мне, было ясно, что сейчас произойдет стычка, и произойдет она под камерами и красными огоньками записывающих устройств. Так, как этого хотел Тиррелл.
– Сукин сын! – закричал он. – Это все ты!
Вспышки участились, и яркий, ровный свет телевизионной камеры направился на Тиррелла. Было видно, что он выпил, но не пьян. Я приготовился к отпору, но тут чья-то рука схватила меня за локоть, и голос Джимми Галлахера проговорил:
– Пойдем. Надо сматываться отсюда.
Как ни был измучен, он приехал сюда за мной, и я был ему благодарен за это. Я заметил разочарование на лице Тиррелла при виде, как его добыча ускользает, лишая его долгожданного момента перед камерами и репортерами, но тут все обернулись к нему за комментариями, и он начал изливать свою желчь.
Сантос увидел, как Паркер уезжает, а Тиррелл начинает общение с репортерами. Детектив не знал, почему Тиррелл обвиняет в случившемся Паркера, но знал о давнишней вражде между этими двумя. Позже у него еще будет возможность поговорить с Тирреллом, а пока он отвернулся и стал наблюдать, как проскользнувший мимо оцепления человек в хорошо скроенном темном костюме пристально смотрит на удаляющиеся огни машины Джимми Галлахера. Сантос двинулся к нему.
– Сэр, вы должны отойти за линию.
Человек раскрыл бумажник, показывая значок и полицейское удостоверение штата Мэн, но не взглянул на Сантоса, который ощутил, как у него волосы встали дыбом.
– Детектив Хансен, – проговорил он. – Могу вам чем-нибудь помочь?
Только когда машина свернула на Марин-авеню и исчезла с глаз, Хансен повернулся к Сантосу. У него были очень темные глаза, так же как волосы и костюм.
– Не думаю, – ответил он и отошел.
В ту ночь я спал у Джимми Галлахера на чистой постели в совсем по-другому пустой комнате. Во сне я видел дом на Хобарт-стрит и в нем темную фигуру, склонившуюся над Микки Уоллесом, что-то шепчущую ему, кромсая его. А позади них, как в фильме, показывающем другой фильм, демонстрирующий то же место под таким же углом, но в другой момент времени, я увидел, как другой человек склонился над моей женой, и что-то тихо говорит, кромсая ее, и тело моего мертвого ребенка на полу рядом, ожидающее своей очереди. А потом они исчезли, и в темноте остался только Уоллес, и кровь булькала в ране у него на горле, и его тело дрожало. Он умирал в одиночестве, в страхе, в странном месте…
Но вот в дверях кухни появилась женщина. На ней было летнее платье, а рядом стояла маленькая девочка, держась правой рукой за тонкую материю платья. Они подошли к месту, где лежал Уоллес, и женщина опустилась рядом с ним на колени и погладила по лицу, а девочка взяла его за руку, и вместе они стали успокаивать его, пока его глаза не закрылись и он не покинул этот мир навсегда.
Глава 26
Тело девушки завернули в кусок пластика, положили туда для тяжести камень и бросили в пруд. Труп обнаружили, когда корова забрела в воду и одной ногой запуталась в веревке, обвязывавшей пластик. Когда породистую корову, стоящую немалых денег, вытаскивали из пруда, вместе с ней вытащили и тело.
Почти сразу же, как нашли труп, местные жители маленького городка Гуз-Крик в Айдахо опознали его. Девушку звали Мелоди Мак-Реди, она пропала два года назад. Ее парня Уэйда Пирса допрашивали в связи с ее исчезновением, и, хотя полиция после этого исключила его из списка подозреваемых, через месяц после исчезновения Мелоди он покончил с собой – во всяком случае, такова была официальная версия. Он выстрелил себе в голову, хотя у него вроде бы до того не было пистолета. Опять же, говорили люди, непонятна природа его скорби – или вины, потому что некоторые чувствовали, несмотря на слова копов, что Уэйд Пирс нес ответственность за то, что случилось с Мелоди Мак-Реди, хотя такие подозрения основывались скорее на общей неприязни к семейству Пирсов, чем на свидетельствах каких-то проступков со стороны Уэйда. Но даже те, кто верил в невиновность Уэйда, не слишком горевали, когда он застрелился, потому что он был злобным придурком, как и все представители мужской части этого семейства. Мелоди Мак-Реди сошлась с ним, потому что ее собственную семью третировали почти так же, как и его. Все знали, что дело добром не кончится. Просто никто не предполагал, что дойдет до кровопролития, и в конечном итоге тело вытащат из стоячей воды обмотанное веревкой на ноге у коровы.
На останках были проведены тесты ДНК, чтобы подтвердить личность молодой женщины и, возможно, обнаружить следы, оставленные тем, кто ее убил и выбросил в старый пруд, хотя детективы скептически относились к возможности обнаружить что-то полезное. Прошло слишком много времени, и тело было завернуто в пластик неплотно, так что рыбы и вода сделали свое дело.
Но, к их удивлению, с пластика был снят один пригодный для анализа отпечаток. Его отослали в АСРОП – автоматическую систему распознавания отпечатков пальцев, принадлежащую ФБР. И детективы, расследовавшие дело с найденным телом, стали ждать результата. АСРОП была перегружена заявками от правоохранительных органов, и могло пройти несколько недель, а то и месяцев, пока будет проведено сличение – в зависимости от срочности дела и загруженности АСРОП. Так случилось, что отпечаток был проверен в течение двух недель, но совпадений найдено не было. Кроме отпечатка была послана фотография знака, высеченного на камне у пруда, и ее, в конце концов, отправили в подразделение № 5 Отдела национальной безопасности ФБР, отвечающего за сбор разведданных и проведение контрразведывательных действий, связанных с национальной безопасностью и борьбой с международным терроризмом.
Подразделение № 5 было ничем иным, как защищенным компьютерным терминалом в Нью-Йоркском местном отделении на Федерал-Плаза. Его недавняя передача Отделу национальной безопасности ФБР и пришедшее с этим новое название «подразделение № 5» явились правовой уловкой, одобренной службой Генерального советника, чтобы обеспечить быстрое и безусловное взаимодействие правоохранительных органов. Подразделение № 5 отвечало за все запросы, связанные, пусть даже отдаленно, с расследованием действий киллера, известного как Странник и виновного в смерти множества мужчин и женщин в конце девяностых, среди которых были Сьюзен и Дженнифер Паркер, жена и дочь Чарли Паркера. Спустя какое-то время подразделение № 5 разместило у себя информацию о смерти в Нью-Йорке человека по имени Питер Аккерман в конце шестидесятых, о гибели неопознанной женщины в Герритсен-Бич через несколько месяцев после этого и об убийстве подростков в Перл-Ривер Уильямом Паркером. Эта информация была собрана одним особым агентом, руководителем Нью-Йоркского местного отделения ОНБ, и впоследствии передавалась его преемникам. Кроме того, файлы подразделения № 5 хранили все известные материалы о делах, в которых был замешан Чарли Паркер после того, как стал частным детективом.
Другие органы, в том числе Нью-Йоркский полицейский департамент, были в курсе, что такое подразделение № 5, но в конечном счете лишь два человека имели полный доступ к его записям: особый агент, руководитель Нью-Йоркского местного отделения ОНБ, Эдгар Росс и его помощник Брэд. И вот этот помощник через двадцать минут после того, как получил материал, с четырьмя листами бумаги в руках постучал в дверь своего босса.
– Вам это не понравится, – сказал он.
Росс посмотрел, как Брэд закрыл за собой дверь.
– Мне никогда не нравится, что ты мне говоришь. Ты никогда не приносишь хороших новостей. Никогда не приносишь кофе. Что у тебя?
Брэд словно бы неохотно протянул бумаги, как школьник, обеспокоенный сдачей учителю плохо выполненного домашнего задания.
– Отпечаток пальца, поданный в АСРОП, взят с трупа в Айдахо. Местная девушка Мелоди Мак-Реди. Пропала два года назад. Тело было найдено в пруду, завернутое в пластик. Отпечаток снят с пластика.
– И есть совпадение?
– Нет, но есть кое-что еще: фотография. Это звоночек.
– Почему?
Брэд с виду смутился. Несмотря на то что он проработал со своим боссом почти пять лет, все связанное с подразделением № 5 смущало его. Он прочел подробности о нескольких других делах, которые автоматически были направлены на рассмотрение в подразделение № 5. Все они без исключения вызвали у него мурашки. Точно так же без исключения во всех них был прямо или косвенно замешан человек по имени Чарли Паркер.
– Отпечаток не совпадает, но совпадает символ. Он был найден ранее на двух других телах. Первый – на трупе неопознанной женщины, выловленной из залива Шелл-Бэнк в Бруклине более сорока лет назад, когда ее застрелил один коп. Ее личность так и не была установлена. Второй обнаружен на теле девочки-подростка, убитой в машине в Перл-Ривер около двадцати шести лет назад. Ее звали Мисси Гейнс, сбежала из дому в Джерси.
Росс закрыл глаза и ждал, когда Брэд продолжит.
– Гейнс застрелил отец Чарли Паркера. Другую женщину убил напарник его отца шестнадцатью годами раньше.
Теперь неохотно он протянул бумаги. Росс рассмотрел символ на первом листе, снятый с места обнаружения трупа Мак-Реди, и сравнил с символом на более ранних трупах.
– Вот черт! – сказал он.
Брэд покраснел, хотя и знал, что ни в чем не виноват.
– Дальше – больше. Посмотрите на второй лист. Это было вырезано на дереве около тела парня по имени Бобби Фарадей.
На этот раз Росс выругался покрепче.
– Третий был вырезан на стене рядом с задней дверью дома Фарадеев. Считается, что они сами покончили с собой, но начальник полиции, парень по имени Дэшат, не очень в этом уверен. Потребовалось пять дней, чтобы найти это.
– И мы узнаём об этом только теперь?
– Полиция штата никогда не передает сведения дальше. Это вроде как их владения. В конечном итоге Дэшату надоело отсутствие какого-либо прогресса, и он передал через их голову.
– Достань мне все, что сможешь, по делу Мак-Реди и Фарадеев.
– Бумаги уже в пути, – сказал Брэд. – Должны быть здесь в течение часа.
– Пока иди, дождемся их.
Брэд сделал, как сказано.
Росс положил бумаги рядом с фотографиями, которые лежали у него на столе с утра. Снимки были сделаны на месте вчерашнего преступления на Хобарт-стрит, и на них был виден символ, нарисованный кровью Микки Уоллеса на стене кухни.
Россу сообщили об убийстве через час после обнаружения тела Уоллеса, и он попросил, чтобы снимки и копии всех документов по этому делу были ему доступны к девяти утра на следующий день. Увидев символ, Росс сразу начал уничтожать следы. Он позвонил на Полис-Плаза, и символ со стены кухни стерли. Все, кто присутствовал на месте преступления, были предупреждены, что символ имеет критическое значение в деле, и любое упоминание о нем вне непосредственно расследующей дело группы приведет к дисциплинарным взысканиям и в конечном итоге к увольнению без права обжалования. Была установлена дополнительная защита на полицейские материалы, относящиеся к убийству подростков в Перл-Ривер, стрельбе в Герритсен-Бич и несчастному случаю с Питером Аккерманом на пересечении Семьдесят восьмой и Первой девятью месяцами раньше. Установленная защита не давала доступа к этим материалам без личного разрешения Росса и заместителя комиссара Нью-Йоркского полицейского департамента по разведке и оперативной работе, хотя все эти материалы были аккуратно «стерилизованы» после событий в Перл-Ривер, и были приняты меры, чтобы о любых совпадениях, которые могли обнаружиться позднее, сообщалось в офис комиссара полиции и, после соответствующей проверки, в подразделение № 5. Все запросы насчет этих материалов должны были немедленно включать сигнал повышенной опасности.
Росс понимал, что на смерть репортера, пусть даже бывшего, слетятся, как мухи, другие репортеры, и обстоятельства смерти Уоллеса, убитого в доме, где случились два громких убийства десятью годами раньше, привлекут еще больше внимания. Было важно прикрыть расследование колпаком, но его нельзя было держать слишком плотно, чтобы особенно рьяные репортеры не почувствовали, что от них что-то скрывают. Поэтому совместно с Нью-Йоркским полицейским департаментом было принято решение, что средствам массовой информации покажут благожелательное лицо, а серия тщательно контролируемых неофициальных брифингов распространит достаточно сведений, чтобы держать журналистов на поводке, на самом деле не разглашая ничего, что могло бы оказаться опасным для проведения расследования.
Росс провел пальцем по фотографии символа на стене, потом собрал копии четырех разных фотографий из разных папок на столе. Вскоре весь стол покрыли разные варианты одного и того же образа: символы, выжженные на теле, вырезанные на дереве, высеченные на камне.
Росс повернул свое кресло к окну и взглянул на город. Потом набрал номер по защищенной линии связи. Ответил женский голос.
– Соедините меня с раввином, пожалуйста, – сказал Росс.
Через несколько секунд Эпштейн был на линии.
– Это Росс.
– Я ждал вашего звонка.
– Значит, вы слышали?
– Прошлой ночью мне позвонили, чтобы предупредить.
– Вам известно, где сейчас Паркер?
– Мистер Галлахер предоставил ему ночлег.
– Это всем известно?
– СМИ об этом не знают. Мистер Галлахер, когда понял, что, может быть, придется провести спасательную операцию, предусмотрительно снял номерные знаки.
Росс воспринял это с облегчением. Он знал, что вне досягаемости для Нью-Йоркского руководства репортеры уже пытались выследить Паркера в баре, где он работал в штате Мэн. После звонка в местное отделение ОНБ в Портленде с запросом на патрулирование его дома были обнаружены две припаркованные рядом машины и телевизионный фургон, а владелец «Великого заблудшего медведя» сообщил агенту, что ему пришлось повесить на двери знак «Репортерам вход запрещен». Чтобы убедиться, что его требование выполняется, он нанял охранять вход двух здоровенных амбалов в наспех изготовленных футболках с таким знаком. По словам агента, когда он пришел в бар, амбалы уже вышли на работу. Он сообщил также, что в жизни не видел человеческих существ такой ширины.
– А где он сейчас? – спросил Росс.
– Сегодня утром Паркер покинул дом Галлахера, – ответил Эпштейн. – Не имею представления, где он.
– Вы говорили с Галлахером?
– Он сказал, что не знает, куда он направился, но подтвердил, что теперь Паркеру все известно.
– Значит, он собирается разыскать вас.
– Я подготовился.
– Я вам вышлю один материал. Возможно, вас заинтересует.
– Что за материал?
– Символ, найденный на теле женщин, убитых у залива Шелл-Бэнк и в Перл-Ривер. Передо мной лежат еще три версии этого символа – одна двухлетней давности, а другие этого года. Все случаи связаны с несомненными убийствами.
– Она оставляет знаки для Другого.
– И теперь ее визави расписался кровью в старом доме Чарли Паркера, так что он делает то же самое.
– Пожалуйста, держите меня в курсе.
– Хорошо.
Они попрощались и повесили трубки. Росс снова вызвал к себе Брэда и велел отследить входящие и исходящие звонки с мобильника Паркера и приставить двоих людей к раввину Эпштейну.
– К концу дня я хочу знать, где находится Паркер, – сказал он.
– Хотите, чтобы его доставили к вам?
– Нет, просто хочу убедиться, что с ним ничего не случилось.
– Не поздновато ли, сэр?
– Пошел к черту! – рявкнул Росс, но про себя подумал: устами младенца…
Глава 27
Я позвонил Эпштейну из автомата на Второй авеню у индийского ресторана, где предлагали всякую всячину, которую никто не хотел есть, и поэтому в попытке оживить бизнес у дверей поставили человека с грустным лицом и в яркой полиэстеровой рубашке, чтобы протягивать рекламные листовки, которые никто не хотел брать.
– Я ждал вашего звонка, – сказал Эпштейн, взяв трубку.
– Насколько я слышал, долго ждали, – ответил я.
– Насколько я понимаю, вы хотите встретиться.
– Вы правильно понимаете.
– Приходите на обычное место. Не очень рано. В девять. Я буду рад увидеть вас снова.
Раввин повесил трубку.
Я снял квартиру на углу Двадцатой и Второй, прямо над магазином скобяных изделий. Квартира имела две достойного размера комнаты с отдельной кухней, которой никогда не пользовались, и санузлом, достаточно просторным, чтобы там могло развернуться человеческое тело – при условии, что руки этого тела будут прижаты к бокам. В квартире была кровать, кушетка, пара кресел и телевизор с DVD-плеером, но без кабельного телевидения. Здесь не было телефона – вот почему я звонил Эпштейну из автомата. И все равно я оставался на линии минимальное время, достаточное, чтобы договориться о встрече. Я уже позаботился вынуть батарейку из своего сотового и купить временную замену.
В булочной по соседству я съел несколько булочек и вернулся к себе. В комнате справа от окна сидел на стуле владелец квартиры и чистил пистолет «Зиг». Обычно хозяева не занимаются этим в сдаваемых квартирах, если только хозяин не Луис.
– И что? – спросил он.
– Вечером я встречаюсь с ним.
– Нужна компания?
– Вторая тень не помешает.
– Это расистское замечание?
– Не знаю. Ты участвуешь в минстрел-шоу?[8]
– Нет, но я купил тебе пушку. – Он взял кожаную сумку и вытряхнул на кушетку пистолетик.
Я вынул пистолет из кобуры. Он был примерно семи дюймов длиной и весил, наверное, меньше двух фунтов.
– «Кимбер Ультра 10–2», – сказал Луис. – Магазин на десять патронов. Задний край рукоятки острый, так что осторожнее.
Я положил пистолет обратно в кобуру и протянул ему.
– Ты шутишь, – сказал он.
– Не шучу. Я хочу получить обратно мою лицензию. Если меня задержат с незарегистрированным огнестрельным оружием, мне конец. Они сдерут с меня кожу живьем, а что останется, выбросят в море.
Из кухни появился Ангел с кофейником в руке.
– Думаешь, тот, кто убил Уоллеса, пытал его, чтобы узнать твои музыкальные вкусы? – сказал он. – Его кромсали, чтобы он рассказал, что разузнал о тебе.
– Этого мы не знаем точно.
– Да, так же, как не знаем точно происхождение человека, причины изменения климата, природу гравитации. Его убили в твоем старом доме, когда он раскапывал все о тебе, а потом кто-то расписался его кровью. Довольно скоро этот тип попытается сделать с тобой то же, что сделал с Уоллесом.
– Вот поэтому Луис и не будет отходить от меня вечером.
– Да, – сказал Луис, – потому что если меня схватят с пушкой, то это ничего. Когда черные носят оружие – это нормально.
– Я слышал об этом, – сказал Ангел. – Думаю, это самозащита: брат за брата.
Он взял пакет с булочками, разорвал его и положил на обшарпанный кофейный столик. Потом налил мне чашку кофе и сел рядом с Луисом, и я рассказал им все, что узнал от Джимми Галлахера.
Оренсанц-центр не изменился с тех пор, как я последний раз заходил сюда несколько лет назад. Он по-прежнему господствовал над Норфолк-стрит между Ист-Хьюстоном и Стентоном, такое неоготическое строение, созданное по проекту Александра Зельтцера в XIX веке к прибытию немецких евреев. Архитектора вдохновил великий Кельнский собор и принципы немецкого романтизма. Потом это здание было известно как Анше Чезед – «Люди добра», прежде чем конгрегация не слилась с Храмом Эммануила, что совпало с миграцией немецких евреев из Кляйн Дойчланд – Маленькой Германии – в Нижнем Манхэттене в Верхний Ист-Сайд. Их место заняли евреи из восточной и южной Европы, и округа превратилась в кроличий садок, густо заселенный теми, кто по-прежнему пытался вписаться в этот новый мир социально и лингвистически. Анше Чезед стал Анше Слоним в честь городка в Польше и так и оставался до шестидесятых, когда здание стало обрушиваться от ветхости, и скульптор Ангел Оренсанц спас его, превратив в культурный и образовательный центр.
Я не знал, как раввин Эпштейн был связан с Оренсанц-центром. Он не имел там никакого официального статуса, но имел большое влияние. Я видел некоторые из секретов, которые центр скрывал под красивым интерьером, и Эпштейн был их хранителем.
Когда я вошел, там был только какой-то старик, подметавший пол. Я уставился на него. Этот старик был здесь и когда я заходил последний раз, и также подметал пол. Наверное, он всегда был там: убирал, наводил блеск, наблюдал. Старик взглянул на меня и, узнав, кивнул.
– Рабби нет, – сказал он, инстинктивно поняв, что не могло быть другой причины для моего появления здесь.
– Я звонил ему. Он ждет меня. Он должен быть здесь.
– Рабби нет, – повторил старик и пожал плечами.
Я сел. Продолжать спор не имело смысла. Старик вздохнул и продолжил подметать.
Прошло полчаса, потом час. Никаких признаков Эпштейна. Когда, наконец, я встал, чтобы уйти, старик сидел на полу, пристроив метлу между коленей, как знамя, удерживаемое каким-то древним, всеми забытым знаменосцем.
– Я же вам говорил, – сказал он.
– Да, – подтвердил я.
– Вам нужно лучше слушать.
– Я очень хорошо слушаю.
Он печально покачал головой.
– Рабби, он теперь не часто сюда заходит.
– Почему?
– Вышел из милости, наверное. А может быть, это стало для него слишком опасно. Для всех нас. Стыдно. Рабби – хороший человек, мудрый человек, но некоторые говорят, что ему не подобает делать то, что он делает, этот Бет Шалом.
Старик, видимо, заметил мое замешательство.
– Это Дом мира, – объяснил он. – А не Шеол. Не здесь.
– Шеол?
– Ад. Не здесь. Больше не здесь, – сказал он и многозначительно постучал ногой по полу, намекая на скрытые помещения внизу.
Когда я в последний раз приходил в Оренсанц-центр, Эпштейн показал мне камеру под основанием здания. Там он держал существо, зовущее себя Киттимом, – демона, пожелавшего стать человеком, или человека, возомнившего себя демоном. Теперь, если верить старику, Киттим покинул это место, изгнанный вместе с держащим его в плену Эпштейном.
– Спасибо, – поблагодарил я.
– Бевакаша, – ответил он. – Бетах ба-Адонай ва’асей-тов[9].
Я оставил его и вышел на улицу под холодное весеннее солнце. Казалось, я пришел сюда зря. Эпштейн больше не чувствовал себя уютно в Оренсанц-центре, или центр больше не хотел поощрять его присутствие. Я огляделся, в слабой надежде увидеть его где-то поблизости, но его не было и следа. Что-то случилось, и он не придет. Я попытался разглядеть Луиса, но его тоже не было видно. И все же я знал, что он рядом. Спустившись по ступеням, я направился к Стентону и через минуту почувствовал, как кто-то пристроился рядом и шагает в ногу со мной. Посмотрев налево, я увидел молодого еврея в ермолке и свободном кожаном пиджаке. Он держал правую руку в кармане. Мне показалось, что у него там маленький пистолет. По пятам за мной шел другой молодой человек. Оба выглядели сильными и проворными.
– Вы долго там просидели, – сказал тот, что шел слева, с едва уловимым акцентом. – Кто знал, что у вас такое терпение?
– Я работал над этим, – ответил я.
– Я слышал, вы в этом нуждались.
– Ну, мне еще осталось над чем поработать, так что, может быть, вы скажете, куда мы идем?
– Мы подумали, может быть, вы хотите перекусить.
Они повели меня по направлению к Стентону. Между продовольственным магазином, куда, похоже, не привозили свежих продуктов с прошлого лета, судя по количеству дохлых насекомых, валявшихся среди бутылок и банок на витрине, и ателье, где, похоже, считали шелк и хлопок уходящими причудами, которые непременно склонятся перед синтетическими волокнами, находилась маленькая кошерная закусочная. В тусклом освещении там стояли четыре столика из темного дерева, израненного десятилетиями чашек с горячим кофе и непотушенных сигарет. Вывеска на стекле объявляла на иврите и английском, что заведение закрыто.
Занят был лишь один столик. Там лицом к двери и спиной к стене сидел Эпштейн. На нем был черный костюм с белой рубашкой и черным галстуком. За его головой на вешалке висело черное пальто, а над ним черная шляпа с узкими полями, словно их владелец не сидел тут же, а недавно дематериализовался, оставив после себя лишь одежду как свидетельство предыдущего существования.
Один из молодых людей взял стул, отнес в сторону и сел на него спиной к окну. Его товарищ, который говорил со мной на улице, тоже сел, но с другой стороны от двери и не оборачивался на нас.
За стойкой стояла женщина, вероятно, немного за сорок, но в сумерках маленькой закусочной ей можно было бы дать и лет на десять меньше. У нее были очень черные волосы, и когда я проходил мимо, то смог разглядеть в них след седины. Она была красива, и от нее исходил легкий аромат корицы и гвоздики. Женщина кивнула мне, но не улыбнулась.
Я сел напротив Эпштейна, но повернулся так, чтобы у меня за спиной тоже была стена и чтобы видеть дверь.
– Могли бы предупредить меня, что вы теперь персона нон грата в Оренсанц-центре, – сказал я.
– Мог бы, но это была бы неправда, – ответил Эпштейн. – Было принято решение при полной взаимности. Слишком много людей проходят через его двери. Это не честно и не мудро – подвергать их опасности. Прошу прощения, что заставил вас ждать, но для этого была причина: мы наблюдали за улицей.
– И что-нибудь заметили?
Глаза Эпштейна блеснули.
– Нет, но если бы мы рискнули заглянуть поглубже в тень, то что-то или кто-то мог заметить нас. Подозреваю, что вы пришли не один. Я прав?
– Луис рядом.
– Загадочный Луис. Хорошо иметь таких друзей, но плохо иметь в них нужду.
Женщина принесла еду и поставила нам на стол: баба гануш с маленькими кусочками хлеба пита, букерас и цыпленок, сваренный с уксусом, оливками, изюмом и чесноком, и немного кус-куса с краю. Эпштейн жестом предложил угощаться, но я не стал есть.
– В чем дело? – спросил он.
– Насчет Оренсанц-центра. Я все-таки не думаю, что вы в таких уж хороших отношениях.
– В самом деле?
– У вас нет конгрегации. Вы не учите. Вы разъезжаете повсюду, по меньшей мере с одним вооруженным охранником. Сегодня их двое. И еще вы кое-что мне сказали, давно-давно. Мы разговаривали, и вы воскликнули: «Господи Иисусе!» Все это показалось мне не очень подобающим для ортодоксального еврея. Не могу удержаться от чувства, что вы таки заслужили небольшое порицание.
– Ортодоксального? – он рассмеялся. – Нет, я самый неортодоксальный еврей, но все же еврей. Вот вы католик, мистер Паркер…
– Плохой католик, – поправил я.
– Я не в состоянии делать такие суждения. И все же я знаю, что есть разные степени католичества. Боюсь, что в иудаизме степеней еще больше. Моя туманнее большинства, и иногда я задумываюсь, не провел ли слишком долгое время в отрыве от моего народа. Я ловлю себя на том, что говорю слова, которые не должен употреблять, мои оговорки озадачивают меня, и, хуже того, забавные сомнения не забавляют меня. Поэтому, возможно, будет правильно сказать, что я покинул Оренсанц, не дожидаясь, пока меня попросят об этом. Теперь вам удобнее? – Он снова сделал жест в сторону еды. – А теперь ешьте. Это вкусно. И наша хозяйка обидится, если вы не попробуете, что она приготовила.
Я назначил встречу с Эпштейном не для того, чтобы играть в семантические игры или брать пробы местной кухни, но он умел манипулировать беседой к собственному удовлетворению, и я был в невыгодном положении с того момента, как пошел сюда на встречу с ним. И все же у меня не было выбора. Я не мог представить себе, что Эпштейн или его телохранители допустят другую обстановку.
Поэтому я взялся за еду. И вежливо поинтересовался о здоровье самого Эпштейна и его семьи. Он спросил про Сэм и Рэйчел, но не стал совать нос в нашу домашнюю ситуацию. Подозреваю, он прекрасно знал, что мы с Рэйчел больше не живем вместе. Фактически я теперь поверил, что в моей жизни осталось мало такого, о чем бы Эпштейн не знал, и так было всегда, с того самого момента, как мой отец пришел к нему со знаком, найденным на человеке, погибшем под колесами грузовика, и чья спутница впоследствии убила мою родную мать.
Когда мы доели, на столе появилась пахлава. Мне предложили кофе, и я принял предложение. Когда я добавил в него молока, Эпштейн вздохнул:
– Какая роскошь – быть в состоянии наслаждаться кофе с молоком сразу после еды.
– Вам придется простить мое невежество…
– Один из законов кашрута: запрещается есть молочные продукты в течение шести часов после потребления мяса. Исход: «Не вари козленка в молоке матери его». Видите, я более ортодоксален, чем вы могли подумать.
Женщина маячила рядом, дожидаясь. Я поблагодарил ее за любезность и за еду. Сам того не заметив, я съел больше, чем намеревался. На этот раз она улыбнулась, но ничего не сказала. Эпштейн сделал незаметный жест левой рукой, и она удалилась.
– Она глухонемая, – сказал он, когда она отвернулась. – Читает по губам, но по нашим не прочтет.
Я взглянул на нее. Ее лицо было повернуто от нас, и она, склонив голову, рассматривала газету.
Теперь, когда настало время поговорить с раввином начистоту, я почувствовал, что моя злоба на него рассеялась. Он так долго скрывал столь многое, как и Джимми, но для того были причины.
– Я знаю, что вы задавали вопросы, – сказал Эпштейн. – И знаю, что получили некоторые ответы.
Когда я заговорил, мне показалось, что мой голос звучит, как у нахального подростка:
– Вы должны были мне все рассказать при первой же встрече.
– Почему? Потому что сейчас вы считаете, что имели право это знать?
– У меня был отец и две матери. Все они, каждый по-своему, умерли ради меня.
– И вот именно поэтому вам нельзя было все рассказывать, – сказал Эпштейн. – Что бы вы сделали? Когда мы встретились, вы были разъяренным ожесточенным человеком, поглощенным своим горем и жаждущим мести. На ваше благоразумие нельзя было положиться. Некоторые говорят, что и сейчас нельзя. И помните, мистер Паркер: когда мы впервые встретились, у меня пропал сын. Мои заботы были о нем, а не о вас. Боль и горе – не ваша исключительная прерогатива.
И все же вы правы. Надо было вам рассказать все раньше, но, возможно, вы выбрали время, подходящее для вас. Вы сами решили, когда начать расспросы, что и привело вас сюда. На некоторые вопросы вы уже получили ответы. Я постараюсь справиться с остальными.
Теперь, когда время пришло, я не знал, с чего начать.
– Что вам известно о Каролине Карр?
– Почти ничего. Она приехала из нынешнего пригорода Хартфорда в штате Коннектикут. Ее отец умер, когда ей было шесть лет, а мать – когда девятнадцать. У нее не осталось никого из родственников. Чтобы все про тебя забыли и никто не беспокоил, лучше и не придумаешь.
– Но про нее не забыли. Ведь кто-то ее разыскивал.
– Похоже на то. Ее мать погибла при пожаре в доме. Последующее расследование показало, что пожар мог быть устроен намеренно.
– Мог быть?
– На дне мусорной корзины была непотушенная сигарета, заваленная бумагой, а газовая плита была не выключена до конца. Это могло быть несчастное стечение обстоятельств, но ни Каролина, ни ее мать не курили.
– Гость?
– Если верить Каролине, в тот вечер никто к ним не приходил. К ее матери иногда приходили джентльмены, но в ночь, когда она умерла, в доме ночевали только она и Каролина. Ее мать пила. Когда начался пожар, она спала на кушетке и, вероятно, умерла еще до того, как до нее добрался огонь. Каролина спаслась, выбравшись через окно верхнего этажа. Когда мы встретились, она сказала, что видела каких-то двоих, наблюдающих за горящим домом из-под деревьев, мужчину и женщину. Они держались за руки. Но к этому времени кто-то поднял тревогу, соседи бросились на помощь, и подъезжали пожарные машины. Ее главной тревогой была ее мать, но первый этаж уже полыхал. Когда она снова вспомнила про тех мужчину и женщину, они уже исчезли.
Каролина сказала мне, что, по ее мнению, та пара под деревьями и устроила пожар, но, когда она пыталась рассказать полиции о том, что видела, ее показания отмели как не относящиеся к делу или как фантазии убитой горем молодой женщины. Но вскоре после похорон матери она снова увидела тех двоих и укрепилась в своей уверенности, что они намереваются сделать с ней то же, что сделали с матерью, а может быть, она сама и была их целью все время.
– Почему она так подумала?
– У нее было какое-то ощущение. Они так смотрели на нее, что она чувствовала это по их взгляду. Можете назвать это инстинктом самосохранения. Но какова бы ни была причина, после похорон Каролина уехала из города, намереваясь найти работу в Бостоне. Там в подземке кто-то пытался толкнуть ее под поезд. Она почувствовала на спине чью-то руку и чуть не упала с края платформы, но какая-то молодая женщина удержала ее. Обернувшись, она увидела мужчину и женщину, спешащих к выходу. Женщина оглянулась, и Каролина узнала ее: это была та, из Хартфорда. Второй раз она увидела их на Южном вокзале, когда садилась на поезд в Нью-Йорк. Ей показалось, что они следили за ней с платформы, но не последовали за ней.
– Кто они такие?
– Тогда она не знала, и мы до сих пор точно не знаем. То есть мы знаем имя мужчины, погибшего под колесами грузовика, и имена парня и девушки, которых убил ваш отец в Перл-Ривер, но в конечном итоге эти имена оказались бесполезны. Установление их личности никоим образом не объяснило, почему они охотились за Каролиной Карр и вами.
– Мой отец считал, что Мисси Гейнс и женщина, убившая мою мать, были одним и тем же лицом, – сказал я. – Аналогично мы можем предположить, что Питер Аккерман и парень, погибший вместе с Мисси Гейнс, одно и то же лицо. Но как это возможно?
– С тех пор как мы с вами встретились, мы оба стали свидетелями странных вещей, – ответил Эпштейн. – Кто знает, чему мы должны верить, а что отвергать? Тем не менее давайте сначала рассмотрим самое логичное или правдоподобное объяснение: в течение более сорока лет кто-то постоянно посылал пару киллеров, мужчину и женщину, с целью убийства вас или ваших близких, включая женщину, которая в конечном счете и произвела вас на свет. Когда одна пара погибала, со временем на смену ей появлялась новая. Эти киллеры были отмечены знаком на руке – один знак у мужчин и другой у женщин, вот здесь. – Он указал на место на левом предплечье между запястьем и локтевым сгибом. – Мы не можем найти никакого объяснения, почему всем этим парам было поручено сделать это.
Исследование жизни Мисси Гейнс, Джозефа Драйдена и Питера Аккермана показало, что бо́льшую часть своей жизни они провели как совершенно нормальные люди. Аккерман был хорошим семьянином, Мисси Гейнс – примерной девочкой, Драйден уже был хулиганом, но не хуже многих других. Потом в какой-то момент времени их поведение резко меняется. Они порывают с семьей и друзьями, находят представителя противоположного пола, до того незнакомого, сговариваются и выходят на охоту – очевидно, сначала на Каролину Карр, а потом, в случае Гейнс и Драйдена, – на вас. Что мы можем логически заключить: странные пары, связанные только своим намерением нанести ущерб вам и вашей семье, действуют или по собственной воле, или по воле кого-то другого.
– Но вы не верите логическим объяснениям.
– Не верю.
Эпштейн обернулся и полез в карман висевшего у него за спиной пальто, откуда достал какую-то фотокопию и развернул на столе. Это была научная статья, и там было изображение летающего насекомого – осы.
– Что вы думаете об осах, мистер Паркер?
– Они жалят.
– Верно. А некоторые, самая большая группа перепончатокрылых, также паразитируют. Они выбирают хозяина, питающий организм – гусеницу или паука, – или снаружи откладывают яйца, которые потом нападают на этот организм извне, или вживляют яйца внутрь питающего организма. В конечном итоге появляется личинка и пожирает хозяина изнутри. Такое поведение довольно обычно в природе, и не только среди ос. Например, наездник из подотряда стебельчатобрюхих для вскармливания своего потомства использует пауков и тлю. Вживляя яйца, он также впрыскивает яд, который парализует жертву. Потом потомство пожирает хозяина изнутри, начиная с органов, наименее нужных для жизни, таких как жир и кишки, чтобы питающий организм оставался живым как можно дольше, и лишь в последнюю очередь добирается до жизненно важных органов. В конце концов от хозяина остается только пустая оболочка. Порядок пожирания говорит об определенном инстинктивном понимании того, что живой хозяин лучше мертвого, но в остальном все это довольно примитивно и, несомненно, отвратительно.
Он наклонился вперед и постучал пальцем по изображению осы.
– А есть множество пауков-кругопрядов, известных под латинским названием Plesiometa argyra, обитающих в Коста-Рике. На них тоже охотятся осы, но интересным образом. Оса нападает на паука, временно парализует его и откладывает яйца ему в верхнюю часть брюшка. Потом оса улетает, и способность паука двигаться восстанавливается. Он продолжает функционировать, как раньше, плетет свою паутину, ловит насекомых, в то время как личинки осы, прицепившиеся к его брюшку, высасывают его соки через маленькие прокусы. Это может продолжаться недели две, а потом происходит нечто очень странное: поведение паука изменяется. Каким-то непонятным образом личинки, используя химические выделения, заставляют паука изменить форму его паутины. Вместо круглой паутины он сооружает маленькую укрепленную платформу. Когда платформа готова, личинки убивают свой питающий организм и делают кокон в новой паутине, защищающей их от ветра, дождя и хищных муравьев, и начинается новый этап их развития.
Раввин слегка расслабился.
– Наверное, нам следует поставить на место ос блуждающих духов, а на место пауков человеческие существа; тогда, возможно, мы начнем понимать, как с виду ничем не примечательный человек может в какой-то момент совершенно измениться, медленно умирая изнутри и оставаясь невредимым снаружи. Интересная теория, как по-вашему?
– Достаточно интересная, чтобы изгнать человека из местного культурного центра.
– Или поместить в психиатрическую лечебницу, если он настолько неразумен, чтобы говорить такие вещи слишком громко. Но вы не впервые услышали про такое – как духи перелетают из тела в тело, и люди, живущие, по всей видимости, за пределами отмеренного им времени, постепенно гниют, хотя и не умирают. Разве не так?
И я подумал про Киттима, попавшегося в камеру к раввину и замкнувшегося в себе, как впавшее в спячку насекомое, в то время как его тело сжалось, и про существо по имени Брайтвелл, мельком появлявшееся на картинах столетней давности, на фотографиях Второй мировой войны и, в конце концов, в наше время, когда оно охотилось на подобное себе существо, человека по форме, но не по природе. Да, я понимал, о чем говорит Эпштейн.
– Впрочем, различие между пауком и человеком заключается в сознании, в осведомленности, – продолжал раввин. – Поскольку мы должны предположить, что паук не осознает своей личности как паук, то, если не считать боли от его собственного пожирания, он не понимает, что с ним происходит, когда его поведение изменяется и, в конце концов, он начинает умирать. Но человеческое существо заметит изменения в своей физиологии или, точнее, в своей психике, своем поведении. Это, по меньшей мере, встревожит его. Питающий организм может даже проконсультироваться с доктором или психоаналитиком. Будут взяты анализы. Может быть предпринята попытка найти источник нарушения.
– Но мы говорим не о летающих паразитах или осах.
– Нет, мы говорим о чем-то невидимом, но что пожирает питающий организм так же несомненно, как личинка пожирает паука, разве что в данном случае поглощается не тело, а личность, собственное «я». И что-то внутри нас замечает это другое, что вселилось в нас, и мы сопротивляемся в темноте, когда оно начинает нас пожирать.
Я на мгновение задумался.
– Вы тут употребили выражение «очевидно», – сказал я. – Что они «очевидно» охотились за моей биологической матерью. Почему «очевидно»?
– Ну, если Каролина Карр была их главной целью, зачем бы им было возвращаться через шестнадцать лет и гибнуть в Перл-Ривер? Похоже, они стремились убить не Каролину Карр, а ребенка, которого она вынашивала.
– И снова: зачем?
– Не знаю. Разве что вы представляете для них угрозу, и всегда угрожали им. Возможно, они и сами не знают природу этой угрозы, но чувствуют ее и реагируют на нее, и их цель – ликвидировать ее. Они пытались убить вас, мистер Паркер, и, вероятно, какое-то время полагали, что им это удалось, пока не обнаружили, что это не так, что вы скрылись от них, и потому им пришлось вернуться, чтобы исправить свою ошибку.
– И опять им это не удалось.
– Не удалось, – эхом повторил Эпштейн. – Но в последующие годы вы начали привлекать их внимание. Вы встречались с людьми, таящими нечто общее в своем естестве, если не в своих целях, и, возможно, вас заметил кто-то, управляющий этими существами, или что-то, направляющее их. Нетрудно прийти к неизбежному заключению, что…
– Что они вернутся сделать новую попытку, – договорил за него я.
– Только не «вернутся», а «вернулись», – поправил Эпштейн и из-под статьи про ос и их поведение вытащил какую-то фотографию. На ней была кухня в доме на Хобарт-стрит с начерченным кровью символом на стене:
– Такой же знак был обнаружен на теле Питера Аккермана и парнишки Драйдена, которого убил ваш отец в Перл-Ривер, – сказал он и достал другие фотографии. – А вот такой знак был найден на теле Мисси Гейнс и убийцы вашей биологической матери. Такой же знак был найден на месте еще трех преступлений, одного давнего и двух недавних.
– Насколько недавних?
– Несколько недель назад.
– Но они не связаны со мной.
– Да, вроде бы не связаны.
– И зачем они?
– Это сигналы. Друг другу, а в случае убийства на Хобарт-стрит, возможно, вам.
Он улыбнулся, и в его улыбке было заметно сочувствие.
– Видите, нечто вернулось и хочет, чтобы вы знали об этом.
Часть пятая
Потому что мертвые передвигаются быстро.
Брэм Стокер (1847–1912) «Дракула» (на «Ленору» Бюргера)
Глава 28
От выпивки было никуда не деться. В тот вечер состоялся хоккейный матч, и бар магнитом притягивал болельщиков, потому что один из владельцев бара, Кен Харбарук, когда-то недолго играл и за «Торонто Мэйпл Ливз», и за «Бруинз», прежде чем ДТП на мотоцикле не положило конец его спортивной карьере. Он обычно говорил, что при данных обстоятельствах с ним не могло произойти ничего лучше. Кен играл хорошо, но не достаточно хорошо и, в конце концов, понял, что звездой ему не стать, а он так и будет играть за гроши и пытаться подцепить женщин, на которых легко произвести впечатление в баре вроде того, каким теперь владел. А после ДТП он получил неплохую компенсацию за свои травмы и имел деньги с половинного владения баром, что, казалось, гарантировало ему довольно комфортную жизнь на пенсии, которую он не получал бы, если бы был в состоянии и дальше играть. Вдобавок, если бы захотел, он мог бы по-прежнему цеплять женщин, на которых легко произвести впечатление, или так он говорил себе, но чаще он ловил себя на том, что после долгого вечера, когда дело шло к закрытию бара, думает только о тихой квартире и своей мягкой постели. У него были спокойные, хотя и нерегулярные отношения с одной женщиной-юристом, которая хорошо сохранилась для своих пятидесяти одного года. У каждого из них был свой дом, и в выходные они ночевали то у него, то у нее, хотя ему иногда хотелось чего-то более определенного. Втайне он желал, чтобы она переехала к нему, но знал, что она этого не хочет. Она ценила свою независимость. Сначала он думал, что она не спешит слишком сближаться, чтобы убедиться, насколько у него серьезные намерения, но теперь, через три года, понял, что она держит дистанцию, потому что ей хотелось именно таких отношений, а если ему хотелось чего-то большего, то пусть поищет где-нибудь в другом месте. Кен решил, что уже слишком стар, чтобы искать в другом месте, и надо сказать спасибо за то, что имеешь, и чувствовал себя в меру удачливым и в меру удовлетворенным.
И все же в такие вечера, когда играли «Бруинз» и бар был набит людьми, слишком молодыми, чтобы помнить его, или достаточно старыми, чтобы помнить, как погибла его карьера, Харбарук испытывал ноющую боль, сожалея о том, как сложилась его жизнь, но скрывал это, ведя себя более шумно и бурно, чем обычно.
– Но так уж получилось, – сказал он Эмили Киндлер после собеседования с ней для приема на работу официанткой. По сути, на собеседовании от нее не потребовалось произнести ни слова. Ей пришлось лишь слушать и кивать, когда он рассказывал ей историю своей жизни, и изменять выражение лица, когда требовалось выразить сочувствие, заинтересованность, возмущение или радость в соответствии с ходом сюжета. Она считала, что поняла его тип: добродушный, сообразительнее, чем кажется, но без иллюзий о своем уме – тип мужчины, который может пофантазировать об ухаживании за ней, но никогда за это не возьмется и будет чувствовать вину за такие мысли. Он рассказал ей о женщине-юристе и упомянул, что уже был женат, но неудачно. Если его самого удивило, как ему хочется поделиться с ней, то ее ничуть. Она уже привыкла, что мужчины любят рассказывать ей о себе. Они показывали ей свое внутреннее «я», и она не знала почему.
– Никогда не мог долго говорить с женщинами, – сказал ей Харбарук, когда собеседование подошло к завершению. – Может быть, вам так не показалось, но это правда.
Необычная девушка, подумал он. С виду ей бы не помешало немного набрать вес, а руки у нее были такие худые, что он, пожалуй, мог бы обхватить самую широкую часть ее бицепса одной рукой, но она была несомненно хорошенькой. В том, что он сперва принял за хрупкость, так что при первом взгляде даже чуть сразу не отказал ей в вакансии, скрывалось нечто более сложное и невыразимое. В ней таилась сила. Может быть, не физическая сила (хотя он уже поверил, что девушка не так слаба, как кажется, потому что Кен Харбарук всегда умел оценивать силу противника), а внутренняя стальная твердость. Харбарук чувствовал, что девушка испытала трудности, но они не сломили ее.
– Ну, вы хорошо со мной поговорили, – сказала она и улыбнулась. Ей была нужна работа.
Харбарук покачал головой, понимая, что с ним играют, но заметил, что краснеет. К его щекам поднимался жар.
– Вы очень любезны, – ответил он. – Какой стыд, что нельзя все в жизни решить собеседованием за бутылкой содовой.
Он встал и протянул руку. Они обменялись рукопожатием.
– Вы производите хорошее впечатление. Поговорите с Шелли. Она у нас менеджер зала. Она назначит вам несколько смен, и посмотрим, как у вас пойдут дела.
Эмили поблагодарила его, и так началась ее работа официанткой в заведении, над входом в которое красовалась надпись большими черными буквами на белом фоне: «СПОРТИВНЫЙ БАР И РЕСТОРАН КЕНА ХАРБАРУКА – МЕСТНАЯ БАЗА НХЛ». А рядом неоновый хоккеист бросал шайбу и победно вскидывал руки. Хоккеист был в красно-белой форме – намек на польское происхождение Кена. Его всегда спрашивали, не родственник ли он Ника Харбарука, чья карьера длилась шестнадцать лет, с 1961 по 1977 год, включая четыре сезона в «Питтсбург Пингвинз» в семидесятых. Кен не был его родственником, но вопросы не задевали его. Он гордился своими польскими земляками, которые добились успеха на льду, – Ником, Питом Стемковским, Джоном Мичуком, Эдди Лейером среди ветеранов и Черкавским, Оливой и Сидоркевичем среди молодых. На стене под одним из телевизоров висели их фотографии как часть маленькой галереи, посвященной Польше.
Эта галерея располагалась рядом с местом, где теперь работала новая девушка, собирая бокалы и принимая заказы. Вечер был долгий, и она честно заработала каждый вшивый доллар своих чаевых. Ее рубашка пропахла расплескавшимся пивом и жареной едой, подошвы ног горели. Ей очень хотелось скорее закончить, пойти домой и поспать. Завтра у нее выходной – первый день после ее прибытия сюда, когда не надо будет работать в кофейне, в баре или в обоих. Она собиралась проспать допоздна, а потом заняться стиркой. Чэд, молодой человек, пытавшийся за ней ухаживать, просил ее о свидании, и она для пробы согласилась пойти с ним в кино, хотя ее мысли по-прежнему занимал Бобби Фарадей и то, что с ним случилось. И все же она была одинока и подумала, что от кино не будет большого вреда.
Кен выключил послематчевые комментарии в попытке заставить посетителей разойтись побыстрее и переключился на новости. Девушке понравилось, что для Кена жизнь не начинается и заканчивается спортом. Он кое-что читал и знал, что происходит в мире. У него было свое мнение о политике, истории, искусстве. По словам Шелли, у него было чересчур много чертовых мнений, и ему слишком хотелось поделиться ими с другими. Шелли было за пятьдесят, она была замужем за добродушным неряхой, который думал, что солнце встает, когда просыпается Шелли, а закат – это вселенский траур по поводу того, что мир скоро не услышит ее голоса, пока она будет спать. Он уже сидел в баре, потягивая светлое пиво в ожидании, когда повезет ее домой. Шелли была красива и работала усердно, но вследствие этого не любила, когда ее «девочки» работали не так усердно, как она сама. Она три вечера работала за стойкой, иногда ее подменял Кен, если в это время был какой-нибудь матч. Пока что новая девушка работала с ней пять раз, и после первых двух вечеров была благодарна за относительный покой на третий вечер, когда заступил Кен и все пошло чуть спокойнее, хотя и чуть менее эффективно и прибыльно.
В ее секторе осталось всего два человека, и они достигли того уровня опьянения, когда, если бы бар не закрывался, ей бы пришлось прекратить подачу им пива. Она знала, что эти двое готовы перейти от меланхолии к буйству, и с облегчением увидела, как они собрались уходить. Теперь, вымыв бокалы и убрав корзинки с куриными крылышками со стола справа от них, она ощутила, как кто-то похлопал ее по спине.
– Эй! – сказал один из этих двоих. – Эй, милая, обслужи-ка нас еще раз.
Она сделала вид, что не замечает его. Ей не нравилось, когда мужчины так с ней обращались.
Другой хихикнул и запел что-то из репертуара Бритни.
– Эй!
На этот раз он похлопал сильнее.
– Мы закрываемся, – ответила она.
– Нет, не закрываетесь. – Он демонстративно посмотрел на часы. – У нас еще пять минут. Ты увидишь, что это как раз на два пива.
– Извините, ребята, я не могу вас больше обслуживать.
Телевизор у них над головой показал новый кадр новостей с фотовспышками и полицейскими машинами. Эмили взглянула. Показали место происшествия и на его фоне три фотографии: мужчина, женщина и ребенок. Девушка заинтересовалась, что с ними случилось. Она попыталась определить, не поблизости ли это, но потом увидела на одной из машин нью-йоркский опознавательный знак, и поняла, что нет. И все же в этом не было ничего хорошего, раз показывали фотографии. Женщина и ребенок или пропали, или погибли, а может быть, и мужчина тоже.
– Не можешь? Что ты имеешь в виду? – возмутился тот, что поменьше, более воинственный. На нем была футболка с надписью «Patriots», заляпанная кетчупом и соусом от куриных крылышек, а глаза уставились через очки в дешевой оправе. Ему было лет тридцать пять, и на руке не было и следа от обручального кольца. От него несло чем-то кислым, и этот запах ощущался с того момента, как он вошел. Сначала Эмили подумала, что это оттого, что он не моется, но теперь заподозрила, что он выделяет какой-то фермент, который смешивается с потом.
– Брось, Ронни, – сказал его приятель, который был выше и гораздо толще, а также гораздо пьянее. – Мне уже ударило в голову. – Он, спотыкаясь, пробрался мимо нее, бормоча извинения. На нем была футболка с белой стрелой, указывающей на пах.
Картинка на экране снова сменилась. Девушка взглянула. В свет вспышек попал какой-то другой человек, не тот, что сначала. Он выглядел растерянно, словно вышел из дома, ожидая найти тишину и покой, а не эту суматоху.
Постой, подумала она. Постой. Я тебя знаю. Я знаю тебя. Это было старое воспоминание, от которого она не могла найти покоя. Эмили ощутила, как что-то шевельнулось в ней. В голове зашумело. Она попыталась прогнать этот шум, но он становился только громче. Ее рот наполнился слюной, а между глазами возникла нарастающая боль, словно в голову через переносицу воткнули иголку. Кончики пальцев зачесались.
– Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю, – сказал Ронни, но она не обратила внимания. В голове у нее вспыхивали воспоминания, как сцены из старых фильмов, только в каждом она играла главную роль.
Убийство Мелоди Мак-Реди в пруду в Айдахо. Она держит голову девушки под водой, ее спина напрягается, пока последние пузырьки воздуха не всплывают на поверхность…
Она говорит Уэйду Пирсу, чтобы он закрыл глаза и открыл рот, обещая дать что-то вкусненькое, сюрприз, а потом засовывает ему в рот ствол пистолета и спускает курок, потому что ошиблась в нем. Она думала, что он мог оказаться тем самым – каким тем самым? – но он был не тот, и она стала расспрашивать про Мелоди, его подружку, и учуяла в нем подозрение…
Бобби Фарадей стоит на коленях в грязи перед ней, плача и умоляя вернуться к нему, а она заходит ему за спину, достает из его сумки веревку и накидывает ему на шею. Бобби не оставлял ее в покое. Он все время говорил. Он был слабым. Он уже пытался поцеловать ее, обнять ее, но теперь его прикосновения отталкивали ее, потому что она знала, что он не тот, кто ей нужен. Нужно было прекратить его разговоры, его попытки действовать согласно своим желаниям. Поэтому она затянула веревку, и Бобби – сильный, жилистый Бобби – сопротивлялся, но она была такой сильной, сильнее, чем кто-либо мог представить…
Рука на плите и тихое шипение, когда газ начал выходить, как он выходил несколько десятков лет назад в доме женщины по имени Джекки Карр; девушка ждет, когда Фарадеи умрут, одно окно чуть приоткрыто, чтобы она могла вдыхать ночной воздух. А потом шум из спальни, тело падает на пол: Кэти Фарадей, почти задохнувшаяся, пытается выползти на кухню, чтобы закрыть газ, ее муж рядом с ней уже умер. Девушке пришлось сесть Кэти на спину, закрыв рот, чтобы защитить себя от газа, и сидеть, пока не убедилась, что женщины больше нет…
Она оставляет знаки; вырезает имя – свое имя, свое настоящее имя – в местах, где его могут найти. Нет, не другие, а Другой, Тот, кого она любит и который любит ее.
И смерть: смерть, когда пули впились в нее и она упала в холодную воду; смерть, когда Другой истекал кровью рядом, а она повалилась на сиденье машины, и ее голова нашла покой у него на коленях. Смерть, снова и снова, и всегда возвращение…
Чья-то рука сжала ее локоть.
– Ты, грязная сука, я сказал…
Но Эмили не слушала. Это были не ее воспоминания. Они принадлежали кому-то другому, тому, кто не был ею, но был в ней, и, наконец, она поняла, что угроза, от которой она так долго убегала, та тень, что тревожила ее всю жизнь, была не какой-то посторонней силой, внешним фактором. Она все время была внутри нее, дожидаясь момента, чтобы проявиться.
Эмили прижала кулаки к вискам, плотно зажмурилась и крепко сжала зубы, борясь со сгущающимися облаками, тщетно пытаясь спасти себя, удержать свою личность, но было поздно. Происходила метаморфоза. Она больше не была той девушкой, которой считала себя раньше, и скоро навсегда прекратит быть ею. Перед ней возникло видение тонущей молодой женщины – точно так же тонула Мелоди Мак-Реди, борясь с наступающим забвением, – и она была одновременно этой женщиной и тем, кто держал ее под водой, не давая поднять голову. Умирающая в последний раз всколыхнула воду и взглянула на мир, и в ее глазах отразилось существо, старое и страшное, черное, бесполое, с развернутыми за спиной черными крыльями, загораживающими свет, существо такое безобразное, что оно было чуть ли не прекрасно, или такое прекрасное, что ему не было места в этом мире.
Оно.
И Эмили умерла в его руках, захлебнулась в темной воде, пропала навсегда. Она всегда была пропащей, с момента своего рождения, когда этот странный блуждающий дух, выбравший ее тело для своего обитания, спрятался в ее сознании, ожидая момента, чтобы проявить свое истинное естество.
Теперь это существо, которым она стала, смотрело на коротышку, схватившего ее за руку. Она больше не понимала, что он говорит. Его слова были просто шумом у нее в ушах. И они не имели никакого значения. Она чуяла его и ощущала мерзость внутри него, которая выталкивала зловоние из его пор. Серийный обидчик женщин. Человек, наполненный злобой и странными жестокими желаниями.
И все же она не осуждала его – не больше, чем паука за то, что пожирает муху, или собаку за то, что грызет кость. Такова была его натура, и она заметила в ней отголосок собственной.
Он сжал ее руку сильнее. Он брызгал слюной, но она видела лишь движение его губ. Он начал вставать, но замер, словно заметив, что что-то изменилось, что казавшееся ему знакомым вдруг стало совершенно чуждым. Она вырвала руку и придвинулась к нему. Потом положила руки ему на лицо и наклонилась, чтобы его поцеловать, ее раскрытые губы приблизились к его рту, не обращая внимания на его злобу, его зловонное дыхание, гнилые зубы и пожелтевшие десны. Он сопротивлялся, но она была слишком сильна для него. Она выдохнула в него, уставившись ему в глаза, и показала ему, что с ним будет, когда он умрет.
Шелли не видела, как Эмили ушла, не видел и Харбарук, и никто другой из работавших рядом с ней. Если бы они могли прокрутить свои воспоминания о том вечере на экране и увидеть, что происходило у них перед глазами, то уходящая девушка показалась бы им движущейся через бар какой-то сероватой массой, стершейся формой, отдаленно напоминавшей человеческое существо.
Когда толстяк со стрелой на футболке вернулся из туалета, его приятель сидел спиной к стойке на прежнем месте, бессмысленно уставившись в стену.
– Пора идти, Ронни, – сказал толстяк и похлопал приятеля по спине, но тот не двигался. – Эй, Ронни! – Он встал перед ним и онемел. Как бы ни был он пьян, но понял, что его приятель безнадежен.
Ронни ронял кровавые слезы, и его губы шевелились, снова и снова пытаясь выговорить одно и то же слово. Все капилляры в его глазах полопались, и белки стали совершенно красными, с двумя черными солнцами на фоне заката. Он что-то шептал, но его друг не мог расслышать, что он говорит.
А тот повторял:
– Простите. Простите. Простите. Простите. Простите…
Глава 29
По знаку Эпштейна женщина принесла еще кофе, снова черный ему и с молоком мне. Между нами лежали два символа.
– Что они означают? – спросил я.
– Это буквы енохианского, или адамического, алфавита. Они были якобы переданы английскому магу Джону Ди и его коллегам в течение нескольких десятилетий в XVI веке.
– Переданы?
– Посредством оккультных действий, хотя, может быть, язык был просто придуман. Какова бы ни была его природа, первая енохианская буква «унд» соответствует нашей «а». В таком случае она представляет собой имя Анмаил.
Джимми Галлахер силился вспомнить: «Анимал. Нет, не то…»
– И что такое Анмаил?
– Анмаил – это демон, один из григори, или «сыновей Божьих», – сказал Эпштейн. – Григори также известны как «хранители» или «вечно бодрствующие». Согласно началам апокрифов и, в частности, Книге Еноха, это гигантские существа, которые, по одной из версий, были низвержены во время великого падения ангелов за грех сладострастия.
Он растопырил перед собой пальцы, оставив правый большой палец прижатым к ладони.
– Девять ангельских сонмов, все бесполые и безупречные. – Он разогнул большой палец, добавляя его к остальным. – А десятый – это григори, они существенно отличаются от остальных. Формой и сексуальными пристрастиями они похожи на мужчин, и это их сонм пал. В Книге Бытия это григори отличались плотским сладострастием и брали себе в жены дочерей человеческих. Эта теория всегда была предметом дискуссий. Великий рабби Шимон бен Иохай, да будет благословенно его имя, запретил своим последователям говорить о таких материях, но, как видите, мне такое малодушие не свойственно.
Так вот, Анмаил был одним из григори. Он, в свою очередь, связан с Семъяйзой, одним из архангелов сонма. Некоторые говорят, что Семъяйза раскаялся в своих деяниях, но это, я подозреваю, больше связано с желанием ранней церкви найти фигуру раскаяния, чем с чем-то еще.
Значит, мы имеем двух ангелов: Анмаила и Семъяйзу, но тут христианские и иудейские взгляды расходятся. В христианском каноне, происходящем из еврейских источников, ангелы традиционно считаются бесполыми или, в случае высших сонмов, исключительно мужского пола. Иудейские же взгляды, напротив, допускают существование ангелов обоих полов. Библиограф Хаим Азулал пишет в своем «Милбар-Кедемоте» в 1792 году, что «ангелов называли женщинами», как это написано в Захарии, стих девятый: «И поднял я глаза мои и увидел: вот появились две женщины, и ветер был в крыльях их». «Ялкут Хадаш» говорит: «Об ангелах мы можем говорить как в мужском, так и в женском роде: ангелов высшей ступени называют мужчинами, а ангелов низшей ступени называют женщинами». По крайней мере, иудаизм имеет менее жесткую концепцию насчет пола этих существ.
На теле Аккермана и подростка, убитого вашим отцом в Перл-Ривер, на обоих была выжжена енохианская буква «а» или «унд». Женщины же, в отличие от них, имели клеймо виде буквы «уам» или «с» – Семъяйза.
Он помолчал, словно обдумывая что-то, и продолжил:
– Я часто думаю, что сыны человеческие должны быть сильно разочарованы в таких существах. Они вожделеют к нашей плоти, нашему телу, а наше сознание и протяженность нашей жизни для них сравнимы с умом и жизнью насекомых. А что, если два ангела, мужского и женского пола, вселятся в тела мужчины и женщины и насладятся своим союзом, как равные? А когда эти тела износятся, они переселятся дальше, найдут других, в кого вселиться, и потом будут снова искать друг друга. Иногда это занимает годы. Может быть, в некоторых случаях им не удается соединиться, и поиски продолжаются в другом теле, но они никогда не прекращают поисков, потому что не могут найти покоя друг без друга. Анмаил и Семъяйза – близкие души, если так можно сказать о существах, не имеющих души, или влюбленные – если так можно сказать о тех, в ком нет любви.
И цена, которую они платят за свой союз, я полагаю, – выполнение воли другого. В данном случае перед ними поставлена задача – положить конец вашему существованию.
– Воли другого?
– Кто-то управляет их сознанием. Может быть, те, с кем вы встречались в прошлом – Падд, Брайтвелл, наш друг Киттим, возможно, даже Странник, чья человеческая природа не вызывает сомнений, ведь разве Странник не ссылался на Книгу Еноха? – тоже выполняли чью-то волю, даже сами не ведая об этом. Задумайтесь над человеческим телом: некоторые процессы происходят в нем непроизвольно. Сердце бьется, печень очищает, почки выделяют. Мозгу не надо говорить им, чтобы выполняли эти задачи, но они осуществляют функции по поддержанию жизни тела. Однако взять книгу, вести машину, стрелять из пистолета, чтобы прекратить жизнь, – это осознанные действия. Поэтому, возможно, кто-то выполняет волю другого, сам того не зная, и его собственные злодеяния выполняют какую-то более высокую задачу. Впрочем, есть другие, кому конкретно поручены определенные задачи, и поэтому их деятельность в конечном счете более осознанна.
– И кто же управляет их сознанием?
– Этого мы пока еще не знаем.
– Мы, – сказал я. – Я полагаю, вы говорите про вас и меня?
– Не совсем.
– Коллекционер говорил о моих «тайных друзьях». Вы не попадаете в эту категорию?
– Для меня была бы большая честь так думать.
– И есть другие?
– Да, хотя некоторые, может быть, не так уж хотят носить мантию дружбы с вами в широком смысле это слова, – сказал Эпштейн, виртуозно по своей дипломатичности подобрав слова.
– Не присылают открыток на Рождество.
– Вообще открыток не присылают.
– И вы не скажете мне, кто они?
– Пока вам лучше не знать.
– Боитесь, что я начну звонить кому не следует?
– Нет, но если вы не будете знать их имен, то не откроете их другим.
– Например, Анмаилу, если он решит применить ко мне свое лезвие.
– Вы не одиноки в этом деле, мистер Паркер. Разумеется, вы необычный человек, и я еще не выяснил, почему вы стали таким объектом ненависти и, рискну сказать, центром притяжения всякой мерзости, но есть и другие люди, о которых мне нужно подумать.
– Не это ли и есть подразделение № 5 – кодовое название моих тайных друзей?
От неожиданности Эпштейн на мгновение растерялся, но быстро взял себя в руки.
– Подразделение № 5 – это всего лишь название.
– Название для чего?
– Сначала – чтобы заниматься Странником. С тех пор, полагаю, область деятельности подразделения несколько расширилась. И вы попали в эту область.
Пошел дождь. Я оглянулся через плечо и увидел, как потемнел тротуар и как с красной маркизы над входом течет вода.
– Так что мне делать?
– С чем?
– С Анмаилом, или тем, кто считает себя Анмаилом.
– Он ждет.
– Чего?
– Пока к нему присоединится его вторая половина. Должно быть, он верит, что она где-то рядом, иначе бы не раскрыл себя. Она, в свою очередь, оставляет следы для него, даже не сознавая этого. Когда она придет к нему, они сделают свой ход. Ждать осталось недолго, раз Анмаил подготовился к убийству Уоллеса и подписался на стене своим именем. Он чувствует ее приближение, и скоро они окажутся вместе. Думаю, мы могли бы спрятать вас, но этим мы бы просто оттянули неизбежное. Чтобы позабавиться и выманить вас, они могут причинить вред вашим близким.
– И что бы вы сделали на моем месте?
– Я бы выбрал место сражения. У вас есть союзники: Ангел и тот, кто где-то здесь рядом. Я могу выделить парочку молодых людей, которые будут держаться на разумном расстоянии, но не упускать вас из виду. Посветитесь близ того места, которое выберете, и мы их поймаем.
Эпштейн встал. Встреча закончилась.
– У меня еще один вопрос, – сказал я.
Эпштейн состроил гримасу, которую можно было принять за признак раздражения, но он стер ее и снова принял обычную мину доброжелательной заинтересованности.
– Задавайте.
– Умерший ребенок Элейн Паркер – это был мальчик или девочка?
– Девочка. Кажется, ее назвали Сарой. Ее отобрали у нее и тайно похоронили. Не знаю где. Было лучше никому не знать.
Сара, моя сестра, похороненная без имени на младенческом кладбище, чтобы защитить меня.
– Но у меня, в свою очередь, может найтись задачка, чтобы вы подумали над ней, – сказал Эпштейн. – Как они разыскали Каролину Карр? В двух случаях ваш отец и Джимми Галлахер спрятали ее очень хорошо: один раз на окраине, перед тем как Аккерман погиб под колесами грузовика, а потом во время беременности. И все же те мужчина и женщина сумели ее выследить. Потом кто-то выяснил, что Уилл Паркер солгал насчет обстоятельств рождения своего сына, и они снова вернулись, чтобы попытаться исправить свою ошибку.
– Это мог быть кто-то из ваших людей, – предположил я. – Джимми рассказал мне про совещание в клинике. Один из них мог разболтать или намеренно, или нечаянно.
– Нет, они никому не рассказывали, – сказал Эпштейн с такой убежденностью, что я не стал возражать. – И даже если бы я усомнился в них, а я в них не сомневаюсь, никто из них не знал о природе угрозы Каролине Карр, пока она не погибла. Они лишь знали, что эта молодая женщина попала в беду и нуждается в защите. Возможно, тайна о ваших родителях могла просочиться. Мы удалили из медицинской карты Элейн Паркер подробности о ее мертвом ребенке, и она прекратила все контакты с больницей и акушером, наблюдавшими ее на ранних стадиях беременности. Все материалы были впоследствии вычищены. Была проблема с вашей группой крови, но это должно было быть конфиденциальным делом между вашей семьей и доктором, а он, похоже, вел себя безупречно во всех отношениях. И потом мы предупредили вашего отца, чтобы был всегда начеку, а он относился внимательно к нашим предостережениям.
– До той ночи, когда устроил стрельбу в Перл-Ривер, – заметил я.
– Да, до той ночи.
– Вам не следовало отпускать его туда одного.
– Я не знал, что он задумал, – сказал Эпштейн. – Я хотел взять их живьем. Таким образом мы могли бы заключить их под стражу и положить конец всему этому.
Он надел свою шляпу и пальто и собрался проскользнуть мимо меня.
– Помните, что я сказал. Полагаю, вашего отца выдал кто-то из его знакомых. Вы тоже можете подвергнуться такому риску. Я оставляю вас на попечение ваших коллег.
Он ушел со своими телохранителями, оставив меня с темноволосой немой, которая грустно мне улыбнулась и начала тушить лампы.
Где-то в дальнем конце закусочной зазвенел звонок, и над стойкой вспыхнул красный фонарь, чтобы женщина увидела. Она приложила палец к губам, давая мне знак, чтобы я молчал, и исчезла за шторой, а через несколько секунд поманила меня пальцем.
На маленьком экране была видна стоящая за складом фигура. Это был Луис. Я показал ей, что знаю его, и что его можно впустить. Она открыла дверь.
– Там у входа машина, – сказал Луис. – Похоже, сопровождала сюда Эпштейна. Внутри двое в костюмах. Скорее федералы, чем копы.
– Они могли забрать меня, пока я разговаривал с Эпштейном.
– Может быть, они не хотели тебя забирать. Может быть, они просто хотят узнать, где ты поселился.
– Моему квартиросдатчику это бы не понравилось.
– Вот почему твой квартиросдатчик и стоит здесь, отморозив задницу.
Я поблагодарил женщину и вышел вместе с Луисом. Она закрыла за нами дверь.
– Не очень разговорчива, – заметил Луис.
– Она глухонемая.
– Это многое объясняет. Впрочем, приятная женщина, если любишь молчаливых.
– Ты не задумывался о том, чтобы пройти курсы повышения отзывчивости?
– Думаешь, это поможет?
– Скорей всего, нет.
– Вот видишь.
В конце улицы Луис остановился и оглянулся на угол. Появилось такси. Он окликнул его, и мы отъехали без признаков хвоста. Таксист был больше занят разговором по блютузу, чем нами, но, на всякий случай, перед тем, как свернуть к нашей спокойной и безопасной квартире, мы сменили такси.
Глава 30
Джимми Галлахер никогда не считал себя хорошим хранителем тайн. Он был болтлив. Любил выпить и поговорить. Когда он выпивал, его язык срывался с привязи, и все фильтры рушились. Он говорил и сам удивлялся, слыша свои слова, словно стоял где-то рядом с собой и смотрел, как кто-то говорит. Но он знал, как важно молчать о происхождении сына Уилла Паркера, и даже выпив, умалчивал о некоторых сторонах и собственной жизни. И все же после самоубийства Уилла он сторонился мальчика и его матери. Лучше держаться подальше, чувствовал он, чем рисковать проболтаться о чем-то, что может вызвать подозрения, или обидеть его мать, заговорив о вещах, которые лучше держать поглубже в смятенных, измученных сердцах. И несмотря на многие свои слабости, за все годы, с тех пор как Элейн уехала с сыном в Мэн, он ни разу не проговорился о том, что знал.
Но он всегда подозревал, что Чарли Паркер придет его разыскивать. Это было в натуре Чарли – задавать вопросы, искать правду. Он был охотник, и в нем было упрямство, которое, считал Джимми, в конце концов будет стоить ему жизни. Когда-нибудь в будущем он перешагнет черту и заглянет туда, куда лучше не заглядывать, и что-нибудь высунется оттуда и уничтожит его. Джимми был уверен в этом. И этим местом вполне могла оказаться природа его собственной личности и тайна его рождения.
Он допил остатки вина и поиграл бокалом, от чего на стене закачались отбрасываемые свечой узоры. Рядом с раковиной еще оставалось полбутылки. Неделю назад он бы допил ее и, может быть, откупорил бы новую для нужной меры, но не теперь. Порыв пить больше, чем следовало, частично отступил. Джимми понимал, что нужно сохранить голову ясной. Он рассказал Чарли Паркеру все, что знал, и теперь освободился от ответственности.
И все же он чувствовал, что с признанием некоторая связь между ними разорвалась. Нельзя сказать, что это были узы доверия, так как он с Чарли никогда не был близок и никогда не будет. Он чувствовал, что с юных лет мальчику было неловко рядом с ним. Впрочем, Джимми никогда по-настоящему не понимал, как обращаться с детьми. Его сестра была на пятнадцать лет старше его, и он вырос с чувством, что он единственный ребенок. К тому же, когда он родился, его родители были уже старыми. Старыми. Джимми усмехнулся. Сколько им было: тридцать восемь, тридцать девять? И все же между родителями и сыном не хватало понимания, хотя он очень любил обоих, а когда вырос, разрыв между ними только увеличился. Они никогда не обсуждали его сексуальную ориентацию, хотя он всегда понимал, что мать, а может быть, и отец тоже осознают, что их сын никогда не женится ни на ком из тех девушек, с которыми порой ходил на танцы или в кино.
И, признавая свои побуждения, он никогда не поддавался им. Он считал, что отчасти из страха. Ему не хотелось, чтобы его товарищи полицейские узнали, что он гей. Они были его семьей, его настоящей семьей. Он не хотел делать ничего такого, что отвратило бы их от него. Теперь, на пенсии, он так и оставался девственником. Забавно, но ему казалось трудно применить это слово к человеку под семьдесят. Такое описание применимо к молодому человеку на пороге нового опыта, а не к старику. О, у него еще хватало энергии, и иногда он подумывал, что могло бы быть – неплохо? интересно? – начать с кем-то отношения, но в этом была проблема: он не знал, с чего начать. Он не был какой-нибудь краснеющей невестой, ожидающей лишения девственности. Он определенно знал жизнь и с хорошей, и с плохой стороны. Слишком поздно, думал он, сдаваться теперь кому-нибудь с бо́льшим опытом в вопросах секса и любви.
Джимми аккуратно закупорил бутылку красного вина и поставил ее в холодильник. Это ему подсказали в местном магазине спиртных напитков, и получалось хорошо, если не забыть дать вину согреться, прежде чем пить его снова на следующий день. Он выключил свет, запер на два замка переднюю и заднюю двери и лег спать.
Сначала ему удалось зафиксировать шум во сне, как это иногда случалось, когда тревога уходила, и он так крепко спал, что звонки начинали по очереди звенеть в его снах. В этом сне со стола упал бокал и разбился об пол. Впрочем, это был не его бокал, и не совсем его кухня, хотя чем-то напоминала. Она была больше, и темные углы протянулись в бесконечность. Плитки на полу были плитками из дома, в котором он вырос, а рядом была его мать. Он слышал, как она поет, хотя и не видел ее.
Джимми проснулся. Какое-то время стояла тишина, а потом послышались легчайшие звуки – осколок стекла под ногой царапнул пол. Джимми осторожно вылез из постели и открыл шкаф у кровати. Там лежал вычищенный и заряженный револьвер тридцать восьмого калибра. В нижнем белье Джимми пересек комнату, и под ногами не скрипнула ни одна половица. Он знал это место досконально, каждую трещинку, каждый стык. Хотя дом был и старый, он мог перемещаться по нему беззвучно.
Встав на верху лестницы, он стал ждать. Все опять было тихо, но он чувствовал чье-то присутствие. Темнота стала для него тягостной, и он вдруг испугался. Он подумал, не выкрикнуть ли предупреждение, чтобы тот, кто внизу, мог убежать, но он знал, что если крикнет, его голос будет дрожать и выдаст его страх. Лучше идти дальше. У него револьвер. Он бывший полицейский. Если придется стрелять, то его товарищи уладят это. И обвинят другого.
Он стал спускаться. Дверь в кухню была открыта. Один осколок стекла поблескивал в лунном свете. Рука у Джимми дрожала, и он попытался успокоить себя тем, что взял револьвер двумя руками. На нижнем этаже было только две комнаты: гостиная и кухня, соединенные двумя внутренними дверями. Было видно, что те двери закрыты. Он глотнул и подумал, что во рту еще остался вкус вечернего вина. Оно прокисло, как уксус.
По босым ногам потянуло холодом, и он понял, что открыта дверь в подвал. Вот как чужой проник в дом и, может быть, так же убрался, когда разбил бокал. Джимми вздрогнул. Он понял, что ему хочется так думать. Но кто-то был здесь. Он ощущал его. Гостиная была совсем рядом. Сначала нужно осмотреть ее, чтобы пришелец не смог подойти к нему сзади, когда он будет осматривать кухню.
Джимми заглянул внутрь через щель в двери. Окна не были зашторены, но с улицы пробивался лишь скупой луч лунного света, поэтому было трудно различить что-либо. Джимми быстро вошел и сразу понял, что совершил ошибку. Тени шевельнулись, и дверь сильно ударила его, выведя из равновесия. Пытаясь поднять револьвер и выстрелить, он ощутил жжение в запястьях. Кожа разошлась, сухожилия были перерезаны. Револьвер упал на пол, и кровь из раны полилась на него. Что-то ударило его по темени, потом еще раз, и, теряя сознание, он мельком заметил длинный плоский клинок.
* * *
Когда он пришел в себя, то лежал на животе на кухне, руки были связаны за спиной, ноги загнуты к ягодицам и привязаны веревкой к рукам, так что он не мог двинуться. Он ощутил холод на коже, но не такой сильный, как раньше. Дверь в подвал снова была закрыта, и теперь лишь легкий сквозняк дул из щели под кухонной дверью. Впрочем, плитки на полу холодили. Джимми чувствовал слабость. Его руки и лицо залила кровь, голова болела. Он попытался позвать на помощь, но щеки коснулось лезвие клинка. Фигура рядом была так тиха и неподвижна, что он даже не заметил ее присутствия, пока она не пошевелилась.
– Не надо, – сказал незнакомый мужской голос.
– Что вам нужно?
– Поговорить.
– О чем поговорить?
– О Чарли Паркере. О его отце. Его матери.
Джимми пошевелился, от чего из раны на голове снова потекла кровь. Она залила глаза, и их защипало.
– Если хотите что-то узнать, поговорите с ним сами. Я уже много лет не виделся с Чарли Паркером, с тех пор…
Ему в рот запихнули яблоко так плотно, что он не мог его вытолкнуть или откусить. Посмотрев в лицо своего мучителя, Джимми подумал, что никогда не видел таких темных, таких безжалостных глаз. Перед его глазами был осколок стекла. Джимми перевел взгляд с него на символ, выжженный на предплечье этого человека, а потом снова на осколок. Он раньше видел такое клеймо и теперь понял, что его ожидает.
Анимал. Амаль.
Анмаил.
– Ты врешь. Я покажу тебе, что бывает с голубыми копами, которые говорят неправду.
Одной рукой Анмаил схватил Джимми за шею и нагнул голову вниз, а другой вогнал осколок бокала под кожу между лопатками.
Джимми закричал сквозь яблоко.
Глава 31
Джимми Галлахера нашла Эсмеральда, женщина Эла Сальвадорца, которая дважды в неделю приходила делать уборку. Когда приехала полиция, Эсмеральда была вся в слезах, но в целом спокойна. Оказалось, у себя на родине она видела немало трупов, и ее способность к потрясению была ограничена. Тем не менее она не могла сдержать слез по Джимми, который всегда был с ней милым и добрым и шутил с ней, и платил больше, чем полагалось, и выплачивал премию на Рождество.
Мне сообщил Луис. Он пришел в квартиру в начале десятого. История уже появилась в новостях по радио и телевидению, хотя имя жертвы не было названо, но для Луиса не заняло много времени выяснить, что это был Джимми Галлахер. Я какое-то время ничего не говорил. Не мог. Я полагал, что он хранил тайну из любви к моим отцу и матери, а не из неуместной заботы обо мне. Из всех друзей отца Джимми был самым преданным.
Я связался с Сантосом, детективом, который возил меня на Хобарт-стрит в тот день, когда нашли тело Уоллеса.
– Плохо дело, – ответил он. – Кто-то убивал его не спеша. Я пытался вам позвонить, но ваш телефон был выключен.
Он сказал мне, что тело Джимми перевезли в Бруклинское отделение главного медицинского эксперта в окружной больнице Кингса на Кларксон-авеню, и я предложил ему встретиться там.
* * *
Когда такси подрулило к моргу, Сантос курил на улице.
– Вас нелегко найти, – сказал он. – Вы потеряли свой мобильник?
– Типа того.
– Нам нужно поговорить, когда закончим с этим.
Он отшвырнул окурок, и я последовал за ним внутрь. Сантос и второй детектив по имени Тревис встали по обе стороны от тела, и служитель морга стянул простыню. Я стоял рядом с Сантосом. Он смотрел на служителя. Тревис смотрел на меня.
Джимми уже умыли, но его лицо и верхняя часть туловища были все изрезаны. Одна рана на левой щеке была так глубока, что через нее виднелись зубы.
– Переверните его, – попросил Тревис.
– Вы мне не поможете? – попросил служитель. – Парень тяжелый.
Тревис был в синих пластиковых перчатках, как и Сантос. У меня руки были голые. Я смотрел, как они втроем приподняли тело Джимми, перевернули его на бок, а потом на грудь.
На спине у Джимми были вырезаны буквы: «ПИДОР». Некоторые порезы были ровнее других, но все были глубокими. Наверное, было много крови и боли.
– Чем резали?
– Буквы – ножкой разбитого бокала, а остальное каким-то лезвием. Оружия мы не нашли, но на черепе были необычные раны, – ответил Сантос.
Он осторожно приподнял голову Джимми, раздвинул волосы на темени и открыл два перекрывающихся квадратных ушиба. Сантос сжал правую руку в кулак и дважды ударил сверху вниз по воздуху.
– Похоже, какой-то большой нож, может быть, мачете или что-то в этом роде. Мы полагаем, убийца дважды ударил Джимми рукоятью, чтобы оглушить, потом связал и стал работать клинком. Рядом с головой лежали яблоки с укусами на них. Вот почему никто не слышал его криков.
Он говорил не небрежно или с намеком на черствость. Нет, он выглядел усталым и печальным. Перед ним лежал бывший коп, которого многие вспоминали добрым словом. Подробности убийства и вырезанное на спине слово уже обсуждались копами. Печаль и гнев от его смерти будут слегка замараны этими обстоятельствами. Убийство гомика – вот как некоторые будут говорить об этом. Будут спрашивать: «Кто знал, что Джимми Галлахер был голубым?» А ведь они выпивали вместе с ним. Делились замечаниями о проходивших мимо женщинах. Черт, он даже встречался с некоторыми. И все это время скрывал правду. А некоторые скажут, что все время подозревали и гадали, как же это его угораздило. Будут шептаться: он стал заигрывать не с тем парнем; он связался с несовершеннолетним…
Ах, с ребенком.
– Вы рассматриваете это как преступление на почве ненависти? – спросил я.
Тревис пожал плечами и впервые заговорил:
– Я бы мог склониться к этому. Но в любом случае нам придется задавать такие вопросы, которые Джимми не захотелось бы, чтобы мы задавали. Нужно узнать, были ли у него любовники или случайные связи, не доходил ли он до каких-либо крайностей.
– Вы не найдете никаких любовников, – сказал я.
– Вы, кажется, довольно уверены в этом.
– Да, уверен. Джимми всегда стыдился этого и боялся.
– Боялся чего?
– Что кто-нибудь узнает. Кто-нибудь из друзей. Все они были копы, копы старой школы. Вряд ли он верил, что они его поймут. Думал, они будут смеяться над ним или отвернутся от него. Он не хотел, чтобы над ним шутили. Он предпочитал быть один.
– Ну, этого не припишешь его стилю жизни, тогда что же?
Я ненадолго задумался, потом сказал:
– Яблоки.
– Что? – не понял Тревис.
– Вы сказали, что рядом с ним нашли яблоки – несколько яблок?
– Три. Может быть, убийца думал, что через какое-то время Галлахер мог бы откусить одно.
– А может быть, он останавливался после каждой буквы.
– Зачем?
– Чтобы задавать вопросы.
– О чем?
– О нем, – вместо меня ответил Сантос, указав на меня. – Он думает, что это связано с убийством Уоллеса.
– Это так?
– У Уоллеса на теле не было вырезано слов, – сказал Сантос, но я понял, что он просто играет роль адвоката дьявола.
– Обоих пытали, чтобы заставить говорить.
– И обоих вы знали, – сказал Сантос. – Почему бы вам не рассказать нам снова, чем вы тут занимаетесь?
– Я пытаюсь выяснить, зачем мой отец убил двух подростков в машине в восемьдесят втором году.
– И у Джимми Галлахера был ответ?
Я не ответил, а только покачал головой.
– Что, по-вашему, он рассказал убийце?
Я посмотрел на нанесенные ему раны. Я бы на его месте рассказал все. Это миф, что человек может выдержать пытки. В конце концов, любой расколется.
– Все, что могло остановить истязание, – сказал я. – Как он умер?
– Задохнулся. Винную бутылку засунули ему в рот вперед горлышком. Это подтверждает подозрение в убийстве на почве ненависти. Это был, так сказать, фаллический символ или играл его роль.
Это было унизительно и напоминало месть. Почтенный человек был брошен голым и связанным, со знаком на спине, который клеймил его среди товарищей-копов и бросал тень на память о человеке, которого они знали. Я считал, что это не связано с тем, что Джимми знал или не знал. Он был наказан за то, что молчал все это время, и что бы он ни сказал, это не спасло бы его от такой участи.
Сантос кивнул служителю. Вместе они положили Джимми на спину и снова накрыли простыней, а потом поместили обратно на его место среди пронумерованных покойников. Дверь за ним закрылась, и мы вышли из морга.
На улице Сантос снова закурил и предложил сигарету Тревису, тот взял.
– Знаете, – сказал он, – если вы правы и это не убийство из ненависти, то он умер из-за вас. Что вы скрываете от нас?
Какое это имело теперь значение? Все шло к развязке.
– Вернитесь назад и посмотрите материалы об убийстве в Перл-Ривер, – ответил я. – У погибшего паренька был знак на предплечье. Похоже, он был выжжен на коже. Этот знак такой же, как тот, что вы обнаружили на стене на Хобарт-стрит, начерченный кровью Уоллеса. Предполагаю, что вы найдете схожий знак и где-то в доме Джимми.
Тревис и Сантос переглянулись.
– Где он был? – спросил я.
– У него на груди, – ответил Сантос. – Начерчен кровью. Нас предупредили, чтобы молчали об этом. Я говорю вам только потому… – Он задумался. – Сам не знаю, почему я вам сказал.
– Так что же там произошло? Вы не верите, что это было убийство из ненависти. И знаете, что это связано со смертью Уоллеса.
– Мы только хотели бы сначала выслушать вашу версию, – сказал Тревис. – Это называется «расследование». Мы задаем вопросы, вы на них не отвечаете, мы не удовлетворены. Говорят, это для вас установившаяся практика.
– Нам известно, что означает этот символ, – сказал Сантос, не слушая Тревиса. – Мы нашли человека в Институте современной теологии, который нам объяснил.
– Это енохианское «а», – сказал я.
– Давно вы узнали?
– Не так давно. Когда вы мне показывали, я еще не знал.
– О чем мы говорим? – спросил Тревис. Он несколько успокоился, поняв, что ни Сантос, ни я не собираемся дать увлечь себя его предложением. – Какой-то культ? Ритуальные убийства?
– И как это связано с вами, если не считать факта, что вы были знакомы с обеими жертвами? – спросил Сантос.
– Не знаю, – ответил я. – Вот это я и пытаюсь выяснить.
– Почему бы просто не попытать вас? – сказал Тревис. – То есть я могу понять такой порыв.
Я пропустил его слова мимо ушей.
– Есть такой человек по имени Эйза Дьюранд. Он живет в Перл-Ривер. – Я дал им адрес. – Он сказал, что какой-то парень не так давно присматривался к его дому и спрашивал, что здесь произошло. Эйза Дьюранд живет в том доме, где жил я до самоубийства моего отца. Может быть, стоило бы послать рисовальщика, чтобы снять портрет того человека по воспоминаниям Дьюранда.
Сантос глубоко затянулся и выдохнул дым в мою сторону.
– Эти сигареты вас убьют, – сказал я.
– На вашем месте я бы больше беспокоился о своей смертности, – ответил он. – Полагаю, вы залегли глубоко, но включите же свой чертов мобильник снова. Не вынуждайте нас затащить вас в надежное место и запереть там для вашей же безопасности.
– Мы что, отпустим его? – недоверчиво спросил Тревис.
– По-моему, он сказал нам все о своих планах и соображениях, – ответил Сантос. – Верно, мистер Паркер? И это больше, чем мы могли узнать от наших людей.
– Подразделение № 5, – сказал я.
Сантос удивленно взглянул на меня.
– Вы знаете, что это такое?
– А вы?
– Догадываюсь, что для этого нужен какой-то допуск к секретным материалам, которого у обычного работяги вроде меня нет.
– Да, что-то в этом роде. Я знаю о нем не намного больше вас.
– Что-то я не очень вам верю, но мне кажется, что сейчас нам ничего не остается, кроме как ждать, потому что, сдается мне, ваше имя числится в одном списке с Джимми Галлахером и Микки Уоллесом. Когда убившие их окажутся рядом с вами, то придет пора привязывать бирку или к вашей ноге, или к их. Идите, я довезу вас до подземки. Чем скорее вы покинете Бруклин, тем счастливее я буду.
Они высадили меня у подземки.
– Мы с вами еще увидимся, – сказал Сантос.
– С мертвым или живым, – добавил Тревис.
Я посмотрел, как они отъехали. В машине они не разговаривали со мной, и мне было все равно. Я был слишком занят размышлениями о слове, вырезанном на спине у Джимми Галлахера. Из чего убийца заключил, что Джимми – гей? Джимми хранил это в тайне на протяжении всей жизни – своей и других. Я узнал о его ориентации из того, что говорила моя мать после смерти отца, когда я стал чуть постарше и повзрослее, и она заверила меня, что мало кто из его товарищей знает об этом. По сути, сказала она, об этом знали лишь двое.
Одним из тех двоих был мой отец.
А вторым – Эдди Грейс.
Глава 32
Дверь открыла Аманда Грейс. Ее волосы были повязаны красной лентой, а на лице ни следа косметики. На ней были тренировочные штаны и старая рубаха, она была вся в поту, а в правой руке держала вантуз.
– Прекрасно! – сказала Аманда, увидев меня. – Просто прекрасно.
– Насколько понимаю, я не вовремя.
– Мог бы сначала позвонить. Я бы хоть положила вантуз.
– Я бы хотел еще раз поговорить с твоим отцом.
Она отступила назад, приглашая меня войти.
– После твоего последнего визита он здорово устал. Что-то важное?
– Я думаю, да.
– Про Джимми Галлахера, да?
– В некотором роде.
Я прошел за ней на кухню. Там стоял тяжелый запах, и я увидел, что из раковины не уходит грязная вода.
– Что-то там застряло, – сказала Аманда и протянула мне вантуз.
Я снял пиджак и взялся за работу, а она оперлась бедром о буфет и стала ждать.
– Что происходит, Чарли?
– Что ты имеешь в виду?
– Мы смотрим новости. Мы видели, что случилось в твоем старом доме и слышали про Джимми. Это связано между собой, верно?
Почувствовав, что вода начала уходить, я отошел и стал смотреть, как она убывает в раковине.
– Твоему отцу есть что сказать об этом?
– Похоже, он опечален смертью Джимми. Когда-то они были друзьями.
– У тебя есть какая-нибудь идея, почему они разошлись?
Аманда отвела глаза.
– Думаю, моему отцу не нравилась та жизнь, какую вел Джимми.
– Это он так тебе сказал?
– Нет, я сама догадалась. Но ты так и не ответил на мой вопрос. Что происходит?
Я повернулся к ней и встретил ее взгляд, пока она не отвела глаза.
– Черт бы тебя побрал, – проговорила она.
– Как я тебе сказал, я был бы благодарен за несколько минут с Эдди.
Она с явным недовольством провела рукой по лбу.
– Он проснулся, но еще в постели. Ему нужно время, чтобы одеться.
– Не надо таких усилий. Я могу поговорить с ним у него в комнате. Это не займет много времени.
Она, казалось, все еще сомневалась, разумно ли будет разрешить мне его увидеть. Я чувствовал ее беспокойство.
– Ты сегодня не такой, – сказала она.
– Не такой, как кто?
– Не такой, как в прошлый раз. Думаю, мне это не нравится.
– Мне нужно с ним поговорить, Аманда. А потом я уйду, и будет не важно, понравился ли я тебе.
Она кивнула.
– Наверх по лестнице. Вторая дверь направо. Постучи, прежде чем войти.
На мой стук за дверью раздался какой-то хрип. Занавески в комнате были опущены, пахло болезнью и разложением. Голову Эдди Грейса подпирали две большие белые подушки. На нем была пижама в голубую полоску, и тусклый свет, казалось, подчеркивал бледность его кожи, так что он как будто светился. Я закрыл за собой дверь и взглянул на него.
– Ты вернулся, – проговорил Эдди. На его лице появился какой-то намек на улыбку, но в ней не было радости. В ней было знание чего-то неприятного, выражение недоброжелательности. – Я догадывался, что ты вернешься.
– Почему?
Он даже не попытался соврать.
– Потому что они пришли за тобой, и ты испугался.
– Вы знаете, что случилось с Джимми?
– Могу догадаться.
– Он был изрезан. Его пытали, а потом убили, а все потому, что он хранил секреты, потому что дружил с моим отцом и со мной.
– Ему следовало осторожнее выбирать друзей.
– Наверное, да. И вы были его другом.
Эдди тихо засмеялся. Это звучало так, будто из трупа выходит воздух, и пахло так же. Смех перешел в приступ кашля, и старик показал на закрытую пластмассовую чашку на тумбочке – вроде тех, какими пользуются маленькие дети, с приподнятым краем и отверстием в крышке, через которое можно пить. Я подержал ему кружку, пока он пил… Одна его рука коснулась моей, и я удивился, какая она холодная.
– Я был его другом, – сказал Эдди. – А потом ему пришлось рассказать мне и твоему отцу о себе, и после этого я порвал с ним. Он был педик, а не мужчина. Он был мне противен.
– И вы с ним порвали?
– Если бы мог, я бы оторвал ему яйца. Нужно было всем рассказать, кто он такой. Ему не следовало разрешать носить форму.
– Почему же вы не рассказали? – спросил я.
– Потому что они не хотели.
– Кто они?
– Анмаил и Семъяйза, хотя в первый раз, когда пришли ко мне, они называли себя не так. Я так и не узнал имени той женщины. Она никогда много не говорила. Мужчину звали Питер, но потом я узнал его истинное имя. В основном говорил он.
– Как они разыскали вас?
– У меня была одна слабость. Не такая, как у Джимми. У меня была мужская слабость. Я любил молоденьких.
Он снова улыбнулся. Его губы потрескались, и в деснах гнили оставшиеся зубы.
– Девочек, не мальчиков, – продолжал он. – Никаких мальчиков. Они узнали об этом. Вот что они делают: находят твою слабость и используют против тебя. Морковка и палка: они угрожали разоблачить меня, но если помогу им, то и они мне помогут. Они пришли ко мне после того, как твой отец стал встречаться с Каролиной Карр. Я еще не знал, кто они такие, тогда еще не знал, но потом узнал. – Его глаза блеснули. – Еще как узнал! Я рассказал им об этой женщине Карр. Я знал о ней: однажды я был напарником твоего отца, после того как они встретились, и видел их вместе.
Анмаил хотел знать, где она скрывается. Я не спрашивал зачем и выяснил, где Уилл прячет ее в Верхнем Ист-Сайде. Потом Анмаил погиб, а женщина исчезла. После этого твой отец и Джимми постоянно перевозили Каролину Карр, но делали это втихаря. Я сказал Семъяйзе, чтобы проследила за Джимми, потому что твой отец доверял ему, как никому другому. Я думал, что они просто хотят выследить ее, может быть, выкрасть ребенка. Когда они ее убили, я удивился так же, как и все.
Странно, но я поверил ему. Ему не было смысла лгать, и он не искал оправданий. Он говорил о событиях, будто был их свидетелем, а не прямым участником.
– Когда Уилл вернулся из Мэна с мальчишкой, я что-то заподозрил. Я знал медицинскую историю его жены, о ее проблемах с зачатием и вынашиванием ребенка. Все было шито белыми нитками. Но к тому времени я порвал с Джимми. А с твоим отцом был по-прежнему в добрых отношениях – или так думал, – но что-то между нами изменилось. Наверное, Джимми поговорил с ним, и он предпочел его, а не меня. Но мне было все равно. Наплевать. Плевать на них обоих.
Я ничего не слышал, наверное, лет пятнадцать. И больше ничего не ожидал. В конце концов, они умерли – и Анмаил, и женщина, – и я нашел способы, как быть довольным без них.
Потом появились этот пацан с девчонкой. Они сидели в машине и смотрели на мой дом. Я тогда играл в боулинг, и жена позвонила мне, сказала, что беспокоится. Я пришел домой, и клянусь, сразу понял, что это они. Я понял это еще до того, как они показали знаки у себя на руках, до того, как начали говорить о вещах, которые случились до их рождения, о моих разговорах с Анмаилом и той женщиной, пока они не умерли. То есть это были они в другом обличье. Я не сомневался в этом. Я видел это в их глазах. Я рассказал им о своих подозрениях насчет парня, которого воспитывали Уилл и его жена, но у них, похоже, уже были свои подозрения. Что и привело их назад. Они знали, что мальчишка все еще жив, что ты еще жив.
И вот я помог им, а ты все же не умер.
Он закрыл глаза. Я подумал было, что он уснул, но он заговорил, не открывая глаз.
– Я плакал, когда твой старик покончил с собой. Я любил его, хотя он и порвал со мной. Почему ты не мог умереть в той клинике? Если бы ты умер, все бы тогда и закончилось. А ты не умер.
Его глаза снова открылись.
– Но на этот раз все по-другому. За тобой охотятся не дети, и они кое-чему научились на своих ошибках. В них есть такая черта: они помнят. Каждый раз они были чуть ближе к успеху, а теперь им это крайне необходимо. Им нужна твоя смерть.
– Зачем?
Он уставился на меня, подняв брови. Мой вопрос будто бы позабавил его.
– Не думаю, что они сами знают. Ты мог бы так же спросить, зачем белые кровяные тельца нападают на инфекцию. Так они запрограммированы: бороться с угрозой, нейтрализовать ее. Впрочем, не мои. Мои скурвились.
– Где они?
– Я видел только его. Другой, женщины, не было. Он ждал ее, жаждал, чтобы она пришла к нему. Таковы они есть. Живут друг для друга.
– Кто он? Как он себя называет?
– Не знаю. Он не сказал.
– Он приходил сюда?
– Нет, это случилось, когда я еще был в больнице, но не так давно. Он принес мне конфеты. Это было, словно встретить старого друга.
– Это вы скормили ему Джимми?
– Нет, мне не пришлось. Они знали про Джимми все еще в прошлом.
– Благодаря вам.
– Какое это имеет теперь значение?
– Это имело значение для Джимми. Вы знаете, что он вынес перед смертью?
Эдди только отмахнулся, но не мог посмотреть мне в глаза.
– Опишите мне его.
Он снова показал, что хочет воды, и я дал ему. Его голос становился все более и более сиплым. Теперь это был еле слышный шепот.
– Нет, не скажу. И все равно, неужели ты думаешь, это тебе поможет? Если бы я думал, что что-то тебе поможет, я бы не сказал ничего. Мне нет до тебя дела, как и до того, что случилось с Джимми. Я почти покончил с этой жизнью. И мне обещали награду за то, что я сделал.
Он поднял голову с подушки, словно доверяя мне великую тайну.
– Их господин благ и милостив, – сказал Эдди, почти что самому себе, и в изнеможении осел на постели. Его дыхание потеряло глубину, и он уснул.
Аманда ждала меня внизу лестницы. Ее губы были сжаты так плотно, что вокруг рта образовались морщинки.
– Ну, что, получил то, чего хотел?
– Да. Подтверждение.
– Он старик. Что бы он ни совершил в прошлом, он заплатил за это больше чем достаточно своими страданиями.
– Знаешь, Аманда, я не верю, что это так.
Ее лицо вспыхнуло.
– Убирайся отсюда. Самое лучшее, что ты сделал в жизни, – покинул этот город.
По крайней мере, хоть в этом была правда.
Глава 33
Женщина, которая теперь была Эмили Киндлер только по имени, прибыла на автовокзал Порт-Аторити в Нью-Йорке через два дня после убийства Джимми Галлахера. Покинув бар, она целый день провела одна в своей маленькой квартирке, не обращая внимания на телефонные звонки. Ее свидание с Чэдом было забыто, и сам Чэд стал не более чем мимолетным воспоминанием из другой жизни. Один раз кто-то позвонил в дверь, но она никак не отреагировала. Она восстанавливала прошлые жизни и думала о человеке, которого видела на телеэкране в баре, зная, что когда найдет его, то также найдет и своего возлюбленного.
При помощи прибора для выжигания она аккуратно нанесла на свое тело клеймо. Она точно знала место, так как чуть ли не видела очертания древнего знака у себя под кожей.
Через какое-то время она отправилась в город.
На автовокзале она потеряла почти час, изображая потерявшуюся, прежде чем к ней подошли. Когда она в третий раз приводила себя в порядок в туалете, к ней подошла молодая женщина не намного старше ее самой и спросила, все ли у нее в порядке. Ее имя было Кэрол Коумер, но все звали ее Кэсси. Это была хорошенькая блондинка, которая выглядела на девятнадцать, хотя ей было уже двадцать семь. Ее работа заключалась в том, чтобы выискивать на автовокзале недавно прибывших женщин, таких, кто выглядит заблудившейся или одинокой, и заводить с ними знакомство. Она рассказывала им, что сама в городе недавно, предлагала угостить чашечкой кофе и купить что-нибудь поесть. Кэсси всегда носила рюкзачок, хотя обычно набивала его газетами, а сверху клала пару джинсов и какое-нибудь белье и футболки, на случай, если придется его открыть, чтобы убедить скептически настроенных заблудившихся и бесприютных.
Если им было негде остановиться или их в самом деле никто в городе не ждал, Кэсси предлагала заночевать у ее друга, а на следующий день попытаться найти что-нибудь более постоянное. Ее друга звали Эрл Ю, и он содержал множество дешевых квартир по всему городу, но главная была на углу Тридцать Восьмой и Девятой, над грязным баром, называвшимся «Желтая жемчужина», который тоже принадлежал Эрлу Ю. Это была небольшая шутка со стороны Эрла, поскольку он был японец, а название «Желтая жемчужина» было не так уж далеко от «Желтой опасности». Эрл хорошо умел пользоваться беззащитностью молодых женщин, хотя и не так хорошо, как Кэсси Коумер, которая, даже Эрл признавал это, была хищником высшего разряда.
Кэсси приводила девушку – или девушек, если день оказывался продуктивным, – к Эрлу, и тот принимал их и звонил, чтобы доставили что-нибудь поесть, или, если был в настроении, готовил для них сам. Обычно это было что-нибудь простое и вкусное вроде тэрияки с рисом. Предлагал пиво и травку, мог предложить и что-то покрепче. Потом Эрл, если считал, что гостья ему подходит и достаточно беззащитна, предлагал ей и Кэсси пожить в квартире пару дней, говорил, что не надо волноваться, что он знает кое-кого, кому нужна официантка. На следующий день Кэсси исчезала, оставляя прибывшую в одиночестве.
Через два-три дня отношение Эрла менялось. Он приходил рано утром или поздно вечером, будил девушку и требовал платы за его гостеприимство, а когда девушка не могла заплатить – а они никогда не могли заплатить достаточно, чтобы удовлетворить Эрла, – он делал свой ход. В большинстве случаев дело заканчивалось обслуживанием клиентов. При необходимости Эрл и его дружки для начала обламывали своих жертв, обычно в одной из квартир Эрла. Особенно перспективных кандидаток продавали куда-нибудь в другое место или отвозили в другие города, где не хватало новой крови. Самые неудачливые просто исчезали с лица земли, так как Эрл знал мужчин (и некоторых женщин) с очень специфическими потребностями.
В использовании Кэсси он был осторожен. Ему не хотелось, чтобы она привлекла к себе внимание копов на вокзале Порт-Аторити или Амтрак или чересчур примелькалась там. Часто он месяцами не пользовался ее услугами, довольствуясь изобильной поставкой китаянок и кореянок, которые были ему всегда доступны и которых властям было труднее выследить, когда они становились частью его бизнеса, но всегда была потребность в белых женщинах и негритянках, и Эрл любил обеспечивать некоторое разнообразие.
И вот Кэсси подошла к Эмили и спросила, все ли в порядке, а потом сказала:
– Ты здесь впервые?
Эмили уставилась на нее, и Кэсси смутилась. В первое мгновение она со всей ясностью поняла, что совершила ошибку. Девушка выглядела молодой, но, как и у самой Кэсси, ее внешность была обманчива, и она была старше, чем казалась. На мгновение Кэсси испытала инстинктивный ужас, у нее возникло чувство, что девушка не просто старше, чем выглядит, а очень, очень стара. Это было видно по ее глазам, которые были совершенно темными, и от нее словно исходил затхлый запах. Кэсси уже была готова убраться восвояси, выйти из игры, когда девушка неуловимо переменилась. Она улыбнулась и совершенно очаровала Кэсси. Заглянув ей в глаза, Кэсси почувствовала, что никогда ни в ком не видела такой красоты. Эрл будет доволен, и Кэсси получит соответственно бо́льшую награду.
– Да, – ответила Эмили. – Впервые. И вообще впервые в большом городе. Я ищу место, где остановиться. Ты не можешь мне помочь?
– Конечно, я помогу, – сказала Кэсси и подумала: «С превеликим удовольствием. Я все для тебя сделаю». – Как тебя зовут?
Девушка задумалась над этим вопросом и, наконец, ответила:
– Эмили.
Кэсси поняла, что это неправда, но для нее это не имело значения. Все равно, если все получится, Эрл даст ей другое имя.
– А я Кэсси.
– Ну, Кэсси, я, пожалуй, пойду с тобой.
Вместе они отправились в квартиру Эрла Ю. Его там не было, что удивило Кэсси, но у нее был ключ и приготовленная история о том, что она сегодня уже была здесь, и что Эрл дай ей ключ и велел вернуться, потому что в квартире делают уборку. Эмили только улыбнулась, и в мире Кэсси все шло по плану.
Когда они вошли, она предложила Эмили показать квартиру. Показывать там было особенно нечего, квартирка была очень маленькая и состояла из одного скромного размера пространства, разделенного на жилую комнату и кухню, а также две спальни – каждая по площади чуть больше матраца.
– А это санузел, – сказала Кэсси, открыв дверь в помещение, где раковина чуть ли не нависала над унитазом у противоположной стены, а душевая кабина была чуть больше, чем поставленный стоймя гроб.
Эмили схватила Кэсси за волосы и ударила лицом о край раковины. Она повторила это снова и снова, пока Кэсси не испустила дух, а потом оставила ее лежать у стены и аккуратно закрыла дверь. Потом села на старую мерзко пахнущую кушетку в комнате, включила телевизор и стала переключать каналы, пока не нашла местные новости. Когда диктор вернулся к истории об убийстве Джимми Галлахера, она прибавила звук. Несмотря на все усилия полиции и ФБР, кто-то проболтался. На экране появился репортер и рассказал о возможной связи между смертью Галлахера и убийством Микки Уоллеса на Хобарт-стрит. Эмили опустилась на колени и кончиками пальцев прикоснулась к экрану. В этой позе ее застал Эрл Ю. Ему было за сорок, он немного набрал лишний вес, что скрывал хорошо скроенными костюмами.
– Ты кто? – спросил он.
Эмили улыбнулась ему.
– Я подруга Кэсси.
Эрл улыбнулся в ответ.
– Ну, друзья Кэсси – мои друзья. А где она?
– В туалете.
Эрл инстинктивно взглянул на дверь туалета слева от себя и нахмурил брови. На коврике у двери расплылось темное пятно.
– Кэсси? – Он постучал. – Кэсси, ты там?
Он попробовал повернуть ручку, и дверь открылась. Он все еще был в шоке от вида обезображенного лица Кэсси Коумер, когда в спину ему вошел кухонный нож и пронзил сердце.
Убедившись, что Эрл Ю мертв, Эмили обыскала его и нашла пистолет двадцать второго калибра с обмотанной тесьмой рукояткой и около семисот долларов. Она взяла его мобильник и позвонила. Закончив звонить, она знала, где и когда состоятся похороны Джимми Галлахера.
На двери квартиры были крепкие замки, чтобы никто не вошел и не вышел без спросу. Эмили заперла их все, потом выключила телевизор и села, неподвижная и молчаливая, на кушетку. День сменился ночью, а ночь, наконец, уступила место утру.
Глава 34
«Выбери место сражения», – сказал мне Эпштейн. Выбери место, где сразишься с ними. Я мог бы убежать. Я мог бы спрятаться в надежде, что они меня не найдут, но раньше они всегда меня находили. Я мог бы вернуться в Мэн и встретиться с ними там, но как я смогу спать, опасаясь, что в любую минуту они могут прийти ко мне? Как я смогу работать в «Медведе», зная, что мое присутствие ставит под угрозу других?
Поэтому я поговорил с Эпштейном, а также с Ангелом и Луисом и выбрал место, где буду сражаться.
Джимми устроили инспекторские похороны по высшему разряду для Нью-Йоркского полицейского департамента, даже пышнее, чем в свое время моему отцу. Шестеро патрульных в белых перчатках вынесли на плечах из римской католической церкви Св. Доминика накрытый флагом гроб, их значки были прикрыты черными лентами. Когда гроб проносили мимо, все копы, стар и млад, одни в уличной форме, другие в парадных мундирах, третьи в стариковских пальто и пенсионерских шляпах, салютовали как один. Никто не улыбался, никто не разговаривал. Все молчали. Пару лет назад, когда тело убитого полицейского несли из церкви в Бронкс, видели, как женщина, занимавшая должность вестчестерского окружного прокурора, смеялась и болтала с сенатором штата, пока какой-то коп не велел им заткнуться. Она моментально заткнулась, но ее пренебрежения ей не забыли. Есть некоторые вещи, пренебрегать которыми рискованно.
Джимми похоронили на кладбище Святого креста в Тилдене, на участке рядом с его матерью и отцом. Из его близких родственников осталась только его старшая сестра, которая теперь жила в Колорадо. Она была в разводе, поэтому стояла у могилы со своими тремя детьми – один из них был племянник Джимми Фрэнсис, который приходил в наш дом в ночь убийства в Перл-Ривер, и она плакала о брате, которого не видела пять лет. Духовой оркестр Изумрудного сообщества заиграл «Steal Away», и никто не говорил о Джимми плохо, хотя и просочились слухи, что́ было вырезано у него на спине. Может быть, некоторые будут шептаться после (и пусть себе шепчутся: такие люди немногого стоят), но не теперь, не в этот день. Сегодня его запомнят как копа – и копа, которого любили.
Я тоже был там, у всех на виду, так как знал, что они будут высматривать в надежде, что я покажусь. Я общался с другими. Разговаривал с теми, кого узнавал. После похорон я пошел в бар Донахи вместе с теми, кто служил рядом с Джимми и моим отцом, и мы поговорили об обоих, и они рассказали мне кое-что об Уилле Паркере, от чего я стал любить его еще больше, потому что они тоже любили его. Все это время я был среди людей. Я даже не ходил в туалет в одиночку и пил осторожно, хотя и делал вид, что опрокидываю бокал за бокалом, не отставая от остальных. Притворяться было довольно легко, потому что все были поглощены друг другом, а не мной, хотя меня и радушно приняли в свою компанию. Один из собравшихся, бывший сержант по фамилии Грисдорф, спросил меня о якобы существующей связи между смертью Микки Уоллеса и тем, что случилось с Джимми, и на какое-то время повисла неловкая тишина, пока какой-то краснолицый коп с крашеными черными волосами не сказал: «Господи, Стиви, сейчас не время и не место! Лучше выпьем за его память, а потом за забвение».
И момент миновал.
Девушку я заметил в начале шестого. Она была стройная и хорошенькая, с длинными черными волосами. В тусклом освещении у Донахи она казалась моложе своих лет, и бармену, может быть, пришлось бы потребовать у нее документы, если бы она заказала пива. Я видел, как на кладбище она возлагала цветы на могилу невдалеке от того места, где хоронили Джимми. Я снова увидел ее, когда она шла по Тилдену после похорон, но из множества других я выделил ее больше из-за ее внешности, чем из-за своих подозрений насчет нее. А теперь она была у Донахи, ковыряла салат, глядя в лежавшую перед ней книжку. На стене перед ней висело зеркало, так что она могла видеть все, что происходит у нее за спиной. Пару раз мне показалось, что она взглянула на меня. Это могло ничего не значить, но потом она улыбнулась мне, когда я поймал ее взгляд. Это был флирт или его видимость. Глаза у нее были очень-очень темные.
Грисдорф тоже ее заметил.
– Ты нравишься девушке, Чарли, – сказал он. – Действуй. Мы-то старики. Среди молодых нам нужно болеть за других. Мы присмотрим за твоим пальто. Черт, ты, наверное, упарился здесь. Сними его, сынок.
Я встал и покачнулся.
– Нет, я ухожу, – сказал я. – Все равно мне уже хватит. – Я пожал всем руки и оставил на столе пятьдесят баксов. – Всем по одной самого лучшего за моего старика и за Джимми.
Все одобрительно зашумели, и я вышел, пошатываясь. Грисдорф протянул мне руку, чтобы помочь.
– Ты ничего?
– Я сегодня мало ел, – ответил я. – Глупо с моей стороны. Ты бы не попросил бармена вызвать мне такси?
– Конечно. Куда тебе ехать?
– В Бэй-Ридж, – сказал я, – на Хобарт-стрит.
Грисдорф странно на меня посмотрел.
– Ты уверен?
– Да, уверен. – Я протянул ему пятьдесят долларов. – Закажи на все виски, пока ты здесь.
– Не хочешь глоток на дорожку?
– Нет, спасибо. Еще глоток, и я лягу на дорожку.
Он взял деньги, а я прислонился к колонне и посмотрел ему вслед. Я видел, как он подозвал бармена, и расслышал кое-что, о чем они говорили, пока я здесь стоял. У Донахи не играла музыка, и еще не начала собираться толпа после работы. А если я мог расслышать, что они говорят, то мог расслышать и любой другой.
Через десять минут приехало такси. К тому времени девушка уже ушла.
Такси высадило меня у моего старого дома. Взглянув на трепещущую на ветру ленту вокруг места преступления, таксист спросил, не нужно ли подождать, и с облегчением уехал, когда я сказал, что нет.
Никто из полиции не следил за домом. В обычных обстоятельствах тут был бы, по крайней мере, один полицейский, чтобы охранять место преступления, но обстоятельства были необычные.
Я подошел к дому сбоку. Ворота во двор были закрыты на цепь, и виднелась какая-то ленточка, но на цепи не было замка, так что она была лишь для виду. Впрочем, дверь в кухню была закрыта на новый замок и засов, но это было дело нескольких секунд – открыть ее маленькой электрической отмычкой, которой снабдил меня Ангел. Она очень громко шумела в вечерней тишине, а войдя в дом, я увидел проникающий туда свет со двора. Закрыв дверь, я подождал, пока свет потускнеет и темнота сгустится.
Потом включил свой маленький фонарик, приглушив его луч наклеенной лентой, чтобы он не привлекал внимания, если кто-то случайно заглянет за дом. Метка Анмаила была удалена со стены, вероятно, на случай, если репортеры или неизлечимо любопытствующие решат тайком сделать собственные фотографии кухни. Место, где нашли тело Микки, было по-прежнему обведено, и на дешевом линолеуме виднелись пятна засохшей крови. Луч моего фонарика выхватил кухонный шкаф, более современный, чем был в доме, когда здесь жил я, но еще дешевле и неказистее, и газовую плиту, теперь отключенную. Другой мебели не было, кроме единственного деревянного стула, покрашенного в болезненно зеленый цвет и стоявшего у дальней стены. В этой комнате умерли три человека. И никто больше не будет здесь жить. Было бы лучше для всех, если бы дом снесли и выстроили новый, но едва ли можно ждать такого исхода. И поэтому он будет все дальше и дальше разрушаться, и на Хеллоуин дети будут подзадоривать друг друга забежать во двор и подразнить здешних призраков.
Но иногда призраки вселяются не в дома, а в людей. Я знал, что они вернулись, эти тени моей жены и дочери. Думаю, я понимал это с тех пор, как здесь нашли тело Уоллеса, и ощутил, что он не мог быть одинок и безутешен в свои последние минуты, что то, что он увидел или ему привиделось, когда он рыскал вокруг моего жилища в Скарборо, теперь явилось ему здесь в иной форме. Когда я проходил через кухню, в доме ощущалось ожидание, а когда я коснулся дверной ручки, то кончики пальцев ощутили покалывание, словно по ним пробежал электрический заряд.
Передняя дверь снаружи была заклеена лентой, но изнутри была закрыта только на дверной замок и засов. Я отпер то и другое и чуть приоткрыл дверь. Ветра не было, и она осталась приоткрытой. Я поднялся по лестнице и побродил по пустым комнатам, призрак среди призраков, а когда остановился, то воссоздал в уме наш дом, добавив кровати и шкафы, зеркала и картины, преобразив его из того, что было сейчас, в то, что было раньше.
На стене спальни, которую когда-то мы делили со Сьюзен, была тень туалетного столика, и я поставил его на место, заставив его поверхность флакончиками, косметикой и гребнями, на зубьях которых остались светлые волоски. Вернулись наши кровати, две подушки, плотно прижатые к стене, с отпечатком женского затылка, словно Сьюзен только что отлучилась. На покрывале лежала книга, выставляя обложку: лекции поэта Э. Э. Каммингса. Для Сьюзен это была книга утешения – описания Каммингсом своей жизни и работы, перемежаемые избранными стихами, из которых лишь некоторые написал он сам. Я чуть ли не ощущал в воздухе ее аромат.
За прихожей была еще одна спальня, поменьше, и, когда я посмотрел туда, вибрации ее цветов возродились, унылые обшарпанные стены стали чистым сочетанием желтого и кремового, как летний луг, окруженный белыми цветами. Стены были покрыты в основном эскизами, хотя была и большая картина цирка над маленькой кроваткой и другая картина поменьше с девочкой и собакой больше нее самой. Девочка обнимала за шею собаку, зарывшись лицом в ее шерсть, а собака смотрела из рамы, словно призывая вмешаться. Ярко-синие простыни на кроватке были стянуты назад, и я видел очертания маленького тела на матраце и вмятину на подушке, где, словно мгновение назад, покоилась головка ребенка. Под ногами у меня расстилался темно-синий ковер.
Это был мой дом в ту ночь, когда Сьюзен и Дженнифер умерли, возрожденный мною теперь, когда я почувствовал, что они вернулись, что мы придвинулись ближе друг к другу, мертвые и живой.
Услышав какой-то звук с лестницы, я пошел в прихожую. Свет в нашей спальне замигал и погас. Внутри что-то двигалось. Я не остановился посмотреть, что это, но мне показалось, что в сумерках двигалась какая-то фигура, и до меня донесся слабый аромат. Я остановился на верху лестницы и услышал снизу звук, словно маленькие босые ножки пробежали по ковру, ребенок бегал из комнаты в комнату, чтобы быть рядом с мамой, но, может быть, это просто половицы прогибались под моими ногами, или крыса всполошилась в своей норе под полом.
Я спустился.
Внизу лестницы на маленьком столике красного дерева стояла пуансеттия, прикрытая от сквозняка вешалкой. Это было единственное комнатное растение, которое Сьюзен удалось вырастить, и она страшно гордилась этим, каждый день его проверяла и осторожно поливала, чтобы оно не захлебнулось. В ночь их смерти его сшибли на пол, и первое, что я увидел, когда вошел в дом, были его корни среди рассыпанной земли. Теперь оно выглядело, как раньше, любовно ухоженным. Я протянул к нему руку, и мои пальцы прошли сквозь его листья.
На кухне у задней двери стоял человек. Когда я взглянул, он шагнул вперед, и свет из окна упал на его лицо.
Хансен. Он держал руки в карманах пальто.
– Далеко вас занесло от дома, детектив, – сказал я.
– А вы не можете удалиться от вашего, – ответил он. – Должно быть, с тех пор здесь многое изменилось.
– Нет, дом совсем не изменился.
Он посмотрел озадаченно.
– Вы странный человек. Я никогда не понимал вас.
– Что ж, теперь я знаю, почему я никогда вам не нравился.
Но как только произнес эти слова, я ощутил, что что-то не так. Что-то было не так, как должно быть. Хансен не принадлежал этому месту.
На его лице отразилась озадаченность, словно он только что осознал то же самое. Его тело вытянулось, как будто от внезапной боли в спине. Он открыл рот, и из уголка вытекла струйка крови. Детектив закашлялся, и вышло еще больше крови, а потом кровавое облако забрызгало стену, когда он шагнул вперед и упал на колени. Его правая рука шарила в кармане, словно пытаясь вытащить пистолет, но силы оставили его, и он упал плашмя на живот, глаза полузакрылись, и дыхание постепенно замирало.
Напавший на него человек перешагнул через его тело. Он был на половине третьего десятка, а если быть точным, ему было двадцать шесть лет. Я знал это, потому что нанимал его. Я работал с ним в «Великом заблудшем медведе» и видел его любезность с посетителями, был свидетелем его простых отношений с поварами и официантками.
И все время он скрывал свою истинную натуру.
– Привет, Гэри, – сказал я. – Или ты предпочитаешь другое имя?
Гэри Мейзер держал в одной руке острое мачете. А в другой револьвер.
– Это не важно, – ответил он. – Это всего лишь имена. У меня их было больше, чем ты можешь себе представить.
– Ты заблуждаешься. Кто-то нашептал тебе ложь. Ты никто. Ты зарезал Джимми и убил Микки Уоллеса на этой кухне, но это не делает тебя каким-то особенным. Вряд ли ты человек, но это не значит, что ты ангел.
– Считай, как тебе нравится, – сказал он. – Это не имеет значения.
Но мои слова прозвучали как самообман. Чтобы сразиться с тем, что охотилось на меня, я выбрал это место, преобразив его в моем сознании в то, чем оно было когда-то, но что-то в Гэри Мейзере как будто почувствовало это и откликнулось. На мгновение я увидел то, что видел мой отец в ту ночь в Перл-Ривер перед тем, как спустить курок. Я увидел то, что скрывалось в Мейзере, что выедало его, пока, наконец, от него ничего не осталось, кроме пустой оболочки. Его лицо стало маской, прозрачной и временной: позади нее шевелилась темная масса, старая и сморщенная, наполненная злобой. Тени кружились вокруг нее, как черный дым, загрязняя комнату, марая лунный свет, и сердцем я понимал, что на карту поставлено нечто большее, чем моя жизнь. Какие бы пытки ни учинил мне Мейзер в этом доме, они будут ничто по сравнению с тем, что начнется, когда моя жизнь закончится.
Он сделал еще шаг вперед. Даже в лунном свете я мог видеть, что его глаза чернее, чем я их помнил, – зрачок и радужная оболочка сливались в одну черную массу.
– Почему я? – спросил я. – Что я сделал?
– Дело не в том, что ты сделал, а в том, что ты можешь сделать в будущем.
– И что же? Откуда тебе знать будущее?
– Мы чувствуем угрозу, которую ты представляешь. Он чувствует ее.
– Кто? Кто тебя послал?
Мейзер покачал головой.
– Хватит, – сказал он и чуть ли не с нежностью добавил: – Пора остановить бег. Закрой глаза, и я положу конец всем твоим печалям.
Я попытался рассмеяться.
– Тронут твоей заботой. – Мне требовалось время. Нам всем требовалось время. – Ты был терпелив. Сколько времени ты потратил на меня? Пять месяцев?
– Я ждал.
– Чего?
Он улыбнулся, и его лицо переменилось. Теперь оно лучилось чем-то, чего раньше на нем не было.
– Ее, – ответил он.
Почувствовав сквозняк из-за спины, я медленно обернулся. В полностью распахнутом дверном проеме стояла темноволосая девушка из бара. Как и у Гэри, ее глаза казались совершенно черными. У нее тоже был пистолет, серебристый, двадцать второй калибр. Тени вокруг нее напоминали крылья на фоне неба.
– Как долго, – прошептала она, но ее глаза смотрели не на меня, а на мужчину напротив нее. – О, как долго…
Тогда я понял, что они пришли на это место по отдельности, влекомые мною и обещанием снова увидеть друг друга, но здесь они встретились впервые, если верить Эпштейну, впервые с тех пор, как мой отец спустил курок на пустыре в Перл-Ривер.
Но вдруг молодая женщина прервала свою задумчивость и медлительность. Ее пистолет тихо пролаял два раза, когда она выстрелила в темноту. Мейзер встревожился и как будто не знал, что делать, и тогда я понял, что ему хотелось, чтобы я умирал медленно. Он хотел использовать свое мачете. Но когда я двинулся, он выстрелил, и я почувствовал страшный удар пули в грудь. Я опрокинулся назад и ударился о дверь, и дверь ударила женщину, но не закрылась. В меня попала вторая пуля, и на этот раз я ощутил резкую боль в шее. Я поднял левую руку к ране, и сквозь пальцы потекла кровь.
Я закачался на лестнице, но внимание Мейзера уже отвлеклось от меня. За домом слышались голоса, и он повернулся лицом к угрозе. Я услышал, как хлопнула передняя дверь, и женщина что-то крикнула, а я тем временем добрался до верха лестницы и бросился плашмя на пол, скрываясь от новых выстрелов, которые пронзали пыльный воздух у меня над головой. Мое зрение помутилось, и, лежа на полу, я чувствовал, что не могу встать. Я пополз по полу, загребая правой рукой, как клешней, и отталкиваясь ногами, а левой рукой по-прежнему зажимая рану на шее. Я переплывал из прошлого в настоящее и обратно, и то я двигался по ковру через чистые, ярко освещенные комнаты, а то по голым прогнившим доскам и пыли.
С лестницы послышались шаги. Из кухни внизу слышалась стрельба, но ответной стрельбы не было, как будто Мейзер стрелял по теням.
Я вполз в старую спальню и сумел встать на ноги, опираясь о стену, а потом споткнулся о призрачную кровать и рухнул в угол.
Кровать. Нет кровати.
Звук капающей из крана воды. Нет звука.
На лестнице послышались шаги. В дверях появилась женщина. Ее лицо было ясно видно в свете из окна у меня за спиной. Она казалась обеспокоенной.
– Что ты делаешь? – спросила она.
Я попытался ответить, но не смог.
Кровать. Нет кровати. Вода. Шаги, но женщина не двигалась.
Она огляделась, и я понял, что она видит то же, что и я: миры поверх миров.
– Это не спасет тебя, – проговорила она. – И ничто не спасет.
Она приблизилась. Двинувшись, она вынула израсходованную обойму и собралась вставить новую, но замерла и посмотрела влево.
Кровать. Нет кровати. Вода.
Рядом с ней появилась маленькая девочка, а потом из тени у нее за спиной появилась другая фигура – женщина со светлыми волосами, ее лицо теперь было видно, впервые с тех пор, как я застал ее на кухне, и где когда-то были только кровь и кости, теперь была жена, которую я любил до того, как над ней поработало лезвие.
Свет. Нет света.
Пустая прихожая. Прихожая больше не пустая.
– Нет, – прошептала темноволосая женщина. Она загнала полную обойму в магазин и попыталась выстрелить в меня, но ей как будто было трудно прицелиться, словно ей мешали фигуры, которые я мельком заметил. Пуля попала в стену в двух футах слева от меня. Я с трудом приоткрыл глаза и, засунув руку в карман, ощутил ладонью компактный прибор. Я вытащил его и направил на женщину, когда она, наконец, вырвала свое оружие, левой рукой оттолкнув что-то позади себя.
Кровать. Нет кровати. Падающая женщина. Сьюзен. Маленькая девочка рядом с Семъяйзой, дергающая ее за штанину, царапающая ей живот.
И сама Семъяйза в своем истинном обличье, нечто сгорбленное и темное, с розовым черепом и крыльями: безобразие с ужасными остатками красоты.
Я поднял свое оружие. Ей оно показалось фонариком.
– Ты не можешь меня убить, – сказала она. – Этой штукой.
И с улыбкой подняла пистолет.
– И не хочу, – с трудом выговорил я и выстрелил.
Маленький шокер С2 не мог промахнуться с такого расстояния. Загнутые электроды вонзились ей в грудь, и она упала, дергаясь, когда ее ударили пятьдесят тысяч вольт, пистолет выпал у нее из руки, и тело скорчилось на полу.
Кровать. Нет кровати.
Женщина.
Жена.
Дочь.
Темнота.
Глава 35
Я запомнил голоса. Вспоминаю, как с меня сняли пуленепробиваемый жилет, и кто-то прижал к моей шее марлевый тампон. Я увидел, как Семъяйза борется со схватившими ее, и мне показалось, что я узнал одного из молодых людей, которого видел с Эпштейном на этой неделе. Кто-то спросил меня, как я себя чувствую. Я показал им кровь на руке, но ничего не сказал.
– Артерия не задета, иначе вы бы уже умерли, – сказал тот же голос. – Пуля оставила чертовски большую борозду, но вы будете жить.
Мне предложили носилки, но я отказался. Я хотел оставаться на ногах. Если бы я лег, я бы, несомненно, снова потерял сознание. Мне помогли спуститься с лестницы, и я увидел самого Эпштейна; он опустился на колени рядом с Хансеном, над которым хлопотали двое медиков.
И увидел Мейзера с руками за спиной и висящими на теле электродами тэйзера. Над ним стоял Ангел, а рядом Луис. Когда я спустился, Эпштейн встал и подошел ко мне. Он коснулся рукой моего лица, но ничего не сказал.
– Нужно отправить его в больницу, – сказал один из тех, кто поддерживал меня. Вдали послышались сирены.
Эпштейн кивнул и, взглянув на лестницу у меня за спиной, сказал:
– Одну минутку. Ему нужно это увидеть.
Еще двое стали спускать вниз женщину. Ее руки были связаны за спиной пластиковыми лентами, а ноги связаны у лодыжек. Она была такой легкой, что ее приподняли над полом, хотя она продолжала вырываться, а ее губы шевелились, шепча что-то вроде заклинаний. Когда ее поднесли ближе, я отчетливо услышал:
– Dominus meus bonus et benignitas est.
Когда они спустились, кто-то еще взял ее за ноги, так что она оказалась вытянута горизонтально между державшими ее. Взглянув направо, она увидела Мейзера, но прежде чем успела что-то сказать, между ними встал Эпштейн.
– Мерзость, – сказал он, глядя на нее сверху вниз.
Она плюнула в него, и плевок остался у него на пальто. Эпштейн отошел в сторону, чтобы она снова могла увидеть Мейзера. Тот пытался подняться, но Луис подошел и поставил ногу ему на горло, прижимая его голову к стене.
– Давайте, полюбуйтесь друг на друга, – сказал Эпштейн. – Вы видитесь последний раз.
И Семъяйза, поняв, что сейчас произойдет, закричала, снова и снова повторяя «Нет!», пока Эпштейн не заткнул ей рот кляпом, и ее положили на носилки и привязали. Сверху ее накрыли одеялом и унесли в ожидавшую машину «Скорой помощи», которая тут же унеслась без сирен и мигающих фонарей. Я посмотрел на Мейзера и увидел в его глазах опустошенность. Его губы шевелились, и я услышал, как он шепотом повторяет одну фразу. Я не мог разобрать слов, но не сомневался, что они были те же, что говорила его возлюбленная:
Dominus meus bonus et benignitas est.
Потом кто-то из людей Эпштейна подошел и ввел в шею Мейзеру подкожную иглу, и через несколько секунд его подбородок опустился на грудь, а глаза закрылись.
– Дело сделано, – сказал Эпштейн.
– Сделано, – повторил я и наконец дал себя уложить, и свет померк у меня в глазах.
Через три дня я снова встретился с Эпштейном в маленькой закусочной. Глухонемая женщина приготовила нам то же, что и в прошлый раз, и исчезла в заднем помещении, оставив нас одних. Только тогда мы поговорили откровенно. Он рассказал о событиях той ночи и обо всем, что произошло в предыдущие дни, включая мою беседу с Эдди Грейсом.
– С ним ничего нельзя было поделать, – сказал Эпштейн. – Даже если бы удалось доказать, что он был соучастником, он бы умер до того, как его вынесли из дома.
Была придумана легенда о случившемся на Хобарт-стрит. Хансен проявил себя героем. Следя за мной в ходе идущего расследования, он наткнулся на вооруженного человека, который напал на него с мачете. Несмотря на полученные серьезные ранения, Хансен сам сумел смертельно ранить еще не опознанного нападавшего, который скончался по пути в больницу. Клинок был тот же, которым убили Микки Уоллеса и Джимми Галлахера. Следы крови на рукоятке совпали с их кровью. Фотография этого человека появилась в газетах как часть полицейского расследования. Она не имела сходства ни с Гэри Мейзером, ни с кем-либо из живущих или умерших.
Никак не упоминалась женщина. Я не стал спрашивать, что стало с ней и ее возлюбленным. Я не хотел этого знать, но мог догадаться. Их спрятали где-нибудь глубоко в каком-нибудь темном месте подальше друг от друга, где они и сгниют.
– Хансен был одним из наших, – сказал Эпштейн. – Он следил за вами с тех пор, как вы покинули Мэн. Ему не следовало входить в дом. Не знаю, почему он зашел. Возможно, увидел Мейзера и решил перехватить его, прежде чем тот доберется до вас. Его до сих пор держат в искусственной коме. Вряд ли он когда-либо сможет вернуться к своей работе.
– Мои тайные друзья, – сказал я, вспомнив слова, которые говорил мне Коллекционер. – Вот уж не думал, что один из них Хансен. Похоже, я был более одинок, чем мне казалось.
Эпштейн отпил воды из стакана.
– Возможно, он проявил чрезмерное рвение в усилиях, чтобы ограничить вашу деятельность. Решение лишить вас лицензии принимал не он, но он рьяно исполнял все принятые решения. Чувствовалось, что вы привлекаете к себе слишком много внимания, и вас следовало защитить от вас самого.
– И его неприязнь ко мне пошла на пользу.
Эпштейн пожал плечами.
– Он верил в закон. Потому мы и выбрали его.
– А есть и другие?
– Да.
– Сколько?
– Меньше, чем нужно.
– И что теперь?
– Мы выжидаем. Вашу лицензию и разрешение на ношение оружия вам вернут. Если мы не сможем защитить вас от вас самого, то хотя бы дадим возможность вам самому защитить себя. Но за это, может быть, придется заплатить свою цену.
– За все приходится платить.
– Небольшая услуга время от времени, не более того. Вы хороший специалист в своей области. Если ваше участие можно будет признать полезным, дело с полицией штата и местными правоохранительными органами будет улажено. Подумайте о месте советника, временного консультанта по определенным вопросам.
– И кто собирается уладить дело? Вы, или кто-то другой из моих «друзей»?
Я услышал, как за спиной у меня открылась дверь, и обернулся. Вошел глава Нью-Йоркского местного отделения ОНБ Росс, но не снял пальто и не сел к нам за стол, а просто прислонился к стойке с закусками и сцепил перед собой руки, глядя на меня, как социальный работник, вынужденный иметь дело со злостным правонарушителем, в котором он уже начал отчаиваться.
– Вы шутите. У нас с Россом давние отношения. Он?
– Он, – подтвердил Эпштейн.
– Подразделение № 5?
– Подразделение № 5.
– С такими друзьями…
– Нужно иметь и соответствующих врагов, – закончил Эпштейн.
Росс кивнул.
– Это не значит, что я буду вашей палочкой-выручалочкой каждый раз, когда вы забудете где-то ключи. Вам нужно соблюдать дистанцию.
– Это будет не трудно.
Эпштейн умиротворяюще поднял руку:
– Джентльмены, джентльмены, прошу вас.
– У меня еще один вопрос, – сказал я.
– Разумеется. Валяйте, – разрешил Эпштейн.
– Та женщина, когда ее уносили, что-то шептала. Когда я еще не отключился, мне показалось, что и Мейзер говорил то же самое. Это звучало как латынь.
– Dominus meus bonus et benignitas est, – процитировал раввин. – Господь мой благ и милостив.
– Эдди Грейс использовал почти что те же слова, – сказал я, – только он произнес их по-английски. Что это значит? Какая-то молитва?
– Нет, возможно, нечто большее. Это игра слов. Есть одно имя, которое повторяется в течение многих лет. Оно появляется в документах, летописях. Сначала мы думали, это совпадение или какой-то код, но теперь полагаем, что это нечто другое.
– Какого рода?
– Мы думаем, это имя Сущности, управляющей силы, – сказал Эпштейн. – «Господь мой благ и милостив». «Благ» и «милостив». Так они называют того, кому служат. Они зовут его Гудкайнд[10].
– Мистер Гудкайнд.
Пройдет много времени, прежде чем я узнаю, что произошло между Россом и Эпштейном после того, как я ушел, и только молчаливая женщина составила им компанию в тусклом свете закусочной.
– Вы уверены, что было мудро отпустить его? – спросил Росс, когда Эпштейн уже нащупывал рукав своего пальто.
– Мы не отпустим его, – ответил раввин. – Он просто козленок на привязи, приманка, даже если сам этого не осознает. Нам просто придется подождать и посмотреть, кто на него клюнет.
– Гудкайнд?
– В конечном итоге, возможно, если он на самом деле существует, – сказал Эпштейн, наконец, поймав рукав. – И если наш друг проживет достаточно долго…
Я покинул Нью-Йорк в тот же вечер, перед этим выполнив еще один долг перед умершими, на этот раз с большим запозданием. Под простой табличкой в углу Бэйсайдского кладбища я положил цветы на могилу молодой женщины с неизвестным ребенком – на месте, где нашла вечный покой Каролина Карр.
Моя мать.
Эпилог
Покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить…
Александр Пушкин (1799–1837)Пора, мой друг, пораОстаток недели я провел один. Ни с кем не виделся. Ни с кем не говорил. Я жил своими мыслями и в тишине пытался примириться со всем тем, что узнал.
В пятницу вечером я пришел в «Медведь». Дэйв Эванс работал в зале. Я уже сообщил ему по телефону, что кончаю с этой работой, и он воспринял это неплохо. Думаю, он знал, что это был лишь вопрос времени. Я уже получил неофициальное подтверждение, что моя лицензия частного детектива будет восстановлена через несколько дней, как Эпштейн и говорил мне, и все возражения были отозваны.
Но в тот вечер было ясно, что у Дэйва завал. Основная площадь бара была забита так, что оставалось лишь пространство, чтобы стоять. Я отошел в сторону, чтобы пропустить Сару с подносом пива в одной руке и штабелем закусок в другой. Она выглядела необычно измотанной, но потом я заметил, что и остальные работавшие выглядят не лучше.
– Гэри Мейзер предупредил меня о своем уходе за двадцать четыре часа и смылся, – сказал Дэйв, смешивая коктейль «Бренди Александр» и глядя на три пинтовые кружки, которые наполнял одновременно. – Жаль. Он мне нравился. Я думал, что он, может быть, останется. Не знаешь, что с ним могло случиться?
– Понятия не имею, – ответил я.
– Это ведь ты его нанял.
– Моя ошибка.
– Ни черта! Это не смертельно. – Он указал на повязку у меня на шее. – Хотя, похоже, могло бы оказаться. Полагаю, мне не стоит спрашивать.
– Можешь спросить, но я совру.
Один из кранов зафыркал и выдал пену.
– К черту все это! – сказал Дэйв и взглянул на меня. – Не сделаешь одолжения старому другу?
– Я сам перед тобой в долгу, – ответил я и пошел менять бочонок. Пока я занимался этим, закончились два других, и я заменил их тоже. Когда я вернулся, Дэйв был занят у стойки, где разбирались с заказами из ресторана, и, по меньшей мере, десять человек ожидали выпивки, а ими занимался лишь один бармен.
И на один вечер я вернулся к своей прежней роли. Теперь я знал, что возвращаюсь к работе, для которой создан, и наслаждался последним вечером работы у Дэйва, быстро вписавшись в прежние обязанности. Заходили посетители, и я помнил их по их заказам, хотя не мог вспомнить имен: парень, что пьет джин «Танкерай»; девушка, что заказывает коктейль «Маргарита»; пятеро мужчин на четвертом десятке, что приходят каждую пятницу и всегда заказывают по кружке одного и того же пива, никогда не экспериментируют с более экзотическими сортами, поэтому их приход всегда называли «атакой бригады “Coors” светлого». Братья Фульчи привели на буксире Джекки Гарнера, и Дэйв делал вид, что рад их видеть. Он был обязан им за то, что отпугивали репортеров после смерти Микки Уоллеса, хотя и подозревал, что их присутствие отпугивает и постоянных посетителей. Впрочем, сейчас они сидели в уголке, поедали гамбургеры и заливали их красным «Белфаст Бэй Лобстер», как люди, которым завтра в тюрьму, – приключение, которого Фульчи еще не испытывали.
И так прошел вечер.
Эдди Грейс проснулся от звука, как будто в темноте спальни кто-то чиркнул спичкой. Лекарства притупляли боль, но также притупляли и чувства, поэтому какое-то время он силился понять, который час и почему он проснулся. Он решил, что звук ему приснился. Ведь в доме никто не курил.
Потом вспыхнул красный огонек сигареты, и какая-то фигура уселась в кресло слева от него, он мельком разглядел мужское лицо. Мужчина казался худым и нездоровым, его волосы были зализаны назад, а длинные ногти на руках пожелтели от никотина. Он был одет в черное. Даже со своей пропахшей постели больного Эдди ощутил исходящий от него запах темноты.
– Что вы здесь делаете? – спросил Эдди. – Кто вы такой?
Человек наклонился вперед. В руке он держал старый полицейский свисток на серебряной цепочке. Этот свисток раньше принадлежал отцу Эдди и перешел к нему самому, когда старик вышел на пенсию.
– Мне нравится эта штука, – сказал незнакомец, болтая свисток на цепочке. – Пожалуй, я присоединю его к моей коллекции.
Правой рукой Эдди искал кнопку сигнализации, чтобы позвать Аманду. В ее спальне зазвонит звонок, и она или Майк придут сюда. Его палец нажал кнопку, но он ничего не услышал.
– Я побеспокоился отключить сигнализацию, – сказал пришедший. – Она тебе больше не понадобится.
– Я спросил, что вы тут делаете, – прокаркал Эдди. Он испугался. Это была единственная подходящая реакция на присутствие этого человека. Все в нем было не так. Все.
– Я пришел, чтобы наказать тебя за твои грехи.
– За мои грехи?
– За предательство друга. За то, что подверг опасности жизнь его сына. За смерть Каролины Карр. За девочек, с которыми ты удовлетворял свою похоть. Я пришел, чтобы ты расплатился за все это. Тебя судили и осудили.
Эдди глухо рассмеялся.
– Идите к черту. Посмотрите на меня. Я умираю. Каждый день несет мне страдания. Что вы можете сделать мне такого, чего я уже не получил?
И вдруг вместо свистка в руке оказалась полоска острого металла, а человек встал и склонился над Эдди, и Эдди показалось, что за спиной у него столпились другие фигуры, какие-то люди с пустыми глазами и темными ртами, которые одновременно были, и их не было.
– О, – прошептал Коллекционер, – я уверен, что что-нибудь придумаю…
К полуночи бар почти опустел. Прогноз погоды обещал после полуночи снова снегопад, и большинство предпочли уйти пораньше, чтобы не ехать домой сквозь метель. Джекки и братья Фульчи еще сидели, перед ними множились бутылки, но остальные посетители уже вставали и натягивали пальто. Двое мужчин в дальнем конце бара, попросив рассчитать их, попрощались со мной и ушли, лишь одна женщина еще сидела у стойки. Она пришла с группой портлендских копов, но когда они ушли, она осталась, достала из сумки книжку и молча читала. Никто ее не беспокоил. Хотя она была маленькая, смуглая и хорошенькая, но испускала какие-то вибрации, что даже игроки мировой лиги держали с ней дистанцию. И все же мне казалось, что я откуда-то ее знаю. Через минуту-другую я вспомнил. Женщина взглянула на меня и поймала мой взгляд.
– Ничего, – проговорила она, – я уже ухожу.
– Можете не спешить, – ответил я. – В пятницу вечером персонал обычно задерживается, чтобы выпить и, может быть, закусить. Вы никому не мешаете.
Я указал на бокал красного вина у нее в руке. Там осталось на один глоток.
– Долить вам? За счет заведения.
– Разве это не противозаконно после закрытия?
– Вы донесете на меня, полисмен Мэйси?
Она сморщила носик.
– Вы знаете меня?
– Читал про вас в газетах и видел вас здесь. Вы были замешаны в том деле с Храмом.
– Как и вы.
– Я только краешком. – Я протянул ей руку. – Друзья зовут меня Чарли.
– А мои зовут меня Шерон.
Мы пожали друг другу руки.
– Порезались во время бритья? – спросила она, указывая на мою шею.
– Руки дрожат, – ответил я.
– Для бармена это беда.
– Сегодня я последний день здесь. В благодарность старому другу.
– И чем займетесь вместо этого?
– Что всегда делал. У меня на время отобрали лицензию. Скоро вернут.
– Берегитесь, злодеи! – улыбнулась она, но глаза остались серьезными.
– Типа того.
– Не составите мне компанию? – сказала Шерон, и в этих словах слышалось обещание – когда-то в будущем – чего-то большего, чем просто выпить вместе в полутемном баре.
– Конечно, – ответил я. – С удовольствием.
Выражение признательности
Я бесконечно благодарен множеству людей, которые щедро поделились со мной своим временем и знаниями, когда я проводил исследования для этой книги.
В частности, я бы хотел поблагодарить Питера Инглиша, работавшего раньше в Девятом округе Нью-Йорка и который оживил для меня тамошние улицы; без него эта книга была бы значительно беднее.
Дэйва Эванса и весь персонал «Великого заблудшего медведя» (), лучшего бара в Портленде, штат Мэн, которые были бесконечно гостеприимны и стремились дать работу детективу, которому не повезло.
Также мои благодарности Джо Лонгу, Сету Каване, Кристине Гульельметти, Клер Ламб (), Марку Холлу и Джейн и Шейну Фаленам, которые все помогли мне скрыть мое невежество на разных этапах написания книги. Все ошибки – мои собственные, и я прошу прощения за них.
Оказались полезными книги и статьи, в том числе «Нью-Йорк: иллюстрированная история» Рика Бернса и Джеймса Сандерса при участии Лизы Эйдс (Альфред А. Кнопф, 1999); «Путеводитель по Америке шестидесятых» Дэвида Фарбера и Бет Бэйли (Коламбиа Юниверсити Пресс, 2001); «Шестидесятые: годы надежды, дни ярости» Тодда Гитлина (Бантам, 1993); «Движение и шестидесятые: протесты в Америке от Куинзборо до Вундед-Ни» Терри Х. Андерсона (Оксфорд Юниверсити Пресс, 1995); «Окрестности Бруклина», редактор-консультант Джон Б. Менбек (Йел Юниверсити Пресс, 1995); и «Манипуляции с пауком личинки осы» (Нейчур, т. 406, 20 июля 2000).
Спасибо Сью Флетчер, моему редактору в лондонском издательстве «Ходдер & Стаутон» и персоналу «Ходдера»; Эмили Бестлер, моему редактору в нью-йоркском издательстве «Атрия», и всем в издательствах «Атрия» и «Саймон & Шустер»; моему агенту Дарли Андерсону и его чудесной команде; Медейре Джеймсу () и Джейн Догерти, которые следили за моим веб-сайтом, но чья любезность и поддержка выходили за пределы этого. Без вас всех я бы пропал.
И наконец, выражаю большую любовь Дженни, Кэмерон и Алистеру, которым пришлось вынести всю закулисную работу.
Примечания
1
Перевод А. Фета (здесь и далее прим. перев.).
(обратно)2
Передача «Схватить хищника» («To Catch the Predator») – телевизионное реалити-шоу с использованием скрытой камеры, где взрослых мужчин заманивали на встречу с подсадными несовершеннолетними якобы для сексуальных контактов.
(обратно)3
«Первая волна» – канадско-американский фантастический телесериал.
(обратно)4
Подпольная железная дорога – тайная организация, устраивавшая побеги негров-рабов из южных штатов на Север. Действовала до начала Гражданской войны (1861 г.).
(обратно)5
Кэри Грант (1904–1986) – голливудский актер, роли которого отличались элегантностью и остроумием.
(обратно)6
Sláinte! (ирланд.) – Ваше здоровье!
(обратно)7
Пьета (итал. pietà) – сострадание, жалость. Традиционное в католицизме изображение Богоматери с безжизненным телом Иисуса на руках. Наиболее известна пьета Микеланджело Буонарроти, установленная в соборе св. Петра в Ватикане.
(обратно)8
Минстрел-шоу – шуточные спектакли, распространенные в Америке XIX века, в которых белые актеры, гримируясь под негров, выставляли их в смешном и дурацком виде.
(обратно)9
Бетах ба-Адонай ва’асей-тов (иврит). – Уповай на Господа и делай добро.
(обратно)10
«Благой» по-английски good, «милостивый» kind, Goodkind звучит как Гудкайнд.
(обратно)


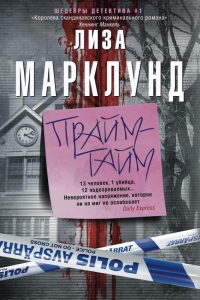


Комментарии к книге «Любовники смерти», Джон Коннолли
Всего 0 комментариев