Беатрикс Гурион Дом темных загадок
Тигр не может перестать быть тигром, детигрироваться, человек же живет в постоянной опасности дегуманизироваться.
Хосе Ортега-и-ГассетЕдинственный след, который мы можем оставить после себя, простившись с этой жизнью, — это след любви.
Альберт ШвейцерПролог
Она спрятала письмо в карман юбки и поспешила в свой кабинет на верхнем этаже. Оттуда открывался хороший вид на окрестности, и можно было сразу заметить каждого бездельника.
Ее всегда приводила в ужас похоть, она с неудовольствием заметила, что сейчас возбуждена, но решила, что на этот раз Господь наверняка ее простит.
Сердце колотилось слишком быстро, в ушах шумело, а левая рука (ею она судорожно сжимала в кармане письмо) дрожала. Да и правая тряслась так, что тяжелая связка ключей тихо позвякивала. Если отец Браун узнает об этом, ее дни здесь будут сочтены, даже если сестры ее поддержат.
Она схватила похожий на кинжал нож для писем, вскрыла конверт и прочла:
«Рим, 10 октября 1968 года
Тема: касательно документа за номером: Аврс/4O7р/Экзрц
Ваше ходатайство от 16 сентября 1968 года
Уважаемая матушка настоятельница,
невзирая на все наши конфессиональные различия, мы с Вами абсолютно едины во мнении, что сатана существует во плоти и является настоящим духовным созданием, сотворенным Богом, как и тысячи других ангелов. Как и прочие ангелы, сатана некогда был счастлив и добр, но после поддался соблазну. Известно, что сатана и иже с ним превратились в демонов по собственной вине, потому что не пожелали идти в услужение Христу. Демоны — это реальные существа с собственной волей. Поскольку же они не обладают собственным телом и душой, демоны иногда воплощаются в тела людей».
Что значат эти смехотворные поучения? Она-то ведь знает, что собой представляет сатана, поэтому и искала помощи, а в письме лишь сомневались в ее умственных способностях. Она пробежала текст глазами еще раз, чтобы отыскать особенно важное место:
«Но в данном случае, в описанной Вами ситуации с девочкой, мы вынуждены решительно отказать».
Эти… Эти… Она никогда, никогда, никогда не ругалась. Даже в мыслях. Поэтому сейчас у нее в уме не промелькнуло ни единого дурного слова. Дрожа от гнева, она читала дальше:
«Хотя мы и понимаем, что Вы действуете лишь из сострадания и Вами не руководят легкомыслие и безрассудство, когда Вы утверждаете, что в эту девочку вселился злой дух, мы хотели бы попросить, чтобы Вы показали ее обычному врачу и выяснили, не страдает ли она каким-либо душевным расстройством. Вы наверняка знаете, что в таких случаях запрещено применять экзорцизм».
На какую еще наглость способны в Риме? Кем они себя возомнили, сомневаясь в ее умственных способностях?
«Поскольку речь идет о Вашей подопечной, Вы сами легко можете более тщательно приглядывать за нею и окружить заботой».
О, да, в этом вы можете быть полностью уверены. Девочка получит и присмотр, и заботу. И она применит все свои умения и знания, чтобы вырвать девочку из когтей дьявола. Даже если ей снова придется остаться в одиночестве.
«Вы также можете молиться за нее, ведь даже непосвященный, вкладывая в молитву всю силу веры, может добиться большего, чем Вы думаете! Давайте вспомним о святой Екатерине Сиенской, одержимость которой не могли в то время исцелить никакие экзорцисты. Она молилась о своем исцелении и получила освобождение.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. Аминь. (Второе послание к коринфянам 13:13)
И особенно с Вами, уважаемая матушка настоятельница Гертруда и с Вашей подопечной паствой».
викарий епископа Франц-Иоганнес Лехнер
Она скомкала письмо и бросила его в мусорное ведро. Настоятельница нервно шагала взад и вперед перед своим столом. Эти жалкие болтуны в Риме! Сегодня ни у кого не осталось мужества. Все происходит, как обычно в последние годы, и ей вновь придется взять все в свои руки. В конце концов, она управляет учреждением и не может рисковать, чтобы хоть искра демонического духа заразила бы ее паству инфекцией мятежа.
Настоятельница распахнула окно и постаралась вдохнуть как можно глубже, но необычайная жара дохнула в лицо, и ей пришлось закрыть створки.
Ну, хорошо.
Господь дал ей достаточно ума. И она им воспользуется.
Глава 1
Здесь так тихо. Листья громадных буков безвольно повисли на ветках, не только птицы не поют — комар не прожужжит по такой жаре. Лишь слышен мой необычно громкий кашель. Я бегу изо всех сил вверх по лесу, земля усыпана камнями и изрезана корнями. Не видно ни мотылька, ни цветка, ни даже жука — лишь голая земля.
Я ненавижу спорт и горы. Но больше всего я терпеть не могу себя, и то, что случилось, и что сейчас мне еще предстоит здесь сделать.
Все выше и выше. Вверх, до самого охотничьего замка, где я надеюсь найти ответы. Не покидает чувство, что кто-то преследует меня, но каждый раз, когда оглядываюсь, — никого. И сейчас я выхожу из лесу и осматриваю каменистое поле, где негде укрыться, — никого нет. Значит, это все просто химеры, вымысел, воображение. Кого же стóит остерегаться? Я ведь действительно хочу хоть что-нибудь выяснить. Я стискиваю зубы, не замечаю веса рюкзака, который с каждым километром все тяжелее громоздится на моей пропитанной потом спине. Я не обращаю внимания на волдыри на ногах и, конечно, игнорирую внутреннюю негодяйку, которая постоянно стремится ввести меня в искушение, уговаривает отдохнуть, спуститься в темную долину и просто разрыдаться. Я достаточно наревелась — теперь хочу знать, что там происходит.
Час за часом я карабкаюсь, потом спускаюсь, продираюсь к цели через лощины снова и снова. Лишь изредка попадаются тенистые рощицы, но, в общем, я несусь по каменистой пустыне, пока наконец не натыкаюсь на вершину перед собой. Дорога скрывается в узком скалистом ущелье, по сторонам — валуны и нависающие утесы, по правую сторону от меня скала круто уходит вверх. Солнце висит низко, и в его лучах просвечиваются, будто вены, желто-синие прожилки породы. На миг останавливаюсь, чтобы отдышаться.
В этот момент вижу первое живое существо с того времени, как выбралась в долину. Орел кружит над бездной, время от времени пикируя вниз.
Вдруг что-то надо мной грохочет. Я инстинктивно отскакиваю влево и как раз вовремя укрываюсь от камней, сорвавшихся с кромки утеса.
Беспомощно наблюдаю, как несколько громадных обломков скатываются далеко в долину. Сердце колотится. Я бегу дальше, ищу укрытия под следующим большим навесом, осторожно выглядываю и выискиваю, откуда сорвались камни. Может, это была коза или серна? Но ни животных, ни людей не видно. И снова тишина, лишь орел парит в небе. Добыча трепыхается в его когтях.
Идет ли кто-нибудь за мной по этой дороге? Но даже если кто-то и преследует, он должен бы обогнать меня, чтобы вызвать обвал, разве не так? Насколько мне известно, существует только этот путь через скалистое ущелье. Только так я смогу попасть в следующую долину, где находится охотничий замок.
Николетта советовала смотреть в оба, не терять бдительности, потому что местность плохо просматривается, к тому же опасность может подстерегать и на открытых участках. Но что, если этот обвал вовсе не случаен? Если кто-то хочет помешать мне выяснить, что произошло? Тогда это доказывает, что я на правильном пути.
Я расправила ноющие плечи. Никакой обвал в мире не остановит меня. Я решилась на это и не сдамся никогда.
Я должна сделать это ради нее.
Глава 2
За шесть недель до событий
Все началось с того, что я своими язвительными вопросами и гневными обвинениями разозлила мать, на самом деле кроткую, заставила ее выбежать из дома. А она через пару часов умерла. Так думала я, пока через две недели после несчастья в мою дверь не позвонили.
Я никого не ждала и не хотела открывать, потому что после злополучного дня проводила все время в постели. Я не хотела никого видеть и уж тем более говорить с кем-то. Лежала не в своей кровати, а в ее, в крошечной комнате, которую мать сама выбрала.
Собственно, это была даже не комната, а кладовка, но она спала там, чтобы у нас оставалась общая гостиная, а у меня — собственная комната. Самая большая комната. Мать утверждала, будто любит тесные помещения, а кроме того, она сможет без труда перекрашивать помещение в любые цвета снова и снова. Со временем я поняла, что она занималась покраской, когда была чем-то взволнована, но не хотела в этом признаться. Она никогда не говорила о злобе или неприятностях на работе либо где-то еще. Она не хотела перегружать меня.
В день, когда произошло несчастье, она как раз закончила красить комнатушку в мятно-зеленый цвет. Мы даже поссорились из-за такого выбора краски. Или, лучше сказать, ссорилась я, она в основном молчала. Этот безвольный мятно-зеленый стал для меня воплощением ее трусости.
Она никогда не противилась, никогда не спорила со своей начальницей в клинике и не боролась за то, чтобы получить квартиру побольше, нет, она договаривалась со всяким дерьмом. Она никогда бы не покрасила комнату в цвет, который бы олицетворял какой-то вызов: огненно-красный или оранжевый, аквамарин или изумрудно-зеленый.
Когда я сегодня вспоминаю об этом, то готова со стыда под землю провалиться. Прежде всего потому, что с момента той трагедии я чувствовала себя уютно и спокойно только в ее каморке. Дни напролет я лежала в постели, тесно обжатая со всех сторон мятно-зелеными стенами (этот цвет останется навсегда цветом моей матери). Я вдыхала аромат постельного белья, которое все еще слегка пахло ею, — смесь ароматов мандарина и крема для тела, который она втирала в пересушенные руки после каждой смены в клинике.
Когда в тот день, сороковой после смерти матери, в мою дверь позвонили, я сначала не хотела открывать. У опекуна, которого мне заранее определила мама, забавного типа по имени доктор Грюнбайн, был ключ, а Лиза, моя лучшая подруга, звонила предварительно по телефону. Но звонок все не умолкал. Квартира находилась не в том районе, чтобы списать трезвон на обычные хулиганские выходки, значит, эта старая штука наверняка сломалась, как и лифт, и освещение на лестничной клетке. Некоторое время я пыталась не обращать внимания на звук. Казалось, от него вот-вот разорвется голова. Я подумала, что ничего другого и не заслужила. По моей вине мама убежала навстречу смерти!
Наконец звонок умолк, но после этого кто-то принялся колотить в дверь кулаком. Наконец в щель для писем на двери стала кричать фрау Шмитт, домоправительница. Мол, она беспокоится обо мне и на коврике лежит какой-то сверточек. Фрау Шмитт — женщина жесткая и настойчивая, она не уйдет, пока я не открою.
Я проковыляла к двери, приоткрыла ее и взяла пакет. Домоправительница не должна была ни увидеть, ни унюхать, что я уже две недели не принимала душ и не меняла белье.
Фрау принесла мне пакет с черничными маффинами. Я забрала, чтобы не обидеть ее, но знала — сама я их точно есть не стану, вероятно, скормлю птицам. Во-первых, я не заслужила сладостей; во-вторых, меня от них стошнит, как и от всего, что я пыталась есть после несчастного случая с мамой. Я поблагодарила фрау Шмитт, пробормотала какое-то объяснение, закрыла дверь, прислонилась к ней спиной и сползла на пол. Так и сидела, справа — маффины, слева — небольшой почтовый пакет, аккуратно завернутый в старомодную оберточную бумагу. Я на него совершенно не обращала внимания. Вместо этого я пялилась на черно-белое фото на стене напротив двери, которого я в детстве боялась. А фотография была совершенно безобидной. Конечно, я и не пыталась расспрашивать мать, почему ей нравился этот снимок. Наконец я закрыла глаза, потому что больше невыносимо было смотреть на старое фото с каруселью. Мое равнодушие к нему перешло всякие границы.
Не знаю, сколько времени я сидела, не в силах пошевелиться, словно мои мышцы парализовало, а кровь испарилась. Я напоминала дышащую массу из кожи и костей — и на том спасибо. Мое время истекло вместе с ее временем.
Почему я так орала на нее, почему так небрежно относилась к ее заботам, почему так нетерпима была к ее мягкой кротости? Почему же? Почему?..
Никто больше не принесет кофе в ответ на отвратительное утреннее ворчание и не улыбнется, подавая чашку, никто не возьмет за руку и не скажет: «Нет, Эмма, ты очень милая, правда, Эмма, в самом деле! И если он не научился ценить тебя, то просто тебя не заслуживает». Никто не отругает, если я поем пиццы на белом диванчике перед телевизором, никто не будет смывать мои сигареты в унитаз, и никто о самом смехотворном поступке не скажет: «Эмма, вот это ты сделала хорошо». Все оттого, что у меня нет других родственников, были лишь мы двое. А такой, как моя мама, больше вообще нигде нет.
Вдруг я пришла в себя возле входной двери, потому что замерзла. Тело затекло от сидения. Я подняла маленький пакет и маффины, зашаркала на кухню, сложила все на старенький стол от «Ресопала» с ламинированной столешницей и попила воды из-под крана.
Я протерла глаза и осмотрела пакет. На мое имя, но почерк незнакомый. Не знаю, отчего мне стало страшнее. От еще одного соболезнования, которые отправляли из добрых побуждений после несчастного случая? От очередной порции маминых документов, с которыми мне помогал разбираться доктор Грюнбайн? Так или иначе, я не чувствовала в себе сил справиться с этим. И все же я вскрыла его. Передо мной был продолговатый пухлый серо-голубой предмет. Старый фотоальбом.
Впервые после смерти матери я очнулась от оцепенения. Кто мог прислать такое? У меня не было родственников, кроме мамы, поэтому она сразу после моего рождения выбрала опекуном доктора Грюнбайна, на тот случай, если с ней что-нибудь случится. Может, альбом прислала старая подруга, которая хотела меня утешить таким образом? Но что за подруга? Большинство соболезнований присылали бывшие пациенты и люди, которым мама помогла выбраться из беды. Кроме того, мамины коллеги подарили красивую картинку с изображением старого дерева. Она наверняка бы ей понравилась. От родителей моих подружек тоже пришли очень теплые письма. Это еще раз показало мне, насколько важны подруги, и мне стало грустно оттого, что у мамы не было ни одной настоящей подруги. Несмотря на то что она всем нравилась, ей всегда было достаточно самой себя. Это еще одно обстоятельство, которое совершенно сводило меня с ума. Как человек в этом мире может существовать вообще без друзей?
Фотоальбом! Я села за стол и неспешно перевернула первую страницу. Она тихо зашуршала, между черным картоном проложена тонкая пергаментная бумага. Я посмотрела на первую страницу.
Она была пуста.
В первый момент моему разочарованию не было предела, но потом я присмотрелась внимательнее и обнаружила, что страница была пустой не всегда. Здесь когда-то была вклеена фотография, а потом ее кто-то вырвал. Я провела пальцами по местам, на которых виднелись серебристые следы клея. Они казались шероховатыми под пальцами, а на картоне даже были небольшие углубления, от которых оторвались черные клочки. Значит, страница действительно не была пустой, ее поранили, изуродовали. Я листала альбом все быстрее и яростнее. Что это значит? И вдруг на последней странице наконец увидела снимок.
Я смотрела на фото так долго, что не сразу заметила под ним белую надпись, выведенную наползающими друг на друга печатными буквами. Пришлось низко склониться над альбомом, чтобы прочесть: «Если ты хочешь узнать, кто убийцы твоей матери, объявись. И желательно еще сегодня».
Глава 3
Охотничьего замка все еще не видно, а сумерки медленно и неуклонно опускаются. Вечерняя звезда висит в небе, как предостережение, что лучше бы поторопиться, пока не опустилась тьма. Тропинка ползет у горы извилистым серпантином. Небольшие камешки срываются из-под подошв при каждом шаге и катятся в пропасть, зияющую подо мной. Голые скалы закрывают вид наверху. Я постоянно настороже, оглядываюсь и прислушиваюсь, стараясь отследить малейший камешек, который скатывается сверху, с утеса надо мной. Все надеюсь, что за очередным поворотом увижу охотничий замок и буду вознаграждена за напряженный подъем в одиночку. Но снова и снова в скалах тропинка вьется все дальше вверх. Постепенно становится страшно, я ничего не могу с этим поделать. Близится ночь, и, несмотря на то что у меня есть карманный фонарик, этот узкий путь опасен. Здесь все решают сантиметры: сорвешься вниз или устоишь и двинешься дальше. Я опасаюсь, что на очередной развилке свернула не туда и теперь опоздаю. Если не смогу добраться вовремя, то не попаду в лагерь и так толком ничего и не разузнаю. Этого мне совершенно не хочется. Ни в коем случае. Я должна узнать, что случилось с моей матерью и что кроется за появлением таинственного фотоальбома.
Я уже пыталась проверить по навигатору телефона, правильно ли иду, но здесь, среди гор, связи нет. Мышцы и колени ноют из-за крутого подъема, и, несмотря на то что солнце закатилось, прохладнее не стало. Совсем наоборот. Воздух между вершин тяжелый. Я все еще обливаюсь потом. Ярость, скорбь и любопытство гонят меня вперед. Запрещаю себе думать о том, что поступила легкомысленно, что не стоило в это соваться одной. Когда сегодня днем в долине я вышла из автобуса, то, в общем, ожидала, что прямо на остановке познакомлюсь с какой-нибудь группой и мы вместе сможем преодолеть путь до отборочного лагеря от «Transnational Youth Foundation»[1]. Однако там стояла лишь одна симпатичная спортивного вида брюнетка, доктор Николетта Брунс, которая, улыбаясь, представилась нашим куратором в лагере. После короткого приветствия она объяснила, что первое мое задание — самой добраться до замка. «Самой и вовремя», — подчеркнула Николетта. Я смогу остаться, только если приду вовремя. Мне показалось, что она старше меня в два раза и в два раза спортивнее.
Любой, кто меня знает, и цента не поставил бы на то, что я преодолею эту дистанцию хотя бы до половины, не говоря уже о той точке, где сейчас нахожусь. Но я пройду еще дальше и, если понадобится, сквозь гром и молнии, под градом и через камнепад.
Я огляделась по сторонам и попыталась прибавить шагу, но долго темп не удержала. Когда я уже почти уверилась, что хочу позорно сдаться и подыскать место, где можно переночевать в безопасности, как раз достигла следующего поворота. Сделав еще три шага, я остановилась в полном изумлении. Тропинка переходила в неожиданно широкое, поросшее травой горное плато. В центре его, словно из ничего, вырастало громадное строение. В серебристом сиянии луны оно напоминало угрожающую тень, будто замок только что вывалился сюда из чьего-то кошмарного сна. Мне казалось, что это не здание, а какой-то дышащий организм, зловещая перевернутая медуза, из центра которой в ясное звездное небо вздымаются башенки, словно смертоносные щупальца.
Я неуверенно двинулась вперед. Такой я свою цель — «охотничий замок» — совершенно не представляла. Он выглядел абсолютно заброшенным, нигде ни огонька. И тихо, будто здесь, кроме меня, вообще нет людей. Я же думала, что множество других подростков уже здесь, наверху.
Внезапно что-то громыхнуло. Я вздрогнула, на миг меня охватила паника — звук был похож на взрыв бомбы. Но через секунду я поняла, что это всего лишь фейерверк.
Ракеты несутся в небо, искры брызжут сквозь ночь, окрашивая ее в желтые, зеленые и алые тона, превращаются в звезды, кометы и цветы.
Не знаю, от того ли, что я совершенно вымоталась, или от мысли, что больше никогда не встречу Новый год с мамой, меня это тронуло до слез, я позабыла о боли, голоде и жажде — просто смотрела на небо.
— Добро пожаловать! — басит из темноты приятно теплый мужской голос, до того как погасла последняя ракета.
И тут я слышу необычные монотонные хлопки.
Я отвожу взгляд от неба и смотрю на замок.
Здание, только что утопавшее в кромешной тьме, теперь все светится изнутри, словно ждали только меня. С массивной парадной лестницы, слегка кланяясь, кивает мужчина. В серебряном лунном свете на его точеном лице поблескивают очки. Слева от него стоят Николетта, наш куратор, которая встречала меня в долине, и светленькая девочка примерно моего возраста. Справа два мальчика. Против света можно различить лишь силуэты, но мне бросается в глаза, что один выше другого как минимум на две головы. Они все аплодируют, но не как восторженная публика, которая приветствует фаворита, вырвавшего победу на последних метрах дистанции. Они хлопают как-то несмело, словно они марионетки, которым приказано бить в ладоши.
Я нерешительно ступаю по выщербленной, поросшей сорняками лестнице и поднимаюсь мимо аплодирующих к мужчине в центре.
Когда я оказываюсь напротив, вновь узнаю его лицо: я кликнула на его фотографию, после того как успешно зарегистрировалась на домашней странице этого лагеря — «Transnational Youth Foundation». Доктор Михаэль М. Беккер. Он высокий и стройный, лишь немного сутулится. Его светлые, местами уже с проседью волосы тщательно зачесаны назад, это подчеркивает его высокий лоб. Губы выглядят так, словно левым уголком рта он постоянно слегка улыбается какой-то невинной шутке.
Значит, это главный куратор лагеря. Пока остальные молчат, он радостно и дружелюбно приветствует меня, внимательно осматривает и жестом приглашает войти.
Он ведет меня вглубь замка по мрачному, пугающему коридору, стены которого до середины обложены синей плиткой. Коридор переходит в громадную лестничную клетку, которая даже при таком скудном освещении выглядит впечатляюще. Я с изумлением оглядываюсь. Справа и слева — покрытые коврами лестничные марши с каменными перилами, они ведут к коридорам на верхних этажах. Верхние переходы напоминают мне галереи в монастырях.
На лестничных площадках — громадные картины. Вверху в стенах я замечаю полукруглые ниши. Они выглядят заброшенными, там когда-то находились статуи, которых сейчас не хватает.
Присматриваюсь и замечаю, что первое впечатление обманчиво. Из перил вывалилось несколько кирпичей, на ковровых дорожках — лысые белые пятна. То, что казалось мне блеском драгоценного мрамора, оказалось влажной плесенью, которая покрыла колонны.
Беккер и остальные ожидают позади, пока я все осмотрю. Они все еще молчат, и мне становится не по себе, будто за моей спиной происходит нечто, о чем я не имею ни малейшего понятия. Как только я оборачиваюсь, взгляды бьют, словно кинжалы. Вдруг я отчетливо вспоминаю слова из фотоальбома — «убийцы твоей матери».
Что, черт возьми, я надумала? Очевидно, я вела себя слишком самонадеянно, в животе возникает неприятное чувство, в глазах темнеет. Я могу жестоко поплатиться за неосторожность. Еще раз внимательно осматриваю присутствующих. С виду мы все примерно одного возраста. Мальчик (тот, что повыше) худощав, его голова кажется мне слишком массивной для длинной тоненькой шеи. Тот, что поменьше, — моего роста, выглядит натренированным и так напряжен, словно каждую секунду ожидает сигнала к бою без правил.
Светленькая девочка хрупкая и миниатюрная, лишь полные круглые щеки нарушают общий образ. Почему-то ее лицо кажется мне знакомым.
Я вздыхаю и раздумываю, что бы сказать, чтоб прервать эту странную тишину. Но Беккер меня опережает. Он проходит мимо меня и распахивает дверь под большой наружной лестницей. За ней открывается огромный зал, и у меня захватывает дух.
— Еще раз добро пожаловать, — говорит Беккер. — Это касается всех вас.
Повсюду в большом помещении большие белые свечи и свечки поменьше: на подоконниках, на длинном старинном столе из блестящего черного дерева, уставленного посудой и серебряными приборами, на мраморном полу, в нишах в противоположном конце зала. От мерцающего света по стенам пляшут волшебные тени. Только присмотревшись, я замечаю — несмотря на помпезность, зал в таком же изрядно потрепанном состоянии, что и лестницы. От стен местами отвалилась штукатурка, и просвечивают красные кирпичи, в других местах на штукатурке видна еще влажная роспись.
Что все это означает? А этот замок — просто красивая картинка? Почему важный отборочный лагерь находится в таком месте?
Я оборачиваюсь к остальным. У них тоже, очевидно, пропал дар речи.
— А где здесь туалет? — спрашиваю я и слышу, что мой голос звучит в этом зале совершенно незнакомо. Но я чувствую, как все вздыхают с облегчением, оттого что тягостное молчание прервалось.
Николетта вышла вперед и озарила меня широкой голливудской улыбкой, которая шла к ее правильным чертам лица. Джинсы и топ, в которые женщина была одета сегодня утром, она сменила на летнее платье в цветочек и балетки. И я только сейчас сообразила, что Николетта попала сюда раньше меня. Либо она шла следом за мной по равнине и где-то обогнала, либо существует более короткий путь сюда, наверх. Я как раз хотела спросить ее об этом, но она сделала мне знак следовать за ней. Белокурая девочка тоже присоединилась к нам. Откуда же я ее знаю? Меня не покидает чувство, что мы с ней наверняка где-то встречались. Девочка протягивает мне руку.
— Меня зовут София Рыцарь. Ты прилично опоздала! — Она подмигивает мне. — Но не обращай особого внимания на это, я пришла предпоследней и едва ли быстрее тебя. Кроме того, только в честь тебя устроили фейерверк!
Я все еще не могу понять, когда в замке появились все эти люди. Неужели они все прибыли сюда только сегодня? Так, наверное, можно объяснить мое странное чувство на горе.
Мы идем за Николеттой. Когда я впервые прочла об этом лагере, то невольно представила какой-то палаточный городок или что-то вроде молодежной туристической базы. А вместо этого мы очутились в застенках. Интересно, сколько времени здесь никто не жил?
Пока мы шагаем по коридору, Николетта просит нас не ходить в северное крыло замка, потому что оно в худшем состоянии, чем южное. Якобы существует угроза жизни.
Итак, мы оказываемся на кухне, которая больше, чем вся наша квартира. Чего стоит только одна зеленая изразцовая печь: такого размера, что кажется, будто может обогреть весь замок. Краем глаза замечаю фотографии, которые висят на стене или приколоты на старом кухонном буфете. Николетта прибавляет шагу и открывает деревянную дверь, покрытую грязно-желтым облупившимся лаком. Я вижу каменную лестницу, которая ведет в подвал. На стенах болтаются голые лампочки, очевидно временно прикрученные шурупами, они даже не все светят.
Внизу пахнет сыростью. Кажется, что стены из монолитного камня, словно ход высекли прямо в скале против воли горы. Главный коридор такой широкий, что мы с Софией можем идти рядом; лампочки немного освещают путь, но боковые туннели тонут в кромешной тьме. Одни проходы закрыты решетчатыми дверями, другие забиты досками до половины, словно загончики для скота.
От Николетты мы узнаем, что электрическое освещение надежно только в главном коридоре, в боковые ходы, как и в северное крыло, лучше не ходить.
Наконец мы оказываемся в ванной комнате, строго разделенной на мужскую и женскую части. Ванная комната! Если быть точной, то это ванна в сырой комнате для женщин. Влага тут же оседает на моей мокрой от пота коже, словно смердящая половая тряпка. Вот это место действительно похоже на молодежную туристическую базу, которая долгое время не эксплуатировалась. Скучный серый кафель покрывает пол и стены примерно до уровня плеч. Выше плитки стены выкрашены в отвратительный цвет зубного налета. Краска местами покрылась пузырями и облущилась. Ряд рукомойников тянется через всю комнату. В их шершавую поверхность въелись пятна ржавчины. Через каждые пятьдесят сантиметров — потускневшие металлические краны. Я поворачиваю кран, чтобы помыть руки с мылом, которое лежит в грязной лужице на краю ванны, и течет лишь тоненькая струйка холодной воды.
— Это хуже той дыры, в которой мы жили во время последней нашей школьной поездки! — стонет София.
Николетта не обращает на нее внимания и указывает в левый угол комнаты.
— Там душевые кабинки.
И исчезает за углом.
— А туалеты здесь, сзади! — весело кричит она, словно расхваливает на ярмарке самый новый и лучший товар.
Мы бежим вслед за ней осматривать туалеты, потом возвращаемся в главную комнату, находим две покосившиеся душевые кабинки, дверцы которых изнутри закрываются на задвижки. Николетта открывает одну из них, и неожиданно перед нами предстает полностью обнаженный красивый мужчина. С его вьющихся черных волос капает вода. Он стоит на хрупком деревянном настиле кабинки, с довольным видом смотрит на нас и без тени стеснения вытирается полотенцем.
Улыбка Николетты тут же исчезает. Меня все это немного пугает. Красивые губы женщины превращаются в узкую линию. В одно мгновение она становится похожа на человека, который способен швырять камни с вершины утеса, чтобы кого-нибудь убить.
— Себастиан, что ты здесь делаешь? Ну-ка, выметайся!
Мужчина нарочито медленно натягивает клетчатые боксерские шорты и красную футболку. Он мускулист, я замечаю небольшое волнистое тату прямо под накачанными кубиками пресса. Он ищет возможность встретиться взглядом и улыбается непроницаемо темными глазами, словно хорошо со мной знаком или знает обо мне нечто, что его веселит.
— А ты наверняка Эмма! — говорит он. — Именно так я тебя и представлял. — Он подмигивает Николетте, а та почти незаметно качает головой.
Я не знаю, что и ответить, все фразы кажутся шаблонными. То, что мы застали его в душе голым, его нелепое приветствие, и к тому же его ангельски красивое лицо… Все выглядит странной театральной постановкой, в которой я играю роль, которую не выучила. При этом знаю, какую роль хочу играть я, и она требует постоянной бдительности, иначе я никогда не узнаю, кто убил мою мать.
— Мы долго тебя ждали, — произносит Себастиан.
Краем глаза замечаю, что теперь Николетта и София обмениваются взглядами и пытаются ему что-то сообщить знаками. Но что? Совершенно очевидно, что София уже знает Себастиана, и еще более очевидно, что меня сейчас ему показывали.
Мне это не нравится, и я решаюсь до основания разрушить пьеску, перетянуть режиссуру на себя и занять выгодную позицию. Нужно сделать нечто, на что они не рассчитывают, и посмотреть, что произойдет.
Внезапно я бросаю эту троицу и выбегаю из ванной в коридор. Меня окутывает непроглядная тьма.
Глава 4
За шесть недель до событий
Пакетик с фотоальбомом стал после смерти мамы словно избавлением от отчаянного мрака, но сначала я этого не поняла. Я снова и снова смотрела на снимок на последней странице альбома, читала подпись внизу и ничего не чувствовала. Я понимала, что должна возмущаться, волноваться, но меня словно отрезало от самой себя.
Я гладила пальцами детское лицо на фото и пыталась понять. «Убийцы моей матери»? «Убийцы» — слово во множественном числе? Что за чепуха, мама по дороге домой потеряла управление, и ее машина упала в озеро. Полиция не нашла доказательств, что происшествие было подстроено. Они также не смогли установить, что с машиной производили какие-то манипуляции.
Убийцы?.. Что за безумие! Почему тогда не агенты ЦРУ, которые инсценировали несчастный случай и создали для мамы легенду — человек с новой фамилией, — так как она стала свидетельницей кровавых террористических заговоров? Или пришельцы, которые ее похитили?
Я снова рассматриваю фотографию, которую обнаружила на последней странице зловещего альбома. Мама так мало рассказывала о своем детстве, но и я редко спрашивала ее об этом. Мне больше хотелось всяких историй о принцессах или о моем отце Филиппе — он был герой. Вот об этом я не могла наслушаться. Истории о бабушке Анне-Марии, у которой мама выросла и которая до войны была крестьянкой в хозяйстве Ламбертов, я тогда считала скучными.
Вдруг мне вспомнились натруженные мамины руки в шрамах, и я снова поняла, каким эгоистичным монстром была. Как мало я знала о ней, и еще хуже, что даже не хотела знать.
Я присмотрелась к снимку: старомодная одежда ребенка, вполне возможно, мода шестидесятых, когда моя мама была маленькой. Я внимательно изучила черты лица, и, прежде всего, глаза, заинтересовалась пропорциями. Мгновенно я совершенно уверилась: ребенок на фото — моя мать. Этот вывод пронзил меня, словно молния, которая бьет в толстый слой льда. Мне мгновенно стало жарко, горло перехватило, а потом по щекам потекли слезы, плечи задрожали, а изо рта вырвались сдавленные отвратительные звуки.
Впервые с момента ужасного несчастного случая я должна была и я могла по ней плакать. Ее жизнь прошла, и все мое знание о ней заключалось в том, что она меня любила, оберегала и защищала. Но я никогда ею не интересовалась. А теперь слишком поздно.
После того как я всю ночь проревела рядом с фотоальбомом, я снова почувствовала себя человеком. Впервые после автокатастрофы. Все было болезненно, но это лучше, чем черное оцепенение. Я еще не знала, что делать с фотоальбомом и с тем, что мне нужно где-то «объявиться». Я не могла ничего начать.
Содержимое пакетика с выпечкой было странным и пресным, но оно что-то во мне перевернуло. Прогресс по сравнению с последними неделями. Я обрадовалась, что не выбросила маффины.
Решила принять душ и наконец что-нибудь съесть. Но до того я прибралась на кухне и собралась выбросить в мусорное ведро упаковочную бумагу из-под альбома. Внезапно оттуда выпал рекламный проспект. Сначала я безжалостно отправила его в макулатуру: подумала, что он просто наполнитель, но затем стало ясно, что в этом пакетике случайностям не могло быть места. Я наклонилась, чтобы внимательно прочесть. Это была глянцевая рекламка «Transnational Youth Foundation».
Я никогда о нем не слышала. Поискала в Интернете, и вывалились тысячи результатов, в самых верхних значились ссылки на домашнюю страничку фонда. Очевидно, речь шла о виде дотационной молодежной программы, лозунгом которой было «взаимопонимание между народами». У нее были довольно влиятельные покровители. На первой странице стояло приветственное слово от государственной канцелярии. Что за черт, какое отношение это имеет к смерти моей матери или к фотоальбому?
Я раздраженно читала дальше, выискивая хоть какие-то намеки, но даже когда трижды полностью все прочла, у меня не было ни малейшего понятия, что со всем этим делать.
Очевидно, «Transnational Youth Foundation», сокращенно TYF, организовывала лагерь для молодежи от шестнадцати до восемнадцати лет со всего мира. Также говорилось, что участники «Transnational Youth Award»[2] в любом случае извлекут пользу. Можно знакомиться с людьми, которых иначе никогда бы не увидел, изучать иностранные языки и культуру. Это понравилось бы матери, но как это связано с ее смертью?
В Германии можно записаться в четыре разных филиала лагеря, которые находятся в Берлине, Гамбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Баварии. Там, собственно, и проходит отбор. Только лучшие участники из Германии смогут поехать в Австралию, в международный лагерь. Расходы оплачивают различные меценаты, спонсоры от крупных предприятий, федеральное правительство и благотворительные организации.
Я открыла и прочла все подпункты, нашла список мероприятий лагеря и, кроме того, информацию о руководителях, профессиональных психологах и педагогах. Большинство из них выглядели довольно молодо для своих докторских званий. Максим Фабре, Михаэль М. Беккер, Дженис Смит, Табо Малеви, Николетта Брунс, Росвита Мюллер, Рене Лампер. В конце каждой странички помещался формуляр для заполнения. В Фейсбуке тоже было их сообщество, здесь еще были ссылки на ЮНИСЕФ, к тому же многочисленные комментарии от участников, которые в большинстве своем позитивно отзывались о полученном в лагере опыте.
Что общего у элитарных организаций для избранных и моей мамы? Она не имела дел со всякими там союзами и благотворительными фондами. По ее мнению, основные средства в них уходили на администрацию и бюрократию. Поэтому она предпочитала живой контакт с людьми и помогала по мере сил.
Я приняла душ, съела три черничных маффина, и впервые после несчастного случая мне не стало плохо после еды. Я обдумывала, не рассказать ли кому-нибудь об этом пакете, может быть, Лизе или доктору Грюнбайну, но это было бы просто абсурдно. Они лишь обеспокоятся моим психическим состоянием.
Закончив с маффинами, я снова села за компьютер. У меня закрались другие подозрения. С международным лагерем все было слишком гладко. Может, это были какие-то новые методы сайентологии или какой-нибудь другой секты, стремящейся заполучить новых адептов. На этот раз я взялась за скорбящих подростков. Порылась в Сети, прошлась по всем перекрестным ссылкам, голосованиям и источникам, но, сколько ни искала, все оставляло вполне приличное впечатление. Пока я проводила расследование, пришло письмо по электронной почте на адрес, который знали мои друзья. Но отправитель был не из их числа. Оно было от «Transnational Youth Foundation». В теме письма было написано: «Не медли, лагерь ждет тебя!»
Я щелкнула на письмо и обнаружила два вложения: формуляр для заполнения и файл с названием «Бергманн-1969».
Это была фотография.
На снимке — кукла, которая показалась мне очень знакомой. Она была перемотана лейкопластырем, волосы обрезаны, всю жизнь я помню ее сидящей на шкафу мамы. Но на снимке кукла лежала лицом вниз на краю какого-то бассейна или фонтана, словно ее хотели утопить.
Я помчалась в комнату мамы, чтобы для перестраховки еще раз свериться с фотографией, но куклы на месте не оказалось.
Я обшарила всю квартиру. Напрасно. Я подумала, не забрала ли мама куклу в больницу для какого-нибудь больного ребенка. Неубедительно.
Кукла была, а теперь бесследно исчезла.
Глава 5
Сердце едва не выпрыгивает из груди. Я стою в темноте, за дверью в душевую, которую захлопнула, прислушиваюсь и надеюсь получить хоть малейший намек на то, что здесь происходит.
Но кроме проклятий Николетты, я не слышу ничьих голосов, потом что-то говорит Себастиан, и все хохочут. Не похоже, чтобы так вели себя заговорщики. Я поступила довольно глупо, столь неожиданно пустившись наутек.
И все же странно, что Себастиан принимал душ в женской ванной комнате. Возможно, он намеренно так поступил, чтобы мы полюбовались им? Я снова вспоминаю его улыбающееся лицо и физиономию Николетты — поразительно, но выражение их лиц было одинаковое, и трудно понять, что за этим скрывается.
Внезапно дверь распахивается. Прежде чем я успеваю среагировать, Николетта ступает в коридор. Загорается свет. Она качает головой, обнаружив меня, морщит лоб и подходит ко мне.
— Эмма, что ты здесь делаешь в полной темноте? — Но потом она успокаивается. На губах появляется сдержанная улыбка. — Я не ожидала от тебя такой смелости. Но в тихом озере черти водятся.
Перед моими глазами сразу всплывает картинка озера, спокойного и глубокого, в котором утонула машина мамы. Неужели она нарочно произнесла пословицу неправильно? Ведь говорят же «в тихом омуте». Был ли это намек?
София задумчиво глядит на меня, она явно хочет что-то сказать, но Николетта торопит нас, и я радуюсь, что мы наконец-то покидаем сырой подвал.
В обеденном зале все уже ждут. Доктор Беккер сидит справа, во главе стола, по левую руку от него усаживается Николетта. Мальчики рассаживаются, нам достаются места напротив.
Отодвигаю стул, осматриваю блюда и чувствую, что, несмотря на все напряжение, я ужасно голодна. Здесь есть сэндвичи, помидоры с моцареллой, небольшие кусочки киша. Все выглядит очень изысканно — пир одним словом. И это не вяжется с обшарпанным залом, в котором накрыт стол. Правда, в этом замке все не вяжется: обилие свечей — с раздолбанным туалетом молодежной базы отдыха, полированный стол и серебряные приборы — с облупившейся штукатуркой. И как увязать со всем этим маминых убийц?
И меня?
Себастиан, тип из ванной, теперь натянул джинсы и футболку. Он оказался ассистентом Николетты и доктора Беккера. Он выносит в зал еще больше подносов с едой и садится напротив Николетты и Беккера. Я подкладываю себе еще пару сэндвичей, потому что есть проще, чем говорить. А разговор не клеится, словно все мы стесняемся торжественной атмосферы. Оба мальчика отпускают милые шуточки в стиле Гомера из «Симпсонов», смеются слишком громко, а Беккер и Николетта внимательно наблюдают за нами. София слишком часто косится на хорошенького Себастиана, который справедливо делит свое внимание между Николеттой, Софией и мной.
Не знаю, что я рассчитывала здесь обнаружить, но точно не это. Я себе представляла лагерь намного больше. Не такой, так сказать, интимный. А что, если это вообще не настоящий лагерь?
Нет, невозможно. Фотографии доктора Беккера и Николетты размещены на интернет-страницах, и в анкетах они указывались как кураторы. Доктор Грюнбайн лично проверил их и лагерь, прежде чем отпустить меня. Собственно, он никогда бы не разрешил мне поехать, если бы знал о фотоальбоме и послании. Поэтому я и утаила от него эту информацию.
Кроме того, не стоит ожидать слишком многого. В документах неоднократно упоминалось, что в «Transnational Youth Foundation» применяются нетрадиционные методы. Всех участников предупреждали, что нужно быть готовым к сюрпризам и трудностям, с которыми еще никто не сталкивался.
Я развернулась и взглянула прямо в глаза Софии, та в ответ улыбнулась. Откуда же я ее знаю?
После невыносимо затянувшейся трапезы доктор Беккер объявил час знакомств. Я уже начала догадываться, что подразумевалось под «нетрадиционными методами» в этом лагере. Мы все еще сидели в мерцающем свете, но некоторые свечи уже догорели, и тени в зале стали гуще. Я ощущала изнеможение в каждой косточке и мышце, не приятную истому, а тяжелую физическую усталость.
— Буквально по одному предложению. — Беккер осмотрел присутствующих. — У каждого есть одно предложение, чтобы убедительно объяснить нам, почему он здесь. Личное официальное заявление. Девиз.
Все молчали, я сама удивилась, когда первой раскрыла рот:
— Нужно иметь мужество оставить все тени позади и смотреть вперед.
Эта фраза была не моя, я ее процитировала. Мама произносила ее, доводя меня до белого каления. Но удивительным образом сейчас она мне пригодилась. «И тебе», — мысленно шепнула я маме, надеясь, что в тот момент она где-то поблизости летает, как ангел-хранитель. И сможет уберечь меня не только от обвала, но и от прочего зла.
Следующим вызвался Филипп. Вот он дожевывает сэндвич, крошит правой рукой кусочек хлеба, потом решительно осматривает всех по очереди и улыбается. Его лицо словно светится, и это завораживает. Свет исходит не от свечей. Внезапно его слегка асимметричное лицо с кривым носом кажется мне очень симпатичным. Он проводит ладонями по волосам, словно они короткие, как после стрижки наголо. В его длинных темных кудрях застревают несколько маленьких крошек, отчего он мгновенно преображается и становится еще чудеснее. Филипп набирает побольше воздуха, словно у него прилив остроумия.
— За искрой пламя ширится вослед, — произносит он и добавляет: — Это не моя фраза, из Данте.
Данте? Данте и этот качок? Теперь я разглядываю его с еще большим интересом.
Пришла очередь Тома, я тем временем поглядываю на наших кураторов. Николетта, Себастиан и Беккер сосредоточили все внимание на Томе, но я не могу прочитать их мимику. Они выглядят заинтересованными — ведут себя профессионально. Я злюсь на себя за то, что, когда произносила свою фразу, не обратила внимания на эту троицу.
Том качает большой головой, его светло-каштановые, по шею волосы покачиваются в такт. Он улыбается всем присутствующим большими темными глазами. Он тоже вполне мил, хотя и выглядит слегка ботаником. Немного напоминает громадную кивающую собачку из машины. В общем, безобидный.
Не так безобиден его девиз, произнесенный удивительно низким и звучным голосом:
— Жизнь есть смерть. Множество маленьких смертей придают жизни смысл.
Краем уха я слышу, как Беккер сухо замечает, что Том произнес два предложения, но в первый вечер никто не хочет идти ва-банк. Жизнь есть смерть.
Я смотрю на стену и вижу там наши тени, пляшущие на облупленной штукатурке. И мне вновь чудится, что замок — это живое существо, которое должно сожрать одного из детей, чтобы не развалиться.
С мерзким ощущением в желудке я пытаюсь разгадать, что скрыто за дружелюбным лицом Тома. Что он имел в виду, когда сказал: «Множество маленьких смертей придают жизни смысл»? Возможно, это очередной спектакль.
Может ли быть на самом деле, что один из участников программы или один из кураторов — убийца матери? Но какой у него мотив?
Как ни силилась, я не смогла найти ни одной точки соприкосновения. Однако я сюда именно затем и приехала, чтобы разобраться. И это нормально, что я остаюсь бдительной.
Я погружаюсь в мысли и совершенно пропускаю мимо ушей комментарии Беккера насчет девиза Тома. Я прислушиваюсь, только когда София начинает говорить что-то о звезде, которой всего хватает для того, чтобы верить в свет. «Это наверняка понравилось бы маме», — невольно думаю я и стараюсь не смотреть на пляшущие тени на стенах.
В конце слово по очереди берут Беккер, Николетта и Себастиан. Но к личным девизам их речи не имеют отношения. От доктора Беккера мы наконец узнаем, что он врач. Психология в сфере его интересов появилась позже, и он получил второе высшее образование.
Филипп закатывает глаза, и я просто чувствую, о чем он думает, особенно когда Беккер добавляет: мол, никогда не поздно осуществлять свои мечты. О, Господи, очевидно, доктор — один из тех балаболов, которые пишут книги с советами, которые мама прочитывала в один присест.
Мама. Много бывает смертей и много тихих озер. В голове все вертится, но я заставляю себя слушать, чтобы не пропустить ничего важного.
Себастиан — ассистент Беккера и Николетты — как раз закончил диссертацию.
Николетта представляется последней, она объясняет нам с неизменно холодной улыбкой, что работает в лагере на общественных началах.
— Разве у вас нет семьи? — спрашивает София.
Этот вопрос меня тоже интересует.
Что-то на мгновение меняется в лице доктора Беккера, но я не могу понять, что именно.
— Этот лагерь и есть моя семья!
Но наверняка не моя! Мне снова приходит на ум теория о секте, когда Николетта требует, чтобы мы отдали ей наши мобильные телефоны. Вот просто так.
Немедленно и без обсуждения.
Мы растерянно переглядываемся.
— Здесь все равно нет связи, — вмешивается Филипп, — значит, мы можем оставить телефоны при себе, разве нет?
— Нет.
Никаких объяснений.
Повисает тишина, все меняется. Словно кинофильм в замедленной съемке. Можно видеть, как гаснет свеча, слышать, как расплавленный воск капает на пол, обонять, как пламя свечи с тихим шипением проглатывает мошку. Но тут в моей голове включается оглушительная сирена. Нет телефона — нет контакта с внешним миром. Нет фотографий. Нет видео. И, следовательно, никаких доказательств.
Николетта протягивает руку. Она неумолима.
— Но это словно мы сами должны отрезать нашу пуповину! — бормочет Филипп и неохотно протягивает Николетте телефон — старый аппарат с наклейками кадров из «Симпсонов».
— Какая серия тебе больше всего нравится? — спрашивает Том, доставая свой смартфон в чехле с клубными цветами мюнхенской «Баварии».
— Есть куча реально классных серий, но круче всего «One fish, two fish, blowfish».
— Это не та, в которой Гомер думает, что умрет, потому что отравился рыбой фугу?
— Я понимаю: выглядит так, словно вы будете отрезаны от остального мира. — Николетта щедро раздаривает всем свою фальшивую улыбку. — Но это всего лишь ультимативный тест на то, стали ли вы взрослыми. Без мобильников вы будете предоставлены сами себе.
— Я уже взрослая, — ворчит София, роясь в сумочке в поисках телефона.
Я спрашиваю себя, почему София не держит такой классный аппарат под рукой. Это новейший смартфон в чехле с розовыми стразами, которые в мерцающем свете свечей кажутся кровавыми каплями воды.
Наконец достаю свой мобильник. Я очень опечалена. Здесь последние фото с мамой и наши общие снимки — отдавая телефон в чужие руки, я словно вновь теряю маму.
После этого я просто хочу остаться одна. Я ощущаю, как постепенно силы мои иссякают. Я измождена путешествием и еще тем, что постоянно боюсь пропустить любую мелочь, которая могла бы дать какие-то зацепки. Поэтому с трудом подавляю тяжелый вздох, когда узнаю, что мы будем делить с Софией одну комнату, вернее дортуар — общую спальню. Снова нужно следить за всем, снова прислушиваться.
Наша спальня на третьем этаже, спальни наших кураторов — на втором. Николетта с особо довольной улыбкой сообщает, что они всегда будут рады выслушать нас и мы их сможем там найти в любое время. Краем глаза вижу, как на лице Софии мелькает едва заметная улыбка. Представляю, как в тот момент она думает, насколько Себастиан обрадуется, когда девушка постучит в его дверь.
Николетта щелкает старым поворотным выключателем, и комнату заливает неяркий свет. Я вижу десять металлических коек, расставленных вдоль стен: на каждой одеяло и подушка, все аккуратно сложено, как в армии. Потом мой взгляд падает на маленькое окно, под которым стоит изящный столик с табуретом и мусорным ведром. В стене возле окна замечаю небольшую нишу, которая сразу кажется мне знакомой.
Не обращая внимания на Софию и Николетту, я подхожу.
Компактная глубокая овальная ниша в толстой стене, украшенная крупными бисеринами, — моя первая догадка почти превратилась в уверенность. Я убеждена, что снимок, который я обнаружила в альбоме, сделан именно здесь. На том фото изображен ребенок в штанишках, рядом — небольшая икона Девы Марии.
Я волнуюсь, с трепетом касаюсь бисерин кончиками пальцев, они холодные, просто ледяные. На глаза тут же наворачиваются слезы. Я обнаружила место, где должна искать убийц мамы. Внезапно сон как рукой сняло, и я решаю детально осмотреть замок, как только уснет София.
Но София трещит без умолку о том, что самый занюханный хостел комфортабельнее, чем этот замок, и о том, как крут был ужин при свечах. Я стараюсь, но на самом деле не очень вникаю в эту болтовню, меня просто распирает от желания изучить замок.
Поэтому я быстро ложусь в постель и демонстративно закрываю глаза, но тут София нагибается ко мне и шепчет на ухо:
— Знаешь, мне кажется, что мы уже когда-то встречались. С тобой такого никогда не бывает?
Хотя мне тоже так кажется, я не отвечаю ей, дышу глубоко и размеренно. Я сейчас должна сконцентрировать силы и выяснить, что мама делала в этом странном месте. И это мне предстоит сделать в одиночку.
Глава 6
Посреди ночи я вскакиваю в замешательстве: в нос бьет мандариновый запах крема для рук. Возникает странное чувство, что мама только что была здесь. Как бы я хотела, чтобы это чувство продлилось подольше, но запах улетучивается в пыльном теплом воздухе. Вместо этого я вижу кошмар: мамин тонкий силуэт с узкими плечами прямо здесь, у изголовья железной койки. Она словно рвется мне что-то сказать. Но как она ни пытается, изо рта не вылетает ни звука. Вместо этого ее тень, которая падает на стену, становится все больше и больше. Кажется, она собирается поглотить маму, если с ее губ сорвется хоть слово.
Я делаю глубокие вдохи, пытаюсь успокоиться и смотрю в непроглядную тьму. Наверное, я сразу заснула, после того как София выключила свет, хотя после обнаружения ниши планировала обследовать замок.
На противоположной стороне комнаты кровать Софии, но в темноте ничего не могу разглядеть. Сколько же я проспала? Сколько времени растратила попусту? Не имею ни малейшего понятия, но злюсь на себя, что все-таки заснула и не выполнила задуманное.
Я нащупываю рюкзак, запускаю в него руку в поисках фонарика. С облегчением обнаруживаю его в боковом кармане. Включив его, вижу, что София лежит на боку, свернувшись в позе эмбриона, крепко зажав одеяло между ног. Она выглядит беззащитной.
Я осторожно проскальзываю к двери и пытаюсь сориентироваться. Вниз, лучше всего начать снизу. И нельзя шуметь.
Я освещаю узкий коридор с отслоившимися обоями, добираюсь до лестницы, сбегаю вниз, но посредине поскальзываюсь: разорванная ковровая дорожка не закреплена. Потеряв равновесие, я лечу, но случайно успеваю ухватиться за перила, чтобы не скатиться еще дальше. Грохот, кажется, слышен во всем замке. Я жду, что сейчас отовсюду вывалят люди, но все тихо, словно я здесь совершенно одна. Фонарик выскользнул из руки, но, к счастью, не разбился. Поднимаю его и с трудом встаю — ушиблась при падении. Теперь стоит внимательнее смотреть под ноги. Осторожно освещаю все перед собой. Добираюсь до последнего марша на первом этаже, над которым висит картина — Наполеон на коне. Мама любила лошадей, она очень разочаровалась, когда выяснилось, что я их боюсь и ни за что не хочу учиться ездить верхом. Она считала лошадей самыми кроткими созданиями в мире. При этом по-настоящему самым кротким созданием была она сама.
В зале я задумываюсь, куда отправиться. Осматриваю зал, в котором мы ужинали. В свете фонарика он выглядит еще печальнее, чем при свечах, и мне кажется, что какие-то маленькие существа убегают в темноту от луча света. Я даже думать не хочу, что это за животные.
По коридору добираюсь до кухни. Кафельный пол в темноте кажется дорогой в преисподнюю. «Это всего лишь печка, — убеждаю я себя и на ощупь двигаюсь дальше. — Это всего лишь печка, Эмма».
Но вдруг луч фонарика выхватывает дверь в подвал. Она открыта. Это мне не нравится. Только через пару секунд я осознаю, в чем странность. Если внизу, в душевых, кто-то есть, то там должен гореть свет, разве не так? Но там хоть глаз выколи!
Я бегу по лестнице в подвал, слышу тихие жалобные стоны ветра, который гуляет в проходах, но есть еще что-то, какой-то другой звук. Это шепот. Совершенно точно, там внизу шепотом говорят двое. Я превозмогаю отвращение и проскальзываю вниз по лестнице. «Убийцы твоей матери…»
У людей, которые перешептываются в темноте, наверняка есть тайна.
Луч фонарика падает на голые каменные стены. Шепот становится громче, но у меня возникает чувство, что звук идет не со стороны душевых слева от меня, а справа.
Я ощупью пробираюсь вперед, бегу по разветвляющимся подвальным коридорам и снова замираю, чтобы убедиться, что на верном пути. Но чем дальше я продвигаюсь, тем тише шепот.
И вдруг я оказываюсь перед глухой стеной. Тупик. Когда я хочу вернуться, снова слышу странный жалобный стон, на этот раз громче, чем на лестнице. Невольно я останавливаюсь, от этого звука у меня мурашки по коже, пытаюсь подобрать безобидное объяснение этому феномену.
Неужели просто ветер гуляет в коридорах? Ведь я тогда должна его ощущать? Может, здесь есть какие-то старые каминные дымоходы, в которых возникает этот звук? Он то стихает, то нарастает снова — жалобный, громкий, пронзительный. Вдруг я подумала о маленьких детях, которые хотят, чтобы матери взяли их на руки. Крошечные морщинистые младенцы, которые только что сделали первый вдох.
Эмма, соберись! У каждого дома есть собственные звуки, к которым нужно привыкнуть. Глухая ночь на дворе, можно услышать все, что угодно, особенно после такого ужасного кошмара.
Я бегу обратно в сторону душевых, снова прислушиваюсь к шепоту, но ничего не слышно, лишь это странное завывание, то громче, то тише. И тут я уже не уверена, реально ли оно. Может, оно просто в моей голове? В свете фонарика коридоры выглядят одинаково, я больше не могу различить, где главный ход, а где ответвление. Я бегу быстрее и вновь оказываюсь в тупике, на этот раз перед закрытой стальной дверью. Когда я прижимаюсь к ней, чувствую вибрацию, словно от громких ударов в литавры. Я в растерянности прислоняюсь лбом к стали, желая понять, что происходит. Неужели эта барабанная дробь — всего лишь стук моего сердца? Оно колотится в моей груди от волнения. Прикладываю ухо, мочкой ощущаю холод, но это меня озадачивает еще больше: я уже не могу различить, исходит ли звук из-за двери или же все это мне только мерещится. Я бы сейчас разбила голову об эту дверь, только бы это все прекратить. «Мама, — думаю я, — мама». Мне нельзя оборачиваться! Господи милостивый, мне нужно сейчас быть благоразумной, бежать отсюда наверх, к безопасной теплой постели. Я бегу и ударяюсь во что-то теплое и мягкое. Пытаюсь вдохнуть, но мое лицо закрыто тканью.
— Эй, осторожно!
Загорается лампочка на потолке, внезапно все озаряется светом. Он такой слепящий, что мне приходится щуриться. Только теперь я узнаю Филиппа. В него я и врезалась.
Я дышу глубоко и пытаюсь успокоиться. Сердце еще колотится, но все звуки пропали. Хоть что-то хорошее.
— С тобой все в порядке?
Я киваю. Говорить не могу, боюсь, что голос откажет.
— Ты ищешь туалет? — спрашивает Филипп. — Тогда мы собратья по несчастью.
Глаза медленно привыкают к свету, поэтому я не могу толком рассмотреть выражение его лица, но уверена, что он врет. Такие, как он, не ищут туалет по ночам, тем более в подвале. Они ссут прямо из окна.
— Здесь внизу еще кто-то есть? — неожиданно слышу я свой голос.
Он озадаченно смотрит на меня, проводит рукой по волосам:
— Понятия не имею.
Он разворачивается к мужской душевой.
— Но здесь был какой-то звук. Ты ничего не слышал?
Филипп смеется.
— Ты имеешь в виду это завывание? Звучит жутковато, правда? Наверное, где-то здесь вентиляционная шахта. Или животные какие-то.
Уже легче, значит, этот звук мне не почудился. И, значит, я не сошла с ума. Филипп отворачивается.
— Мне тебя подождать? Тогда мы сможем вместе подняться.
Я благодарно киваю. Даже если он врет, все равно лучше, чтобы он был рядом и я не блуждала по этому замку ужасов одна.
Я открываю дверь в женскую душевую, включаю свет, потом иду к туалетам и останавливаюсь как вкопанная. Средняя кабинка заперта изнутри. На старомодном поворотном замке — красный цвет.
— Николетта? — теперь я сама почти шепчу.
Молчание.
Я чувствую, что от страха у меня ком в горле. Кто закрывается посреди ночи в кабинке, да еще без света? И зачем? Это совершенно точно не София. И, очевидно, не Николетта. Я заставляю себя опуститься на колени: может быть, смогу увидеть ноги. Но двери доходят до самого пола, выложенного старой плиткой.
«Убийцы твоей матери, — снова звучит во мне голос. — Убийцы твоей матери…»
В моей голове все идет кубарем: кошмар, падение на лестнице, шепот и вот теперь это. Внезапно все кажется абсолютно абсурдным: блуждания в темноте, приступы паники. Во всем этом совершенно нет смысла!
Я выбегаю и мчусь по коридору в сторону лестницы, где меня перехватывает Филипп:
— Эй, разве мы не договорились вместе подняться наверх?
Я стараюсь как можно лучше скрыть смятение. Но мне это просто не удается.
— Что ты здесь делаешь? — выпаливаю я.
— Что? — Филипп останавливается посреди кухни, в которой мы тем временем оказываемся. — Что ты имеешь в виду?
— Именно то, что я спросила. Что ты здесь делаешь, в этом месте?
Он светит мне в лицо, но я все же вижу, как сощурились его глаза.
— Ты же сама прекрасно знаешь, зачем мы все здесь! — шипит он.
— Нет, я не знаю этого. — Я чувствую, как начинаю дрожать.
Филиппа как будто подменили. Он рассерженно смотрит на меня:
— Наверное, ты слишком труслива, чтобы признаться, но я уверен, что с твоим отцом было то же самое, что и с моим!
Я настолько озадачена, что не могу вымолвить ни слова. Из-за моего отца? Мой отец мертв. Означает ли это, что Филипп тоже сирота? Здесь летний лагерь для сирот, что ли?
Глаза Филиппа сверкают, как у забияки, красивые губы сжались от злости. Теперь между мной и ним пролегла целая пропасть. Не говоря ни слова, он мчится прочь и исчезает в темноте. Я смотрю ему вслед. Что он этим хотел сказать? Я мало знаю о своем отце. Только то, что для мамы он был героем и они мечтали пожениться в Пратере[3] в Вене.
Я выключаю фонарик и шагаю прочь, останавливаюсь, только когда добираюсь до спальни. София лежит в той же позе, в которой я ее оставила.
Я устало валюсь на кровать, но понимаю, что сейчас слишком накручена, чтобы заснуть. Я сдвигаю комковатую подушку назад, чтобы усесться. И вдруг замираю от шороха, словно развернули фольгу от жевательной резинки. Неужели под моей подушкой что-то есть? Я засовываю руку и натыкаюсь на предмет. Вытягиваю его, чувствую с одной стороны гладкую поверхность, с обратной — небольшие неровности. Эта штука прямоугольная, напоминает открытку. Тут же хватаю фонарик и подсвечиваю.
Неровности на тыльной стороне блестят на свету — это высохший клей с ошметками бумаги.
Фотографию, которую я держу, явно откуда-то вырвали…
Мой бедный дружочек.
Мне следовало написать это письмо намного раньше, а теперь, наверное, уже слишком поздно. И все же начну с того дня, когда мы впервые увиделись. Стоял май, вероятно, был понедельник, потому что мне нужно было развесить белье в саду, где между деревьями зигзагами натянули веревки в несколько метров. Она возникла, как привидение, между рядов вывешенных простыней. Переполненная плетеная корзина со стиранным бельем клонила ее изящное тело к земле, и все же девушка казалась воздушным цветком. Прости меня за этот рассказ, но твоя мать всегда настраивала меня на поэтический лад.
Вдохновляла меня.
От тяжелой ноши ее щеки порозовели, на лбу блестели капельки пота. Первое, на что обращаешь внимание, — это ее огромные голубые глаза с оттенком лилового на бледном лице, словно незабудки после летнего дождя. Но ты это и так прекрасно знаешь, ведь вы так похожи. Но, наверное, тебе неизвестно, что раньше именно в таких ярких голубых тонах рисовали одеяние святой Марии. И Мария, явившаяся в данном случае источником всех бед, сыграла не последнюю роль в случившейся катастрофе. Однако в то утро ничто не предвещало беды, и, очевидно, девочка совершенно ничего не подозревала о впечатлении, которое она производит.
Как позже выяснилось, она вообще мало обращала внимание на окружающий ее мир. Она почти всегда молчала, а когда я заговаривала с ней, то иногда боялась, что слова утонут неуслышанными в пучине ее голубых глаз. Но она очень часто удивляла меня неожиданными, обескураживающе умными ответами. Ее любили все животные, даже вонючий лохматый пес с крестьянского двора, где по утрам мы забирали молоко. Обычно он разрывался от лая, так бился и рычал на ржавой цепи, что почти задыхался. Но когда подходила она, пес приседал на задние лапы и махал хвостом, позволяя себя погладить.
Но я забегаю вперед. И вот она стояла передо мной, и, хотя мы все были в одинаковой одежде, ее клетчатая блузка, плиссированная юбка с чулками до колен и темно-синий фартук выглядели иначе. Словно она кукла с картинки и одежда просто как нарисованная. Мне захотелось обойти вокруг нее и убедиться, что она на самом деле реальная. Она стояла там, а у меня закралась мысль: как эта девочка очутилась среди таких детей, как мы?
Она была младше меня, и это значило, что встречаться мы сможем нечасто, нас развели по разным возрастным группам. Она попала в среднюю, там детям еще позволяли называть сестер тетушками. Но мне хотелось как-то отыскать способ бывать с ней вместе, мне просто необходимо было срочно сфотографировать это бледное лицо. Мне еще никогда так страстно не хотелось что-либо снять на пленку.
Тебе понравились фотографии, которые меня прославили. Это невероятно, но до того, как мы повстречались с ней, на моих фотографиях чаще всего можно было встретить закаты и цветы.
Только представь. Закаты… на черно-белой пленке! У меня часто возникал вопрос, что подтолкнуло меня к фотографированию людей. Ответ всегда угнетал меня, мне не хотелось думать о твоей матери, потому что чувство вины переполняло. Но тебе я сейчас откроюсь. Та встреча в понедельник в середине мая послужила стартовой точкой для моей карьеры.
Но сначала мы просто молча стояли между простынями, которые безвольно болтались на веревках, вытесняя из сада ядреным запахом мыла аромат цветущих яблонь.
— Возьмем следующую корзину? — спросила она и обернулась ко мне лицом.
Но прежде, чем хоть слово сорвалось с моих губ, простыни разъехались в стороны, как театральный занавес. Мы испугались, что нас застали за бездельем, а это грозило жестоким наказанием любому. К счастью, это была не сестра Гертруда, а всего лишь дядя Лоренц, тот еще проныра. Он выглядел разочарованным: видимо, хотел застать нас за каким-то гнусным занятием. В числе гнусных занятий значилось безделье, а также воровство ягод и яблок из сада. Стоило лишь немного испачкать фартук или позволить себе чуток побездельничать — и можно было заработать самое строгое наказание.
Она испугалась намного сильнее, чем я, она ведь Лоренца еще не знала. Проныра был вторым воспитателем, его девиз — «Следить во имя Господа». Кроме него был еще дядя Карл. Он утешал во имя Господа. Они были чем-то вроде то ли священников, то ли врачей. Они обыскивали нас раз в неделю — единственные мужчины в стае черных ворон.
Диаконисса держала себя с ними так, словно они были лауреаты Нобелевской премии, потому что благодаря им ее заведение считалось весьма передовым. Но мне они были более ненавистны, чем все остальные — сестры. Жестокость сестер, по крайней мере, имела свои границы, жестокость мужчин — нет. Возможно, из-за того, что они были еще слишком молоды: им не исполнилось и двадцати лет. Карл, «утешитель», ждал, пока кто-нибудь из нас проштрафится, тогда наставал его звездный час. Он осторожно клал руку на наши косы или утирал слезы, утешая нас добрыми словами. Даже со мной это случалось. Каждая из нас изголодалась по вниманию.
Те трусы могли предотвратить весь кошмар, который начался позднее, но они использовали особое положение в свое удовольствие — им не хватало смелости.
Дядя Лоренц был разочарован из-за того, что нас не в чем было упрекнуть, и ограничился тем, что отправил нас обратно в прачечную. Мы последовали за ним, и тут я поняла, что до сих пор не знаю, как ее зовут, и спросила.
— Агнесса, — ответила девочка, в ее голосе слышалось столько удивления, словно она сама не могла в это поверить. Позже, когда мне все же удалось встречаться с ней чаще, я поняла, в чем причина. Никто не называл ее Агнессой, в приюте у нее было прозвище — Дерьмо, или Тупое Дерьмо.
Глава 7
Кто-то сидит рядом со мной на краю кровати и смотрит. Я слышу дыхание, чувствую тепло, которое исходит от человека. Просыпаясь, я спрашиваю себя, зачем так внимательно меня рассматривать. Это напоминает о маме. Она иногда долго смотрела на меня, думая, что я сплю.
Но моя мать мертва, и именно поэтому я тут. Я открываю глаза, взгляд падает на волосы Софии, на которых играет солнце. И это единственный красивый фрагмент, открывшийся мне. Теперь, при дневном свете, наша комната выглядит, как сиротский приют девятнадцатого века: ободранные металлические койки, по-военному сложенные шерстяные одеяла, стены в выгоревших желто-синих обоях с розовыми бутонами, на полу — ломкий серый линолеум. Над дверью висит золотая статуэтка, покрытая паутиной, — Дева Мария.
Я сажусь на кровати:
— София! Что ты делаешь на моей постели?
София многозначительно улыбается и закладывает прядь волос за ухо, голубые глаза весело сияют.
— Я решила все-таки выяснить, почему мне кажется, что я тебя откуда-то знаю, и потом разбудить тебя. — И тут же добавляет: — Я вниз, в душ. Ты со мной?
Мгновенно в памяти всплывает все: ночные звуки, запертая дверь в душевой, Филипп и его внезапный нервный срыв из-за вопроса, почему он здесь. Ниша на фото с изображением мамы.
— Погоди-ка, я с тобой.
Я в этот подвал больше одна не пойду ни при каких обстоятельствах.
София, кажется, удивлена, и у меня создается впечатление, что было бы лучше, если бы я спустилась в душевые позже. Но я не оставляю ей шанса. Быстро собираю ванные принадлежности и выхожу вместе с ней на лестницу, а в коридорах уже висит душный сладковатый запах, словно от раздавленных бананов на компостной куче.
София в хорошем настроении и о чем-то беспрерывно щебечет. Иногда она прерывается, чтобы спросить, откуда я, есть ли у меня парень, представляла ли я себе «Transnational Youth Foundation Camp» иначе.
Отвечаю ей односложно, все мои мысли вертятся вокруг последней ночи, занимает вопрос: как мне теперь осуществлять поиск? Есть еще некоторые зацепки, но я все равно не знаю, с чего начать.
Сейчас, по крайней мере, светло, и в солнечных лучах на лестнице роятся мириады пылинок, поэтому вчерашние опасения мне кажутся даже немного глупыми.
Но все меняется, когда мы добираемся до подвала. О солнце здесь можно только мечтать, вместо его лучей — от мерцающего света ламп лишь размытые тени на пыльных, грубо вытесанных стенах. Наши голоса глухо отдаются в сводах, становится холоднее, и снова воняет мокрыми тряпками. Меня не покидает ощущение, что здесь что-то основательно подгнило.
Пока София моется, я распутываю свои длинные светлые волосы, расчесываю их и завязываю в хвост. Потом чищу зубы над длинным эмалированным умывальником, похожим на корыто, с острыми кантами и вечно протекающими кранами.
— Я уже почти закончила! — кричит из душа София, и только теперь я собираюсь с духом и иду в угол, чтобы взглянуть на туалетные кабинки. Все три не заперты. Конечно. Чего еще стоило ожидать?
Я внимательно осматриваю среднюю кабинку, а потом и остальные, но нигде нет ничего необычного.
«А как ты думала, Эмма? Считаешь, незнакомец должен был оставить для тебя весточку?»
И все-таки я еще раз перепроверяю среднюю кабинку, но безрезультатно. Поглощенная своими мыслями, возвращаюсь к умывальнику. Необходимо все взвесить. Нужна система, план — хоть что-нибудь для дальнейшего продвижения.
Душевая кабина пуста, София куда-то пропала. С рассекателя все еще падают капли в воду, собравшуюся в сидячей ванне, видимо слив забился.
— София?
Нет ответа.
Может, она уже поднялась наверх? Взгляд падает на табурет возле душевой. Все ее вещи здесь.
Футболка, в которой она спала, трусики, а рядом свежая футболка, белье и джинсовая юбка.
Я ничего не понимаю. Она вроде не из тех, кто бегает нагишом по лестницам. Может, она что-то забыла и просто быстро завернулась в полотенце?
Да, наверное, так и есть, полотенца действительно нет.
Успокоившись, я залезаю под душ, потом быстро бегу наверх, прочь из подвала и наконец-то натягиваю чистые шмотки. Наверху нет и следа Софии, но, вероятно, она уже внизу, в столовой.
Когда я вхожу в зал, который в утреннем свете выглядит, как императрица-алкоголичка, лучшие дни которой давно позади, меня ждет разочарование.
Софии нет.
Ее одной здесь и нет. Хотя потом я замечаю, что Себастиан тоже отсутствует.
— А где София?
— Понятия не имею, — шепелявит Том, прожевывая мюсли.
— Но она уже давно приняла душ, и наверху в спальне ее тоже нет.
— Она скоро придет! — Николетта отпивает из стакана.
Я видела кучу вещей Софии в душе, и у меня вновь возникает странное чувство.
— Мы должны ее найти! В последний раз я видела ее внизу, в душе, но когда я через несколько минут вернулась, Софии и след простыл.
Беккер настораживается.
— Может, она вышла на улицу немного прогуляться перед завтраком? Погода просто чудесная. — Он бросает взгляд на зарешеченные окна. Дверь ведет на обветшалую террасу, там висит табличка, надпись на которой предупреждает об опасности обвала.
— Но все ее шмотки остались там, внизу.
Том морщит лоб.
— Забавно.
Филипп отставляет кофейную чашку.
— Да, на самом деле странно выходит. Ты права, нам стоит ее поискать. — Его реакция естественна, он выглядит даже немного обеспокоенным — ничто больше не напоминает о вспышке ярости на кухне ночью.
Том тоже встает.
— Хорошо, с чего начнем? — спрашивает он, когда мы выбегаем в коридор.
— С подвала, — предлагаю я. — Может, она заблудилась в одном из множества ходов.
«Прямо как я сегодня ночью», — думается мне.
Я поглядываю на Филиппа, но он не обращает на меня внимания. Кажется, он в своей стихии, сразу берет командование на себя, идет вперед и предлагает Тому отправиться со мной по левой стороне коридора, а сам пойдет по правой.
Ожидаю, что Том станет возражать, просто оттого, что не желает, чтобы им командовали, но он только кивает и соглашается. Мы договариваемся встретиться на этом месте, на лестнице, через четверть часа. Единственные часы, которые у меня были, ушли вместе с моей мобилкой, но у Тома и Филиппа есть наручные.
В этот раз командование я беру на себя. Над нашими головами жгуты каких-то проводов и шумных труб. Их много, словно в каком-нибудь небоскребе. Но то, что я слышала прошлой ночью, звучало совсем иначе. «Если бы я пошла с Филиппом, то могла бы поговорить с ним о ночных приключениях», — проносится у меня в голове.
— Почему ты, собственно, здесь? — тем временем спрашиваю я Тома.
Мы обыскиваем боковые ходы, открываем одну загородку за другой и зовем Софию.
— Из-за моего папы, — фыркает он, а у меня пробегает мороз по коже.
Этого просто не может быть! Сначала Филипп, а теперь еще и Том. Что они этим хотят сказать?
— Не понимаю.
Том останавливается и смотрит на меня, криво ухмыляясь.
— Ну, мой папа все это затеял. Или я похож на типа, который может оказаться на отборочном этапе в этом лагере от «Transnational Youth Foundation»?
— Верно. — Я вру и надеюсь, что он этого не заметит.
— Ерунда. Им нужны такие классные чуваки, как Филипп и Себастиан, а не кто-то вроде меня.
— Да ладно, с тобой тоже все нормально. — Я похлопываю его по плечу.
Мы останавливаемся в плохо освещенном коридоре и переглядываемся. Том перестает качать головой, кажется, что его лицо высечено из мрамора.
— У моего отца другое мнение. Его дочери от первого брака — просто гении. Они могут заказать латте макиато на финикийском, уйгурском и бутанском. Но этого мало: они еще и выглядят как кинозвезды.
— Звучит ужасно, — отвечаю я. — Но только я все равно чего-то не догоняю, как ты тут оказался.
Он вздыхает:
— Хочу тебе сказать, что не сам даже регистрировался. Как так, спросишь? — Том светит в последний коридор, но тот пуст. — Мой отец что-то подстроил с этой анкетой, он всегда проделывает такие штуки за моей спиной. В общем, он потом получил информацию, что меня выбрали из тысяч претендентов в отборочный этап. Моего отца словно подменили. Он что-то плел о гордости за своего сына. А маме… — Том закусывает губу. — А маме хоть немного стало легче оттого, что ее сын чего-то добился в сравнении со сводными сестрами. — Ком в горле явно мешает ему говорить, он вздыхает и продолжает: — Я бы разбил ей сердце, если бы не поехал сюда.
— Это я понимаю.
— Твой отец тоже требовал от тебя слишком многого?
— Мой отец умер еще до моего рождения, — отрицательно качаю я головой. — Он работал в организации «Врачи без границ».
— «Врачи без границ»! — Том уставился на меня. — Мой отец после учебы тоже там работал. Он построил в Восточной Африке пункт первой медицинской помощи. Может, твой отец был знаком с моим. Как звали твоего?
— Шарль-Филипп Шевалье.
Я напряжена до предела. Неужели здесь есть связь? Что, если смерть матери связана с чем-то, что касается отца? Вдруг в прошлом было нечто, о чем она умалчивала? Мама всегда рассказывала мне одни и те же истории о нем. Маленькой я любила их и хотела слушать снова и снова. Болезненно переживала, если мама меняла в них хоть слово. Но когда повзрослела, охотно послушала бы и другие рассказы, а не только эти легендарные приключения. Я и в Интернете рылась, но ничего толком не нашла.
— Эмма! Том! Скорей сюда!
Голос Филиппа вырывает меня из раздумий, он звучит взволнованно. Мы с Томом сразу бросаемся бежать.
Филипп, запыхавшись, бежит нам навстречу. В руке он держит какой-то небольшой предмет, который даже при таком сумеречном свете переливается красным.
— Мобильник Софии! Где ты его нашел? — спрашиваю я.
— Он был в одном из ледников, там! — Он машет рукой куда-то назад. — Там коридор, перекрытый дощатой загородкой.
— Но ведь все наши мобильники забрала Николетта.
Том в нетерпении трясет головой.
— Это не объясняет, где София. А ты был в душевых?
— Нет, — отвечает Филипп. — Разве Эмма не говорила, что София уже давно вымылась и ушла?
Я киваю.
— В тот момент она исчезла из душевой. Может, она вернулась за своими шмотками?
— Сейчас проверим, — решается Том.
Я удивляюсь, каким прагматичным он иногда может быть, у него можно кое-чему поучиться.
— А потом не останется ничего другого, как отправиться наверх, к Николетте. Она-то уж нам расскажет, что там с телефонами.
На первый взгляд в женской душевой все по-прежнему. Я сразу же хочу показать парням кучу вещей Софии, но тут замечаю, что дверь в кабинку заперта. Однако я точно знаю, что оставляла ее открытой. У меня волосы встают дыбом, и я очень рада, что сейчас здесь не одна.
В нерешительности я подхожу к двери, открываю ее, и меня тотчас охватывает дрожь.
Голая плоть свешивается через край ванны — бледная рука с кольцом на среднем пальце. Это словно какое-то ужасное дежавю. Я отступаю назад, к Филиппу, и только теперь начинаю осознавать, что произошло.
Рука — конечность тела, безжизненно покоящегося в ванной. Это София. Она лежит, обернутая лишь полотенцем. Полотенце очень похоже на то, которым накрывали труп мамы, когда после автокатастрофы я приезжала на опознание.
Я слышу странный булькающий звук, что-то среднее между стоном и криком. И когда осознаю, что он вырывается из моего рта, у меня темнеет в глазах.
Глава 8
За семь недель до событий
Самое плохое было не в том, что полицейские стояли у входной двери и рассказывали о несчастном случае с мамой. Я и сегодня с трудом вспоминаю, что они там говорили и вообще шел ли в тот день дождь или светило солнце. Вместо этого в голове — сплошной милосердный шум. Самое плохое случилось позже и, как сейчас, прокручивается у меня перед глазами, словно фильм в HD.
Двое полицейских забрали меня на опознание тела. Мужчина и женщина в униформе просто позвонили в дверь. Они оказались очень приветливыми, отвезли меня на патрульной машине в морг. От мужчины пахло сигаретами. Женщина жевала резинку, бесстрастно, непрерывно. И когда я открыла дверь, и когда мы спустились, и когда мы отъехали, и когда приехали на место — ее челюсти равномерно перемалывали жевательную резинку.
И каждый раз, когда она смыкала зубы, мне казалось, что она этим хочет сказать: «Жизнь продолжается. Она продолжается, так бывает, просто смирись».
Сначала меня это злило, потом по щекам потекли слезы, но это все происходило, пока мне не показали тело.
Мы спустились на лифте в подвал, быстро прошли по двум длинным, выложенным плиткой коридорам, в которых гулко отражались наши шаги. Наконец мы остановились перед стальной дверью.
Женщина-полицейский положила руку мне на плечо и мягко втолкнула в комнату. Здесь от всего веяло холодом: от голубого линолеума на полу, от стен, обшитых на высоту около метра матовой нержавеющей сталью, даже от безжалостно ярких неоновых трубок на потолке. Я стала мерзнуть.
Пахло смесью жидкости для снятия лака, спирта и… Странно, но мой нос уловил откуда-то запах жареной картошки. Женщина-полицейский тоже унюхала это, перестала жевать и пробормотала что-то извинительное про кондиционер и столовую на втором этаже.
Потом мужчина в белом халате выкатил носилки, и я сразу поняла, что тело не могло принадлежать мужчине. Мама была маленькой и изящной, у нее не было таких горбов! Никогда в жизни!
Женщина кивнула мужчине, и тот убрал покрывало с лица. Я словно присутствовала на открытии памятника. До этого я еще никогда не видела мертвецов, меня словно парализовало. Это была не моя мать, но кто же тогда?
— Вы знаете, кто это? — спросила женщина-полицейский.
Я покачала головой, не в силах что-либо произнести. «Это не моя мать, не моя мать», — стучало молотом у меня в голове. Но теперь я совершенно отчетливо поняла, что и женщина-полицейский знала это наверняка.
Умершая была тучной, очень бледной, под редкими седыми волосами виднелись возрастные пигментные пятнышки. Она, должно быть, как минимум на тридцать лет старше мамы. У меня зародилась надежда.
— Нет, я никогда не видела этой женщины. Означает ли это, что моя мать жива и с ней вообще ничего не произошло? — спросила я, с трудом выдавливая из себя слова.
Женщина только вздохнула в ответ.
— Это точно была машина вашей матери, она свалилась с моста в озеро. Но тела мы до сих пор не нашли.
— Значит, вы заранее знали, что речь идет не о моей матери? И совершенно ничего не сказали? — Мне нужно было присесть. Я огляделась в поисках стула, но ничего не обнаружила.
— Очень жаль, но нам нужно было выяснить, знаете ли вы эту женщину. Ее нашли в обломках машины в озере.
Я почувствовала, как мой страх постепенно перерастает в ярость.
— А если моя мать еще жива? — закричала я на женщину. — Вы точно все обыскали? Что, если она все же выплыла на берег и теперь где-то бродит? Вы никогда о таком не думали?
Она только смотрела на меня. Конечно, они об этом думали.
— Мы прочесали местность с поисковыми собаками, — ответила она. — Мы подозреваем, что ваша мать не была пристегнута. Водительская дверь оказалась открытой. Может, и хорошо, что она вывалилась из машины, пока та падала. Наши водолазы все еще работают, хотя глубина и течение осложняют проведение поисково-спасательных работ. Мой коллега будет вас информировать о последних новостях. Мы можем вас заверить, что не прекратим поиски.
«Вы можете меня в этом заверить? Вы можете с уверенностью сказать, что точно предоставите мне тело мамы? Ну, прямо бальзам на душу».
Женщина-полицейский не сводила с меня глаз.
— Вы не могли бы взглянуть на кольцо на руке этой женщины? Вы когда-нибудь видели такое?
Мне больше всего хотелось просто убежать, бросив здесь эту бесчувственную особу, но ноги не слушались. Поэтому пришлось осмотреть обычное серебряное кольцо с крестом, которое погибшая носила на одном из коротких, полных, побелевших пальцев, ставших почти восковыми.
Внезапно я почувствовала, что меня вот-вот вырвет. Женщина среагировала на удивление молниеносно, попросту взяла за плечи и вывела в другую комнату, где оказался туалет. Я поспешила в кабинку, откинула сиденье, несколько раз тошнота подкатывала к горлу, но наружу не вышла. Не знаю, сколько я там проторчала, стоя на коленях на почти стерильном полу. Как бы то ни было, я была благодарна женщине-полицейскому за то, что она не влезла в кабинку и не продолжила допрос там.
Через некоторое время я поднялась, прошла к рукомойнику и плеснула в лицо водой. Я была бледной, светлые волосы свисали прядями, я их не мыла бог знает сколько. Маме бы не понравилось, что я хожу в таком виде.
«Где же ты, — спрашивала я у зеркала, — где же ты, мама?»
Вдруг у меня закружилась голова, пришлось опереться на умывальник. Чуть погодя женщина-полицейский вывела меня в палисадник, к скамейке, где мы и присели. Я заметила, что она наконец-то выплюнула жвачку, и мысленно сказала ей спасибо.
— Мне очень жаль, что пришлось так с вами поступить, — объяснила она. — Но нам нужно выяснить, кто эта женщина. Мы нашли ее труп в машине вашей матери. Она сидела на переднем сиденье, рядом с водительским местом. Но, кажется, ее никто не ищет.
Мне хотелось высказать ей прямо в лицо, насколько безразлична мне эта старуха и что просто приведите сюда мою маму. Но я старалась сохранить самообладание.
— Мама была своего рода матерью Терезой, — произнесла я. — В этой машине мог оказаться абсолютно любой человек. Кто-нибудь из больницы, посетительница, бездомная… Моя мать делала все возможное, чтобы помочь даже незнакомому человеку. Например, просто кого-нибудь подвезти на машине.
Уже когда я произносила эти слова, мне стало стыдно, но забрать их назад не могла. Меня так часто раздражала эта черта ее характера! У нас никогда не было достаточно средств, но дома бывали многие, в основном старики и больные, которых мама знала по больнице, иногда даже наркоманы или бездомные.
Женщина-полицейский все записала. Позже к ней присоединился коллега. Как мне и обещали, он сообщил о положении дел, но ничего нового не было. Он также рассказал о поисковых группах с собаками, которые прочесывают берег, и о водолазах. Я пыталась придумать для себя утешительные пояснения происшедшего: машину матери угнали, и ее не было в ней. Но потом я поняла, сколь нелогичными казались такие предположения. Ведь она до сих пор не объявилась.
Я не могла не признать, что полицейский действительно усердно выполнял свою работу. Его тоже мучила совесть из-за того, что они намеренно ввели меня в заблуждение. Я чувствовала, что он готов был обнадежить меня. Вместо этого ему пришлось объяснять, что, найдут они тело или нет, зависит от глубины озера. Чем глубже опустилось тело, тем выше давление воды, которое препятствует всплытию, а трупы утопленников всплывают, когда начинается процесс разложения и появляются газы, но только если тела не глубже пятнадцати-двадцати метров.
После этого я еще долго гуглила информацию об утопленниках, пока меня действительно не вырвало. А когда я переселилась в зеленую комнату мамы, у меня в памяти всплывало не ее привычное лицо, а кольцо на пальце пожилой женщины. В один миг я страшно разозлилась на эту незнакомку, которая не исчезла в глубинах озера. И тогда в моей голове впервые зародилась мысль: вдруг мама это сделала нарочно? Что, если она намеренно оставила меня одну?
Глава 9
София чувствует себя хорошо.
Полная сил, она сидит в столовой рядом с Николеттой, выглядит свежей и здоровой, как обычно, только щеки ее толще, чем всегда, потому что она жует один тост за другим. То ли от волнения, то ли из-за угрызений совести, точно не могу сказать. Я же все еще чувствую себя вялой, в моем желудке раздрай, и я знаю, что не смогу проглотить ни кусочка. Наверное, я была без сознания несколько секунд, и все же ощущаю себя, словно на другой планете. Меня запутали, будто украли у меня кожу, и теперь предметы извне свободно могут проникать в мои внутренности.
Кажется, что все вокруг меня говорит, а головы ангелов по углам зала смотрят на меня мертвыми глазами, словно просят о помощи.
Мобильник Софии, который Филипп положил на стол перед Беккером, мерцает и умоляюще подмигивает мне застывшими кроваво-красными капельками. Они хотят, чтобы я их согрела. Деревянная столешница вибрирует под моими пальцами, в ушах шум.
Это был тест. Чертов тест, разыгранный как по нотам. Вчера вечером София получила от Николетты задание спрятаться сегодня утром и по возможности так, чтобы кто-нибудь из нас заметил ее исчезновение. Жребий пал на меня. Может, вчера ночью в душевой шла подготовка к этому спектаклю, а я наткнулась на заговорщиков…
— Вы все выполнили великолепно, — нахваливал нас Беккер, когда все выбрались из подвала.
Мальчики держали меня под руки с обеих сторон. Наверное, боялись, что снова упаду в обморок.
София просила не выдавать ее и клялась, что маленький спектакль в ванной не был частью задания — идея пришла спонтанно.
— Вернемся к недавним событиям. Вам не показалось, что вы действовали командой? — Беккер встает и осматривает нас сверху. В отличие от Николетты, одетой в джинсы и топ, на нем серые брюки и белая рубашка — ему очень идет. Он выглядит очень солидно, или нет, скорее убедительно. Он наверняка, изучая психологию, узнал, как влиять на пациентов, внушать им доверие. Но я предпочитаю никому здесь не доверять. — Хорошо, если создание группы начинается так рано, — продолжает он.
— Вы считаете такие тесты корректными? — Слова срываются с моих губ, и я вспоминаю, как свисала через край ванны рука Софии.
— Корректными? — Николетта усмехается. У нее идеальный макияж. — Эмма, здесь речь не о корректности. Суть в том, чтобы вы осознали свое поведение. Ваши спонтанные реакции, ваше отношение друг к другу.
— А что, если мы вообще не хотим этого? — возражаю я.
Беккер вмешивается.
— Все вы достаточно читали о TNY и знаете, как проходит процесс отбора. Из Германии в Сидней могут попасть только восемь человек, а в общей сложности у нас более сотни кандидатов. Только здесь, в Баварии, у нас четыре такие команды, как ваша, одна из них — в соседней долине. Поэтому да, наши тесты бывают довольно жесткими. Вам будет брошен серьезный вызов. Но, люди, — он снимает очки, — мы же никого не заставляем, так ведь? Мы, разумеется, поймем, если кто-нибудь из вас захочет отказаться. Но вы должны принять это решение сейчас, чтобы не отнимать шанс у остальных членов группы. Кто останется, автоматически согласен пройти вместе с группой огонь и воду.
Повисает жуткое молчание, даже София выглядит немного бледнее и пристально смотрит на свой телефон, который все еще лежит на столе.
Хотя мысли в моей голове от пережитого шока плавают вяло, как пузыри в лавовой лампе, я прекрасно осознаю — продвинусь, только если получу ответы здесь.
Наконец София прерывает молчание:
— Нам придется есть черных тараканов или по голому телу пустят пауков, как в телешоу «Последний герой»?
Николетта и доктор Беккер весело переглядываются.
— Такой чепухой мы не занимаемся, — говорит Беккер. — Конечно, будут физические нагрузки на пределе возможностей. Но преодоление отвращения? Это бесполезная трата времени. Если мы здесь сделаем упор на физические нагрузки, то из этого всегда можно извлечь что-нибудь позитивное как для вас самих, так и для группы. А мы, кураторы, будем в любое время готовы выдернуть кольцо запасного парашюта.
Николетта кивает.
— Сила группы определяется по самому слабому участнику. — Она немного повышает голос. — Мы хотим выиграть или нет? Вы готовы?
Филипп начинает хлопать, и Том поддерживает его. София повторяет за ними, а я думаю, что недооценила девушку. Я никогда не подумала бы, что она сможет притворяться мертвой и лежать голой в ванне. Почему она делает это? Может, сегодня ночью она тоже лишь притворялась, что сладко спит, а сама подбросила снимок. И как ее телефон попал в ледник? Но это наверняка Николетта. Она и бровью не повела, когда Филипп выложил его на стол. Это тоже часть общего плана, который был придуман вчера, еще до того, как я пришла.
Они все хлопали, потому что хотели победить. С бóльшим энтузиазмом, чем во время моего появления у замка вчера вечером, с бóльшим чувством, так сказать. И я испугалась, что буду выделяться, если немедленно к ним не присоединюсь, хотя для меня победа означала нечто иное. Я тоже начала аплодировать — и при этом рассматривать каждого из собравшихся. Я одержу победу, лишь когда выясню, кто из них ведет двойную игру. Ведь если верить альбому, то речь идет не об одном, а о нескольких людях. «Убийцы твоей матери». Значит, я не могу доверять ни кураторам, ни участникам — все могут быть замешаны. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы мне доверяли. Если их убаюкает уверенность, они станут беспечными и совершат ошибку.
После завтрака мы вместе убираем со стола и переносим посуду в старомодную кухню, в которой все же есть громадный холодильник, но нет посудомоечной машины. На кухонных тумбах — старые толстые столешницы, которые заканчиваются у большой мойки под зарешеченным окном, выходящим в маленький сад. Мойка состоит из двух больших керамических раковин, обложенных бело-голубым голландским кафелем. Большинство изображений ветряных мельниц и парусников повреждено, но можно представить, как красиво эта кухня выглядела когда-то.
Я берусь поставить вымытую посуду в старый буфет. Решаюсь на это намеренно, потому что заметила на его дверце древнюю черно-белую фотографию, на которую обратила внимание еще вчера. Снимок прикреплен кнопками. Филипп тоже заинтересовался фото и теперь рассматривает его.
— Смотри-ка, что это там? — указывает он на одну из картинок, на которой видны кровати на колесиках. Они стоят на улице рядами. На них лежат больные.
Том подходит ближе:
— Я думаю, это паломники. Может, в Лурде[4] или еще где.
София кричит, стоя рядом с мойкой:
— Здесь висит еще один снимок!
Я спешу к ней, на фото рука, нарезающая хлеб. Сердце начинает колотиться, мозг внезапно вновь начинает работать на повышенных оборотах. На снимке толстые пальцы сжимают нож, я тут же узнаю кольцо на мизинце. Оно точно такое же, как у незнакомки из маминой машины. У меня перед глазами все расплывается, я чувствую дрожь в ногах. Мне кажется, что запах морга бьет в нос, пары дезинфекции смешиваются с ароматом жареной картошки. Я даже не замечаю, что остальные давно вернулись к мытью посуды.
Хлопает дверь, и на кухне появляется Себастиан. Его не было за завтраком, я его вообще сегодня еще не видела. Он внимательно смотрит на меня и тут же подходит ближе.
— Эмма, что с тобой? Что-то случилось?
Себастиана я вообще никак не могу охарактеризовать. Он намного младше Беккера и Николетты, ему от силы двадцать пять, и два других куратора — явно более высокого ранга. Но, кажется, это совершенно ничего для него не значит, он так и светится от непоколебимой самоуверенности, которую вчера и продемонстрировал в душе. Все дело наверняка в его невероятно симпатичной внешности. Кудрявые локоны до плеч обрамляют очень пропорциональное лицо, подчеркивают темные глаза. И если бы он не так часто и лукаво улыбался, то мог бы сойти за скульптуру ангела эпохи Ренессанса.
Вероятно, именно поэтому я его недооцениваю. Как бы там ни было, он все же ассистент доктора Беккера. Возможно, тоже изучает психологию, и, кажется, у него есть талант, потому что он единственный заметил, что я растерялась. Или он что-то обо мне знает, о чем другие не догадываются.
— Со мной все в порядке, — пытаюсь я ответить как можно более непринужденно, но дрожу от волнения. — Я просто обнаружила эти фотографии, и мне интересно, что они означают. Здесь когда-то был монастырь?
Себастиан улыбается мне.
— Такие фотографии развешаны по всему замку, — объясняет он. — Наверное, он долгое время принадлежал Церкви. Ходят разные истории о строителе здания. Одни говорят, что был когда-то кардинал, который присвоил деньги из Рима после того, как Папа Римский лишил его тайной любовницы. — Он подмигивает мне. — Другие — что здесь обитал отлученный от Церкви монах, который после явления Девы Марии нашел сокровища. Кстати, недалеко отсюда есть часовня, тоже часть замкового комплекса, возведенная в честь Девы Марии. — Он оборачивается и обращается к остальным: — Туда ведет очень живописная дорога.
Он начинает описывать тропу, которая начинается прямо у замка, но я на какой-то момент задерживаюсь у фотографии. Чем дольше я смотрю на снимок, тем больше убеждаюсь, что это не просто то самое кольцо, которое было на пальце мертвой женщины в маминой машине, — это та же рука. И то, что я нашла это фото здесь, не может быть простым совпадением. Я на правильном пути, хотя все еще не знаю, как продвинуться дальше. Наоборот, у меня складывается впечатление, что ситуация становится все запутаннее. Мама была здесь, и, очевидно, эта женщина тоже. Так почему же в автомобиле оказалась именно она, а не мама? Возможно, мама не лежит глубоко на дне озера, а все еще живет. Или здесь все завязано на моем отце, о котором я так мало знаю? И меня посещает совершенно неожиданная мысль: «Вдруг речь идет не об убийцах моей матери? Может, я просто должна ее найти?»
Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. (Иоанн Богослов 4:8)
Агнесса не подозревала, как это произошло. Это было постыдно, это было отвратительно. Дрожа, она стояла возле тети Гертруды, под ее поднятой рукой. Стояла босая, в одной ночной рубашке и косилась на других девочек, которым уже позволили одеться. Но все они смотрели в пол перед собой, потупив взгляды. Все, кроме Марты. Агнесса смотрела на свою мокрую постель и больше всего хотела умереть прямо сейчас. «Но так нельзя, — нашептывала ей святая Дева Мария, — так нельзя, Агнесса. Это всего лишь экзамен». Агнесса чувствовала бесконечную доброту святой Девы и лелеяла надежду.
— Итак, говори наконец! Тебе есть что сказать? — Тетя Гертруда подошла еще ближе, занеся руку для удара.
— Пожалуйста, мне очень жаль.
— Как ты сказала? Что-то я тебя не расслышала.
— Мне очень жаль! — Она старалась, но голос дрожал. Ей было холодно. Агнесса уже просто не чувствовала ног.
— Как такое могло случиться, что твоя ночная рубашка чистая, а постель похожа на настоящий свинарник? Как тебе это удалось?
— Я не знаю, — шептала она и не понимала, чего от нее хочет Гертруда.
— Что здесь произошло ночью? — настаивала та.
— Ничего! Я клянусь перед лицом святой Девы!
— Можешь оставить это при себе. Мы клянемся только на Библии.
— Но святая Дева… — Агнесса отважилась взглянуть в лицо Гертруде. — Что может быть плохого в Деве Марии?
Гертруда размахнулась и ударила ее по лицу так сильно, что девочка зашаталась. Агнесса слышала, как воспитанницы в ужасе затаили дыхание, но никто не нарушил молчания — никто не хотел вызвать гнев Гертруды.
— Даже не думай произносить имя Марии своим греховным ртом!
Агнесса закусила губу, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего. Щека горела огнем.
— Сестры монастыря не соврали, когда предупреждали нас о маленькой ведьме. Я выбью из тебя все идиотские фантазии. И прежде всего эту. Безжалостно. Ты меня поняла? — Гертруда повернулась к остальным. — И это касается всех вас!
Агнесса рискнула взглянуть из-за плеча Гертруды, но только Марта смотрела ей в глаза и ободряюще подмигнула.
— Ты просто тупое вонючее дерьмо и ничего больше. Я хочу, чтобы ты убрала этот свинарник, а потом в наказание помоешь здесь, в спальне, полы. — Гертруда обратилась к дяде Лоренцу: — Никакой еды сегодня для Агнессы. Когда она здесь закончит, будет драить полы в часовне, а потом каяться в своих грязных дьявольских фантазиях.
Агнесса смотрела себе под ноги. Ей все равно нужно было в часовню. Если бы Гертруда знала, как ей там хорошо, она бы и это запретила. Там она спрятала четки своей бабушки, иначе Гертруда давно бы их отняла.
— Повторяй за мной: «Я беспомощное дерьмо!»
— Я… — она начала запинаться, — я беспомощное дерьмо.
— Громче! — Гертруда снова замахнулась.
— Я беспомощное дерьмо.
В этот раз пощечины не последовало. Вместо этого Гертруда схватила девочку за волосы и развернула лицом к себе. Агнесса поджала губы, чтобы не закричать, это разозлило бы Гертруду еще сильнее.
— Смотри, пожалуйста, на меня, когда я с тобой говорю!
— Да, тетя Гертруда. — Она попыталась взглянуть на Гертруду, но от слепой ненависти веки снова сами собой опустились. Слишком поздно.
Гертруда снова сильно потянула за волосы:
— Это послужит тебе уроком. Если такое повторится еще хоть раз, будешь спать на клеенке в прачечной. Одна! — Она вышла из комнаты, и за ней быстро последовали все остальные.
Лишь Агнесса осталась, стянула мокрое одеяло с кровати. У нее не было ни малейшего понятия, что произошло. Впредь она решила просто не спать ночами, просить Деву Марию о помощи, даже если это здесь и запрещено. Если бы ей сразу исполнилось шестнадцать! Тогда Агнесса наконец смогла бы вступить в Христианский девичий союз. От одной этой мысли у нее на лице просияла улыбка. До сих пор Агнесса должна была ежедневно читать молитвы «Отче наш» и «Аве Мария», чтобы Господь через заступничество пресвятой Девы Марии ниспослал милость и наградил терпением и усердием в поисках доброты.
Агнесса вытащила грязную постель в прачечную. Здесь было настолько холодно, что изо рта шел пар. Она начала отстирывать простыню худыми жилистыми руками. Но чем больше ткань впитывала воду, тем тяжелее становилась, и у Агнессы не получалось отжать ее. Страх сковал тело могучей хваткой. Девочка ничего не ела со вчерашнего обеда, ей стало дурно от голода.
«Ты должна исправиться, ты не должна быть таким дерьмом, ты должна приложить больше усилий, неудивительно, что никто тебя не любит, если ты себя так ведешь. Нужно больше стараться, намного, намного больше».
Она стала молиться.
«Пресвятая Дева Мария, матерь Божья, помоги мне в час беды моей…»
И тошнота отступила, силы мало-помалу вернулись. Пока Агнесса растирала в кровь окоченевшие кончики пальцев, в сердце росла уверенность, что Дева Мария — единственная, кто никогда не оставит ее в беде.
Агнесса снова попыталась отжать простыню, но вдруг услыхала шаги и удвоила старания. Дверь в прачечную открылась тихо и осторожно, Гертруда вела себя иначе.
Внутрь пробралась Марта.
— Это тебе! — произнесла она и протянула Агнессе толстый кусок испеченного из разносортной муки хлеба с повидлом.
От запаха клубники у Агнессы тут же потекли слюнки. Она с опаской взглянула на дверь, но больше не смогла сдерживаться. Схватила хлеб и в три укуса умяла его. Ее тут же охватили угрызения совести. Марта рисковала, что ее поймает Гертруда.
— Святая Дева Мария послала меня, — шутливо сказала Марта, словно прочитав мысли Агнессы.
Девочка внимательно посмотрела на Марту, а та в ответ лишь стыдливо опустила глаза.
— Мне очень жаль.
Агнесса молчала.
— Это была я. Я переложила одеяло, чтобы Гертруда не злилась на меня. Не знала, что она тебя так ненавидит. Почему она так себя ведет? Что ты такого натворила?
Агнесса все еще молчала. Что за дьявольская идея? Ей никогда бы такое и в голову не пришло. От такой девочки лучше держаться подальше. Но Агнесса так долго ни с кем не разговаривала. Остальные просто боялись, что их увидят вместе с ней.
— Ты можешь делать больше, чем все остальные, — прошептала она. — Зачем ты так поступила со мной?
— Только потому, что мне разрешают фотографировать, думаешь, в этом причина?
Агнесса кивнула.
— Эти фотографии делаются только для того, чтобы показать, как все у нас хорошо и благонравно. — Марта широко улыбнулась. — Если бы Гертруда знала, что я тайно фотографирую все, сразу отняла бы у меня аппарат. Но ты права, мой поступок — трусость.
— А почему ты выбрала именно мою кровать, а не Урси или еще чью-нибудь? Ты меня тоже ненавидишь?
Марта пристально взглянула в глаза Агнессе, подыскивая слова.
В прачечной звонко стучали капли из протекающего крана — больше никаких звуков. Наконец Агнесса указала на мокрое одеяло, которое все еще болталось в длинной раковине, и ухватилась за один конец. Марта молча взялась за другой. Они выкручивали его, пока вода не перестала течь. Всякий раз, когда Марта хотела остановиться, Агнесса проворачивала еще немного, хотя была почти на голову ниже и намного худее, чем Марта.
Только когда они закончили, Марта нарушила молчание.
— Я… я, — запнулась она, — я бы так хотела тебя пофотографировать. Твое лицо.
Агнесса удивленно взглянула на нее:
— Ах, вот как?
— Мне очень жаль. Правда.
— Ты тайком насмехаешься надо мной, я чувствую. Поэтому хочешь сфотографировать меня?
Марте кровь ударила в голову.
— Я смеюсь не над тобой, а лишь над твоей возней из-за святой Девы Марии.
— Но она принадлежит мне, как, скажем, мои волосы. — Агнесса взялась за толстую косу.
— Тогда я сфотографирую вас вдвоем, — робко улыбнулась Марта.
— Моя вера защищает меня, — серьезно ответила Агнесса.
— Только не от Гертруды, — покачала головой Марта.
— Возможно, защищает лучше, чем ты думаешь. — Теперь Агнесса улыбнулась в ответ.
Они еще некоторое время смотрели друг на друга, потом Агнесса медленно протянула холодную, истертую в кровь руку. Марта пожала ее, обхватив обеими ладонями так осторожно, словно это была замерзшая птица, которую нужно отогреть.
А вода из крана продолжала капать.
Глава 10
После завтрака Беккер дает нам официальное командное задание. В комнате на первом этаже нам предстоит содрать обои и выкрасить стены в белый цвет, причем сделать все как можно быстрее. Для этого нужно выявить сильные стороны каждого и распределить роли в команде.
Моя роль для меня очевидна. Как только все начнется, я смоюсь и сделаю то, что планировала прошлой ночью. Осмотрюсь основательно в доме, может, есть другие фотографии или зацепки — нечто, что поможет продвинуться.
— У меня лучше всего получается брать на себя ответственность, — ворчит Том, пока мы вместе с Себастианом бежим по первому этажу.
— Шутки в сторону, — шепчет София и с очевидным отвращением осматривает белый халат маляра, который мне всучила Николетта.
Я не в состоянии ничего ответить, потому что снова вспоминаю, как по-дурацки спорила с мамой из-за зеленого цвета спальни вместо того, чтобы спросить о том, что ее волнует и почему она уже третий раз за год перекрашивает стены.
В комнате уже наготове ведро с краской, кисточки, очень высокая лестница и клеенка. Хотя это помещение едва ли можно назвать комнатой — оно скорее напоминает бальный зал, такой высокий и большой, что здесь одновременно могут вальсировать не меньше пятидесяти пар. Лишь серый, местами прохудившийся линолеум напоминает, что здесь когда-то мог располагаться госпиталь.
Сквозь двойные окна бьет яркий солнечный свет, но зал от этого не становится более привлекательным. С тоской смотрю из окна — там, вдалеке, внизу, на озере, поблескивают солнечные лучи. Я жалею, что не улизнула из дому сразу после завтрака.
— Что за омерзительные картины! — с чувством восклицает София. На стенах гигантские полотна, написанные маслом. Подобные можно найти по всему дому, но здесь они особенно уродливы. Они невольно притягивают взгляды посетителей своей жестокостью, и вызывающие позолоченные рамы кажутся чистой иронией по сравнению с отчаянием сюжетов.
Я не могу иначе, мне нужно взглянуть поближе. София и Том следуют за мной. Лишь Филипп игнорирует нас, снимает крышку с ведра и перемешивает краску, пока мы бегаем от картины к картине.
На первом полотне изображен монах с кровавыми шрамами на руках и на лбу. Он в окружении голубей и, кажется, разговаривает с ними. На следующей картине мужчина привязан к столбу, все его тело пронзено стрелами. Каждая деталь прорисована очень реалистично: каждая капля крови кажется почти трехмерной. Другая картина не такая кровавая, но не менее отталкивающая. На ней — женщина, ее обнаженное тело почти полностью скрыто под локонами. У ног маленький ягненок. На очередном полотне тоже молодая женщина, на этот раз на корабле, в окружении других девушек, ее тоже пронзила стрела.
Радуюсь, что во время завтрака съела немного. В противном случае я бы никогда не смогла так легко рассматривать изображения страданий.
— Кто-нибудь знает, что здесь изображено? — спрашиваю я.
Том поднимает брови:
— У тебя разве не было уроков религии?
— У нас была этика, — почти хором отвечаем мы с Софией.
— Несчастные язычники, значит, — ухмыляется Том. — Это святые мученики. Они умерли за веру. Мученическую смерть люди раньше считали своего рода крещением кровью.
— Крещение кровью! — вздрагивает София. — От такого у меня кошмары начнутся!
Том переходит от картины к картине и объясняет, что мужчина на первом полотне — это монах Франциск Ассизский, он проповедует птицам. Об этом я даже когда-то слышала.
— Но от чего у него эти кровавые шрамы?
— Святому Франциску, по легенде ранних христиан, после сорока дней поста было видение, потом у него открылись стигматы.
— Стигматы? — София наморщила лоб.
— Это раны Христовы, которые появляются у избранных людей на руках, ногах и боках, в определенные дни они кровоточат.
Филипп шутит: когда речь заходит о мучениках, Том превращается в ходячую энциклопедию. Том пожимает плечами и заверяет нас, что обязательно подумает, не отправиться ли на шоу «Как стать миллионером?». И, чтобы развеять сомнения полностью, рассказывает о других картинах:
— Мужчина, пронзенный стрелами, — святой Себастьян. Раздетую женщину с длинными волосами и ягненком хотели принудить к проституции. Ангел дал ей одеяние из света, от которого озарился весь дом, у нее выросли кудри, которые и окутали ее, словно плащ. Но и это не смогло ее уберечь, ее все же казнили мечом. Ее звали Агнесса, — продолжил Том.
У меня по спине бегут мурашки. Агнессой звали маму, и, хотя она никогда не хотела иметь ничего общего с Церковью, меня все же беспокоит эта история. Внезапно я решаю, что с меня довольно мудрых историй от Тома, я больше не хочу ничего слышать о других картинах. Неожиданно мне на помощь приходит Филипп, меняя тему.
— Кстати, о мучениках, — обращается он к Софии. — Нам нужно еще раз поговорить о сегодняшнем утре. Что ты хотела сказать, когда предстала перед нами, лежа в ванной?
— Это был всего лишь тест, вам же Беккер все объяснял, — защищается София. — Николетта попросила меня об этом вечером. Я и предположить не могла, что Эмма окажется такой чувствительной. Себастиан тоже считает… — Тут она внезапно закусывает губу.
— Себастиан считает что? — Я уставилась на нее. — Какое он имеет отношение к делу?
— Ну, в общем… — София опустила голову. — Честно сказать, с ванной — это была его идея. Я встретила его сегодня утром на пробежке. — Она с опаской переводила взгляд с одного на другого. — Но Беккер и Николетта ничего не знают об этом.
— О, легко могу себе представить, что это идея Себастиана, — говорит Том язвительно.
— Нет, все не так, как ты думаешь! — возмущается София. — С раздеванием — это была моя идея, это просто помогло включить ваше воображение. — Она улыбается, но не выглядит уверенной. — Себастиан даже поспорил, что я не смогу такое провернуть, но проиграл, а я выиграла эту ставку.
— Ну, теперь в любом случае роль мертвяка в нашей команде окончательно закреплена за тобой. — Филипп яростно трясет головой. — Я уже сыт по горло нашим бездельем. Народ, давайте наконец приступим. Лично вы мне до лампочки, но я хочу поехать в Австралию. У кого-нибудь будут предложения, с чего начать?
Мы снимали тяжелые картины, что было непросто, потому что всякий раз приходилось взбираться по лестнице, а рамы некоторых полотен были привинчены к стене шурупами. Взмокшие, мы решили открыть окна, но оконные рамы были намертво закрашены, и мы не смогли их сдвинуть и на миллиметр. А комната тем временем превратилась в сауну.
Мы разворачиваем картины к стене, чтобы не смотреть на них. Работа тянется мучительно медленно, а я раздумываю, как бы слинять, чтобы продолжить исследовать замок. Вдруг Филипп привлекает к себе внимание. Он как раз снимает последнюю картину.
— Народ, здесь что-то странное! — кричит он с лестницы.
Он достает из модных джинсов перочинный нож и царапает что-то. Краска и штукатурка осыпаются, и тут же лезвие со скрипом задевает металл так, что мы все вздрагиваем.
— Здесь какая-то крышка, — объявляет Филипп.
Да, теперь и я замечаю. Четырехугольник, размером с дверцу сейфа или духовки. Филипп пытается загнать клинок между крышкой и стеной.
Мы с Томом тоже влезаем на лестницу в надежде что-нибудь рассмотреть, но только раскачиваем конструкцию и мешаем Филиппу. Наконец у него получается. Крышка поддается и открывается с металлическим щелчком, перед нами — черная дыра в стене.
Филипп пытается заглянуть внутрь и выхватывает из кармана связку ключей, на которой висит фонарик. Он освещает отверстие.
— Что там? — София приподнимается на цыпочках.
Филипп не отвечает. Его лицо приобретает странное выражение, которое я не могу никак трактовать. Он спускается, протягивает мне фонарик и позволяет первой заглянуть в дыру.
Темнота. Ничего, кроме темноты и, возможно, плесени. Потом я опускаю луч фонарика и замечаю, что там, в темноте, — крошечная комнатка без окон. На полу лежит предмет, который, очевидно, был когда-то матрацем, а на противоположной стороне — дверь, над которой висит распятие. Ручку отвинтили, а на самой двери нацарапаны фразы, молитвы и призывы о помощи множества пленников.
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия (Второе послание к Тимофею святого апостола Павла 1:1.7)
— Слово «темнота» пишется по буквам т-е-м-н-о-т-а. — Она шептала и пыталась сконцентрироваться. — «Страх» пишется по буквам с-т-р-а-х, но нет никакого смысла бояться.
Здесь, во мраке комнаты, она стала увереннее. Она глубоко вдохнула и выдохнула несколько раз.
— Это пишется по буквам у-в-е-р-е-н-н-а. Ты скрыта здесь, как Иона в чреве кита. А чем он там питался? «Голод» пишется по буквам г-о-л-о-д.
Она обхватила колени руками и подумала о своей бабушке и о сырных клецках, которые та часто готовила зимой по воскресеньям. В памяти всплыла большая темно-синяя форма для запекания с клецками, от которых в нос бил сливочный сырный дух. Она слышала тихое шипение, видела аппетитную золотисто-румяную сырную корочку и поджаренный на сливочном масле лук. Потом бабушка брала широкий нож, делила все на равные порции и ложкой раскладывала по тарелкам дымящиеся клецки. Агнесса чувствовала аромат и даже ощущала, как во рту тают нежные клецки, смешиваясь с расплавленным сыром и жареным луком.
Невольно она облизала сухие губы. После смерти бабушки она не ела ничего подобного. Но девочка не жаловалась, она пообещала себе, что никогда больше не будет ныть. Только если останется непорочной и чистой, она сможет вступить в Христианский девичий союз.
Бабушка очень бы ею гордилась.
— «Бабушка» пишется по буквам б-а-б-у-ш-к-а.
«Ты живешь, дитя мое, — говорила она, — ты живешь, и это все, чего хотели твои родители. Думай о том, что нытье не поможет делу и ничего не изменит. Если уж станет совсем туго, молись Богу и пытайся понять, почему он хочет тебя проверить. Есть Божий промысел на твой счет, и вообще для всех нас. Один хороший план. Поэтому тебе никогда не стоит бояться».
— «Бог», — шепчет она, — пишется по буквам Б-о-г.
Агнесса улыбнулась, она знала наверняка, что слово пишется с большой буквы Б. И все же ей не удалось заставить умолкнуть злой голос внутри, который роптал и твердил, что бабушка такого не сказала бы, если бы встретила тетю Гертруду. Агнесса больно ущипнула себя за ладонь, потому что эта еретическая мысль посещала ее уже не в первый раз.
Гертруда, которая вчера таскала Агнессу за волосы по всей кухне, казалась дьяволом. И Марта иногда втайне называла так Гертруду.
— «Дьявол» пишется по буквам д-ь-я-в-о-л.
Но об этом нельзя думать. Гертруда — это испытание, которое поможет Агнессе продвинуться дальше. Такая взрослая девочка, как она, уже давно должна уметь правильно читать и писать. Бог сам послал ей Гертруду, как Господь проверял Иова.
— «Иов» пишется по буквам… И-о-… Я не знаю, — испугалась она и ущипнула себя за ладонь еще сильнее. — Ты должна это знать! «В» или «Ф», ты должна знать, сосредоточься.
Она вытащила шпильку из косы и со злостью уколола себя в ладонь. Закапала кровь, она слизала ее, чтобы ничего не испачкать.
— «Испачкать» пишется… и-з-п-а-ч-к-а-т-ь.
Она с облегчением присосалась к проколотой руке. Она очень хотела знать, как это пишется.
«Наверное, в этом и есть промысел Божий, чтобы я улучшала себя, чтобы больше прикладывала усилий».
Она сунула шпильку в косу и надеялась, что прическа от этого не сильно испортилась, — Агнесса хотела выглядеть аккуратной, когда ее заберут отсюда. Не тупым дерьмом.
— Это пишется по буквам д-и-р-ь-м-о.
Нужно как-то ускорить процесс, иначе она навсегда останется тупой. Она снова вытащила шпильку из косы и колола себя всякий раз, когда не удавалось вспомнить буквы.
«Агнесса, ты должна исправиться. И-с-п-р-а-в-и-ц-а. Через “и”». Она довольно расправила фартук и села, прислонившись спиной к стене. Совершенно точно. Потому что у Бога, который с большой буквы, для нее есть план. Хороший план, который Пресвятая Дева ей еще покажет.
— П-р-е-с-в-и-т-а-я с «е», как в слове «Дева», как в слове Г-е-р-д-р-у-д-а, и с большой буквы, как Бог.
Глава 11
Не только вид комнаты подстегнул меня придумать отговорку и ускользнуть из бального зала. Я бегу по коридору к лестнице, хочу выбраться, просто выбраться из этих застенок. Я несусь вниз по ступенькам до вестибюля, быстро прохожу и его, распахиваю тяжелую дверь наружу. Глубоко вдыхаю кислород, словно меня несколько дней держали взаперти, в гнетущей атмосфере замка. Потом я просто опускаюсь на выщербленный карниз в тени и пытаюсь успокоиться.
После того как я, потрясенная, спустилась со стремянки, сразу поняла, зачем использовали комнату. До остальных тоже дошло, потому что никто не проронил ни слова. В бальном зале воцарилось молчание.
— Там, внутри, взаперти держали людей, — наконец нарушила я тишину.
— Ужасно! — вздрагивает Филипп.
— Что же это за дом такой? — Том усаживается на пол, поджав под себя ноги, кажется, его тоже потрясло зрелище. Он вытирает мокрый лоб. — Но все-таки очевидно, что комнату давно никто не использует.
София кивает. Она последней поднималась на лестницу и теперь стоит с нами внизу. Она выглядела бледной, и, когда спрыгнула с лестницы, из выреза ее футболки выскочила цепочка. Она тут же рассеянно затолкала ее обратно.
Но слишком поздно, я ее узнала — маленькие жемчужины, которые начинаются черепом и заканчиваются металлическим распятием. Четки, которые я видела на фотографии сегодня ночью!
Я пытаюсь сохранить спокойствие, но, наверное, мне это не очень удается, потому что Филипп тут же наклоняется и озабоченно смотрит на меня, словно я вот-вот снова упаду в обморок.
— Что с тобой? — спрашивает он. — Похоже, ты только что увидела привидение.
В тот момент я сказала, что мне срочно нужно в туалет, и выскочила из зала. Четки Софии и наше открытие меня доконали. При виде чулана я невольно подумала о маминой комнатке с мятно-зелеными стенами.
Хотя снаружи так же жарко, как и внутри, здесь я чувствую себя немного лучше. Закрываю лицо влажными от пота руками. Мама ненавидела жару.
— Я достаточно потею и на работе, — шутила она, и я не могла ее убедить съездить со мной на юг.
Опускаю руки и подставляю лицо солнцу, настолько жгучему, что мне тут же приходится закрыть глаза. Мама никогда не верила в ад и рай, но верила в то, что энергия во Вселенной не теряется.
— Кто знает, — говорила она после какого-нибудь трагичного фильма, — может быть, после смерти я превращусь в сияющий свет.
Я заставляю себя медленно вернуться к входной двери. Снаружи я не найду ответов, все мои ответы — в замке. Только там я выясню, как все между собой связано: кольцо на фотографии в кухне — с детской фотографией мамы в нише, труп неизвестной в маминой машине — с этим домом, четки — с чуланом, который принес столько страданий. И я начну с нее, все начинается с воспоминаний о зеленой комнатке мамы, и меня туда тянет.
Вспоминая чулан, я думаю о том, что нам вчера рассказывала о замке Николетта. Очевидно, вход в эту комнату должен находиться в северном крыле, потому что озеро, на которое выходят окна бального зала, располагается на юге.
И пусть придется идти в закрытую, запрещенную северную часть замка. Запреты меня не волнуют, мама их не нарушала, и где она теперь? Еще раз вдыхаю пряный аромат горного воздуха, потом тяну ручку двери на себя и вновь погружаюсь в мрачную атмосферу замка. Отправляюсь в путь очень тихо, оставаясь настороже, ведь могу встретить по пути Беккера, Николетту или Себастиана. Но в замке абсолютно тихо. Никем не замеченная, я добираюсь до кухни, а оттуда — в северное крыло.
Николетта не преувеличивала, когда говорила, что тут находиться опасно для жизни. В некоторых комнатах в полу дыры, и можно через потолок видеть помещения на верхних этажах. В основном комнаты обставлены старой мебелью: диваны с изношенной бархатной обивкой, столы с кривыми ножками, а со стен свисают полосы выцветших обоев, словно ветки новогодней елки, которые колышет сквозняк, и кажется, что они живые.
Поиски продвигаются с трудом. Замок похож на гидру. Едва открываешь дверь в одну комнату, как обнаруживаешь еще три двери. И каждый раз я пугаюсь по новой причине: то пара уставших белых голубей вылетает мне навстречу в сумрачном свете, то полевые мыши, пробравшиеся внутрь сквозь разбитые или открытые окна.
Наконец мне остается осмотреть последнюю комнату. Когда открываю дверь, уверена, что попала именно туда, куда нужно.
Я в библиотеке. Здесь нет обоев — сплошные полки. Пахнет влажной бумагой, истлевшими кожаными переплетами и пылью. Не могу себе представить, чтобы здесь кто-то находился добровольно. В черном гранитном полу отражается роспись потолка — очень впечатляющие сцены из ада — в том же стиле, что и все картины в замке. Люди в медных котлах либо тела на вертелах, пронзенные демонами, жарятся на огне. Но больше всего меня впечатляет пара злых змиев по бокам лестниц, справа и слева. Они ведут к двум хорам, нависающим над комнатой. Я невольно сдерживаю дыхание.
Стены вокруг заставлены темными полками разной величины, книги стоят не стройными рядами, а как попало. Промежутки в рядах кажутся ранами. Я бы не удивилась, если бы оттуда, с полок, вдруг потекла кровь.
Здесь, внутри, ни птиц, ни полевых мышей, лишь гробовая тишина. Наверное, эта роспись на потолке ввергает любое теплокровное существо в шок, ступор. Даже крыс! Другой двери не видно. Обхожу все полки, и внезапно возникает чувство, что я здесь не одна. Такое же чувство было, когда я поднималась по горе к замку. Останавливаюсь и прислушиваюсь, но ничего не слышно, лишь мое взволнованное дыхание. Вдруг улавливаю тихое шипение. В ужасе думаю, что роспись на потолке с котлами и вертелами оживает. Но потом собираю волю в кулак. Поиск — единственное, на чем я сейчас сосредоточена.
Наконец одна из полок привлекает мое внимание, но я не могу понять почему. Только после внимательного осмотра понимаю, чем она отличается от остальных. В ней нет ни одного промежутка между книгами, но сами тома очень разные. Различные издания Библии и сборники псалмов стоят рядом со списками святых. Книги об оккультизме и сатанизме спокойно соседствуют с сочинениями Майстера Экхарта[5] и святой Хильдегарды Бингенской[6], здесь же книги монастырских рецептов, отчеты миссионеров из Лондона и сборники проповедей различных пасторов.
Беру с полки несколько книг, но за ними просто стена. Разочарованно отправляю книги на место. Случайно мой взгляд падает на пол, и я вижу это.
Рельсы. Полка стоит на рельсе! Я крепко хватаюсь и пытаюсь сдвинуть ее в сторону, но, как ни стараюсь, ничего не выходит. Книги с грохотом падают на пол, но я не отчаиваюсь: как-то же эта полка должна сдвигаться!
Наконец я чувствую, что полка немного шевельнулась, а потом заскрипела. Вся конструкция отъехала в сторону, и за ней показалась дверь.
Я включаю фонарик и уже хочу открыть ее, но тут замечаю, что из какой-то книги вывалилось несколько страниц. Или нет, это не страницы! Это фотография! Я наклоняюсь. Точно, фотография и написанное от руки письмо.
Снимок похож на те, которые я видела раньше.
У девочки на фото такие же светлые волосы, как у меня, но заплетены в косу. Она сидит в ночной рубашке в углу комнаты с голыми стенами. Я присматриваюсь. Девочка стоит коленями на рисе. Руки мои начинают дрожать. Кто так жестоко обращается с детьми? И кто делал все эти снимки?
Я запихиваю фотографию и письмо в карман штанов, чтобы позже еще раз детально изучить. Сейчас нужно попасть в эту комнату.
Я открываю дверь. В нос бьет пыльный воздух. Чулан совсем маленький, по площади почти как две лифтовые кабины. Обрывки ветхой ткани, которые, наверное, когда-то были матрацем, занимают половину помещения. Мрачная темница, в которой можно лишь похоронить кого-нибудь.
Мне очень не хочется туда заходить, но я должна. Я могу это сделать, и, как только пересиливаю себя и делаю шаг вперед, меня кто-то сильно толкает в спину. Я оказываюсь в камере, стены которой окружают меня, словно гроб.
Глава 12
За семь недель до событий
Спустя всего несколько дней после опознания тела в морге мамина коллега из больницы привезла ее вещи — все содержимое шкафчика.
Я не знала эту женщину, мама никогда особо не рассказывала о других сестрах из неотложного отделения. Она с ними ладила, но, честно говоря, с ней невозможно было не поладить.
На этом все и заканчивалось. Она никогда никого не приглашала, в кино чаще всего ходила со мной, у нас появлялись только побитые судьбой, потерявшие надежду люди.
Женщина представилась Ханной и, очевидно, поручением тяготилась. Она точно не знала, что сказать, когда предстала передо мной. Похоже, она испытала безграничное облегчение, когда я ни о чем ее не спросила.
Поначалу я хотела просто запихнуть пакет в шкаф мамы и забыть, но любопытство взяло верх. Я надеялась найти там предметы, которые прояснят положение дел с альбомом и неизвестной женщиной в машине, которая после визита в морг не выходила у меня из головы.
Поэтому я села за наш старый кухонный стол и извлекла первый предмет — пакет с белыми туфлями для медсестер. Я распаковала их и выставила на стол.
От вида поношенных туфель, которые маме приходилось покупать каждый год, у меня на глаза навернулись слезы. Впадинки и выпуклости на потертой белой коже рассказывали о ее буднях. Туфли мне показались такими маленькими…
Утерев слезы, я снова взялась за пакет. В руки попал розовый гребешок, отливающий перламутром, и несколько резинок с жемчужинами — для волос. Во время работы мама всегда заплетала волосы в косу. Она считала, что пациентам нравятся эти жемчужинки: их должен радовать вид чего-нибудь красивого. Сама мысль о том, что некоторых пациентов радует ее веселое лицо, ей никогда бы не пришла в голову.
Наконец я наткнулась на то, что мама всегда называла своей шкатулкой для драгоценностей. Мгновенно я и вздохнула с облегчением, и напряглась. Было страшно открывать эту коробочку. Ее для мамы смастерила я в детском саду. Склеила из картонной коробки из-под камамбера, цветной бумаги и блесток. В шкатулку на толстую подушку из ваты на время работы мама клала серебряный медальон в стиле модерн. А вообще она его никогда не снимала: ни отправляясь в душ, ни ложась на ночь в постель.
Медальон был знаковой для нее вещицей: в нем она хранила единственное оставшееся фото моего отца. Он на нем выглядел очень юным, лукаво улыбался в камеру, сигарета свисала с уголка рта. Это фото не сгорело во время пожара в нашей квартире только потому, что мама всегда носила медальон при себе. Также в нем хранились мои детские фотографии до трех лет.
Я долго сидела перед коробочкой, пока не открыла ее, и, когда это наконец случилось, у меня вырвался вздох облегчения. Шкатулка была пуста. Значит, во время аварии на маме был медальон. Эта мысль несколько утешила: во время несчастья она хотя бы была не одна.
На самом дне пакета лежали лекарства. Мама страдала от гипотиреоза, ей нужно было ежедневно принимать таблетки. Она за этим строго следила.
Лекарства в пакете насторожили меня. Может, они попали сюда по ошибке? Они выглядели не так, как те, которые мама хранила в ванной. Циталопрам — я о таком раньше никогда не слышала. В раздумьях отправилась в ванную комнату и открыла коробку с препаратами.
Мамины таблетки лежали на самом верху, как и раньше: она хранила лекарства подальше от меня. Я это точно помнила. На коробочке было написано не «Циталопрам», а «Л-Тироксин», а внизу значилось что-то о гипотиреозе.
Мне в голову внезапно пришла невероятная мысль. Я выхватила коробку из шкафчика, вытащила блистерную упаковку. На серебристой бумаге значилось «Циталопрам». У меня волосы встали дыбом.
Что все это значит?
В замешательстве я бросилась к ноутбуку и забила в «Гугл» название препарата. Почему мама врала? Закрались ужасные подозрения. Может, она страдала какой-то неизлечимой болезнью, не говорила ничего и щадила меня? Может, она намеренно въехала в озеро? Вдруг она не хотела медленно чахнуть и стать для меня обузой?
Я пролистывала страницы. «Циталопрам» точно не назначался при гипотериозе. Но его не применяли и для лечения рака.
Это средство действовало, скорее, на психику. Его назначали при панических атаках, при фобиях и особенно при тяжелых расстройствах.
У меня это в голове не укладывалось. Я рассчитывала на все, что угодно, только не на такое.
Мама мне всегда казалась спокойным, уравновешенным человеком. Ее жизнь была абсолютно предсказуемой. Организованной и упорядоченной до скуки. Оказывается, я совершенно ее не знала. Я не имела ни малейшего представления, почему или чего так боялась моя мать.
Глава 13
Сижу на остатках матраца в камере, и серые стены надвигаются все ближе и ближе. Но нет, это обман, на самом деле это просто я уменьшаюсь, обрушиваюсь в себя, усыхаю, пока от меня не остается крошечка. Она состоит из сплошного страха. И я задаю себе вопрос: боялась бы я меньше, если б знала, что здесь происходит на самом деле?
Фонарик на полу рядом со мной и освещает часть пола. Так лучше, чем когда он светит на дверь и я вижу на ней надписи. Заставляю себя глубже вдыхать застоявшийся воздух.
«Со мной ничего не случится, — уверяю я себя. — Просто нужно оставаться спокойной. Здесь достаточно кислорода, свет у меня есть, хоть и неяркий. Меня будут искать. Конечно, меня будут искать и найдут».
Скоро. Совсем скоро. Если я до этого не сойду с ума и стены меня не раздавят. Лишь один не будет меня искать. Он знает, где я. Но кто он? Кто тихо подкрался и терпеливо ждал, пока я встану в проеме этого чулана, чтобы втолкнуть? Тот же, кто вчера обрушил на меня сверху обломки скалы? Или это были разные люди?
Убийцы твоей матери.
Внезапно я вспоминаю, что нахожусь в запрещенном северном крыле. Даже если они и станут меня искать, то, конечно, не здесь, верно? Я вскакиваю и колочу кулаками в дверь, но внезапно вижу перед собой маму. Она словно просит меня открыть дверь в квартиру. Она любила свою спальню, но не запертые двери.
Стоп! Что я за дура? Я совершенно забываю про люк, который ведет в бальный зал. Остальные должны быть еще там, наверху.
Я ищу отверстие, но оно высоко, я даже с вытянутыми руками не могу до него дотянуться. Но все равно, я просто ору, кричу как можно громче, бью в дверь, кричу, потом снова бью и снова кричу.
Я хочу выбраться отсюда прямо сейчас, сразу, немедленно!
По моим представлениям, я кричу целую вечность, пока наконец что-то происходит. Крышка открывается. Луч света падает в мою темницу, и я слышу взволнованный голос Филиппа где-то вверху:
— Эмма? Это ты там? Эмма?
— Да, — хриплю я и умоляю его вытащить меня отсюда.
Он убежал прежде, чем я успела объяснить, как меня найти. Слишком поздно я соображаю, что тот, кто втолкнул меня сюда, наверное, снова задвинул полки перед потайной дверью.
Сижу на корточках прямо за исцарапанной дверью в надежде, что услышу, если что-то будет происходить снаружи. Тогда я смогу колотить в дверь. К счастью, Филипп оставил крышку открытой, так что сюда попадает хоть немного свежего воздуха и еще солнечный свет. Он как раз освещает надписи на двери передо мной. Здесь так много разных фраз, большинство написано округлым детским почерком, со множеством ошибок. Кого же здесь запирали? Неужели детей? Меня начинает тошнить, когда я снова и снова читаю мольбы: «Смиластивится Господь над тобой», «голод», «я хочу выйти», «грешник», «сатана», «Мария помаги».
И тут мой взгляд останавливается, замирает на чем-то знакомом, на какой-то момент у меня чуть не подкашиваются ноги. Это «А» и «Б», нацарапанные на двери, буквы соединены поперечной чертой. Так всегда писала свои инициалы мама — «Агнесса Бергманн», — всю свою жизнь! Инициалы обрамлены кругом из десяти округлых дырочек, выцарапанных в дереве. Они как раз подходят по размеру моим кончикам пальцев. Помимо этого я еще вижу крест в центре. Я не могу точно сказать, связано ли все это или инициалы вписали в уже имеющийся рисунок. Но что, если нет? Это значит, что мою маму тут держали очень и очень долго.
Я ощущаю, как все во мне сжимается. Если все именно так, если она здесь была, то почему никогда не рассказывала об этом?
«Потому что ты, Эмма, не очень-то хотела это знать о ней, — ответила я сама себе. — Ты хотела слушать лишь истории про своего отца. О ее жизни ты спрашивала слишком редко».
О детстве мамы я знала со слов прабабушки. Та постоянно что-то рассказывала. И никто не умел готовить такие вкусные клецки, как она. Возможно, этот замок раньше был санаторием или больницей? Но это все равно не объясняет существования маминых инициалов на двери в чулане.
Я глажу пальцами бороздки и так хочу вместо этого держать маму за руку…
Неожиданно дверь распахивается, я с облегчением вскакиваю, но на пороге не Филипп. Там, снаружи, Николетта. Она с недоверием, недружелюбно смотрит на меня, но все равно я бы сейчас охотно бросилась к ней на шею.
— Мы не напрасно запрещали вам заходить в северное крыло. Себастиан правильно сделал и дал тебе немного времени подумать над своим поведением.
Себастиан? Себастиан запер меня здесь? Один из кураторов лагеря? И Николетта считает, что все нормально?
Все мои страхи перетапливаются в приступ ярости.
— Вы не в своем уме? — ору я. — Это абсолютно неприемлемо. Я бы здесь внутри… Здесь могло со мной что-нибудь случиться!
— Правильно, — поджимает губы Николетта. — Везде в северном крыле с тобой могло приключиться что угодно. В этом и состояла причина уговора, которого ты не придерживалась.
— Но у вас нет права запирать меня здесь.
Николетта рассерженно смотрит на меня:
— Об этом ты вполне можешь побеседовать с доктором Беккером. Внизу, в столовой. А мне еще нужно забрать оттуда ведро с краской.
Она оставляет меня одну, словно маленького глупого ребенка. Я бегу к вестибюлю, крепко стиснув зубы. Я не только злюсь, я растерянна и не могу все это объяснить.
«Мама, — думаю я, — мама, что же ты здесь делала?»
Том, Филипп и София ждут внизу, у лестницы, и разговаривают с доктором Беккером и Себастианом, который, очевидно, только что пошутил, потому что все хохочут. Я окончательно прихожу в ярость.
Вдруг за спиной слышу ужасный крик, потом грохот, и в тот же момент меня окатывает какой-то жидкостью с химическим запахом. Я рефлекторно зажмуриваюсь, тут же открываю глаза и вижу что-то вроде молнии.
Потом понимаю, что произошло. Моя одежда в крови, повсюду кровь, она прилипает к моей коже, к ткани. Сердце начинает бешено колотиться.
— Мне очень жаль! — кричит мне сверху Николетта. — Из рук выскользнуло ведро с краской. — Она сбегает по ступенькам. — Пожалуйста, найди что-нибудь вытереться!
Краска! Я присматриваюсь. Жидкость выглядит как запекшаяся кровь. Никто бы не стал красить комнату в такой темный цвет. Совершенно точно. Консистенция намного жиже, не такая сиропообразная, как у обычной краски. Она течет, как молоко. Я мокрая до нитки.
— Николетта, ты с ума сошла? — Доктор Беккер поднимается по лестнице, сует мобильник в карман и достает платок. Его правильные черты вдруг искажаются, он так взбешен, что я невольно втягиваю голову в плечи. — Если мы ожидаем абсолютного подчинения от наших участников, то я жду этого и от тебя. — Беккер говорит негромко, но от этого кажется еще опаснее, чем если бы он кричал.
Кажется, на Николетту это возымело действие. Она побледнела и нерешительно вытирает меня его платком.
— Я не потерплю такого поведения ни от кого, тем более от одного из кураторов, — продолжает Беккер. Светлые глаза сверкают за очками в серебристой оправе.
Том отступает назад и вздыхает:
— Но краски попало не так много. Все… наверняка отчистится.
Он немного заикается, и я невольно вспоминаю, что он рассказывал мне о своем отце.
— Ты намерен мне перечить? — Голос Беккера звучит еще тише, и Том заметно вздрагивает. — Тогда я могу отправить тебя домой прямо сейчас.
«Что? Неужели он это серьезно?»
Я набираю побольше воздуха в легкие.
— Означает ли это, что в лагере ни у кого нет права даже выразить свое мнение? — спрашиваю я.
Беккер оборачивается ко мне. Его лицо искажается в ужасной ухмылке.
— Есть. Только у того, кто хочет домой. Смотри, Эмма, все очень просто в самом деле. Здесь наверху все делают то, что говорю я. Я никому не позволю подрывать мой авторитет! Тогда мы все будем хорошо ладить.
Я окидываю взглядом остальных. Почему все молчат? Том выглядит так, словно вот-вот заплачет, и все повесили головы. Я сосредотачиваюсь на Филиппе. Он нерешительно открывает рот, но так ничего и не произносит. Лишь качает головой и беспомощно поднимает руки.
Беккер разворачивается и тоже смотрит на участников проекта.
— Это точно всем понятно? Ни у кого, я повторяю, ни у кого нет права мне перечить.
Себастиан глядит на меня, словно утешая. Неужели он? Он хочет меня утешить? Ведь именно Себастиан запер меня в той каморке. Я чувствую, как внутри оживает дух противоречия. В этом виновата злоба.
— Нет, — говорю настолько уверенно, насколько могу.
— Что?
— Нет. У каждого есть право не согласиться. Всегда. В любое время. Если здесь кого-то не желают видеть, я охотно отправлюсь домой. Только сначала в душ схожу.
— Тебе представится эта прекрасная возможность. Ты исчезнешь отсюда немедленно, как есть.
Доктор Беккер угрожающе надвигается на меня, он кажется выше, чем обычно, и я невольно делаю шаг назад. В поисках поддержки я смотрю вниз, на подножие лестницы. Неужели никто ничего не скажет? Никто!
— В таком виде я не могу поехать домой, — упрямо твержу я. — И поэтому я сейчас отправлюсь в душ.
Колени дрожат, я готова на все, даже на пощечину. К слову, первую, которую получу в этой жизни, но стою и не отступаю.
Тут на лице доктора Беккера появляется широкая улыбка, теперь он выглядит не таким страшным и хладнокровным, а очень довольным и радостным. Он начинает аплодировать. Николетта и Себастиан присоединяются, а другие участники проекта смотрят на меня снизу, словно на их глазах произошла высадка марсиан.
— Эмма, ты сделала все великолепно. — Доктор Беккер приветливо кивает мне. — Это гражданское мужество, это смелость! Именно это нам и нужно здесь.
Он оборачивается к группе внизу лестницы:
— Том был неплох. По крайней мере, ты первым проявил инициативу, хотя тебе не стоит так сразу давать себя запугивать. Но остальные… — Он покачал головой. — София и Филипп, вам похвастаться нечем. По этому поводу с вами двоими после обеда будем разговаривать.
Беккер протягивает руку, а я совершенно огорошена, но пожимаю ее.
— Это было хорошо, Эмма. Победители не позволяют себя запугивать.
Николетта выдает мне новое полотенце.
— Мы идем в душ. Я помогу тебе с вещами, обещаю, что мы их немедленно почистим. Мы использовали пищевую краску, чтобы не осталось следов.
Как осмотрительно с их стороны, сказала бы я! Чувствую, что меня водят, как теленка на веревочке. Ужас в камере, приступ сердцебиения от страха — все это мгновенно навалилось на меня.
— Тогда это всего лишь дешевое шоу. Ты вылила краску на меня нарочно?
— Да, и я еще раз хочу извиниться за это.
— Но почему я?
— Потому что ты оказалась последней. Мы хотели выбрать одного, а не устраивать массовую бойню для всех.
Я вижу под улыбающейся маской то злое выражение, которое наблюдала в камере. Спектакль. Все здесь просто фейк, подделка, иллюзия. И мне становится дурно от мысли, какие все они здесь грандиозные актеры. Я на самом деле поверила, что Беккер — довольно вспыльчивый тип, холерик. А у Себастиана был взгляд раскаивающегося человека.
— А для всех вы и не сможете! — кричу я напоследок и убегаю в подвал, где еще утром ужасно испугалась. Только когда влезаю под душ и из заросшей налетом форсунки бьет горячая вода, я начинаю реветь. Глупые бессмысленные слезы катятся по щекам, потому что меня обвели вокруг пальца, потому что мама умерла и я больше никогда не смогу ее спросить о том, что здесь произошло.
Я плачу, потому что мне чертовски одиноко и потому что меня никто не может защитить.
Глава 14
Николетта стучит в дверь душевой кабинки. Я приоткрываю щель и молча беру пушистый банный халат розового цвета, он сразу напоминает мне о маме. Именно такой она купила, когда мы в последний раз ходили по магазинам вместе. Мне он показался убогим, но маме нравился.
Собираюсь с силами, глубоко вдыхаю и вылезаю из душа. Свои испачканные краской вещи я бросила кучей перед душем. Я не беру их с собой, пусть кто-нибудь другой о них позаботится.
Снаружи в коридоре ждет Филипп и так сочувственно смотрит, что у меня невольно на глаза наворачиваются слезы. Но я вовсе не хочу сейчас терять самообладание.
— Мне очень жаль. На самом деле я хотел вмешаться, но не смог. Ты выглядела ужасно, — вздыхает Филипп. — Словно была в крови с головы до пят.
— Ты смолчал просто потому, что не переносишь вида крови? — Я не хочу, чтобы слова звучали слишком саркастично, но нападать все же лучше, чем реветь.
Он, защищаясь, поднимает руки.
— Нет, кровь меня не пугает, но вся ситуация… я имею в виду, это все было просто нечестно. Если все это было лишь психологической игрой, зачем доктор Беккер делал фото?
«Что я знаю? Ничего! Ничего я не знаю, но все-таки необходимо здесь все обследовать».
Я плотнее запахиваю на груди халат. Мне неприятно сознавать, что под ним я совершенно голая.
— Пожалуйста, Филипп, сейчас я просто хочу подняться наверх и во что-нибудь переодеться.
— Я только хотел с тобой поговорить наедине, хотел объяснить, как мне жаль, что все так случилось. Я уже иду в столовую. Мы подождем с едой, пока ты не спустишься, хорошо?
Кажется, он так страдает, что я не могу не улыбнуться.
Филипп берет меня за руку и нежно сжимает.
— Будь осторожна.
— Что ты имеешь в виду?
Он пожимает плечами:
— Когда ты стояла там совершенно растерянная, вся в крови, на этой разбитой лестнице, то…
— То что?
Филипп заметно мнется, подыскивая слова:
— Ну, тогда я вдруг почувствовал, что боюсь за тебя.
Я несколько раз сглатываю, пытаясь избавиться от комка в горле, опасаюсь, что парень таки добьется своего и я разревусь. Чтобы выиграть время, внимательно осматриваю мускулистые ноги Филиппа, его узкую талию и понимаю, какие у него широкие плечи, и руки выглядят сильными. Кажется, что они смогут остановить гору обрушившихся со скалы камней.
И он заботится обо мне. Приходится еще раз сглотнуть. Ерунда. Его поведение еще ни о чем не говорит. Никто о тебе здесь не беспокоится. Ты одна. Предоставлена сама себе. Это все просто твоя реакция на события утра. Соберись, Эмма, его забота о тебе может быть наигранной.
— Все в порядке? — Он ловит мой взгляд, смотрит мне в глаза. Только теперь я замечаю, какие у него красивые глаза — светло-зеленые с лиловым оттенком, как свежие артишоки. Я не могу отвести взгляд, чувствую себя ужасно слабой в этот момент. Ничего больше не хочу, только бы он меня сейчас обнял.
Но все, что я могу выдавить из себя на его заботливый вопрос, — это хриплое «да».
Пока я поднимаюсь в спальню для девочек и упрекаю себя в том, что была так холодна с Филиппом, меня пронизывает одна мысль: если я сейчас просто исчезну, станет ли меня кто-нибудь разыскивать? Будет ли вообще это кого-то волновать? Станет ли по мне кто-то скучать?
Словно в трансе, я вхожу в спальню, где не просто душно — вместо воздуха в легкие попадает какой-то липкий пар.
Прежде чем одеться, я подхожу к нише со стеклянными жемчужинами и трогаю холодные гладкие выпуклости. Снова вспоминаю те печальные засечки на двери в камере. У меня возникает вопрос: хотела бы мама, чтобы я узнала обо всем этом, или ее это только опечалило бы? Невольно я думаю о Филиппе и о том, понравился ли бы он ей.
Надевая джинсовые шорты и футболку, не могу не признать, что он мне очень нравится. Его зеленые глаза, коротко стриженные волосы. Но я о нем ничего не знаю. Мне еще не представилось случая расспросить его о том, что значила его фраза про наших отцов. И я все еще не могу быть уверенной в том, что его симпатия не часть этой общей игры. Как, например, сегодня утром в кухне сочувствие Себастиана. Это не помешало ему втолкнуть меня в камеру и закрыть там. И София не такая уж простая штучка, какой кажется на первый взгляд. Как я могу кому-нибудь доверять, если не в состоянии полагаться даже на собственные наблюдения?
Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас. (Первое послание Иоанна 4:12)
Агнесса стояла на коленях на одной из церковных скамеечек для молитвы и была так увлечена, что даже не ощущала холода, исходившего от кафельного пола, не слышала осторожных шагов. А когда она почувствовала чужую руку на своем плече, то вздрогнула от ужаса. Книга для духовного чтения с грохотом упала на пол маленькой капеллы, которую освещали лишь мерцающие жертвенные свечи в нишах у двери. Агнесса инстинктивно спрятала бабушкины четки в карман.
— Что ты здесь делаешь посреди ночи? — спросила Марта.
Агнесса с облегчением обернулась.
— А ты? Что ты здесь делаешь? — Она удивилась, что на Марте в такой холод была лишь одна накидка. Агнесса надела все, что у нее было: две блузки, вязаную кофту, шерстяную юбку, две пары колючих колготок, носки, накидку из сукна, поношенную шапку, шарф и полусапожки. И потом прокралась в часовню. Она надеялась, что Гертруда при минус десяти откажется от своего обычного ночного патрулирования. Но что здесь забыла Марта? Неужели она шла вслед за ней?
— Молюсь пресвятой Деве Марии, как видишь.
— Чтобы она тебя отсюда вытащила, или как?
— Ты ничего не понимаешь. — Агнесса наклонилась за книгой и прижала ее к груди, словно драгоценность.
Марта покачала головой.
— На самом деле я никак в толк не возьму, как кто-то в твоем положении может еще верить в Бога или, скажем, в какого-нибудь инопланетянина.
Агнесса улыбнулась.
— Бог не инопланетянин!
— А я так думаю, бездушный, бесполезный инопланетянин.
Агнесса перекрестилась.
— Иногда можно подумать, что твоими устами говорит сам дьявол.
— Я знаю одного дьявола, и его имя начинается на букву Г.
Как всегда, Марта высмеяла ее.
Девочка очень хотела бы переубедить Марту, доказать, что та ошибается. Но пусть ей и нравилась Марта, Агнесса все равно ее боялась. У Марты не было убеждений, она тайком читала запрещенные газеты, казалась пустышкой, в душе у нее не было стержня. Ничего, что могло бы помочь определить, где зло, а где добро.
Агнесса чувствовала: Марта ищет именно этого понимания, только поэтому хочет фотографировать новые лица и понять, что скрывается в душе человека.
Такие девочки, как Урси, давно сдались. Старались просто выжить. Если для этого приходилось молиться, они молились, если нужно было ябедничать, они ябедничали.
— Если хочешь, я открою тебе свою тайну.
Тайны — это плохо, Агнесса знала точно. И ей следовало бы, в общем, ответить «нет». Марта была безбожницей, а тайны — это то, чего лучше Агнессе не слышать.
«“Лучше” и “в общем”. Именно эти слова и ведут к нарушению моральных устоев», — об этом часто говорила Гертруда на ежедневной проповеди перед трапезой. Девочки сидели перед тарелками, от которых шел пар, а Гертруда в черной сутане, нахохлившись, как ворона, говорила о том, как попасть в рай, и о том, что сатана подстерегает в мерзости. Когда она говорила, все сидели так тихо, насколько это было возможно. Слышно было даже, как трутся о подбородок накрахмаленные завязки ее чепчика. Сегодня подавали любимое блюдо Агнессы — айнтопф[7] «Пихельштайн». И пока ее нос вдыхал ароматы бульона, а во рту скапливалась слюна, нужно было упереть руки локтями в стол, сцепить пальцы, прижимая указательный палец правой руки к губам, чтобы не произнести ни звука, пока не окончится проповедь. А она оканчивалась ровно тогда, когда на поверхности бульона жир застывал белыми пятнами.
— В общем, вы хотите подумать о Боге, но еда вводит наши слабые тела в искушение! В общем, вы хотите, чтобы ваши мысли очистились, а ваше тело несет вам мерзости. Если вы здесь у нас хотите ощутить предзнаменование рая, нужно духовно очиститься, вы не должны ничего оставлять в себе, нужно все рассказывать мне, чтобы ваши мысли и чувства жили в свете. Для этого вам не стоит ничего утаивать. Ведь тот из вас, кто скрывает свои грехи, передает сатане власть над собственной жизнью.
Лучше и в общем. Агнесса смотрела на Марту, подруга замерла и не сводила с нее глаз. Иногда даже замирала с фотоаппаратом. Конечно, лучше было бы не знать тайн этой девочки, тогда бы Гертруда точно не смогла ничего из нее выбить.
Но Марта единственная, кто не боялся проводить время с Агнессой. И только Марте Агнесса нравилась.
— Что за тайна? — спросила Агнесса.
— Это там. — Марта указала на алтарь и помчалась к нему. — Пойдем со мной!
Агнесса нерешительно последовала за подругой. Алтарь посвящался Деве Марии, и чем ближе девочка подходила, тем больше пропадало желание что-либо выяснять. Что задумала Марта? Агнесса остановилась, наблюдая озорные огоньки в глазах подруги.
— Ты действительно глупая овечка! Неужели ты боишься?
— Нет, — прошептала Агнесса. — И я не глупая. А вот ты глупая, потому что открываешь мне свои тайны.
Марта подошла ближе и взяла Агнессу за руку:
— Ты права. Если не обращать внимания на твою одержимость Девой Марией, ты самый умный человек на этой планете. Я доверяю тебе.
Агнесса невольно спросила себя, может ли она в свою очередь довериться Марте. И очень расстроилась, оттого что не была в этом уверена. Чтобы как-то замять это скрытое предательство, Агнесса сильно сжала руку Марты.
— Тогда открой мне свою тайну.
Глава 15
Пицца, которую подали, как только я пришла, на вкус восхитительна, но я едва ли смогу в себя что-нибудь протолкнуть. И все же я рада: несмотря на сегодняшние предобеденные события, чувствую себя лучше, чем утром. Я могу сидеть в этом зале и просто рассматривать слепого ангела на потолке. При этом немного печально оттого, что красота в таком упадке, — больше ничего.
Прежде чем что-нибудь съесть, необходимо получить ответы на несколько вопросов, от которых так и сводит желудок. И первый — самый важный.
— Зачем Себастиан запер меня в этой камере? — неожиданно выпаливаю я. — Он совершенно не имел на это права, здесь отборочный лагерь или что?
Реакция Беккера поразительна. Я думала, он приведет такие же доводы, как и Николетта: запреты и соблюдение безопасности. Но все иначе. Он слегка кивает и отвечает вопросом на вопрос:
— Ты уже говорила об этом с Себастианом?
Я озадаченно молчу. Нет, я не говорила с ним, просто не было удобного случая. Оглядываюсь, но ассистента Беккера нет в зале. Кажется, он вообще не ходит в столовую. Но Беккер прав, мне следовало бы задать этот вопрос непосредственно ему.
— Если бы ты с ним поговорила, мы охотно обсудили бы это дело еще раз, — предлагает Беккер. — Тем более я запланировал беседу с тобой и Софией после обеда, на улице в саду. Том и Филипп, — кивает он в сторону мальчиков, — ваша очередь вечером.
София и я. Снова вспоминаю молельные четки, которые она носит на шее. Может, после беседы мне удастся разговорить ее.
— А что раньше было в этой камере? Как ее использовали? — спрашивает Филипп.
Беккер пожимает плечами:
— Сам бы хотел это узнать.
Он рассказывает нам то, что мы уже знаем от Себастиана: замок некогда принадлежал Церкви. О нынешнем владельце практически ничего не известно. «Transnational Youth Foundation» нашла это здание через брокерское бюро.
— Обычно они сдают недвижимость для киносъемок, — объясняет Беккер. — «Transnational Youth Foundation» впервые использовала это помещение прошлым летом, но тогда мы находились здесь всего сутки. Проводили последнюю тренировку для отобранных участников. Если я правильно понял, замок уже давно должны были продать, но покупателей не нашлось.
«Неудивительно, — думаю я. — Кто польстится на такие жуткие казематы?!»
— Кажется, я знаю, — говорит Том и улыбается. — Я имею в виду, как использовали эту камеру. Замок когда-то был лечебницей для душевнобольных, над пациентами проводили ужасные эксперименты. А камера служила изолятором — мягкой комнатой.
Его небрежно брошенная грубая фраза попала точно в цель: я сразу вспомнила о лекарствах, которые мама тайно принимала, — таблетках, которые действуют на психику.
Что, если маме приходилось принимать их, потому что раньше она была в психиатрической клинике? Моя мама? Не могу поверить, что я вообще о таком задумываюсь!
— Психиатрическая больница или нет, но тут точно водятся привидения, — говорит Филипп.
Беккер улыбается.
— У всех домов своя история, и иногда не со счастливым концом. — Потом он вдруг становится серьезным. — Призраки водятся не в домах, а в семьях. Человек их тащит за собой, где бы ни жил.
Я киваю. Слова Беккера мне по душе.
— А вот у меня иное мнение. — Николетта немного раскраснелась, и я удивляюсь, что уже давно не обращаю на нее внимания.
— Значит, ты тоже веришь в привидения? — заинтересованно спрашивает Том.
— Думаю, между небом и землей есть намного больше всяких вещей, чем мы можем объяснить, — вздыхает она.
Хлопает дверь, и входит Себастиан — ангельски красивый и почти невесомый. «Почти как привидение», — проносится у меня в голове. Должно быть, он услышал последнее предложение и теперь обращается к Николетте:
— Скажи, что ты и в Бога веришь! — Он удивленно поднимает брови. — Ты же занимаешься наукой! В своей диссертации ты писала о жертвах. Как же ты все это можешь увязать?
Я удивленно смотрю на Николетту. Люди в камере были жертвами. Неужели поэтому она здесь?
Кажется, Беккер утратил интерес к дискуссии. Он посматривает на часы:
— Эмма и София, встречаемся через пятнадцать минут в саду. Остальные идут с Себастианом, — с этими словами он выходит из столовой.
Я раздумываю, не спросить ли Себастиана о ситуации с камерой, но тут меня словно током бьет. Какая же я идиотка!
Вскакиваю и бросаюсь прочь, в подвал, к душевым. Мои вещи! Я же просто бросила их. К счастью, оказалось, что ворох перепачканных шмоток никто не трогал. В серой комнате он напоминает какую-то бессмысленную авангардистскую скульптуру, которую кто-то пропитал кровью.
Я выдираю из всего этого свои джинсы и лихорадочно обыскиваю карманы. Но мои опасения подтверждаются. Фотография и письмо исчезли.
Очень медленно я вновь поднимаюсь по лестнице, меня мучит вопрос, что все это может значить. Кто вообще знал, что я нашла письмо? Следил ли за мной Себастиан, когда я сунула его в карман? Или это была Николетта? Она принесла мне халат и единственная заходила в душевую. Наверное, она и рылась в моих вещах. Или они шпионили за мной вместе с Себастианом и следили, где я нахожусь?
Банный халат все еще наверху, я решаю отнести его в комнату Николетты и осмотреться там. Сейчас просто необходимо узнать, что же было в том письме. А потом я отправлюсь в комнату Себастиана. Они не могут так со мной поступать!
Я хватаю халат и поднимаюсь на второй этаж, где располагаются комнаты Николетты, Беккера и Себастиана, стучу в дверь к женщине. Никто не отвечает, я собираюсь с духом и осторожно отворяю.
С удивлением обнаруживаю кучу вещей на полу. Постель не заправлена, на столе, под окном, рядом с обычными стопками книг и папками — пустая коробочка из-под шоколадных кексов и смятый пакетик от чипсов. На кровати я замечаю щетку для волос и косметичку. Там я и оставляю банный халат.
Куда же она могла положить вещи из кармана моих штанов? Бумага, наверное, промокла. Значит, ее нужно просушить, между двумя стопками бумаги, салфетками или полотенцами, которые потом лучше спрятать. Я подхожу к письменному столу, на котором стопка бумаги в чудовищном беспорядке.
Я подкрадываюсь к двери и прислушиваюсь, не идет ли кто-нибудь. Но все тихо. Я спешно пересматриваю бумаги. В левой стопке — сплошные газетные вырезки, много на английском языке, текст выделен разными цветами. Я перерываю все сверху донизу, постоянно прислушиваясь к тому, что творится за дверью. В самом верху — статьи о травмирующих отношениях между родителями и детьми, следом сообщения о похищениях и самоубийствах, и внизу я нахожу пару статей о фотовыставках авторитетной женщины-фотографа, о которой я никогда не слышала. Марта Айзеле в Нью-Йорке и Токио.
Я приступила ко второй стопке, в ней — документы о воспоминаниях, их достоверности, а также об объемах человеческой памяти. Но мне что-то не дает покоя и требует, чтобы я внимательнее перепроверила первую стопку.
Одна из фотографий.
Фотовыставка?
Я игнорирую голос в моей голове, который настаивает, чтобы я не останавливалась. Я должна найти письмо, но потом внимательнее смотрю статью об этой Айзеле и ее фотографии. Конечно, здесь наверняка есть один из самых знаменитых ее снимков — та же фотография с изображением карусели, которая висит у нас дома в коридоре. Я не думаю, что это имеет значение, мама никогда не упоминала, что знает Айзеле.
Но нет, не то, фотография была в одной из статей. Я медленно просматриваю все еще раз. И вот оно! Снимок очень маленький и нерезкий, но, если внимательно присмотреться, его ни с чем не спутаешь. На фото — Себастиан, в статье речь идет о том, что он обвиняется в изнасиловании студентки. Он улыбается в камеру так дружелюбно и просто ангельски, я знаю его именно таким. Мое сердце бьется быстрее, но я заставляю себя прочесть статью и потом во втором абзаце нахожу то, от чего у меня земля уходит из-под ног.
Это взаимосвязь, которую я искала все время.
Суд закончился оправдательным приговором, говорится в статье, после психиатрической экспертизы жертве был поставлен диагноз «психическое расстройство», которым та уже давно страдала. Студентка, которая его обвиняла в изнасиловании, по окончании расследования бросилась с крыши госпиталя Святой Марии, причем в этой трагедии обвинили одну из не названных по имени медсестер реанимации.
Мамин госпиталь. Мамино отделение.
Когда это случилось? Я лихорадочно отыскиваю дату. Девушка покончила с собой за три недели до несчастного случая с мамой. О маме в статье ни слова, но именно в это время она стала покупать краску для комнаты!
Даже если в статье говорится о другой медсестре, мама наверняка приняла эту трагедию близко к сердцу.
Хорошо. Просмотрим сначала. Теперь нужно свести все данные правильно. В комнате Николетты лежит газетная статья, которая связывает Себастиана и мою мать.
Знала ли что-нибудь мама об этой студентке, может, эта информация опасна для Себастиана? Может, он замешан в ее смерти? Но что эта статья делает в комнате Николетты? Я едва не издаю стон отчаяния. Сведения, которые я нашла, никак не способствуют разгадке. Они не объясняют, почему я сейчас здесь, в этом месте, и при чем тут фотографии из маминого детства.
Внезапно я замираю от звука, потом бросаюсь к двери, чтобы спрятаться за ней. С облегчением слышу голоса Себастиана и доктора Беккера, они разговаривают в коридоре.
— Позаботься о том, чтобы девочки сейчас же оказались в саду, и… Себастиан, ты же знаешь, как я тебе доверяю, пожалуйста, не разочаруй меня.
Я в панике прижимаюсь к стене, они могут зайти в комнату Николетты, но они расходятся по своим апартаментам. Воспользовавшись шансом, я выбираюсь в коридор. Несмотря на то что не нашла письмо и не могу осмотреть комнату Себастиана, я все же продвинулась наконец на шаг вперед.
Спешу на улицу, в сад, и только внизу вспоминаю, что оставила халат на кровати Николетты.
Глава 16
Дорожка к саду пробегает мимо неработающего фонтана. Его вид меня отвлекает. Я как раз ломаю голову над тем, чтобы увязать полученную в замке информацию с маминой смертью. А выключенные фонтаны тут совершенно ни при чем. Подхожу ближе и осматриваю листья и ветки, которые за многие годы скопились в чаше, раздвигаю их. И вдруг понимаю, что именно в этом фонтане сфотографировали мамину куклу. Я останавливаюсь и осматриваю каменное сооружение. О кукле после прибытия сюда я ни разу и не задумалась, но фонтан напомнил о ней. Меня мучит вопрос: зачем куклу вообще понадобилось красть? За мной тихо шелестит высохшая трава. Я оборачиваюсь и вижу Николетту, которая ставит рядом с фонтаном старую тачку. Она отирает пот со лба и весело мне улыбается, и я готова провалиться под землю со стыда из-за того, что рылась в ее комнате. Мне больше всего хочется спросить ее о Себастиане, но так, конечно, нельзя, иначе я себя выдам.
— Я отнесла халат к тебе в комнату и положила на кровать, — считаю, что мои слова звучат совершенно безобидно.
Она кивает в ответ, поглаживая рукой округлые каменные бортики фонтана.
— На самом деле жаль, что он не работает. Такая жара. — Она тихо вздыхает. — С другой стороны, во время последнего отборочного лагеря «Transnational Youth Foundation» нам рассказывали, что здесь когда-то произошел несчастный случай: ребенок захлебнулся.
— В этом фонтане?
«Как это связано с фотографией, на которой была кукла? — думаю я. — Может быть, это намек? Но где здесь связь с мамой? Может, это случилось, когда мама была здесь?»
— Ты знаешь, что раньше в этом замке была лечебница для психически больных людей? — Я не говорю «для душевнобольных» или «сумасшедших», потому что нашла в маминых вещах эти препараты. — А этот несчастный случай?.. Ты не знаешь, когда это произошло?
Николетта слизывает пот с верхней губы:
— Нет. Ходят лишь слухи, но об этой истории с утонувшим ребенком ты можешь прочитать в часовне. Там есть церковная книга с записями рождений, венчаний и смертей. Себастиан был там наверху, пока мы здесь все подготавливали. Вернулся очень взволнованный: он считает, что обнаружил в книге записи о каком-то дальнем родственнике. — Она оборачивается и сплевывает через плечо. — А я наконец-то сейчас искупаюсь в озере. И вам советую это сделать позже. Вода там удивительно холодная. — Ее улыбка так же фальшива, как и вчера вечером в душевой. — Наверняка от того, что оно очень глубокое. Что туда погружается, больше никогда не всплывает. — Она спешно уходит и бросает мне на прощанье через плечо: — Пусть тебя не смущают беседы с доктором Беккером, в конце концов, тебе ведь нечего скрывать, правда?
«А вот и нет, — думаю я, — очень даже есть что скрывать. И вам всем, очевидно, тоже».
Я смотрю ей вслед. Она бежит быстро, ступает уверенно, как марафонец.
Я задумчиво осматриваю круглую, не очень глубокую чашу фонтана. Как здесь мог захлебнуться ребенок, совершенно непонятно. Значит, его кто-то утопил. Несмотря на жару, по коже пробегает озноб, я тороплюсь уйти как можно дальше от каменного страшилища и бегу в сад. Я ни в коем случае не буду плавать, лучше осмотрю часовню. Чем дольше думаю о часовне, тем больше мне нравится идея ее осмотреть. Может, в книге я найду записи, которые укажут на то, когда мама здесь была. Возможно, она здесь проходила конфирмацию[8]: хоть мама и говорила, что не хочет иметь ничего общего с религией, но я знаю, что прабабка была католичкой. И в прошлом это было вполне обычным делом: каждого ребенка крестили и причащали. Кроме того, именно мамина кукла, судя по изображению на снимке, лежала в фонтане, словно захлебнувшись, — этому должно быть какое-то объяснение. Если действительно здесь утонул ребенок, тогда все это не просто совпадение, так же как и старуха с кольцом в маминой машине.
Мне бы хотелось отправиться в часовню прямо сейчас, но я решаю не навлекать на себя подозрений.
Наверное, когда-то это место действительно считалось садом, но теперь редкая листва немногих выживших яблонь и груш, старых, с покрученными стволами, дает совсем мало тени. На кустах смородины и малины, растущих по периметру сада, совсем не видно ягод, листья высохли, а коричневые побеги сплелись в единую стену непролазных зарослей. Пахнет опавшими фруктами и прелой листвой, но воздуха здесь больше, чем в доме, от этого и жару переносить немного легче. И все равно мне здесь не нравится. Я чувствую себя неловко, словно за мной наблюдают тысячи глаз. На самом деле этому совершенно нет причины. Это всего лишь старый сад. Ничего больше.
Доктор Беккер расставил стулья под искалеченным дубом. На нем снова серые брюки, помятая белая рубашка, на голове соломенная шляпа от солнца. В ней он выглядит, как художник-импрессионист на пленэре.
— Наша лекция сегодня — вам придется нести ответственность друг за друга. — Он спокойно смотрит на нас, а я тем временем думаю об обрывках фраз, которые подслушала в комнате Николетты. Неужели Беккер и Себастиан тоже одна команда: Беккер несет ответственность за него и наоборот? Если так, то что их объединяет?
— Вы это поняли, не так ли? — допытывается Беккер.
— Нести ответственность друг за друга, даже если мы совершенно незнакомы? — вмешивается София.
— Вполне понятный вопрос. Но вы решились работать в команде. Поэтому придется действовать именно так. — Беккер кивает мне: — Будь внимательна, во время любого отборочного лагеря всегда обращают внимание на решения. Именно они продвигают вас по жизни. Решения — это ваш мотор, и они основываются не только на ваших первостепенных желаниях, но также на проблемах и страхах. И только когда вы их осознаете, ваша команда сможет работать. Чего вы боитесь?
Мы с Софией внезапно замолкаем, захваченные врасплох.
Беккер смотрит на каждую из нас по очереди. На его лице едва заметная улыбка.
— Хорошо, — тихо произносит он, — начнем с моих страхов. С моего самого главного страха. — Он делает небольшую паузу. — Вам стоит узнать, что во время учебы мне приходилось подрабатывать организатором похорон. Эту работу нужно кому-то делать, но никто особо не хочет, поэтому она хорошо оплачивается. Но с тех пор у меня появился огромный страх: я боюсь, что меня похоронят живьем.
Он это серьезно?
София сочувственно смотрит на него.
— Это ужасно, — произносит она.
Беккер больше не улыбается:
— Да, именно так.
Внезапно мне кажется, что он сказал правду.
— А чего боишься ты, София? Какие у тебя страхи? — спрашивает он.
Девочка вздыхает:
— Я… В общем, это звучит странно… Но я боюсь пуговиц и кнопок. То есть это не просто какой-то дурацкий страх, они омерзительны. Мне кажется, они даже воняют.
Такого я никогда не слышала. Пауки, змеи, узкие комнаты, крысы — куда ни шло, но пуговицы? Практически на любой одежде есть пуговицы или кнопки. Наверное, это ужасно, без них просто невозможно обойтись! На рубашке доктора Беккера множество перламутровых пуговиц.
— Разве такое бывает? — срывается у меня с языка.
Беккер кивает.
— Бывает, и не так уж редко. Боязнь пуговиц, или по-научному кумпунофобия. Впрочем, у людей это отвращение не врожденное. — Он говорит неохотно. — Такая фобия возникает из-за неправильного воспитания, детских травм, из-за какого-то совпадения или несчастного случая. — Он снимает соломенную шляпу и обмахивается ею. — Или, цитируя всеми ненавидимого, но мною обожаемого Фрейда, «у маленького ребенка совершенно нет фобий». Прости, София, я не хотел бросаться специальными словами — это просто должно было тебя утешить. — Он снова надевает шляпу.
— В остальном со мной все в порядке, просто не люблю пуговицы. — София вскакивает, обходит нас по кругу. — Я не сумасшедшая!
— Нет, конечно, нет!
Беккер тоже поднимается и подходит ближе, и София застывает на месте. Зачем он это делает? Она же сказала, чего боится! София указывает на пуговицы на его рубашке, Беккер кивает и отступает:
— Давайте присядем.
Беккер поворачивается ко мне.
— Эмма?
И тут происходит нечто странное. Я говорю правду, при этом мое сердце колотится изо всех сил, а ладони потеют.
— С моей матерью произошел несчастный случай, она погибла. — Я вздыхаю. — Собственно, я боюсь, что это был не несчастный случай, а ее убили. Больше всего боюсь, что убийцам удастся уйти от ответа, а ее труп никогда не найдут.
Вот. Все сказано.
Сердце стучит, словно я только что пробежала стометровку. Но я должна собраться, чтобы отследить реакцию Беккера и Софии. Их, кажется, впечатлили мои слова, они смотрят себе под ноги. Молчание длится очень долго, тишина гробовая, мне кажется, что мухи жужжат оглушительно.
Наконец Беккер кивает.
— Понимаю, — это все, что он произносит, и я вдруг осознаю, зачем люди идут учиться на психолога. Единственная фраза, но я, к своему удивлению, чувствую, что меня утешили.
И сразу обращаю внимание на одну вещь: разве он не должен быть более удивленным? Или как-то еще прокомментировать мою фразу о смерти матери? Спросить о чем-нибудь? Он все еще смотрит на меня, и я внезапно понимаю, что ему об этом давно известно. Наверное, Грюнбайн связывался с ним, выяснял, может ли он отпустить меня в лагерь сразу после гибели мамы. Как я сразу не догадалась?
София ведет себя не так чутко, как Беккер.
— Кому бы понадобилось убивать твою мать? И зачем? — Она выглядит так, словно хочет сказать: «Только посмотрите на эту воображалу, она не остановится ни перед чем».
Я смотрю на небо. Воздух такой душный, почти липкий, а на горизонте все больше серых облаков. Может, натянет грозу и разгонит эту давящую атмосферу?
— Это именно то, что меня больше всего пугает, — отвечаю я на вопрос Софии. — С тех пор как мама погибла, меня мучают кошмары, происходят странные вещи.
— А что на это говорит полиция? — Теперь София старается проявить сочувствие, но мои ответы не нравятся ей, это точно.
— Полиция считает — это обычный несчастный случай, других лиц не обвиняют.
София смотрит на меня. Кажется, она обдумывает еще один скептический вопрос, но в этот момент появляются Себастиан, Том и Филипп. Подростки выглядят уставшими и вспотевшими, Том — больше остальных. Кажется, он в любой момент упадет в обморок.
— Этим двоим нужно передохнуть. Мы рубили дрова.
Неужели Себастиан заставил ребят колоть дрова в такую жару? Солнце в самом зените. Какие еще садистские испытания ждут нас в этом отборочном лагере?
— Мне нужен перерыв!
Я благодарно встаю. Нужно бежать отсюда, и я знаю куда.
Беккер обмахивается соломенной шляпой.
— Эмма и София, спасибо за вашу честность. Очередь Тома и Филиппа наступит чуть позже. Мы продолжим вечером, когда жара немного спадет. Следующее задание, надеюсь, доставит вам больше радости. Речь пойдет о ваших тайнах.
Филипп хмурит брови, над переносицей появляются морщинки.
— Так это все продолжится? Я думал, мы займемся спортом или играми, которые увеличат наш уровень IQ. А будет опять психологическая фигня?
— Правильно, — говорит Том. — Мой отец был бы в ярости, если б только увидел ту кровавую баню. — Он задумчиво почесывает за ухом.
— Ты бы хотел, чтобы твой отец оказался здесь? — спрашивает Беккер, и Том краснеет как помидор.
— Или, может быть, ты хотел бы, Филипп? — интересуется Себастиан.
Они все знают что-то, о чем я понятия не имею. Филипп скрещивает руки на груди, словно сдерживая себя, чтобы на кого-нибудь не броситься. Настроение у него — на грани взрыва, думаю, настоящая гроза сейчас действительно не помешала бы. Никто не обращает на меня внимания, и я решаю воспользоваться ситуацией, чтобы незаметно улизнуть к часовне. Необходимо хвататься за каждую зацепку, чтобы продвинуться в расследовании. Как только Николетта рассказала о книге, у меня прямо в животе заныло. Хотя я и не представляю, что может быть записано в церковной книге.
Я спешу, но когда подхожу к старому фонтану, неожиданно мне на плечо тяжело ложится чья-то рука. Я замираю от страха, боюсь обернуться. Вдруг это Себастиан, с которым я ни в коем случае не хочу оставаться наедине. Стоит ли мне предупредить Софию о нем? Но как это сделать, не выдав себя?
— Куда идешь?
Я вздыхаю с облегчением. Это Филипп, он отправился сразу за мной, а я и не заметила. Этот тоже умеет незаметно подкрадываться со спины. Я лихорадочно соображаю, перебираю в голове все возможные варианты.
— Зачем тебе это знать? — спрашиваю я.
Филипп улыбается, и, не знаю почему, улыбка кажется мне совершенно фальшивой.
— Только на тот случай, если тебя опять где-нибудь запрут, — говорит он.
Глава 17
Я решила не отшивать Филиппа. С одной стороны, потому что не хочу навлекать на себя лишних подозрений; с другой — потому что хочу выяснить что-нибудь о его отце. И еще потому, что где-то глубоко в моем животе тлеет огонек, и это меня радует совершенно по иному поводу: он идет со мной, просто потому что нравится мне. Но я сделаю все для того, чтобы скрыть это. Мне еще таких сложностей не хватало.
Когда я рассказываю ему, что направляюсь к часовне, Филипп ведет меня тропой, которая начинается у северной стороны замка. Даже отсюда кажется, что башни вот-вот рухнут.
После короткого и крутого подъема мы недолго переводим дух и оборачиваемся, глядя на замок, который в ярком солнечном свете кажется еще более уродливым. Он притаился у горы, как странный зверь, которого фея обратила в камень. Напротив замка в жарком мареве матово, словно ртуть, мерцает озеро. От мысли, чтобы купаться в нем, у меня мороз по коже.
Кажется, Филипп тоже чувствует что-то подобное, он резко разворачивается ко мне и говорит с дрожью в голосе:
— Давай пойдем дальше.
Я обдумываю, как перевести разговор на его отца, чтобы Филипп снова не закрылся и не умолк. Но он задает такой темп, будто мы ограничены во времени и нужно спешить. Я едва поспеваю за ним в своих вьетнамках, тяжело хватаю ртом воздух. Скрипя зубами, я вынуждена просить его двигаться помедленнее.
Теперь дорога полого бежит в гору среди высохшей травы, мимо черных сгоревших деревьев, сухие ветки которых рвутся в небо, как крики о помощи, мимо утесов, где в расщелинах пробиваются зеленые стебли.
Вот теперь я спрошу его. Прямо сейчас. Но он опережает меня.
— Хотел поговорить с тобой наедине. С этим лагерем что-то не так.
— Что ты имеешь в виду? — спрашиваю я, стараясь выказать как можно больше удивления в голосе.
Он останавливается и смотрит мне в глаза.
— Если не учитывать кровавый душ и эти странные тесты, ты считаешь нормальным, что здесь куратором работает бывший зэк?
— Как ты об этом узнал? — Чувствую, как краснеет лицо. Откуда ему это известно?
— Ты видела татуировку Себастиана?
Я очень удивлена. Как это может быть связано со статьей? К сожалению, у меня сразу всплывает в памяти обнаженный Себастиан, вспоминаю волнистое тату у него под прессом. Но Филипп может это неверно истолковать, поэтому я просто мотаю головой.
— Эти три точки между большим и указательным пальцем. Такие делают только заключенные. — Филипп раскраснелся, но продолжает говорить: — Они символизируют трех обезьян. Ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не говорить. Это дает понять другим заключенным, что на него можно положиться.
— Это ты по телевизору видел, что ли?
— Нет. — Он поджимает губы, словно не хочет сболтнуть лишнего. — Просто поверь.
— Как думаешь, что здесь происходит? — спрашиваю я и раздумываю, не рассказать ли ему о газетной статье.
— Если бы я только знал! Мне постоянно чудится, что мы просто сидим на большом вулкане, в котором уже все клокочет. С другой стороны, это может быть еще один финт, чтобы довести нас до белого каления и по-настоящему протестировать.
Теперь дорога сбегает по лощине, усеянной кустиками черники, на которых блестят спелые ягоды. Когда мы нагибаемся, чтобы сорвать их, то замечаем, что они либо совершенно высохли, либо их объели насекомые.
Мы молча шагаем дальше, пока в конце лощины не замечаем громадный ствол дерева с похожей на алтарь постройкой, у которого стоит статуя Девы Марии.
— Это и есть часовня? — спрашиваю я.
Филипп мотает головой, на его все еще мрачном лице мелькает тень улыбки.
— Том прав, уроки религии — не такая уж бесполезная штука. Это всего лишь небольшой алтарь. Такие раньше ставили в память жертв несчастных случаев в горах или во время природных катастроф. Может быть, на этом месте давным-давно в кого-нибудь ударила молния.
— Тогда нам лучше поторопиться, чтобы мы оказались в часовне до того, как разразится гроза. — Я указываю на черно-желтые тучи.
Он мне улыбается, и я решаю, что наступил самый подходящий момент.
— Почему ты здесь оказался, Филипп? Что это за история с твоим отцом? Может, он… умер?
Растерявшись, Филипп останавливается. Он качает головой и продолжает путь к статуе Марии.
— Нет, — фыркает он. — Хотя ни одну собаку не волнует, жив ли мой отец или нет.
Теперь я вообще огорошена. Я ничего не понимаю из его намеков, но действую намного осторожнее, чем прошлой ночью. Если он снова разозлится и убежит, я останусь вообще без ответа.
— Просто для информации, — продолжает Филипп. — Я совсем не такой, как отец.
Я поднимаю руки в примирительном жесте.
— Филипп, скажи мне, пожалуйста, почему ты здесь. Это для меня важно, понятно?
Он долго смотрит на меня. Его лилово-зеленые глаза, взгляд которых может быть таким нежным, теперь блестят от злости.
— Ты это серьезно спрашиваешь? Ты действительно ничего не знаешь?
Я готова стонать от разочарования.
— О чем я ничего не знаю?
Филипп набирает побольше воздуха.
— Для меня это приглашение получила мать. Сюда, в лагерь, пригласили детей осужденных, дали шанс провести время с подростками из обычных семей. — Его лицо помрачнело, как тучи, которые сгустились над нами. Из них доносятся угрожающие раскаты грома. Филипп горько усмехается: — Да, я из семьи заключенного. Мой отец сейчас отдыхает на тюремной койке. Во время разбойного нападения он получил тяжелое ранение.
В моей голове тут же раскручивается спираль из вереницы мыслей, которая начинается со смерти моей матери и заканчивается убийством. Неужели здесь лагерь для преступников? Кто знает, что скрывается за ангельской внешностью Софии?
— Я понимаю, о чем ты сейчас думаешь! — Филипп выбивает носком камешек с дороги и больше на меня не смотрит. — Ты боишься, что я тоже уголовник, так ведь? Наследственность, плохая кровь и прочее дерьмо.
— Ерунда. — Я пытаюсь говорить уверенно, но замечаю, что теперь действительно смотрю на него другими глазами. Вдруг его отец во время побега столкнул машину моей мамы в озеро?
Громыхание грозы все мощнее.
— Ты ведь наверняка из нормальной семьи, правда? — спрашивает Филипп. — По крайней мере, я о тебе такое слышал.
Теперь понятно, почему он психанул ночью на лестнице. Он убежал, чтобы я не выспросила детали.
— А ты вообще видел нормальные семьи?
Мы внезапно вздрагиваем от резкого раската грома. Я снова смотрю на небо. Сверкают молнии, но еще не над нами.
Я намереваюсь бежать, но Филипп останавливается перед алтарем у статуи Девы Марии, словно она о чем-то напомнила ему.
— Знаешь, новый друг моей матери говорит: классно, что я поехал сюда пообщаться с нормальными подростками. — Злобная морщинка, появившаяся было на переносице, пропала. — Но на самом деле он просто хотел спокойно съездить в отпуск с матерью, они никогда бы не оставили меня дома одного. Чтобы у меня вдруг не возникло каких-нибудь глупых, чисто криминальных мыслишек.
Филипп поднимает обломок скалы размером с детскую голову, который лежал с остальными у статуи Девы Марии, и взвешивает его в руке:
— И ты теперь думаешь, мол, яблоко от яблони недалеко падает. Это у тебя сейчас просто на лице написано!
— Чушь полная! — Я невольно отступаю.
— Ах, вот как? — Филипп сначала смотрит на камень, потом на меня. У него сейчас такое выражение лица, словно он хочет меня спровоцировать. — Не боишься, что я сейчас раскрою тебе череп?
— Чепуха, с чего бы это?
Он выглядит забавно, но я чувствую себя совсем беспомощной.
— Может, я ненавижу блондинок? Может быть, я псих, который… — Он опасно размахивает камнем.
— Эй, дурак, осторожно! Ну-ка брось это!
Но вместо того чтобы прекратить, Филипп замахивается на меня.
— Ты спятил?
На его лице просияла улыбка. Он нагоняет на меня страх.
В этот миг раздается оглушительный раскат грома, я вздрагиваю от ужаса, Филипп спотыкается, и камень выскальзывает из его руки. Я отпрыгиваю, но неудачно — сильно подворачиваю лодыжку и валюсь на землю.
Боль пронизывает все тело, я сжимаю зубы, чтобы не вскрикнуть.
Филипп тут же бросается на колени и уже ползает рядом со мной. Лицо у него еще бледнее, чем мое.
— Эмма! Что случилось? Черт, это я во всем виноват. Я сам не знаю, как иногда со мной такое происходит. Черт, черт, черт!
Я откидываюсь на спину, смотрю на темное небо, на моей ноге вздувается громадная шишка. Пытаюсь вдохнуть, но боль пульсирует, сковывает, и я не могу нормально дышать. Крупные дождевые капли падают мне на лицо, поднимается ветер, обвевает нас со всех сторон — и это приятно.
— Что же теперь делать? Здесь нельзя оставаться. Я понесу тебя.
Филипп на коленях пытается пропустить руку под мое колено. Тут же мою ногу разрывает адская боль, и я отталкиваю его.
Его голос подозрительно дрожит.
— Я не могу тебя бросить одну здесь, наверху, ни в коем случае. — Он смотрит на небо. — Только не во время грозы. Я перенесу тебя в часовню и побегу за помощью в замок.
Я пытаюсь улыбнуться — Филипп даже позеленел от испуга. Думаю, ему действительно жаль, что все так произошло. Его рассказ об отце удивительным образом успокоил меня.
Вдруг появляется чувство, что я понимаю Филиппа намного лучше.
— Эй, не все так плохо. Так ведь? До свадьбы заживет.
Я рискую пошевелиться и осматриваю ногу. Щиколотка распухла, но болит она пострашнее, чем выглядит.
— Погоди, я найду какую-нибудь толстую ветку, чтобы ты могла опереться. Я сейчас.
Филипп помогает мне сесть и привалиться спиной к скале. Я хочу опереться о камни, но вдруг замечаю металлическую пластинку у подножия алтаря, она слегка возвышается над землей. Сухая трава по сторонам аккуратно подстрижена, табличка начищена до блеска, и я могу легко прочитать выгравированные имена и надпись. Над именами написано:
«Душевные страдания преображаются в любовь к Господу нашему и избавителю Иисусу Христу. Здесь покоятся в мире:
Габриель Бенджамин 1.6.1965 — 7.6.1965
Урсула Мария 4.5.1964 — 4.5.1964
Михаэль Мартин 10.4.1969 — 10.04.1969»
На какой-то момент я забываю о пульсирующей боли в ноге. Это не алтарь, который поставили в память о погибшем от природной катастрофы человеке. Здесь указаны имена младенцев, которые умерли вскоре после рождения. Двое прожили всего один-единственный день. Может, они вообще родились мертвыми? Или один из этих детей — именно тот, утонувший в фонтане, о котором рассказывала Николетта?
Кровь стучит в ушах, внезапно мне снова чудится тот непонятный звук — плач, который я слышала вчера ночью в подвале замка. Словно всхлипывания и хныканье маленьких детей.
Я закрываю глаза, снова грохочет — страшный треск, который эхом отражается от ближайших скал.
Куда подевался Филипп? Что же он так долго?
Накатывает паника, но тут я замечаю, как он поднимается по каменистой тропе с большой палкой.
— Посмотри-ка! — кричу я и показываю, что хочу ему предъявить кое-что важное, он просто обязан это увидеть.
Филипп сначала отмахивается — он торопится добраться в сухое место как можно скорее, — но потом опускается рядом со мной на колени и тоже, сглатывая, рассматривает имена и даты. Я чувствую, что Филипп хочет что-то сказать, но он, помедлив, просто молча берет меня за руку.
Так мы застываем на несколько минут, хотя над нами бушует гроза. Между нами и мертвыми детьми такая тишина, словно мы одни в этом мире.
Только когда молния бьет совсем рядом, Филипп подскакивает. Его глаза блестят, кажется, он вот-вот расплачется. Парень нетерпеливо трет лицо руками. Затем помогает мне подняться на ноги и подает большую палку, чтобы я могла опираться. Я начинаю стонать от боли.
Пару секунд Филипп сомневается и раздумывает, но затем хватает меня и взваливает на плечо, словно свернутый ковер, и спешит вперед. Я шокирована и глотаю ртом воздух, от резких встрясок мне кажется, что лодыжка скоро взорвется, а лопатка Филиппа сильно врезается в мой живот. Но я не протестую, гроза постепенно перерастает в настоящую бурю. И даже я знаю, какой опасной в горах она может быть. Я и не подозревала, что у Филиппа столько сил, ведь дорога взбирается круто вверх, но он не останавливается, а несется все дальше. Мы наконец добираемся до маленькой часовни, которая притаилась под стеной утеса. Здесь и заканчивается тропа.
Вход ведет в небольшую башенку, где открывается вытянутая овальная комната с центральным коридором, выложенным красной, синей и белой плиткой, по сторонам стоят по две церковные скамеечки темного дерева. В конце коридора виднеется круглый эркер с тремя ступенями, где располагается роскошный алтарь в стиле барокко со статуей Девы Марии. Здесь пахнет пастой для натирания полов и ладаном. Невольно спрашиваю себя, кто же в этой глуши прибирается в часовне.
Раздается раскатистый удар грома, вокруг часовни слышатся завывания ветра, словно он хочет ее опрокинуть.
Филипп, тяжело дыша, опускает меня на одну из церковных скамей:
— Здесь ты будешь в безопасности.
Он быстро отворачивается, мне кажется, у него льются слезы, которые еще недавно блестели в глазах.
— Тебе нужно устроить ногу повыше, — говорит он и осматривается. Не находит ничего подходящего, снимает футболку, сворачивает ее валиком и подкладывает мне под пятку. Потом осматривается еще раз и возвращается ко мне с несколькими книгами псалмов и молитв.
Филипп выставляет книги в два ряда друг возле друга, кладет сверху футболку, а затем осторожно подхватывает мою левую ногу под колено и аккуратно водружает на эту конструкцию.
— Так нормально?
Я киваю, хотя ничего не нормально. Совершенно ничего.
— Я побегу и приведу помощь.
— Нельзя выходить в такую бурю! Пожалуйста, останься здесь!
— Ну уж нет, как я могу?! — Он яростно выпячивает вперед подбородок и сжимает кулаки, меня это снова немного пугает.
Филипп замечает это и сбавляет обороты.
— Я ведь виноват, и это самое малое, что я могу сделать! — Филипп еще раз проверяет, удобно ли мне, гладит меня по лбу, как больного ребенка. Я остаюсь в часовне одна и понимаю, что бежит он отсюда по совершенно другим причинам.
В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершенен в любви. (Первое послание Иоанна 4:18)
Агнесса лежала в тени под кустами смородины и наслаждалась кисло-сладким ароматом, исходившим от ведра с только что сорванными ягодами. Запах смешивался с духом высохших трав и почти спелых персиков, который приносило ветерком. Так пахло лето.
Ее пальцы окрасились в черно-красный цвет от ягодного сока, склеивались, волосы и одежда от пота липли к телу. Да, было жарко.
И небо отливало ярко-голубым. По-летнему голубым.
Агнесса думала, что самое лучшее в жизни то, что сейчас лето и что она сыта. По-летнему сыта. Она положила руку на живот, вдыхала и выдыхала лето полной грудью. Именно таким она себе представляла рай.
Шорох юбки по сухой траве и тихое позвякивание ключей заставили девочку вскочить, но она оказалась недостаточно проворной. Возле нее уже стояла Гертруда. Агнесса с облегчением заметила, что с ней дядя Карл. В его присутствии Гертруда никого не била по лицу. Она даже не станет тащить девочку в дом за волосы.
И все же Агнесса наверняка отправится в подвал на неделю в таком виде, как есть, — липкая и растрепанная.
«Но оно того стоило», — думала Агнесса. Даже Дева Мария не имела бы ничего против того, чтобы девочка наелась от души во время сбора ягод.
— Вы только взгляните, Карл, с чем мне постоянно приходится бороться. Вот дерьмо. Неуемная обжора, еще и платье соком измазала. Думаю, тебе уже сегодня не нужен ужин, правда?
Агнесса опустила глаза, чтобы не рассмеяться, потому что Карл успокаивающе ей подмигнул.
— Я не слышу ответа.
— Нет, мне не нужен ужин, я ведь сыта.
— Сад принадлежит всем детям. Разве это справедливо — самой запихиваться ягодами?
— Нет, сестра Гертруда.
— Каким будет твое покаяние?
Агнесса молниеносно придумала, что нужно ответить. Пока Карл здесь, она может не предлагать ничего ужасного. Или было бы хорошо выбрать жестокое наказание, чтобы Гертруда могла его смягчить и выглядеть при Карле великодушнее?
«Нет, лучше не рисковать», — подумала она.
— Видите, как вымазалось это отродье?
— В качестве покаяния я омою вам ноги. — Агнесса и сама не знала, откуда в ней взялось мужество произнести такую дерзость.
Гертруда мгновенно потеряла самообладание и ударила ее по лицу:
— Что ты себе позволяешь? Ты не понтифик и не мать Тереза!
Требуя одобрения своих действий, Гертруда повернулась к дяде Карлу, но он сморщил лоб.
— Агнесса выглядит слишком разгоряченной, на такой жаре во время сбора ягод, наверное, случился небольшой солнечный удар, и она не в себе.
Гертруда разозлилась. Это Агнесса заметила сразу. Начальнице приюта не хотелось слышать объяснений дяди Карла — ей нужно было очередное подтверждение своей неограниченной власти, она хотела выразить негодование.
— У меня кружится голова, — произнесла Агнесса и постаралась изобразить болезненный вид.
— Ее нужно как можно скорее увести в тень и дать стакан воды.
Это уже был перебор.
— Вы не врач, — возмутилась Гертруда и злобно рассмеялась. — Но в одном вы правы. Ребенка нужно срочно увести в тень. Я позабочусь о ней. Заберите ягоды, пока на них не напали другие голодные рты.
Они поспешили наверх, и Агнесса ждала, что ее снова закроют в потайной комнате, но у Гертруды были другие планы. Они прихватили с собой Урси, любимицу Гертруды, и спустились в подвал.
Когда Агнесса поняла, что это означает, ей понадобилось все мужество, чтобы не завизжать. Преисполненная удовлетворения, Гертруда заметила, что Агнесса догадалась о предстоящем наказании:
— К тому, кто ворует еду и оскорбляет Господа, должно прийти осознание.
Она отперла дверь и втолкнула Агнессу в темную комнату. Потом она рассыпала рис по полу и велела Агнессе встать на колени. Урси должна была стать ее надсмотрщицей и сидеть в углу на табуретке.
— Спустя два часа пусть приберет рисовые зерна. И горе тому, кто ей поможет. Ты знаешь, Бог, Господь наш, все видит и все слышит. Даже мысли.
Агнесса опустилась коленями на рис. Сначала было просто неприятно, потом зерна впивались все глубже и глубже в суставы, тощие и костлявые, как обглоданные куриные бедрышки. Она пыталась поговорить с Урси, но та скрестила руки на груди и делала вид, что молча пылко молится.
Агнессе стало стыдно, когда она поняла, как ненавидит эту девочку. Урсула гордилась, что Гертруда ценит ее. Агнесса пыталась простить соседку по спальне, но ничего не получалось. Она спрашивала себя, как удается Господу, одному, прощать грехи всем людям.
Рисовые зерна, как огненные шипы, вонзались в ее плоть, и вдруг дверь распахнулась. Урси сидела на табурете прямо, и, когда начала улыбаться, Агнесса поняла, что вошла не Гертруда. Карл пошептался с надсмотрщицей, после чего та, прикрыв рот и хихикая, умчалась из комнаты.
— Что вы ей сказали?
— Это не важно, она ведь ушла. — Он протянул Агнессе руку и помог подняться. Карл увидел раны на ее коленях и обнаружил рисовые зерна, закусил губу. Об этих губах мечтали все, это Агнесса знала. Марту же особенно завораживало его лицо. Конечно, он ей нравился только в качестве натуры, как фотографу-художнице.
— А что на это скажет Гертруда?
— Я кое-что придумал. Но сейчас ты должна просто убраться отсюда.
Он потащил Агнессу к двери.
— Гертруда не одобрит этого.
Карл широко улыбнулся:
— О, да, я знаю.
Он принял горделивую позу и продекламировал с поднятыми руками:
Законы Божьи нарушать
Давно уже не ново.
И за безмерные грехи
Потоп грозит нам снова.
Все опечалятся весьма —
Пришел конец надеждам!
Но выберемся из дерьма
И станем жить, как прежде.
Агнесса не могла не рассмеяться:
— Вы это сами придумали?
— Нет, это Вильгельм Буш. Но, я боюсь, о нем вы здесь никогда не слыхали, да?
Агнесса отрицательно помотала головой. Интересный ответ не пришел ей в голову, на том она оставила Карла и умчалась прочь.
Глава 18
Мне кажется, словно я сижу уже несколько часов и занимаюсь лишь тем, что считаю секунды между ударом молнии и громом, но теперь разряды сыплются один за другим, и я прерываю счет. Вдруг по дороге в замок Филиппа ударит молния?
«Верь, Эмма, нужно верить людям», — с этого начинались любимые причитания мамы. Хотя теперь я знаю, что существует много вещей, о которых она мне никогда не говорила. Мне кажется, что мама боялась этими разговорами вызвать собственных демонов.
«Тебе нужно смотреть вперед, Эмма, и верить, что в конце все будет хорошо», — именно так она сказала, когда меня бросил Ник.
«Все прошло, мое золотце», — произнесла она и сварила какао, чтобы меня утешить, словно мне все еще шесть лет и я упала с качелей. «Ник теперь принадлежит царству теней, которое лучше оставить позади. Единственное, что считается, — это любовь. Любовь к жизни, к другим, к самой себе». В благодарность за это необыкновенно слабое (как я тогда считала) утешение я вышла из себя и наорала на нее.
Интересно было бы узнать (а ее воспоминания о моем отце тоже перешли в царство теней), как бы она смотрела вперед, на будущее, если бы умерла я.
При воспоминании о своих гневных фразах у меня даже желудок свело от спазма. Как бы я хотела сейчас оказаться с ней снова на нашей крошечной кухне, она бы снова сварила мне какао, чтобы я успокоилась. Все бы отдала, лишь бы вернуть наш последний разговор. Поговорила бы с ней, смогла бы попросить прощения. Я так надеюсь, что она еще жива, что есть какое-то объяснение ее исчезновению. Что, если та пожилая женщина с кольцом на пальце тоже была из царства теней, из воспоминаний, которые мама хотела навсегда забыть? Или эти воспоминания просто неожиданно всплыли и угрожали разрушить нашу жизнь? Однако намного естественнее было бы объяснение, что та пожилая женщина — родственница девушки, которая прыгнула с крыши из-за Себастиана. Это было бы похоже на маму. Именно так бы она и поступила. Она бы утешала эту старушку!
Время между вспышками молний и громом заметно увеличивается, но ветер все еще завывает вокруг часовни. Пульсирование и покалывание в ноге не проходят, но теперь они кажутся эхом болезненных воспоминаний о маме.
Я оглядываюсь. Эта небольшая часовенка понравилась бы ей. В голове у меня рождается мысль: если вдруг она на самом деле жила когда-то в этом замке, то наверняка здесь бывала. Я напрасно пытаюсь припомнить, не рассказывала ли она что-либо. Может, о лечении или о долгих летних каникулах? Но в ее время разве было что-нибудь подобное? Как я ни ломала голову, в голову приходили лишь истории, которые рассказывала моя прабабушка. Я просто думала, что мама провела все свое детство и юность вместе с ней.
Я ощупываю старые доски церковных скамеек. Может, мамины руки касались именно этой? Внезапно мне чудится, что она на самом деле здесь была, словно находилась совсем рядом со мной, и я могла бы даже ее увидеть, если бы только лучше напрягла зрение.
«Эмма, тебе не стоит бояться, — шепчет она, — Эмма, я всегда любила тебя, несмотря на то что мы часто ссорились». Я даже чувствую, как она улыбается. «Эмма, я горжусь тобой». В одну секунду я снова возвращаюсь к действительности. Наверное, я заснула на несколько минут. Но я так точно помню, что сказала мне мама, словно она действительно была здесь.
Озираюсь, чтобы убедиться: я одна, да иначе и быть не может. Вдыхаю непривычный запах и теперь, когда гроза ушла далеко, в полной мере осознаю, как тихо в этом месте.
Почему часовню построили именно здесь, а не возле замка? Она такая уединенная, случайные люди на службу не зайдут. И все же Себастиан нашел здесь церковную книгу. Неудивительно, ведь алтарь выглядит так, словно им до сих пор пользуются. Его украшает позолоченное солнце, а по сторонам — две колонны. Между ними безвкусная картинка с изображением Девы Марии с младенцем. Базы колонн выполнены из зеленого и красного мрамора. И, кстати, лавки в часовне выглядят не такими древними и обветшалыми, как мебель в замке.
Задаю себе вопрос: где же может храниться церковная книга? Злюсь на себя за то, что не обладаю энциклопедическими знаниями о религии, как Том, и не догадалась расспросить его, прежде чем отправиться к часовне.
Он наверняка знает, где лежит книга. Стоило бы его спросить. Будет тяжело шарить здесь с поврежденной лодыжкой, но именно этим и придется заняться, если я хочу продвинуться дальше в своих поисках. Приподнимаюсь, подтаскиваю больную ногу, и тут же меня пронизывает такая боль, что я сильным толчком опрокидываю стопку книг, которую выстроил для меня Филипп. С гулким грохотом книги с псалмами валятся на пол. Поднимается небольшое облачко пыли. Вот дерьмо! Я ложусь навзничь на лавку и пытаюсь дотянуться до книг, чтобы снова сложить их стопкой. У одних страницы замялись, из других выпали картинки с изображениями святых. Поднимаю последнюю, и вдруг от нее отваливается переплет. Книга такая старая, что клей совершенно ничего не держит. Я стараюсь вновь осторожно сложить все части, как вдруг мой взгляд падает на первую страницу. Я остолбенело смотрю на нее. Там стоит нечто вроде штемпеля, экслибриса, в котором можно вписать свое имя.
«Анна-Мария Ламберт», — читаю я. И, не осознав до конца, перечитываю снова.
Анна-Мария Ламберт.
Моя прабабушка.
После первого приступа удивления такой поворот событий кажется мне вполне вероятным. Возможно, мама получила эту книжицу от бабушки и взяла ее с собой в замок. Почему же мама здесь жила?
Я перелистываю страницы. Может, между ними что-то спрятано, письмо или записка? Я ничего не нахожу, но обнаруживаю, что кто-то исписал небольшое свободное место на полях.
Буквы такие мелкие, что я не могу их прочесть в тусклом свете часовни, но то тут, то там я натыкаюсь на знакомое слово. Очевидно, это не почерк прабабушки. Если сравнить, как написано имя в экслибрисе и эти буквы, заметно существенное различие. Она писала шрифтом Зюттерлинга[9]. Неужели записи сделала мама?
Вдруг до моих ушей доносится какой-то шум, он пугает меня, потому что я не могу его распознать. Он исходит не от двери, а от алтаря. Сначала скрежет, а потом осторожные шаги. Шаги? Кто-то ступает нерешительно и скрытно, от этого у меня мурашки по спине. В кожу и мозг въелось воспоминание о камере. Неужели это было всего лишь сегодня утром? Я здесь наверху совершенно одна. Единственное, что сейчас могу сделать, — просто спрятаться между лавками.
Я лихорадочно пытаюсь подняться, боль от лодыжки ползет вверх по ноге. Хватаю ртом воздух.
Никаких шансов!
Я инстинктивно засовываю книгу сзади за пояс штанов. Потом смотрю на алтарь, из-за которого слышны приближающиеся шаги.
Шаг за шагом, шаг за шагом.
Убежать нет никакой возможности.
Хочется просто закрыть глаза ладонями, как маленькому ребенку. Я сползаю ниже по лавке и стараюсь стать невидимой.
Шаги стихают. Я практически не дышу.
— Эмма!
Я открываю глаза и шумно выдыхаю.
Перед алтарем Себастиан, он удивлен не меньше моего. Или нет, это неверно описывает ситуацию. Этот прекрасный ангел не удивлен, он выглядит так, словно упал прямиком из рая в ад. Словно он столкнулся с привидением. Вспоминаю, что я про него прочитала, и ужасно хочу убежать. Может, он всегда так выглядит, когда намеревается овладеть женщиной? Что он здесь забыл? Но потом я припоминаю, что говорила мне Николетта, — Себастиан вроде бы нашел в этой часовне записи о своих родственниках.
— Привет! — Он несколько раз сухо кашляет, но больше ничего не произносит. Медленно подходит ближе.
Мой взгляд падает на его руки, ищу глазами татуировку между большим и указательным пальцами, но не могу разглядеть. Но я и так знаю, что он довел девушку до самоубийства!
— Что ты здесь делаешь? — говорю я и напрасно ломаю голову, чего бы такого бесхитростного спросить. — Николетта рассказала мне о церковной книге. Хотел еще раз взглянуть на нее?
— Ее больше здесь нет. — Себастиан совершенно растерян, он стоит на месте и, кажется, даже не знает, что ответить. Он подыскивает слова, несколько раз мотает головой. Мне кажется, что он в состоянии шока. Может, он совершает какие-то ужасные вещи, пребывая в некоем трансе?
— Значит, остальные не посылали тебя сюда, так, что ли? — продолжаю невинно щебетать я. — Ты даже не знаешь, что произошло?
Он подходит ближе, нервно оглядываясь. Теперь он стоит почти напротив меня, но избегает смотреть в глаза. Может, он украл что-нибудь из часовни? Что-нибудь из алтаря или саму церковную книгу?
— Застукала меня. — Он поворачивает ладони кверху и старается сохранить самообладание. — Ну, так что же случилось?
— Я поранилась, — объясняю ему. — Когда мы с Филиппом бежали сюда наверх. — Я закусываю губу. Как же глупо сейчас рассказать именно Себастиану, что я не могу передвигаться.
Он склоняется над моей ногой, я внутренне готовлюсь отбиваться, подумываю, что бы мне использовать в качестве оружия, если он окажется слишком назойлив.
— Ого! — протягивает он и качает головой. Себастиан присаживается рядом на лавку, та скрипит под его весом. — Выглядит совсем нехорошо! — Он осторожно дотрагивается до опухшей лодыжки, на ней тем временем проявилась фиолетовая гематома. Вот теперь я могу разглядеть на руке татуировку в виде трех точек, о которой говорил Филипп.
— О, Господи! — шепчет он.
Думаю, с такими эмоциями он погорячился. Моя лодыжка выглядит не так катастрофично.
— Что за безумие! — Он трет лоб, словно у него болит голова или в душе происходит отчаянная борьба.
Я парализована страхом, затаила дыхание и настроилась на самый худший вариант развития событий. В этот миг распахивается дверь часовни.
— Эмма? С тобой все в порядке? — кричит Филипп с порога, и я ужасно рада слышать его голос. Его шлепающие шаги быстро приближаются. И чем ближе они подступают, тем сильнее меняется в лице Себастиан. Я замечаю, как он старается соорудить дружелюбное и удивленное выражение лица, но в глазах мерцает беспокойство, которое я не могу объяснить даже содержанием газетной вырезки.
Наконец передо мной вырастают София, Том и Филипп. Они выглядят так, словно только что вылезли из озера. Вода ручьями течет с их волос, одежда прилипла к телу, а под ногами образовались лужицы.
— Себастиан! Где ж ты был? — спрашивает Филипп. — Мы внизу весь замок обшарили, разыскивая тебя, Николетту и Беккера. Но там нет ни одной живой души. — Он упирает кулаки в бока и задиристо посматривает на Себастиана.
У того на лице появляется обезоруживающая улыбка, и если бы я не видела его всего несколько минут назад, то наверняка купилась бы.
— Так чего ж вы хотите, я же здесь. Беккер с Николеттой, вероятно, уехали после нашего собрания в соседнюю долину, во второй отборочный лагерь у Лохбилерского приюта. Кураторы лагеря должны регулярно сменяться.
— Эмма, как у тебя дела? — интересуется Филипп.
София протискивается ко мне на лавку и достает из рюкзака аптечку первой помощи.
— Я окончила курсы медицинской подготовки. Давайте, я попробую.
— Повезло, что у тебя обувь не на пуговицах, — шепчет мне Филипп, я как раз хочу ему подмигнуть, как вдруг меня осеняет мысль: откуда он это знает? До этого в саду у меня сложилось впечатление, что София не больно-то откровенничает о своих страхах.
— Думаю, выглядит намного хуже, чем есть на самом деле. — София осматривает лодыжку. — Как это произошло? — спрашивает она и испытывающе смотрит в глаза.
— Споткнулась на ровном месте, — фыркаю я, но замечаю, что она сомневается в правдивости моего ответа.
— Я, конечно, не врач. Либо ты растянула связки, либо порвала. Раньше ногу бы загипсовали, но сейчас часто просто ждут, пока все срастется.
— Тогда тебя точно отправят домой, — голос Тома звучит немного злорадно.
Об этом я еще совершенно не думала и чувствую, как все похолодело внутри. В ту же секунду я решаю, что останусь здесь во что бы то ни стало. Я не уеду после всего, что уже выяснила.
— Себастиан, это правда? — спрашиваю я.
— Возможно. — Себастиан внимательно смотрит на Тома. — Но не из-за лодыжки. В нашем лагере мы не проводим игры на выживание сильнейших. — Он слегка вздрагивает, словно эта мысль показалась ему невыносимой.
Но рубить дрова по жаре он находит вполне приемлемым занятием.
— И как же я теперь попаду в замок?
Том и Филипп отстегивают от рюкзаков два черенка от метел.
София ловит взгляд Себастиана и улыбается.
— Не думаю, что Эмма сейчас в состоянии летать на метлах.
Себастиан лишь медленно поднимает бровь. Том и Филипп достают из своих насквозь промокших рюкзаков веревки, простыню и одеяло и мастерят носилки. При этом действуют они так слаженно и умело, словно прошли школу выживания в джунглях.
Когда меня наконец поднимают на носилки Себастиан и Филипп, из-под ремня выпадает и громко плюхается на пол молитвенник. После нескольких секунд абсолютного молчания София наклоняется, поднимает книгу и передает мне.
— Ты всегда его с собой таскаешь? — Они с Томом недоверчиво смотрят на меня. Я вспоминаю, как утром рассказывала всем, что посещала этику вместо уроков религии.
— Книга принадлежит моей прабабушке, — поспешно отвечаю я. — После того как я услышала о часовне, хотела зажечь здесь свечку и прочитать для нее несколько слов из этой книги. Ведь никого не осталось, кто бы это мог сделать. У меня больше нет родственников.
Когда врешь, всегда получается лучше, чем когда говоришь правду. Хотя соврала я лишь наполовину.
София кладет книгу рядом со мной на носилки, и голос ее теперь звучит чуть мягче:
— Мне очень жаль, что ты совсем одна. Но тебе не стоит завидовать, что у меня есть бабушка с дедушкой. Мой отец был женат трижды, и в каждом браке у него родилось по дочке. Он так старается любить всех нас одинаково, что никогда не вмешивается в ссоры, никогда не принимает чью-либо сторону и не высказывает своего мнения. Это очень тяжело, особенно когда я и сестры собираемся все у него. Я часто мечтаю, чтобы он хоть раз грохнул кулаком по столу и раскричался, но именно этого желания больше всего и стыжусь снова и снова.
Себастиан и Филипп поднимают меня и стартуют. Удивительно, на таких импровизированных носилках очень удобно лежать.
— Я был бы счастлив, если бы у меня было столько братьев. Это бы отвлекало, — говорит Том.
— Что ты имеешь в виду? — спрашиваю я.
— Я у отца единственный сын. Хотя у него и есть две дочки от первого брака, я иногда чувствую себя насекомым, которое разглядывают под микроскопом. Любой чих, который я делаю или не делаю, всеми обсуждается. Даже тошнит от этого!
Я слышу, как они с Софией болтают о своих семьях, и думаю: хорошо было бы иметь в жизни кого-то, кто бы для меня что-то значил и для кого я была бы важна.
У входа в часовню процессия останавливается, и мне приходится подняться и выяснить, что случилось.
Буря прошла, и воздух остыл. После дождя мокро, земля усыпана обломанными ветром сучьями и цветами, облака ушли. Солнце висит низко, а горные вершины вокруг нас отражают звуки гулким эхом, словно органные трубы. Невольно мы все начинаем дышать глубоко и с удивлением любоваться красочным спектаклем.
— Народ, нужно двигаться, — наконец говорит Себастиан. — Нам необходимо все-таки добраться до замка.
Филипп, который шагает во главе колонны, хочет удостовериться, что я лежу удобно:
— Тебе там нормально? — Вода капает с его волос на мою футболку, и внезапно по всему телу начинают бегать мурашки.
Совсем недавно дождь лил, как из ведра. Мальчики и София до сих пор мокрые насквозь. Только Себастиан сухой.
Я кошусь на него, он несет заднюю часть носилок: точно, одежда на нем совершенно сухая. Даже под зонтом в такую грозу не укрыться — обязательно вымокнешь. Неужели он все это время прятался за алтарем и наблюдал за мной? Иначе как бы он попал в часовню?
Они молча несут меня в замок. На месте мы оказываемся почти на закате, последние медные лучи которого превращают охотничий замок в пылающий костер.
Глава 19
Когда мы заходим через вестибюль, нас встречает гробовая тишина. Никто не выходит встречать, в здании все словно вымерли. София зовет Беккера и Николетту, но в ответ тишина.
— Я пойду и поищу их, — предлагает она, глядя на мою ногу, и Себастиан одобрительно кивает.
Она тут же бежит вверх по лестнице, а Том с Филиппом помогают мне слезть с носилок и сесть на стул за громадный старый стол в столовой. Где же я сегодня буду спать? С этой ногой я просто не смогу взобраться на третий этаж. А оттуда в подвал к туалету спуститься и подавно не смогу.
Я выкладываю молитвенник на стол, ужасно устала от этого небольшого испытания. Я разглядываю слепых ангелов на облупленных стенах. Сейчас они снова говорят со мной, словно хотят предостеречь. Они будто шепчут мне: «Вот смотри, что случается, если оставаться в этом месте слишком долго: люди здесь могут раскрошиться в порошок, разрушиться, умереть».
Я уверена, что упускаю нечто важное, но что?
София прибегает, совершенно запыхавшись:
— Ни следа обоих.
Все еще никого нет?
Себастиан лишь пожимает плечами, он только что хотел выйти из зала.
— Может, после визита в Лохбилерский лагерь они спустились в деревню прикупить чего-нибудь.
Лицо Филиппа мрачнеет на глазах.
— Что ты врешь? — ворчит он Себастиану. А мне после такой психологической игры опять все кажется здесь подозрительным. — Но знаешь что? На этот раз я не дам себя обжулить.
Себастиан и бровью не ведет. Кажется, после того эпизода в часовне он снова обрел самообладание. Но мне очень хотелось бы выяснить, что же он там все-таки делал.
— Почему ты думаешь, что все здесь просто игра?
— Беккер хотел с нами встретиться перед ужином, — ответил Филипп. — Он сам так говорил. И после этого он отправляется за покупками? Может, у него хобби такое, взбираться на гору ночью с покупками за спиной? Ага, сейчас!
Себастиан улыбается.
— Ну, если только в этом дело… — отвечает он. — Есть небольшая частная подвесная дорога на северном склоне горы. У доктора Беккера туда есть доступ. Возможно, из-за грозы там повреждение.
Том, Филипп, София и я долго переглядываемся. По крайней мере, это объясняет, как Николетта вчера вечером оказалась в замке раньше меня.
Себастиан отправляется куда-то в сторону кухни, София и Том следуют за ним.
Филипп скрещивает руки на груди.
— Я остаюсь при своем мнении: с нами что-то затевают, — говорит он и подходит ко мне ближе, опускается рядом на колени. — Как твоя нога?
Он так заботливо спрашивает, что я растрогана.
— Уже лучше, — отвечаю я и чувствую, насколько вымоталась, а мне нужно быть бодрой, оставаться начеку. Филипп прав, исчезновение Николетты и Беккера кажется странным, и я опасаюсь, что это не игра. Филипп все еще стоит передо мной на коленях, но теперь смотрит не на меня, а наверх. Что-то его гнетет.
— Что случилось? — спрашиваю я его.
— Мне очень жаль, что так вышло с твоей лодыжкой.
— Это был несчастный случай.
— Меня самого пугает, когда я так выхожу из себя от злости. — Теперь он смотрит мне в глаза, вид у него очень печальный. — Знаешь, когда я увидел те детские могилы, это было словно предостережение. Хотел бы я иметь сестру.
Что за странная формулировка? Но я молчу, не перебиваю.
— Моя мать все время нарывается на таких, как мой отец. Они мгновенно могут взбеситься и обычно любят подраться. Им безразлично, в каком положении женщина. — Он вздыхает, кажется, что он уже сожалеет, что открыл рот, но я этому только рада.
— Мне очень жаль, что у вас так все вышло. Но я не думаю, что ты должен так переживать из-за этого. Ты не такой, как отец.
В этот момент Том и София вносят большое блюдо с дымящейся лазаньей. Филипп прикладывает палец к губам, я понимаю, что он не хочет говорить на эту тему при остальных.
Том падает на стул возле меня.
— Для кого делать покупки? — Он фыркает. — Ты прав, Филипп. Я заглянул в холодильник. Чего там только нет! Около сотни колбасок и еще столько же яиц, гора сливочного масла, йогуртов и молока — хоть залейся. Клецки, и вареники, и еще черт знает что. Словно мы здесь должны пережить долгую осаду.
Филипп как раз собирается что-то ответить, но тут появляется Себастиан с кувшином воды. Я спрашиваю его, зачем он сказал, что Беккер и Николетта отправились за покупками, если холодильник забит всякой всячиной.
Себастиан лишь пожимает плечами:
— Честно сказать, я и сам не знаю, куда эта парочка запропастилась. Беккер мог бы позаботиться о твоей лодыжке, он ведь врач. Впрочем, я не понимаю, почему бы вам просто не насладиться свободным вечером. Ведь завтра вас ждут новые испытания.
Это звучит просто смешно и даже не похоже на отговорку. Я переглядываюсь с остальными, но все лишь пожимают плечами. Мы так вымотались из-за дневных переживаний, что сейчас просто хотим поужинать — наброситься на лазанью. Едим молча. После того как мы наконец наелись, София предпринимает последнюю попытку.
— Разве ты не можешь позвонить Беккеру? — спрашивает она Себастиана.
— Ну, конечно, — отвечает тот очень резко. — Пусть эти двое будут моей заботой.
Теперь я уверена. Мы все незаметно киваем друг другу. Здесь точно разыгрывается один из психологических спектаклей, которые должны сплотить нашу группу. Но, кажется, Себастиан и сам не до конца понимает, в чем фишка. Вдруг это и для него тест? Я бы все же не доверяла Беккеру так безоглядно.
Когда мы заканчиваем ужинать, Себастиан предлагает остальным перенести мою кровать в бальный зал, чтобы было не так далеко спускаться к душевым.
Я хромаю к двери, опираясь на его руку, и понимаю, что совсем выбилась из сил. В конце концов, Себастиан подхватывает меня на руки. Я так удивлена, что даже не успеваю возразить. Он несет меня наверх и очень осторожно усаживает рядом с ужасными картинами, написанными маслом. Он такой дружелюбный и такой заботливый, что я совершенно сбита с толку. Как такое поведение может сочетаться с обвинением в изнасиловании? Это же просто невозможно! А что, если статья поддельная?
Постель уже подготовлена, мальчики, наверное, снова спустились вниз, к Софии.
Я сижу с Себастианом, мне бы хотелось его о многом расспросить. Но если статью исключить, то остаются ситуации с церковной книгой и камерой. Сначала о камере. Сегодня во второй половине дня в часовне я была очень взволнована и совершенно забыла об этом. Мне интересно, почему он запер меня в камере и правда ли, что я прочитала о нем в статье. Хоть мне и не верится, что Беккер мог оставить нас одних с мерзким преступником в Богом забытом замке… Или все же нет? Как бы там ни было, а ответственность он за нас несет. Доктор Грюнбайн и родители остальных подростков поднимут шумиху, если что-нибудь случится. Но как спросить Себастиана об этом, не обидев его? Я рассматриваю его красивое лицо, а он в это время приносит мне фонарик и книгу для духовного чтения. Я прихожу к выводу, что безболезненно задать подобные вопросы не получится. Я должна говорить в лоб. Но сначала я задаю вопрос о камере.
Он улыбается и закладывает прядь волос мне за ухо.
— А как ты думаешь? — спрашивает он.
Я огорчена, издаю громкий и нервный стон.
— Николетта хотела, чтобы я тебе преподал урок, потому что ты отправилась в запрещенное северное крыло.
Не верю ни единому слову. Почему же никто об этом не сказал, когда мы завтракали после той кровавой купели? Беккер и Николетта вели себя так, словно решение было исключительно на совести Себастиана. После этой первой лжи я многого не жду от разговора, но все равно спрашиваю: сидел ли он когда-нибудь в тюрьме и почему. С нетерпением жду следующей лжи. Очевидно, он совершенно не ожидал такого вопроса, он растерян и садится рядом со мной на постель, берет меня за руку.
— Я не представляю, откуда ты об этом узнала. Но как ты думаешь, почему я попал в тюрьму?
Я чувствую, как мои щеки наливаются краской. Он хочет знать, что мне известно.
— Ездил без водительских прав? — пытаюсь отшутиться я.
— Почти угадала. — Он улыбается и сейчас, как никогда, похож на ангела с темными локонами. Мне кажется неуместным продолжать расспросы или относиться к нему с недоверием, даже несмотря на его вранье.
«Но подумай о матери, вспомни, что ты здесь собиралась выяснить», — увещеваю я сама себя и продолжаю:
— Неуплата налогов?
Он качает головой:
— Ты меня разочаровываешь! Послушай-ка, Эмма… Совершенно все равно, что произошло, я был виновен. Сейчас хочу оставить прошлое позади, смотреть вперед.
Он поднимается и оставляет меня один на один с мыслью, что почти в точности процитировал слова моей мамы. Неужели это совпадение или намек? Не знаю, но я намереваюсь еще внимательнее слушать, когда он говорит.
После того как он выходит из комнаты, я могу наконец посвятить себя чтению книги, которая принадлежала моей прабабушке. Я радуюсь, что, отправившись на поиски церковной книги, обнаружила нечто очень личное — предмет, который принадлежал члену моей семьи. И все же мне стоит обратить внимание на церковную книгу. Я решаю, что, как только спадет отек на ноге, я снова отправлюсь в часовню. Но до этого я непременно расспрошу Тома, где поискать книгу. Может, с ее помощью я продвинусь дальше. Раскрываю книгу для духовного чтения. Нужен фонарик, хотя на улице еще не совсем темно.
Я ищу страницы, исписанные от руки. Буквы такие крошечные, что их едва можно прочитать. Но спустя некоторое время глаза привыкают, и я пытаюсь разобрать слова.
Это не дневник и не связный текст записок. Это отдельные мысли или части текста. Чем больше я в него вникаю, тем хуже у меня на душе.
Почерк очень похож на мамин, его нельзя спутать ни с каким другим. Да, он выглядит немного детским, но косые штрихи в буквах, заглавные буквы с характерными завитками — это точно писала мама. Только содержание текста совершенно с ней не вяжется. Текст напоминает записки какой-то сумасшедшей святой, но не моей матери.
Речь идет о Деве Марии, она просит ее помощи и защиты, вымаливает у нее любовь. Чудесную любовь, о которой никому нельзя рассказывать, потому что она запретна.
На последней странице автор текста — неужели это действительно моя мать? — обращается к этой таинственной любви, и у меня подступает комок к горлу, когда я читаю эти строки:
«Любимый, я не знаю, как любят другие. Не знаю, правильно ли это, так любить, как я люблю тебя. Я живу тем, что дышу тобой, пью тебя, вижу тебя. Ты нравишься мне с каждой ночью все больше, но когда твои глаза исчезают поутру, я чувствую себя несчастной и глупой, бледной тенью. Воспоминания о запахе твоей кожи и обилии твоих темных поцелуев не могут меня спасти, мой любимый. Это можешь сделать только ты. Мой рыцарь, не заставляй меня ждать слишком долго».
Книга выскальзывает из рук, на глаза наворачиваются слезы, слезы стыда и слезы горести. Мне кажется, что я тайно подслушиваю маму. Теперь я уверена, что эти строки написала именно она. Моего отца она тоже всегда называла рыцарем.
Вопрос только в том, связана ли его смерть с этим местом. Запретная любовь — мотив для убийства?
Ах, что за ерунда! Это ведь так давно случилось! И в шестидесятые уже не было никакой запретной любви. Я это время связываю со свободными отношениями и коммунами. В этот миг я представляю маму в длинном платье, с распущенными волосами и не могу не улыбнуться, потому что знаю: она бы посмеялась надо мной от души, будь она сейчас рядом. Но ее здесь нет. И я не представляю, где она, увижу ли когда-нибудь ее снова, даже не знаю, смогу ли похоронить ее тело.
Сейчас мне нужно поплакать, но неожиданно я слышу чьи-то быстрые решительные шаги на лестнице. Торопливо вытираю лицо. Это очень похоже на спортивную походку Николетты. И хотя мне все еще кажется странным, что она вывернула на меня краску, а ее наигранная постоянная улыбка нервирует, я все равно рада, что она наконец-то объявилась. Мне не по себе от мысли, что мы одни с Себастианом.
Интересно, пришел ли вместе с ней доктор Беккер и осмотрит ли мою лодыжку. Спустя некоторое время в дверь бального зала стучат, но вместо Николетты или Беккера входит Себастиан. В руках у него несколько конвертов с официальным логотипом «Transnational Youth Foundation».
— Это задания на завтра, — объясняет он. — Я положу твое здесь, возле кровати, хорошо?
Он очень быстро удаляется, и я решаюсь на вопрос, что произошло с ним в часовне, только когда он останавливается у двери.
Себастиан оборачивается, возвращается ко мне, опускается на колени возле кровати. Он берет меня за руку и начинает говорить так проникновенно, как только способен:
— Поверь, тебе лучше этого совсем не знать. От этого у тебя могут случиться кошмары.
Поднимаясь, он улыбается мне, но в полутьме комнаты его ангельская улыбка кажется лишь венецианской маской, под которой скрывается сама смерть.
Глава 20
За три недели до событий
После того как я получила пакет с фотоальбомом, а потом обнаружила лекарства, я начала задумываться, что вообще знаю о своей матери.
Я сердилась, я казалась себе идиоткой, которая видела лишь фасад маминой жизни, не замечая, какая бездна за ним скрывается. Лекарства, о которых она мне никогда не рассказывала… Фотография времен ее детства, о которой я ничего не знала… Пропавшая из платяного шкафа кукла…
Я решила тщательно просмотреть все мамины вещи и целую неделю занималась тем, что перерывала ее платяной шкаф, одежду, книги, даже ее старый чемодан. Обшарила подвал в поисках зацепок. Чего же она так боялась?
Мне пришлось крепко держать себя в руках, чтобы не рыдать всякий раз, потому что предметы все еще пахли ею. Когда я брала в руки ее вещь, мне казалось, что мама прикасается ко мне, словно говорит: «Эмма, сокровище мое, давай-ка выпьем чаю и поговорим об этом, и все наладится».
Моя добыча оказалась ничтожно малой. В маминых карманах я обнаружила обычный хлам: крем для рук, платки, карандаши, старый смятый календарик пятилетней давности, очки для чтения и одну кожаную перчатку. К тому же еще остались маленький пузырек ее духов с запахом зеленого мандарина и ужасный порванный браслет, который я ей когда-то смастерила из серо-голубого бисера.
Но однажды, после очередного обыска ее карманов, мне стало ясно: я что-то упустила. А где, собственно, ее ключ от дома? Она хранила ключи от машины отдельно, но когда отправлялась на работу, обычно брала оба. Тогда ключ должен бы лежать в ее маленьком рюкзаке, который полиция обнаружила в машине. Но там был лишь ее кошелек со всеми банковскими карточками и удостоверениями, а автомобильный ключ торчал в замке зажигания. Не было и следа ключа от квартиры. Я не могла себе представить, что только этот ключ выпал из рюкзака и утонул в озере. А если бы она забыла ключ в больнице, то он оказался бы в пакете с вещами из шкафчика. Я позвонила вечно жующей жвачку женщине-полицейскому и спросила о ключе. Нет, до сегодняшнего дня не находили никаких ключей. Она ответила, что в подобных случаях стоит сменить замок. Для безопасности.
После этого разговора я на подкашивающихся ногах отправилась к компьютеру и еще раз посмотрела на фотографию с куклой. Кукла не потерялась, ее украли. После этого я поменяла замки и c большим рвением сосредоточилась на поиске зацепок.
Я перетрясла каждую книгу на тот случай, если там спрятано какое-то письмо. Но вываливались лишь закладки: комочки скатанной шерсти, макаронина, соломинка, были тут и мои подарки, которые я покупала маме на рождественских ярмарках и благотворительных базарах. Единственной загадкой оказался рекламный проспект отеля на Савиньи-плац в Берлине. Но когда я туда позвонила, оказалось, что отель закрылся вскоре после моего рождения.
Все мои поиски не привели ни к чему. Ничего о маме, ничего о ее прошлом, и ничего о моем отце. И как ни утешала я себя поначалу, повторяя, что медальон остался при маме, я все же мучилась, что не сохранилось ни одной фотографии отца.
Задолго до маминой смерти я ввела в интернет-поисковик имя «Шарль-Филипп Шевалье» и ничегошеньки не нашла, кроме информации о двадцатилетнем темнокожем игроке в регби, который никак не мог быть моим отцом. Теперь же я стала надоедать сотрудникам из организации «Врачи без границ». Мне хотелось заполучить списки докторов, я даже стала ее членом, потому что думала: это поможет продвинуться, но никакой информации об отце так и не получила.
В конце концов ничего не осталось.
Все было испробовано, каждая нить распутана.
Кроме одной.
Она вела в отборочный лагерь.
Глава 21
Наверное, я неосторожно пошевелилась, потому что меня внезапно будит пронизывающая боль в лодыжке. И когда я хочу включить фонарик, чтобы проверить повязку, замечаю, что в комнате не одна. Где-то недалеко слышу взволнованное дыхание, потом семенящие шаркающие шажки, приближающиеся к моей кровати. Меня распирает от любопытства: стоит ли мне включить фонарик, чтобы ослепить незваного гостя, или лучше подождать. Инстинктивно я бы выбрала первый вариант. Если я выберу ожидание, придется подавить страх, лежать тихо и притворяться, что сплю. И, возможно, как раз это приоткроет мне завесу тайны. Пробую…
Теперь этот человек включает крошечный карманный фонарик, склоняется над постелью и берет конверт, который Себастиан принес вечером, кладет его в книгу для духовного чтения моей бабушки и крепко зажимает ее под мышкой.
Постанывая, я делаю вид, что просыпаюсь, незваный гость на мгновение замирает. Спустя мгновение луч фонарика выхватывает круглое девичье лицо.
— София, что ты здесь делаешь?
Она даже не вздрагивает, когда я застаю ее врасплох, лишь озабоченно улыбается мне, словно в порядке вещей шататься здесь среди ночи.
— Я просто хотела удостовериться, что у тебя все хорошо.
Вместо ответа я демонстративно свечу фонариком на книгу. После этого она кладет ее на место и садится на край кровати.
— Я наткнулась на нее и хотела убрать с дороги, — уверяет она меня. — Как ты себя чувствуешь?
Невольно я реагирую на ее полный заботы голос и начинаю рассказывать, как чертовски болит лодыжка, но вдруг София делает неосторожное движение — и на шее что-то блеснуло. Это четки, которые все еще на ней.
Я вспоминаю тактику, которую применила на Себастиане: прямой вопрос — прямой ответ.
— Откуда у тебя это ожерелье? — спрашиваю без лишних слов.
София так широко улыбается, что ее довольно мелкие зубки поблескивают в луче фонарика:
— Себастиан подарил.
Я ожидала услышать все, что угодно, только не это. Прямо в первый же день, как только он с ней познакомился. Может, он так соблазняет женщин? Зачем Себастиан подарил ей украшение?
— Я поспорила на это ожерелье, — объясняет София, словно прочитав мои мысли. — Побились об заклад, что я проверну представление в подвале.
— Ты не находишь, что это несколько… странно? — спрашиваю я.
Глаза Софии превращаются в щелочки:
— Ты просто завидуешь.
Если бы все было так просто. Себастиан. Снова этот Себастиан. Он запер меня в камере, он врет, он преступник, сидел в тюрьме, и именно у него оказались молельные четки, которые изображены на фотографии. Потом еще непонятное поведение в часовне. И еще эти таинственные намеки!
— Хочешь пить? — Голос Софии звучит примирительно, словно ей жаль, что я позавидовала ее ожерелью. Теперь она ведет себя, как медсестра. — Тебе не нужна обезболивающая таблетка?
Я киваю, она исчезает и возвращается с пакетом льда, сладкой газировкой и таблетками.
— Это все лежало на кухне, подготовлено специально для тебя. — Она стоит возле кровати и протягивает мне ледяной компресс и таблетки. — С ибупрофеном тебе будет наверняка лучше спаться. — Она подает газировку. — Одной таблетки достаточно.
Она права, нужно поспать, чтобы завтра наконец чего-то добиться. Я выдавливаю одну таблетку из пластинки и глотаю.
— Как сложилось, что ты пошла на курсы медицинской помощи? — интересуюсь я. — Ты хочешь стать медсестрой?
София вздыхает и садится рядом на кровать.
— Нет. — Она на миг умолкает. — Моя мать… да, ты, наверное, знаешь, у нее был рассеянный склероз.
Я сглатываю. От мамы я знаю, что значит РС, — это все еще неизлечимая болезнь, и заканчивается она часто ужасной, жестокой смертью.
— Она еще не прикована к креслу-коляске, — продолжает София. — Но как-то после особо сильного приступа я решила пойти на эти курсы. Мне казалось… возможно, я смогу лучше за ней ухаживать.
— Тебе разве никто не помогает? — посочувствовала я. — Отец? Или сестры?
— Последний год выдался сложным для всех нас. Отец старается, как может, но на самом деле совершенно не умеет обращаться с больными людьми. Мне кажется, его пугают болезнь и смерть. Он не может себе в этом признаться, поэтому и старается вдвое больше, и каждый это видит. Все считают его мучеником. — Она презрительно кривит губы. — А больна-то ведь мама, и нужно о ней заботиться, а не о нем! А мои единокровные сестры намного старше меня, у них свои семьи. — Она поднимает голову, я вижу, как ее глаза наливаются слезами. — Эмма, мне очень жаль, что я так язвительно и резко разговаривала с тобой и доктором Беккером в саду. Должно быть, ты ужасно переживаешь, что твоя мать умерла. Когда моя мать умрет… я, по крайней мере, буду к этому готова. И я смогу с ней проститься, а ты нет. Это очень печально. — Она резко встает, словно чувствуя неловкость. — Доброй ночи, Эмма! — Она почти бегом покидает бальный зал, и хорошо, что она уходит: в моем горле стоит большой комок.
Она права. Наверное, в смерти мамы самое плохое — что мы перед этим разругались и не смогли проститься.
Никогда бы не подумала, что София так заботится о своей матери. Мне она казалась такой никудышной и способной лишь на флирт с типами вроде Себастиана. Как же я ошибалась! И я немного завидую ее успехам.
В отличие от ее матери, моя скрывала, что на самом деле ей плохо. Она никогда не заводила разговор ни о приступах паники, ни о серьезных лекарствах. Она хотела оградить меня, но именно это мешало нам сблизиться. Мама возвела вокруг себя невидимые стены. Но зачем?
Я выключаю фонарик и снова ложусь, но сон просто не идет. Слишком много мыслей вертится в голове. Зачем София бродила здесь в темноте, неужели ей так интересно было мое задание на завтра? Из-за того, что она рассказала о своей матери, я совершенно забыла об этом. Может, в этом и состояла ее цель? Внезапно у меня перед глазами снова всплывает картина, когда София полуголая лежит в ванной, словно мертвая.
Я выключаю свет и беру конверт. Я точно не знаю, чего ждать, может, там указания, что завтра нужно делать или что-нибудь на тему «печаль». Однако совершенно точно я не рассчитываю увидеть очередную фотографию.
Как и остальные снимки, он вызывает неприятные чувства. И в данном случае этот выглядит особенно гадко. На фото какой-то молодой тип, кажется, подсматривает, как девочка развешивает белье. Выглядит это очень… коварно.
Что-то в нем мне кажется знакомым. Я не верю, что это доктор Беккер, у него нос довольно широкий и очень прямой. Этот человек не похож и на Себастиана, он слишком молод. Может, эта девочка — моя мама? Цвет волос подходит, но невозможно рассмотреть лицо. Но манера стоять, спина, немного кривая, будто девочка несет какой-то груз, — это похоже на маму.
Фотографии выглядят так, словно люди на них не знают, что их снимают. Снимок с девочкой, стоящей на коленях, тоже сделан тайком и тоже не постановочный. Как бы там ни было, мне не верится, что они могли быть сделаны для альбома. Они — совершенная противоположность фотографиям со счастливыми семейными моментами.
Я переворачиваю фото, смотрю на оборот, нет ли там следов клея и обрывков бумаги. Этот снимок тоже откуда-то вырвали, и есть подпись.
«Мне отмщение, и Аз воздам, и гнев мой будет страшен. Всего 24 часа, Эмма, потом все будет кончено».
Теперь мое сердце пульсирует в унисон болевым спазмам в лодыжке. Почему вдруг речь о мести? Месть за что? И почему у меня лишь сутки времени? Неужели это значит, что я должна умереть, если не выясню, что на самом деле произошло с мамой? Я — или кто-то другой? Или моя мать еще жива и я должна разузнать, что случилось? Я переворачиваю конверт еще раз, убеждаясь, что он действительно адресован мне. Да. Наклейка выглядит оригинальной, очевидно, напечатана на принтере — «Эмма Бергманн».
Я рассматриваю свое имя, и внезапно мне кажется: все, что делало меня Эммой Бергманн, разлетается на куски, кажется, что вовсе не существует.
Я выпускаю из рук конверт, он падает на пол возле кровати. Я хотела бы сейчас перенестись во времени и обо всем поговорить с мамой, хотела бы вернуться в ее объятия, чтобы все снова стало хорошо.
Боль в ноге постепенно утихает благодаря таблетке. Я оборачиваюсь, и взгляд падает на люк, который ведет в камеру, он все еще открыт. Я не хочу видеть люк. Но как только закрываю глаза, он вновь всплывает у меня перед глазами. Он действует мне на нервы, как открытая ночью дверь в подвал, на террасу или балкон. Разволновавшись, вновь открываю глаза, я должна закрыть люк, но так устала. Я легка и одновременно тяжела, как кусок свинца. К тому же и лестницы больше там нет, а без нее я так высоко не заберусь.
Оттуда наружу пробивается голубоватое свечение, оно колеблется и вьется, словно сигаретный дым. Какой-то шум доносится до моих ушей. Что это? И вдруг я узнаю его, это снова тихий плач, как прошлой ночью, но в этот раз он звучит так, словно в камере заперли рой пчел. Плач смешивается с яростным жужжанием. Глупости какие, я не верю в привидения! Рывком встаю. У меня немного кружится голова, распахнутый люк расплывается перед глазами и словно отражается в ряби волн. Я собираюсь, щиплю себя за предплечье и не отвожу глаз от люка. Голубой свет становится ярче, а плач переходит в шепот. Это шепчут дети, множество детей. Я напрягаюсь, стараясь понять, что они говорят мне, и наконец разбираю всего одно слово. Счастье. Это меня успокаивает, и я снова ложусь в постель. Закрываю глаза, чувствую, как тело слегка поднимается и парит, приближаясь к люку. Тело делает кульбит и вылетает в открытый люк, прямо в ночное небо, усыпанное звездами.
Глава 22
Прежде чем открыть глаза, я слышу щебет птиц, очень близкий и громкий, потом мне в нос бьет букет запахов: влажных листьев, застоявшихся роз и странный дух мокрого металла.
Где я? Пытаюсь открыть глаза, но они совершенно слиплись, не так, как в обычное утро. Пробую поднять руки, чтобы разлепить глаза, но они свисают с краев кровати, словно сухие ветки, и не слушаются. Меня это пугает, но сердце спокойно продолжает биться, будто все, как обычно.
Что произошло? Случилось ли что-то вчера, а я это позабыла? Я пытаюсь вспомнить, но моя голова вместо мозгов словно набита скомканными клочками ваты. Тело так оцепенело, как будто я лежу под тоннами мокрого песка. Меня охватывает паника, я должна, должна, должна открыть глаза. Но ничего. Тело не делает того, что я хочу.
Может, это кошмарный сон и я вот-вот проснусь? Да, я хочу проснуться! Немедленно!
Тут я слышу треск, словно кто-то наступил на ветку. «Эй, кто там?» — хочу спросить я, но из моего рта вырывается лишь невнятное:
— Э… оам.
О, Господи. Я вспоминаю все ужасные истории о синдроме запертого человека, при котором жертва в полном сознании, но ее тело парализовано, поэтому она не может общаться с внешним миром.
«Нет. Эмма, ты совершенно здорова, ты просто поранилась, но ты же не ударилась головой». Ага! Я все же кое-что помню?!
«Думай, Эмма, думай! Нога, точно, нога, ты вчера повредила ногу и больше ничего».
Мне нужно сейчас же открыть глаза. Я направляю всю свою энергию на веки. Ничего. Еще раз вздыхаю поглубже и пытаюсь пошевелить рукой.
«Только спокойно, Эмма, совершенно спокойно, не поддавайся панике, а направь всю силу в руки».
И мне удается немного приподнять правую руку.
«Хорошо! Теперь глаза».
Металлический запах внезапно становится резче. Что-то не так с рукой. Я могу пошевелить пальцами, но что-то не так с ладонью.
«Глаза, позаботься сначала о глазах».
Мне кажется, что проходит вечность, пока удается продрать хотя бы щелки.
Сначала осматриваю руки. Я вижу кровь, повсюду кровь, и на постели тоже. Не краска, как вчера, нет, а настоящая, липкая, частично свернувшаяся кровь. Я вижу это и не чувствую страха. Все так, словно я рассматриваю какое-то незнакомое удивительное насекомое.
Это просто сумасшествие. Мое тело истекает кровью, а я не боюсь? Я хочу подняться, но мышцы не слушаются. С невероятным усилием удается поднести руки к лицу. В середине ладони я вижу раны, из которых хлещет кровь, и, пока я беспомощно смотрю на них, замечаю, как по моим бровям стекают на щеки темно-красные капли. Я подношу руку ко лбу, и точно — на пальцах липкая кровь.
И хотя мой мозг уже паникует, сердце продолжает спокойно биться, словно ничего не подозревает о том, что творится с телом. И я не ощущаю боли. Я истекаю кровью, но у меня ничего не болит. Кажется, словно паралич высосал всю боль.
Проклятье! Я должна подняться, должна узнать, что произошло. Я прижимаю руки и опираюсь об остов койки.
Первая попытка, потом вторая. «Дыши глубоко, Эмма, ты можешь это сделать».
И действительно я поднимаюсь. При этом со лба кровь продолжает капать на постель, та выглядит, как поле брани. Я вдруг понимаю, что и на левом боку у меня кровоточит рана. Наверное, я сошла с ума, это просто сон, только во сне так спокойно реагируешь на такие тяжелые травмы.
Лишь сейчас обнаруживаю рану и понимаю, что все происходит на самом деле. Это не кошмар, а реальность.
— Что? — возмущенно кашляю я. — Что это значит? — Но вновь вырывается лишь: — Хоэнаи.
София и Том возле кровати. Но они просто смотрят на меня и даже пальцем не шевелят. Нет, все серьезнее. Том снимает все профессиональной камерой, а София стоит рядом такая невинная, в зеленом летнем платье с красными маками и фотографирует с таким умилением, будто я славная кошечка с котятами.
Я хотела посмотреть им в глаза, но София и Том прятались за своими аппаратами. Мне хотелось натянуть на голову простыню, чтобы защититься, но мои мышцы не повиновались. Едкая желчь поднимается из желудка вверх по пищеводу, я ненавижу их до глубины души, хочу плюнуть в них, ударить, убежать прочь, подальше. Но не могу — я парализована. Лишь слезы струятся по лицу, слезы ярости, отчаяния и беспомощности. Я все еще смотрю на них, умоляю взглядом Тома и Софию, спрятавшихся за камерами, опустить их и вести себя по-человечески. Но эти двое, словно дистанционно управляемые роботы, продолжают снимать, будто получат за это миллионные гонорары.
— Немедленно прекратите! — кричу я, но изо рта раздается лишь невнятное бормотание.
В этот момент из-за спин парочки возникает Филипп, он бешено жестикулирует. Я даже выразить не могу, насколько мне в тот момент стало легче: наконец хоть кто-то будет вести себя не как бесчувственный пришелец.
— Прекратите это сейчас же!
Том и София тут же опускают фотоаппараты.
Филипп склоняется надо мной, в его лилово-зеленых глазах отражается ужас.
— Что произошло? Что с ней случилось? — кричит он.
Филипп хватает меня за руки, внимательно осматривает их, потом отворачивает простыню и глядит на рану ниже моей левой груди, ощупывает лоб, потом видит свои окровавленные руки.
— Что вы здесь стоите просто так? — орет он. — Еще и снимаете?
— Мы думали… — выдавливает Том сдавленным голосом.
— Сделайте кофе, пожалуйста! — умоляю я Филиппа, надеясь, что он разберет мою тарабарщину.
Он успокаивающе кивает.
— Один из вас немедленно принесет Эмме самого крепкого кофе, который найдет, а потом вы объясните мне, что происходит.
София убегает в кухню, Том вынимает письмо из кармана своих коротких штанов. Оно выглядит так же, как то, что я получила от Себастиана вчера вечером.
Немного успокаиваюсь, зная, что Филипп обо мне позаботится. Как бы я хотела сейчас его обнять. Но я все еще не могу нормально координировать движения и измажу его шорты и футболку кровью.
Том протягивает Филиппу письмо, тот читает вслух:
«Твое задание — рано утром фотографировать Эмму. Не позволяй ввести себя в заблуждение, безразлично, как она будет выглядеть и что будет говорить. Мы с ней заранее договорились, и она согласилась стать моделью для этого представления. Ты сможешь сделать это! Мы полагаемся на тебя, потому что хотим видеть в своих рядах! Твоя команда “Transnational Youth Award”».
Филипп бледнеет. Появляется София, она бежит как можно быстрее, кофе выплескивается и попадает на зеленое платье с маками, но половина все еще в чашке. Кофе без сахара и пахнет горечью. Филипп помогает мне его выпить. С каждым глотком у меня в голове все проясняется.
— Я не могу поверить, что вы сделали это! Особенно после той сцены на лестнице. Почему вы все так боитесь, что вас отправят домой?
Филипп еще раз распахивает простыню и осматривает мое тело внимательнее. Он осторожно ощупывает рану на животе, и мне немного щекотно. Вдруг он поднимает что-то в воздух. Выглядит это жутко. Остальные подходят ближе.
Я протягиваю руку, хочу посмотреть. Облегченно вздыхаю, когда мои пальцы выполняют то, что я хочу. Но Филипп крепко держит эту штуку, принимается за мои ладони, и я вновь чувствую щекотку.
— Ух, ты, это же муляжи ран из латекса! — широко улыбается Том, а мне кажется, что все облегченно вздохнули. — Я такое когда-то заказывал на вечеринку по случаю Хэллоуина. Они выглядят чертовски натурально. На них нужно вылить уйму искусственной крови, все переходы и швы замазать косметикой, закрасить специальным силиконовым спреем. — Тома это явно успокоило, и теперь он говорит не умолкая.
Филипп поджимает губы и хмурит брови.
— Ты помогал Эмме закрасить все косметикой? — спрашивает он Тома.
Я злая, как черт, но все равно вмешиваюсь:
— Я сама себя не разукрашивала! Кто-то, наверное, подмешал мне какого-то наркотического дурмана.
«Иначе с чего я до сих пор плохо разговариваю и мои руки не двигаются?»
Филипп поворачивается ко мне.
— Наркотический дурман? — удивленно спрашивает он.
Я ненадолго закрываю глаза.
— Я не могу это объяснить иначе. Я лежала на кровати в бальном зале. Я помню только, как София пришла и принесла сладкую газировку.
— Ты это серьезно!? — София сердито смотрит на меня. — Ты ведь не думаешь, что я могла тебе подсыпать чего-нибудь?
— А почему ты вчера ночью хотела прочесть мое письмо с заданием?
— Потому что надеялась там обнаружить подсказки, как упростить свое!
Я бы охотно поверила ей — вспоминаю наш разговор о больной матери. Но как иначе эти штуки оказались на мне? Может, она своей историей просто хотела усыпить мою бдительность, а когда человек в спокойном состоянии, это вещество действует лучше.
— Значит, никто из вас не знал, что раны Эммы не настоящие? — интересуется Филипп. — И не врите!
Том и София опускают глаза, потом Том расправляет плечи:
— Ну да, я, конечно, думал, что все это может быть розыгрышем. Взять хотя бы тот факт, что ее кровать стоит посреди сада!
Он произносит эти слова, и только теперь я замечаю, где нахожусь. Я действительно на открытом воздухе. Надо мной выгибается душное серое небо, затянутое облаками, слева я узнаю листья скрюченного дуба, вяло повисшие от жары.
— Хорошо, об этих латексных ранах я сам не сразу догадался, но то, что Эмма вдруг за ночь покрылась стигматами, хотя даже не знает о Франциске Ассизском, мне показалось более чем невероятным, — защищается дальше Том. — И, в конце концов, из письма было понятно, что Эмма сама на все согласилась.
Стигматы! Меня словно ударили по голове. Том ведь прав, эти знаки должны были символизировать раны Христовы. Но почему выбрали именно меня и зачем фотографировать?
София подходит ближе.
— Я думала точно так же, как Том! И это ведь не первый спектакль здесь. Именно поэтому я и хотела прочитать письмо Эммы.
— А если бы в письме говорилось: «Отрежьте ей палец»? Что тогда? — Филипп поднимается и качает головой.
— Но это же совсем другое!
София и Том сердито смотрят на меня, словно я во всем виновата, а я чувствую себя невыразимо скверно.
Филипп в ярости бегает взад и вперед у моей кровати.
— Я вас не понимаю. Вас вчерашнее происшествие ничему не научило? А ты, София? Если тебе это было не по душе, почему ты просто не приняла собственное решение, не заглядывая в чужие письма?
Она лишь пожимает плечами в ответ. Вообще, она выглядит такой несчастной, словно облитый водой пудель.
— Если это спектакль, то куда подевались Беккер и остальные? — спрашивает Филипп. — И при чем тут вообще стигматы? Мы ведь в летнем лагере, а не в монастыре! Я немедленно спрошу их об этом. С меня хватит!
Все переглянулись.
В общем волнении мы этого совершенно не заметили. Но Беккера, Николетты и Себастина нет. Вчерашние слова доктора все еще звучат у меня в памяти:
«А мы, кураторы, всегда будем рядом, чтобы при необходимости бросить спасательный круг».
Ах, неужели?!
— Кто-нибудь видел сегодня утром эту троицу?
Все качают головами.
— Что за дерьмо?! — Филипп стучит пальцем по виску. — Разве вы не замечаете, что нас постоянно вынуждают вести себя так, словно мы монстры?
— Да, хватит уже, — говорит Том. — Было же ясно, что с Эммой ничего плохого не случилось. К чему поднимать восстание?
— Потому что это было бы по-человечески. — Филипп садится на край кровати, берет мою измазанную кровью руку в свою и гладит. — Мне действительно очень жаль, — шепчет он. — Постоянно тебе достается.
Значит, он тоже заметил.
София перебивает его:
— Если ты перед завтраком хочешь принять душ, нужно отправляться.
— Почему ты ведешь себя с ней так грубо? — интересуется Филипп. — Ты считаешь, что все делала правильно?
София качает головой. Только сейчас я замечаю, что она готова вот-вот расплакаться. Она молча протягивает мне свой конверт и кивает.
На нем напечатано ее имя, но наполнение у него совершенно другое, чем у моего. Внутри — белая плотная карточка, я сразу вижу: отправитель оказался очень коварным. На картонке пуговицами вышита улыбающаяся рожица. А текст гласит:
«Ты держишь в руках руководство по первому терапевтическому сеансу в борьбе с фобией. Прочти, что здесь написано, и сделай, что тебе поручают. Если тебе все удастся, будет следующий сеанс. Утром после пробуждения ты отправишься в сад. Там ты обнаружишь Эмму. Ты будешь фотографировать ее. И безразлично, что она будет говорить другим или делать. Ты не позволишь ввести себя в заблуждение. Если у тебя все получится, ты сможешь оборвать все пуговицы и увидишь: это самый верный путь к твоему освобождению. Успехов».
— Мне очень жаль, — говорю я.
И на самом деле это чувствую. София тоже пострадала. «О фобии с пуговицами знал только Беккер, — думаю я, — значит, он должен стоять за всем этим, не так ли? С другой стороны, выбрал бы психолог такую экстремальную шоковую терапию?»
— Сейчас речь идет не о наркотиках, которые, как ты думаешь, я дала тебе. — София вытирает тыльной стороной ладони глаза и упрямо смотрит на меня. — Нет. «Ибупрофен» лежал на кухонном столе для тебя. Я подумала, что его оставили Себастиан и Беккер. Кроме того, таблетки находились в пластинке. Что бы я могла провернуть с этим?
Я сажусь и свешиваю ноги с кровати, только теперь замечаю, что нахожусь возле фонтана. Где когда-то утонул ребенок. Внезапно мне приходят в голову те детские могилы. Что за дрянное место этот лагерь!
Филипп делает шаг навстречу, поддерживает меня и подходит так близко, что я могу ощутить запах его волос. Он пахнет очень приятно, запах свежий, слегка соленый, словно мокрый песок на морском берегу. Я бы так хотела ему доверять…
— А что было в твоем письме? — тихо спрашиваю я.
Он качает головой.
— Я ничего не получил, — отвечает Филипп.
София, Том и я недоверчиво глядим на него.
— Как-то странно, — произносит Том. — Совсем невероятно.
Филипп пожимает плечами:
— Народ, здесь все ненормально.
Филипп прав, это непостижимо, как же я не заметила, что мою кровать вынесли сюда. Черная дыра в моей голове, куда провалились мои воспоминания, расширяется и распространяется на мои внутренности.
Я впервые думаю, что не имею ничего против, если она меня просто поглотит — и все пройдет.
Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью! (Ветхий Завет: Песнь Песней 7:7)
Она так драила длинный эмалированный умывальник, что выбилась из сил и едва не потеряла сознание. Пот постоянно капал со лба на щетку. Ей было безразлично, что экскурсию запретили лишь ей одной. Безразлично, что Гертруда отправила ее заниматься уборкой. Безразлично, потому что так она могла лучше думать.
Марта обозвала Агнессу сумасшедшей, потому что та не могла протестовать открыто, но подруга ничего не знала о нем.
Никто ничего о нем не знает. Здесь нет настоящей исповеди, и не пришлось вообще никому о нем рассказывать. Кроме того, глубоко в душе Агнесса была уверена, что в этом нет ничего греховного. Поступок не заслуживал порицания, но Гертруде о нем ничего не нужно знать, ведь для настоятельницы все, что делала Агнесса, — от лукавого.
Началось с того, что когда Гертруда запирала Агнессу в камеру, он тайком стал приносить еду и воду. Это дружеский поступок, но так ради Агнессы уже поступали и другие — дядя Лоренц или Марта. Они ночью тайком брали ключ у Гертруды.
Но с ним все было по-другому, потому что он с ней говорил. Нет, совсем иначе. Он интересовался Агнессой, тем, что о чем она размышляет. Он думал о ней, и это насыщало ее сильнее, чем бутерброды с сыром. В последний раз он даже погладил ее по щеке, после того как Агнесса рассказала о том, что мечтает стать медсестрой. Как бы она хотела все рассказать Марте. Но, к сожалению, Агнесса должна была держать все в тайне.
Она так увлеклась работой и собственными мыслями, что не услышала, как он пришел, и вздрогнула, когда он тронул ее за плечо.
Несмотря на испуг, Агнесса сразу поняла, что это он — никто, кроме него, не прикасался к ней так нежно. Кровь прилила к щекам, Агнесса испугалась, что потеряет сознание.
Когда она наконец решилась, он приложил палец к ее губам, и это смутило ее еще больше.
Темно-розовые губы были словно списаны с образа миленького Иисуса на картинках, которые много лет назад дала ей бабушка и которые Агнесса прятала в книге для духовного чтения. «Нет, — пронеслось у нее в голове, — там были небесно-голубые глаза и светло-коричневые волосы до плеч. Нет, — убедилась она, как только он заговорил, — это может быть лишь его голос».
— Гертруда только что отправилась поспать после полудня. Мы можем прогуляться к озеру и искупаться.
Идти плавать вдвоем? Он пойдет с ней, самой худшей из всех? Ведь ей даже не разрешили поехать на экскурсию.
— Если поймают, Гертруда забьет меня до смерти, и я, наверное, отправлюсь в камеру на несколько лет. — Агнесса удивилась, что удалось подыскать внятный ответ на его невообразимое предложение.
Он посмеялся над ней.
— Ты должна решиться. Какая разница, забьет она тебя до смерти или бросит в камеру?
— А почему вы не поехали на экскурсию в Зальцбург? — Агнесса точно знала, что Марта и остальные девочки только обрадовались бы его компании, а он стоял именно перед ней.
— К сожалению, сегодня утром я колено… повредил.
Он подмигнул и прихромал к ней ближе, словно старик, но потом ринулся вперед, обхватил ее за талию. Щетка выпала у нее из рук на кафельный пол. Он закружил ее, казалось, они танцуют вальс.
Ей стало так жарко, что больше всего на свете она сейчас хотела бы сбросить с себя всю одежду. От этой мысли щеки Агнессы, и без того красные, обдало жаром. И она знала: ничто не остановит ее от вступления в Христианский девичий союз.
— Не надо! — задыхаясь, вымолвила она.
Но он лишь крепче прижал ее, и Агнессе это нравилось, хотя голова шла кругом от быстрого вращения. И ей пришлось прижаться лбом к его плечу. Удивительный запах его кожи дурманил ее сознание — такой плотный и соленый, кисловатый, как от свежесрубленного дерева. С каждым вдохом она становилась все легче, ее тело стало просто невесомым, только сердце билось свинцовыми ударами в такт, который он отбивал: раз-два-три, раз-два-три. Они вдвоем летели на небо в серой душевой, и рядом никого…
Наконец он осторожно опустил ее на пол. Запыхавшись, они стояли друг против друга. Агнесса держалась рукой за рукомойник, потому что в голове все вертелось. И она хотела, чтобы это не прекращалось больше никогда.
— Ты… — откашлялся он.
— Да?
— В общем, что ты об этом думаешь? Пойдем плавать?
— Да, — выпалила Агнесса, — да-да-да!
«И если это последнее, что мне доведется сделать в жизни, — подумала она, — у Господа есть план для меня, хороший план».
Он удивленно улыбнулся и схватил ее за руку. Ее ладонь почти исчезла в его кулаке. Это прикосновение дало импульс, который прошел сквозь все ее тело и завертелся в животе, отплясывая, раз-два-три, раз-два-три.
Это был хороший план. Агнесса почувствовала это, когда они выбрались под открытое небо. Адская жара после прохладных подвальных душевых лишь усилила желание искупаться.
Казалось, он заколдовал всю округу и здесь больше не было никого, лишь они вдвоем. Остальные где-то превратились в статуи. Они не произнесли ни слова, пока шли к озеру.
По дороге Агнесса вспомнила, что у нее нет с собой купальника. Он может увидеть ее тело, ее отвратительное тощее тело, худшее из всех. Она косилась на него, тайком разглядывала его широкие плечи, узкую талию, длинные ноги и думала, какой он без одежды.
Марта возненавидит ее. Все ее возненавидят, потому что они просто пожирают его глазами, наверное, и Гертруда тоже. Агнесса сдержала смех. Не стоило думать о настоятельнице — это разрушит чары. Она это чувствовала. Теперь бы только не произнести ни единого слова.
Озеро блестело бирюзой под лучами полуденного солнца.
— Ты готова? — спросил он, его голос прозвучал не как обычно, иначе. Неуверенно.
Агнесса кивнула в ответ.
— Да, — твердо произнесла она. — Мне так жарко!
Она стащила тяжелые башмаки и чулки до колен, взглянула на него. Она не отводила глаз, снимая фартук, юбку, блузу, трико и нижнее белье.
Когда она предстала перед ним нагишом на солнце, он тихо простонал:
— Ты осознаешь, как ты красива, Агнесса?
«Нет, — подумала она, — нет». И зорко следила за ним.
Он вздрогнул, сбросил с себя одежду, прикрыл срам рукой, а другую протянул ей. Агнесса крепко сжала его ладонь.
И они побежали.
Агнесса не чувствовала ни колючей травы, ни острых камешков под ногами, впивавшихся в подошвы. Она не ощущала холодной воды, от которой сбивалось дыхание. Она слышала лишь, как ее сердце гулко бьется в груди. И тогда она пошла на все то чудесное, что он уготовил ей.
Глава 23
София помогла мне принять душ, и мы снова встречаемся на кухне, где так жарко, словно злая ведьма разожгла изразцовую печь. Несмотря на то что все створки окон распахнуты, а на затянутом тучами небе солнца нет и в помине, кажется, что сквозь решетки внутрь втекает пар. Вчерашняя гроза ненадолго охладила атмосферу, но потом все превратилось в тропический лес.
— Их нигде нет, — сообщает Филипп и протягивает мне кружку кофе, которую я жадно опрокидываю в себя, чтобы хоть как-то унять дрожь в теле.
Филипп рассказывает, что он вместе с Томом облазил весь замок сверху донизу: начиная с комнат Беккера, Николетты и Себастиана и комнат на третьем этаже до самого подвала. Они были даже в запертом северном крыле.
— Я думаю, они исчезли намеренно, — говорит Филипп. — Со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра они планировали именно это.
— Принимайте решения, — цитирует София вчерашние слова Беккера. — Это то, что будет продвигать вас по жизни.
— Хорошо, — смеется Том, — я знаю одно хорошее решение, которое продвинет меня. Мы просто ничего не будем делать. Мы не поведемся на их спектакль. — Он демонстративно закидывает голые ноги на исцарапанный деревянный стол и закладывает свисающие, мокрые от пота пряди волос за уши.
София бездумно теребит ожерелье, покусывая его.
Я мотаю головой:
— Вы совершенно не думаете о той сцене? Я имею в виду, когда меня разукрасили стигматами! И Том прав, до вчерашнего дня я вообще не подозревала, что это такое. О какой командной игре здесь может идти речь?
— А кто докажет, что не ты сама их налепила? — спрашивает Том.
Филипп резко возражает ему, и я рада, что нашла союзника. По крайней мере, он мне доверяет.
София встает и подходит к фотографии с хлебом.
— Может, это что-то связанное с домом? Вы же не станете отрицать, что здесь все замешано на религии.
— Мне кажется, замок раньше был чем-то вроде монастырской школы, — медленно произношу я. — Или христианский детский дом.
— Но сейчас это просто отборочный лагерь. — Том пожимает плечами. — И вы доставите Беккеру и его сообщникам удовольствие, если будете участвовать в игре. Давайте выбьем у них почву из-под ног. Повернем оружие против них самих и… пойдем на озеро купаться!
Мы нерешительно переглядываемся.
— Том прав. Снаружи я в любом случае чувствую себя лучше, чем здесь. — София вскакивает и говорит, указывая на мою ногу: — Я прихвачу наши купальники, хорошо?
Том и Филипп присоединяются к ней, и я слышу их топот по лестнице. Остаюсь на месте и берегу ногу.
София права, стигматы указывают на какие-то религиозные знаки. Но в отличие от остальных, я уверена, что за этим кроется нечто большее. Но куда ведут все нити? Сатана организовал несчастный случай с моей мамой или какие-то демоны забрали ее? Я рассматриваю фотографию, на которой кольцо с крестом, и у меня по спине бегут мурашки. Что же это за старуха оказалась в машине мамы? Кто носит такие кольца? Монахини? Но монахиня не может быть матерью девушки, которая покончила с собой в мамином госпитале, тогда тут нет никакой связи.
Том и Филипп скачут вниз по ступенькам и отвлекают меня от мыслей. Я удивляюсь, как беззаботно они себя ведут, когда мы остались одни. Но может, все от того, что они упрямо хотят насолить кураторам? Они крутят полотенцами и купальными шортами над головами, как пропеллерами, и рассказывают какие-то приколы из «Симпсонов». Мальчики подходят, умолкают и тяжело валятся на жесткие деревянные стулья.
— Вам тоже хочется пить? — спрашивает Том, снова вскакивает и шагает к гигантскому холодильнику. — Забавно! — произносит он, голос звучит взволнованно. — Подойдите-ка сюда, вы должны на это посмотреть.
Я встаю, не думая, и пытаюсь пойти к нему, забывая о своей лодыжке. Издаю тихий стон. Филипп помогает мне доковылять до холодильника. И уже на месте понимаю, что лучше б не вставала. Сидеть с плотно закрытыми глазами — вот чего мне сейчас больше всего хочется.
Холодильник оказался почти пустым. Ни напитков, ни продуктов, никаких сотен сосисок и литров молока. Единственное, что там находится, — кукла моей матери, которая бесследно исчезла из квартиры. Кто-то посадил ее на среднюю решетку, и один ее вид нагоняет на меня тревогу. Но и это не все. На шее у куклы что-то виднеется. Я сразу узнаю эту вещь. Мамин медальон! Он из серебра, слегка овальный, на крышке — изогнутые сплетенные стебли цветов.
В душе у меня буря. Я протягиваю руку к кукле, чтобы вытащить ее, но больше не в силах стоять на ногах.
Потому что это значит одно: моя мать жива! Если бы она утонула, медальон очутился бы вместе с ней на дне озера. Все плывет перед глазами.
Остальные совершенно не понимают, что я сейчас чувствую. Они углубились в дискуссию о том, как кукла попала в холодильник, куда пропала вся еда и какие это будет иметь последствия для нас.
— Вчера вечером, когда я помогал Себастиану с лазаньей, холодильник был забит продуктами под завязку, словно на случай голодовки, — объясняет Том.
Филипп качает головой:
— Это мне не нравится, — ворчит он. — Это мне просто не нравится.
Я хватаю куклу и нащупываю рукой стул. Филипп снова помогает мне, но я не обращаю на него внимания, позабыла даже о боли в лодыжке. Я держу куклу в руке и дрожащими пальцами раскрываю медальон.
Слава Богу! Фотография абсолютно невредима, не выглядит так, словно побывала в воде. В правой части я вижу портрет отца в молодости, слева рядом — мое фото, которое сделано в день моего шестнадцатилетия, и завиток моих детских волос.
Хотя теперь я уверена, что мама жива, возникает следующий вопрос: если она жива, зачем меня заманили в лагерь? К чему весь этот спектакль?
Добровольно она никогда и ни при каких обстоятельствах не заставила бы меня поверить, что умерла, это не в ее стиле. Совершенно не важно, что я узнала о маме после автокатастрофы, в одном я уверена: моя мать ни за что и никогда не стала бы меня так мучить! Из этого можно сделать лишь один вывод: ее заставили.
Слезы текут по моим щекам, я начинаю всхлипывать.
Том и Филипп уставились на меня. Они, конечно, не знают, что происходит в моей душе, но мне ясно, что теперь нужно им довериться. Холодильник пуст, это не совпадение — это знак. И все это больше не игра, совершенно точно!
Но что мне им сказать? С чего начать? У меня комок в горле.
Мне нужно несколько минут, чтобы прийти в себя, поэтому я с надеждой смотрю на Филиппа, и он сразу все понимает.
— Эй, — говорит он и с любовью смотрит на меня, а я не могу ответить сейчас взаимностью. — Пойдем, выясним, куда пропала София, — предлагает он Тому.
— Но что здесь происходит? Почему Эмма ревет, будто в холодильнике обнаружила отрезанную лошадиную голову?
Филипп качает головой, ворчит что-то, как последний грубиян, вытаскивает Тома из кухни, и вместе они несутся наверх.
Я беру медальон в руки, он отдает холодом, и не только из-за того, что лежал в холодильнике. Я глажу прохладное серебро снова и снова. Нет, медальон не вернет мне маму, но он вселяет в меня надежду.
Нет причин для слез, напротив, я теперь могу надеяться, что она жива. Это единственное, что важно, разве не так? И я клянусь себе, что найду ее.
Я кладу раскрытый медальон на стол перед собой и вспоминаю, как часто мама гладила меня по волосам, когда утешала, когда укладывала в постель, когда нежно будила. Но я никогда не обращала на это внимания. Намного важнее был ее теплый голос, мягкие руки и мандариновый аромат крема для рук.
Неподвижно сижу за столом и пялюсь на серебряное украшение, словно оно мне может сказать, где моя мама.
Проходит много, очень много времени, пока я понимаю, как тихо вокруг. Постепенно осознаю, что ни София, ни Том, ни Филипп не вернулись.
Я совершенно одна.
Глава 24
Я прислушиваюсь, не раздаются ли наверху шаги или голоса. Но нет, ничего. Я зову их по имени снова и снова, сначала громко и сердито, потом умоляюще, но мой голос жадно поглощают голодные каменные стены и оставляют меня в леденящей тишине.
Почему все исчезли как раз в тот момент, когда я узнала, что моя мать жива? Если кто-то устраивает исчезновение всех, чтобы не мешать нашей встрече, то это не очень хорошая идея, потому что во мне все кричит и зовет исчезнуть: «Беги, Эмма, беги прочь отсюда!»
Прячу лицо в ладонях, пожалуйста, теперь я должна поступать очень обдуманно, делать все правильно. Внезапно мне в совершенно ином свете видится угроза вчерашнего письма: у меня осталось всего двадцать четыре часа. Это время, которое осталось жить моей матери? Тогда мне нужно поторопиться, но не стоит действовать опрометчиво. Я не должна допустить ошибку. Я ковыляю к открытому окну и прислушиваюсь, не прячутся ли там остальные, не наблюдают ли за мной.
Ничего. Даже мухи не жужжат по такой вязкой жаре, по крайней мере мне так кажется. Пульс стучит у меня в ушах и заглушает все.
Я крепко сжимаю медальон и возвращаюсь к столу. Смотрю на дверь в подвал, потом — на дверь к лестнице.
«Ты делаешь из мухи слона, Эмма, нет причин для страха. Сейчас день, лето». И, несмотря на это, я передвигаюсь крадучись, словно опасаюсь нарушить тишину. Они должны быть на улице, иначе они бы услышали мои крики, решаю я, они хотели идти на озеро, и моя задача сейчас — воссоединиться с командой, какие бы препятствия ни пришлось преодолеть.
«Конечно, Эмма. А на Новый год приходит Дед Мороз».
Я хромаю к массивной входной двери с толстыми, вытесанными из дерева филенками и нажимаю на тяжелую позолоченную ручку.
Ничего.
Я нажимаю сильнее, трясу ее.
Ничего.
Дверь заперта. Я кладу обе руки на ручку и изо всех сил налегаю, но дверь не поддается ни на миллиметр, словно она заперта уже несколько столетий. Ерунда, этого же не может быть! Я пытаюсь открыть снова и снова, но все напрасно.
Тут вспоминаю, что из столовой есть еще одна дверь на ветхую террасу. Не обращая внимания на боль в лодыжке, я тащусь в зал так быстро, как могу. Здесь ручка поддается, но сама дверь не открывается.
Я оглядываюсь в поисках ключа или чего-нибудь другого, что поможет, но здесь лишь слепые ангелы устало улыбаются со своего облупленного потолка, словно говорят: «Взгляните только на эту идиотку».
Есть еще два окна, выходящие на террасу, но они зарешечены, как и все окна на первом этаже. Только змея может пролезть в эти дырки.
Я заперта. И совершенно не представляю, одна в этом доме или нет. Но что-то в воздухе, что-то в моем животе подсказывает: здесь есть еще кто-то. Человек, который не испытывает ко мне добрых чувств. Может быть, тот, кто силой удерживает мою маму.
«Подумай об угрозе во вчерашнем письме: «Мне отмщение, и Аз воздам, и гнев мой будет страшен. Всего 24 часа, Эмма, потом все будет кончено». Сколько уже прошло времени? Десять часов? Двенадцать часов? Я глубоко вздыхаю. «Думай, Эмма, думай. Какой следующий шаг тебе совершить? Найти остальных. Найти кого-нибудь. Или телефон».
Сначала ищут там, где человек потерялся. Я хромаю наверх, в девичью спальню.
Чем выше я поднимаюсь, тем больший страх меня охватывает. Я боюсь громко звать остальных, словно мои крики разбудят чудовище. А уж оно позаботится, чтобы никто отсюда не выбрался.
Наша спальня пуста, я это вижу сразу, но на моей кровати что-то лежит. Я подхожу ближе и узнаю четки — ожерелье, которое Софии подарил Себастиан. Может, она его оставила здесь в подарок или это послание?
— София, София? — зову я ее несколько раз, но вокруг тишина.
Мне кажется, что череп на четках злорадно скалится, будто знает, насколько смехотворны мои старания, но именно это и укрепляет мои силы. Я шарю взглядом под кроватями, мельком осматриваю нишу со стеклянными жемчужинами, которая запечатлена на фото моей мамы. Ничего. Все как вчера.
Чувствую, что мне стоит забрать ожерелье с собой, но оставляю его на кровати и спешу в спальню мальчиков, шарю и там, в узких шкафчиках, и под кроватями.
Тут до меня доносится какой-то звук снаружи. Я не замечаю боли в лодыжке, мчусь к окну, смотрю сквозь грязное стекло и не уверена, видела ли я действительно красное платье Николетты или это все мое воображение.
«Тебе нужно торопиться. Можешь смотреть на призраков, но это не поведет тебя дальше».
Когда я отхожу от окна, мое внимание привлекает необычная вещь. Мусорное ведро заполнено до краев, и это кажется странным. Я опускаюсь на колени и заглядываю в него. На самом верху лежит старый журнал. Это номер «Шпигеля» за последнюю неделю, но под ним я нахожу десять пустых пузырьков. Они подписаны. «Светлая и темная искусственная кровь», — читаю я. Наконец я нахожу еще коробочки, в которых хранились латексные раны, носовые платки в крови и совсем внизу измазанное кровью засохшее письмо, в котором почти ничего невозможно разобрать, и еще едва узнаваемое фото девушки, которое я нашла в библиотеке.
Но не это заставило все оцепенеть у меня в душе.
Конверт с логотипом лагеря и наклейкой с именем — «Филипп Винтер». Точно такой же конверт, который получила и я. И София. Все мы.
Филипп пахнет, как мокрый песок на морском пляже, смотрит так нежно лилово-зелеными глазами, а улыбка может растопить даже сердце из стекла. Но ложь его убийственна.
Моя рука дрожит, когда я вытягиваю его задание:
«Филипп, у тебя будет очень креативное задание, которое тебе наверняка понравится. Ты намажешь Эмму сегодня ночью так, как женщину на этом фото. Не волнуйся. Эмма будет крепко спать, потому что мы дали ей обезболивающее из-за ее поврежденной лодыжки. Она согласилась на это. Если ты выполнишь задание, то продвинешься на один шаг дальше, если нет, мы найдем причину, чтобы отправить тебя домой. Кража и использование запрещенных веществ открывает множество возможностей. Все зависит только от тебя.
P. S. Кровь ничем не опасна, но не стоит перебарщивать».
Каждое слово из этого письма пробивает меня насквозь, уничтожает, раздавливает. Я могла бы поклясться, что он ничего не знает, а он, оказывается, заправила. И тогда я припоминаю, что он мне прошептал про фобию Софии в часовне. Он знал, что у Софии кумпунофобия. Может, он сам и написал ей письмо?
Несмотря на жару, меня знобит, я боюсь вытаскивать снимок и осматривать его, но что может быть хуже, чем это жалкое предательство? Перебарывая себя, я извлекаю снимок из конверта.
Тело мое реагирует сразу, к горлу подкатывает комок, я больше не могу глотать. У девочки на этой старой фотографии раны на руках. По лицу стекает кровь, и она лежит в точно таком же положении на кровати, как и я сегодня утром.
Но по ее выражению нельзя сказать, что она страдает, оно почти восторженное.
Нет сомнений, что у девочки стигматы. Настоящие стигматы. Не раскрашенные латексные раны. И она похожа на меня как две капли воды, она могла бы быть моей сестрой-близняшкой или… моей матерью.
Только сейчас соображаю, что все еще сжимаю в руке медальон, во время этих поисков я его так и не выпустила. Я пораженно смотрю на снимок.
Может ли быть на самом деле, что эта девочка — моя мать?
Нужно присесть. Кровать Филиппа прогибается подо мной. Мама даже ни разу со мной в церковь не ходила. Она хотела, чтобы я посещала уроки этики, а не религии. На Рождество мы не клеили ясли. Она всегда говорила: «Давай лучше отметим праздник света[10], как шведы». И я никогда над этим не задумывалась, просто считала классной идеей, что мы что-то делаем вместе.
А теперь я узнаю, что у моей матери, возможно, были стигматы? Еще вчера мне не было известно, что впервые такие же появились у Франциска Ассизского. Шрамы в местах, которые были пробиты у Христа во время распятия. Я всегда считала подобные россказни полной чушью, обманом, инсценировкой каких-то верующих людей, которые считали себя избранными и делали все, чтобы доказать это.
Но выражение лица девочки не только кажется естественным, оно ошеломляюще счастливое. Это совершенно не вяжется с характером моей мамы. Я просто вижу ее перед собой: серьезная, нежная, любящая — так она выглядит. Как она расчесывает мои длинные спутанные волосы, не ругая меня при этом.
Расческа в ее руках.
Ее руки! Вспоминаю шрамы, которые якобы появились после пожара в квартире. В огне сгорели все семейные фотографии. Шрамы были в середине ладони на левой и правой руке, словно круглые зарубцевавшиеся дырки.
Словно в руку забивали гвозди. У меня по спине бегут мурашки.
Нет!
У моей матери стигматы. Такие же раны, как были у Иисуса Христа.
У меня кружится голова. У нее шрамы точно не от пожара. Да и пожара никакого не было, все, что мама рассказывала о нашем прошлом, — сплошная ложь. Я дрожу всем телом и от злости швыряю изо всей силы медальон об пол. Разъяренно смотрю на него.
Ложь — и ничего, кроме лжи.
Глава 25
После того что я обнаружила в мусорном ведре, спрашиваю себя: имеет ли это все какой-то особый смысл? Стоит ли продолжать поиски остальных? Не проще ли лечь здесь на кровать и подождать, что произойдет? Просто лечь и заснуть, увидеть сон, когда мамины истории были для меня еще действительностью.
Я так не поступлю. Я не могу.
Мне нужны ответы. Настоящие, правдивые ответы. Злость затмевает боль в моей опухшей лодыжке, и я уже способна хромать намного быстрее. Я ухожу прочь. Моя следующая цель — северное крыло. Если и есть место в этом замке, где можно запереть человека, то я его знаю. Иду туда, но совесть не позволяет бросить медальон на полу в комнате — я возвращаюсь и поднимаю его.
Время от времени останавливаюсь и прислушиваюсь, смотрю вниз на выцветшие ковровые дорожки. Сверху дыры в них кажутся оспинами. Осматриваю пустые ниши, их словно выдолбили статуи, чтобы там спастись.
Я стараюсь двигаться еще быстрее и вскоре добираюсь до библиотеки, не обращаю внимания на изображение ада на потолке, спешу к передвижной полке и сдвигаю ее. Грохот книг разрывает тишину, он звучит, как язвительный смех. Но когда шум стихает, я слышу еще что-то. Я совершенно уверена, задерживаю дыхание… И… Да, за дверью в потайной комнате кто-то есть. На какой-то момент мне кажется, что я могу выпустить из бутылки джинна, которого лучше не освобождать. Все это россказни. Никаких джиннов и привидений не существует, они лишь в моей голове.
Я рывком открываю дверь и пугаюсь так, что отскакиваю на пару шагов и падаю навзничь.
Я беспомощно наблюдаю двух бело-серых голубей, которых освободила. Они с шумом вылетают ко мне, словно в руках у меня кормушка. А я была уверена, что там София, Том, Филипп или мама.
Голуби порхают по библиотеке, на миг садятся на позолоченные колонны галереи, а после с глухим звуком бьются в окна.
Все это действует на меня, как пистолетный выстрел. Я хочу попасть наружу, хочу, чтобы все кончилось, и бегу прочь. Пытаюсь собраться с мыслями, но единственное, о чем еще могу думать, — телефон. Хочется, чтобы меня вытащили отсюда, а потом я направлюсь в полицию с этим медальоном и фотографиями. Немедленно! Я не могу оставаться в этом доме ни секунды. Мне все равно, что случилось с остальными. Я ни в чем перед ними не виновата, каждый врал мне!
Хорошо. Нужно глубже вздохнуть. Николетта собрала все телефоны. Но здесь должен быть хоть один функционирующий телефон. Себастиан на это как-то намекал, разве нет? У Беккера была связь с внешним миром, он ведь договаривался как-то с соседним лагерем. Начну с его комнаты.
Путь в южное крыло кажется мне бесконечным, мои пальцы уже болят — так крепко я сжимаю медальон. Совсем запыхавшись, я добираюсь до комнаты Беккера на третьем этаже. Нажимаю на ручку и боюсь самого страшного, но комната не заперта.
Это относительно маленькое помещение с кроватью у продольной стены. Я с удивлением замечаю, что по виду кровать как из общей спальни. Над ней висит лампа, под которой стопка книг по психологии. Перед двустворчатым окном жалкий стол, разрисованный убогим цветочным орнаментом.
Я прячу медальон в карман брюк и сначала принимаюсь за стол, в котором лишь один ящик. Он немного заедает, но когда я наконец справляюсь, обнаруживаю, что ящик совершенно пуст. Дно выстелено бумагой. Перехожу к шкафу, моя надежда возрастает, когда под тщательно сложенными рубашками и брюками попадаются маленькая дорожная и наплечная сумки. Но телефона нет, и я готова завыть от разочарования. Зарядный кабель, упаковка платков и автомобильный ключ — больше ничего нет в наплечной сумке, дорожная тоже пуста. Проклятье! Значит, свой мобильник он носит при себе. Но если бы он уходил из замка, то наверняка взял бы с собой зарядный кабель и ключи от машины, разве нет?
На всякий случай я заглядываю под кровать. Я впечатлена: там действительно есть кое-что. К сожалению, телефона нет, но есть старая книга в кожаном переплете. Тут же чувствую, чем это может оказаться. Я так надеялась найти ее в часовне, но теперь она мне мало поможет. Торопливо открываю книгу, чтобы убедиться, нет ли внутри вырезанной ниши для телефона. Обнаруживаю даты и записи, все сделаны старомодным шрифтом. Книга похожа на церковную, но сейчас это меня мало интересует. Нужно выбраться отсюда. И как можно скорее! А книга слишком тяжела, чтобы брать с собой.
Смирившись, запихиваю ее обратно под кровать и спешу в соседнюю комнату, где живет Николетта. Здесь такой же беспорядок, как и вчера утром. Последняя надежда на Николетту, ведь телефоны забрала она. Письменный стол оставляю на десерт, сначала обыскиваю ее шмотки, несессер, шарю под кроватью, за шкафом, но быстро понимаю, что здесь ничего не найду.
Какой-то звук заставляет меня окаменеть. Я проскальзываю к двери и выглядываю наружу, но в коридоре никого. Вспоминаю Себастиана, как он запер меня в потайной комнате.
«Прекрати думать, Эмма, — заклинаю я себя. — Все это может подождать. Все заключения можешь оставить полиции. Сконцентрируйся на чертовом телефоне».
Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. (Книга притчей Соломоновых 10:12)
Марта затушила сигарету, упаковала камеру в черный кожаный кофр и покачала головой.
— Что-то изменилось.
— Что ты имеешь в виду? — Агнесса в ужасе смотрела на подругу. К чему она клонит? Может, о чем-то догадалась?
— Не могу сказать, но ты выглядишь иначе. — И тихо добавила себе под нос, чтобы Агнесса не расслышала: — Еще лучше.
У Агнессы, которая склонилась над яйцами, все похолодело внутри. Неужели от его поцелуев остались какие-то следы? Она поклялась Карлу, что никогда не выдаст его. Марта подошла очень близко и так пристально смотрела в глаза Агнессе, что та могла чувствовать ее дыхание, пронизанное сигаретным дымом. Девушку затошнило.
— Что ты имеешь в виду? — попыталась непринужденно спросить Агнесса.
— Ты стала как-то женственнее.
Агнесса с облегчением улыбнулась.
— Ну, мне же скоро шестнадцать, я и должна постепенно превратиться в женщину.
— Да, но в тебе не только это. Я еще не поняла, но, возможно, узнаю, когда проявлю фотографии.
«Надеюсь, что нет», — подумала Агнесса. Хотя Марта была самым умным человеком из всех ее подруг, она была еще и страшно ревнивая. Она хотела, чтобы Агнесса принадлежала только ей. Кроме того, девушка тоже была влюблена в Карла и часами говорила с Агнессой о том, как бы привлечь его внимание.
Агнессе это не нравилось, что она постоянно искала отговорки, чтобы не оставаться с Мартой наедине.
Сегодня их вдвоем отправили собирать яйца, но только потому, что Гертруда была занята наказанием новеньких. Она также ненавидела все, что доставляло радость Агнессе, и, конечно, не могла не заметить дружбу девочек. Агнессе было безразлично, врать Гертруде или нет, но с Мартой все было иначе. Даже если Агнесса давно не встречалась с Карлом наедине, ей нравилось, как он на нее смотрел и незаметно подмигивал. Тогда Агнесса осознавала, что все это не приснилось и они созданы друг для друга. И что он точно так же страдает, как и она из-за постоянного контроля.
Марта уговорила ее позировать на октябрьском солнце. Оно так ярко светило, а озеро красиво блестело. И хотя Агнесса согласилась добровольно, все равно ощущала, что Марта раздражена.
Она уже засунула в рот вторую сигарету, и Агнесса невольно отвернулась. В последнее время ее тошнило от табачного дыма.
— О чем ты думаешь?
Марта глубоко вздохнула:
— Я сбегу отсюда. Мне нужно отсюда выбраться, и ты должна пойти со мной.
— Так не пойдет!
«Карл, — подумала Агнесса, — без него я больше не смогу жить».
— Я тебя не понимаю, Агнесса. — Марта взглянула на нее, качая головой. — С одной стороны, ты единственная, кто может возразить Гертруде, и не важно, какое за это последует наказание. А через минуту ты снова становишься пугливым котенком.
Она примирительно погладила ее по руке, но Агнесса и так понимала, что Марта не хотела сказать ничего дурного.
— Давай созреем, а когда кончится учеба, тогда и сделаем это, — предложила Агнесса.
— Обещаешь?
— Клянусь!
«Потому что тогда Карл тоже убежит со мной, — подумала она. — Тогда он сможет быть рядом».
— Твои слова, да Богу в уши. — Марта улыбнулась, но потом снова сделалась серьезной. — Но я не знаю, смогу ли терпеть так долго. Мне нужно вырваться отсюда, я хочу фотографировать, и не только этих черных ворон.
Она не докурила сигарету, затушила и сунула обратно в пачку, которую закрепила в потайном месте — под подвязкой на ноге.
— Пойдем лучше, а то Гертруда опять разбушуется.
Они принесли яйца в заполненную паром кухню, где другие девочки готовили завтрак. Именно здесь ощущался максимальный контраст с горным воздухом. Густо пахло фруктовым чаем, сваренными вкрутую яйцами и печеночной колбасой, отчего у Агнессы вдруг встал комок в горле. Ее страшно тошнило.
— Что случилось? — спросила Марта, увидев, как внезапно побледнела подруга.
— Мне дурно, — запинаясь, ответила Агнесса, не заметив, как в кухню вошла Гертруда. — Мне нужно на свежий воздух!
— Можно подумать, вы здесь уже наработались. — Сестра Гертруда прошла между Агнессой и Мартой. Она устрашающе нависла над Агнессой, внимательно разглядывая ее.
Запах старого одеколона от одежды сестры Гертруды смешался с вонью пота, ядреного мыла и кухонной стряпни. Агнесса прикрыла рот рукой, оттолкнула Гертруду в сторону и со всех ног помчалась вниз по лестнице в подвал, к душевым. Она подоспела к умывальнику вовремя. Гертруда и Марта поспешили следом и наблюдали, как содрогается в рвотных конвульсиях тощее тело Агнессы. Не в силах стоять на ногах, она оперлась о край умывальника, ее блузка вылезла из юбки — Агнесса не успела застегнуть пуговицу на талии и молнию. К несчастью, впопыхах Агнесса не поняла, что Марта и Гертруда смогли увидеть, что, собственно, стало причиной недуга. Живот Агнессы стал слишком большим.
Гертруда отослала Марту из душевой, закрыла за ней дверь и повернулась к Агнессе.
Глава 26
В этот раз я уверена, что мне не послышалось. Это точно шум захлопывающейся двери. Я не одна! Но он был такой тихий, что лучше держаться настороже. Я сую фотографию и медальон в карман джинсов. И тут же снова слышу тихие шаги. Заинтересовавшись, я проскальзываю к лестничным маршам и осторожно склоняюсь через каменные перила.
Это Себастиан. Он совершенно спокойно спускается вниз, он уже почти дошел до последнего марша перед первым этажом. Я просто разрываюсь — одна часть меня хочет позвать его, чтобы не быть одной, но другая пересиливает, и я не издаю ни звука.
Откуда он вышел? Что за дверь закрылась? Здесь наверху Себастиана не было, иначе я бы знала. Но на лестничных клетках нет никаких дверей. Или все же этот звук мне померещился? Я снова смотрю вниз из-за перил. Лестничные марши пусты. Осторожно пережидаю еще некоторое время, потом ковыляю вниз до следующей площадки так тихо, насколько возможно. Тут меня встречает, склонив голову, вставшая на дыбы лошадь Наполеона с картины. Никаких дверей, лишь отвратительная картина, которая немного покачивается из стороны в сторону. Мне требуется пару секунд, пока до меня доходит, что все это значит. Я отодвигаю картину в сторону и совершенно не удивляюсь, когда за ней обнаруживаю крошечную дверную ручку.
Потайная комната, похожая на камеру в библиотеке. Секунду я колеблюсь: может, именно здесь они спрятали телефоны? Я поворачиваю ручку и вижу слабо освещенный коридор. Медленно хромаю вперед, в голове сумасшедшей каруселью вертятся мысли. Моя мать, которая врала мне постоянно, может быть, все еще жива, моя мать — девочка со стигматами; а еще студентка, которая покончила с собой в клинике, и Себастиан, снова этот Себастиан.
Ход несколько раз некруто свернул, потом я останавливаюсь перед огнеупорной стальной дверью. Сомневаюсь, но все же открываю ее.
И вижу две тяжелые пластиковые шторы, которые обычно используют в забегаловках, чтобы отделить зал от кухни. Я отодвигаю их и спустя секунду застываю от изумления.
Передо мной нечто вроде пункта управления, как в НАСА, только здесь на мониторах не Вселенная или Луна, а комнаты замка. Монитор на мониторе.
Не веря своим глазам, я мотаю головой, постоянно бормочу:
— Нет, нет, нет.
Словно находка от этого растворится и исчезнет. Этот замок — не зона строгого режима, а мы — не заключенные. Я считаю мониторы. Их двенадцать. Целых двенадцать! Я узнаю главный холл и две душевые, а также коридоры, ведущие в подвал, столовую, бальный зал с камерой, нашу с Софией спальню и комнату мальчиков, сад и северное крыло замка. Три монитора выключены. Кроме того, есть еще звуковые колонки, если я правильно понимаю. С этими микрофонами можно прослушать любой разговор в замке, в любом месте. Каждый мог услышать, что я говорила об убийцах моей матери. Или то, что София говорила о кумпунофобии мне и Беккеру.
Мне кажется, что сейчас кто-то взял да и вывернул все мои внутренности наизнанку. Понимание, что вчера вечером кто-то сидел здесь и наблюдал, как Филипп подготавливает меня для кровавой фотосессии, — самое унизительное, что я когда-либо переживала.
Но потом я собираюсь с силами. Нужно использовать мониторы. Если остальные еще здесь, их ведь должно быть видно, разве нет? Я лихорадочно по очереди осматриваю экраны, но ничего.
Замок словно вымер.
Остаются еще выключенные мониторы. В каких комнатах стоят их камеры?
Я оборачиваюсь и осматриваю длинный стол напротив стены мониторов, где лежат записные книжки и шариковые ручки.
Значит, здесь все записывают и протоколируют, как в фильме «Жизнь других»[11].
Я собираю листки, и на глаза попадается кроваво-красный блестящий телефон Софии. Я вздрагиваю от триумфа, сразу же хватаю мобилку. Пожалуйста, пожалуйста, пусть здесь ловит связь!
Телефон выключен, или аккумулятор разрядился. Я включаю его, но надежды тают, наверняка потребуется ввести PIN-код. И, конечно, так и есть — сразу после включения мобильник требует ввести код, и, словно в насмешку, раздается звук коровьего колокольчика, оповещая о загрузке фоновой картинки. Я в бешенстве смотрю на коллаж из фотографий и не сразу понимаю, но потом меня тошнит и голова идет кругом, все разом.
Этого не может быть!
Это совершенно невозможно!
Взволнованно тыкаю на фотографию вверху справа, в надежде, что она увеличится. Но картинка остается размером с почтовую марку, как есть. Я подношу мобильник к глазам, чтобы удостовериться.
Дрожащими пальцами достаю медальон из кармана штанов, кладу рядом с телефоном. Одна и та же картинка. Единственная фотография отца, которая у меня есть.
Что она делает в телефоне Софии? Я бы не поверила своим глазам, но я внимательно осмотрела телефон, когда Филипп нашел его позавчера в подвале. Я закрываю медальон и снова прячу его. Какое-то движение на мониторе, который показывает душевую девочек, привлекает мое внимание. Даже там они установили видеокамеры. Николетта идет в туалет.
Я ошарашенно смотрю на монитор. В первый момент я чувствую облегчение, которое тут же улетучивается. Значит, она тоже здесь, как и Себастиан.
Все время?
Но где они прятались?
Себастиан наверняка вышел из комнаты с мониторами. Николетта была с ним? Наблюдали ли они за нами, как за амебами под микроскопом?
Это удар в солнечное сплетение. Я так испугалась утром, а они здесь уютненько сидели и смотрели, как кино. Но теперь я воспользуюсь их же оружием. Я наблюдаю за ней. Николетта так бодро спускается в душевую, что ее красное летнее платье виляет из стороны в сторону, она открывает ржавый кран и берет мыло. Она выглядит довольной, даже счастливой.
Значит, все — лишь игра, только на этот раз более изощренная и сложная, чем раньше?
В этот момент в душевую входит Себастиан и что-то говорит Николетте. Она застывает на месте и кладет мыло обратно. Ее лицо краснеет, глаза расширяются. Николетта отвечает ему что-то, но я ничего не слышу.
Проклятье, включен другой микрофон. Я гляжу на пульт звукозаписи под мониторами и пытаюсь определить номера. Камера в душевой под номером пять, ищу на пульте кнопку с той же цифрой и лихорадочно жму ее.
— Убирайся! — Голос Николетты едва различим, даже вода из крана капает громче. Внезапно она очень разволновалась.
— Сначала мне нужно от тебя объяснение. — Себастиан подходит к ней совсем близко.
Николетта смеется, но смех довольно нервный.
— Беккер предупреждал меня о тебе! Он говорит, ты патологический лжец!
Я вспоминаю газетную вырезку, которую нашла в ее комнате. Думаю о девочке.
— Это же просто смешно!
Он приближается к женщине, а та пытается незаметно, боком пробраться к двери. По лицу я вижу, как сильно она боится. Она знает, что он сидел в тюрьме, она это точно знает. Один шаг, второй, и уже кажется, что Себастиан отпустит ее.
— Как же ты тогда объяснишь, что Беккер доверил патологическому лжецу драгоценных подростков? — Он перерезает ей путь к бегству и склоняется над ней, заставляет отступить.
— Я не позволю запугать себя. Беккер подготовил меня к тому, что ты можешь выкинуть нечто подобное. Он говорит, ты охотно манипулируешь другими!
Николетта прижимается спиной к стене. В тот же миг что-то мелькает на боковом мониторе, который показывает лестницы. Доктор Беккер входит на площадку. Я не знаю, радоваться мне или нет. Направляется ли он сюда? Наверное, будет совсем не здорово, если меня здесь застукают, но, возможно, он поможет Николетте?
Я переключаю внимание на душевую. Себастиан упирает ладони в стену, выложенные плиткой, справа и слева от Николетты, и прижимает ее. Она пытается делать вид, что ее это не беспокоит, но я вижу, как дрожат под красной юбкой ее колени.
— Забудь, я не верю ни единому твоему слову! Ты отвратителен мне. — Она едва шепчет.
Себастиан склоняется к ее лицу совсем близко и просто говорит ей в глаза:
— Если я уйду без тебя, ты об этом пожалеешь.
Доктор Беккер уже поднялся на первую площадку. Я лихорадочно бегаю глазами от монитора к монитору. Я должна помочь Николетте.
В этот момент Николетта так жестко лупит Себастиану между ног, что ее красная юбка резко взлетает.
Себастиан вскрикивает и приседает, она отталкивает его.
Я вздыхаю с облегчением. Беги же скорей оттуда, Николетта! Но в тот же миг она спотыкается, и Себастиан оказывается над ней. Он хватает ее за плечи и тащит в сторону туалета по полу. Она стонет, и я слышу, как негодяй без умолку бормочет:
— Я не позволю себя облапошить, со мной это уже многие проделывали!
Потом я слышу ее голос:
— Себастиан, отпусти меня! Давай поговорим. Найдем приемлемый вариант для всех!
Я в панике ищу микрофон и придумываю, чем бы таким шокировать Себастиана, чтобы он прекратил. Но микрофона нет. Я беспомощно вынуждена смотреть, как он ее тащит в угол, и они выходят из зоны видимости камеры. Проклятье! На миг меня словно парализовало, потом я понимаю, что нужно сделать, хватаю телефон Софии и бросаюсь к лестнице, торопливо ковыляя по коридору. Беккер должен мне помочь, он сильнее меня. Нужно вместе спуститься в душевую, и мне безразлично, если он узнает, где я была.
Но на площадке никого нет, и я готова завыть от разочарования. Я зову его. Никто не отвечает. Беккер бесследно исчез. Но этого не может быть. Я его только что видела на мониторе.
«Если только это не запись», — проносится в голове мысль.
Но меня это уже не остановит. Мне предстоит спуститься вниз. Когда я наконец добираюсь до кузни, кажется, что прошла целая вечность. Обнаруживаю, что дверь в подвал распахнута.
О, Господи, если я спущусь вниз, то окажусь в каменном мешке. А вдруг Себастиан выйдет мне навстречу?
Но другого выхода нет, я должна помочь Николетте. Бросаюсь по коридору вниз, никого по пути не встречаю. Мое сердце беспорядочно колотится, когда я медленно открываю дверь в душевую и лихорадочно озираюсь. Никого.
— Эй? — шепчу я.
Туалеты. Мне нужно заглянуть за угол. «Ты можешь это сделать, Эмма, — заклинаю я себя. — Ты можешь».
Сделав три больших шага, я сворачиваю за угол. Кабинки открыты. Никого. Ни Себастиана, ни Николетты. Но когда я снова оборачиваюсь, то вижу с этой точки нечто другое, от чего у меня подкашиваются колени. На грязном сером кафеле под раковиной и на боковой стенке красные брызги, на самой раковине — капельки крови, а внизу под ней — маленькая красная лужица. Я чувствую, что меня вот-вот вывернет, но побеждаю свой страх.
«Эта кровь не настоящая, — убеждаю я себя. — В этом доме столько бутафорской крови, можно, наверное, целую ванну ею наполнить».
Словно в трансе, я иду к кровавому следу. Осторожно пробую указательным пальцем крошечные пятнышки, нюхаю их.
Это не искусственная кровь.
Она настоящая.
Глава 27
Осознание того, что это настоящая кровь, неожиданно заостряет мой ум, мне становится совершенно ясно, что нужно убираться отсюда. Я опираюсь на дальний, чистый конец раковины, чтобы перенести вес и не нагружать лодыжку. Комната с мониторами создана не для нашей защиты и безопасности, а для того, чтобы контролировать нас. Зачем это могло понадобиться? Никто из нас не сошел с ума, и все безопасны для общества. Нет, речь идет исключительно о власти. И мне все равно, что здесь разыгрывают, — ситуация усугубляется. Выходит из-под контроля.
Нужно выбраться отсюда, прежде чем кто-нибудь найдет и мою кровь в душевой. Только так я смогу помочь остальным. Для этого я должна отыскать выход наружу. Может, из этого чертового подвала есть ход, который не заперт? Я еще крепче сжимаю телефон Софии в кармане. Я буду бежать долго, сколько потребуется, пока не появится связь. Мне пришло на ум, что у всех телефонов есть функция аварийных вызовов и можно вызвать полицию, даже не набирая PIN-код.
И если я не найду выход, придется вылезти через незарешеченное окно второго этажа по веревке или, в крайнем случае, по простыням. Как бы там ни было, нужно убраться отсюда и как можно скорее позвонить в полицию.
«Думай, Эмма, думай, прежде чем бежать куда глаза глядят. Филипп нашел телефон Софии в каком-то леднике, может быть, оттуда есть выход, какая-нибудь дверь, через которую раньше спускали в подвал зимой ледяные блоки?»
Я в последний раз бросаю взгляд на кровавые брызги на кафеле и покидаю душевую. В коридорах темно, и мое смелое решение исследовать ледник превращается в отчаянно смелое. Сквозь бульканье и жужжание труб и проводов до моих ушей доносится тихое дыхание. Левая рука крепче сжимает телефон, а правой я ощупываю каменную шершавую стену в поисках выключателя.
Внезапно стена под моими пальцами становится мягкой, теплой, дышащей, живой. И прежде чем я успеваю понять, что это значит, на меня кто-то накидывает ткань, хватает и тащит куда-то.
Материя на голове грубая и колючая, я испугана, дыхание сбивается. Через плотную ткань я почти не получаю воздуха. Пытаюсь побороть панику, но она лишь возрастает и затмевает все остальное. Мне остается только трепыхаться, брыкаться и кричать.
Человек, который напал на меня, не говорит ни слова, не пытается меня успокоить. От него не слышно ни «т-с-с-с, тише», никаких других комментариев. Ничего.
Мне вспоминается письмо:
«Всего 24 часа, Эмма, потом все будет кончено».
Который сейчас час? О, Господи, который час?
— Себастиан! — ору я. — Черт, Себастиан, это ты? Отпусти! Отпусти немедленно!
Но человек молчит, ни малейшей реакции, он, как робот, идет дальше, сжимает меня крепче в объятиях. Но тут мне вдруг кажется, что он пахнет мокрым песком. Филипп?
На мгновение он замирает, очевидно, открывает дверь, грубо сажает меня на пол и выходит из комнаты.
Я пытаюсь стянуть мешок с головы, и, на удивление, после некоторых усилий мне это удается. Зачем он вообще меня накрывал? Я быстро оглядываюсь. Довольно темно, но вверху какой-то узкий люк, через который в подвал проникает немного света. Когда глаза привыкают к темноте, узнаю на полу сливное отверстие. Надо мной натянуты бельевые веревки, позади, на стене, висят две старые овальные жестяные ванны, как перевернутые корабли. В комнате холодно, стены голые.
Хорошо. Еще не все потеряно. У меня все еще телефон Софии. Даже если здесь, внизу, шансы поймать связь ниже, чем на верхних этажах, телефон кажется мне секретным оружием — это триумф для меня. Незнакомец (а я не уверена, был ли это Себастиан или Филипп), вероятно, забыл меня обыскать. Подхожу к одной из ванн и кладу телефон под нее: не лучший тайник, но другого нет.
Потом я вытаскиваю из джинсов медальон мамы, при этом на пол падает фотография, которую я нашла в конверте с заданием для Филиппа. Поднимаю ее, но стараюсь особо не разглядывать. Решившись, я сгибаю ее пополам и прячу в бюстгальтер, медальон вешаю на шею. В тот же миг за дверью слышу звуки. Подумываю, стоит ли накинуть мешок на голову, но отказываюсь от этой идеи. Кто-то заходит. Я не могу даже сказать, мужчина или женщина тот, кто притащил меня сюда. Потому что на нем широкая колышущаяся монашеская ряса, а на лице — маска Гомера из «Симпсонов», отчего у меня на миг даже перехватывает дыхание. Это выглядит странно, смешно и одновременно жутко. В какой-то момент я почти уверена, что все это отборочные игры лагеря. Иначе к чему маска из «Симпсонов»? Я должна поверить, что за всем стоит Том? Но он наверняка умнее и нацепил бы какую-нибудь другую маску. Кроме того, я бы точно узнала его по характерному качанию головой.
А если это человек, которого я вообще не знаю? Какие-то закулисные силы, которые постепенно убрали Беккера, Себастиана, Николетту и остальных?
Нет. Хотя здесь и произошло столько сумасшедших штук, я просто не могу себе представить, что замок внезапно захватили какие-то темные личности. Мы же не на море, где можно встретить корабль с пиратами на борту.
— Натягивай! — приказал Гомер, указывая на пакет рядом с собой. Голос за маской искажается, кажется холодным и металлическим, и я не уверена, знаю ли его обладателя.
— А если я откажусь?
— Умрет один из остальных.
— Что это значит?
— Одевайся, заплети косу. Я заберу тебя через пять мнут.
Гомер выходит.
«Умрет один из остальных».
Я поникла. Пожалуйста. Кто эти «остальные»? София? Беккер? Или Филипп? Я уж и не знаю, что думать.
Я смотрю в пакет. Там нахожу плиссированную юбку, блузку в клеточку, белую накидку и чулки до колен. А ко всему прочему еще расческу и резинку для волос. Точно как у девочки на фото, которая развешивала белье.
Внезапно я теряю остатки мужества. Все, что я предпринимаю, ничего не дает и ни к чему не приводит.
Зачем мне переодеваться? Я укладываюсь на бок, на мешок, свожу колени, обхватываю их и крепко сжимаю руками. «Это все, что у тебя есть, — проносится у меня в голове мысль. — Так и останусь лежать».
Все кончено.
Мне уже все равно, но вдруг дверь открывается и снова появляется Гомер. Мне безразлично, что он скажет. Я просто лежу. Он склоняется надо мной, что-то приставляет к моей голове. Оружие? Он шепчет мне металлическим голосом:
— Если ты немедленно не оденешься, Филипп умрет.
Я могу лишь устало улыбнуться в ответ. Хороший трюк, если под рясой сам Филипп. Я все еще лежу.
Он сильнее вдавливает оружие мне в висок, и мне кажется, что я слышу мамин голос. Она умоляет меня не ставить на кон собственную жизнь. Она умоляет встать и сделать то, что говорит Гомер.
— Ты врала мне, — тихо шепчу я этому голосу.
— И что с того? — отвечает она. — Соберись, Эмма, иначе все напрасно.
Терпение Гомера подходит к концу:
— Тогда я застрелю Филиппа у тебя на глазах.
Я нехотя отпускаю колени и поднимаюсь, потом начинаю переодеваться. Мне все равно, кто на меня смотрит, мне абсолютно все равно.
Я достаю плиссированную юбку из пакета и перевоплощаюсь. Блузка в клеточку, белая накидка, наконец прическа. Я с трудом натягиваю чулок с рисунком в дырочку на опухшую лодыжку, но Гомер торопит. Дрожащими пальцами я сплетаю волосы в косичку, как у девочки на фото. Я еще не закончила, а он уже требует, чтобы я шла за ним.
Мы выходим из подвала, бежим по лестнице наверх, он беспрерывно меня торопит, требует, чтобы я двигалась быстрее. Чем выше мы поднимаемся, тем жарче становится, но в душе у меня все похолодело от страха и боли. Когда я понимаю, куда мы направляемся, возвращается инстинкт самосохранения. Это северное крыло.
Мы подходим к библиотеке. Я не хочу оказаться в камере и замедляю шаги, говорю, что больше не могу, останавливаюсь, отчаянно соображаю, что еще сделать.
Но Гомер толкает меня оружием в спину и заставляет шагать вперед.
— Тебе не нужно бояться, Эмма! — внезапно шепчет он.
Я не уверена, что это на самом деле так, но на какой-то момент показалось, что из-под маски говорит женщина. Или я просто схожу с ума и мне все чудится? Неужели я слышу голоса? Может, это голос моей матери, которая хочет меня утешить?
Мы заходим в библиотеку, проходим комнату, на полу адовы муки отражаются еще отчетливее. Сначала мне кажется, что у меня на самом деле видения, но потом я вижу, что напротив потайной комнаты установлены прожектор и камера. Там же сидит Том с листами ежедневной газеты на груди. Но сидит он не просто так: он привязан к стулу.
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. (Первое Послание к Коринфянам 13:13)
Это случилось не сразу. Первую неделю после того, как Агнессу избила Гертруда, девочка проплакала в камере, терзаясь по Карлу, но он не пришел. Вообще.
Спустя неделю Марта принесла ей бутерброд с печеночной колбасой, Агнесса с жадностью съела его. Марта умоляла ее продержаться:
— Они хотят, чтобы ты потеряла ребенка. Гертруда вне себя от злости. В ее обители никому не позволено беременеть. Даже пресвятой Деве Марии. Но ты ведь не Дева Мария, — сказала наконец Марта, продолжая умолять открыться, кто же отец.
Но Агнесса не могла сказать этого. Она обещала и знала: это разрушит ее священную любовь, поэтому молчала.
Марта вышла из себя от злости и больше не приходила. Потом еще Урси украла для Агнессы немного вина для мессы — его якобы хорошо пить для ребенка. Она наблюдала, как Агнесса его пьет, поклялась, что никому ничего не расскажет, но девочка и ей не открылась. Урси больше тоже не приходила, как и Марта. А Карл не пришел ни единого раза. Лишь Гертруда лично выносила ведро с помоями и давала свежую воду.
Молча.
Через две недели Агнесса привыкла к темноте и тишине, которые окутывали ее и ребенка. Каждый день она постепенно увядала, голод чувствовала все меньше, а живот рос все больше. Агнесса начала молиться Деве Марии, как учила бабушка:
«Пресвятая Дева Мария, матерь Божья, которой принадлежит весь мир, негасимый свет. О тебе ликуют небеса, о тебе возрадуются ангелы и архангелы. Ты изгоняешь демонов. Прогоняешь искусителя и дьявола, выгоняешь с неба. Ты, Царица небесная, возносишь умерших на небо».
И потом как-то свет вернулся к Агнессе. Не сразу, постепенно.
Сначала посветлели ее сны, а когда она проснулась, на вкус вода ей казалась немного сладковатой, а постоянный голод пропал. За это она поблагодарила Деву Марию и молилась еще ревностнее, потому что понимала ее молчание и охраняла. После того как Дева Мария посылала ей каждый день небесные видения, наконец это случилось.
На сорок девятый день в камере, в пятницу, сам архангел спустился к ней, окутанный золочеными облаками света, в сопровождении чистых чарующих голосов ангелов, которые пели для нее «Кирие элейсон»[12].
После времени, проведенного в темноте, свет казался таким слепящим, что Агнесса даже не могла рассмотреть его фигуру, но она слышала, потому что он заговорил с ней словами из «Откровений»:
«Твои грехи прощены, потому что “он возлюбил нас и омыл нас от грехов наших Кровию Своею”. Слушай, Агнесса, я говорю с тобой от имени избавителя нашего. “Я обернулся, чтобы увидеть, чей голос, говорит со мною; и, обернувшись, увидел семь золотых светильников и посреди семи светильников — подобного Сыну Человеческому, облеченного в поддир и по персям опоясанного золотым поясом; глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его как пламень огненный, и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил обоюдоострый меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей”».
Он исчез, и вместе с ним свет и хор ангелов. А Агнесса несколько часов лежала, окутанная любовью, радостью и уверенностью. Ее мысли были обращены к Гертруде, которая так ошибалась в Агнессе, ведь архангелы не приходят к недостойным. Ей было жаль Гертруду, в жизни которой никогда не было такой любви, та не ощущала такого счастья.
А когда Агнесса проснулась на следующий день, то знала: ей не в чем себя упрекнуть, потому что она не совершала грехов. Ее вел Господь. Все это — его промысел, «хороший план», как любила говорить бабушка, потому что Бог любит своих чад. Всех, даже самых крошечных.
Это был не последний раз, когда архангел приходил к Агнессе, и она готовилась к тому, что уготовила ей судьба, и к тому, что было связано с его судьбой, как Дева Мария со своим сыном. Тоска по Карлу сменилась в душе Агнессы блаженным чувством, и его присутствие больше было не обязательно, потому что сам Господь проявил к ней милость, ведь она просила о заступничестве Деву Марию.
Теперь, когда она почувствовала первые капли от тернового венка Спасителя на своем лбу, когда ладони налились болью и когда из бока потекла кровь, тут она познала его, и это было хорошо.
Эти стигматы были знаком его всеобъемлющей любви, которая наполняла душу Агнессы светом и прощением.
И поэтому ее темница стала раем на земле.
И ее ребенок был его ребенком, благословенным ребенком.
И это было хорошо.
И это было хорошо.
Любовь была с ней.
Глава 28
— Том! — кричу я. — Том, с тобой все в порядке? Что здесь произошло?
— Тихо, — говорит Гомер и резко тычет мне в спину дулом пистолета. Но я не могу иначе, я так рада его видеть, подбегаю к Тому и обнимаю его. Кто-то избил его — губы растрескались, опухли и кровоточат. Он очень бледный.
— Что здесь происходит, Том?
В ответ он пожимает плечами и сипло говорит:
— По всему видать, нас захватили Симпсоны.
Его глаза подозрительно блестят слезами, и я бы охотно утешила его, если бы понимала, что нужно делать.
В этот момент меня оттаскивают от Тома и ставят за его стул.
— Просто стой здесь, и ни слова больше, — приказывает Гомер, а сам занимается видеокамерой.
Но почему мне нужно стоять здесь в этой одежде? Все кажется сценами из фильма, в котором человек, желающий совершить самоубийство, оставляет будущим поколениям послание. Я вонзаю ногти в мягкую ладонь, нельзя сейчас отворачиваться, это не поможет ни мне, ни Тому.
Краем глаза наблюдаю за Гомером. Может, удастся выяснить, кто скрывается за маской. Это Филипп или Себастиан? Или Беккер, который недавно бесследно исчез на лестничной клетке? По большому счету, это могла бы быть и Николетта, если кровь в душевой была лишь отвлекающим маневром, на что я все еще надеюсь. В конце концов, я ведь не видела, что произошло.
— Сейчас ты наговоришь на камеру послание своим родителям, — говорит Гомер Тому. — Если они хотят увидеть тебя живым, им следует позвонить по номеру, который указан под заголовком газеты. И позвонить в ближайшие три часа, они получат инструкции. Если они обратятся в полицию и я об этом узнаю, все равно, как хитро они это обставят, — твоя смерть будет особенно ужасной. Если они не позвонят вовремя, ты тоже умрешь. — Гомер смотрит на меня и кивает, словно хочет заверить, что говорит правду.
— Давай, Том, мы не можем здесь сидеть весь день!
Похищение. Я просто не могу в это поверить.
Том вздыхает несколько раз, прежде чем произнести хоть слово.
— Но вы наверняка до них не достучитесь. Отец сейчас на конгрессе в Лос-Анджелесе, мать поехала вместе с ним.
Металлический голос звучит враждебно, но, несмотря на это, Гомер, кажется, развеселился:
— Да что ты говоришь?! Я даже знаю, в какой гостинице они остановились. Но не волнуйся, это электронное письмо твой отец откроет. Я не буду писать в теме письма: «Вашего сына выкрали из летнего лагеря», такое на него мало подействует, нет, мы же знаем, что на самом деле он просто пищит от всяких медийных штучек. Это будет срочный запрос о его разрешении твоего участия в ток-шоу на первом федеральном канале.
Я вытягиваю руку и глажу Тома по спине, пытаюсь его хоть как-то успокоить, но он напрягается еще больше.
— Если вам все это известно, то вы наверняка знаете, что наша семья небогата!
— О, нет, речь не о деньгах! Не забивай себе голову, Том. Все, что мне от тебя нужно, — это видео.
Я не могу узнать этот голос. Это не Беккер, этот Гомер говорит слишком грубо. Замечаю, что он иногда говорит «я», а иногда «мы». Он специально так говорит или это должно что-то означать?
— Ну, за дело!
Том пытается собраться, он смело смотрит в камеру. Но ему постоянно приходится бороться с собой, чтобы не заплакать. Когда Том говорит, меня вдруг начинает трясти. Я не хочу этого слышать. И я рада, что от волнения и паники у меня снова шумит в ушах.
Но мозг продолжает работать, должна же быть причина, почему они не бросили нас в подвал в первый же день и не сняли это видео. Или это все же чужаки, которые напали на лагерь.
— Хватит! — Гомер обрывает Тома на середине предложения, выключает камеру и отвязывает парня. Я жду, что теперь моя очередь, но не угадываю.
Хотя Гомер и привязывает меня, но не к стулу. Мне нужно встать на колени, что в юбке и с моей лодыжкой дается с трудом. Потом он достает из кармана рясы наручники и приковывает к старой батарее. Без лишних слов и объяснений он хватает Тома и выходит с ним. Я остаюсь одна. Только когда мои измученные колени начинают нестерпимо болеть, Гомер наконец возвращается.
На этот раз он приводит Софию. Ее круглое лицо, кажется, внезапно исхудало, взгляд пустой. Наверное, она абсолютно в шоковом состоянии.
Когда София видит меня, на ее лице мелькает тень облегчения. Она удивлена, но когда замечает, во что я одета, снова падает духом.
Гомер провожает ее к стулу и сообщает, что нужно делать. Она не выказывает никаких чувств, ничего. Только когда Гомер в третий раз спрашивает, поняла ли она его, София неохотно кивает.
Теперь мне нужно сесть рядом с Софией, руки мои наш мучитель заводит за спину и защелкивает наручники. После того как включается камера и раздается команда начать, София мотает головой.
— Нет, я этого не сделаю, — говорит она.
— Нет? — В этот раз смех Гомера напоминает не о Себастиане, а скорее о Филиппе.
— Я выхожу из игры. Теперь я хочу домой. С меня довольно этого психологического бреда. Игра закончится для меня прямо здесь.
Я затаила дыхание. О, Господи, она ведь это не всерьез?
— София, это не игра, — заклинаю я ее. — Пожалуйста, делай, что он говорит. У него оружие!
Она поворачивает голову и смотрит на меня пустыми глазами. Она полностью отстранилась. Я совершенно не могу до нее достучаться.
Чтобы выиграть время, я обращаюсь к похитителю:
— Почему вы не сделаете ролик сразу со всеми и не отправите одно общее письмо? Это сэкономит время и нервы.
Гомер отмахивается:
— Пусть мои нервы тебя не заботят.
Использую этот момент, чтобы поймать взгляд Софии. Если нам удастся освободиться от наручников, мы бы смогли броситься на Гомера. Но один взгляд на Софию говорит мне, что нужно отказаться от сумасбродного плана. Она все еще не реагирует.
— София, тебе уже край?..
Она кивает, словно в замедленной съемке. И потом делает все, что он говорит. Когда Гомер заканчивает, он снова крепко приковывает меня к батарее и уводит Софию.
А дальше ничего не происходит. Текут минуты, время расползается по швам. Я снова и снова задумываюсь над тем, кто может скрываться под маской Гомера. И чем больше проходит времени, тем больше я нахожу аргументов в пользу Филиппа.
Он не только врал мне и измазал меня искусственной кровью, пока я лежала без сознания, но он единственный, кого не привели в потайную комнату в библиотеке. Кроме того, он хотел навести подозрение на Себастиана. Может быть, эта татуировка значит совершенно иное, он же не знал, что я прочитала газетную вырезку. Вспоминаю, как он был впечатлен, когда мы нашли детские могилы, и как заботился о моей лодыжке. Великолепный актер!
Я дергаю наручники, упираюсь здоровой ногой в батарею, чтобы проверить, надежно ли сидят крепления в стене. Никаких шансов. А мобильник, который здесь, наверху, мог бы помочь, сейчас валяется без дела в подвале.
Где-то воркуют голуби, словно все мирно идет своим чередом. Но только не для родителей Тома и Софии, которые увидят эти ролики. Их жизнь превратится в ад.
Вижу изображения голых людей, длинными вилами их мучают отвратительные черти, варят в адских котлах.
Это так нелепо. Словно ад так выглядит.
Ад на самом деле здесь.
Глава 29
Наверное, я из-за боли в колене и лодыжке все же потеряю сознание. Когда хлопает дверь, мне кажется, что прошло несколько часов. Освещение изменилось. Все во мне панически сжимается. Что теперь меня ждет? Объявились ли родители Софии и Тома? Отпустят ли меня на свободу? Гомер не один, он тащит кого-то в комнату.
Филипп.
Я ощущаю, как в душе у меня что-то начинает жалобно всхлипывать.
Филипп — это не Гомер.
А Гомер — не Филипп.
Значит, его эти события коснулись, как и остальных. Выглядит Филипп намного хуже, чем Том, левый глаз посинел и сильно опух. Несмотря на это, Филипп сразу же ищет глазами меня, замечаю, что он хочет меня утешить. Очевидно, его совершенно не мучит совесть, хотя он меня так жестоко обманул. Несмотря на облегчение от встречи с ним, я не могу ответить на его взгляд.
Во время съемок очередного ролика я тоже должна стоять позади стула, Филиппа он снимает на видео. Парень даже не пытается спорить с Гомером, выглядит очень спокойным, словно экономит силы, и, наверное, это правильное поведение. Я даже не хочу представлять, что происходило между Филиппом и похитителем, как появился синяк под глазом.
Когда ролик снят, Гомер снова приковывает меня и уводит Филиппа. Возле двери Филипп сбрасывает маску наигранного спокойствия и смирения и пытается вырваться.
— Эмма! — кричит он. — Эмма, мы обязательно выберемся отсюда, вот увидишь. Они не такие хитрые, как сами думают!
Но в тот же миг Гомер грубо бьет его пистолетом в поясницу и заставляет замолчать. Я чувствую себя как никогда беспомощной.
В этот раз Гомер возвращается быстрее и уводит меня. Если бы не монашеская ряса! Тогда бы я сразу догадалась, с кем имею дело, и тогда могла бы как-то воздействовать на похитителя. А что, если под рясой каждый раз появляется кто-то другой? В рясе и под маской Гомера совершенно невозможно понять, меняется ли человек. По крайней мере, это объясняло бы, почему один раз Гомер говорит «я», а другой — «мы».
— Как все это связано с моей матерью? — спрашиваю я, хотя особо не надеюсь на ответ.
Но Гомер удивляет меня.
— Не будь такой нетерпеливой, Эмма, — говорит он. — Ты узнаешь об этом первой.
Металлический голос звучит с таким цинизмом, что лучше б я не спрашивала. Гомер безжалостно тащит меня к подвалу под южным крылом замка.
Я дрожу всем телом, когда Гомер открывает дверь и вталкивает меня в комнату. Я ожидала, что он приведет меня в прачечную, поэтому вздрагиваю, услышав голос из полутьмы:
— Эмма!
Это София. Она лежит на каменном полу. Ноги связаны хомутом для кабелей. А рядом с ней Том и Филипп. У всех связаны ноги, а руки скованы наручниками спереди. Теперь и мои лодыжки Гомер вяжет таким же хомутом, потом исчезает, не проронив ни слова.
Едва похититель удаляется, Филипп подползает ко мне и кладет свои скованные руки на мои. София гладит мои волосы. Кажется, теперь она не так паникует, как наверху.
— Мы так беспокоились о тебе. Мы не знали, что они хотят с тобой сделать. А то, как они тебя переодели, испугало нас еще сильнее.
Теплота распространяется по моему животу, к горлу подкатывает комок. Мне стыдно, что я сомневалась в Филиппе. И все же хочу задать вопрос:
— Почему ты ничего не рассказал о своем задании? И о той фотографии со стигматами?
— Какое еще задание? — несмотря на тусклый свет, я замечаю беспомощность на его лице.
— Я нашла его в мусорной корзине в вашей спальне. Ты должен был раскрасить меня.
Филипп немного отклоняется.
— Клянусь тебе, Эмма, не получал я никакого письма. И тебя не обманывал. — Он делает паузу. — Зачем мне тебе врать?
— Я не знаю.
— Теперь уже все равно, — шепчет София. — Кто-то выкрал нас. Это больше не игра. Мы должны что-то делать.
Она права, и я чувствую себя намного лучше в компании. Невольно я спрашиваю себя: «Зачем Гомер отпустил меня к остальным? Вместе мы намного сильнее, чем порознь».
Но тут я вспоминаю о комнате с мониторами. Он может наблюдать за нами и слышать все, что мы говорим. Значит, Гомеру нипочем, если мы разработаем какой-нибудь план и попытаемся захватить его врасплох. Мы сидим на грязном сыром каменном полу, прислонившись к стене под низкими сводами подвала, в котором, кроме нас, ничего нет.
Ни чанов, ни пустых бутылок, ни корзин. Этот подвал абсолютно пуст. Ничего, что можно было бы использовать как оружие, совершенно ничего.
Я рассматриваю заплывший глаз Филиппа, ссадины на губе Тома и заплаканное бледное лицо Софии. Она выглядит измотанной и потерявшей надежду, наверное, я выгляжу так же в этом старомодной, теперь уже грязной юбке. Не представляю, сможем ли продержаться еще. Нам необходим план, пусть даже за нами наблюдают. В моем мозгу собралось множество осколков головоломки, которые непременно надо собрать, чтобы увидеть общую картину и разработать стратегию. Но эти осколки приводят лишь к новым загадкам.
Я хватаюсь за мысль, что смогу выбраться отсюда, только если удастся разгадать главную загадку, которая кроется за всем этим.
— София, у тебя на телефоне есть стартовая страница с коллажом фотографий? — наконец спрашиваю я.
— У тебя ее телефон, что ли?
Том с такой надеждой спрашивает меня, что я совершенно не могу скрыть от него правду:
— Нет, но я пробую кое-что выяснить. На телефоне Софии есть черно-белый снимок одного мужчины, в левом верхнем углу. Кто он?
Том срывается:
— Нас в этом замке запер какой-то сумасшедший похититель, наших родителей шантажируют, а ты болтаешь с Софией о заставке на телефоне? У тебя все дома?
Филипп пытается успокоить его взмахом руки. Его наручники тихо бряцают:
— Эмма наверняка спрашивает не просто так. Правда, Эмма?
— Том, мне очень жаль, если тебе мои расспросы кажутся глупостью, но… — Мой голос срывается, и я не могу выдавить ни слова.
— Эй, народ, так не пойдет, — умоляет Филипп, — мы должны держаться вместе. Пожалуйста! — Он смотрит на меня и ободряюще кивает.
У меня открывается второе дыхание.
— София, так кто этот человек на фотографии?
— Это очень старая фотография моего отца. — Она начинает тихо плакать. — Он ненавидит ее, потому что там он с сигаретой. Я выбрала ее только потому, что хотела позлить его. А теперь они отправят наше видеообращение. Это наверняка убьет маму. — Она всхлипывает громче.
Я не знаю, все ли правильно поняла.
— Твой отец? Это невозможно, — запинаясь, произношу я. — Человек на этой фотографии давно мертв.
Я нащупываю скованными руками цепочку, открываю зубами медальон и показываю ей. София рассматривает его, прекращает всхлипывать и явно растеряна.
— Это же… такая же фотография, — говорит она и, судя по ее виду, чувствует то же, что и я. Она совершенно огорошена. — Эмма, это действительно мой отец.
Филипп растерянно смотрит то на меня, то на Софию, то на медальон.
— Эмма, откуда у тебя снимок?
— От матери. Она говорила, что это мой отец, — шепчу я. — Шарль-Филипп Шевалье. Он умер до моего рождения, выполняя поручение от «Врачей без границ». — Я тяжело вздыхаю.
Все трое озадаченно глядят на меня, а до меня постепенно доходит, что все это значит.
Мой прошлый мир разлетается на тысячи частей, теперь его нужно собрать заново. Они оба живы. Моя мать и мой отец!
Глава 30
— Но тогда вы были бы сестрами по отцу! — Филипп высказывает то, что мне даже на ум не приходило.
Но он все же прав. И внезапно у меня с глаз словно падает пелена. Я понимаю, почему мне София кажется знакомой: мы же похожи. Об этом можно сказать не с первого взгляда, у нее слишком круглое лицо, но есть у нас и общие черты.
— И как это нам поможет? — Том на взводе, я вижу, что он едва сдерживается. — Что это нам дает?
Я закусываю губу:
— Том, Филипп, вы помните, что я вас спрашивала, как вы сюда попали?
Оба кивают.
— Хорошо, тогда слушайте.
Настал момент, когда я должна рассказать им о причине своего появления здесь. Больше не могу удерживать в себе гору информации.
Набираю побольше воздуха в легкие и выкладываю все. Про несчастный случай, про пакет с альбомом, про снимки. Ничего не упускаю, даже свои подозрения по поводу остальных. Сообщаю о находке в комнате Николетты, газетной вырезке о Себастиане и студентке, которая покончила с собой в клинике, где работала моя мать. Я почти закончила, хочу рассказать самое страшное — о комнате с мониторами и Николетте, но в последней момент сдерживаюсь. Если там наверху сидит Себастиан и подслушивает, такое заявление — это мой смертный приговор.
Я заканчиваю, и воцаряется гнетущая неловкая тишина.
— Ты все это серьезно? Считаешь, один из нас может оказаться убийцей твоей матери? — София качает головой. Ее светлые блестящие волосы кажутся седыми, как у семидесятилетней. — Это же бред.
— Прежде чем мы все встретились здесь, мы совершенно не знали друг друга, — говорит Том, его голос почти не слышен. — Что за идиотские идеи?
— Погодите-ка, — вмешивается Филипп, — я не считаю идею такой уж бредовой. Все-таки после автокатастрофы обнаружили один труп, который не смогли опознать, а тело твоей матери так и не нашли до сегодняшнего дня. Это заставляет задуматься, правда? Например, могло случиться так, что мать Эммы поймала кого-нибудь из нас в клинике за воровством наркотиков или что-нибудь еще.
— Ты ведь сам в это не веришь, — говорит Том, но я благодарна Филиппу за то, что он меня защищает. Тот, о котором я думаю, мог бы стать Гомером! Я вдруг краснею. Может, София и права. Мое недоверие — всего лишь доказательство того, что со мной что-то не так.
Но тут я кое-что вспоминаю.
— А не знает ли кто-нибудь из вас студентки, которая покончила с собой? — спрашиваю я. — Может, в этом связь?
Остальные качают головами, а я опускаю голову на руки. Нет, в этом точно нет никакого смысла. Студентка была связана с Себастианом, а не с остальными.
У Филиппа рождается идея.
— А когда снимали ваши ролики, Эмма тоже была в кадре? — спрашивает он всех.
— Да, но как это связано с ее матерью? — выпаливает София.
Мы горячо спорим, будто очнулись от комы. А я с прискорбием сознаю, что нас не только подслушивают, за нами еще и подсматривают. Но как намекнуть на это остальным, не вызвав подозрений и не выказав себя? И даже если Гомер подслушивает наши разговоры, хуже ведь уже не будет, не так ли?
— Так, все с самого начала. Должна быть связь, — говорю я. — Нас всех вызвали в лагерь, правильно? Том, ты действительно уверен, что запрос на участие отправлял именно твой отец?
Том смотрит на меня громадными от удивления глазами, потом качает головой.
— Я просто сразу на него подумал, он постоянно выкидывает подобные номера. Но… — Он умолкает.
Я киваю.
— Филипп здесь, потому что его отец в тюрьме, а его матери предоставили шанс отправить ребенка в лагерь для детей заключенных.
— София, а почему ты здесь?
Девочка колеблется.
— Мой отец получил информацию о «Transnational Youth Foundation» от коллеги, который заверял, что после пребывания в этом лагере у меня не останется никаких фобий.
— Это доказывает лишь то, что кто-то хотел свести нас всех четверых здесь, — вздыхает Том. — Но зачем?
— В случае с Софией и Эммой ответ лежит на поверхности.
Мы с Софией неловко переглядываемся.
— Но может статься и так, — говорит София, — что твоя мать наобум выбрала какую-то фотографию и назвала этого человека твоим отцом, потому что у нее просто не было другой.
Могу представить, как сейчас тяжело Софии, но знаю, несмотря на всю ложь, мама этого не смогла бы сделать. Но я не думаю о своем отце, который, возможно, все еще жив, и о том, что для меня все это значит. Не сейчас!
— Родство не может быть связующим звеном, потому что мы ведь не все родственники, — говорит Том.
— Мы никогда до этого не встречались, разве нет? Мы живем в разных городах, и нет ничего, чтобы нас объединяло.
— Должно что-то быть. — Филипп осматривает всех по очереди. — Может, мы родились в один день? Или роды проходили в одной и той же клинике? Может, вы были когда-то в клинике, где работала мама Эммы? — Он поворачивается ко мне. — Как называется клиника и где находится?
— Это клиника Святой Марии в Мюнхене, но…
— Я родился в больнице, в Аахене, — перебивает меня Том. — Пятого января 1996 года.
— А я почти на год младше. И родилась десятого ноября. А в больнице я была только один раз с аппендицитом. Впрочем, это было в Берлине, мы там долго жили. — София вздрагивает, словно от холода. — Мне кажется, будто мы попали в лапы к конченым психопатам. С каких пор таким людям нужны логические причины, чтобы что-то делать? Может, нас просто взяли в этот лагерь по нашим заявкам. Да сейчас полно таких странных случаев. Помните, эти три девочки из Огайо, их забрали прямо из дома, в котором их продержали десять лет? — У нее по щекам снова текут слезы.
Неожиданно над нами раздается грохот. Мы дружно вздрагиваем, я тоже пугаюсь, хотя и подозревала, что здесь есть динамик.
— Радуюсь, что вы все основательно обдумали, — раздается из динамика где-то над нашими головами. Хотя голос изменен и снова слышатся металлические нотки, сарказм явственно различим.
— Нас подслушивают, — шепчет Том.
— И, наверное, даже подсматривают за нами, — тихо добавляю я, но так, чтобы остальные поняли, что здесь происходит.
— Эмма, какая ты хитрая, — говорит голос. — Но я включился не для того, чтобы с вами болтать. Прошел час, но никто из ваших родителей не объявился. Очевидно, вы не очень убедительно говорили на камеру. Боюсь, мне придется объясняться доступнее.
Я пытаюсь сконцентрироваться на голосе.
— Что это значит, Себастиан? — произнеся эти слова, тут же прикусываю язык. До чего же глупо! Если это Себастиан, то он надел маску не без причины. Это значит, что он не хочет, чтобы его узнали. Стал бы он так изгаляться, если бы все равно собирался нас убить?
Снова этот смех.
— Это проще простого. Мне так или иначе нужно подогнать ваших родителей. Но я же не изверг. Кому-то из вас нужно умереть. Вы посоветуйтесь, можете даже выбрать, кто станет жертвой!
Треск и шипение стихают. Микрофон выключен, и мы погружаемся в тишину, которая ложится на нас черным саваном.
…и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. (Евангелие от Матфея 24:12)
— Я хочу его увидеть! — умоляла Агнесса.
Ее унесло последней сильной волной прочь из мира бесконечной боли под милосердное черное покрывало мрака, и оно обернуло ее. Но теперь Агнесса снова здесь, и у нее лишь одно желание.
— Я хочу его увидеть, — повторила она.
Но никто не ответил ей. Они были заняты.
Медсестра давила ей на живот, чтобы вышло детское место. Почему она ничего не слышит? Он разве не должен кричать? Плакать?
— Мальчик или девочка? — спросила она и безудержно заревела, Агнесса совершенно вымоталась после родов.
Вдруг возле нее появилась сестра Гертруда. Во время схваток последние двенадцать часов она держалась поодаль.
— Его уже унесли. Позорное дитя родилось мертвым. Ты была слишком медлительна, это его убило.
— Нет! — тяжело дышала Агнесса.
Нет, Дева Мария защищала и никогда не покидала. Агнесса была под защитой, когда ее вынесли из комнаты, когда покормили и перевязали стигматы. Даже когда Агнессу принуждали принять лекарства и поговорить с евангелистским священником, который вел себя, словно изгонял демонов.
Все время Царица Небесная пребывала с ней и с ребенком, потому что Дева Мария милостива.
Агнесса тихо забормотала:
— Пресвятая Дева Мария, матерь Божья, помоги мне…
Но Гертруда грубо оборвала ее и еще раз произнесла:
— Дитя от греха мертво.
Господь тяжело испытывает нас. Вся эта боль — ничто. Слезы потоками текли по лицу Агнессы.
— Отдайте мне моего ребенка! Я должна увидеть его.
— На твоем месте я была бы осторожна в своих желаниях, — рассмеялась Гертруда.
Агнессу пробрал озноб. Гертруда еще никогда не смеялась.
— Что это значит?
— Ребенок был отмечен дьявольским позором своей матери.
— Это ложь! — Агнесса смотрела на других сестер в поисках поддержки. Но никто ничего не говорил.
«Помоги мне, Мария, смилостивься надо мной», — умоляла Агнесса в душе, но не проронила ни слова вслух.
— Меченый! — Гертруда больше не хохотала. Она с серьезным видом коснулась распятия, которое висело на шее, перекрестилась и присела на стул рядом с кроватью Агнессы, сложив руки в молитве:
— Мы хотим помолиться и поблагодарить Бога за то, что он спас такую нечестивицу.
Всю красоту ты сотворил
И все мои грехи простил.
Своей рукой меня укрой
И охрани ночной покой.
Ночь опустилась на леса и поля,
Под опекой Господней лежит вся земля.
Я устала, иду спать,
Забираюсь на кровать.
Беды злые отведи
И за мною пригляди.
Если был сегодня грех,
За него прости нас всех,
Милость свою прояви,
Узы страха разорви.
Агнесса впервые в жизни не могла прочесть молитву, все ее тело просто выворачивало от тоски по ребенку. Она должна его увидеть, иначе сойдет с ума.
Гертруда поднялась, на мгновение замерла и потом снова села рядом с Агнессой. На минуту у девушки забрезжила надежда, что настоятельница все же покажет ребенка.
Вместо этого Гертруда прошептала ей на ухо:
— Ты же знаешь, мы не верим, что некрещеные дети попадают в ад, потому что дьявол забирает их души. — Она снова улыбнулась. — Ребенка мы похороним подобающим образом. Хотя ты этого и не заслужила. — Гертруда кивнула остальным сестрам, и те вместе с ней вышли из комнаты.
Агнесса осталась одна.
«Они не могут этого сделать! Даже если Господь и Дева Мария оставили меня, я должна увидеть ребенка, подержать его за руку. И все равно, что старая ведьма болтает». Агнесса села на кровати, в глазах сразу потемнело, и она съехала на подушки. «Медленно, Агнесса, — говорила она сама себе. — Еще медленнее».
Она попыталась встать снова, и ей удалось перевалить ноги через край кровати, коснуться ступнями пола, ощутила, как ослабла после родов. Не обращая внимания на кровь, струящуюся по ногам, Агнесса медленно, шаг за шагом направилась к двери.
«Я тебя найду, — думала она. — Я тебя найду, даже если мне придется ползти на край света. Я должна тебя хотя бы увидеть, прежде чем тебя похоронят».
Она добралась до выхода, схватилась за холодную ручку и повернула ее. Ничего.
Она не поверила в это. Она нажимала ручку снова и снова. Дергала ее, пока необузданная ярость не покинула тело и Агнесса не осела на пол. Она была слишком измотана, чтобы встать, сложила руки на пустой живот и хотела умереть вместе с ребенком. Последней к ней пришла мысль, что все же у Господа не было никакого плана для нее.
Для такого пустого места, как она, не может быть плана, лишь боль.
Глава 31
У меня все еще комок в горле. Я боюсь, что остальные чувствуют то же самое, потому что никто не говорит ни слова.
Один из нас должен умереть.
И мы сами должны выбрать жертву.
Такое решение мы не можем принять самостоятельно, ни при каких условиях.
Кому могло прийти в голову такое чудовищное издевательство? И зачем?
Треск динамика заставляет нас содрогнуться.
— Вы знаете, что делать, — раздается голос. — Теперь покажите, как сильно вы сплотились как группа.
Раздается уже знакомый ужасный смех, потом щелчок, и голос пропадает.
Том качает головой сильнее, чем обычно, а потом кричит:
— Я так не могу! Я не могу этого сделать! Он не может этого от нас требовать!
София тихо всхлипывает.
Я подползаю к Тому, который все еще разрывается.
— Он ушел, Том. Он больше тебе не ответит.
Том дрожит, длинные волосы беспорядочно спадают на лицо, но когда я хочу погладить его по спине, он отталкивает меня, как перед камерой, когда снимали видеоролик.
Я понимаю, что он чувствует.
Филипп самый собранный из нас. Лишь видно, как сжаты его челюсти, словно вот-вот треснут, как катаются желваки и почти слышно, как скрипят зубы.
— Мы не примем решения о том, кто из нас умрет, — убеждаю я их. — Потому что никто из нас не умрет.
— Вот как? — взрывается София и смотрит на меня мокрыми от слез глазами. — Если бы не ты, мы могли бы здесь вообще не оказаться. Ты единственная знала, что в лагере что-то не так, нас не предупредила, а решала свои проблемы.
От ее слов у меня снова подкатывает комок к горлу, чувствую, как на глаза наворачиваются слезы. Вытираю их рукавом блузки.
«Тебе нужен план, Эмма, хороший план!»
Невольно я нащупываю медальон, словно он может мне помочь.
— Ты же сама не веришь в то, что говоришь. — Теперь и Филипп выбрасывает поток злости и беспомощности. — Эмма вообще ни в чем не виновата, по крайней мере, на ней вины столько же, сколько и на всех остальных. А после того, что Эмма рассказала о твоем отце…
— Оставь моего отца в покое, — плачет София все громче. — Мы вообще не знаем, может, все это вообще вранье. В конце концов, Эмма никогда не видела своего отца, не так ли?
Я опускаю голову. Это правда.
— Решение, — произносит Том в гробовой тишине.
— Никакого решения, — отвечаю я и не знаю, откуда берется такая смелость. — Мы этого просто не сделаем. Мы этого не решим.
Снова с треском включается динамик.
— Браво, — мы слышим голос Гомера. — Никакого решения — это тоже решение. И тогда оно коснется всех.
— Нет! — кричу я, и вместе со мной все, но микрофон снова выключается. Что же теперь? Может, он уже спускается вниз, чтобы нас… расстрелять?
Смотрю на Софию. У нее снова совершенная пустота в глазах, как во время создания ролика.
— Так не пойдет, — монотонно говорит она. — Так не пойдет. Я ей нужна. Моей матери нужна я. Она сидит в кресле-каталке и пытается казаться веселой, чтобы отцу не пришлось беспокоиться. Лишь при мне она может оставаться такой, какая есть на самом деле. Кто у нее еще останется, если я умру?
Голос Софии срывается. Я хватаю ее за руку, она сжимает мои ладони.
— Филипп? — шепчу я в надежде, что он что-нибудь придумает. — Что мы можем сделать?
Он беспомощно дергает наручники, становится на колени, но очевидно, что все его попытки обречены на провал. Я на это даже смотреть не могу.
София все больше замыкается в себе, она выглядит идеальным жертвенным агнцем. Меня так это злит, что решение прорастает у меня в мозгу. С меня довольно. Я уже сыта по горло тем, что мне приходится реагировать на ситуации, в которые меня загоняют. Я, наконец, должна что-то сделать.
Я набираю побольше воздуха. «Смотри всегда вперед», — так говорила мне мама. Смотри вперед. Забудь тени.
Мне нужно сконцентрироваться на голосе, который я слышала. Он говорил, что со мной ничего не случится. Надеюсь, на самом деле это был мой ангел-хранитель, а не галлюцинация.
— София, успокойся. Мы очень просто сможем принять решение, кто должен уйти. Или, по крайней мере, я его могу принять.
— Что? — Филипп и Том оборачиваются ко мне. Кажется, они еще не до конца понимают. — Что ты этим хочешь сказать?
— Здесь, в лагере, меня постоянно фотографировали. Я обнаружила Софию, меня облили искусственной кровью, кто-то подмешал мне наркотики, чтобы наклеить силиконовые стигматы. София права. Речь идет исключительно обо мне. И поэтому уйду я. — Я сглатываю слюну. Чувствую, что в душе я не такая храбрая, мои слова звучат храбро. — Вы должны пообещать мне, если вырветесь отсюда, а я смогу, что обязательно выясните, что случилось с моей матерью.
— Но это же безумие! — вскрикивает Филипп, но тут дверь открывается, и входит Гомер.
Он размахивает пистолетом:
— Давайте-ка, приступим, народ! Вы сами все выбрали.
Я качаю головой.
— Нет, — говорю я и чувствую, как внутри меня разверзается пустота. — Мы приняли решение. Я пойду.
Он внимательно смотрит на нас, но его глаза скрыты под синтетической маской, и я не могу распознать эмоций.
— О, я вижу, — посмеивается он. — Стоит лишь немного припугнуть, и происходят чудеса. Но это на самом деле ваше решение? Вы приняли его единогласно?
— Нет, — бормочет София, но Гомер не слышит этого. Или не хочет слышать?
— Тогда, Эмма, пойдем. — Он хватает меня за руку и поднимает с пола.
В моих ушах снова сильно шумит, но, несмотря на это, я совершенно спокойна.
Филипп тут же бросается ко мне:
— Возьми меня. Оставь ее в покое.
— О, как благородно! — Гомер качает головой. — Немножко наигранно, но благородно. Давай же, давай, Эмма, не будем задерживаться.
София плачет в три ручья, а Том выглядит совершенно растерянным.
Филипп лежит сейчас передо мной на полу, он напрягает все мускулы и бросается, как леопард, на Гомера, несмотря на скованные руки и ноги. Похититель от неожиданности падает навзничь вместе с Филиппом. Но оружие свое не выпускает. Выстрел гулко отражается от каменных стен комнаты, София вскакивает, а Филипп со стоном откатывается. Кровь струится у него из руки.
Гомер грубо отталкивает его и вскакивает, наведя на него пистолет.
Я падаю на колени, подползаю к Филиппу, но София опережает меня. У Филиппа сильное кровотечение, на лбу блестят капли пота, лицо его по цвету как перемороженное слоеное тесто.
— Всем стоять, ни с места! — приказывает Гомер, несмотря на панику, я замечаю, насколько ловко он действует. — Кто ему поможет, тоже получит пулю в руку. Понятно?
— Но я же медсестра, — говорит София.
— А я — Бог. — Гомер целится в Софию, а когда она наклоняется над искаженным от боли лицом Филиппа, демонстративно взводит курок.
— Оставь, — бормочет Филипп и отталкивает от себя девушку.
— Так-то лучше. Марш туда! — Гомер указывает пистолетом на дальнюю стену и успокаивается, только когда София с трудом туда доползает. — Давай, Эмма, пошевеливайся.
Он снова ставит меня на ноги.
Я глазами ищу Филиппа.
— Спасибо, — говорю ему, — спасибо.
— Хватит! — Гомер делает шаг вперед, хватает меня за руку и тащит к двери.
Хотя я чувствую его руку, мне все вдруг кажется совершенно нереальным. Словно я уже совсем не здесь.
Такое со мной было, когда ко мне пришли полицейские и сообщили, что с мамой произошел несчастный случай. Я могла все представить, но не такое. Прошла целая вечность, пока осознание этого просочилось ко мне в мозг.
Я бросаю последний взгляд на остальных. Том не смотрит на меня. София сидит у стены, положив связанные руки на колени, и покачивается взад и вперед. Лишь Филипп ободряюще улыбается мне, и от этого я чувствую себя еще более одиноко.
Я сжимаю медальон, и вдруг мне становится ясно. Когда я в первый день взбежала на вершину, мне было все равно, совершенно все равно, что со мной произойдет. И даже в подвале, когда Гомер поймал меня, я думала, что не будет никакой разницы. Но я ошибалась. Это произошло здесь, наверху, я изменилась. Я хочу жить. А не умереть. Никто из нас не должен умереть!
Глава 32
Гомер упирает ствол мне в поясницу и толкает вперед, вверх по лестнице, через кухню, наружу.
— Давай, Эмма, давай, я не хочу терять времени.
«А я хочу! — отчаянно думаю я. — Мне нужно все время в мире, потому что я еще не хочу умирать. Хорошо. Поговорим с ним. Отвлечем его».
— Мои руки и ноги связаны, к тому же еще лодыжка болит. Я могу только семенить.
Гомер нерешительно останавливается.
— Ладно. Тогда я сниму наручники, чтобы ты лучше держала равновесие. А ноги останутся связанными. Я не стану больше за тобой бегать.
Он снимает наручники и прячет в кармане рясы.
Я лелею надежду. Руки свободны, и я могу взять какую-нибудь палку или камень, могу толкнуть похитителя или ударить. Но он снова тычет пистолет мне в спину и грубо гонит вперед.
— Куда мы вообще идем?
— Мы с тобой прогуляемся.
Прогулка к смерти. Тик-тик-тик — бежит время. «Эмма, ты должна действовать. Если чему-то сегодня еще суждено произойти, то обескуражь его. Напади!» Но как? Может, попытаться соблазнить его?
— Я сделаю все, что ты пожелаешь, — умоляю я его.
Эти слова скорее веселят Гомера, чем нервируют. Насколько я могу судить по искаженному голосу.
— Да что ты говоришь, — качает он головой. — Шагай!
Проклятье! Вообще не получается к нему подступиться.
Не могу придумать, что бы еще сказать, как задержать похитителя и не дать ничего с собой сделать.
В воздухе все еще марево от жары, хотя уже почти темно. К счастью, луна взошла и освещает путь, иначе я постоянно спотыкалась бы о камни и попадала в мелкие выбоины на дороге.
Он тащит меня через северное крыло, потом по тропе, которая ведет к часовне. С дороги мы вскоре сворачиваем на лесную тропу, извивающуюся между деревьев.
Гомер не говорит ни слова, и снова во мне рождается подозрение, что это не Себастиан, а Беккер. Я уверена, что Себастиан говорил бы со мной хоть о чем-нибудь. Но Беккеру не идет такое жестокое запугивание пистолетом. А вот Николетта интересовалась жертвами, и именно теперь я жертва. Но мне тяжело представить, что она угрожала бы нам оружием. Не могу не вспомнить ее приветливый смех.
Гомер гонит меня вперед. По спине ручьями течет пот, я отчаянно соображаю, что могу сделать, чтобы избежать расстрела. Мне все кажется таким нереальным, таким кошмарным, что просто не может происходить в действительности.
Тропинка разветвляется, и мы сворачиваем налево. Запоминай, все запоминай, чтобы вернуться. Вернуться, да, Эмма, вернуться, ни о чем другом ты не должна сейчас думать!
— А есть что-нибудь, что изменило бы твое настроение? Что-нибудь, чем я смогла бы тебя подкупить?
Молчание.
— Тебя используют? — вспоминаю я о газетной вырезке с обвинением, и тут меня озаряет. — Может, за этим стоит человек, который тебя шантажирует?
Гомер упирает дуло пистолета мне в грудь.
Наконец-то хоть какая-то реакция.
— Если ты наконец не заткнешься, то умрешь прямо здесь, на месте.
Перед нами вырастает длинное вытянутое здание с выбеленными стенами и деревянной крышей. Рядом виднеется огороженный кусок луга, на котором кучей сброшены колотые дрова. Дом похож на хлев, но когда мы подходим ближе, в сумеречном свете я замечаю стальной канат. Это же подвесная дорога!
— Что мы здесь делаем?
— Это просто для твоей безопасности.
Чем мертвее, тем безопаснее, в этом нет сомнения.
Подвесную дорогу удерживает выкрашенная в зеленый цвет стальная конструкция. Внутри дома видны железные шкафы, подиумы и мониторы, зона посадки в кабинку подъемника — яйцевидная гондола, светящаяся в сумерках ярким голубым цветом, рассчитанная на перевозку максимум четверых пассажиров.
Я растерянно оглядываюсь в поисках чего-нибудь, чем могу защититься от Гомера. Если бы мне удалось его побороть, я могла бы сбежать к гондоле, чтобы спуститься в долину и позвать на помощь, спасти всех нас.
Если бы… если бы…
Совершенно сумасшедший план, ведь похититель — человек с оружием, а я — связанная девочка с травмированной лодыжкой.
Гомер заставляет меня влезть в кабинку подъемника. Это для него проще простого: просто тычет мне в грудь пистолетом, закрывает двери узкой кабинки снаружи, сдвигает предохранительный засов и машет пистолетом, словно все это — отличная шутка. Потом он уходит.
Только теперь я замечаю: здесь тесно, потому что кто-то лежит на полу, под лавкой.
Кто лежит под лавкой?
У меня бегут мурашки по спине, никто не станет ради своего удовольствия лежать на полу, под лавкой в кабинке. Нужно нагнуться, чтобы рассмотреть этого человека. Я затаила дыхание, молюсь, чтобы это была не Николетта.
У человека на темных волосах много крови. Это его я в последний раз видела в душевой.
Разум отказывается понимать, но потом мне все становится ясно. Мое сердце начинает стучать все быстрее, как разгоняющийся по рельсам поезд. Ноги дрожат, мне срочно нужно в туалет. Склоняюсь над ним, и мне стыдно, что я была несправедлива к нему. Я глажу его по лицу, оно все такое же красивое, как у ангела.
Ангела смерти.
Глава 33
Я не могу поверить, что Себастиан мертв. Мне кажется совершенно неправильным, что он лежит здесь на полу, как мусор. Мне очень хотелось бы сделать что-нибудь хорошее для него. Сразу после того, как Гомер уходит, я хватаю запястье Себастиана и щупаю пульс, потому что хочу сделать что-то. Необходимо что-то сделать, хотя я понимаю, что помощь ему уже не нужна.
Я пытаюсь осознать, что могло произойти. В последний раз я видела Себастиана во время спора с Николеттой и автоматически решила, что не повезло ей. В конце концов, он был намного сильнее. Эти брызги крови на кафеле под раковиной наверняка появились от того, что Себастиан ударился головой. Но как ни стараюсь, не могу представить, что это сделала Николетта. Или, может быть, Беккер? Но он же был на лестнице, когда они боролись в душевой.
Это всего лишь означает, что за всеми событиями есть еще кто-то, неизвестный нам персонаж. Я вспоминаю комнату с мониторами, где на одном из них увидела поднимающегося по лестнице Беккера. После того как я вышла, он внезапно исчез. Что с ним случилось?
Нужно выбраться из этой кабинки. Мне нужно назад к остальным, прежде чем их постигнет участь Себастиана. Но окошки такие маленькие, что через них не пролез бы и карлик. А что, если Гомер вернется?
Вдруг это всего лишь короткая передышка перед тем, как он меня застрелит? Мне нужно оружие, что-то, чем я смогу защищаться. Взгляд падает на Себастиана.
— Прости меня, — шепчу я и принимаюсь обыскивать его карманы. Но для этого нужно отодвинуть тело немного в сторону, а ноги у меня все еще связаны — я падаю. Кабинка качается.
У него такие узкие штаны, что я едва могу залезть пальцами в карманы. В одном я нахожу купюру в пятьдесят евро и зажигалку, в другом — большую связку ключей с брелоком. Брелок для ключей — красный швейцарский карманный нож, крошечный, но все же с кучей разных инструментов и лезвием. Есть одно маленькое лезвие и одно большое, штопор, открывалка для бутылок, пинцет, зубочистка, ножнички, универсальный крючок и маленький диодный фонарик. Я тут же его включаю, потому что здесь, внутри, кромешная тьма.
Аккуратно, как могу, отодвигаю тело Себастиана подальше, наклоняюсь и начинаю пилить маленьким лезвием хомуты на своих лодыжках. Нога снова начинает пульсировать и болеть, но это меня не останавливает. Я стискиваю зубы и пытаюсь унять дрожь в руках, мне это удается.
Теперь ноги свободны.
Необходимо выбраться, и не остается другого выбора, как вернуться в замок и освободить остальных.
Но как мне отодвинуть предохранительный засов?
Окно!
Хотя оно и крошечное, в него можно высунуть руку и как-то открыть кабинку.
Я снова и снова смотрю на мертвого Себастиана, и мое поведение мне кажется непочтительным, но, я уверена, он понял бы меня.
В окошки, похоже, вставлены стекла, что вселяет надежду. Даже если это и специальное безопасное стекло, как в автомобилях, их все равно можно разбить. Я луплю по стеклу кулаком, и ничего не происходит, просто снова шатается кабинка.
Оно даже не треснуло. Наверное, мой кулак недостаточно твердый. Нужно что-нибудь вроде камня или лома.
Я оглядываюсь, но в кабинке только я и Себастиан. Пытаюсь разбить стекло связкой ключей, но тоже не выходит. И тогда я замечаю у Себастиана ремень с пряжкой. Если я изо всех сил ударю пряжкой по стеклу, оно лопнет. Может получиться. Несколько секунд я колеблюсь, но потом вытягиваю из штанов ремень. Ощущаю себя мародером, но не останавливаюсь. Я должна предотвратить появление новых трупов. Я должна, должна, должна…
Наконец у меня получается. Я несколько раз наматываю пояс на руку. В маленькой кабинке я не могу сильно размахнуться. Я вращаю пряжку один, потом второй, третий оборот и наконец изо всей силы бью по стеклу.
Все происходит мгновенно: кабинка так качается так сильно, что тело Себастиана съезжает, раздается треск, стекло рассыпается осколками. Они повсюду, даже попадают мне в лицо.
Но все равно. Я снимаю блузку, обматываю руку, выбиваю из рамки оставшиеся осколки. Потом протискиваю руку и пытаюсь отодвинуть засов. Первая же попытка проваливается. Нужно подобраться к окошку вплотную.
Наконец мне удается зацепить засов, и я поднимаю его. Ожидаю, что его заклинит, но он поддается на удивление легко, и я открываю дверь. Сую в карман связку ключей и зажигалку, кладу пояс на тело Себастиана и обещаю, что позабочусь о нем.
Потом выпрыгиваю из кабинки и с жадностью вдыхаю прохладный воздух. Включаю фонарик Себастиана и хромаю прочь, понимая, что необходимо добраться до замка как можно скорее.
Я проклинаю свою лодыжку, которая меня тормозит, и пытаюсь не обращать внимания на боль. Это мне все больше удается по мере продвижения.
Пока я, исполненная надежд, пробивалась вперед, меня внезапно словно кипятком окатили — одного я не предусмотрела. Камеры и мониторы! Мне вообще нельзя незаметно подойти к замку. Если я туда сунусь — это станет финалом моей освободительной миссии.
Я ощущаю, что мой мозг хочет мне что-то сообщить на эту тему, но я никак не могу сообразить, что же это за мысль. В любом случае, она о том, что произошло. Просто случилось столько всего, что я не могу ее отфильтровать.
Я постоянно спотыкаюсь, потому что хочу бежать быстрее, нелепая блузка и плиссированная юбка болтаются на мне, как мокрые тряпки. Несмотря на это, я продвигаюсь, параллельно отмечаю, что сегодня я совершенно ничего не ела и очень мало пила. Вскоре дыхание начинает сбиваться, и мне все чаще приходится останавливаться и переводить дух. Итак, какая же мысль вертится у меня в голове и хочет наружу? С чем это связано?
С большой любовью, которую мама описывала в книге? Об этом я не задумывалась с прошлой ночи, ведь столько всего произошло. Это была запретная любовь. Но не это меня волнует.
Я снова подхожу к часовне, которая в темноте выглядит как спасительный домик, куда нам всем срочно нужно попасть. И наконец мне становится ясно, что все время вертелось у меня в голове.
Часовня защищает от дождя.
Себастиан!
Он не был мокрым, когда появился в часовне. Возможно, есть какой-то потайной ход, который связывает ее с замком?
Чем дольше я думаю о замке и его секретных комнатах, тем очевиднее для меня эта мысль. Наверняка в прошлом знатным особам не хотелось идти по снегу и льду из замка в часовню на мессы и пачкать подолы своих одеяний.
Сердце взволнованно трепещет, и снова появляется надежда. С одной стороны, было бы просто замечательно обнаружить подземный ход, потому что я могу избежать камер, с другой — не знаю, где он заканчивается и в каком месте я окажусь. Но я должна пойти на риск.
Однако радоваться рано, я забегаю далеко вперед. Сначала необходимо отыскать доказательства своей теории, найти вход.
Я проникаю в темную часовню и удивляюсь: даже сейчас от алтаря исходит золотой блеск солнечных лучей. На мгновение я закрываю глаза и пытаюсь припомнить. Я лежала там, на скамейке, а Себастиан вышел из-за алтаря. Тот самый Себастиан, что сейчас с проломленным черепом остался на полу в кабинке подъемника.
Но не об этом нужно думать, а лишь о том, как вызволить из подвала остальных, прежде чем с ними случится нечто подобное. Со стороны лавок кажется, что алтарь расположен вплотную к стене капеллы, но вблизи я замечаю свободное пространство, куда можно проскользнуть.
Стены здесь увешаны тонкими гобеленами со сценами из жизни пресвятой Девы Марии.
Я с надеждой заглядываю за каждый гобелен и ничего не нахожу! Я перепроверяю еще раз, но гобелены не прикрывают дверь, это лишь украшения. Если двери нет в стене, остается пол.
К сожалению, за алтарем темно. Пол выложен таким же зеленовато-розовым мрамором, как и алтарь, и никаких щелей, ничего. Очевидно, я теряю драгоценное время.
Вспоминаю, что у многих церквей есть крипта, своего рода подвал под алтарным помещением. Часовня кажется мне слишком маленькой для того, чтобы делать в ней крипту, но я все же становлюсь на колени и свечу фонариком вокруг.
Наконец я поднимаю алтарное покрывало и вижу маленькую дверь в полу. Открываю ее и свечу вниз, там находится лестница. В дверь я могу пролезть, только согнувшись в три погибели, травмированная лодыжка снова дает о себе знать.
Я с удивлением обнаруживаю, что здесь, внизу, откуда-то пробивается свет. Нужно быть осторожнее. Возможно, свет означает, что я здесь не одна.
Осторожно спускаюсь по лестнице. Но с каждой пройденной ступенькой мое сердце начинает биться быстрее, к горлу подкатывает комок. Ко мне медленно приходит осознание, что бояться здесь нечего, но страх все сильнее. Что-то витает в прохладном воздухе… Чувствуется какой-то запах. Здесь пахнет не только пылью, землей и воском, нет, в воздухе висит аромат зеленого мандарина — крем для рук. Эта удивительная смесь, которой пахло только от мамы.
Глава 34
Мама! Мама! С надеждой я преодолеваю последние ступени. Может, ее здесь держат насильно? Неужели Себастиан поэтому так смутился? Вдруг моя мама говорила с ним и он понял, что ее придется отпустить? Может, его убили потому, что он ее нашел?
Я хочу позвать ее, но что-то удерживает меня. На последней ступеньке я оборачиваюсь. Три узких потолочных светильника неярко освещают низкую комнату, потолок которой подпирается шестью гладкими колоннами. В центре холодной комнаты — маленький алтарь, на котором горят толстые восковые свечки. Их пляшущие отсветы озаряют потолок крипты.
Слишком опасно оставлять без присмотра горящие свечи. Значит, здесь должен быть человек, который их зажег. Моя мать! Она должна быть здесь! Живая! Но почему тут такая гробовая тишина? Я слышу лишь свое взволнованное дыхание.
Нерешительно прохожу дальше.
— Мама! — зову ее я. — Мама?
Но ответа нет.
В стенах ниши, в них стоят старые каменные саркофаги. Во всех нишах темно, кроме одной: ее освещают бесчисленные свечи. Все словно ведет меня туда. Но внутри рождается чувство, что нужно бежать прочь отсюда. Здесь все мертвенно тихо. Кроме меня, никто не дышит.
Воск капает на каменный пол.
Пламя свечей колеблется.
Еще шаг.
И тут все мои надежды рушатся, потому что она здесь. Она действительно здесь, она не лежит на дне озера. Я склоняюсь к ней ближе, чтобы убедиться. Ее глаза закрыты, накрашенные губы расслаблены. На первый взгляд кажется, что она просто спит, но во время сна она никогда не складывала руки на животе, словно в молитве.
У нее никогда не было этой голубой накидки и такого желтого складчатого платья из шелка, никогда она не заплетала волосы в такой венок.
Она не полировала ногти и не носила на шее такого чудесно мерцающего украшения.
Кто-то нарядил ее, словно царицу. Небесную царицу.
Но это не Дева Мария.
Эта мертвая красавица — моя мать.
Я беру ее за руку: «Мама, как мне хочется, чтобы ты сжала мою руку». Ее пальцы кажутся намного мягче, чем раньше, но они ужасно холодные, и я отдергиваю руку. И только теперь ко мне в полной мере приходит осознание, что она мертва, что все кончено. Все кончено.
Слезы бегут по моим щекам, я безудержно всхлипываю, потом снова беру ее руку, сжимаю крепко, словно хочу передать частичку своего тепла. Как бы я хотела сейчас высказать все, чего никогда не говорила, хотела бы взять обратно все отвратительные слова, только бы получилось отмотать время назад.
Я упираюсь лбом в ее руку, голова такая тяжелая, такая же, как и сердце, которое захлебывается в черном масляном море вопросов и упреков.
Как она сюда попала? Пришла ли она сюда добровольно, могла ли я ее спасти?
Была ли она жива во время грозы? Почему я не почувствовала, что она здесь?
Внезапно эта маслянистая жидкость во мне загорается и пылает. Я хочу кричать на мать за то, что она врала мне, хочу взять ее за руку, чтобы попросить прощения, и прежде всего хочу, чтобы кто-нибудь заплатил за ее смерть. Дорого заплатил.
Тут я понимаю, что не могу допустить следующих смертей. Довольно того, что пришлось умереть ей, что убит Себастиан.
Мне нужно как можно скорее вернуться в замок и освободить всех. Но как я оставлю ее здесь внизу одну, теперь, после того как наконец отыскала?
«Эмма, беги скорей, беги, я подожду тебя здесь», — я прямо слышу, как она шепчет мне. Меня раздирают противоречия, но я кладу ее руку обратно на живот. Что-то привлекает мое внимание, и, затаив дыхание, я переворачиваю ее кисть, чтобы осмотреть ладонь. Я обнаруживаю их. Ее старые шрамы, и теперь я знаю, что они означают на самом деле. Они кажутся мне темно-красными, мне чудится, что из них капает свежая кровь. Но это всего лишь воображение, потому что моя мать мертва.
Глава 35
Ненависть кипит в моей душе, когда я отправляюсь в замок, чтобы спасти остальных. Лишь она одна двигает меня вперед и заглушает печаль, но для нее у меня будет уйма времени, целая жизнь.
Дверь я обнаруживаю в противоположном конце крипты, и она не заперта. Сырой запах плесени бьет мне в нос, а когда я проскальзываю в коридор, в темноте передо мной светится пара звериных глаз, но существо быстро скрывается от света.
Это очень узкий ход, по которому может двигаться лишь один человек. Стены выложены кирпичом, пол пахнет землей, он неровный.
Чем глубже я захожу, тем плотнее меня охватывает подземелье, словно слишком тесный неопреновый костюм, воздуха не хватает.
Стараюсь не споткнуться, постепенно возникает чувство, что я спускаюсь. Хорошо хоть направление верное, ведь часовня находится выше замка.
Проход заканчивается узкой дверью. Я хватаюсь за ручку и почти не верю, что смогу ее повернуть. Если бы я только знала, что ожидает меня за ней! Но я делаю над собой усилие. Нельзя терять времени, кто знает, что похититель сделал с Томом, Филиппом и Софией. Я ощущаю, что железная ручка просто ледяная.
Очень медленно, так, чтобы не произвести ни малейшего звука, я нажимаю на ручку и приоткрываю дверь, почти не дыша, и осторожно заглядываю внутрь. Темно хоть глаз выколи, очевидно, за дверью еще один коридор, но воздух здесь несколько свежее.
Я ничего не слышу, кроме жалобного всхлипывания, которое вспоминается мне после первой ночи здесь, и теперь у меня от этого звука больше не бегут по спине мурашки. Мне кажется, мертвые открыли мне глаза, и теперь я точно знаю, чего бояться, а что лишь мираж. Эти всхлипывания — просто звуки старого дома. И они говорят мне, что я пришла, куда надо. Я в подвале замка.
Я освещаю все фонариком. Свет не включаю, потому что в некоторых коридорах подвала камеры.
Наверное, Гомер сидит в комнате с мониторами, что позволяет ему держать все под контролем. Это значит, что мне в первую очередь нужно добраться туда: во-первых, я не знаю, где остальные, а во-вторых, даже если я их найду и вызволю с помощью связки ключей Себастиана, Гомер без труда увидит нас на мониторе и помешает побегу.
Как раз когда я прихожу к этому выводу, что-то очень холодное упирается мне в ребра. Я молниеносно сую связку ключей Себастиана в карман. Заметил ли он это? Все же здесь кромешная тьма.
— Эмма, я тебя недооценил. Моя ошибка. Поднимемся наверх вместе.
Пока Гомер ведет меня в комнату с мониторами, я пытаюсь обдумать план действий. Гомер не Себастиан, это уже ясно. Остаются Николетта и Беккер. Могла бы Николетта затащить в кабинку подъемника такого мускулистого мужчину, как Себастиан? Мне это кажется возможным, когда я вспоминаю старую тачку в саду. Беккер тоже не великан, он скорее худощавый, чем крепкий. Или есть одна или несколько более крупных неизвестных персон?
Я снова вспоминаю маму: она лежит словно в роскошном убранстве, как спящая Дева Мария. Она — центр всего. Должно быть, Гомер очень ее ненавидел, если так поступил с ней. Может, я заставлю его проявить больше активности, если заговорю о матери? Завяжу разговор, а потом выберу удобный момент, чтобы использовать связку ключей Себастиана как оружие. На курсах самообороны для девочек, на которые меня заставила пойти мама, я выучила, что связка ключей может превратиться в грозное оружие.
В комнате с мониторами Гомер приковывает меня к трубе отопления, но действует не так грубо, как раньше. На коленях стоять не нужно, я могу сидеть. Это снова наводит меня на мысль, что под маской разные люди.
Он приковывает меня только за правую руку и так, что я могу видеть мониторы. Вероятно, он хочет мне что-то показать.
Он даже не подозревает, что пристегнуть меня лишь за одну руку, возможно, ошибка. Он считает себя самым хитрым, самым великим, хотя я уже сбежала от него из кабинки подвесной дороги.
Если он сразу меня не обыщет, тогда все может получиться. Я кладу руку на карман с ключами. Хорошее чувство. Нужно его отвлечь и провернуть свой план. Я лелею новую надежду, и мысль о маме в крипте дарит новые силы. Она хочет, чтобы у меня это получилось.
— Разве не интересно? — спрашивает он и указывает на мониторы. — Остальные в апатии с тех пор, как ты ушла. Никто больше не пытается быть храбрым. Но чего я ожидал? Сразу видно, чьи это дети. Только мы вдвоем из другого теста.
— Мы?
У него и у меня нет ничего общего. Нет никаких «нас»!
Гомер оборачивается, но я не могу видеть его лица. Это нужно изменить.
— Эмма, я считал тебя намного умнее.
— У меня не может быть ничего общего со спятившим Гомером Симпсоном.
— Тут ты, в общем-то, права. — Он касается маски, словно хочет снять ее, и я почти не дышу. Хочу наконец увидеть, кто он на самом деле.
Внезапно в мониторе разыгрывается настоящий ад — София подползла к двери. Она лежит на спине и бьет связанными ногами в дверь, гулкие удары доносятся до нас через микрофон.
Это называется «апатия»? София еще и кричит, как сумасшедшая, а спустя мгновение к ней присоединяются Том и Филипп. «Хорошо, — думаю я, — это супер, так и ведите себя. У вас есть энергия и мужество!»
На это Гомер не рассчитывал, он ведет себя нерешительно, не знает, что делать. Он сначала смотрит на меня, потом на пульт. Это мой шанс! Я дрожу всем телом, но достаю из кармана левой рукой связку ключей, в панике смотрю на Гомера, который в ту же секунду поворачивается ко мне. Я прячу связку, пытаюсь дышать спокойно и ровно. Дается мне это как никогда тяжело.
О, Господи, я больше не могу это слышать.
Гомер кричит остальным, не хотят ли те умереть пораньше, но ребята кричат и воют, совершенно не слушая его.
Гомер поднимается, берет пистолет, потом оборачивается ко мне и поправляет маску. Такое чувство, что у меня на лбу все написано. «Думай о маме, думай о том, что он с ней сделал, у тебя должно получиться».
— Я сейчас вернусь.
Он выходит из комнаты, я жду, пока он появится на мониторе на лестнице. Теперь я зажимаю связку ключей под подбородком, раскладываю маленькое лезвие ножа и пытаюсь ковырять им в замке наручников. Но оно слишком широкое. Проклятье, что же делать? Я знаю, нужно сместить какие-то шипы внутри, чтобы замок открылся, но чем это сделать? Зубочистка слишком тонкая.
Я лихорадочно поглядываю на монитор и вижу, как Гомер спускается вниз и входит в комнату с оружием наготове. Я снова занимаюсь замком, но тут раздается выстрел. Это меня так пугает, что из руки выпадает связка ключей и отлетает на недоступное для меня расстояние!
Черт возьми!
Я оборачиваюсь к монитору, хочу посмотреть, не застрелил ли похититель кого-нибудь, но экран почернел.
Я снова пытаюсь дотянуться до ключей и становлюсь на колени.
— Еще хоть один звук… — Голос Гомера едва слышен, он превращается в шепот и наконец пропадает совсем. Очевидно, пуля разбила камеру.
Я вытягиваюсь, как могу, наручники сильно врезаются в руку, но до связки далеко.
Воцаряется гробовая тишина, меня это очень пугает, и я удваиваю усилия.
Меняю позу, тянусь и рвусь, пока наконец не удается здоровой ногой дотянуться до ключей. Я миллиметр за миллиметром подтаскиваю их к себе, посматривая на экран. Холодный пот струится по спине.
Вдруг динамик издает невыносимый писк, потом слышится треск. Несколько секунд я слышу голос Филиппа, потом все снова замолкает.
Я перепробовала все инструменты этого несчастного брелока от ключей, остается только штопор. Я открываю его, мои руки потные и дрожат, очень боюсь, что ключи снова выпадут. Вставляю штопор в замок, он хотя бы входит внутрь! Я замираю, осторожно проворачиваю его.
Раздается щелчок, но я не радуюсь заранее. Осторожно открываю скобу наручников и не могу поверить, что я действительно их открыла. Я вскакиваю, здоровая нога затекла, но мне все равно. Взглядом пробегаю по мониторам — Гомера нигде не видно.
Либо он уже поднимается наверх, либо еще внизу с остальными. У этой комнаты лишь один выход, спрятаться здесь негде. Единственное, что я могу сделать, — как-то вывести его из игры. Хватаю один из стульев, становлюсь рядом с пластиковой шторой и поджидаю его. Волны страха и ненависти пробегают по моему телу. В голове шумит. Я не чувствую больше боли в ноге, напряжена до предела. Я готова. Готова к борьбе и бегству.
И вот он входит, я слышу, как хлопнула входная дверь. Гомер раздвигает пластиковую штору.
Я бью его изо всей силы стулом по спине, и он падает, оружие вылетает у него из рук и скользит по полу. Я прыгаю вперед и хватаю пистолет, потом присаживаюсь на корточки рядом с Гомером, какое-то мгновение сомневаюсь, но все же срываю маску с его лица и страшно разочаровываюсь.
Серебристые очки криво висят, на носу красные следы там, где их прижимала маска.
Крови нигде не видно, он, кажется, без сознания, но, может, это просто уловка. Вероятно, он просто делает вид, что лишился чувств.
С пистолетом в руке тащу его по полу к батарее. Это тяжело, ряса все время комкается и мешает. Кроме того, он несказанно тяжелый.
Пот капает на блузку, стекает по спине, но наконец я на месте и приковываю Гомера к батарее его же наручниками. Чтобы не допустить такой же ошибки, я обыскиваю карманы его рясы. При этом я обнаруживаю у него на шее молельные четки, которые оставались на моей кровати.
Я принимаюсь за брюки под рясой, ищу любые инструменты. Почти не надеюсь найти там телефон. Карманы пусты, но в заднем я нащупываю что-то гладкое. Я вытаскиваю предмет и растерянно смотрю на фотографию.
Глава 36
Я встаю с фотографией в руке. Я никогда бы не поверила. Я никогда бы не подумала, что после всего произошедшего меня что-то может смутить. Но от снимка с изображением пустого детского гроба именно такой эффект.
В этот момент снизу раздается сдавленный стон. Беккер приходит в чувство, и я заставляю себя взглянуть на него.
Его светлые глаза умоляюще смотрят на меня, и я невольно становлюсь на колени рядом.
— Эмма, пожалуйста, я хотел бы, чтобы ты меня поняла, — шепчет человек, который мучил нас и угрожал, человек, который так естественно и заинтересованно управлял лагерем, человек, который считал марионетками Николетту, Себастиана и всех остальных, используя в собственной пьесе, человек, который убивал!
— Тебе ведь ясно, почему я хочу, чтобы ты меня поняла!
Я бестолково пялюсь на него.
— Но это же лежит на поверхности, Эмма. Разве ты не замечаешь, какая сильная между нами связь?
Мне становится дурно. У меня нет ничего общего с этим убийцей, ни малейшей связи. И все же ощущаю в низу живота странное приглушенное чувство. Оно предупреждает меня, чтобы я больше ни секунды не слушала этого человека! Он должен сидеть тихо!
Он шепчет, слезы катятся по щекам. Я не уверена, использует ли Беккер это как манипуляцию или все на самом деле искренне.
Он вытирает слезы и переходит в неотвратимое нападение:
— Эмма, твоя мать была и моей матерью. Ты моя сестра!
Нет! Никогда!
Я беспомощно смотрю на него, внутри меня все кричит, как бы я хотела надавать ему сейчас пощечин. Но я хочу знать наконец, что произошло, хочу понять.
Усаживаюсь рядом с ним на корточки, а он хватает свободной рукой мою руку, я тут же отдергиваю ее и отодвигаюсь подальше. Я больше не позволю собой манипулировать.
— Как ты можешь такое говорить? — шепчу я. — Как ты можешь утверждать, что моя мать и твоя тоже? — неожиданно я перехожу с ним на «ты», словно мы действительно родственники.
Но уже когда я задаю вопрос, в голове складываются некоторые части головоломки. Мамина большая любовь, запретная любовь, тогда она, наверное, была еще совсем юной. Может, она тогда забеременела?
Беккер пристально смотрит на меня, потом он на несколько секунд закрывает глаза:
— Эмма, ты столько всего не знаешь. Но… как я могу упрекать тебя в этом? Мне самому потребовались годы.
— Годы? Зачем? — Я пытаюсь сделать так, чтобы мой голос не дрожал. Мне лучше не поддаваться и закрыть уши. Но разве я могу так поступить, если речь идет о моей матери?
— Мне потребовались годы, чтобы выяснить, откуда я. Кто мои настоящие родители. — Беккер вздыхает.
Я ощущаю какую-то внутреннюю дрожь.
— Это место… Где мы? — внезапно вырывается у меня фраза. — Ведь все завязано на нем, если я правильно понимаю. Все связано с этим местом.
Беккер так долго молчит, что я уже и не надеюсь услышать от него ответ.
— Этот замок раньше был приютом, которым заведовали сестры милосердия евангелистской общины. Наша мать жила здесь несколько лет. И здесь родился я.
Я словно упала в глубокое ледяное озеро, тону, опускаюсь все глубже и глубже.
«Здесь родился я».
Беккер говорит все быстрее, предложения так и вылетают из него:
— Твоей матери, нашей матери, было всего шестнадцать, и с ней очень жестоко обращались. Когда она забеременела, ее заперли и даже не давали еды.
Я очутилась на дне озера и превращаюсь в кусок льда. Я не могу трезво мыслить. В памяти хаотично всплывают картинки, снимки, которые я обнаружила в замке. Нет, не я обнаружила, их мне подсовывал Беккер.
— Позже, после родов, ей сообщили, будто бы я умер. Они заставили ее поверить, что ребенок родился мертвым. Они даже подделали записи в церковной книге, чтобы обмануть ее! — Он говорит почти беззвучно, я едва слышу его. — Заведующая приютом, сестра Гертруда, даже не побоялась похоронить меня при ней, но гроб был пуст. Они отдали меня на усыновление. К настоящим христианам.
Я слышу слова, понимаю, что они означают, но не могу их сопоставить с людьми. Я решительно не могу свести все вместе.
Такой понятливый психолог Беккер и ужасный Гомер, который вселял в нас ужас и запугивал оружием. Отчаявшийся человек, который сейчас лежит передо мной. И коварный преступник, который мучил меня три дня. Похититель, который снимал ролики с ребятами, чтобы потом шантажировать их родителей.
Убийца Себастиана и моей матери.
Мой взгляд падает на снимок с пустым детским гробом, и я вспоминаю табличку под алтарным знаком с детскими именами. Дети, которые прожили лишь по одному дню. Говорит ли он правду? Говорит ли он на самом деле правду?
Я невольно снова подвигаюсь ближе к нему и внимательно его рассматриваю, но при всем желании не могу найти в его лице никаких общих черт с мамой.
— Зачем ты?.. — шепчу я и делаю паузу для разгона. — Мою мать…
Он словно смотрит сквозь меня.
— Я рассердился на Агнессу. Все свою жизнь я злился на нее, хотя тогда еще не знал ее имени. Я думал, что был нежеланным ребенком. Но потом наткнулся на этот приют. Нашел одну из девочек, которые жили тогда здесь, она сейчас знаменитый фотограф в Нью-Йорке. Она была лучшей подругой нашей мамы, и я получил от нее письмо, в котором она раскрыла все взаимосвязи.
— Что ты сделал с мамой? — наконец у меня получается произнести это предложение, потому что я просто хочу знать.
Беккер снова хватает меня за руку:
— Ничего. Клянусь тебе. Или… — он умолкает, — …все. Я убедил ее, чтобы мы вместе забрали Гертруду из монастырской обители. Я хотел вынудить Гертруду приехать сюда и все подтвердить. Она должна была мне, нет, она должна была нам на этом месте все объяснить, рассказать, что она в то время делала с моей матерью, хотел заставить просить прощения.
Я просто не могу вынести того, что он мою маму называет своей.
— Что произошло? — шепчу я.
— Я обеих привез сюда, но еще по пути Гертруда начала нас оскорблять. Она говорила, что только этого и можно было ожидать от выродка Агнессы. Мама так разволновалась из-за этого, что мне пришлось повернуть и отвезти их на свою квартиру. Но Агнесса так разволновалась, что сердце просто не выдержало и остановилось. Она умерла у меня на руках. — Последнее предложение он повторил без торжествующего вздоха: — У меня на руках!
На его руках, моя бедная мама! На глаза наворачиваются слезы, и одновременно мозг разрывают новые и новые вопросы, всплывают в памяти картинки.
— Гертруда. Это та старая женщина в маминой машине?
Озадаченное лицо Беккера моментально изменилось. Его это развеселило, словно он услышал черную шутку. И я почти физически ощущаю безумие, которое за последние дни охватило нас и терзало меня вот уже несколько недель.
— После того как твоя мать умерла, Гертруда тоже должна была умереть, — просто и обыденно произнес Беккер. — Кто-то же должен был наконец ее наказать, и это сделал я. Утопил ее в озере, надеюсь, она страдала!
Я хотела сказать, какое он чудовище, но слова застряли у меня в горле, потому что внезапно я вспомнила все те фотографии. Настоящие фотографии. Это не постановочные снимки. Они появлялись в течение долгих лет жуткой диктатуры Гертруды в приюте. Девочка, которая стояла на коленях в душевой, пропавшая кукла, потайная комната, мамины стигматы — и у меня по спине поползли мурашки от ужаса.
— Но как это все связано с нами? Что с Томом, Филиппом и Софией? Что со мной? Почему ты нас запер именно здесь?
Беккер пытается сесть, я замечаю у него на голове небольшую рану от удара стулом, из которой сочится кровь. У меня перед глазами сразу всплывает проломленный череп Себастиана.
— Страдания Агнессы не были на совести одной Гертруды. Родители остальных участвовали в этом и ничего не предпринимали, просто наблюдали, они заставляли страдать, не я. А теперь дети платят за грехи своих родителей.
— Родителей? — Я вспоминаю ролики, которые снимал Беккер и где были запечатлены мы.
Он кивает.
— Отцы Тома и Софии работали воспитателями в этом приюте. Их звали Лоренц и Карл. Предполагаю, что один из них — мой отец. Филипп — сын Урси, одной из учениц приюта, которая была правой рукой Гертруды. Она сообщала наставнице обо всех нарушениях, что совершала мать. Потом всю жизнь помалкивала. Также и воспитатели. Они заботились лишь о себе, о собственной жизни. — Он горько усмехается. — Отец Тома сделал даже стремительную карьеру, после того как перестал работать здесь.
— Но почему похищение?
— Я отнял у них детей. Все точно так же, как они поступили со мной и Агнессой. Но я был великодушен, дал им второй шанс, предоставил детям возможность в виде игры выказать гражданскую смелость и мужество. Я хотел увидеть, научились ли они чему-нибудь.
Так вот зачем нужны были инсценировки с кровью. Ни для кого это не было игрой. На самом деле мы прибыли сюда даже не по собственной воле, нас заманили.
— Но их дети были такого же пошиба. Лишь ты была другой! Я отправил их родителям снимки с твоим изображением со стигматами, хотел показать, что случилось. Откликнется ли кто-нибудь? Но отреагировал лишь Карл. Мне пришлось отправить им и видеоролики, чтобы вызвать какую-то реакцию. Я не хотел денег, хотел просто, чтобы они предали огласке все, что было. Рассказали обо всем, что тогда произошло, и о чем они так долго умалчивали. — Теперь Беккер торжествовал. — И у меня получилось. Именно отец Тома, настоящий трус, первым вышел к камере. Весь мир узнал, какая несправедливость творилась здесь.
Последние слова он произнес самоуверенно и патетически, сразу стало понятно, что ему нет никакого дела до общественности. Речь шла лишь о мести. Безапелляционно. Без сожаления. Беккер вел себя точно так же, как те, кого он осудил.
— А как же я? — шепчу ему. — Почему я?
На его лице мелькнула тень.
— Ты была мне нужна. Ты очень похожа на мать. И, как я уже говорил, мне нужны были снимки, чтобы поразить родителей Тома, Филиппа и Софии, показать серьезность всего. Но они, как и раньше, молчали, делали вид, словно ничего не происходит. Только когда к ним пришли ролики с их детьми, они не смогли больше закрывать на все глаза.
— Это не все. — Я вкладываю всю злость в эти слова. — Ты не просто фотографировал, ты меня пугал до смерти. Именно меня. И это тебе очень нравилось!
Он смотрит на меня, и на его лице появляется выражение, которое я не могу объяснить. Может, удивление?
— Но ты ведь понимаешь, не так ли? Ты ведь провела с ней всю свою жизнь. — Он колеблется, и на его лице появляется выражение сожаления. — Единственное, на что я не рассчитывал, — это на то, что ты не только внешне на нее похожа. Любовь Агнессы — она ведь проявляется во всем твоем поведении. — Он умолкает. — Эмма, я… выпустил это из-под контроля. Я не мог больше… Мне очень жаль.
К горлу подкатывает ком. Это действительно больше, чем я могу переварить.
Здесь лежит мой брат, которого я ударила и приковала. Это убийца, человек, совершивший ужасные вещи. Он — мастер обмана, который, возможно, манипулирует мной и сейчас.
Но все же я проникаюсь сочувствием к нему, оно разливается в моей душе, горячим мучительным потоком распространяется по всему телу, требует, чтобы я дала то, чего у него никогда не было.
Невольно я вспоминаю пустой детский гроб на фотографии. Понимаю, почему он хотел сделать снимки с изображением моих стигматов. Но мои раны и искусственная кровь были всего лишь снаружи — его раны намного глубже, и нанесли их ему еще до рождения, еще до того, как он сделал первый вдох. У него никогда не было шанса.
Я не могу иначе, склоняюсь над ним и обнимаю его, обнимаю крепко и держу, а что мне еще остается делать.
Он упирается несколько секунд, но потом сам поддается порыву.
Заклинаю вас, дщери Иерусалимские: если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви. (Песнь песней 5:8)
Агнесса рассматривала себя в большом зеркале невероятно роскошного гостиничного номера. В отчаянии она закусила губу. Вдруг ее план не сработает? Она ведь была такой гордой. Впервые у нее был план для себя, для своей жизни. Агнесса была готова воплотить его, а Марта помогла ей в этом, хотя и назвала сумасшедшей.
— На фотовыставку в Берлине? — спросила она по телефону. — А ты уверена, что мне стоит его приглашать?
— Ты должна, — произнесла Агнесса.
— Ты с ума сошла! — ответила Марта.
— Это ведь не должно тебя удивлять, — сказала Агнесса и положила трубку.
И вот теперь она стояла здесь, в Берлине, в гостинице на Савиньи-плац и боялась, что ее план может провалиться. Все же Карл был женат.
Она разгладила ткань черного коктейльного платья и обернулась. Платье казалось ей слишком вызывающим, но продавец заверила, что оно будет Агнессе к лицу, еще бы, девушке с такой длинной шеей и узкой талией. Оно было с черными ажурными кружевами и закрыто спереди, а сзади — V-образный вырез почти до самой поясницы. Одна мечта о том, что он проведет руками по ее спине, не позволяла Агнессе отступать.
Да, лечащие врачи объяснили ей, что не было никакой любви. Что он просто использовал несовершеннолетнюю, что оставил ее в беде и что оказался самым жалким трусом. Но что они знали о том лете, о том единственном лете, которого Агнессе хватило на всю жизнь? Она ощутила, как ее заполняет любовь. Она была убеждена: не каждому в жизни может так повезти.
Она прошла в ванную, выложенную белой и золотистой плиткой, и не знала, стоит ли вообще делать макияж. Она никогда раньше не носила прическу, но сегодня Марта подыскала для Агнессы парикмахерский салон. И даже сама Агнесса признала, что работа выполнена великолепно. Ее светлые волосы теперь блестели и рассыпались кудрями. Несколько прядей спадали на голую спину.
Агнесса осмотрела свое лицо. Она стала старше, да, конечно, но ей повезло: всего несколько морщинок и такие же фиалковые глаза.
Марта лишилась дара речи, когда впервые увидела ее за завтраком десять лет спустя.
— Ты ни капли не изменилась, — прошептала Марта и залпом выпила шампанское. — Я имею в виду, что вот уже больше двадцати лет минуло с тех пор, как мы с тобой сбежали из замка, и, несмотря на все, что там с тобой делали, ты все еще выглядишь, как девчонка.
Агнесса улыбнулась этим воспоминаниям, такие преувеличения были в стиле Марты. Она была привлекательной, но совсем не девчонкой, и это было тоже хорошо.
«Немного пудры, а потом я накрашу губы красной помадой», — решила она и принялась выбирать один из новых карандашей.
Но первый цвет на губах ей показался похожим на запекшуюся кровь. Агнесса быстро стерла его, опасаясь смотреть на шрамы на руках.
Она разочаровала всех докторов, и в клинике, и в диспансере. Все снова и снова приходили к единому мнению, но Агнесса не знала, как это происходит, и не хотела этого знать. Без видений, которые случались с ней в потайной комнате, она была бы сейчас мертвой, в этом Агнесса твердо уверена. Такой же мертвой, как ее ребенок.
Все говорили, что она сама виновата. Отменили упражнения, во время которых она должна была кричать и бить подушку кулаками, воображая, что это Гертруда. Агнесса не могла их делать. Она больше не испытывала ненависти, лишь печаль об утрате ребенка. Своего мальчика. Они во время похорон все же сказали, что это был мальчик.
Она сглотнула и заставила себя снова подумать о плане. Смотреть только вперед!
Но тут ей в голову пришла еще одна мысль. Вдруг он так изменился, что она не захочет его больше? Вдруг он стал совершенно другим?
На этот счет нужно было разработать другой план. Агнесса глубоко вздохнула. «Ты это сможешь, Агнесса, совершенно одна. И ты не допустишь, чтобы прошлое отбрасывало тень на твою новую жизнь».
Это было так глупо — рассказать про план своему последнему врачу госпоже Липшински. Агнесса хотела убедить ее, что уже на правильном пути, но все получилось с точностью до наоборот. Липшински запаниковала, пустилась в объяснения, как это безответственно. Еще одна беременность наверняка приведет к тяжелым рецидивам или паническим атакам. Доктор также испугалась, что Агнесса попытается отомстить и разрушить его жизнь.
Но что она знала? Агнесса хотела не его, она просто хотела этого ребенка.
«Я сделаю все, чтобы мой план удался, потому что я хочу этого и только этого, — думала она. — Я хочу получить обратно своего ребенка. Или нет, это действительно ерунда. Я хочу ребенка, чтобы все начать сначала».
Да, именно этого хотела Агнесса: все начать сначала, получить второй шанс — ребенка от единственного мужчины, которого она когда-то любила.
Она обвела губы контурным карандашом и накрасила их блестящей малиновой помадой насыщенного цвета. Потом ее взгляд упал на изящные наручные часы. Самое время обуваться. Он был намного выше ее, поэтому Агнесса выбрала туфли на необычайно высоком каблуке.
Она снова подошла к зеркалу, и в этот раз надолго. На нее смотрела элегантная, незнакомая и красивая женщина. Да, все было правильно. Все пойдет по плану. По ее собственному плану.
Она вызвала такси, взяла маленькую сумочку и отправилась на вернисаж Марты.
Выставку Марта уже показала в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Это были портреты, сделанные для агентства «Магнум Фото»[13] вскоре после падения Берлинской стены в Восточной Германии. Спустя семь лет после этого события наступило время сделать выставку в Берлине.
Агнесса рассматривала гигантские портреты один за другим и прониклась идеями фото, несмотря на то что нервничала. Люди выглядели такими живыми, словно могли в любой момент сойти со снимка и заговорить с ней. Иногда Агнессе хотелось, чтобы Марта сделала несколько ее снимков или Карла. Из-за поспешного бегства большинство фотографий пришлось оставить в тайнике в крипте. И, наверное, так было правильно, потому что фотографии Марты были разоблачающими, на них можно увидеть человеческие души и даже испорченные души.
Кто-то коснулся ее нагой спины и встал совсем рядом. Человек, который сразу узнал запах ее тела. Еще до того, как сама Агнесса успела заметить его. Он мальчишески улыбнулся ей, как тогда… У нее все сжалось в душе — до боли, Агнесса вымучила улыбку и протянула руку.
— Карл.
— Ты относишься к тем немногим женщинам, которые с возрастом становятся еще красивее.
Он не стал привлекательнее, лишь намного старше и успешнее, чем в ее фантазиях. Темный костюм очень шел ему. Под ним вместо рубашки он носил красную футболку, которая придавала ему больше небрежности, чем остальным мужчинам. Агнесса, не переставая, смотрела на него, она просто пожирала глазами его лицо.
Его лоб не прорезала ни одна морщина, а густые волосы сильно отступили от края лба, оставив залысины. Но изменилось еще что-то. Это не было связано с его внешностью. Агнесса задумалась. Что же это? Вероятно, он выглядел более загадочным, более опытным, может быть, ранимым — она не могла понять.
Но выражение его глаз цвета морской волны и лукавая улыбка ничуть не изменились.
— Ты все время была такой разговорчивой, — рассмеялся Карл. — Мне это в тебе нравилось.
— Ты женат? — спросила Агнесса, хотя знала ответ.
— Уже в третий раз.
— Вот как! А твоя жена тоже здесь? — Агнесса огляделась, словно высматривая ее.
— Нет, у нее… другая встреча, — он замялся, словно хотел что-то добавить, но передумал.
Агнесса внимательно рассматривала его. Неужели его брак станет препятствием для плана? В этот момент он взял ее за руку, поднес к губам и поцеловал, потом перевернул и поцеловал внутреннюю сторону запястья.
— Ты всегда была такой соблазнительной, — прошептал он. — Между нами есть что-то неповторимое, Агнесса. И все же мне не стоило так поступать тогда.
«Тебе и сейчас не стоит так поступать, — подумала Агнесса. — Он совершенно не изменился, ни капельки, но не я».
И это было хорошо. Она почувствовала, как волнение разом куда-то исчезло, Агнесса расслабилась — их тела уже говорили друг с другом. Теперь все было не важно. Ее план непременно сработает. У нее будет ребенок.
Агнесса улыбалась.
Глава 37
Громкий треск динамика привел меня в чувство и напомнил: Том, Филипп и София сидят, полные ужаса, в подвале и даже не представляют, что здесь происходит.
Я отстраняюсь, крепче сжимаю пистолет и подхожу к пульту с мониторами. Я не знаю, откуда берутся силы после всего, что я узнала, но они есть. Кажется, тело само делает то, что нужно. Словно часть моего мозга думает о маме, а другая пытается выяснить, где же находятся остальные.
Мониторы больше не помогают. Беккер, наверное, выключил в подвале свет. Я бросаю на него последний взгляд, он окаменело таращится в стекла очков, что убеждает меня, что он все еще не может осознать происшедшего.
Потом я бегу по темной лестнице вниз, в подвал, включаю свет и зову ребят, стучу в каждую дверь, которая, как мне кажется, может привести меня в темницу. Потом, наконец, внезапно слышу их, моя рука дрожит, пока я один за одним перебираю ключи.
И вот у меня получается, я открываю дверь. Том, София и Филипп просто смотрят на меня. Никто не говорит ни слова. Они выглядят ужасно. Глаз Филиппа окончательно заплыл, из раны на плече капает кровь, просачивается сквозь импровизированную повязку, которую ему наложила София. София же выглядит так, словно постарела лет на сто, а губа Тома, распухшая и покрытая коркой запекшейся крови, ужасно выделяется на бледном лице. Кажется, что он вот-вот упадет в обморок.
— Мы свободны, — бормочу я, вкладываю в руку Тома пистолет и принимаюсь резать путы.
Ребята просто молча сидят. Никто не говорит ни звука. Потом я берусь открывать их наручники штопором, это тянется невыносимо долго, потому что мои руки сильно дрожат. Все продолжают смотреть на меня остолбенело, как на привидение. После того как все освобождены, София встает, подходит ко мне, кладет руки на плечи и прижимается всем телом, словно никогда больше меня не отпустит.
— Ты жива, — шепчет она. — Ты жива.
Словно открылись все шлюзы, напряжение последних часов внезапно проходит. Теперь я могу лишь плакать, тело содрогается от рыданий. Я хочу что-то сказать, хочу объяснить им, что нашла маму, что она мертва, что Беккер сидит наверху и именно он в ответе за этот кошмар. Но я не могу вымолвить и слова.
София обнимает меня еще крепче, а потом я чувствую, как Том и Филипп тоже кладут руки на нас обеих, и так мы стоим, как живой пульсирующий колосс из рук и ног. Я просто не могу успокоиться, хотя Филипп, Том и София по очереди говорят:
— Ш-ш-ш, все снова хорошо, все будет хорошо, вот увидишь, все наладится. Тише-тише.
Мои ноги дрожат так, что я больше не могу стоять. И тут я все же выдавливаю из себя:
— Давайте поднимемся наверх. Прочь из этой дыры.
Филипп и Том поддерживают меня с обеих сторон. София спешит впереди с оружием.
— Я думаю, нам пистолет уже не понадобится. Это был Беккер. Я приковала его, — запинаясь, произношу я.
Они пристально смотрят на меня, и я отчаянно хочу, чтобы они не задавали вопросов. Только не сейчас. Они оказывают мне такую любезность.
— Мы думали, ты погибла и мы никак не сможем этому помешать! — вместо этого произносит Филипп. Он хватает меня за руку и крепко сжимает.
Мы спешим наружу, в темноту, вдыхаем все еще горячий летний воздух.
София снова кладет на плечо руку.
— Спасибо, — шепчет она. — Я никогда бы не подумала, что у нас все получится.
— Народ, нам нужно найти телефон, — говорил Том и показывает на окровавленную руку Филиппа. — Нам нужно срочно вызвать «скорую» и полицию!
— Хорошо — давайте спросим Беккера.
И хотя я только что обнимала его, у меня такое чувство, что я должна предупредить остальных, чтобы не связывались с ним. Предостеречь от того, что он станет им шептать на ухо. От его лживых обещаний.
Я веду их мимо отвратительной картины с лошадью в комнату с мониторами. Там все трое замирают в изумлении, а меня едва не хватает удар.
— Невероятно! — в шоке бормочет Том, увидев мониторы, которые теперь выключены.
Я чувствую нечто подобное, только по иной причине. Место у батареи опустело.
Беккер сбежал.
— Этого не может быть! — Я подбегаю к наручникам, одна половинка все еще прицеплена к батарее, другая раскрыта.
— У него точно не было никаких инструментов в карманах, я его хорошо обыскала.
Что же здесь произошло? Может, я штопором повредила замок? Или у него все же был сообщник — большой неизвестный человек? Внезапно я вспоминаю о Николетте. Где она была все это время?
Меня пробирает мороз.
Потом на полу я замечаю оторванную дужку от очков, поднимаю и вставляю в замок. Выглядит правдоподобно. Но меня не убеждает. Как я могла позабыть о Николетте? Мне кажется маловероятным, что Беккеру удалось бы одному забросить Себастиана в кабинку подъемника. Итак, где же она?
Я сообщаю остальным о своих подозрениях.
— Нам нужно как можно скорее выбираться отсюда, — говорит Том. — Подвесная дорога. Мы с Филиппом знаем, где это. Мы там рубили дрова.
Я отгоняю прочь воспоминания об окровавленной голове Себастиана в кабинке.
— Я не знаю, есть ли у нас столько времени. — София указывает на руку Филиппа, из которой снова сочится кровь.
Мы удрученно переглядываемся. Она права.
— Но здесь нет телефона. Я все обыскала. — И в тот же миг я вспоминаю, что спрятала мобильник Софии под одним из чанов в подвале, где Беккер меня запер.
— Нам нужно в подвал.
И рассказываю ребятам о телефоне.
Мы бежим вместе, стараемся не отставать, держим наготове пистолет, Беккер может подстерегать везде. Нас четверо, но я видела его безумные глаза и понимаю, на что он способен.
Приходится еще раз спуститься в проклятый подвал, о котором мне будут сниться кошмары всю оставшуюся жизнь, это я уж точно знаю. Нужную комнату мы находим удивительно быстро, но проходит целая вечность, пока я подбираю ключ к двери.
Когда мы распахиваем ее, оттуда буквально пахнет страхом. И от меня он, наверное, исходил, пока я была здесь. Я глубоко вздыхаю и замечаю, что чан, в который я спрятала телефон, — на полу. София и Том подходят к нему и одним махом переворачивают.
Под ним не только телефон, но и Николетта. Она скрючилась, как ребенок, с ног до головы измазана кровью. Я склоняюсь к ней и только тогда замечаю в сумерках, что она не ранена. И я догадываюсь, чья кровь на ее одежде.
Когда я дотрагиваюсь до ее плеча, она вздрагивает, потом распахивает глаза и смотрит словно сквозь нас.
Мы пытаемся говорить с ней, но она ничего не отвечает.
— У нее шок. — София склоняется над ней ниже, чтобы заглянуть в глаза.
— Как бы там ни было, нам нужно взять ее с собой.
Том поднимает перепачканный кровью телефон. Включает его, трясет, пробует снова и снова.
— Он мертвый, — хрипло произносит он. — Совсем сел. Даже заставка не загружается.
Я смотрю на телефон, потом на Николетту. Мне становится ясно, что она напрасно пыталась куда-нибудь дозвониться, пока не разрядился аккумулятор.
Теперь остается один путь — к подвесной дороге. Мы снова пытаемся разговорить Николетту, но она не реагирует. К счастью, автоматически она позволяет с собой делать все. Том и Филипп поддерживают ее с двух сторон. Я тороплю всех, боюсь, что Беккер может придумать для нас еще какие-нибудь неожиданные сюрпризы.
Снаружи совершенно темно. Облака закрывают небо, но дорогу мы знаем. Мы бежим так быстро, насколько позволяют состояние моей лодыжки и сомнамбулической Николетты. А я постоянно спрашиваю себя. И отвечаю, как могу. Или нет, лучше сказать — не даю ответы, а чувствую их. Я лишь повторяю то, что услышала от Беккера. Начиная со смерти Себастиана и заканчивая тем, что произошло в замке более тридцати лет назад.
— Я все равно не понимаю, почему сюда притащили именно нас, — говорит Том.
— Он хотел отомстить. Дети должны были искупить вину своих родителей. Твой отец, Том, работал здесь воспитателем, точно так же, как и твой, София. Моя мать была влюблена в одного из них и забеременела.
В одного из них. Нет, я точно знаю, в кого она была влюблена. Медальон с фотографией отца Софии. Я всегда считала, что на снимке мой отец, это был мужчина, которого тогда любила мама. А потом я вспоминаю, что увидела в книге для духовного чтения. Там не значилось имени, но последняя фраза гласила:
«Мой рыцарь, не заставляй меня ждать так долго».
Рыцарь. Что если эту фразу воспринимать дословно? Фамилия у Софии ведь Рыцарь.
Кажется, София тоже подумала о снимке.
— Если это мой отец, это значит, что я тоже родственница Беккера? — Софии пришлось отдышаться и переварить информацию, прежде чем что-то сказать.
Я на миг закрываю глаза. Столько страданий. Как нам это понять?
— Ты разве не говорила, что твой отец — француз и работал в организации «Врачи без границ»? — внезапно вмешивается Том.
Я киваю, а он продолжает:
— Кстати, ты говоришь по-французски?
— Не особо. Хотя моя мама хотела, чтобы я учила его.
— Рискну повторить, что со мной было то же самое. — Том криво улыбается, и мне в какой-то степени радостно это видеть. — Но тебе стоит лучше учиться в школе. Разве ты не говорила мне, что твоего отца зовут Шарль-Филипп Шевалье?
— Ты это запомнил на всю жизнь?
Я не успеваю договорить. У меня мороз по коже. Где-то глубоко в животе я чувствую, на что намекает Том. Какая же я тупая! Оба стоят и смотрят на меня.
— Шарль Шевалье, — шепчу я, — по-немецки — Карл Рыцарь.
София качает головой:
— Вы с ума сошли! Мы же почти одного возраста. Это же чепуха, мои родители вот уже семнадцать лет как женаты.
Но фотография! Это же должно быть очевидно.
— Брак еще ни одного парня не удерживал от этого. — Голос Филиппа очень слаб и едва слышен, словно он почти не может стоять.
— Мы должны двигаться, — настаиваю я.
Больше не могу, я уже не верю, что всем нашим злоключениям когда-нибудь придет конец.
— Беккер все еще представляет для нас опасность.
Мы молча бежим дальше, пока Филипп снова шепотом не заговаривает:
— А как с этим всем связана моя мать? Я знаю, что она выросла в каком-то приюте, но было ли это здесь, я толком не скажу.
Я не решаюсь рассказать ему прямо сейчас то, что услышала от Беккера.
— Урси, наверное, была знакома с моей матерью. И была еще одна подруга, какая-то Марта.
Никто больше ничего не говорит, и я уверена, что и сама не произнесу больше ни звука. Мы молча бредем сквозь ночь, но из-за усталости двигаемся все медленнее. Радуюсь, что мы вместе, беру руку Софии и слегка сжимаю. Нас беспокоит сейчас лишь одно: как бы подальше убраться от этого злосчастного замка и доставить в больницу Филиппа и Николетту.
— Эй, секунду, ну-ка тише, я что-то слышу, — просит Том.
Мы останавливаемся, легкий ветерок обвевает нас, но я ничего не слышу, лишь гравий шуршит под нашими ногами.
Мы двигаемся дальше.
— Тс-с-с. Теперь и я что-то слышу. — Я останавливаюсь. — Звук откуда-то позади нас.
Мы оборачиваемся, но утесы закрывают обзор.
— Он нас преследует? — шепчет София, раскрыв от ужаса глаза.
— Нет, это что-то другое. Звук откуда-то издалека.
Мы теснимся поближе друг к другу и всматриваемся в темноту. В воздухе слышен горьковатый запах.
Слышится треск, он становится все громче, потом — взрывы, похожие на фейерверк, как в мой первый вечер в замке. Я больше не выдерживаю и ищу новое место для обзора, влезаю на утес. Отсюда я могу видеть все. От замка в темноту поднимается яркое зарево. Зарево все разгорается, потом я вижу, что это пламя — замок превратился в сплошной гигантский факел красно-оранжевого цвета. Вся гора освещается пожаром, языки огня выбрасывают в ночное небо золотые искры.
Внезапно я чувствую рядом с собой Беккера, словно он прямо сейчас хочет меня обнять, и понимаю, что именно в этом и состоял его план: у него никогда больше не будет шанса ощутить вкус мести удушливой жаркой ночью. Я пытаюсь сглотнуть подступивший к горлу комок. Это непостижимо, как завораживающе может выглядеть нечто разрушительное.
Мое бедное маленькое дитя!
Ну, дитя мое, после всех предисловий я наконец перехожу к делу. Есть две причины, почему я тебе ответила. Первая — ты сын Агнессы, и поэтому я доверяю тебе, даже не будучи знакомой. Вторая — таким образом ты даешь мне возможность искупить страшный долг.
Скажу без обиняков, я упустила подходящий момент.
Не думаю, что вправе требовать от тебя понимания. Я иногда и сама больше не понимаю, как могла вытворить нечто подобное. Но тогда я хотела убежать вместе с Агнессой, мне было ясно: она бы никогда не пошла со мной, если бы знала, что ты жив. Она бы искала тебя и не сдалась, пока бы не нашла. Она бы хоть на край света поехала, чтобы отыскать тебя, потому что Агнесса такая.
Некоторые думают, у нее мягкий характер и ее легко укротить. Она была мягкой и хрупкой. Но всегда делала только то, что подсказывала ей совесть. Надеюсь, ты не вполне унаследовал эту черту. Совесть иногда очень мешает.
Был лишь один момент, когда я почти поддалась слабости, во время твоих похорон. Но он прошел, а после уже возврата не было. Агнесса едва могла стоять на ногах, Урси и мне пришлось вести ее к алтарному знаку, потому что она едва шевелилась. Слезы текли по щекам беспрестанно, она не произнесла ни единого слова. Нам пришлось удерживать Агнессу, чтобы она не рухнула в маленькую могилу. И в этот раз даже Гертруда воздержалась от обычных комментариев.
Вскоре после этого мы сбежали. Я позаботилась о том, чтобы Агнесса обратилась в клинику, где ей назначили терапию. Все время беременности она находилась взаперти, так много страдала, что у ее души просто не осталось выбора. Я всегда подозревала, что она должна была убежать в эти видения, чтобы вообще выжить. А стигматы, вызванные либо самовнушением, либо как-то иначе, были настоящим спасением для Агнессы, ведь только тогда Гертруда согласилась перевести ее в медицинский пункт. Там Гертруда заботилась о ней сама, опасаясь лишней болтовни других сестер.
Никто не мог там навещать Агнессу, даже я. После ее родов я организовала наш побег как можно скорее. Я и по сей день считаю, что тем самым спасла Агнессе жизнь, так как передала ее на попечение терапевтов.
И все же на моей душе лежал тяжкий груз. Я фотографировала пустой гроб и ничего не сказала об этом Агнессе. Я догадывалась об этом, поэтому дождалась, пока могильщик и Гертруда вернутся после обеда в обитель. Я легла на живот на краю пугающе крошечной могилы младенца и рукой отодвинула крышку. Несмотря на мои предположения, меня все же шокировала и словно ослепила его пустота. Все-таки вышло дурное фото, и вообще это была плохая идея, потому что я ни с кем не могла поделиться увиденным. Я очень боялась рассказать об этом Агнессе и все годы хранила тайну. Я хотела все исправить, поэтому назову тебе ее фамилию и адрес, только умоляю тебя не пугать ее и не обижать. Будь осторожен, не разрушь мир, который она построила. Ведь она ничего о тебе не знала. Иначе она бы на луну слетала, только чтобы найти тебя.
Следующим посланием тебе станет фотоальбом, который я тогда сделала втайне от сестер. С его помощью ты еще лучше сможешь понять, что ей пришлось вынести.
Я оставлю его тебе, а ты передашь ей, и все, в чем я тебе созналась. Но если у тебя хоть половина большого сердца твоей матери, ты сохранишь мою тайну.
Желаю тебе всего наилучшего.
Марта Айзеле
Глава 38
Шесть месяцев спустя
Беккер остался более чем доволен. О нас писали в каждой газете, все было предано огласке. Каждый кирпичик замка был перевернут, и каждый вылезший из-под него червяк рассмотрен под микроскопом.
Стало известно все о Гертруде и ее методах воспитания в приюте, появилась статья о том, какие положения в законе, так называемом праве родителей на применение телесных наказаний по отношению к своим несовершеннолетним детям, были отменены лишь в 1972 году. Я была удивлена, что только после 2000 года дети по закону получили право на ненасильственное воспитание.
Во время разбирательства откликнулись и другие люди, с которыми чудовищно жестоко обращалась в детстве Гертруда. Но уже спустя четыре недели шумиха вокруг этой истории доктора от сатаны, как прозвала ее пресса, улеглась. Все переключились на другие дела.
У нас же не было возможности это сделать, потому что жизнь каждого из нас была поставлена с ног на голову и изменилась навсегда.
Николетта провела два месяца в закрытом психиатрическом отделении, прежде чем смогла рассказать, что тогда произошло. Она любила Беккера и восхищалась им, считала его выдающимся педагогом, даже его коллеги — судебные эксперты — положительно отозвались о нем.
Все было правдой. Он учился на психолога, стал кандидатом медицинских наук. Работал организатором похорон. И действительно работал в отборочном лагере, хотя и недолго.
Беккер познакомился с Николеттой в настоящем лагере «Transnational Youth Foundation Camp», который сам и возглавлял.
Николетта увлеклась идеей, была рада помочь в таком важном эксперименте и во всем принимала участие: в кровавом душе, в подсовывании писем, в наклейке стигматов, прятала одни фотографии и вещи в комнатах, а другие похищала, и она вела протоколы в комнате мониторов. Только о маме и Гертруде она ничего не знала, и я ей поверила.
С Себастианом Беккер познакомился, когда работал судебным экспертом. Никто не верил ни единому слову Себастиана, пока Беккеру не удалось доказать, что студентка уже долгое время страдает от тяжелых психических расстройств, а Себастиана обвиняют ложно. Себастиан был за это Беккеру очень благодарен и был готов работать на него.
Николетта обнаружила статью о Себастиане и хотела предупредить Беккера. Но тот уверил ее, что хочет дать Себастиану второй шанс.
Манипулировал. Лгал. Использовал. Беккер, будучи очень умным, умело, как куклами, играл людьми. Он заставил поверить в эксперимент даже Себастиана. Тот добровольно согласился помогать в проведении «тестов», пока в поисках церковной книги не отыскал в крипте тело моей матери. Это было в тот день, когда я лежала в часовне с поврежденной лодыжкой.
Он захотел выйти из игры, в душевой разгорелся спор. Николетта отказывалась верить историям о гробе с Девой Марией, считала их глупыми отговорками и боялась сорвать эксперимент.
Я была в шоке от того, как тогда восприняла эту сцену. С тех пор я задаюсь вопросом, можно ли вообще доверять своему восприятию.
Из-за этого дело дошло до потасовки, свидетельницей которой я стала. Чего я действительно не видела, так это как Николетта толкнула Себастиана и тот, упав, ударился головой об острый край длинной эмалированной раковины.
Беккер спустился вниз и помог ей вынести Себастиана из душевой. Тогда ассистент был еще жив. Николетта поверила Беккеру, когда тот пообещал, что спустится вместе с Себастианом вниз в кабинке подъемника и доставит его в больницу.
Но как только они положили Себастиана в кабинку, Беккер нанес ему смертельный удар по голове и дружелюбно, но очень доступно объяснил Николетте, что его планы выглядят несколько иначе.
В шоке она попыталась убежать в долину, чтобы позвать на помощь, но Беккер настиг ее и запер в подвале, где она помешалась от страха и лишь ждала, когда Беккер придет и проломит череп и ей.
Все же ее осудили за соучастие в убийстве и незаконном лишении свободы четырех человек. Когда я снова встретилась с ней на суде, она напоминала старуху. В ее темных волосах появились седые пряди, справа и слева ото рта тянулись глубокие мимические морщины. Лицо отекло, а постоянно сияющая улыбка исчезла навсегда, словно ее и не было.
Когда полиция завершила расследование, мне позволили похоронить маму. Пришлось ждать, пока проведут вскрытие.
Это было непросто, ведь Беккер забальзамировал ее тело по всем правилам. Беккер и тут не соврал: мама действительно умерла от остановки сердца. Но как он убил Гертруду, так никто никогда и не узнал.
Отец Тома вместе с соавтором написал книгу о драматических переживаниях в приюте. Но что было более неприятно: постепенно выяснилось, как он, работая воспитателем, удовлетворял свои постыдные потребности. Мать Тома объявила, что подает на развод, а Том лишь приветствовал такие кардинальные изменения в своей жизни.
Мать Филиппа, Урсула, пыталась снова и снова оправдаться передо мной. Всякий раз, когда мы встречались, она рыдала, извинялась за то, что оставила мою мать в беде, как и все остальные. Именно она рассказала мне, как у Агнессы появились стигматы. После этой истории мы плакали вдвоем, и всякий раз, когда я позже смотрела на мамин снимок, у меня в горле появлялся комок.
Эта фотография с изображением матери со стигматами единственная не сгорела в пожаре, потому что я носила ее при себе. И теперь мне кажется иронией судьбы, что громадный пожар в замке действительно уничтожил часть маминого прошлого.
Но того, что рассказала Урси, мне было мало. Мне нужно было найти объяснение появлению маминых стигматов. Поэтому я прочитала об этом все, что смогла отыскать, и кое-что узнала. По крайней мере, я поняла, что это действительно возможно: самому, только благодаря силе психики или, как это утверждают другие, истерическим припадкам, вызвать кровотечение. Всякий раз, когда я рассматриваю мамин снимок, у меня возникает чувство, что ни одна теория в мире убедительно мне не объяснит происхождение стигматов.
Филипп считал, что я должна успокоиться и, он так думает, принять этот факт как чудо.
Для меня же было чудом, что мы остались вместе после всего, что с нами случилось. В его присутствии мне постепенно удавалось забывать о горе, и я хоть ненадолго могла стать счастливой.
Если бы я с ним рассталась, это тут же изменилось бы. Я больше никогда не спала в зеленой маминой комнате. Но и в любых других комнатах меня преследовали кошмары, в которых черви прогрызали мне ладони, кровь заливала лицо, а я вешалась на молитвенных четках.
Уверена, никто из нас больше спокойно не может спать. Мать Софии негодовала и хотела развода, когда узнала, что Карл изменял ей, когда она была уже беременной Софией, но потом простила мужа. У нее начался новый тяжелый этап развития рассеянного склероза, в чем София винила отца.
Для меня Карл остался отцом Софии, хотя теперь мы довольно часто виделись. Всякий раз я была в шоке от того, насколько мы похожи. Даже то, как он морщил нос, казалось мне знакомым, я лишь надеялась, что не унаследовала от него жалкой трусости. Хотя и понимала, что это глупо, но обижалась, что он оказался не настоящим рыцарем, каким его представляла мама. По ее словам, он спасал маленьких детей от смерти в джунглях — как бы не так! На самом деле Карл возглавлял отдел поддержки молодых специалистов на бирже труда.
Конечно, он был шокирован, когда узнал о моем существовании: мама никогда ничего обо мне не говорила. Только когда он получил первые кровавые фотографии и ролик, понял: происходит что-то ужасное. Ему казалось, что я как две капли воды похожа на мать, и он сразу узнал лестницу охотничьего замка. Впервые в жизни он не стал мешкать и сразу же отправился в полицию. Они решили ему помочь, только когда пришел видеоролик. До этого полицейские считала фотографии чьей-то безвкусной шуткой, от которой никто не пострадал.
Карл старался понравиться мне, а я нет. Он дал мне слишком мало ответов на вопросы. Я не поверила, что он знал слишком мало о том, что происходило тогда. Ему показалось странным то, что он услышал сейчас. И почему он никогда не разыскивал маму? Она же тогда была еще ребенком!
Собственно, именно ему нужно было наколоть татуировку из трех точек. Он никогда ничего не видел, не слышал и не говорил: так было ему удобно.
Он так и не связался с доктором Грюнбайном и не предложил официально признать отцовство.
Я и сама еще подумаю, хочется ли мне этого. Филипп считает, что я должна дать ему шанс. Как бы там ни было, Карл же не сидит в тюрьме.
Доктор Грюнбайн нарушил молчание, хотя должен был сделать это лишь на мой двадцать первый день рождения. Он передал мне письмо от Марты.
Марта Айзеле — единственная, кто знал, что Беккер не родился мертвым, а все еще жив. Похороны же у алтарного знака были липовыми. Но она так никогда и не сказала об этом маме, потому что была ревнива. Подозреваю, что Марта тогда была по-своему влюблена в маму.
Марта была в отчаянии, когда узнала, что Беккер отвез Агнессе ее письмо и альбом и все это привело к таким ужасным событиям. Когда я прочла ее послание, то позвонила ей. С удовольствием навестила бы ее в Калифорнии, но Марта оказалась тяжело больна. Она извинилась по телефону за то, что уже очень плохо говорит по-немецки. Но все же она ответила на несколько моих вопросов и сообщила, что молитвенные четки и книга для духовного чтения принадлежали моей прабабушке — это единственное, что было у мамы в приюте. Она их прятала от Гертруды в часовне. Когда я уже хотела класть трубку, она тяжело вздохнула и произнесла:
— Эмма, дорогуша, мой врач уверяет, что я умираю от всех тех сигарет, что выкурила за всю жизнь, но я скажу тебе, что об этом думаю. В приюте, где мы были с твоей мамой, они очень старались нас сломить. Именно в этом причина, почему мы обе уже давно мертвы.
Она бы очень хотела приехать на похороны мамы, но дорога слишком тяжела для нее.
Но я обрадовалась, когда приехали София, Том и Филипп.
Мы все изменились. София радикально обрезала волосы и очень сильно похудела, даже щеки, казалось, ввалились. Я бы охотно заботилась о ней, но она наотрез отказывалась, не хотела, чтобы я навещала ее дома.
На губе у Тома остался шрам, который придавал ему более мужественный вид. Он постоянно касался его пальцами во время разговора.
Лишь Филипп стал только красивее. Он отрастил длинные волосы, и они стали виться локонами, что в сочетании с лилово-зелеными глазами выглядело сногсшибательно.
И каждый раз, когда наши взгляды пересекались, я чувствовала, что мы составляем единое целое. У него были проблемы с левым плечом: рана была инфицирована, и пришлось делать еще две операции.
Когда мы вернулись домой после маминых похорон, я нарушила нашу негласную договоренность никогда больше не говорить о Беккере и о происшествии в замке.
— Как думаете, что с ним случилось? — спросила я и невольно вспомнила, как в последний раз взглянула на пылающий замок.
Тело Беккера так и не нашли. Обнаружили лишь причину пожара: во многих комнатах северного крыла и под стропильными фермами он расставил канистры с бензином и как запалы использовал заряды фейерверка. В этом крылась причина, почему замок за такое короткое время сгорел, как спичка.
Единственный предмет, который уцелел в этом аду, — молитвенные четки. Они лежали в пепле без единой царапины. Я позаботилась о том, чтобы их положили в гроб к маме.
— Конечно, Беккер сгорел, — ответили Том и Филипп хором на мой вопрос, а София кивнула.
— Он не из тех, кто позволит посадить себя за решетку.
Меня это немного успокаивало, потому что меня тоже посещала такая мысль. Я им не стала рассказывать, что часто в спокойные моменты мне чудится приветливый голос Беккера. Тогда я бросаюсь к зеркалу и начинаю искать общие с ним черты. Наверное, наши голубые глаза похожи, и я так же немного иронично кривила левый уголок рта. Но все же я была другой.
Я не обращала внимания на злой голос в своей голове, который все время твердил: «Эмма, как ты можешь быть уверена в этом?»
— Как бы там ни было, а мы многое узнали друг о друге! — произнесла София и насмешливо хихикнула. — И потом, Беккер действительно оказался прав.
Мы взглянули на нее с любопытством.
— Я больше не боюсь пуговиц.
Никто не засмеялся, ведь цена за победу над фобией оказалась слишком высокой. Я снова представила, как мы сидим в саду возле замка, изнываем от жары. Я спрашивала себя, был ли шанс предотвратить смерть Себастиана.
Внимательно рассматривала Тома, Софию и Филиппа, взяла его за руку. У нас остались шрамы, но мы пережили это. Все остальное не в счет.
«Ты не должна допустить, чтобы тени прошлого разрушили твою жизнь, нам остается лишь любовь. Любовь к жизни, любовь к другому человеку и к самой себе», — так мне постоянно говорила мама, а я это считала очень наивной мыслью.
Но теперь я поняла, что она имела в виду. Я буду пытаться, изо всех сил стараться, ведь меня бесконечно печалит то, что в конце концов тени ее прошлого все-таки сделали свое дело.
Примечания
1
Транснациональный молодежный фонд (англ.). (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
Номинация на премию Транснационального молодежного фонда (англ.).
(обратно)3
Пратер — знаменитый парк в Вене между Дунаем и Дунайским каналом.
(обратно)4
Лурд — город во Франции, один из наиболее популярных в Европе центров паломничества. По мнению католической Церкви, в 1858 году в одной из пещер, Массабьель, каких множество в горных отрогах, окружающих город, четырнадцатилетней местной жительнице Бернадетте Субиру явилась Дева Мария.
(обратно)5
Майстер Экхарт — знаменитый средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков, учивший о присутствии Бога во всем существующем.
(обратно)6
Хильдегарда Бингенская — немецкая монахиня, настоятельница бенедиктинского монастыря в долине Рейна. Автор мистических трудов, духовных стихов и песнопений, а также трудов по естествознанию и медицине. Одна из четырех женщин, удостоенных почетного звания Учитель Церкви.
(обратно)7
Айнтопф — густой суп, совмещающий в себе первое и второе блюдо.
(обратно)8
Конфирмация — другое название таинства миропомазания в латинском обряде католической Церкви.
(обратно)9
Слово «Зюттерлинг» в наши дни часто используется для обозначения всех разновидностей старых немецких начертаний, хотя этот конкретный шрифт преподавался во всех школах Германии только в 1935—1941 годах.
(обратно)10
День Люсии, 13 декабря, шведы обычно описывают как праздник света в самое темное время года.
(обратно)11
«Жизнь других» — немецкий драматический триллер 2006 года, дебют сценариста и режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Фильм рассказывает о тотальном контроле над культурной жизнью Восточного Берлина агентами министерства государственной безопасности ГДР (штази).
(обратно)12
«Кирие элейсон» — молитва «Господи, помилуй».
(обратно)13
«Магнум Фото» — фотоагентство и агентство фотографов, ставящее целью распространение репортажных снимков в печати. Агентство пользуется заслуженной славой, в него входят известные профессиональные фотожурналисты, в основном из стран Западной Европы и Америки. Работать в этом агентстве — одно из высоких признаний достижений в репортажной фотографии.
(обратно)
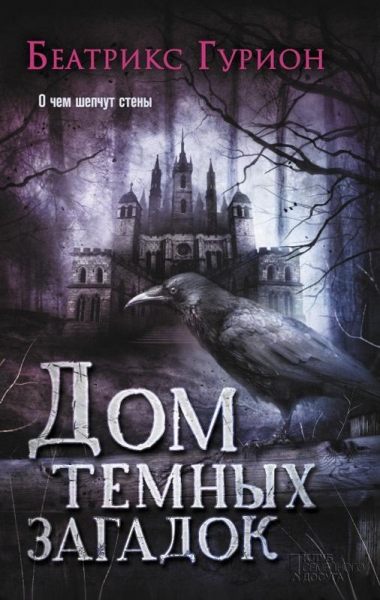




Комментарии к книге «Дом темных загадок», Беатрикс Маннель
Всего 0 комментариев