Измайлов Нариманович Андрей Время ненавидеть
Как жизнь?!
– Хреново.
– М-мда… Погоди! Хреново – это ведь не скучно?
– Н-нет.
– Ну!!!
И это правильно. Времена меняются – мы остаемся прежними. И что в нас, прежних, неизменно – искренное убеждение-заблуждение: РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ.
Не было. Жизнь наша – триллер. Сегодня-вчера- позавчера.
Десять лет назад было лучше? Просто вы забыли. Напомнить? Окунуть? Нате: «Эффект плацебо». Триллер.
Пять лет назад было лучше? Просто вы забыли, Напомнить? Ткнуть? Нате: «… И ни в чем себе не отказывай! «. Триллер.
Нынче настолько худо, что дальше некуда? Оно бы и так. Воистину: «Время ненавидеть». Триллер.
Но только… и это пройдет, как сказано библейским мудрецом. Но только… завтра будет лучше чем вчера, – строка периода социалистического роялизма по цене прошлогоднего снега.
Удел фантастов – создавать миры будущего. Я живу в настоящем – это мир триллера и детектива. Остаюсь при мнении, что вся настоящая Литература – это детектив, а большая часть настоящей Литературы – это триллер. Вопрос не в форме и содержании – в качестве. Союзником привлеку Федора Михайловича – того самого Достоевского, писавшего преимущественно триллеры и детективы. Не сравниваю, но равняюсь.
ВРЕМЯ НЕНАВИДЕТЬ
«При желании можно хлопнуть дверью даже в чистом поле».
Игорь Вознесенский.
… Ибо время любить миновало. Некого. Врага своего? Это – из Библии. У азиатов другая религия. Или никакой.
А они обе – азиатки. Средняя Азия, Какойтостан. Во всяком случае, именно там родились. И были обнаружены там же. В мусорном баке.
Летом тепло. И светает рано.
Счастлив их бог, если он у них был. (Счастлив, но жесток. Может, лучше для обеих то, на что обрекла их мать… перемать: мусор, от которого необходимо срочно избавиться. Ибо нравы в наших краях, социализм-феодализм. А также антисанитария, уровень детской смертности, читайте газеты).
Нет, не крысы, не кошки, не одичавшие псы учуяли первыми.
Грязно-голые пацаны, рыщущие по стихийной свалке, роющие: пустые, но заграничные банки из-под пива:
– «Хайнекен»! «Левенброй»! «Амстел»!
сигаретные пачки:
– «Астор»! «Кэмел»! «Кент»!
обертки-вкладыши чуингама:
– «Дональд»! «Черепашка»!
Сокровища!
Жутковато, не без того. Толком не рассвело, тени бродят – свой? чужой? И мусор – живой: дышит, потрескивает, шуршит, охает, попискивает.
Попискивает?! Пищит! Крыса!
– Дамир!!! Дамир!!! Крыса!!!
Палкой, палкой по вязкой, но упругой массе под ногами.
– К тебе побежала, Дамир!
– На! На! Все! Убил! Я ее убил, клянусь! Аслан, не веришь?! Кто врет, того маму… Не веришь?!
Ужас-восторг, дрожь героя-победителя.
– Тихо! Кому сказал! Фархад, тихо!
Да, мусор – живой. Снова пищит. Нет, не здесь. Во-он там, из той… оттуда… за той кучей. Прямо из бака!
Помятый казан, картонная коробка, груда перламутровой бараньей требухи, взметнувшийся рой перламутровых же мух, прислоненная к баку железная спинка от кровати… О! С шариками! С колесиками!… Но потом.
Охота! Настоящая охота на живое затмит любые поиски сокровищ. Палки наперевес – копья? щупы?
– Окружай!
– Не кричи!
– Не мешай!
– Я первый!
– А кто первый услышал?!
– Спички! Спички у тебя? Дай! Если выскочит, то сразу!
– А вдруг змея?!
– Змея не пищит, тупой!
– Там тоже не пищит. Это разве пищит? Там кошка наверное. И котята.
– Ты что, кошки никогда не слышал?! Какая это кошка! Сам ты кошка!
– Э! Э! Дамир!!! Аслан!!!
И пацаны отпрянули. И – кто куда. Кто-то к дому – с криком: «Ата! Ата! Орада ушаглар!.. Ата!». Кто-то и вовсе прочь: его здесь не было, ничего не видел, не слышал. Кто-то на правах первооткрывателя: отбежит, подбежит, это я! я нашел! там знаете? что?!
Ужас-восторг, дрожь…
1
Близняшки. Девочки. Аня и Яна. Доктор – русский. Потому – Аня и Яна. Быть бы им иначе – Амангуль, Лаландяр, Фируза. Но доктор – русский. Папа. Крестный. Как назвать-то?! А хоть горшком, только бы не в печь! Ну, горшком не горшком… Аня – Яна. Особо дотошным – простор для умствований: мол, все не случайно в этом логичнейшем из миров, мол, Аня-Яна, не есть ли все тот же Инь-Ян, мол, светлое и темное, твердое и мягкое, мужское и женское, мол, символично!… Да ничего подобного! Назвал и назвал! Хотя… черт знает! А фамилия?! Фамилию, доктор, фамилию! А? A-а… Ладно, пусть. Пусть будут – Ким. Аббревиатура. Доктор – Константин Игоревич Манаенков. По первым буквам – Ким. Крестный. Папа.
Они бы его любили. Но не успели. То ли в Европу вернулся, отработав свое по распределению в Какой – то стане. То ли вообще в Африку завербовался. То ли из поезда выпал ненароком: куртка у него была хорошая, кожаная, джинсы были «левис» – и нашли доктора вроде бы под откосом, шея свернута, ни куртки, ни джинсов. Так, слухи. Легенда: был у Ани и Яны папа – русский доктор, а мама… Мамы у них не было…
И еще у них был папа. Другой. Который тренер. Который папа-динама. Который заприметил их в детдоме, набирая группу малолеток. Чем малолетней, тем перспективней. Гимнастика, знаете ли. Кой годик? Четвертый? Пора-пора-а!
Они сначала не знали, что он – папа. Даже начали его бояться: пришел какой-то, руки щупает, нагнуться заставляет. И с ним еще дядьки. В погонах. А он непонятное что-то бурчит. Сердито так:
– Гроша выеденного не стоит! И этот тоже! И эта! Нич-чего мы здесь не найдем!
Аня и Яна хотели, чтобы и про них он сказал: «Гроша выеденного не стоят». Но именно на Ане-Яне папа-динама остановился, прищурился-нацелился.
Они бы его любили. Привыкли, перестали бояться и даже любили бы. А он им желал добра – так он говорил:
Запомните, я вам только добра желаю! Ясно?! Ну! Еще разок! Ап! Плохо! Прогнись, прогнись! Плохо! Гроша выеденного! Еще разок! Ап!
Наверное, не только им, но и себе он желал добра. Много добра. Поэтому очень сильно их мучил.
В ответ Аня, бывало, проскользнет в тренерскую – руки за спиной. Потом положит перёд папой-динамой недоеденный коржик и выскользнет. Детская привязанность обретает иногда очень трогательные формы.
Папа-динама умилялся-умилялся, пока однажды не подслушал в раздевалке:
– Ты зачем его кормишь?! Ой злой!
А зато он будет кушать-кушать-кушать и станет толстый. И перестанет нас мучить!
Папа-динама ухмыльнулся и не стал кушать подарки, хотя и не поэтому, конечно.
Из близняшек же он всё-таки решил слепить экстра-класс. Желая им и себе побольше добра. Такой был тщеславный. К очередному званию запросто вне очереди представят. «Динамо» – такое щедрое на звезды спортобщество, только с ЦСКА сравнимо. С неба звездочка упала… и отнюдь не за успехи в боевой и политической подготовке. За иные успехи. Вот и надо их добиться любой ценой.
А добиваться своего папа-динама умел. И за ценой не стоял. Очень был упорный. И очень темпераментный, взрывной, просто-таки! Настолько темпераментный, что Аня и Яна, когда подросли маленько…
… в отместку его убили. Из-за чего, и сбежали, в ночь после получения первых и последних медалей: Ане – золото, Яне – серебро.
– Золотую медаль завоевала Анна Ким, общество «Динамо»!
– Ур-р-р-ра-ра-ра! – мелькание фуражек, погонов, букетов. Блестящий тяжелый кружок на шелковой ленточке.
– Серебряную медаль завоевала Яна Ким, общество «Динамо»!
– Р-ра!!!
А они стояли на пьедестале почета, будто в позорном углу классной комнаты: «Дети! Смотрите на них! Ругайте их! Они не слушаются своего учителя!». (И дети послушно смотрели и ругали – обеих, ведь кто их различит?! «Ким! В угол! Э-э… Обе! Обе в угол!»).
Но ведь на сей раз они именно послушались учителя – папу-динаму. И выступала только Аня – и за себя, и за сестру. Потому что за день до соревнований Яна вдруг: «гроша выеденного не стоит!». А кто их различит? Так надо, сказал папа-динама… Потом очень хвалил Аню. И утешал Яну. И крепко-накрепко наказал молчать – и когда хвалил Аню, и когда утешал Яну…
Он до такой степени утешал Яну, что увлекся – очень темпераментный, взрывной…
Она и не поняла толком. Папа-динама и раньше делал ей, Яне, больно-больно, приговаривая, что желает только добра. Вот и случилось у Яны что-то со спиной после двойного сальто. И это за день до самого-самого финала! Вот и стал папа-динама сильно злой: «Гр-р-роша выеденного теперь!..». Но поразмыслил и стал добрый-добрый. И сказал, что это будет такая игра: Аня на помосте поработает дважды. За себя и за сестру, так надо, ага?.. Ага. Вот и стояли они на пьедестале, будто в позорном углу – игра игрой, но как-то все… нечестно.
Они потом полночи прошептались, пока папа-динама не постучался и не позвал Яну в свой номер. Кое-что, мол, объясню. А как он объяснит, если у него язык еле ворочается?! Но Яна послушалась и пошла – папа-динама взрослый, он знает и объяснит. А вот Аня не послушалась и не осталась у себя, хотя ей было сказано: «Оставайся здесь!». Она немножко посидела, но встала и пошла следом и она знала, где папа-динама в гостинице живет, в каком номере, но опоздала. Если бы она не посидела немножко, а сразу пошла!..
А папа-динама уже… утешил Яну. Он? Яна, и не поняла толком. Сколько раз он ей делал больно до этой ночи – и теперь тоже сделал… там… ну, там… Но, может, так надо? Он же взрослый, он знает. Но запах противный, а он все приговаривал: «Гроша выеденного! Только и толку! Только и толку!». Потом набрал полную ванну, влез туда, зафыркал. И думал наверное: что теперь ему, будет? И решил наверное: а ничего! Девчушки безродные; он – отец родной, общество «Динамо» – честь мундира. Ни-че-го не будет!
– А после – уже не фыркал, уже не думал. Скользко. Мыло. Кафель. Лицо под водой. Пар. – И никаких пузыриков изо рта. Тихо-тихо.
Плохой был Папа, плохой! Хорошо, что они его убили. Насовсем. Страшно, конечно, но хорошо!
И ещё у них был папа, – у Ани с Яной.
Когда они сбежали из гостиницы (страшно ведь!) и очутились – две тринадцатилетние бродяжки – в абсолютно незнакомом городе, очёнь большом и очень чужом, куда даже самолетом летели долго-долго, чтобы защитить спортивную честь Койтостана, честь общества «Динамо». Спортивную – защитили…
Так что третий папа – самый лучший. Правда… старый. Лет сто! Или сорок. Ну и пусть! Подумаешь старый! Зато дерется лучше всех! Один двух здоровенных дядек уложил. И еще трех! Как раз тогда…
… Когда Аня и Яна, прячась от всех, от каждой машины, от каждого милиционера, метались по улицам и выскочили на громадную площадь – и там была написано светящимися буквами: вокзал.
Они сразу решили, что им повезло – можно уехать далеко-далеко и никто не найдет, никто не спросит: вы зачем убили папу-динаму?
Тут-то они и увидели старого папу. Сидел он в поезде, то есть в вагоне, и засовывал какие-то сумки куда-то на полки, что-то в них перекладывал. Один в купе. А в других купе было красиво, разноцветно, как в цирке (они по телевизору цирк-то видели-знали). Вот и пялились в окна вагонов, как в телевизор. И старый папа их заметил, перестал с сумками возиться, застыл было… Один в купе был.
Там еще в других купе сидели очень красивые тети и даже, кажется, клоун, только усталый, потный и без носа. А, наверное, если дальше пойти вдоль поезда, есть платформа, где слон! И совсем не хотелось уходить от этого поезда.
Но плохие дядьки появились откуда-то из темноты и позвали с собой.
Аня и Яна сначала хотели убежать: вдруг их поймали за то, что Аня иЯна убили тренера. А потом Аня и Яна поняли, что дядьки ничего не знают про тренера, но все равно дядьки плохие, хотя и ласковые. Глаза плохие, и запах тоже, противный.
И куда их уводят? Там темнота и вообще…
И совсем плохие глаза у дядек стали, когда один из них хотел взять Аню за руку, а она не захотела разжимать кулак. Золото и серебро – вот что было у нее в кулаке, все, что забрала Аня, когда они с Яной убежали из гостиницы.
И Аня сначала ничего не поняла. И Яна – тоже. Только услышали: «Ах ты с-с-с…». И подумали – это им.
Но дядьки быстро-быстро упали. Визг какой-то свист, шлепки – и дядьки упали. Аня и Яна испугались и уже побежали.
А старый папа вдруг схватил их под мышки и успел прыгнуть обратно в поезд. Они-то и не заметили когда он выскочить успел. И дядьки плохие не заметили, прозевали. Так и остались валяться на путях.
А поезд дернулся и поехал. И уехал. Далеко-далеко.
Старый папа – самый лучший! И даже, наверное, настоящий! Потому что они, Аня и Яна, похожи на него. Хотя он и старый, а они- еще нет. И никогда не будут старыми…
Что да, то да.
Счастлив их бог? Жесток их бог?
2
… Яп-понский бог!
Или вьетнамский?
Или корейский?
Натурализовавшихся японцев нет… или почти нет в пределах страны… скажем по старинке: Союза.
Вьетнамцы промышляют больше в центре – утюги, счетчики, трансформаторы, кастрюли… все в багаж, в багаж, и – обратно, к себе. Они – сезонники.
Корейцы…. Да. Пожалуй, да. Пак. Цой. Ким… Да, подгадал доктор Константин Игоревич Манаенков – Ким.
Что мы знаем о корейцах?
«Кооператоры Мангендэского сельхозкооператива, охваченные радостью, пожав щедрые плоды своего труда под руководством родной партии, строго соблюдая требования чучхейской агротехники, устраивают танцы после годового отчета-распределения». Излюбленное чтиво садомазохистской отечественной интеллигенции: мы, мол, по уши в дерьме, но вынуждены «ура!» кричать, ан есть и почище нашего! увидите где журнал «Корея» – хватайте! обхохочетесь! «Охваченные радостью, пожав щедрые плоды…». Над кем смеетесь…
Но то – в журнале и в Пхеньяне. А тут? В Союзе? Основной род занятий? Ну, торговля: вырастил – продал, корейская морковь, капуста… Досуг? Моджик – домино… Увлечения? Ну, цирк…
Цирк, цирк! Он! Акробатика, трюки. Таэквондо.
Старый папа О. Одинок, как единственная буква собственного имени. Что, кстати, не характерно для корейцев, предпочитающих общины. О Мастер.
Старец? Монах? Солдат? Какому из трех состояний соответствовал? Н-неизвестно. Столько нынче объявилось сэнсеев, столько их же рассказок о путях проникновения, что самая правдоподобная версия, к примеру, вот: двадцать лет воспитывался в древнем буддийском монастыре, постиг истину, сбежал, накушался кислородосодержащей травы и по дну пересек Амур, а заодно и границу, и вот я здесь!
… Как сказал зам по оперативке, капитан милиции Гуртовой Виктор Тарасыч: «Они все на одну рожу! Из трехсот косоглазых, что в розыске, только одного и нашли! Фотографируй, печатай триста карточек и выдавай его одного за всех! Н-ну?! А ты мне: ориентировка, ориентировка! А ты мне: при задержании соблюдать особую осторожность! Мне-то! Да я на земле работаю! Все сроки переходил! А ты мне!..».
… Как сказал навороченный сэмпай Стасик Ли, держащий зал в спорткомплексе не первый год: «Если бы я рассказал, где и как мне преподавали мою школу ягуара, никто из вас не поверил бы!».
… Как сказал телохранитель Баскакова-Бакса, стодвадцатикилограммовый Бодя: «Ты че?! Озверел?! Больно же!.. Эх! Вот если двое-трое в драке – я люблю это дело. Правда, и сам получишь, зато бить удобно – всегда в кого-нибудь попадешь. А если маленький и верткий, то много хуже».
… Как сказал (и ошибся) Баскаков-Бакс, прихлебывая джус и поглядывая на чудеса видео-ниндзя: «В жизни очень часто бывает как в кино. Но в кино очень редко бывает, как в жизни».
… Как сказал Екклезиаст в двадцать пятой главе: «Нет гнева, большего гнева женщины».
«Время любить, и время ненавидеть…» – тоже он сказал.
А время любить миновало. Хотя: ЛОТОС, КЛЕН, ЯХОНТ БОГИНЯ, КЛОТ, ЗМЕЯ… Аню готовы были полюбить. Анну Ким, статья 106 срок три года. Но странною любовью.
Пришлось ей применить некоторые навыки, привитые в свое время – давно минувшее – старым папой О. Таэквондо…
Таэквондо. Искусство – работа – балет.
Искусство: Папа О, демонстрирующий ката разбивающий яблоко в воздухе ювелирным маваши- гери.
Работа: Потные мужики в расхристанных кимоно, вялая, но настороженная возня в расчете на одну – единственную ошибку противника.
Балет: хореография, синхронность, варьете на пятачке престижного кабака – с блестками, мишурой, стробоэффектами, сытыми зрителями.
Сестры Ким.
Яна выбрала балет. На большее организм не способен. Особенно та травма. Спина… Звезда кордебалета – да, по силам. Боец – нет.
Да и зачем ей быть бойцом, если есть Аня?
Сестры Ким. Неразлучные. Близняшки. Но Аня – старшая. Так сложилось. И нагрузка двойная – еще с той поры, когда травма у Яны, когда папа-динама… Цать лет тому назад.
Они были одно. Как количество букв имени старого папы О. Старый папа О был единственным различавшим: это Аня Ким, а это Яна Тем. И учил каждую своему. Аню быть бойцом, чего она требовала-просила, Яну быть артистом, к чему у нее проявились способности, даже талант. Коронный номер маленького цирка!
Шпрехшталмейстер: «Се-о-о-остры-ы-ы Ким-м-м».
Сестры Ким выросли – старый папа О ушел. Женщина для корейца – не родственница. Тем более что и в самом деле ни Аня, ни Яна – не родственницы. Хотя и одной крови с папой О. Чем взрослей становились, тем ясней: не Какойтостан – коренастый, круглолицый – у них в крови, а Юго-Восток Азии. Обманчивая хрупкость, обманчивая кукольность, миниатюрность.
А номер в цирке действительно эффектный. И не один. Все эти разбивания каменных плит на груди, метания десятка ножей, танцы на битом стекле, неуязвимость для мечей, топоров, ассагаев. Или высвобождение из стеклянного куба, куда и собаку-то не впихнешь, сколь ни трамбуй. Или путаница с двойниками… Впрочем, номер с двойниками папа О демонстрировал вне цирка и – не зрителям.
Сестры Ким с удовольствием исполняли номер с двойниками, пока были помладше. А повзрослев, отказались. Молча. И папа О не стал их принуждать. И когда они решили вдруг в одночасье расстаться с цирком, папа О не стал их отговаривать.
Жаль? Конечно, жаль. Пропали коронные номера маленького цирка, где, разумеется, никакого слона не было, только люди: акробаты, жонглеры, фокусники – мобильная группа, внутри которой свои трения-разборки… и ладно.
А жа-аль. Бед них, без сестер Ким, не тот уже цирк. Да и без папы О как-то… не так. Он многому научил, выстроив уникальных Ким (на фундаменте весьма крепком – чего да, то да; все-таки «золото» и «серебро» в гимнастике, папа-динама был плохой, но чему научил, тому научил). По малолетству сестрам Ким не понять было, что плохо, что хорошо. Но – годы, годы. Вот и папа О. Спасибо, учитель, но вдвойников они больше не станут играть вне арен
Город. Один из многих и многих, где довелось делать цирк. Город как город: населения под миллион; дома – ампир, модерн; транспорт – легковые, автобусы; климат – паршивый, пыль-слякоть. А где лучше? Все равно пора менять кочевой образ жизни на оседлый. Паспорт, прописка, все такое.
Вот и расстались они со старым папой О. Конечно он сожалел, но… – просто возникла необходимость. Осознанная. Сестры-то по простоте душевной могли подписать протокол: «с моих слов записано верно» – и тогда… Нет, до протокола дело не дошло – и не дойдет, ибо старый папа О чуткий и опытный. Однако (и потому-то) лучше распрощаться. Молча. Подробности письмом. Только адрес неизвестен. Адрес старого папы О.
А сестры Ким наконец-то обрели адрес. Общежитие. Город. И они в нем – одни…
3
… И были они – одно. Само собой, их путали. Но недолго. Только пока сестры Ким были неразлучны – то есть до суда над Анной Ким, статья 106, срок три года.
– Ну, Ким! Не знаешь, что ли?!
– Которая?
– Ну та, которая Стасика Ли перешибла. Таэквондо-каратэ. Которая теперь с группой в зале работает.
– Да они обе в зал ходят! И она, и эта, которая у Наджафа в «Востоке» выделывается. Ну, которая варьете.
– Ну да, они и в «Восток» обе ходят…
Искусство – работа – балет.
Аня: искусство таэквондо в спорткомплексе, где до нее пижонил Стасик Ли. Такая работа…
Яна: балет таэквондо на «пятачке» варьете, повергая мужчин в прах морально и физически. Такая работа…
«Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота…».
– Слышь, а их кто-нибудь трахает?
– Эта… которая стенки прошибает, сама кого угодно! Если захочет.
– А другую?
– Да та вообще… То ли больная, то ли что…
– А выделывается, как здоровенькая!
Горький удел мужиков-пускающих слюни, разряжающихся в трепе. Уж очень они, сестрички, лакомы: один к одному – Сингапур, Тайвань, «видик». Да, вот такие неправдоподобно изящные огромноглазые азиатки, которых не бывает в жизни, только в кино!
Впрочем, хотя сестры Ким – в жизни, а не только в кино, нисколько не приближает. Единственный контакт – рискните, мужички… или слабо?! – фул-контакт в спарринге с этой… которая стенку способна прошибить. Спаси и сохрани кого угодно от подобного контакта. Слишком ощутимо защитное поле сестер Ким – отталкивающее, отшвыривающее. Чем же их так мужички достали?! Э-эх, рискнуть бы!
Риск – благородное дело. Но явно будет неблагодарным. Что мужичкам остается? Треп…
– Слышь, а они не лесбиянки?
– Они ж сестры!
– Ну и что?!
– А действительно! Во интересно, кто из них кого! И как!..
Никто. Никого. Никак. Не лесбиянки. Что и доказала Аня, когда они с Яной перестали быть неразлучны…
Анну Ким (статья 106, срок три года) готовы были полюбить в первые же дни пребывания здесь..
ЛОТОС – Люблю Одну Тебя Очень Сильно.
КЛЕН – Клянусь Любить Ее Навеки.
ЯХОНТ – Я Хочу Одну Навеки Тебя.
БОГИНЯ – Буду Одной Гордиться И Наслаждаться Я.
КЛОТ – Клянусь Любить Одну Тебя.
ЗМЕЯ – Зачем Мужчина, Есть Я.
Татуировка.
Женщины всегда готовы украсить себя хоть чем. Если нечем, то хоть татуировкой. А здесь – и нечем больше.
Здесь. Место лишения. Свободы.
Проволока по забору.
Аккуратные дорожки.
Серые платки, сапоги.
Белое на красном: «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него». И трафаретный профиль.
Казарменные кровати, казарменная аккуратность. Ночь – страстные крики, чмоканья, хлюпанье. «Коблы» и «кобылки».
Семья – ячейка общества, в котором нельзя жить, в котором нельзя быть свободным.
Трафаретный профиль, вероятно, хотел сказать совсем другое, но по сути выразился именно так. И оказался прав. По сути.
«Кобел» – Лева. Амазонка. В девичестве – Алевтина? ЗМЕЯ – татуировка на бедре. И в самом деле, Зачем Мужчина, Есть Я, Лева. Что в прошлом? Баскетбол? Рост – два метра, телосложение атлета (не атлетки!), волосатые руки. Желание и умение подчинять.
– А кто к нам пришел! – хрипловатые басовые, так сказать, бывшее глубокое контральто. И предвкушающий прищур.
Лева – не единственный «кобел» в колонии, но единственный такой любвеобильный. Четыре «кобылки» стирают-убирают за «женихом» – Левой. В награду им – страстные ночи, знойные ночи. Сам милую, сам караю.
И новенькую тоже сам..
Помилуемся?
Нет. Да нет же!
Старый папа О учил… Эффектность и эффективность – не всегда одно и то же. Беготня по потолкам, сальто с финальной доводкой пяткой в шею, блокирующая рука в положении хики-тэ, то есть «заряженный арбалет»… Всего этого нельзя. Особенно учитывая причину попадания сюда. Только усугубишь.
А вот не шелохнуться, стоять как стояла, пусть на тебя и надвигается двухметровоцентнерная туша, и неуловимо ткнуть, уйдя от контакта. И чтобы никто ничего не понял.
Ни «кобел» – Лева, по-рыбьи шлепающий ртом и так же по-рыбьи бьющийся на поду. Ни многочисленные «невесты» Левы. Которые за любимого «жениха» могут накинуться всем скопом – и тогда уже не обойтись без беготни, сальто, блоков. А что за всем этим последует, ясно. Только усугубишь.
И потом – не спать, не спать, не спать. Ночью возможно все – и «темная», и шнур на горло. Днем тоже возможно все – и заточенная ложка, и кипяток в лицо, и… Возможно все.
Все и было. То есть попытки были. И каждый раз – избегать резких движении, не демонстрировать того, что могла бы продемонстрировать. И молчать, молчать, молчать. О чем говорить? И с кем?
– Она немая, да?
– Кладет она на нас просто, вот что! Немая, как же.
– Ух, я бы ей глазенки-то выцарапала!
– Поди попробуй. О! Смотрит, смотрит! Слышит!
– Мы же тихо.
– А она все равно слышит. Она чует. У, сучка узкоглазая, манда поперек!
– Х-ха, проверяла?
– Поди проверь!
Но это – не время ненавидеть. Пока что. Просто время быть настороже. За что их всех ненавидеть? Такие как есть. За кражу. За мошенничество. За групповое избиение. За убийство мужа.
И Аня Ким – в своем защитном поле, отталкивающем, даже отшвыривающем. С ней, с Аней, все в порядке. И с Яной тоже все в порядке. Они одно. И пока – в порядке. Близнецы всегда друг друга чувствуют. Независимо от расстояния.
Все в порядке. Даже «кобель» Лева пошел на мировую.
– Эй! Япоша! Давай я тебя один раз ударю, и потом будем дружить. Давай?.. – приятельски так, доверительно.
– Точно! Немая! А глаза-то, глаза! Замочи ее Лева!
– Цыть!.. Ладно, Япоша! Гы-гы! У меня просто шутка такая. Конфетку хочешь?
Взяла.
– А «спасибо»?.. Ладно, Япоша! Шутка такая…
Все в порядке. А после отбоя, да и в любую свободную (что есть свобода?) минуту – тренинг: сидеть в распорах, «дышать», растягиваться, сохранять ритм. Ритм. Ритм.
Ритм-ритм-ритм.
Как в цирке у папы О.
Как в зале у навороченного сэмпая Стасика Ли.
Как партнерши Яны, кордебалет на «пятачке».
Как некий «зайчик» – блондинка, стриптизирующая в собственной квартире под ревущий кассетник: улыбка нимфоманки, фригидные глаза…
Нужно быть в форме. Чтобы, когда придет время; показать все, на что способна.
Кому показать?
… Зрителям. Для Яны Ким все они – зрители. Все, посещающие «Восток».
ПОСЕТИТЕ «ВОСТОК»!
СЕКРЕТЫ ЭКЗОТИЧЕСКОЙ КУХНИ!
ГРАНДИОЗНОЕ ШОУ!
«ВОСТОК» – ДЕЛО ТОНКОЕ!
Шоу – не шоу, но впечатляет: прозрачно-яркие шелка, стробоэффект, интимный сумрак.
Эклектика – сандаловые буддийские тлеющие палочки, китайские фонарики на столиках, стилизация под арабскую вязь всех поясняющих и указующих табличек, блюда – кавказские: шашлык, бастурма, чанахи, долма, зелень, коньяки.
Чувство единого стиля – то чувство, на которое не способен никто из новоявленных нуворишей (нуворишек?). Наджаф – не способен. Но, в конце концов, в каждой избушке свои погремушки. «Восток» – избушка Наджафа, он и волен развешивать в ней погремушки на свой вкус и лад. Были бы клиенты! И были бы клиенты довольны!
Клиенты довольны. И обстановочкой, и едой, и шоу.
– Вон та рыженькая – ниче. Вторая слева.
– Да я бы и от той блонды не отказался. Справа. У-у, какой зайчик!
– М-мда… Большой рабочий рот. Сиськи на пружинках. Не меньше пяти штук!
– Ага! Нам только ужин в пять штук минимум станет. Удваивай и еще раз удваивай!
«Восток». Распряг. Поколение импотентов, заводящих себя «порниками», рисующих картинки в воображении, сублимирующих в многоопытной беседе из намеков и междометий.
– А что? Это же всего лишь деньги! Жаль, негде…
– Тут должны быть кабинетики. Если хозяин здешний с головой, то кабинетики должны быть.
– А спросить?
– Спроси, спроси. Без языка останешься. А заодно и без голубка. Это ж черные. Они все повязаны. За своих девочек – чик и нету… Ну-ка, заткнулись. Халдей идет.
– Начхать! Тоже… авторитет!
– У него и спроси тогда. Про кабинетики. А?
– Да у меня поезд, чёрт, через два часа! А то бы…
А то бы, может, и рискнул. Но кого-нибудь из кордебалета. Непременно и только из кордебалета.
– А как насчет сингапурочки? Слабо?
– Пас!
И правильно. «Звезда», знаете ли.
Яна – «звезда». Для нее все – зрители. Но не клиенты. Балет. Это красиво. Это высоко. Таэквондо в танце – всегда имитация. Но Яна и не боец. Она – артист. И цена ей иная. Нет ей цены. И Наджаф это знает. Талант штука хрупкая, он не для клиентов, он для зрителей.
А не будет зрителей, не станет и клиентов, которых есть кому обслужить, помимо и кроме «звезды».
– Амбалов, видишь? Охрана.
Одно слово – «звезда». Светит, но не греет. Красиво, но высоко. Начальство. Мы уж как-нибудь… с подчиненными, с горничными. С той же блондой. Да-да, той самой. Некий зайчик. В квартирку бы ее отдельную – и пусть там еще раз спляшет. И еще чуть подраздеть. А?
– Она нимфоманка. Я их за версту чую!
– Да у нее взгляд фригидный!
– Так ведь она на работе. Захотел, что б она прямо с эстрадки на тебя с разбегу прыгала? Вот квартирку бы…
– А есть? А то…
– Да поезд у меня через два… чёрт, уже через полтора часа! Вот ч-черт!
Поколение импотентов. «Ещё полтора часа поблядую и домой». Хорошее шоу. Спасибо хозяевам.
Пожа-алуйста. «Восток» рад гостям. Любым. И как бы крут ни был гость, он только гость: «О-о! Ка-акой гость! – Какой дорогой гость!».
Наджаф не упустит возможность подчеркнуто: он, Наджаф, радушный хозяин, он радушный ХОЗЯИН. И всегда готов внимательно выслушать солидного человека, если солидному человеку требуется, чтобы его выслушали.
4
Анатолий Маркович Баскаков – очень солидный человек. Надо поговорить. Он может сказать водителю своего «мерседеса»: «Паркуй!» – и тот припаркует аккурат под знаком, запрещающим стоянку. Аккурат у входа в «Восток». На то Анатолий Маркович Баскаков и Бакс. Плевал он на всех, а уж на ментов – в первую очередь…
И на Гуртового Виктора Тарасыча плевал – подчеркнуто уважительно плевал. Пусть тот хоть на дерьмо изойдет в своей служебной развалюхе. Ну, давай-давай, мент, хлопай дверцей, ид-ди сюда! У-у желваки-то, желваки! Нервы, капитан, нервы!
– До-обрый вечер, Виктор Тарасыч! Тоже поужинать?
– Я сыт, Баскаков. По горло сыт. А вы все – поужинать? Всей командой?
– Где же – всей, Виктор Тарасыч? Побойтесь бога!
Да уж. Всего-то четверо. Сам Бакс, аккуратный до омерзения Юрия, мордоворот Бодя, шофер… Виктору ли Тарасычу не знать, какова по численности команда у Бакса? Чтобы контролировать ту территорию в городе, что контролирует Бакс, четверых маловато. Но «Восток» – не территория Бакса. Не так ли, Баскаков?
Место выбрал неудачное, Баскаков. Запрещено…. – и Гуртовой как бы мельком глянул на знак, хотя не о том сказал.
– Мое место там, – где я есть! – подчеркнуто вежливо наплевал Бакс, дав понять: знаю, и ты, мент, знаешь, и что?
– Виктор Тарасыч! Вы же опер, вы же не гаишник. Впрочем… – Вынул бумажник, щелкнул ногтем по пачке купюр, будто, по колоде карт. – Ай-яй!.. У вас будет сдача, Виктор Тарасыч? – и аккуратному Юрии: – У тебя есть помельче?.. Или вам лучше в баксах, Виктор Тарасыч?
– Баскаков! – предупредил тоном Гуртовой.
– А что такое, товарищ капитан? В чем дело? Нарушил – готов отвечать! По всей строгости. За то, в чем виноват. Вам и юрист мой скажет. Или за мной еще какие грехи?
Аккуратный Юрия готовно кивает, предупредительно улыбается: есть проблемы?
Проблемы есть: очень хочется дать в морду. И Баксу, и Юрии, да и всем остальным. Респектабельной шпане, для которой капитан Гуртовой – всего лишь опер «на земле» – а она, шпана, уже в заоблачных высях мохнатую руку обрела. И сколько ни подпрыгивай – не уцепить. «Вам и юрист мой скажет». И подразнить опера – мимолетное, но удовольствие.
– Я же не гаишник, Баскаков. Я опер.
То-то я и гляжу… Ну, было бы предложено. Извините, Виктор Тарасыч, нас ждут.
Ждут. Пара-тройка верзил-джигитов на пороге «Востока». Дорогих гостей надобно достойно встречать.
У вас еще что-нибудь ко мне, Виктор Тарасыч? – и выжидающая пауза. Ясней не изобразишь: пшел вон, мент!
Только и остается, что пойти вон, изобразив ответный многообещающий «чиз-смайл», многообещающий: я тебя все же достану, урою под край, шпана! Ишь: «Или за мной ещё какие грехи?». Ишь, Баскаков и компания. Что сам Бакс, что компания! Ха-арошую компанию Бакс под себя подобрал: Юрия. То есть Юрий Аврумович Чилингаров. Действительно юрист. И весьма неплохой. Будь он плохой, влип бы Бакс давно и надолго. Юрия, Юрия. Почему, собственно, Юрия? Если угодно, по аналогии с диккенсовским гаденышем, звавшимся Юрий Хип. Но полагать так – значит, сильно преувеличивать начитанность респектабельной шпаны. Скорее Чилингаров предпочел для себя Юрию в силу э-э… некоторых собственных пристрастий. Красивое женское имя – Юрия! Эх, статью отменили, а то бы за шкирку и в камеру! Эх, мечты-мечты. Да если б и не отменили статью, вывернулся бы «маргариточный» Чилингаров – юрист.
Бодя.
Бодя. То есть Борис Ильич Гуреев. Боксер-тяжеловес. На покое. Гнусавящий многажды разбитым носом: «Бедя зовут Бодя!». Бодя-Боря. Впрочем, «бодя» на обрусевшем английском – туловище. Чего-чего, а туловища у Гуреева в избытке. Уж этого-то мордоворота есть за что привлечь! Толку-то! На сей случай и есть юрист-Юрия. Гуртовой привлечёт – Чилингаров отвлечет. Ну как не порадеть родному человечку.
Член. То есть… как же его, водилу-то? А, ладно! Мелкая сошка. Водила и есть, только и примечательного, что кличка-прозвище – Член. Оскорбительно? Уважительно? А, ладно! Член и Член.
Наконец, Бакс. Баскаков. О-о, это особый разговор! Вот бы кого ухватить! Как говаривал в знаменитой проповеди покойный Мартин Лютер Кинг: «И еще у меня есть мечта!..». Капитан Гуртовой кто угодно, но не проповедник, однако он бы с не меньшей страстностью изрек: «И еще у меня есть мечта!..».
Мечты-мечты… А пока только и остается – вернуться к служебной развалюхе и не оборачиваться на реплику в спину: «А то поужинайте с нами, а?». И на вроде бы сочувственную реплику не оборачиваться: «Язва, наверное. Ну-тк, казенный харч. Тяжело им, беднягам, нелегко. Ну-тк! Наша служба и опасна и трудна».
Только и остается хлопнуть дверцей и долбануть кулаком по сиденью оперативной машины в ответ на немой вопрос младшого, Степы. Только и остается бессильно наблюдать, как Бакс, Юрия и Бодя плюс эскорт джигитов скрываются за дверями «Востока» – дело тонкое…
А водила-Член потрепыхался было: опять мне в машине куковать, пока вы там… грандиозное шоу! Но – под взглядом Бакса присмирел. А на прощание словил приятельный щелбан от Боди, снова запетушился, но так… для самолюбия, вслед.
Дымно, чадно, ароматно, громко. «Восток».
«Поужинать?» – надавил вопросом капитан. Не без того, не без того. Но и не только. «Тут должны быть кабинетики…» – предположил кто-то из клиентов. Верно. Но не для всех, не для каждого.
Солидные люди предпочитают тишину и негромкую беседу. Чтобы музыка не заглушала, чтобы шоу не отвлекало.
О, шоу, о!
Баксу давно приелось. Разве что походя кинуть взор на эстрадку, встретиться глаза в глаза с блондой-зайчиком, фригидной нимфоманочкой, дать понять.
Поняла! Еще бы! Бакса не понять!.. Не-ет, не о постели речь!!! Свои какие-то дела…
И – в кабинетик, где уже все готово, и все готовы. Верзилы-джигиты проводят. Конвой? Эскорт?
И глумливо-гостеприимный Наджаф, распахивающий руки, но даже не приподнявший подушечную задницу. Хозяин!
– Ка-акие го-ости! Ка-акие го-ости!
– Может, поедем, товарищ капитан?
– … – нет, досидит Гуртовой. Неизвестно что высидит, но досидит. Тарабаня пальцами по стеклу.
– Бутерброд будете? С майонезом!
– … нет, не будет. Хотя нет у Гуртового язвы. Просто сыт. По горло!
А шоу между тем идет к концу.
Уже усталость. Бурное дыхание. Капли пота.
Короткая передышка в гримёрной-уборной. Припудривание. Руки-плети.
Массирование лодыжек. Асексуальная обнаженность. Проветриться бы.
– Девки, пора! чтоб их всех!!!
И стайкой – на выход. Сначала кордебалет – Яна чуть позже. «Звезда» должна затмевать, пусть кордебалет до поры до времени померцает, минуту – другую..
– Девки!!! На выход!!!
– Идем, идем! Чтоб вас всех!!
И последняя, покидающая гримерную-уборную, обернувшись в дверях, вроде внезапно осененная:
– Да! Яна! Я с тобой хотела кое о чем…
Блонда-зайчик, Нимфоманка с фригидным взглядом.
– Ты же не обиделся, дорогой? Я тебя не обидел? Скажи, дорогой! – сердобольно беспокоился Наджаф.
– Ты меня не обидел, – успокоил Бакс.
– Я тебя не обидел, да. Но ты не обиделся? – модулировал голосом Наджаф.
– Ты меня не обидел, – отмодулировал Бакс в ответ.
Слушать и слышать – разные вещи. «Меня невозможно обидеть!» и «Я на тебя в обиде!» – разные вещи.
Наджаф умел и слушать и слышать. Однако полагал себя в достаточной силе, чтобы не быть никем обиженным, но быть на кого-то в обиде.
Неспешная, негромкая беседа в кабинетике кончилась. Кончилась ничем. Не договорились. Все уже встали, блюли неписаный протокол, обмен прощальными кивками, паузой, показным дружелюбием и необязательными, но необходимыми любезностями.
– Твой человек – хороший человек. Пусть когда хочет приходит. Я разве возражаю? Я не возражаю. Гостем будет.
– Спасибо, хозяин.
– Тебе спасибо, дорогой. Твои слова дорогого стоят!
– Они очень дорогого стоят, Наджаф.
– Ва! Мы не бедные, отплатим по полной. Твоим здоровьем клянусь, дорогой! И твоим тоже, ма-альщ-щик… – сально ухмыльнулся юристу-Юрии. Мальщик, конфетку хочешь? Очень тугое молчание. Чиз-смайл. Чужая территория. Сегодня, пока, сейчас – чужая. Чи-из.
– Шутка такая! – пригласил к смеху Наджаф.
– Смешно! – согласился Бакс. Животики надорвать! – вежливо поддержал Юрия.
– Ге-ге-ге! – вдруг отреагировал Бодя. Насчет «животики надорвать» – это он всегда готов хоть кому.
Вот только территория чужая.
И Наджафу смешно. И джигитам Наджафа смешно.
Смеется тот, кто смеется последний. Последний раз.
Дорогие гости, не надоели вам хозяева?
Младшой Степа дремал. Гуртовой бодрствовал. Пора бы уже чему-нибудь случиться. И – ничего.
Водила-Член в «мерседесе» тоже дремал. Изредка вскидывался, когда двери «Востока» выпускали очерёдных отдохнувших клиентов. Нет, не они, не те. Опять не те. И опять не. И опять никого. Ничего.
Наконец-то! Они! Вся троица – Бакс, Юрия, Бодя. Почетные проводы – сам Наджаф в окружении своих амбалов до порога и через порог сопроводил. В добрый путь!
Сели в «мерседес», неспешно отъехали.
А Наджаф с амбалами еще постояли на ступеньках, покурили по сигаретке, перебросились словом, ушли обратно, внутрь. И все. И ничего.
Гуртовой похлопал младшого по плечу:
– Степа. Сте-опа! Евсеев!
Тот встрепенулся, уставился на то место через дорогу, где вот только что парковался «мерседес». Пусто.
Плохо соображая спросонок, завелся с полоборота, рванул было. По газам!
– За ними?! А куда они?! А где?!
– Где-где!.. Двигай в управление… М-мать!
5
Звук – непредставим. Именно потому, что представляется сразу несколько причин, несколько субъектов или объектов, его издающих. Который из них?
То ли крыса пищит.
То ли кошка мяучит.
То ли младенцев на свалку выбросили…
То ли смех.
То ли плач.
То ли боль.
То ли оргазм…
То ли «ки-ай», вдох-выдох.
То ли визг покрышек летящей юзом машины.
То ли предсмертный крик.
Крик!
– Япоша! Ты?! Ты че?! – приподнялся на локте «кобел» – Лёва. – Э, Япоша!
Действительно, че? Даже от ночных кошмаров так не кричат. А кричат так, когда вдруг настоящая, а не мнимая смерть приходит. Весь барак разбудила. Ты че?
Маска. Не Лицо – маска. Сомнамбула. Заключенная Анна Ким, статья 106, срок три года. Она шла к двери – и упаси Бог кому-либо попасться на пути. Глаза открыты, но лучше бы они были закрыты.
«Кобел» – Лева из добрых побуждений бросился за ней – остановить. И рухнул с утробным рычанием. Остальные, подобравшие ноги под себя, каждая – в комочек. Жу-у-уть! Че это она?!
Не стойте на пути!
На пути стояла дверь.
Удар. Удар! Удар!! Кулаком. Локтями. Ногами. Тот случай, когда еще чуть – и стенку лбом можно прошибить.
Ки-ай! Ки-и-иай! Окрики. Шум. Стук каблуков. Заполошный испуганный вой в бараке.
Ки-ай! Разбить. Уйти. Уже кровь. Пелена. Розовая, красная, бордовая, черная. Ки-и-иай!
Если эта Ким – полное шизо, то и место ей в ШИЗО.
Штрафной изолятор. Вот там ей и место. Или в психушке. Взбесилась! Да как! Чтоб ее скрутить, целый наряд понадобился, так она чуть их всех не угробила. Ой бу-удет ей теперь довесочек к сроку, ой бу-удет!
А пока пусть охолонет. А чтобы башку не разбила – себе или кому-нибудь – пусть охолонет в смирительной рубашке. Целей останется – и она, и кто другой. Из ШИЗО еще никто никогда не сбегал. Из смирительной рубашки еще никто никогда не выпрыгивал. Не было такого…
… Нужно иметь чудовищную силу, сосредоточенность и… нужно зацепиться за какой-то предмет.
Анатомия человека, суставы, гибкость – усредненные представления о возможностях среднего человека. Цирк. Старый папа О: уйти можно из любого захвата.
Цирк. Упаковывание в стеклянный прозрачный кубик с полуметровыми (не более) гранями. Погружение кубика в мешок. Узлы на мешке – пусть завяжет любой из публики! Дробь, темнота. Вспышка. Ап!!!
Из любого захвата можно уйти. Из любого…
Небо серое, предрассветное. Не в клеточку, но в проволочку. Колючую. Нельзя жить в обществе и быть…
И топот, топот. И команды по громкой связи:
– Внимание! Локальные сектора перекрыть! Бараки закрыть! Внимание! Локальные сектора перекрыть!
И телетайп: При задержании соблюдать особую осторожность…
Побег? Побег.
Да, но, ка-ак?!
– Внимание! Локальные сектора перекрыть! Бараки закрыть!
Поздновато хватились.
И верещание звонков. Всех сразу и вразнобой.
И ошарашенные лица – тех, кто охраняет, и тех, кого охраняют. Она сквозь стены, что ли?! Эта? Эта могла! Но ка-ак?! А вот смогла ведь. Наверное, очень тяжко было.
Можно выйти? – из детства.
– Потерпишь! Урок закончится – выйдешь.
– Не могу терпеть. Я выйду.
– Я сказала, потерпишь… Итак, дано… Где Ким?!!
И звонок. Урок закончен. Перемена.
Большая перемена в жизни очень многих. Звонок.
6
Звонок.
«Это автоответчик. Ваше сообщение записывается. После короткого сигнала у вас в распоряжении тридцать секунд. Спасибо».
– Баксик! Звякни до семнадцати в «Орфей». Я буду там. Бумаги готовы – я их проработал. Они согласны. Наших – пятнадцать процентов, но есть один пунктик, и мы их съедим. Нотариус готов, мой человек. Если до семнадцати не появишься, звони в «Оборот» – я из «Орфея» туда.
– Товарищ Баскаков… Э-э… В общем… Черт! Никак не привыкну… Это Изупов. Из Томска. По поводу леса. То есть я уже здесь… Короче, я перезвоню попозже, когда вы дома будете. Вы после девяти – дома? А я – Изупов. Из Томска. Помните, вы обещали: ваш юрист изучит вопрос. Я и прилетел. Короче, я перезвоню.
– Шеф! Это Член. Я тут, кажется, приболел. Сыпь какая-то. Кха! И температура. Ломит все. Я денек-другой отлежусь? Или как? Можно? А то озноб еще… Нет, правда!
– Але! А-а-але! Как автоответчик автоответчику скажу: вы болван, Штюбинг! Хи-хи!.. Дай-дай, я тоже скажу. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон!.. Не толкайся! Все на подушку пролил, урод!.. На себя посмотри! А-але! Ку-ку! Я тучка-тучка-тучка, я вовсе не медведь… Ай, не щипайся, зараза! А ты не толка…
– Алло. Примите телефонограмму. Баскакову Анатолию Марковичу. Презентация акционерного общества «Оборот» состоится во Дворце молодежи. Москва. 21 августа, 19.00. Просьба подтвердить прибытие. Размещение в гостинице «Россия». Передала Шипилова.
– Бакс? Что случилось? Что-нибудь случилось? Я сделала все, как договорились, но так мы не договаривались. Где она? К ней в общежитие уже чучмеки приходили – Рыжик мне сообщила. Их не пропустили, но ЕЕ нет. Где она, Бакс? Ты позвонишь? Хорошо бы ты позвонил. Мне будет спокойней. И… тебе. Ты позвонишь? Бакс, мы так не договаривались, Бакс!
– Здравствуй, дорогой. Наджаф говорит. Видишь, сам тебе звоню. Ты, когда у меня был, ничего не потерял? Молодец! А у меня, понимаешь, девочка потерялась. Хорошая девочка, послушная. Слова плохие не говорит, не пьет, не курит, спать вовремя ложится. И потерялась. Ты не поможешь найти? Не в милицию же нам с тобой вместе обращаться, дорогой, понимаешь. У тебя много друзей, у меня много друзей. Сегодня я потерял, завтра ты все потеряешь. Нам надо друг другу помогать, так, дорогой? Или не так? И время какое, сам знаешь. Время еще есть – до вечера, до девяти часов. А там… смотри.
Бакс выключил автоответчик. Душ, кофе, облачение в легкий костюм – пока телефон транслировал звонки-голоса. Однако пора. Еще, пожалуй, сигарету и – пора.
Отмотал пленку: «… Я сделала все, как договаривались, но так мы не договаривались, Где она?».
Набрал номер:
– Я. Ну? Что за переполох?.. Нет, понятия не имею. И не видел. Значит, неправильно поняла… Зайчик, это твои проблемы, не мои. Куда ты с ней пошла, зачем ты с ней пошла – меня не интересует. Не иголка – найдется… Вот что, Зайчик! Это я у тебя должен спросить: где! Молчишь? Молчи. А то еще кто-нибудь спросит, а ты и знать не знаешь, что ответить. Поняла? Умница. Не звони – я сам позвоню. А тебе сейчас лучше помолчать. Ну? Молчишь? Умница, Зайчик. Все.
– Я. Все готово, Юрия? Ты готов? Значит, по плану – мы все у Стасика. Да, про «Орфей» слышал, понял. Берем. Но сейчас главное не это. И вот еще что: Член дурака валяет, болезным прикинулся. Подошли к нему Бодю, пусть тот его на ноги поднимет и – в зал. В остальном – по договоренности. Да. По договоренности. Вперед!
Вперед! – вполне могло и не относиться к хорошо сбитой команде крепышей в черных куртках, кроссовках, слаксах, с железными прутьями. Просто не любят у нас «черных». Терпят-терпят, а потом рыпаются: все скупили, черножопые, всех продали, надо, давно пора порядок навести!
Порядок – это витрина вдребезги.
Это – махалово нунчаками, прутьями, цепями.
Это – жестокий мордобой.
Это – порушенный «Восток».
Это крики из осторожной – на дистанции – толпы зевак:
– Так их, чурок! Давно пора! Россия для русских! Вперед, орлы, бей!
Это – сирена.
Это – все врассыпную, все, кто еще стоит на ногах.
А если на вас нападают с ударом маэ-гери по среднему уровню, то: защита блоком гедан-бараэ и контратака ударом тетцуи-учи и движением ноги вперед. А ну, еще раз! И еще раз! Отлично!.. Получается.
У Бакса получается. Нужно держать форму. На то и Стасик Ли, чтобы Бакс держал форму. Белые кимоно, шведская стенка, татами. Зал.
Но, может, потому и получается у Бакса, что Стасик блюдет дистанцию: учить учит (сэмпай как-никак!), но щадяще для самолюбия – Бакс есть Бакс.
Другое дело: Член, Бодя, Юрия – на них можно отыграться. Хочешь научиться – терпи. Что-то там еще в Библии было: как бы ни старался ученик, не достичь ему уровня учителя! Ах, да! Стасик Ли – иной религии.
Больно? Терпи, Член, терпи. Тяжело в учении – легко в бою. Впрочем, это не Стасик угостил водилу-Члена по печени, это Бодя постарался, без каратэшных затей, попросту, по-боксерски. И сочувствует:
– Бо-бо? Я ж легонько! Ну… ну как бабу. Здоровей будешь. Приболел? Теперь полегчало? Сыпь рассосалась?
– Это – татами. Это не ринг… – Стасик Ли внешне бесстрастен. Амплуа учителя-мастера. А ведь не любит он Бодю, нет, не любит. И не из-за вечного спора: кто победит – кит или лев, кто лучше – боксер или каратист. (Если уж Шо Косуги с Мохаммедом Али друг дружку не убедили…).
– Иди ты! А я думал, ринг! Ну, давай-давай, китаеза! Попробуй. Я тебе не Паша Климов покойный. Я тя щас приложу – своих не узнаешь. Ты у меня развалишься, я тя достану! И-иди, и-иди, косоглазик!
Закружили по татами. Бодя в лучших традициях боксера-профи нагоняет жути угрозами. Стасик по- прежнему внешне бесстрастен, но не будь он «желтым», на глазах бледнел бы от внутренней ненависти. Зря Бодя покойного Пашу Климова помянул.
– Ста-асик! – капризно протянул ноту Юрия. – Ты нашего Бодю побереги. Он у нас один такой. Яведь тоже не всесилен – второй раз, как с Пашей Климовым, не выгорит…
Упреждающий намек, скрытая угроза. А сам – святая простота и невинность. Кимоно в узорах-драконах, у «шведской стенки» ноги растягивает. Балетность и голубизна. («Мальщик! Конфетку хочешь?»).
– Заснул, китаеза?! Н-на! – прямой по верхнему уровню.
Да? Защита блоком аге-уки и контратака ударом маваши-гери по среднему необъятному уровню Боди- туловища: хр-рясь! Хоть и навороченный Стасик Ли но все же сэмпай.
– Ты че?! Озверел?! Больно же!
– Какой-то ты грубый и ни хера не женственный! – напоказ дует губки Юрия. – Что за манеры? Кто вас учил, юноша? Но-но! (С пылу-то с жару Стасик готов и Юрию рядышком с Бодей уложить – впервой ли вам, с-с-сладкая парочка!) Но-но! Или тебе мало было Паши Климова?!
Дался им какой-то Паша Климов!..
А ведь дался. Во всяком случае, Стасик будто на стенку наткнулся, пригасил эмоции, свел напряжение на нет: он, мол, только сэмпай, они только ученики…
– Кто учил, кто учил! Если бы я вам рассказал, где и как мне преподавали школу ягуара, никто из вас не поверил бы.
Бакс и не верит. Он хоть и держит Стасика для себя, при себе, но в «монастырские сказки» не верит. Учить учи, но не возвышайся над хозяином. И размяв- промяв пресс на тренажере, приступил к избиению макивары, вроде ненароком бросил:
– Только не забудь, из чьих рук кормишься, уч-читель!
– Эх, вот если двое-трое в драке – я люблю это дело! – закрасил поражение Бодя. – Правда, и сам получишь, зато бить удобно! Всегда в кого-нибудь попадешь. А когда маленький и верткий…
Врет Бодя. Причина-таки не в количестве и массе противника, в квалификации причина. Тот же Член вряд ли сойдет за двоих-троих, он и за одного-то с трудом… маленький, пусть не очень верткий. С ним Бодя без зазрения совести… Печень до сих пор бо-бо. В глазах до сих пор ужас-испуг.
О-о, не-ет, ужас-испуг у Члена хоть и перманентный с некоторых пор, однако тут он впрыгнул на некую новую ступень.
Вот и чуткий Юрия поймал взгляд Члена, перехватил его и перебросил Баксу: посторонние в зале!
Какие же это посторонние! Это товарищ капитан. Это товарищ Гуртовой. Потренироваться заявился? И ладушки! Заодно засвидетельствует присутствие в зале товарища Баскакова «со товарищи», пока в городе черт-те что творится. А что, капитан, в городе чэпэ? А что там? Черт-те что? Какая жалость, мы тут, а не там! Поглазели бы…
– Ви-иктор Тарасыч! Какими судьбами?! Стариной решили тряхнуть? Или по делу?
– По делу. Стариной тряхнуть.
Там в уголку и кирпичи заготовлены – для лихих разбиваний ребром ладони. Так что способен еще капитан Гуртовой тряхнуть стариной.
Ки-иай!
А с каким бы удовольствием он рубанул бы по верхнему уровню Анатолия Марковича Баскакова. Была б его, Гуртового, воля, он бы!..
7
Но воля не его.
Вот и отчитывайся: погром в центре города, нанесение тяжких телесных повреждений, но пострадавшие в рот воды набрали, зубами золотыми скрипят, но молчат.
Что следует? Следует ждать ответной м-м… санкции. Если верить на слово, ответной м-м… санкции не предвидится. Можно верить на слово гражданину «кавказской национальности» Рагимову Наджафу Хакимовичу?
Гражданин Рагимов Н. X. Заявил, что заявлять не будет. Обычное дело: «Восток», напились, немножко поссорились. Люди злые, доведенные, понять можно. Он вообще человек мирный и не любит, когда люди злые. Он вообще давно собирался передать «Восток» в чьи-нибудь хорошие руки и домой вернуться, туда, где люди не злые, добрые, потому что дома тепло и кушать всегда много, гостей с радостью принимают, не то что здесь. А «Восток» он да-авно собирался – в другие руки. Конечно, чтобы и себя не обидеть, не за бесценок. Вот нашелся добрый человек, и документы у доброго человека готовы, и в цене сошлись. Какая цена? Коммерческая тайна. Нет, не от тебя, начальник, дорогой! Разве у меня могут быть тайны от тебя, начальник, дорогой?! Но – коммерция, понимаешь, начальник, дорогой?.. Так что все хорошо.
Только одно плохо, начальник, дорогой: девочка куда-то пропала. Хорошо бы ее поискать. И хорошо поискать. Не-ет, начальник, дорогой, Наджаф Хакимович не про себя волнуется, про девочку волнуется. Наджафу-то Хакимовичу что, он из города уезжает. Насовсем. Если приедет, то в гости. В тот же «Восток» – очень жалко, если варьете больше не посмотрит. Такая девочка была, такая девочка! И куда-то исчезла, пропала. Когда? Три дня уже. Как – почему раньше не заявил? Он и сейчас не заявляет. Девочка – взрослый человек, сама собой распоряжается. Но странно все-таки, начальник, дорогой! Очень аккуратная девочка была, всегда – вовремя. Почему Наджаф Хакимович говорит «была»? Он же говорит: три дня ее не видел, пфу испарилась. Нет ее и нет. Даже зарплату не взяла, не пришла. Вчера деньги в «Востоке» давали – а не пришла. А без нее – это уже не «Восток» будет. Без Наджафа Хакимовича – «Восток». А без нее – нет, не тот уже. Он ничего не заявляет, он просто за нее волнуется. Ну ничего, найдется, наверно. Или нет.
Восточная искренность и сердобольность настолько преувеличенно выражается, что грех поверить. Особенно когда искренность и сердобольность выражает гражданин «кавказской национальности» Рагимов Наджаф Хакимович.
Значит, так. «Восток» перестал быть территорией «черных». И перешел к новому хозяину. Некий Ложкин И. Д.
Ложкин-Вилкин-Тарелкин. Да хоть Кастрюлькин! Ясно – подставной! Ясно – не поужинать подъезжали Баскаков и компания. Ясно – разборка-погром в «Востоке» отнюдь не вспышка стихийного народного возмущения, а заранее спланированная акция. И ясно – кем спланированная.
Баскаков и компания только плюнут и разотрут: спортом они все увлеклись в означенный период. Вам и сэмпай Стасик Ли подтвердит. Да что там сэмпай! Вам и капитан Гуртовой подтвердит. Да, товарищ капитан? Спорт – ты мир! Главное – не побеждать, главное – участвовать!
Зацепить бы этих победителей и хоть как доказать, что они участвовали!..
И – девочка. При чем тут девочка? Гражданин «кавказской национальности» Рагимов – не Лев Толстой, чтобы, согласно Хармсу, очень любить детей. И не случайно сердобольствовал. Навести хотел? На что именно? Зыбко, зыбко…
Ну, пропала некая Яна Ким. Не вернулась в общежитие (или, как для приличия обозвали многонаселенные клетушки, дгт – дом гостиничного типа).
Ну, заночевала у кого-то, мужика сняла в конце-концов и у него поселилась.
А вещи, а документы, а работа?
Ну, работа – ей самой решать: заголяться перед ресторанной публикой или решить, мол, хватит. Что же до вещей и документов, то…
То не помешало бы участковому сходить на место. Без особого шума, вроде бы для профилактики: общага, мелкое воровство, пьянки-гулянки, музыка после одиннадцати. Как у вас здесь насчет дисциплинки?
– Да вот же она тут была, товарищ милиционер! Да, два дня шлялась где-то, а потом заявилась. Ободранная вся. Но она. Точно, она! Уж я-то их всех изучила. Собирала что-то. Тряпки там, куклы… Откуда-откуда! У нас стенки бумажные! А шваброй по коридору туда-сюда – вот и слышно. Они же все засранки, простите, товарищ милиционер, – за собой не уберут никогда. Одних окурков каждый вечер – ведро. Но эта, ничего не скажу, аккуратная была. Но тоже, видать, сорвалась. Кровь-то не наша, не русская, бешеная. Сестричка ее с катушек, сами знаете, слетела. Сами знаете, где теперь. И эта тоже теперь… А не знаю! Собралась и ушла. И глазищи дикие-дикие! О-от-такие! А не знаю куда! Если за каждой прошмандовкой следить, глаз не напасешься… Да ее вроде спрашивали уже после. А не знаю! Девка вроде. Подруга вроде. Беленькая такая. Юбка – стыдоба одна. Еще грузины какие-то спрашивали. А с ними у меня разговор короткий! А и никто больше… Так чего, комнату освобождать или как? У нее до конца месяца уплочено, а если уехала, то чего комнате-то пустовать? Товарищ милиционер, вы уж тогда к нашему коменданту зайдите, поставьте в известность.
Не дело милиции: отслеживать маршрут любой и каждой гражданки. Мало ли! Гражданин Рагимов Н. X. не заявлял, темнил. Пропала, пропала! На похищение намекал, так, что ли?
Да ведь не пропала никуда. Вот и Сердюков доложил после беседы с вахтером Кляминой: жива – здорова Яна Ким, объявилась, забрала шмотки-документы, съехала. Судя по всему. Куда-куда! Может, на свидание к сестре. Та на поселении рядышком. Они же друг без друга – с трудом. Кровь-то не наша. Что мы о них знаем?! Ну и что мы о них знаем?
Рутина, бумажки. Желто-зеленые узкие конторские коридоры. Счетверенные стулья, выдранные и притащенные из какого-то актового зала. Дальше- дальше: кабинеты, кабинеты. Районное управление как районное управление. Глазами постороннего: скука и никакой романтики. Так оно и есть.
Только посторонним здесь не место. Если идешь коридорами и считаешь кабинеты – значит, зачем-то пришел. Зачем пришел? И кто?
Но это ж надо, чтобы высунулся из кабинета или попался навстречу компетентный товарищ и осведомился: «Вы что ищете?». Не высовывается, не попадается.
И приходится наблюдать коридоры-кабинеты глазами постороннего, движущегося бесшумно-осторожно, готового метнуться-отпрянуть в любой момент, если… Если что?
А компетентные товарищи как раз и силятся проявить собственную компетенцию: ну и что мы о них знаем?
– Ким. Анна и Яна. Год рождения – 1975. Место рождения – Кулдык-Булдык, Какойтостан. Родители неизвестны. Детдом. Незаконченное среднее. Призеры первенства… А! Любопытно, товарищ капитан! Знаете, кто у них тренером был?!
– Дальш-ш-ше, Степа, дальш-ш-ше! – если одной-единственной шипящей можно выразить презрение-ненависть-бессилие, то оно и есть. – Дальше!
– Золото и серебро на «Дружбе». Так… Исчезли там же, в Саратове. Предположительно, сами сбежали. Медали исчезли вместе с ними. Но там ведь не по-настоящему золото, только покрытие. Заявление о розыске не поступало.
– Дальше.
– Да-альше. Объявились в цирковой труппе. О Мун Ен. Мастер. Учитель. Навроде опекуна. А сам… Там и конопля, и церьяк. Возможно, использовал их в качестве посыльных для передачи товара. Не исключено. Улики только косвенные…
Было! Было что-то такое!
Старый папа О: сбегай туда-то, передай вот это.
Игра! Как в сказке про двух ежей и зайца: я уже тут! а я уже тут! а я давно тут!
Быстро бегаешь! Быстрей всех! Ведь не может один человек одновременно находиться в двух разных местах? Не может.
Замечательная игра: а меня там не было и быть не могло, я тут и всегда была только тут.
Как твоя фамилия, девочка? Ким. А зовут как? Аня. Или Яна. Нет, все-таки Аня. Ой, спутала! Яна, Яна!
Старый папа О был очень доволен и хорошо подыгрывал… Старый – а в игры играл. А сестрам Ким эти игры… наскучили. Сестры Ким подросли-выросли, молча отказались играть вместе с папой О в игру «кто-есть-кто-из-двойников». Вот и расстались. Им, сестрам, еще со времен покойного папы-динамы и того самого пьедестала почета-позора не по душе пришлись комбинации-перевертыши. Дети, слушайтесь взрослых! Ничего и не оставалось иного. Но – выросли.
– … Проходил по ориентировкам. Рахматуллаев, Баймирзоев, Велиханов. Скорее всего – одно лицо.
– Они все на одну рожу! Из трехсот косоглазых, что в розыске, только одного и нашли! фотографируй, печатай триста карточек и выдавай его одного за всех! Н-ну?! А ты мне: ориентировка, ориентировка!..
– Я-то причем, товарищ капитан? Я-то…
– Извини, Степа. Ты как раз ни причем. Дальше!
– Теперь уже здесь, у нас. Так. Анна Ким. Осужденная. По сто шестой. Убийство по неосторожности. Ну, вы помните, товарищ капитан. Спорткомплекс «Юность»… Так. Три года колонии общего режима. Еще два осталось. Так. Яна Ким. Работа по трудовому соглашению в ресторане «Восток». Так…
Ежели почаще повторять: «Так. Так. Так», солидней себя чувствуешь – не просто «младшой» Степа, а коллега Евсеев.
Но Гуртовой стопанул жестом – и не как коллегу, а как младшого. Профессионально беззвучно прокрался капитан к двери, уловив нечто. Распахнул дверь в коридор. Настежь!
Пусто в коридоре. Никого. Мерещится?
Или не мерещится?
Да ну! Вот же он, капитан Гуртовой, как на ладони, один-одинешенек в коридоре. Вид сверху – лысина с макушки наползает, плечи мощные, форменные ботинки блестят. Это если сверху глядеть – например, глазами постороннего, например, прыгнувшего по стенке и, например, прилипшего под потолком.
Необычный ракурс… Да ну, бог с ним, с ракурсом! Нет никого! Очевидно же!
То-то и оно.
8
Но если приходила Яна Ким в общежитие, значит, не пропала никуда. Воду мутил Наджаф, походя нагадить стремился тому, из-за кого вынужден покинуть хлебное место.
Однако не работает нынче Яна Ким в ресторане «Восток». В конце концов, свет клином на ней не сошелся. Да, «звезда»! Тем не менее – незаменимых у нас нет…
И блонда-зайчик, нимфоманка с фригидным взглядом, старается. Очень старается, очень. Теперь – ее звездный час! Если «звезды» зажигают, значит, это кому-то нужно?
Работай, зайчик, работай! Надо понравиться публике, надо угодить новому хозяину, надо доказать: я ничем не хуже, я даже лучше. Ну, не лучше, зато немножко по-другому.
Здесь, в «Востоке», теперь все немножко по-другому. В каждой избушке свои погремушки, У доброго человека Ложкина И. Д. вкус западника – долой азиатчину!
Что долой, то долой.
Настолько долой, что прежние хозяева положения нынче и на порог не допускаются. Они благообразны, европеизированы, при хороших костюмах и при хороших деньгах, но: МЕСТ НЕТ.
Так им всем дано понять и внушительно дано – те же бойцы, что громили кабак, нынче его берегут и порядок блюдут.
– Ты человек или кто?!
– Мест нет! Русским языком сказано! Понял, урюк?!
– Что, просто посмотреть тоже нельзя?!
– Мест нет.
И для Наджафа мест нет. Сколь бы ни жестикулировали, ни вращали глазами его джигиты-амбалы, – место Наджафа нынче отнюдь не в кабинетике «Востока», а разве что в машине через дорогу от «Востока». И просто посмотреть тоже нельзя…
… Хотя есть на что. «Звезда»! Была одна – теперь другая. А при Наджафе место ей было в кордебалете, да-а-а… Око за око. Разве не так? Только справедливо будет. Конечно, много чести для «звезды» – блонды быть целью. Но быть средством достижения цели – почему нет?
Не сразу, не здесь, не сейчас. Восток – дело тонкое. При всей легендарной вспыльчивости терпение не менее (более! более!) сказочное. Ведь если сразу-здесь-сейчас – свидетелей много. Да и соперник настороже – потери возможны большие, а приобретений никаких. Лучше не светиться пока.
Ибо сказано: только дурак мстит сразу, а трус никогда.
Танцуй, девочка, танцуй. Незаменимых нет. Ты тоже профессионалка, тоже «звезда».
Да, профессионалка – точно чувствует на себе взгляды публики: распаленные, нарочито равнодушные, приценивающиеся, пристальные. ОЧЕНЬ пристальные.
Мешает, мешает! Сбивает ее ЭТОТ взгляд. Чей? Не поймать – зал в сумерках, только эстрадка освещена, как… как в тире. Именно! Ощущала себя новая «звезда» под прицелом. Зайчик – под прицелом. Неуютно!
Наджаф ли сверлил глазами сквозь стены?
Бакс ли предупреждал взглядом?
Или… что?
И не пропало, а, наоборот, усилилось это ощущение, когда и программа кончилась, и переоделись все, и разошлись.
И новоявленный звездный зайчик – в гримерной. Больше никого. Не ночевать же тут! Надо идти, но боязно.
Но рано ли, поздно – надо. Бессмысленно порылась в ящиках стола – мазилки, пуховки. Бессмысленно уставилась в зеркало. Бессмысленно стукнула кулачком по колену.
А рядом – еще совсем недавно – вот тут сидела Ким. Яна. А теперь – нет.
Или – да?!
Глюки, глюки все! Нервы расшатались!
Может, и взгляд пристальный – глюки? Но она ведь чувствует, чувствует!
И на улице – тоже! Вот она идет и чувствует – в спину пронзающий взгляд. Хорошо – не нож!
Ближе, ближе! Джигиты Наджафа? Бывшего хозяина?
Не оборачиваться! Пока не видишь никого – никого и нет. Шаг прибавить, даже на бег перейти. Быстрей, быстрей! Там, следом за ней… кто-то есть! Догоняет, догоняет!
Такси! Та-акси!!!
Юркнула внутрь, заперлась. Оглянулась: пусто позади.
– К Теремку! Что, не понял?! К тюрьме, к тюрьме!
– У-у! Пять штук!
– Да, да!
Только бы побыстрей. Позади-то пусто, но чувство такое, что… не пусто! Этакий невидимка с пристальным взглядом – сначала следом шел, теперь вокруг машины кружит.
– Ну, поехали, ну!!!
Поехали. С ветерком, с музычкой «Европа плю-у- у-ус»!
Путь неблизкий. И скорость приличная. А нет-нет, да и оглянется пассажирка – нервы сдают, глюк: не отстает невидимка, не теряет из виду машину, чуть ли не глазами встречается, стоит пассажирке оглянуться. Только все же пусто, нет никого позади.
А впереди – тюрьма. Ей, пассажирке, – не в тюрьму, ей – напротив, через дорогу. Окна в окна. Символично. А скорее всего, нормальный градостроительный идиотизм. Так и живем. Вы видите, товарищи, что вас ожидает, если нарушите Закон?! Видите, граждане, чего вы лишились, нарушив Закон?! Даже не ирония, но сарказм судьбы. Анекдотная древность: «Такого-то помнишь? Он еще напротив тюрьмы жил. Так он теперь напротив своего дома живет».
Тюрьма. Теремок – в лексиконе горожан.
Приехали. Шофер все косился-косился, а приехали – повертел в левой руке «пятихатку» (мол, могу вернуть), а правую ненароком сбросил с переключателя скоростей на колено блонды. А? Не против?
– Пшел вон!
И сама пошла вон. К подъезду. Сопровождаемая свистом, уханьем, выкриками из темных зарешеченных провалов. Противно, но не страшно: лают, но не кусают. Тьфу на вас!
Тьфу на всех на вас, с-сволочи, ублюдки, садисты, орангутанги, импотенты!
По лестнице вверх, вверх. Взгляд невидимки тут как тут! Что надо?! Что от нее надо?!
Ключом в замок не попасть! Мимо! Уронила. Нашарила. Снова – тык-тык. Есть!
Заскочила в квартиру, спиной привалилась. Устала.
Устала она, устала! Сволочи, ублюдки, садисты, орангутанги, импотенты!!! Дайте отдохнуть!
Не дадут ведь отдохнуть. Звонок, телефон:
– За-а-аец, готова? Опа-аздываешь, опа-аздываешь.
– Нет! Сегодня нет. Ну, пожалуйста. Пожалуйста!
– За-а-аец? Ты денежку получила? Будь добра… – по голосу слыхать: ряха-блин, добродушие на грани угрозы, шутки-прибаутки жеребячьего уровня.
Да, так и есть. Ко всему – еще и начальник. Ма-аленький, но начальник. Судя по форме. Что за форма? Черт разберет! Но если форма, то – начальник. Петлицы, гимнастерка, еле сходящаяся под тройным подбородком. Точно! Начальник. Для зека любой носитель формы – начальник: «Эй, начальник!». Не называть же: «Эй, тюремщик!». Понятно, власть. Над зеками в Теремке. А над блондой откуда у него власть?
– За-а-аец! Прав был наш парторг: отвратительная штука этот стриптиз… Ладно! Хватит, ну, хватит выкобениваться!.. Да я б за такие бабки и сам в окно хрен показывал! Я б за те бабки, что тебе платят, свою выдру б выставил, только у нее задница в окно не поместится!.. За-а-аец! Ну то-то!
… Окна в окна. Швырнула трубку в сердцах. Плевать!!! С треском раздернула шторы. С треском включила кассетник. С треском под жесткий ревущий рэп стала сдирать с себя тряпки-одежку.
В последний раз! Все! В последний раз! Она теперь не хухры-мухры, она теперь «звезда». Баксу скажу, объясню – у него все схвачено, пусть эту тему закроет. Все!
Рэп! Рэп!
Нет, не прав парторг, Не очень отвратительная штука этот стриптиз…
Свист, уханье, ор.
– Тихо! Тихо вы! Отбой давно!
Ряха в форме прошлась по коридору, стукнула для острастки в двери камер.
И-иех, мужички-мужички! Держитесь за свайку.
И действительно – тихо вы! Ночь уже. Спят все. Так только, кое-какие окна светятся. И не только у нимфоманки с фригидным взглядом. И телефон не только у нее звонит. Но и…
– Баскаков! Бас-ка-ков!
– Это автоответчик. Ваше сообщение записывается…
– Баскаков, отключи свою бандуру и возьми трубку. А то я решу, что тебя нет дома!
– Я. Слушаю. Кто?
– Гуртовой. Не узнал? Богатым будешь.
– Вашими молитвами, Виктор Тарасыч. Не спится вам? Поздновато вроде. Я уже сплю.
– И спокойно спишь?
– Нет проблем.
– Будут.
– Все обещаете, обещаете.
– Баскаков, зайди-ка завтра ко мне. Часам к трем, договорились? Договорились?!
– Уж лучше вы к нам, Виктор Тарасыч.
– Куда – к вам? В «Восток»?
– М-м… Давайте в «Восток». К нам, да. Значит, к трем? Постараюсь уложиться. Столько дел, столько дел. Только оденьтесь поприличней, Виктор Тарасыч.
Отбой.
– Юрия! У нас все хорошо?
– О, Баксик! Лучше не бывает!
– Звонил Гуртовой.
– У нас все хорошо, Баксик.
– Ну-ну. Достань сейчас Члена…
– Какой-то ты гру-убый и ни хера не женственный!
– Поговори-поговори у меня! Я сказал, достань Члена хоть из-под земли – чтобы в семь ноль-ноль был у подъезда. Завтра придется поколесить… Бодя у тебя?
– Ба-аксик!
– Не ври. Передай ему, чтобы тоже был готов. К трем. «Восток». На всякий случай. Гуртовой в гости напросился. Кстати, где девочка?
– Почему «кстати», Баксик? Я же девочками не интересуюсь, Баксик… Шучу, шучу. Все в порядке. Ты сказал: позаботьтесь, мы позаботились. Бодя позаботился. Сейчас! Бодя!.. Да, позаботился.
– Вы мне там кончайте ржать!
– Все-все, Баксик! Она же съехала, Баксик! На все четыре. Я по своим каналам навел справки. Съехала. А что?
– Ладно. Спите спокойно, дорогие товарищи.
Отбой.
Отбой. Все. Наконец-то. Сеанс окончен!
Задернуть шторы!
Взвыть от униженности и оскорбленности.
Хлопнуть стакан коньяку.
Пнуть в стену, отвечая на возмущенный стук соседей.
И в ванную, в ванную – смыть… Все с себя смыть.
Душ-ш-ш-ш-ш-ш-ш… Все! В последний раз! Теперь она «звезда», теперь другие деньги пойдут. Бакс обещал. Теперь она пошлет куда подальше теремковую мразь. А Бакс возьмет под крыло. Он обещал, он обещал, обешщ-щ-щ-щ… Душ-ш-ш-ш-ш…
Посильней напор. С-сволочи, все сволочи! Мыло. Шампунь. Где шампунь?!
Шкафчик зеркальный. Дерг! И!
И в нем, в зеркале шкафчика – промельком – она. Она! Невидимка! Яна! Яна-а-а-а-а!!!
Было. Было уже. Дежавю.
Скользко – мыло, кафель, лицо под водой, пар, и никаких пузыриков. Папа-динама. Сестра Ким на пороге.
Но на сей раз пузырики будут! Блонда-зайчик побултыхается, пузырики повыпускает!
Не-ет!!! Она не знает! Она ничего не знает! Она никого не знает! Не видела, не слышала, не поняла! Не встречалась – ни сном, ни духом!
Крупные капли – то ли не обсохла после горячего душа, то ли покрылась холодным потом. И… и не было здесь никого, не приходила сюда Яна Ким! Нет, не приходила. Никогда!
Только не глядеть, не глядеть туда. Вон туда, на нижний ящик шкафа. «Не думать о белой обезьяне»! Как же можно убедить Яну, что Яны здесь не было?!
Да, уже ясно зайчику-блонде, что не Яна это, а сестра ее.
Да, но ведь сестра – в тюрьме! Не в той, что напротив, не в Теремке, а далеко, очень далеко.
Но – она здесь.
Или это – Яна? Лучше бы это была Яна! Или хуже…
Глюки! Это все глюки! Никого здесь не было! Не было! «Не думать о белой обезьяне»! Не глядеть туда, нанижний ящик шкафа, НЕ ГЛЯДЕТЬ! Глюки и есть глюки. Призрак! Смешно и стыдно верить в призраки, да!
Ан отследил призрак направление взгляда, изогнулся, протянул руку – длинннную, бесконечную. К шкафу.
Ринулась наперерез нимфоманка с пьяным женским визгом, выпустив когти: исцарапаю в клочья! Напала!
Не на ту.
Швууп-п! Призрак-Ким ушла скручиванием корпуса, пропустив мимо атаку – швуп-п! Тошнотный звук. Упала блонда куклой – все ниточки оборваны – обрезаны.
А ящик шкафа – и что там? А там – среди дешевой бижутерии, таблеток, ломаных авторучек… медальки. На ленточках. Золотая и серебряная.
Момент истины. Время истины. Время. Уже почти время ненавидеть. Но – почти. А по сути, время просто презирать. Презирать и выслушивать:
– Мы – чаю! Мы с ней только чаю попили! Я ничего больше не знаю! Мы с ней новую программу обсуждали и больше ничего! Я ее потом проводила! Я ей машину поймала! Случайно мимо проезжала! Какая?.. Такая… Я не помню. Не помню я!!! Белая. Иностранная. Не запомнила номер, не запомнила я! Вот те крест!
Хотя какой там крест!
Да, так и было. «Мерседес». Белый. Случа-айный, случа-айный… Глубоким вечером. В окрестностях Теремка. Свободный. Только шофер.
Пожалте к подъезду! Куда? Общежитие? Поехали!
И она еще ручкой Яне сделала – а та была жива-здорова.
А больше она ничего не знает. Во всяком случае, ничего не скажет. Так, домыслы… Зачем она будет домыслами делиться? Ничего она не скажет. Что знала, то сказала. А про домыслы – лучше помолчать. Бакс ведь предупредил: «А тебе сейчас лучше помолчать. Ну? Молчишь? Умница, Зайчик. Все».
9
Время… Спозаранок. Семи еще нет, но как раз надо поспешать, дабы в семь ровно быть, как приказано.
Поколдовал Член над механизмом-замком гаража – передняя стенка вверх поползла.
Вон он, «мерс», красавчик!
Необходимое и достаточное наведение блеска. Мотор прогреть… Прогрели, перекурили – пора!
Покатили потихоньку. Из гаража.
Но дверь вдруг тоже поехала – вниз. Чего вдруг?! Механизм хренов! Еще бы чуть – не избежать бы крепкого «поцелуя» с воротами за милую душу!
Выскочил как ошпаренный. Подхватил за нижнюю кромку – остановить. Остановишь махину, как же! Щелк! Схлопнулось. Хорошо, пальцы не отхватило. Вот хреновина! И главное, темно, как у негра в желудке!
Ощупью по стеночке добрел до кнопочного пульта, до внутреннего. Нашарил коробок спичек, чиркнул: вон он, пульт.
А! Жми – не жми, один черт! Что же делать? Еще спичку зажег и, слепо выставив перед собой, поплелся к выключателю – свет хотя бы включить. Щелк! Ни чер-та! Что за черт?! Бакс голову оторвет! За опоздание. Ладно – опоздание! Как теперь отсюда выбраться то?!
Сел за руль. Фары врубил – ну и фары, и что?! Два белых круга на заклинивших воротах. Аккумуляторы подсядут. Мотор мурлычет. Радио, что ли, включить?
Пик-пик-пик-пик-пик-пиииик. Ну, все. Уже семь. Уже опоздал! Последние новости! Самая последняя новость – он уже опоздал. Самая последняя – и остальные его не интересуют, пусть хоть марсиане прилетели, на головку сели! Лучше – музыка, где тут музыка!
Е-е-европа плю-у-у-ус! С вами Маша Бодрова! И несравненный Принс! Европа плюс – лучшая в мире музыка!
… И не только Маша Бодрова, и не только несравненный Принс. Вместе с вами и… кто?
Кто-о-о?!!
Член прикурил сигаретку и в отсвете – красноватом, колеблющемся, тут же погасшем – глаза в зеркальце. Глазищщщи! Там! А-а-а! Там, сзади, на заднем сидении! Неужто марсиане-таки прилетели?! И на головку сели?!
Захват! За шею. Мертвый захват! Это тебе, Член, не в зале у Стасика Ли! Засуматошил ногами, захрипел и… вырвался. А очень просто: вцепился зубами – звериный инстинкт. Не было такого приема в арсенале ни у Стасика Ли, ни у… ни у кого. И не прием вовсе а инстинкт. Очень хочется жить. Ну и, соответственно, с контрприемом в первый миг и не сообразишь.
Вырвался! И – прыг из мерседеса. А дальше-то куда? Тьма. Высверки. Бочки, канистры, коловороты, запаски.
Все гремит! Гулко рушится! Разбивается вдребезги! Звякает. И загнанной мышью по клетке носится Член – по клетке, в которой еще и кошка. Черная кошка в темной комнате. Страшно! Особенно если она там есть. А есть.
Инстинкт самосохранения способен творить чудеса. Он способен противостоять даже самому изощренному охотнику. Противостоять – не в смысле дать отпор, но хотя бы избежать. Однако – неизбежного не избежать, особенно если и бежать некуда: четыре стенки, чернота, острые углы. Швыряйся, не швыряйся – рано или поздно будешь загнан в угол. В острый угол. Дыхалка сбита. Дышать нечем. Тьма.
Свет! Дайте све-е-ет! Ты кто?! Ой, мама-мама! Кто ты?! Све-е-ет!!!
Свет. Починился! Вспыхнул. Ты кто?!
С вами Маша Бодрова. И Принс. Несравненный!
Заткнись, несравненный! Член орет-визжит не хуже.
– А-ауоа-а-а! – при свете не лучше. Хуже!
Глазищщи! Она! Не может быть! Не бывает! Она! Но ведь она… Нет, не может быть! Он же сам тогда. Не может, уже не может быть, чтобы – она! Ведь уже – все! Было уже!
Что было? И – как было?
А так и было. «Мерседес» на скорости в полуночном городе. Девочка, притихшая на заднем сиденье. Так поздно ей не приходилось еще возвращаться домой.
Домой?
Д-да. В общежитие.
А чего так поздно? Молчишь? Ну, молчи. Он-то, Член, рад побалагурить от скуки со случайной пассажиркой. Но он-то, Член, в курсе: отнюдь не случайна пассажирка. Иначе разве подхалтуривал бы он, Член, столь нерационально: из одного конца города в другой вези одного пассажира, то бишь пассажирку.
Вот и попутчик. Здоровенный, необъятный. Бодя, туловище – точнее не скажешь.
Мастер, подбросишь? До Бордюрной?
Садись. Крюк, правда, небольшой. Но садись.
Он только шофер. Он больше ничего не знает. Он подсадил одного пассажира, потом – другого.
А почему девочка вместе с Бодей вышла на Бордюрной и не поехала дальше, к своему общежитию… он, Член, знать не знает! Честно! Не знает! Он ведь только шофер, его дело – довез, подождал, если скажут «подожди», дальше повез.
Он и подождал – а Бодя с девочкой ушел. Потом Бодя сдевочкой вернулся. Где-то через час. Бодя эту девочку усовал в машину: вези, мол, ее дальше. А сам Бодя не поехал. А девочка совсем больная. То есть стала совсем больная. Но живая! Честно, живая!
Она шевелилась, моргала! Он, Член, сам видел, видел! Он даже с ней заговорить решил! Бодя ведь хамло порядочное – Бодя мог ей больно сделать. И сделал.
Но что сделано, то сделано – теперь придется терпеть, девочка. Трясучка, не трясучка – но к доктору мы не поедем. А поедем мы в общежитие, как и заказано с самого начала, да! Вот еще, он, Член, сам же ее к доктору повезет! Ищите дурака! Хрен в сумку!
Он ведь не знал, подумать не мог, что это не просто трясучка, что это просто агония.
Он, Член, с ней все разговаривал-разговаривал. Тут тормознул на красный, приглушил мотор. Вслушался – а позади тишина НЕХОРОШАЯ. А глазищщи открыты, не моргают! Не дышит!
Но ведь только что шевелилась, только что моргала!
Это все Бодя! Бодя это! А он, Член, ни при чем! Конечно, ни при чем! Только именно у него, у Члена, труп в машине – еще тепленький. Что ему было делать?! Ну, что?!
Он, Член, и свез… Нет, не в общежитие… Куда-куда! На… свалку.
Живой, дышащий мусор, груды, мухи, писк крысиный…
Там и зарыл… Ничего не знаю, ничего не видел. А если и знаю, то не скажу. А если и скажу, то: «Это Бодя! Бодя это! Не я! Я не!..».
10
Мрачное это место, свалка.
Бульдозеры, сгребающие кучи в более компактные кучи.
Чайки, чад, грязь.
Чего только здесь нет! Картина, корзина, картонка, маленькая собачонка… Ручки, ножки, огуречик…
… Человечек!
Так и зафиксируем на пленке. Вспышка: ручки, неестественно подогнутые, ножки нелепо торчат, и уж совсем нелепо шея вывернута. Нелепо.
И еще нелепей – «мерседес» на свалке. Пустой, брошенный. Кто же столь богатенький: «мерседес» – и на свалку! Абсурд!
Вспышка. Пустой «мерседес», целехонький, белый. Свалка.
А здесь чистота не в пример свалке.
Яркий, стерильный свет.
Метлахская плитка.
Колбы, мензурки, острый блеск никелировки.
Халаты. Лежаки…
Лежи себе, человечек, под простынкой, укрытый с головой. Молча. Отговорил свое. Морг.
– Травма, несовместимая с жизнью. Печень… Внутреннее кровоизлияние… – белый халат деловито-монотонен.
– Зарубин. Валерий Сергеевич. 1951 года рождения. Известен под кличкой Член. Прописан по адресу… – некий служака столь же деловито-монотонен.
– «Мерседес» принадлежит гражданину Баскакову Анатолию Марковичу, учредителю товарищества с ограниченной ответст…
– Да-да, – прерывает Гуртовой, кривя губы. Кто-кто, а Баскаков-то ему известен. Да и кому Баскаков не известен!
– Виктор Тарасыч, кофейку? – еще один белый халат зазвал в соседнюю комнату. Спиртовочка, чашечки, даже бутербродик с мертвенным ломтиком ветчины.
Отчего же! Морг и морг. Жизнь-то продолжается. 3а годы и годы работы «на земле» к чему только ни привыкнешь.
– Смерть наступила от восьми до восьми тридцати утра. Трупное окоченение…
А молодежь нехай привыкает. Степа Евсеев, дурнота и бледность. Привыкай, малой!
И малой героически привыкает: вокруг да около лежака, где под простынкой покоится Зарубин Валерий Сергеевич, известен под кличкой Член. Хм, хм. Оно конечно, Степа от Гуртового ни на шаг и, преодолевая тошноту, глядеть бы куда угодно, лишь бы не на труп под простынкой. Ан – нет-нет, а глаза косятся. Кличка Член! Интригующе! Хм, хм.
– Степа, кофе?
Издеваются? Сглотнул тошноту. Хорошо им, матерым оперативникам, привычны ко всему! Тут понимаешь, труп, а они – кофе! Однако – кличка Член. Вокруг да около лежака, глаза косятся. Ай, любопытство необоримо: приподнять простынку, зыркнуть. Ну?.. Вот так рушатся юношеские иллюзии.
– До Баскакова, до восемьдесят седьмого, возил обкомовского Левичева… – не оборачиваясь, спиной, учит уму-разуму Гуртовой малого Степу. – На каждом углу кричал: «Я член партии! Я член! Член я!». Откуда и кличка.
«Черные»? Не исключено.
Но почему именно Зарубин по кличке Член? Крайнего выбрали? Не очень логично. Предупрежден – вооружен.
Резонней было бы начать с Боди, с Гуреева Бориса Ильича. Личный телохранитель и тщательно неафишируемый глава шпаны, громившей «Восток». Ранее проходил по 207-й, 210-й, 146-й. Проходил, но не привлекался – стараниями Чилингарова Юрия Аврумовича, члена коллегии адвокатов, правой руки Баскакова. Помимо тесных служебных контактов имеет… м-м… внеслужебный контакт с Гуреевым Б. И. В своей юридической практике – беспроигрышность гражданских и уголовных дел. Не обзаведись Баскаков А. М. эдаким помощником, давно бы отдыхал Баскаков А. М. в Теремке-тюряге. Впрочем, как и Гуреев Б. И., боевичок-громила. Впрочем, и самого Чилингарова Ю. А. недурственно было бы – в Теремок. Эх, статью отменили «маргариточную»!
Так что если джигиты Наджафа и начали бы войну на поражение, то начали бы не с Члена, а хотя бы с Боди.
– Кстати, Степа, вот этому Б-боде кличка Член подходит куда больше, чем Зарубину.
– Ну това-а-арищ капитан!
– Ладно-ладно. Теперь вот что. «Черные» «черными», версия работается. Но вместе с тем и кроме того…
– Товарищ капитан! Виктор Тарасыч!
– Что там еще?!
При задержании соблюдать особую осторожность…
– Ч-черт! Когда пришло?
– Сегодня. Только что.
– Ч-черт! Какого числа? Уже трое суток! Ч-черт! Бардак!
– А что? Что это нам дает? Это что-то меняет?
– Хм! Сердюков? Алло! Сердюков! Какая-такая женщина приходила в общежитие? Да, о которой Клямина тебе сообщила. Нет, не Ким. Ты докладывал: блондинка…
Теремок. Он не низок, не высок. И надежен. Мера социальной защиты. И не только защиты социума от запертых в Теремке. Но и защиты служителей Теремка от социума. СВОЯ территория.
– А с кем я разговариваю? – расплывается ряха – блин с петлицами. – Да, Юрий Аврумович. Помню- помню, как же, как же. Угу… Угу… Нет. Знаете, никак не получится. Уплочено уже. Люди, сами понимаете, серьезные, я не могу вот так ни с того ни с сего заявить им: «Кина не будет». Нет, не могу. Ну вы поставьте себя на их место… Гу-гу-гу! От сумы да от тюрьмы… Вы бы хоть объяснили. Так все было хорошо… Она же у черножопых в кабаке выкобенивается, а вы такой солидный-известный человек, Юрий Аврумович, и хлопочете за… Звиняйте, звиняйте, не так сказал. Я и говорю: вы бы хоть объяснили… А, вот так, значит, теперь. То есть она теперь под вашей… у вас… на вас… Все равно очень сложно. Н-не знаю, не знаю. Постараюсь. Зачем вы так!.. Конечно, лучше по-хорошему! Вот и я говорю. Понял. Я понял, понял… Да при чем тут я – у меня же люди, договоренность, кон-тин-гент. Вы же… уж вы-то знаете, сталкивались. Угу. Угу… Да я-то согласен. Конечно, согласен! С дорогой душой, Юрий Аврумович! Да. Само собой. Но, согласитесь, вопрос материальной заинтере…
Гудки отбоя в трубке.
– У, пидор! Гнида! Падла! – и много чего еще выпалил в сердцах ряха-блин-петлицы в коротко гудящую трубку.
СВОЯ территория, конечно. Однако начальников развелось – и не знаешь, кому лучше подчиниться, кого лучше ослушаться.
– Кина не будет! – прошелся по коридорам. – Кина не будет! Кинщик заболел!
И много чего еще выслушал из камер в свой адрес: гулко, малоразборчиво, но угрожающе, Что-что, а мести метлой обитатели Теремка умеют. Да и повод еще тот!
Ну-тк! Одно удовольствие и было: «кино» в окошке напротив! И «уплочено» за удовольствие по полной, деньгами «уплочено». И вдруг – так кинуть! И вдруг: «кина» не будет!
Эй, нача-а-альник!!!
Не будет. Шторы задернуты.
Глухо. Темно.
– Баксик. Я. Отзвонил. Зайчик может пока отдыхать. Договорились мы, А как иначе могло быть, обижаешь, Баксик. Я персоналу Бодю упомянул… Короче, персонал Зайчика теребить не будет и ждет дальнейших указаний. Но, конечно, следует подкормить. Члена послать или как?
– Юрия! Ка-акого… Члена?! Где он вообще?! Я же сказал: в семь. И – никого! Так дела не делаются, Юрия! Я недоволен, ты меня понял?
– Баксик! Извини, не в курсе. Я распорядился, как ты сказал, На меня-то зачем кричать, голос повышать?
– Ну-ну, Не дуйся. Разыщи Члена. И Бодя пусть в три часа к «Востоку» как штык. Ты помнишь, надеюсь? У нас встреча с дорогим Виктором Тарасычем. Не дуйся, сказал!.. Да! Зайчику можешь отзвонить порадовать: пусть отдыхает, Бакс сказал – Бакс сделал.
– Кто-кто сделал?
– Куда ж я без тебя!
Отбой. И набор номера. Гудки. Длинные.
Никто не подходит, чтоб порадоваться. Нет никого? Или трубку не снимает?
Шторы задернуты. Глухо. Темно. «Кина» не будет.
11
Меры воздействия на окружающих разнообразны и неисчислимы: будь то кнут, будь то пряник.
Бодя – кнут. Понадобится – задействуют.
А пока потеет, «грушу» околачивает в зале Стасика Ли, на тренажерах качается. Для него – быть в хорошей форме это не просто вопрос престижа, но и производственная необходимость.
Впрочем, представление о хорошей форме у каждого свое. У Боди – свое, у Стасика Ли – свое. Вот и глядит Стасик Ли опасливо, но снисходительно: хорошая форма! груда мяса! туловище бессмысленное!
– Чё уставился, китаеза! Каратэ, каратэ! Ка-ак вдарю – и никакое каратэ! У, не люблю я вас всех, черножопых-узкоглазых! Я б вас всех… и-иех!.. и- иех! – и качает, качает тренажерную пружину, наглядно демонстрируя, как бы он, Бодя, их всех: недвусмысленно, оскорбительно, с натягом, с присвистом, по самое некуда!
За такое и пяткой в лоб можно схлопотать. Запросто!
– Чё буравишь! Давай-давай! Мало тебе одного трупешника? Да-авай налетай! Только теперь загремишь на полную катушку. Второй раз мы тебя отмазывать не будем. Наешься грязи по уши, Тот же Юрий Аврумович постарается, будьте нате.
Потух Стасик, обмяк. Прав Бодя. Скотина полная – но прав. Повязан Стасик Ли. По рукам и ногам.
– То-то!
Обтерся Бодя, облачился, хлопнул дверью.
Солнышко. Припекает. О, мороженое! Извлек пачку пятитысячных. Хочу мороженого! Поче-о-ом? Двести тридцать? Тогда одно-о-о.
Пока сдача шелестелась-отсчитывалась, повертел башкой, стопанул мотор:
– Ща, мастер! Момент!.. Ну, ты! Долго считаешь! То-то! Все точно? Не обманываешь? Ладно, живи!.. Двинули, мастер! На Бордюрную. Откусить хочешь? Вкусно, говорю! Кусай. Кусай, говорю! То-то!
Добря-а-ак…
Щелкнул замком, вошел. Пожрать бы! Мороженое – разве еда? Баловство! Второпях хлопнул дверью – не захлопнулась, отъехала на десятисантиметровую щель.
Сунулся в холодильник, извлек чего-то съедобного, хлопнул дверцей. И, откусывая от копчености, хозяйски уставился в окно, на двор: пацаны сцепились – неумело, но зло.
Хмыкнул, дернул окошко, высунулся:
– Мудак! Хук дай слева! Хук! С-сопляшня!
Зря окошко открыл – сквозняк. Тюль взметнулся, зацепил стекляшку-безделушку на телевизоре, поволок – разбил в мелкие брызги.
Бодя вздрогнул непроизвольно: чё? кошка? мышка? привидение? Резко обернулся: а-а, стекляшка, ветер, тьфу!
– Ё!
Пнул-запер дверь в прихожей как следует. Ну и заодно тогда надо бы зайти рядышком – отлить.
Отжурчал, откряхтел с удовольствием. Вышел, застегивая мотню на ходу, и…
… оторопел на пороге комнаты:
– Ё! Ты чё, в окно, что ли? Ты как? А-а, понравилось? Я-а-а знал, что тебе понравится! – и не стал больше возиться с мотней. А чего? Сойдет! Не впервой. Считай, свои люди – сочтемся.
Не испуг, а оторопелость. Кого пугаться-то?! Эту?!
Мало ей было? Наверно. Если опять заявилась. Сама. Значит, мало ей было тогда – три дня назад.
Сочтемся!
А было так. Три дня назад, когда Бодя охапкой затащил ее к себе на Бордюрную из «попутного» мерседеса.
Она пыталась сопротивляться. Вывернулась даже. Даже мазнула пяткой чуть ли не в пах.
Бодя воспринял поначалу все как игру. Кто же, какая нормальная баба откажется, если он та-акой мужик! Бодя сначала ничего и не предлагал – втащил, как было заранее обговорено, хотел с ней по- доброму, по-хорошему. Разве что разок легонько вдарить – легонько… ну… ну, как бабу. Это если крик поднимет невзначай. Он же, по сути, добря-а-ак!
Однако не понимает она хорошего к ней отношения! Да еще, сучка узкоглазая, пяткой норовит по самым помидорам!
Да я теб-бя!.. Знаем все ваши приемчики! Мало Боде одного Стасика Ли, так теперь каждая желто- мордая шелупонь будет тут, понимаш, ножками стричь-размахивать! Да я теб-бя! Сучка узкоглазая, манда поперек! Во, интересно! Поперек или как?
Короче, завелся. Олигофрены вообще малоуправляемы. Особенно на сексуальной почве. Опрокинул навзничь. Выпьем за знакомство! Пей, сучка! Разожми зубки! Глотай, глотай! А то задохнешься!..
А она потом не сопротивлялась. Даже не кричала. Просто будто паралич разбил – хрусть что-то в спине, и – лежит колодой. Не кричит, не стонет, а тихонечко-тихонечко говорит: «Нет. Нет. Нет».
Чего уж «нет», когда «да».
И – звонок.
– Бо-о-одя! Как там у нас?
– Полный звездец! На самом интересном месте!
– Какой-то ты гру-убый и ни хера не женственный! Ты что же там делаешь?!
– Я? Га-га-га! – и рык звериный в трубку, поясняющий: не делаю, а уже… сделал.
Не дуйся, Юрия, Боди на всех хватит, Бодя такой – неутомимый, не брезгующий… ничем.
12
– Так! Но если она сюда к нам направилась, то… зачем? Ее опознать здесь – раз плюнуть! А, товарищ капитан?
– Степа! – интонацией отмахнулся Гуртовой, без сопливых обойдемся. – Сердюков, какие-нибудь документы в общежитии остались?
– Не! Говорю же… то есть Клямина говорит: съехала. Приходила, да, собралась и съехала. Там уже заселили.
– Съехала, съехала. Кто?
– Ким…
– Ким, Ким… Которая?! Во-во, То две, то ни одной! Про женщину выяснил?
– А как же. Зоя Лапиньш. Это которая в кабаке ногами дрыгает. И в окно сиськами трясет.
– Сердюко-ов…
– Да я-то что! Соседи ее нам уже сигнализировали-сигнализировали, а что делать: она в своей квартире – хозяин-барин. Я-то что?!
– Товарищ капитан… – самовозгорелся Степа. – А если ее…
– Степа! – Не до тебя, Степа! Думать надо, просчитывать, разобраться бы. – Сердюков, надо бы с ней…
– Да я-то что! Я и звонил, и повестку посылал, и сам ходил. Она как раз напротив Теремка – ну да, как же, иначе б чего б ей… Ну-тк, не отзывается никто. Может, уехала куда? К матери там… к ребенку?.. Два раза ходил. Я-то что?!
– В каком кабаке она… м-м?..
– О! Товарищ капитан! Это же «Восток»! Ее же можно там…
– Степа! – Вот только Степу не спросили!
– Если в общежитие приходила Анна Ким, то где Яна Ким? – подключился кто-то из коллег.
– Черт их разберет! А травма у Зарубина характерная. Дай-ка заключение экспертизы. Ну! Вот…
Сидят коллеги-сотрудники в районном управлении, колдуют над версиями-вариантами.
– Она-то? Ким-старшая? Она может. Тот же Климов…
– Какой Климов?
Не мешай, малой! Старшие совещаются. Тот самый Климов. Павел Климов. Покойный. Травма, несовместимая с жизнью. На тренировке в спорткомплексе. Сам – из команды Гуреева-Боди. Дрянь порядочная, но смерть есть смерть. И убийство есть убийство, пусть и по неосторожности.
– В случае с Зарубиным о неосторожности и речи нет.
– О чем и речь, о чем и речь… М-да. С заранее обдуманными намерениями? А за что? Если – она, то ей бы – тише воды, ниже травы.
– Кто она? Ким? А которая?
– Степа!
– Товарищ капитан, можно ведь по отпечаткам. Отпечатки ведь у них разные!
– Вот только тебя не спросили!
Отпечатки-то разные, только чтобы их снять, нужна хоть одна из сестер. А они обе канули, как сквозь землю.
Если в общежитие приходила Анна Ким, то понятно, почему она там не осталась, до поры можно выдавать себя за сестру – опыт цирковых выкрутасов с челночными пересылками «дури»… но лишь до той поры, пока пальчики не снимут (ишь, малой Степа, ишь, Евсеев! Поперек батьки! Небось головы у старших по званию тоже варят!).
– Нам бы хоть одну из них!
– Где?..
А действительно, где может быть, где может скрываться столь приметная (приметные) фигура (фигурки!).
Стасик Ли прибрал в зале, «блины» сложил в столбик, все и всяческие снаряды привел в порядок, протер. Пуст зал. Как тогда…
… когда: он и покойный Паша Климов (но еще не покойный тогда). Стасик Ли предпочитает индивидуальные тренировки. Это же только тренировка была тогда. Разве Стасик виноват, что Паша Климов был столь неловок, что Паша Климов заработал смертельный удар?! Да и не был удар таким уж смертельным – случайность, чистая случайность. И – никого! Только эта… конкурентка, чтоб ее черти унесли, в душевой.
Стасик и запаниковал тогда. И – сразу к телефону. Нет, не в милицию. Посадят! А кому звонить, чтобы не посадили? Чтобы защитили. Конечно! Ну, конечно! Юрия! Юрий Аврумович!
– Юрий Аврумович!
Сбивчиво, бестолково бормотал в трубку, опасливо озираясь то на дверь зала, где – бездыханный Паша Климов (дрянь человек, но…), то на дверь душевой, откуда с минуты на секунду может появиться эта… конкурентка, чтоб ее черти унесли! Свидетельница!
А кто сказал, что – свидетельница? Кто сказал, что – только свидетельница? Что – не она Пашу Климова обработала?
– Да, Юрий Аврумович. Понял, Юрий Аврумович.
На цыпочках, на цыпочках и – чтоб духу не было.
Не было, не было. Чилингаров Ю. А. засвидетельствует: Стасик Ли именно тогда находился именно не там.
Пашу Климова не вернуть, а Стасик Ли еще очень даже может пригодиться, Стасик Ли теперь на привязи – на крепкой, на неразрывной. Поводок.
Вот и получилось… Пустой зал. Труп. И – Анна Ким.
Признаете себя виновной?
Брызжущий душ в кабинке спорткомплекса.
Бесформенная туша на татами.
Пар. Лицо под водой – лицо папы-динамы, папы- тренера.
Скользко, мыло, кафель.
– Да.
Грех требует искупления. Рано или поздно.
Это не покорность судьбе, не осознание бессмысленности попыток отрицать и требовать справедливости.
Что есть справедливость? И когда?
Брызжущий душ. Туша на татами.
Папа-динама в гостиничной ванне.
– Да.
И пусть сам папа-динама «гроша выеденного не стоит», но – виновна. В убийстве. Том ли, этом ли…
Сказки все: про преступника, вечно возвращающегося на место преступления. И – где может объявиться беглая Ким?
(ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ СОБЛЮДАТЬ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ.)
Да, правильно. Стасик Ли, обходя напоследок свои спортвладения, проверочно открыл дверь в тренерскую, а там…
Она!
И нет необходимости внезапно брать навороченного сэмпая в мертвый захват, демонстрируя превосходство и страхуясь от непроизвольной защиты. Превосходство – прежде всего психологическое. Как-никак: живешь-существуешь с двойным грехом на душе – убил, пусть и непреднамеренно, но еще и подставил вместо себя… конкурентку (и уже вполне намеренно и умышленно). А она – вот она. И палец к губам, тихо.
Конечно, тихо! Он никому ничего. Он все сделает. Он, если ей надо, предоставит убежище – тут же, в коридорно-кабинетных недрах спорткомплекса. Он никуда не побежит докладываться. Некуда!
В милицию? Как же! Если эта Ким объявилась, то не просто так. И глаза у нее теперь совсем не те, что были на суде. Теперь она сдаст Стасика Ли с потрохами.
Да кто ей поверит?!
Но все равно! Это же опять все сначала. Только- только Стасик стабилизировался, только-только все вошло в свою колею, и – опя-а-ать…
Но и колея своя – сковывает: ни на шаг в сторону, на привязи, на поводке у Баскакова и компании. К ним, что ли, Стасик побежит докладываться?!
А-а, пусть все идет как идет! По течению! Он, Стасик Ли, никому ничего…
13
Все идет как идет. По течению.
Течением смыло-снесло Наджафа из «Востока», а принесло Ложкина. Правда, в памятном кабинетике хозяином – Бакс. А Ложкин – на посылках: надо обслужить хозяев по первому классу. Да еще при таком госте!
Капитан Гуртовой в гости пришел. Договорились на три часа, он и пришел. Хрен его знает, зачем пришел.
На всякий случай Юрия тут как тут. Ежели что… товарищ капитан, вы здесь в качестве неофициального лица, просто гость. Мы не в Штатах, мол, «предупреждаю, с этого момента каждое ваше слово может быть использовано против вас». Не так ли?
Вот еще иметь бы под рукой Бодю, но не явился почему-то. Совсем разболтались орлы! И Член куда-то задевался бесследно. Ни «мерса», ни Члена, ни Боди! Ох, пора профилактическую взбучку закатывать, ох, пора-а! Но – потом. А пока – гость в доме. В доме Бакса.
«Восток» – дом Бакса, место Бакса. Место Бакса там, где он есть. Наджаф со своими джигитами, кажись, убедился. И ныне в кабинетике – Бакс.
Да, легкий десертный стол, «видик» для легкого фона: там, на экране, чудеса-ниндзя вытворяются.
А посадить капитана нужно почетно вроде бы, но аккурат спиной к «видику». Чтобы время от времени давать понять: мы вас слушаем, мы с вас глаз не сводим, а ежели вам кажется, что глядим как бы сквозь, как бы через голову, как бы на экран «видика»… что слушаем вполуха и цокаем восхищенно не от ваших, капитан, слов, а от ниндзя-трюков-криков, то… не обессудьте. «Хозяин – ишак своего гостя» – то кавказская поговорка, наджафовская. Ныне здесь все немножко иначе.
– И ты, конечно, ничего не знаешь, Баскаков?
– Ви-иктор Тарасыч! Откуда?! Я – солидный человек, а вы меня о погроме спрашиваете, о каких-то штурмовиках! И почему – меня? Я здесь такой же гость, как и вы. Ложкин!!! Эй, Ложкин, пст' сюда! – и пренебрежительным жестом: эти тарелки-чашки-бокалы убери, другие принеси. – Вот и Юрий Аврумович не даст соврать.
– Не дам, Виктор Тарасыч, не дам.
– А что было, то прошло, Виктор Тарасыч. Времена, сами знаете, изменились. Раньше, да, все козыри были у вас, а теперь – одни шестерки. У, как дал! – оскорбительно среагировал сквозь капитана Гуртового на финт видео-Косуги за спиной гостя.
– Здесь до недавнего времени работала Ким. Яна Ким. В варьете.
– Да-a? Может быть, может быть. У нас сейчас многое поменялось. Ложкин, знаете ли… Новая метла… А что, Виктор Тарасыч, девицами интересуетесь? Кассетку сменить? Есть чудесный балет. Современный, эротический. Без грязи. Весьма вдохновляет. Поставить?
– Нет. – Ни взглядом, ни жестом не отреагировал Гуртовой на «видик», однако… – Кстати, сестренка этой Ким, пожалуй, квалификацией повыше… – умаляя многочисленные достоинства экранного ниндзя.
– В жизни очень часто бывает, как в кино, но в кино очень редко бывает, как в жизни, Виктор Тарасыч, – изрек Бакс, прихлебывая джус. – Насколько я знаю и помню, сестренка допрыгалась со своей квалификацией. Нет?
А капитан Гуртовой в ответ смолчал, но сказал – взглядом: про то, что капитан Гуртовой знает и помнит нечистую историю с трупом Паши Климова, знает и помнит эквилибр Чилингарова, отмазывавшего Стасика Ли на предварительном следствии, знает и помнит очень многое, лишь доказать не может. И еще сказал взглядом капитан Гуртовой: помнить ты помнишь, Бакс, но не все знаешь на данный момент – уж это-то я тебе с удовольствием дам понять, но не скажу. Гадай, Бакс, настораживайся, безупречный!
– Как вы все тогда поужинали, Баскаков? Вкусно?
– А! Вкусно. Зря вы нам компанию не составили.
– Товарищ капитан, вероятно, желает намекнуть, – закуражился Юрия, профессионально прощупывая, – что, ужиная, мы наслаждались варьете и не могли не заметить интересующую его девочку. Только мы ужинали в этом кабинете. Так что девочки варьете нас не особенно и…
– Разве? Разве я на что-то намекнул? Хотя… будь мы в кино, а не в жизни, можно было бы… Этакий боевичок. Две группировки, одна не уступает другой свою территорию. Тогда та, другая, похищает и прячет человечка, чтобы дать понять. Ценного человечка, «звезду». А когда нужной реакции не следует, налетают крепкие ребята, крушат-громят. М-да… Но пострадавшая группировка тоже не промах, у нее всегда остается возможность ответить. По-своему…
– Кино! – неуязвимо, превосходяще хмыкают оба-два.
– Кино, кино… – соглашается Гуртовой. – А что, может, девочка и сама ушла на все четыре. И ничего страшного, ничего криминального.
– Уж чего нет, того нет! – подхватывает Юрия. – Ее ведь и в городе потом видели. Так, товарищ капитан?
– Видели, видели. А когда – потом? После чего?
– Потом… – мазохистски скользит по лезвию Юрия. Своеобразное наслаждение, утонченная натура, «маргаритка».
– Потом так потом. Не жалеете?
– О чем? Ложкин! Ло-ожкин! Пст' сюда! Ты не жалеешь? Вот тут капитан говорит: раньше, не при тебе, варьете было покруче нынешнего.
«Как скажете»… «Хозяин»-Ложкин на побегушках.
– Ладно-ладно, иди! – откомандовал Бакс. – Так что, Виктор Тарасыч, кофе подавать? А потом, если желание появится, варьете посмотрим. У нас новая «звездочка» – не хуже прежней. Ложкин! Ло- ожкин! Наш зайчик уже появился?.. – и состроил озабоченность, пока запыхавшийся Ложкин что-то такое прощептывал в ухо.
Балаган! Нет, не надо подавать кофе. Пойдет, пожалуй, капитан Гуртовой. Дела, дела…
– Да какие дела! Только-только разговорились! Когда еще свидимся!
– Скоро.
– А что так? – ис-с-скренний интерес и готовность немедленно помочь.
– Вас пригласят. На опознание. Трупа.
Он, капитан Гуртовой, демонстративно тянет паузы между словами, следя: тепло-тепло-горячо.
Бакс – тот просто неприятно удивлен.
А Юрия – тот, не сказать, испуган, однако… готов, что ли, был? К чему?
– Зарубин Валерий Сергеевич. В городском морге. А твой «мерседес», Баскаков, на площадке ГАИ.
– Алло! Москва! Глеб Леонидович! Баскаков…
Сколько лет, сколько зим! Нет, пока не в Москве. Я у себя. Но двадцать первого буду. Непременно. Телефонограмму принял. Да, буду. Если ничего непредвиденного не произойдет. Мало ли… Всякое. Палки в колеса… Вот-вот. Моя милиция меня бережет. Это у вас в столице. А у нас, грешных, все как было, так и по-старому… Да зачем я вас буду утруждать! У меня есть люди, которые умеют обижать… Да зачем вам: в общих чертах! Ну, Гуртовой. Капитан, Зам по оперативке. Он, понимаете…
Капитан Гуртовой – зам. У каждого зама есть начальник. У каждого начальника есть вышестоящее руководство. Аж в Москве, аж… жуть представить!
Так что ничего не остается Гуртовому, как получить нагоняй на ковре у местного начальства по сигналу, полученному из Москвы.
И ведь даже дверью в сердцах не хлопнуть! Только и отдушина – коллеги, прячущие глаза, малой Степа, по молодости-неопытности пробующий не спрятать, а выразить сочувствие:
– Товарищ капитан, а? Виктор Тарасыч?
– Что?! Да я на земле работаю! Все сроки переходил! Кафтан прожженный! А этот хрен московский!..
Телефон звякнул.
– Да! – рявкнул Гуртовой. – Нет!
14
А в квартирке с зашторенными окнами тоже надрывается телефон. Но никто трубку не снимает. В той самой квартирке, где окна в окна показывала «кино» обитателям Теремка нимфоманка с фригидным взглядом, Зайчик, Зоя Лапиньш.
Есть ли кто в квартирке?
Вроде лежит кто-то на тахте, голова под подушкой, поза – эмбрион, высунувшийся было на белый свет и туг же обратно спрятавшийся. Шли бы вы все!
А в квартире у Боди – колотун. Уже вечер, уже свежо. А окно нараспах, занавеска привидением мечется. И вообще разгром еще тот. И телефон валяется кое-как – трубка, пружинящая на шнуре, коротко попискивающая мышью.
– Не отвечает. Зайчик не отвечает. А у Боди занято… – докладывается Юрия.
– Что с этой… Ким? – пристрастно требует Бакс.
– Баксик, все нормально. Ба-аксик! Ну что я, себя буду подставлять?! Или тебя? Ты же сам сказал…
– Что я сказал?! Я сказал: позаботьтесь о ней!
– Ну?
– Что – ну?! Что – ну?! Где она?! Юрия, ты меня знаешь, я тебя спрашиваю очень редко. Мне и Зайчик звонила… Где она, кстати? Эта-то тварь куда подевалась?! Если она свою пасть минетную раскроет, то… гляди, Юрия… Я-то… – и умыл руки. С гуся вода.
– Баксик, ты же сам сказал…
– Позаботьтесь о ней! – надавил Бакс. Он только это имел в виду, когда сказал: «Позаботьтесь о ней».
– Ну? Зайчик ее прихватила. Потом Бодя ее принял… Может, и увлекся, не исключено…
– Ув-лек-ся. Это как?
– Ба-аксик! Без проблем, клянусь. Бодя ее вывез и Члену сдал с рук на руки в полном порядке. А Член сказал, что высадил ее почти у общежития. Ее ведь потом видели, Баксик. У меня разведка. Видели ее.
– Ее?
– А кого?! Ты же знаешь, если я что-то планирую…
– Член, говоришь?..
Пауза повисла. Да-а, теперь и не потрясешь… хм. Членом… чтобы допытаться: верно ли, довез? верно ли, высадил? невредимую ли?
– Бодя, говоришь? Где Бодя?! Что за бардак вообще?! Никого не найти! Член! Зайчик! Бодя! Черножопые снова зашевелились! Где бойцы?! Загривки наедают в кабаке?! К хренам у-во-лю! Понял меня, Юрия?! Звони! Звони, пока не дозвонишься!
– Какой ты гру-убый и… Занято там.
Уставился Бакс на Юрию тем самым прозрачнопронизывающим взглядом: может, мне самому еще и на станцию сбегать, чтобы номер проверили, неполадки на линии устранили?!
Понял. Все понял Юрия:
– Я «жигуль» возьму?
– Пшел! И учти… – напоследок еще раз умыл руки, еще раз подчеркнув свою полную непричастность, если что.
А что?
К мышиному попискиванию трубки в квартире Боди добавился зуммер – в дверь.
Никто и никак не шелохнется. Только занавеска.
Юрия утомился нажимать на кнопку и прислушиваться. Закопошился в карманах – ключ-то у него есть! Все-таки они с Бодей не чужие друг другу.
Открыл. Встал на пороге. Накатило. Холодно, жутковато, странновато, чужо.
Кавардак неимоверный. Темно к тому же. Того и гляди споткнешься-навернешься.
Да, споткнулся. Повалился с грохотом на… на что- то. На что? Зашлепал ладонью по полу, нашарил шнур опрокинутого торшера, щелкнул. И…
… лицом к лицу, глаза в глаза с Бодей. В обнимочку. Напоследок. Глаза у Боди – уже пленочные, уже мертвые. И давно.
Сложная гамма чувств. Не заорал Юрия благим матом, только айкнул и заныл-заныл, всхлипнул. Бодя! Бо-о-дя! Ы-ы-ы…
– Примите вызов. Труп в квартире. Бордюрная, восемь. Квартира четырнадцать. Пятый этаж. Я. Чилингаров Юрий Аврумович. Да, ничего не трогаю. Я знаю. Жду.
Все. Вынесли Бодю на носилках, укрытого простыней. Непростое это дело – с пятого этажа, в узких лестничных пролетах. Бодя и есть туловище.
Обмерили место происшествия, как и положено.
Вспышка, вспышка, как и положено.
Порошок, отпечатки, дактилоскопия, как и положено…
Словом, бригада занимается всем тем, чем ей положено заниматься. Не слишком ли часто ей приходится заниматься с некоторых пор?
Как же такого бугая вырубили?! Не иначе, группа постаралась. Множественность ударов – и каких! Чем?
Экспертиза покажет. Но можно предположить…
Глядите, товарищ капитан, здесь и здесь. Разрывов тканей нет, но – глядите…
Любой из таких ударов способен навсегда успокоить. В принципе, да.
Но! Это Гуреев. Б. И. Боксер. Что-что, а держать удар он может… э-э… мог.
Да? А на спине – видел? Позвонки!
Коллеги. Обмен первыми еще не выводами, но впечатлениями: разве что «тигриной лапой»… однако какую силу надо иметь! И квалификацию!
Сотрудники-оперативники тоже не хухры-мухры, кое-что умеют, кое-что повидали.
Но тут постарался настоящий профи.
Гуреев Борис Ильич, он же Бодя – сам профи, ан…
Все. Вынесли Бодю. Ногами вперед.
Похороны подобного рода – неизбежное место встречи людей, ничего общего между собой не имеющих и не могущих иметь. Казалось бы!
Солидный, известный всем и каждому учредитель товарищества с ограниченной ответственностью Баскаков – и стая мордоворотов с ограниченной ответственностью за свои поступки, та стая, что в порыве гнева громила «черных».
Невнятная женщина, глаза на мокром месте. Родственница? Сестра? Подруга?
Скорбный, убитый горем Юрия: я вас любил любовью брата и, может быть, еще сильней.
Стасик Ли, не поднимающий головы, прячущий взгляд.
Ряха-блин из Теремка – в цивильном, без петлиц. Как же, как же! Бодя – давний клиент!
Гуртовой со товарищи: как бы чего… похороны подобного рода всегда чреваты…
Зеваки, зеваки. Пришельцы на давние могилки – навестить. Старушки-тетки. Инвалиды.
А тут… Смотрят пусто сквозь оградки-решетки: никак важный кто? домового ли хоронят, ведьму ль…
И обычный разнобой, сумятица реплик:
– Жить бы ему и жить…
– А баба кто? Сестра?
– Хрен знает! Водки хватит?
– Хрен знает! Когда ее хватало! Гля, и менты здесь.
– А что они, не люди? Им положено, Бодю-то…
– Кто ж его? Чем?
– Хрен знает! рессорой от «тоеты». Неизвестно. Ментам бы только груши околачивать.
– Гля, а там кто?
– Где? Нет никого.
– Вон там. Только что. Не видел, что ли? Вон у ангела с крестом, вон!
– Пить меньше надо. Да-а… Бодя. Помню, он мне в девяностом на Кубке так врезал…
– Вот теперь и ему кто-то врезал…
– Но ка-а-ак!
Сверкнул Юрия зрачками. Он безмолвен, но ушам оглохнуть не прикажешь, мозгам варить не откажешь, эмоциям бурлить не запретишь. Сверкнул, просверливая Стасика Ли: помнишь, Стасик, Пашу Климова? А Бодю, говорят, тоже отключили специфическими приемчиками. А ведь не любил ты его, Стасик, не любил! Школа ягуара, Стасик, да?
– Не по-христиански его… На третий день ведь. А его…
– Скорей бы уж все! Секут.
– Кто сечет? Чего ты трясешься?!
– Я знаю?! Секут!
Да. И не только мордоворот из толпы трясется: секут!
Тот же Юрия временами неуютно шеей ерзает.
Тот же Бакс – он здесь не главный (конечно, его место там, где он есть, но не здесь, тьфу-тьфу-тьфу!), он поодаль. Просто человек толпы. Да, мол, был у меня на службе Гуреев Б. И., да, печально, разумеется. Однако совсем ни к чему быть в центре, быть центром внимания. А ощущение, что – в центре.
Только чьего внимания? Ну полное ощущение, будто наблюдают за тобой – и не искоса, а в упор, пристально. Непонятно – кто?!
– Вон там. Только что. Опять. Не видел, что ли?! Вон у той плиты.
– Проспись! О! Черножопые что здесь забыли?! И Наджаф! Сам! Они что – издеваются?!
– Ладно, отложим разборки. Этих-то достанем еще. Где поминки-то? Водки хватит?
– Скорей бы уже. Флюс, кажется, дует.
– Не по-христиански, не по-христиански…
– Кончилось бы уже!
Кончилось. Разбрелись. Кучками, группками, поодиночке. Кто в автобус, кто по машинам, кто на своих двоих.
Гуртовой с коллегами – в свою, служебную.
Баскаков с Юрией и неким мордоворотом (мановеньем пальца: дело есть… незаменимых у нас нет) – в свою, в «мерс».
Наджаф с джигитами – по своим черным-пижонским. Непроницаемое, дежурно-скорбящее и потому оскорбляющее одним только присутствием.
– Пышно, пышно… – оценил кто-то из коллег Гуртового.
– А шофер… ну, Член… Такого не удостоился! – взросло отметил малой Степа. – Товарищ капитан, а вы с ним говорили? Вы ему сказали?
Не про Члена, само собой, речь. Про Бакса.
– Каждому сволочу свое время, Евсеев, каждому сволочу…
15
Поминки всегда и везде одинаковы. От прочувствованных торжественных первых тостов – до громкого ржания и отнюдь не поминальных песен впоследствии. Ты-ы-ы не ве-е-ейся, че-о-орный во-о- орон!..
Кто во что впадает по мере опьянения.
Юрия впал в злобную хандру. Бросался на тахту, колотил-молотил по ней кулачками, пинал всяческую мягкую мебель в своем гнездышке, где однажды гостил Бодя («Сегодня мы у меня!»). Утонченные натуры весьма тяжело переживают потери… Комок в горле. Пить меньше надо.
Проблевался в сортире – со всхлипами, стонами. Умыться надо, рожицу в порядок привести – в ванной на полочках столько всяческих парфюмерий… любая интердевочка позавидует.
А еще утонченные натуры весьма жестоки. Мстительны и жестоки…
Баллончик. Это уже не парфюм, хотя и схож с дезодорантом. «Нервно-паралитик» или «слизняк»? Сгодится. Нет. Маловато будет.
Еще – пистолет. Законы Юрия знает досконально, на то он и Юрия. Статья 218. Незаконное ношение, хранение. Но на то и знание законов, чтобы их обходить по невидимой касательной.
Стук в тренерскую – вкрадчивый, стеснительный.
Стоило Стасику Ли отозваться и приоткрыть, как – шипящая взрывная струя в лицо. Все-таки «слизняк», а не «нервно-паралитик». Иначе обездвижился бы Стасик Ли – падший ягуар. Но Стасик не обездвижился – завертелся волчком, обхватив ладонями лицо. Глаза! Глаза! Получил коленом в это лицо, а потом и сверху, по хребту. Завизжал.
– Цыц! – и для большей убедительности ткнул Юрия стволом пистолета в горло сэмпаю, вдавил, впившись другой рукой в пах. – Оторву! Ты?! Ну?! Ты?! Бодю?!
– Н-н-н! Н-н-н!
– Ты-ы-ы! Один ты у нас такой крутой! Ты его да-авно ненавидел! Ты-ы-ы!
Оно конечно, было за что не любить добряка Бодю, покойника боксера:
– Давай, китаеза, давай! Попробуй! Я тебе не Паша Климов! Я тя щас приложу, своих не узнаешь! – дразнил Бодя. – Ты у меня развалишься, я тя достану!
И бледно-желтая ненависть сэмпая Ли. И:
– Ты че?! Озверел?! Больно же! Во гадюка! Та-ак больно щ-щиплется!
И:
– Че уставился, китаеза! Каратэ, каратэ! Как вдарю – и никакое каратэ! Я б вас всех… и-иех!.. и- иех! – качая с натягом тренажерную пружину.
За такое можно и пяткой в лоб схлопотать. И не только.
Было? Было!
– Я т-тебя отмазал – с Пашей Климовым?! Ты что же, решил: всегда так будет?! На твой век девок не хватит – подставлять! Дев… – и осекся Юрия. Будто взяли на прицел и рявкнули: «Руки! Брось оружие!». Осекся. Не бросил оружие, не поднял рук, но застыл – очень осязаемый прицел в спину.
И Стасик Ли как-то дрогнул искаженным лицом. Слезы бурным потоком, зажмурен, но как-то дрогнул.
И Юрия, чуя себя на прицеле (в мозгу закрутилось завычислялось), застыл. И вдруг, выпустив Стасика, оттолкнувшись от него, прыгнул в сторону с кувырком. Пальнул, как в копеечку, туда, за спину, в черный зев распахнутой двери, в коридорное нутро, в пустоту.
Грянуло, срикошетило. Гулкое многоступенчатое эхо. Никого.
Никого?
Юрия вжался в стену и, отирая штукатурку, прокрался к выходу – палец на спусковом крючке.
А вслед ему несся и несся визг ослепленного, катающегося по полу Стасика Ли:
– Н-н-н! Н-не здесь! Не здесь! Не зде-е-есь!
И было совсем непонятно, кого он умоляет-заклинает, к кому взывает. Вроде бы к Юрии – у того и оружие, и вообще…
Но не сразу, не через минуту, а после долгих рысканий по коридорам спорткомплекса – вымершего, безлюдного – среди тренажеров, в полумраке походящих на пыточные агрегаты, он, Юрия, осознал, что из преследующего он на глазах превращается в преследуемого. На глазах. На чьих?! Все равно что гоняться за призраком, который сам кого угодно загоняет до смерти. До смерти?!
А Стасик Ли к тому же нагоняет жути слепым визгом:
– Н-не зде-е-есь!!! – встав на ноги, незряче носясь по тем же коридорам, пытаясь избавиться от боли, натыкаясь, падая, инстинктивно разрубая воздух, обрушивая спортивные снаряды. Лязг. Гр-р-ром.
– Я буду стрелять! Буду стрелять! – впал в панику Юрия, утонченная натура. И действительно стрелял. Так же инстинктивно, как Стасик Ли рубил воздух. Не в Стасика стрелял, а в… призрак.
Где он, призрак?!
За поворотом?!
За этой дверью?!
В том углу?!
И уже с нутряным ужасом в голосе Юрия сипло шептал в трубку телефона, вернувшись в тренерскую, поводя настороженным оружием:
– Бакс! Баксик!
«Это автоответчик. Ваше сообщение записывается. После короткого сигнала у вас в распоряжении тридцать секунд. Спасибо». В отсутствие хозяина – автоответчик…
– Бакс! Ты дома! Я же знаю, ты дома! Бакс, ответь! Бакс, она здесь! Она!.. Бакс! Гони команду в спортзал! Бакс, лучше ответь! Ты ведь дома! Я сдам тебя! Лучше ответь! Это ведь не я, это – ты! Это он, он!
– Не зде-е-есь! – отдаленно, истерично.
– Ты же дома, Бакс! Ты…
Все. Короткий сигнал. Тридцать секунд. Время истекло.
А Юрия и в самом деле тонко чувствующая натура – почувствовал: и в самом деле Бакс дома. Прослушал, трубку так и не снял. Закурил. Век не курил, а вот… закурил. Дождался автоматического отключения. И – в свою очередь набрал номер.
Юрия обреченно прервал короткие гудки, ударив трубкой по рычажкам. Зажал ее, трубку, между плечом и ухом. Реагируя стволом пистолета на каждый шорох, скрип, звук, паникуя, ткнул в кнопочный пультик всего дважды:
– Милиция?! Милиция!!!
Он, Юрия, среагировал на шорох, скрип, звук – резко дернул рукой с пистолетом куда-то влево. Но… пришла беда, откуда не ждали, как раз справа.
Всего миг, мельк, сверк. Ш-ш-шп! Свист. Бич? Кнут?
Глаз уловить не в состоянии.
«На замедленном повторе ясно видно…» – говорят комментаторы. Будь замедленный повтор, тоже было бы ясно видно: не бич, не кнут – красная шелковая лента со своеобразным грузилом-медалью (золото? серебро?), и не со свистом, а с реактивным ревом (звук при земедлении ревет). Куда там бичу, кнуту, праще, нунчаку!
Но нет замедленного повтора для Юрии – только и понял, что лишился пистолета: выпорхнул, взлетел под потолок, брякнул об пол, закрутился на месте.
И еще один миг, мельк, сверк. Ш-ш-шп! Еще одна лента – праща? удавка?
И лицо Юрии превратилось в маску – белую маску Пьеро с нарисованными и потому мертвыми глазами, губами… румянцем. Весь макияж ни к черту! То ли дело…
… совсем недавно, когда он докладывался Баксу – не паникуя, не сипя, а до того, до того. Старательно накладывая штришок за штришком, выщипывая лишние волосики, припудривая прыщичек:
– Баксик? Полный порядок, без проблем. Ты сказал: позаботьтесь о ней? Ну! Конечно! И я тоже. Я тем более ни при чем. Да ничего не произошло. Девочка взрослая, почти совершеннолетняя. Ну перепила чуточку, зачесалось в промежности. Я думаю, утречком проспится – жаловаться не побежит. Они же все скрытные, девственность прежде всего. Восток дело тонкое… Да, думаю, такой аргумент на наших теплокровных друзей должен повлиять… А-ах ты, п-п… Нет, просто тушь смазал. Баксик, анекдот хочешь? Древний, но смешной. Если знаешь, сразу скажи. Приходит девочка в кабачок, вся по фирме. И бармену: три бутылки коньяка, пожалуйста! И тут же вылакала. И – в отключку. А он…
Все те же крепыши – но в отличие от кладбищенской траурной униформы на проводах почившего Боди они снова в жестких куртках, кроссовках, слаксах. Они снова с железными прутьями, кастетами, цепями. Как при разборке в «Востоком».
Но нынче – иная разборка. С кем? Хрен знает! Толком и не ясно. Сказано: в спорткомплекс! Там разберемся.
Быстрей, быстрей! Сказано: мигом!
Э! Э-э! По тормозам! Чудом не сбили!
– Ты что, ослеп?!
А ведь ослеп. Стасик?! Это же Стасик Ли! Сэмпай!
– Что ж ты на дорогу прямо под колеса лезешь! Чего тебя колотит, мужик?! Ну-ка, пошли глянем, что у тебя… Да отцепись от машины, дверцу оторвешь!
– Ладно, парни, оставьте его. Не в себе сэмпай. Пусть сидит. Останешься с ним, последишь. За ним и… вообще. Если что – сигналь. Ну, вперед! Готовы?
Они готовы. Они всегда готовы, особенно когда в стае, когда всей командой. Не таясь, громко, топоча. Психатака.
Кто тут такой грозный?!
По коридору, тыркаясь каблуком в двери – заперто, заперто. Тренерская – заперто. Зал… Ну? И кто тут?!
– О! Япоша! Помните, раньше была?
– Не-ет. Та за Пашу Климова срок мотает. Это – которая дрыгоножка. Кыс-кыс-кыс.
Хотя… вроде бы все-таки не дрыгоножка. Ну-ка, ну-ка. Взяли в круг.
– Чего молчишь, япоша?
А дальше… Дальше трудно сказать… Прав был Гуртовой, когда в кабинетике «Востока» прокомментировал экранного ниндзю: «Сестренка этой Ким, пожалуй, квалификацией повыше…». Бакс, пожалуй, тоже был прав, прокомментировав Гуртового: «В жизни очень часто бывает, как в кино…» – в первой части сего постулата он был прав…
Бой был неописуем. Даже классики ограничивались кратким «смешались в кучу кони, люди». А в деталях – каждый может дать волю воображению. И чем богаче воображение, тем ближе к истине.
Команда крепко сбитых мордоворотов- амазонка, раскручивающая в каждой руке по «праще».
Спортзал, напичканный тренажерами, шведская стенка, канат, простор. Есть где разгуляться. Гуляй, братва!
И – уже нет команды крепко сбитых (с ног) мордоворотов. «Изведал враг в тот день немало». Сливай воду, братва.
А кто еще может стоять на ногах – уносите ноги.
Сигнал! Сигналит вовсю орел, оставленный следить за сэмпаем Стасиком Ли и за… вообще. Менты! Менты сюда едут! Сирена. Пока далеко, но все ближе, все громче.
Хватит! Все, что мог, он уже совершил. Пора газануть. Никто его, орла, не упрекнет в том, что он не ждал до последнего. Хватит!
Вперед!
Куда?
Отсюда!
16
– Алло. Будьте любезны, Гуртового. Виктора Тарасыча.
– Простите, кто его спрашивает?
– Баскаков.
– Виктора Тарасыча нет. Он выехал на происшествие.
– Мал-ладой чел-ловек! А если его спрашивает не Баскаков? Тогда что?
– Тогда его все равно нет. Он на происшествии.
Да, на происшествии. Весь комплекс оперативнорозыскных мер. Очень обширный комплекс – если подробно рассказывать, уйдет на это прорва времени, лишний раз подтвердится не только и не столько романтическая легенда «наша служба и опасна и трудна», сколько более соответствующая истине оценка: рутина, писанина, допросы бестолковых-косноязычных свидетелей, акты экспертизы…
Вполне достаточно мельком картинки. А звук… включать ли? Ну его!
Обмер, «обнюхивание» спортзала.
Исследование пулевых дыр в стенах, в потолке.
Вскрытие. Диагностирование. Резиновая зелень перчаток. Халаты в буро-кровавых пятнах. Железяки. Хруст.
Увеличенные папиллярные узоры – «пальчики» на экране в лаборатории.
Снятие показаний. То ли пострадавшие, то ли свидетели, то ли подследственные – орлы-мордовороты с подпорченной репутацией и ныне подпорченной внешностью.
Ясно. Крути дальше, звук можно не включать. Полезней телефонные разговоры-переговоры послушать на фоне всех этих разнообразных живых картинок:
– Баллистическая экспертиза показала: пистолет марки «Айвер Джонсон», калибр 22. США. По нашим данным нигде не проходил. Выпущено пять пуль.
– Пистолет нашли?
– Никак нет.
– Товарищ капитан! Вам раз десять звонил Баскаков. Что мне ему отвечать?
– А, Степа. Ничего. Не отвечай ничего. Говори: понятия не имеешь. Нет меня, понятно? Для Баскакова – нет.
– А если он сам явится?
– Вот тогда и поговорим. Смотря с чем явится.
– Что я могу сказать с полной определенностью? «Пальцы» совпадают. Ее это «пальцы». И в гараже – тоже.
– Глеб Леонидович? Баскаков… Нет, вероятно, в Москву не приеду… Непредвиденные сложности. Да, серьезные. У меня тут один за другим люди гибнут… В прямом смысле, в прямом… Да они хоть бы пальцем шевельнули! Я до того же Гуртового сутками не могу дозвониться! Да-да, того самого, я говорил… А вот не подействовало, как видите. Попробуйте… Буду только признателен.
– Странгуляционная полоса четко выражена. Нет, не задушен. Скорее – сначала придушен. Смерть наступила в результате повреждения внутренних органов… И лицо. Скорее – карате. По технике прямого вращения, включение кисти. Почти без замаха… Вам видней, я патологоанатом, мне все ваши «гери, учи, маэ» – постольку поскольку…
– Тарасыч? Значит, таким манером. Парнишки легко отделались. Три перелома, разрыв ахилла. Могло быть хуже. Молчат. То есть то, что они говорят, тошно слушать: проводили обычную тренировку, завелись, переборщили.
– Выстрелов, разумеется, не слышали. Понятия, разумеется, не имеют. И тренировались прямо так, в куртках, в дерьмодавах, с прутьями.
– Ты ж понимаешь! Поди признайся, что одна девочка толпу мужиков измордовала.
– Какая-такая девочка?
– Тарасыч! Как же? Ориентировка! И отпечатки! Да и… почерк.
– Какой-такой почерк? Шпана передралась в спортзале. Сейчас кто только ни владеет приемами!.. К слову, Стасика Ли обнаружили?
– Нет. Пока нет… Тарасыч… Что-то я не… Ты… М-м. А труп? Чилингаров? Он же на нас повис. Да уже три трупа на нас висят! Зарубин, Гуреев, Чилингаров!
– Я и говорю: найдем Стасика Ли…
– Тарасыч… М-м… Не понял. Скажи: мы ее ищем? Или мы ее не ищем?
– Кого?
– Сестру.
– Которую?.. А! Ищем, разумеется! Конечно, ищем!
– Что-то я не… Ладно. Тебе видней.
– Именно.
17
«Мерс» кружил по городу.
И не особо скрываясь, след в след за ним кружил служебный автомобиль – милиция.
– По-моему, он боится! – азартно заключил малой Степа.
– Нас? – усмехнулся Гуртовой.
– А нас-то чего?! – искренне удивился коллега- шофер.
– А кого? – пожал плечами малой Степа. Неуверенно.
Действительно, похоже, Баскаков если и боится, то отнюдь не милиции. В «мерсе», помимо Бакса, надежная защита-телохранители, троица более-менее уцелевших мордоворотов. Надежная, однако недостаточная, судя по поведению Бакса…
… Когда он под прикрытием охраны выходил из «мерса», объезжая все «точки», которые почему-то счел нужным, даже необходимым объехать. И как только «мерс» парковался, Баскаков выползал из него улиткой, с опаской, выслав на разведку своих амбалов, бросая пугливые взгляды вокруг.
«Мерс» последовательно парковался:
у «Востока»;
у подъезда небезызвестного дома напротив Теремка;
у еще одного дома, где навстречу Баксу вышли джигиты-наджафовцы (тоже троица), препроводили внутрь, потом через солидную паузу препроводили обратно;
у характерно служебного здания («Он же – в наше управление!» – «Вижу». «Товарищ капитан, опять вас?» – «Не знаю. Знать не хочу»);
у внушительного офиса с тяжелой кованой вывеской «Товарищество «Оборот» («Сегодня же выходной! Чего это он – на работу?» – «Работай, работай и будешь с большим ты горбом. Ни сна ни отдыха измученной душе»). А нервничал Бакс все явственней и явственней. Давно, конечно, заметил следящую машину. Она и не скрывалась, не маскировалась – держала дистанцию в полста метров, и только. А нервничал Бакс именно потому, что между машинами сохранялась дистанция – он бы ее сократил до «глаза в глаза», до «надо побеседовать, Виктор Тарасыч». Но Гуртовой волен сам решать, надо ли побеседовать.
И когда мордовороты завозились с отпираниями запоров-замков-засовов «Товарищества «Оборот», Бакс оглянулся на милицейскую машину, еще раз оглянулся и… быстрым, размашистым шагом пошел к ней.
– Сдай… – скомандовал Гуртовой шоферу. Гуртовой волен сам решать, надо ли побеседовать.
Так они и передвигались: машина, пятясь задним ходом, и пытающийся ее нагнать Бакс, жестикулирующий: «Стойте же! Остановитесь! Надо побеседовать!».
Похоже на издевательство? Похоже. Долг платежом красен. Место Бакса там, где он есть? И знай свое место. А беседовать с тобой Гуртовой станет тогда, когда сам сочтет нужным. Доступно? Понятно?
Доступно. Понятно. Бакс сжал кулаки, скрипнул зубами и – пошел обратно, к собственному «Товариществу «Оборот», куда уже путь открыт – и мордовороты почетным караулом.
Обернулся на пороге, поиграл желваками. Л-ладно!
А Стасик Ли – на поводке. Отнюдь не в переносном смысле. «Браслетка»-цепочка, впившаяся в запястье, и другим концом защелкнутая за трубу. И другая рука – так же. Полураспятие.
«Товарищество «Оборот» – не только кабинеты с компьютерами, факсами, принтерами, ксероксами. Не только все для работы, но и все для отдыха. Сауна, к примеру. Вот в той самой сауне – Стасик Ли.
– Соскучился, Стас? Как самочувствие?
– У-у-у! – посунулся было мордоворот. Врезать бы!
– Ц-ц-ц! – остановил Бакс. – Что ж ты, Стас? Не ценишь хорошего отношения. У тебя в зале людей убивают, а ты убийце убежище предоставляешь. И молчишь. Нехорошо, Стас. Наказуемо. Юрий Аврумович бы тебе лучше объяснил, он специалист. Но видишь, как получилось – никому ничего Юрий Аврумович уже не объяснит. А все почему? Потому, Стасик, что ты убийцу у себя укрыл. Помнишь Пашу Климова? Помнишь. А теперь вот как все обернулось. Молчишь?.. А Член? А Бодя?
– Она… От нее все равно… никто… Я хотел… Я думал… Она ведь… – уронил голову, обессилел.
– Устал, Стасик? Отдохнешь. Все мы отдохнем… Ну-ну, не пугайся. Прими-ка стакашок. Прими, прими. Коньяк хороший, не самопальный. Подкрепись. Пей, сказал! Трезвенник хренов! Еще! Глотай!..
– Это же Стас! Ли! – взбудоражился малой Степа. – Товарищ капитан! Ли! Который… которого мы… А он вот где был, вот где!
– Спокойно, Евсеев! – и распорядился: – Малый вперед! Потихоньку. Внимательно.
… А было, было основание для особой внимательности.
Вот хотя бы то, что сначала из офиса вышел Бакс и… сел за руль «мерса» – никогда сам не снисходил до вождения, а тут уселся за руль, завел мотор, но с места не тронул.
Вот хотя бы то, что вслед за Баксом вышел один мордоворот и пошел себе по тротуару, завернул за угол.
И только потом появился искомый Стасик Ли и… пошел себе по тротуару тем же маршрутом, завернул за угол.
И только тогда «мерс» мягко двинулся – в ту же сторону.
И уже следом за «мерсом» поспешили двое остальных мордоворотов.
Странноватый расклад.
– Гони! – спохватился Гуртовой.
Поздно. Там, за углом, – скрежет тормозов, глухой удар и крик боли.
Машина с Гуртовым и коллегами поспела через секунду-другую. Дверцы захлопали, оперативники повыскакивали. Что?!
А ничего. Ничего экстраординарного. ДТП. Прохожий под колеса попал. Живой, живой! Разве мертвый завывал бы так? Нога раздроблена. С треском, всмятку.
– Он сам выскочил! Прямо перед машиной!
– Здесь и перехода нет. Шальной какой-то!
– Ай-яй-яй! «Скорую» надо бы…
Вот они, свидетели. Трое. Мордовороты. И водитель «мерса», совершившего наезд. Бакс. Доволен. Очень доволен. Умиротворен.
Статья 211. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта… повлекшее причинение потерпевшему…
– Нарушил – готов отвечать. По всей строгости, Виктор Тарасыч. За то, в чем виноват.
Хм! Приступайте к служебным обязанностям, капитан Гуртовой – даже при всем при том, что вы не гаишник, а опер.
– Ох, как я его неловко. Придется ему навсегда забыть о каратэ. Ничего! Я отзвоню, поместят в отдельную палату, лучший уход… А меня вы куда поместите, Виктор Тарасыч?
– Хм. Лучший уход, Баскаков?
– Куда уж лучше!
Лучше некуда. В смысле: уход не за кем-то, а уход от кого-то. Лучший уход.
В Теремок. Пока то, пока се. Предварительное следствие. Можно ограничиться подпиской о невыезде, но: тяжкое телесное повреждение – срок до трех лет.
Однако по ходу следствия свидетели могут менять показания, да и потерпевший тоже. И – исправительные работы на срок до одного года.
А уж когда выяснится, что потерпевший не имеет претензий (сам, мол, прыгнул под колеса, вот и свидетели то же самое утверждают!), то – штраф до ста рублей с лишением права управлять транспортными средствами…
Но выяснится это не сразу, а в строгой зависимости от оперативных способностей капитана Гуртового со товарищи – не по части ДТП, а по части обнаружения и обезвреживания преступницы, на чьей совести побег, трупы и прочая-прочая-прочая.
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ СОБЛЮДАТЬ ОСОБУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ.
Еще бы! Из колонии умудрилась сбежать! Ищи- свищи!
Но возможности человека не безграничны. Сбежать из женской колонии – да. А как насчет прибежать-прорваться в мужскую тюрьму-Теремок? В отдельную камеру, где обосновался Бакс? Слабо? Слабо-о! Да при том, что не только ты ищешь, но и тебя вся милиция ищет. Милиция, а, милиция, ты ведь ищешь беглую убийцу?
То-то и оно…
18
– От тюрьмы да от сумы!.. Я же говорил! Сгла-азил, сгла-азил! Располагайтесь! Будьте как дома! Надолго к нам? – балагурит не без подобострастия ряха-блин в петлицах. – У нас тут полный комфорт. И хлеб, и зрелище! О-о, тако-ое зрелище! Не желаете? Вечерком. Отсюда прекрасный вид. Во-он окошко!. Тут у нас был небольшой перерывчик, но теперь возобновляем… Ну, не буду вам мешать. Отдыхайте.
Я дверку прикрою, чтоб никто не обеспокоил? Чудненько! – лязгнул замком и пошел по коридору, пританцовывая, мурлыча: – Мимо тещиного дома я без шуток не хожу! Либо бр-пм помахаю, либо бр-пм покажу!
Да, никто не обеспокоит Бакса, когда прикрыта такая дверка. Это – не какая-то там квартирная дверь, которую можно после осторожного прощупывания (только верно выбрать точку!) – вышибить ювелирным гияку-цки.
Гияку-цки. Чтобы дверь не с петель, чтобы без особого грохота, чтобы только замок крякнул.
И – ты в квартире. Одна. И никого. И хозяина нет. Нигде нет. Ни в комнатах, ни в кухне, ни в ванной. Сквозь землю провалился? Вернется!
Она сядет и будет ждать. Дождется. Азиаты – терпеливый народец…
Долго. Долго-долго нет хозяина.
Телефон!
Что-то само включилось:
«Это автоответчик. Ваше сообщение записывается. После короткого сигнала у вас в распоряжении тридцать секунд. Спасибо».
– Анатолий Маркович! Ложкин я, Ложкин! Тут такое! Черные опять приходили! Что же делается, Анатолий Маркович?! У них стволы! И ножом грозили! Сказали: мы теперь опять здесь будем! Я им про вас, а они говорят: турма твой Баскаков! Какая тюрьма, Анатолий Маркович?! Вы что, в тюрьме?! Я не поверил, но они себя так ведут, что… И слух идет. Мне что делать? Делать что? Это Ложкин, Ложкин я. Вы же гаранти…
Отбой. Тридцать секунд.
А окно Зои Лапиньш, блонды-зайчика, все зашторено и зашторено. А на телефонные звонки – нет ответа. И на звонки в дверь – тоже. Никому. Никогда. Не разрешает хозяйка квартиры. Нет ее!
Есть она. Спит? Отлеживается? Игнорирует внешний мир? Никого не желает видеть-слышать?
Придется. Сначала – слышать: щелк! Замок на входной, в прихожей. Потом – видеть…
– Опять?! Опять ты?! Что надо?! Ну что тебе от меня надо?! Что вам всем от меня?!
– За-а-аец! – слащавит ряха-блин. – Наконец- то! А мы все извелись, звоним-звоним! Уговор, ты знаешь, дороже денег. Но и денежки ныне в цене!.. Во-о-от. Во-о-от. Пра-а-ально! Чем болела-то? Не СПИДом? Шучу, шучу. А чем? Охо-хо… Теперь-то как, полегчало? За-а-аец ты наш! – явно отлегло на душе у ряхи в петлицах.
Свет. Свет в окне. Шторы раздернулись.
Вскинулись сидельцы Теремка.
Встрепенулся Бакс в своей одноместной.
Щелкнул пальцами джигит-недомерок, ходивший- бродивший вокруг да около, заскочил в телефонную будку.
Музыка. Жестко! Оглушающе!
Рэп! Стрип!
Обещал Бакс зайчику-блонде карьеру примы? Вот и наблюдай за новоявленной примой сквозь решетку.
Лишил Бакс наджафовцев прежней примы? А ведь долг платежом красен.
Сидишь? Сиди. Защитил себя? А блонду кто защитит, пока ты, Бакс, отсиживаешься в надежном… убежище?!
Стрип! Рэп! Жестко. Продолжительно. Не будь надрыва, так даже красиво. Есть на что посмотреть.
Смотрите, смотрите! Зрелище, зрелище!
Пистолет марки «Айвер Джонсон», калибр 22. США. Выпущено пять пуль. Значит, есть еще шестая.
В комнате светло. В комнате – Зоя Лапиньш, содрогающаяся в танце.
В кухне темно. И окно тоже открыто. И ствол пистолета, выискивающий знакомое лицо – там, через дорогу. Знакомое, то самое, которое хранило печаль, но отстраненность на похоронах Боди.
Бакс. Где ты, Бакс?
Вот он. Лицо. То самое. Высунулся, проявился. На мушке. Гляди, как пляшет твой зайчик. Гляди!
Палец уже напрягся. Палец уже надавил-надавил на спуск.
Выстрел.
Свист и уханье в Теремке – как отсекло.
Прянул Бакс от окошка, плашмя на пол.
Ошарашилась ряха в петлицах.
Прыгнула Анна Ким из кухни в прихожую, поймала миг хлопка – хлопка входной двери. Была щель, в которую пальнули – и вот сразу захлопнули.
И дробный, ссыпающийся стук каблуков на лестнице.
А в прихожей – гарь и облачко пороховое.
А в комнате – Зоя Лапиньш. Замерла в последнем па.
Кончился стриптиз. Кончился танец. Все кончилось. Жизнь кончилась. Замерла – и куклой упала. Кровь.
А в машину у подъезда впрыгнул джигит. И второй джигит, шофер, рванул с места в карьер.
Долг платежом красен.
Ты, дорогой, лишил нас украшения «Востока»?
Мы, дорогой, лишим тебя украшения «Запада». Или как ты переназвал наш «Восток»? Как бы ни переназвал – он был и останется «Востоком».
На какую-то долю секунды раньше прозвучал выстрел в Зою Лапиньш. И выстрел был и остался один.
«Айвер Джонсон» так и не сказал своего слова. Блеснул блесной в воздухе – высоко, очень высоко. Прямое попадание – стекло вдребезги. И успокоился на полу, на ковре, среди мягкой мебели. Обрел прежнего хозяина – Юрия Аврумовича Чилингарова. Только хозяина и нету, и не будет…
Казалось бы, буквально вчера (позавчера? позапозавчера?) бесился в пьяном горе, в пьяной ненависти Юрия Чилингаров – здесь же, в своем гнездышке. Опустело гнездышко. Опечатано.
19
Гуртовой внимателен и сосредоточен: это не просто бумага, это документ, заявление.
Если по уму, если скрупулезно следовать установленному порядку, то подобные заявления надобно заявителю подавать на имя прокурора или – первая инстанция – участковому, по месту жительства, Сердюкову тому же.
Но вот… сидит перед Гуртовым заявитель… заявительница. Она в тонкостях субординации и прочих тонкостях не разбирается. Пришла сама в управление и положила на стол капитану Гуртовому исписанный листок. Почему-то выбрала именно его, Гуртового. И сидит истуканом, изящной нецке – и в глазах у нее полнейшая безучастность, сколь бы ни пронизывал ее Гуртовой взглядами исподлобья, бросая их поверх листка-документа.
– Хорошо, гражданка Ким. Рассмотрим. У меня к вам несколько вопросов. Вы готовы на них ответить?
Гражданка Ким готова на них ответить.
– Когда вы последний раз видели сестру?
Гуртовой – зам. А тот, чей он зам, стоит навытяжку перед селекторным телефоном и пришибленно оправдывается-докладывается:
– Товарищ генерал-майор! Мы принимаем все меры! Мы прилагаем все силы!
– Гроша выеденного не стоят все твои меры, подполковник, гроша выеденного! Мне и в Москву звонят, а вы все там у себя… херней занимаетесь! Что там за Гуртовой у тебя?! Он хоть чем-нибудь у тебя занимается?!
– Точно так, товарищ генерал-майор!
– Херней он у тебя занимается! Ну-ка, дай его к телефону! Непосредственно! Где он у тебя?!
Он, Гуртовой, в своем кабинете. С гражданкой Ким.
– Гуртовой! Срочно! Ко мне! – гавкает селектор.
– Я занят.
– Что-о-о? Капитан-н!!!
– Е-есть! – и малому Степе, объявившемуся на пороге – Евсеев, побудь. Вот, прочти пока.
Малой Степа остолбенел было, обнаружив гражданку Ким. Готовый соблюсти при задержании особую осторожность.
Однако сказал бы товарищ капитан столь буднично «побудь», если бы это была она, та самая?
Однако – вдруг та самая?!
Юность всегда готова на подвиг. Подвиг – остаться один на один с опасным правонарушителем. Но… не осрамиться бы, не сесть бы в лужу – вдруг… не та самая?!
Малой Степа и зарефлексировал: выражал всем видом, что – начеку, но и… просто выполняет распоряжение старшего по званию – он пока побудет, прочтет пока, стараясь при этом не выпускать из поля зрения эту… ту самую? не ту самую? И Степа Евсеев весь – то ли опасливый восторг, то ли плохо изображаемая суровость, то ли растерянность младшенького, которому на голову нежданно-негаданно свалилось…
Он будет за старшего. Он деловито, как за свой, усядется за стол капитана Гуртового. Бестолково попереставляет канцелярские принадлежности, хмуро изучит бумагу (сказано: «Прочти пока!»), взросло шевеля бровями, проницательно посматривая на заявительницу – хоть бы шевельнулась! Он побарабанит пальцами, повертит авторучку, схватится за трубку телефона. Служба, служба! И опасна и трудна! Он пощелкает тумблерами селекторной связи… За старшего оставлен, работы невпроворот-невпрогреб. И – селекторная связь после щелчка нежданно- негаданно донесет обрывок начальственного нагоняя:
– Гроша выеденного не стоит твоя работа, Гуртовой, ты меня понял?! Ни твоя работа, ни ты сам! Гроша выеденного, понял?! Повтори!
– Так точно, товарищ генерал-майор! Яйца ломаного!
– А-а-а?!!
– Повторяю, товарищ генерал-майор. Ваши слова стоят ломаного яйца. Вашего, товарищ генерал-майор! Или я не так понял?..
Обрывок. Потому как малой Степа, лихорадочно дергая тумблеры, не сразу попав, оборвал селекторное вещание, не предназначенное для чужих ушей.
А чужие уши расслышали. И реакция какая-то… При всей прежней истуканности и безучастности. Какая-то… реакция.
«Гроша выеденного!». Голос. Фигура речи. Интонация.
Мыло. Кафель. Ванна. Лицо под водой. Пар. И никаких пузыриков. Гостиница.
… И уровень воды в ванне – понижающийся, уходящий в слив – скворчание, фырканье. Вода дырочку найдет. И «восстание из мертвых» папы-динамы с похожим скворчанием, фырканьем.
Ч-черт! Затылок! Бодун! Полный был отруб! Бр-р! Пивка бы.
А близняшки? Где? Сбежали.
Оно и к лучшему. Подкидыши. Бродяжки по крови. Большая драма для тренера: он из них сотворил экстракласс, а они… позарились на медальки и сбежали. Воришки мелкие! Ищи их теперь, не ищи… Сколько ни корми – в лес смотрят! «Гроша выеденного!».
– Товарищ капитан! – подскочил малой Степа, Гуртовой влетел обратно в кабинет злющий, взвинченный, цедящий сквозь зубы;
– Генерал липовый! Волос-сатая рука! С- спортивная гордость! – и Степе, таращащему глаза: – Одна твоя лычка всех его звезд стоит! Деш- шевка! Баскаков, видите ли! Ну-ну! Хрен ему в сумку, а не Баскаков!
Капитан Гуртовой по роду службы должен уметь владеть собой и владеть ситуацией. А он так и делает. Умеет. Не без каких-то своих соображений цедит сквозь зубы, вроде бы утеряв контроль над собой и над ситуацией. А не утерял. Он все видит. Даже спиной. И гражданку Ким видит. Спиной. И малому Степе – экзаменующе:
– Прочел? И заявление, и показания?
– Да-а… Товарищ капитан! Гражданка Ким должна здесь на показаниях написать «С моих слов записано верно». И дату. – Насмотрелся детективов малой, многозначительно подсказал Гуртовому.
– Верно! – как о неважном буркнул капитан. – Напишите, пожалуйста: «С моих слов записано верно». И дату.
Взяла авторучку. Бесстрастно.
– Значит, завтра с утра я вас жду. Вам есть где ночевать? Можем устроить.
Не ответила. Сказала молча. Спасибо.
– Товарищ капитан! Она ведь, может быть, не Яна, а та… – и напоказ, кончиками пальцев сняв со стола авторучку: отпечатки! запросто проверяется! запросто ловится!
– А, спасибо! – принял Гуртовой у Степы авторучку. Небрежно, всей ладонью. Небрежно вытер, прокатав между ладонями, пихнул в нагрудный карман.
– Т-товарищ кап… А если она завтра не придет?!
– Придет.
Нет, недоступны малому Степе соображения старшего по званию, капитана Гуртового.
20
Баскаков, а почему вдруг так в тюрьму захотелось?
– Я же говорю, Виктор Тарасыч, мое место там, где я есть. Да и не так здесь неуютно.
– Конечно. На воле гораздо неуютней.
– Да. Честному человеку шагу не ступить: убийства, погромы, стрельба.
– Конечно. Честному человеку гораздо лучше в тюрьме.
– Да. Виктор Тарасыч, что вы в самом-то деле от меня-то хотите?! Ну искалечил человека, так ведь случайно. Свидетели опять же… Вы бы делом занялись: убийства, погромы, стрельба. Вас сроки не поджимают?
– Еще нет. На ваш срок хватит. Вы же хотите по двести одиннадцатой пойти?
– Я н-не знаю Кодекса, Виктор Тарасыч. Нужды как-то не возникало до сих пор. Был бы жив мой юрист… Вы убийцу задержали, кстати?
– Двести одиннадцатая. Нарушение правил безопасности движения… и так далее. До трех лет… Я понимаю, понимаю, Баскаков, показания свидетелей, потерпевший претензий не имеет… Да! Глеб Леонидович некий привет просил передать. Лично вам. Знаете такого?
– О-о! Само собой, само собой! И ему от меня, Виктор Тарасыч.
– Передам. Непременно… А скажите, Баскаков, вы здесь себя в безопасности ощущаете?
– В относительной, Виктор Тарасыч. Но в большей, чем… чем не здесь. Вы бы подсуетились с этой… Анной Ким.
– С Анной? Хм! То есть с Яной, что ли? Ким?
– Хм! Не которая… – и Баскаков показал рукой «лебединое озеро», – а которая… – и обозначил «ниндзю».
– Да? А что вы можете сказать, Баскаков, о… – и Гуртовой передразнил «лебединое озеро».
– Нич-че-го. Мы же говорили как-то на эту тему, помните? С ней что, случилось что? Не могу ли я чем-нибудь помочь?
– Помню. Значит, гражданин Баскаков, вы себя здесь в безопасности ощущаете? – повторил. – Двести одиннадцатая, да? А то – по двести второй?
– Я же говорю: Кодекс для меня – темный лес.
– Это – незаконное пользование знаками Красного Креста и Красного Полумесяца.
– Ха. Ха. Ха. – раздельно произнес Бакс. Мол, понял шутку, но и оскорбиться могу.
– Ха. Ха. Ха. – раздельно ответил Гуртовой. – А то – по сто семнадцатой, по сто девятнадцатой? Нравится?.. Баскаков, вы знаете, что на зоне делают с теми, кто попадает туда по сто семнадцатой? По сто девятнадцатой? За изнасилование несовершеннолетней?
– Что-о-о?!! – вот уж искреннее возмущение прорвалось! Впору брякнуть нечто типа: не лепи горбатого, начальник!
– Видите ли, Баскаков, к нам с заявлением обратилась гражданка Ким. Яна Ким. В заявлении сказано, что вы, Баскаков, ее…
– Я-а-а?!
– Ага. А кто?
– Я-то при чем?! Ф-фу… уф! – облегчение пришло. – Сама заявилась, сама заявила? Ф-фу… уф!
– Собственной персоной.
Значит, жива. Слава Богу! Нет, не потому, что Баскаков сильно болеет душой за любого и каждого – милосердие из ушей капает, только Креста и Полумесяца во лбу не хватает! А болеет Баскаков душой прежде всего за себя. И если сия балеринка обнаружилась – значит, жива! Значит, все те, кто уже не жив, не врали ему последовательно. А значит, он и вообще ни при чем! «Позаботьтесь о ней!». Только и всего!
– Знаете, Виктор Тарасыч. Я вам как на духу! О мертвых – или плохо, или ничего… Так вот! Если что и было, то – Гуреев. Бодя. Борис Ильич. Вы на похоронах были… Я-то молчал потому… Все же у меня на службе состоял… Но не поэтому даже… Знаете, взаимоотношения полов – сложная материя. Изнасилование, принуждение. Синдром Майка Тайсона… Знаете, наверное. Боксерам что-то вообще на девиц не везет…
Бакс говорил и говорил. С явным облегчением.
Гуртовой выждал и вклинился:
– В заявлении Яны Ким сказано, что виновник – вы, Баскаков. От восьми до пятнадцати.
– Д-Д… П-п… Да что же такое, а?! Да я ж! Я ж тебя! Я вас всех!.. Ты бы лучше ее сестричку взбесившуюся искал, а не меня закапывал! Что ты ко мне привязался, ну скажи, скажи! Ты ее ищи! Ты ее нашел?
– Нашел… – ровно вставил в баскаковскую истерику Гуртовой.
– Ты бы лучше в городе за поряд… А? ЧТО?!
– Нашел.
– Эту? – и жестом: «ниндзя».
– Да.
– И?.. – и не дожидаясь ответа (ясно, нашел – значит, повязали… не унижаться же перед ментом, выспрашивая подробности – мент назло молчать будет: мол, кто ты есть, Баскаков, чтобы перед тобой отчитываться?!), руководяще-требовательно шагнул к дверям камеры, стукнул начальственно.
Ряха-блин в петлицах тут как тут…
– Ну-ка, дружок, дай-ка я от тебя позвоню!
– Не положено! – выказал полное служебное соответствие ряха-блин. – Не положено! – В присутствии-то капитана!
– Баскаков! Вы же не дома… – укорил Гуртовой. – И не у себя в офисе. И не в кабинете «Востока». К слову, там опять хозяин сменился, насколько мне известно. Обошлось без погромов на сей раз… Сядьте, сядьте! Напоминаю. В заявлении от имени Яны Ким содержится обвинение Баскакова Анатолия Марковича в изнасиловании с применением физического насилия и с использованием беспомощного состояния. Так что не торопитесь отсюда…
– Где?! Когда?! Да пусть она не… Ставку! Очную! Сейчас! Немедленно! Я ее!..
– Ставку так ставку. Завтра.
– Сегодня!
– Ночь, Баскаков. Смотрите, ни одно окошко не светится.
Ни одно не светится. И то, где корчилась в танце, а потом в предсмертной судороге Зоя Лапиньш, зайчик-блонда, – оно тоже не светится.
– Завтра.
И – гулкая запирающаяся дверь. И – тишина.
А он не солгал, капитан Гуртовой Виктор Тарасыч. Он ведь так и сказал: заявление от имени Яны Ким…
21
Долгая дорога в Теремок. Окраина почти. И в машине – Гуртовой, малой Степа Евсеев, коллеги- оперативники. И – Ким.
Долгая дорога пешком – через разъезжающиеся ворота Теремка, по коридорам, минуя локальные сектора, отпирание-запирание, металлическое эхо.
И навстречу – на встречу – долгий путь Бакса.
– Давай-давай, иди-иди! – ряха-блин мгновенно- лакейски чует перемену ветра.
Ну-ну, ряха! Бакс тебе припомнит! Сейчас все прояснится, сейчас он, Бакс, развяжется со всей этой шушерой – и всем все припомнит!
***
Комната. Замкнутое пространство. Стол, Стулья, Необходимое и достаточное в подобных случаях количество людей.
Ким.
Каменнолицый Гуртовой.
Лихорадочный, возбужденный малой Степа Евсеев: вот какой капитан умница! Сказано, соблюдать особую осторожность? А он, капитан, можно сказать, привел за ручку без эксцессов – и прямиком в Теремок! «Поверил», что она… ну, эта… не она, а сестричка! Браво!
Сотрудники. Протокол. Конвой.
И – наконец-то Бакс. Взгляд разъяренно-обещающий: «Н-ну? Где тут у вас которая?! Сговорились?!».
И – до-о-олгая, до-о-олгая секунда.
Взгляд у сестры Ким все тот же, прежний, бесстрастный.
А у Бакса… Дрогнул. Не то! Не так! Не!..
Крик: то ли «ки-ай!», вдох-выдох.
То ли визг покрышек летящей юзом машины – в пропасть, в пропасть.
То ли предсмертный…
… крик.
И неимоверный, фантастический, невозможный прыжок…
***
Каратэ: искусство-работа-балет.
Старый папа О, цирковые чудеса.
Стробоэффект на пятачке варьете.
«Кобел» Лева в нокауте.
Бойня в спортзале.
Лицо папы-динамо под водой.
Писк в недрах свалки.
Сразу и вдруг. Вместившись в один миг.
***
И если… Как говорится: «на замедленном повторе ясно видно…». Если рапидно, то – да:
медленно и обреченно, невозвратно валящийся на пол, в небытие – Бакс;
рефлекторные попытки конвоя и оперативников выхватить оружие, исключенное при контактах с подследственными и осужденными;
недвижимый Гуртовой;
потерявшийся малой Степа;
и – поворот головы Ким еще там, еще в воздухе, в прыжке. Лицо. У нее – лицо…
Время ненавидеть… истекло.
Время любить?..
Инь-ян.
Сестра! Сестра!
Конец.
И НИ В ЧЕМ СЕБЕ НЕ ОТКАЗЫВАЙ
«Всегда объясняй, почему женщина поступила так, как она поступила, и тогда тебе не придется объяснять, почему она поступила не так, как ты предполагал».
Рекс Стаут.«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
Подрядился добрый молодец победить дракона за полцарства и невесту царских кровей. Рыскал по лесу, рыскал. Глядь: лежит дракон, дрыхнет. А рядом челюсть вставная, огромная. Добрый молодец ее тихонько подобрал, а с драконом решил не связываться. Ну его! Старенький, дряхленький, но одной только массой задавит… Приволок челюсть в доказательство победы. Царь – человек слова, накладную на полцарства тут же подписал, дочь под венец отправил. Положили молодых и оставили одних. Тут-то среди ночи стук кошмарный в двери спаленки. Добрый молодец на самом интересном месте прервался и спрашивает: «Кто там?». А из-за двери громовым, но ехидным голосом ответ:
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
… Нет! Не помогает древняя домашняя шутка. Боюсь! Стою как последняя дура перед дверью собственной квартиры и боюсь. Просто жуть с ружьем!.. Нет там никого, нет! И быть не может.
Лампочку, сволочи, опять разбомбили в подъезде, хиппи-дриппи проклятущие! Ведь были же спички, ведь были же! Нашаришь их в этом бардаке. Не сумочка, а мешок деда-Мороза! Так, баралгин. Так, сахар. Опять сахар. Тушь. Образцы. Кошелек. Расческа. Пудреница. Номерок. Зажигалка… боже мой, где мужика найти, чтобы хоть зажигалку зарядил! Карандаш-косметика, сигареты, жвачка, ручка… Где же спички?!
Где, где – вот где!
Чирк! Ну? В порядке все, нормально все! Не трогал никто замок, не повреждал. Вставляй ключ и «отк'ивай, отк'ивай!». Стою среди ночи, кретинка, девочка со спичками! Девочке сегодня тридцать стукнуло. Страшная цифра! Ой, как теперь все будет?.. Тихо, тихо! Не психуй, Красилина. Все будет как раньше, только немножко хуже.
Но если ты, истеричка старая, будешь торчать в собственном подъезде всю ночь, то тебе будет простуда, хлюпающий нос, красные глаза и озноб. Сплошное очарование для зрелой итэдэшницы, которая уже одним своим видом должна пленять, чтобы мотыльками слетались и расхватывали, расхватывали твои «дурилки». Правда, и так отбоя нет. Но сопли все равно ни к чему!
Озноб уже есть. Начинается? Нет, это не от этого. Я-то знаю, от чего. Ой, боюсь, боюсь. Да, боюсь! Да, страх у меня перед закрытой дверью: вдруг там кто- нибудь! Сколько бы Красилин ни хихикал, ни издевался, – наверно, в подсознании засело, с детства или еще раньше. А я знаю?! И не надо с этим шутить! Я сколько раз вдалбливала Красилину: не надо с этим шутить! А он, паразит: нацепил клыки вампирные (да, те самые, что теперь на каждом углу кооперативщики за трешку продают, но тогда про них ни сном, ни духом, он их из Финляндии привез) – нацепил и звонит. Кто там? Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш уж-на- а-аешь!.. Ведь открыла. Обхохочешься! Я ему тот свой хохот в жизни не прощу! И то, что по щекам мне надавал, не прощу! В чувство он хотел меня привести, видите ли! Какое уж там чувство! К Красилину! Летел бы он на своей фанере!.. Он и полетел! Насовсем. А я ведь предупреждала: не надо с этим шутить!
И что теперь? Так и будешь стоять?.. Так и буду! Дверь закрыта, а за ней… черт его знает, что за ней!
Да, неважно – снаружи или изнутри, да! Подсознание! Безотчетная дверебоязнь, пусть!
Месяц назад среди белого дня к Лащевским звонят (я-то слышу: дверь соседняя, звукоизоляция – и говорить нечего), дома у них одна Дашка после школы, ни мымры нет, ни ее лысого балбеса. Дашка сквозь дверь пищит: «Кто?» «Солдат!» «А чего хочете?» «Воды напиться!» «Простите, но дома никого нет». И не открыла. Я как шла в ванную высморкаться (грипповала на бюллетене), так и застыла на одной ноге. Сейчас, думаю, сюда будет звонить. И звонит! Солдат. Воды ему напиться. Упарился посреди зимы! Опять звонит. Ни за что не отзовусь – будь ты солдат, будь хоть генерал. И простояла, как цапля или как Плисецкая, пока он не протопал сапожищами своими с нашего первого этажа куда-то выше. Кто скажет, что глупые страхи? А кто бы ни сказал! Пусть. Да, безотчетный ужас…
И ведь права я. Права. Ведь было, ведь подтвердилось. Вот ведь год назад было! Когда пришла и встала перед дверью истинной идиоткой – рука не поднимается ключ вставить. Не могу. Не мо-гу! Такой мандраж, что почти час проторчала у собственной квартиры, а потом Лащевским звякнула. И говорю лысому балбесу, что не мог бы он мою дверь открыть, а то там кто-то есть. И мымра его кричит из кухни: «Вовик, в чем дело?!». Он ей: «Ничего, ничего!». А сам плечики расправил, подбородок выдвинул и осторожненько в скважине заворочал, будто со взрывчаткой работает. У мужиков, точно скажу, тоже есть эта опаска – перед замкнутым пространством, которое надо отомкнуть. Только они в героев играют и в глубине души сознают, что отомкнут, а там – никого. Зато лишний раз себя настоящими мужчинами ощутят. А я, да, не мужчина, я в глубине души не сознаю, я действительно трясусь. И вот Лащевский ворочал ключом, ворочал – там на два оборота, а он минут пять возился, чтобы не щелкнуло – потом пнул дверь и отпрыгнул, принял боевую позу. Я не знаю, что там у них – боксы, дзю-до, каратэ. В общем, энергичная поза. А там, в нашей метровой прихожей – муж! Ну, Красилин. Тоже в энергичной позе – к бою готов. Он, видите ли, на день раньше из командировки вернулся и слышит: лезут! Он и подкрался. Оба дураки! И я дура, да, конечно. Но ведь было, ведь подтвердилось! Ведь знала, что Красилин только через день должен быть, а почувствовала: кто-то уже есть. Лучше семь раз ошибиться, чем один раз нарваться, да!
Ой, коло-отит, ой, трясусь!
Психопатка! Кто там может быть?! А вдруг спрятались? Негде там прятаться! Метр – прихожая. Справа – единственная комната, твоя комната, кретинка великовозрастная (ни одна зараза не поздравила!), двенадцать метров: тахта, «стенка», кресло, торшер, телефон. Негде прятаться! По отростку-коридору единственная дверь в совмещенные удобства, а прямо – дверь на кухню. И все!.. Да! Зеркало! Не забыть про зеркало ни в коем случае.
На кухонной двери «лицом» в коридор – зер-ка-ло! Вечно из головы вылетает. Повесила, чтобы если кто влезет, то первым делом наткнется на свое отражение. Никто сразу не соображает, что это он сам. Потому что неожиданно: р-раз, и в проеме кто-то стоит! И… убежит. Эффект потрясающий. Меня каждый раз трясет: от зеркала, стоит мне войти. Забываю потому что. Не забывай, Красилина! Не забудь! Зер-ка-ло! Сейчас откроешь, войдешь – и в зеркале ты. Больше некому. Ты и только ты!
Да-а-а: откроешь, войдешь! А вдруг ОНИ в санузле прячутся?! Или как раз в закрытой кухне?! Запросто! Влезли через окно, первый этаж, и затаились. Подумаешь, замок в порядке! А окно зачем?
Тихо, тихо! Нервы в кулак! Бандюга, затаившийся на унитазе, – смешно. Вползание на кухню через окно по свежему январскому снежку – глупо. Следов будет!.. Да и кому ты нужна, Красилина?!
Ни-ко-му! Ох, никому я не нужна! Тридцать лет – и ни одна зараза… Красилин не считается – это ОН мне не нужен, а не Я ему не нужна, да! Пусть шляется по своим заграницам со своими дровами, со своими совместными предприятиями, мальчишка! Год прожила без него и еще год проживу, и десять, и двадцать и «червяков его переклюваю». А я – свободна, счастлива. Мы молоды! Счастливы! Талантливы! В конце концов и внешностью Бог не обидел: надменная натуральная блондинка с прямым носом и прямыми ногами – самое то в нашем возрасте! Все только начинается, дурочка! Хочу – собственный юбилей провожу в кабаке, кстати, категории люкс. И возвращаюсь домой когда хочу. А в кабаке могу себе позволить двести шампанского (Халдей, морда рыхлая! «Шампанского нет. Только водка и коньяк. Но можно, если у вас с собой». Ага, в моей сумочке для полного букета еще дежурной бутылки полусухого недостает, а так все есть! Категория люкс называется!) или тогда – пятьдесят коньяку. Да, всего пятьдесят. Не напиваться пришла, а красиво посидеть. Пусть всего пятьдесят, зато икра, крабы, осетрина холодная. Рыбный день! Что там у вас еще из натуральных продуктов? Или тоже: с собой приносить?! В накладе халдей не останется. Кутить так кутить! И пусть подсаживаются, пусть приглашают!..
Вот-вот! Сели. Полетели, полетели – сели. На хвост. И пригласи-или… Откуда ОНИ там взялись? Следили? Да ну, много чести! Просто где же ИМ еще околачиваться по вечерам, как не в кабаке. Угораздило меня – в «Неву»! Да, но если ОНИ беспробудно гудят в «Неве», то серье-о-озные, гады! «Нева» – не «Сфинкс» какой-нибудь, не «Сайгон». Вот уж вляпалась, так вляпалась, да!
Дикое везенье: такси на Невском! Выскочила и удрала. А пальто и до завтра повисит, без номерка никуда не денется. Номерок! Ах да, я его уже нащупывала. Здесь он, здесь.
Ой, холодно. Пальто финское – семьсот, через Мыльникова, – всего три года проносила, жаль если пропадет, еще три года носить можно. Никуда оно не пропадет. Они там в гардеробе за один номерок три таких пальто, как мое, готовы прозакладывать. Радуйся, дура, что такси попалось. И пусть теперь ОНИ меня ищут-свищут по всему Комендантскому!
Ой, в пальто же квиток за телефон. Позавчера же платила. А там – адрес! Красилин ты и есть Красилин: «Я из Хельсинки! Перезвони по вот этому номеру, а то валюта совсем кончилась. Я потом тебе рублями отплачу!». Нужны мне его рубли! «С наступающим! Готовься к сюрпризу!». Нужны мне его сюрпризы! Знаю я его сюрпризы! Нужно мне его «с наступающим» – за месяц до наступления! И перезвонила, да! Только чтобы ему сказать: не нужны мне ни твои рубли, ни твои сюрпризы, и ты мне тем более не нужен!
И я никому не нужна. Без пальто… Нет, до квитка ОНИ не доберутся. Кто ИМ пальто отдаст без номерка?! А завтра в плащике добегу до кабака… Вот простужусь, заболею и умру! Насовсем!
Если так и буду стоять, то – не исключено… А куда деть безотчетный страх? Это раньше он был безотчетный, и тот же Красилин мог сколько угодно хихикать, но теперь страх вполне отчетный, хотя тоже глупый! Кто может быть в моей собственной квартире, если от НИХ я сбежала на такси, и обогнать меня невозможно. Тем более не зная адреса… Но телефонный квиток?! Ах да, ИМ же его не достать. И уж не обогнать, во всяком случае… Икру даже не попробовала! В крабы только вилкой успела ткнуть! Жалко-то как!..
А откуда я знаю, сколько ИХ?! Может, двое – в «Неве», и еще двое-трое-пятеро засели тут – только ключ поверни?! Никому я не нужна. Еще как нужна! ИМ. Не я, пусть, но мои деньги. Много. Честно заработанные. Да, много! Смогла и заработала! И не отдам! Мало вам других итэдэшников? Что вы ко мне прицепились?! Никого не трогаю, «дурилками» торгую… Не дам! Сколько ни просите!
И не просят… Дадут сейчас по башке и без всяких просьб оберут, раз не хотела по-хорошему.
Хорошенькое дело – по-хорошему!
Может, опять Лащевского попросить? Разбудить сейчас и попросить… Ага! Мне его мымра тут же глаза выцарапает. И так после того раза волчицей глядит и только шипит, когда на площадке сталкиваемся. На физиономии написано: мол, мужика хотела заманить! Нужен мне ее лысик! Сейчас вообще после сорока мужики только ковры выхлопывают в шесть утра, сублимируют. На большее не способны. Все идиотство в том, что Лащевский после того раза тоже себе в тыковку что-то втемяшил и фонит. Ой, фонит – я же чувствую. Этого мне не хватало! Нет, Лащевских лучше не будить. Спите спокойно, дорогие товарищи!
Но как же в квартиру попасть?! Как, как – не знаешь, как? Знаю! Боюсь…
Шаги! А-а-а! Шаги! Там, у подъезда. Сюда! Сейчас войдут! Это ОНИ! Нашли, догнали! Меж двух огней!.. Каких еще двух?! Кретинка, идиотка, психопатка! В комплексе! Перед тобой за дверью мнимые ОНИ, а за тобой (пока на улице, но пока) реальные ОНИ. Кому еще быть во втором часу ночи, если не ИМ? Выбирай, Красилина!
И выбирать нечего. Ключ, ключ! 3-зараза, что ж ты не втыкаешься!!! Ага! Круть-круть! И, зажмурив глаза…
… впала. И дверь за собой – хлоп! Спиной к ней, к родимой, – прижимая. И отдыхай, отходи. И слушай, что там в подъезде: там не ОНИ, там «тяф-тяф-тяф», там «тихо, Троян!», там гул вызванного лифта.
Пудель Трояша с шестого этажа. Дай лапу, друг!
Днем гуляют в садике дети, по ночам гуляют собаки. Солнце днем на игрушки светит, ну а ночью луна – на каки!
Вот-вот! Повторяй про себя давний красилинский стишок и успокаивайся, успокаивайся. Ус-по-ка-и-вай-ся! Нет никого. Ни снаружи, ни внутри. Протяни руку. Включи свет в прихожей. Есть свет? Есть свет. И никого? И никого.
Теперь пора разжмурить глаза. Пора, пора. Ничего страшного. Не забывать про зеркало. Там в зеркале никого, кроме меня самой. Разжмурь!
Да, это я. И… И!!! Секунду, две (сколько?) я еще вижу: по зеркалу сверху вниз сползает, стекает, медленно скользит что-то студенистое, с щупальцами, с глазами. У меня внутри опускается… все. Просто падает камнем, гирей! И сквозь горловой спазм я:
– И-иии-и!!!
Тут как выбитая распахивается дверь санузла. Громадная, кошмарная, лохматая тень выскакивает оттуда и бросается на меня. И…
… и… Все!
Красилин! Боже мой, Красилин! Какое счастье, Красилин, что ты здесь! Красилин, гнида лучезарная! Убью тебя, Красилин! Убью за то, что ты есть! Сволочь, сволочь, сволочь! Никогда ни за что не прощу!
А Красилин, как в дурной комедии, сидит передо мной на корточках со спущенными штанами и приговаривает идиотически:
– Очень милая осьминожка! Очень милая осьминожка!
По морде! На! По гадкой морде, по твоей отвратительной роже! На! На! Терпи! Не жмурься! Терпишь? То-то! Не смей до меня дотрагиваться! Я сама встану! Не надо мне помогать! Лучше себя в порядок приведи, хозяйство свое спрячь – ты в доме у посторонней для тебя женщины, Красилин! Уже больше года – посторонней!
Охнул, вспыхнул весь цветом бордо и скакнул – кенгуру! – обратно в санузел. Вот оттуда можешь теперь сколько угодно бубнить, оправдываться.
– Я же тебя предупредил, Гал! Еще месяц назад! Я же звонил, Гал! Сюрприз!
Оправдывайся, оправдывайся! Нет тебе оправдания, Красилин! Я тебя из состояния виноватости не выпущу сегодня. Иначе придется признать себя дурой, которая сама виновата. Женщина никогда не должна признавать себя неправой, иначе жизнь станет для нее вообще невыносимой.
Надо вставать, надо подниматься с пола, пока этот… сюрприз охорашивается. Пылища-то! Ох, бедро болит, теперь синяк будет. Красиво сползти в обморок – полдела. Вот на ноги встать, в кучу себя собрать – красиво не получается. Враскоряку, в стенки упираясь. Нет, Красилин, не доставлю я тебе такого удовольствия – наблюдать меня в разобранном состоянии. Зато ты сам надолго запомнишь себя без штанов, и это смехотворней, чем женский испуг перед осьминожкой-«дурилкой».
Ну, встала. А осьминожка добралась до нижнего края зеркала и затихла. Действительно очень милая осьминожка! Только мне и только с перепуганных глаз могла почудиться жуть с ружьем… Из чего же она? Полимер, понятно. Принцип нужен. Значит, шлеп – сцепление минимум, и под собственной тяжестью она опускается. Только поверхность должна быть гладкая – стекло, зеркало. Обои, штукатурка не годятся. Вот и будет по моему лотку лазать. «Дурилка» что надо! На осьминожку народ клюнет. Расхватают. Есть смысл наштамповать. Что же за полимер такой?.. Сейчас бы «дурилку» на горелку…
Так! Все потом! А пока на осьминожку – ноль внимания. Равнодушней, равнодушней. Он, Красилин, сейчас выйдет. Надо держать лицо. Ой, а что, интересно, он еще привез?.. Ты что там заодно и постираться решил?!
– Сейчас, сейчас!
Сиди ты на самом деле чем дольше, тем лучше.
Хоть прибраться, пока Красилин оправляется-заправляется. А то скажет: ушел от нее, и превратила квартиру черт-те во что… Да уж, слишком привыкла быть одна. Кстати сказать, ничего хорошего в этом нет, как я теперь соображаю. В глухом одиночестве поневоле хоть немного да распустишься. Ни природный шарм, ни натуральная блонда не спасает. То причесаться лень, то подмести, то еще что-нибудь. А уж когда есть зритель, актер просто обязан быть в форме. В хорошей форме.
И буду!
Боже мой, какой в кухне бардак! Ладно – пробирки, колбы, отливки, формы. Это все можно списать на повседневную работу. Но чашки-то, чашки кофейные! Полна раковина! Срочно мыть!
Нет! Где мозги твои, дурочка! Он же раньше тебя здесь уже был и весь развал видел. А если ты, Красилина, сейчас бросишься порядок наводить, то ежу понятно будет, ради кого. Пусть уж все как есть.
А в комнате? Там же набросано! Я же, пока вечерний туалет выбирала, весь шкаф наизнанку вывернула. Вперед в темпе вальса, пока он душем шуршит. Ну? Что тут у нас в комнате? Ой…
… ей-ей! Ну-у, Краси-и-илин! Ро-озы, паразит, белые! Умереть не встать! Разделил ведь по пятнадцать на две вазы. Не совсем еще дурачок. Вот дурачок! И шмотки мои – неужто?.. Точно! В шкаф развесил! И о сигаретах позаботился! И «Мисти»! И шоколад! Финский! И орешки! Ну-у, Красилин! Сюрприз так сюрприз! Хоть плачь – о тридцатилетии только бывший муж и вспомнил, розы притащил. Где он их только? Тоже из Хельсинки? Жалость какая – запаха не чую, насморк все-таки поймала.
Нельзя расслабляться, нельзя! Он уже воду выключил, сейчас объявится. Надо встречать во всеоружии. В кресло, в кресло! Коленки вперед. Но холодно, но неприступно. Ай, бедро болит… И сигаретку! Ну, пора! Вышел!
Во-от! И стой, и мнись. А я на тебя – как сквозь стекло автобуса. О-охо-хонюшки, полысел ведь, волосы мокрые – и сразу видно. Мальчишка с проплешинами. Ну, что скажешь? Что ты можешь мне сказать?
– Я там полотенце взял. Желтое. Ничего?
Уж взял, чего теперь спрашивать. Но тон хороший, виноватый. Так держать! А то – розы, розы! Очень милая осьминожка! Дурак какой!
– У тебя платье красивое. Очень идет.
– Я знаю.
– Новое?
– На Новый год. Три недели назад. Его благородие господин офицер преподнес.
– Что еще за офицер?!
– Полковник. Ты его не знаешь.
– Ты же на дух военных не выносишь!
– А он в штатском всегда ходит. Работа такая. И очень чистоплотный, в отличие от некоторых. Кстати, желтое полотенце – его. Лучше бы ты зеленое взял, махровое. Оно специально для гостей.
– У тебя их много, судя по чашкам в раковине.
– Не жалуюсь. И не надо здесь свои порядки устанавливать. Мы чашки нарочно не моем, собираем. Чтобы потом гадать. И мой гардероб тебя никто не уполномачивал перетряхивать. Лежит – значит, надо, чтобы лежало. Это хамство – распоряжаться вещами посторонней тебе женщины, не находишь? Или в твоих Хельсинках нравы попроще?
– Слушай, Красилина…
– Вот об этом ты забудь! Да, Красилина. Но просто однофамилица. Мы уже не раз говорили на эту тему… Все паспорт никак не сменю, недосуг. Ладно, скоро так и так менять. В связи с… хотя, тебя не касается.
Довела. Да, пережала чуть-чуть.
И пошел мой Красилин грузными, наплевательскими на меня, невидящими шагами к торшерному столику. Будто меня и нет, свинтил голову бутылке, вбухал себе полный бокал «Мисти» и выхлебал как воду, а потом оскорбленно уставился в окно.
Жалость какая! Мамочки-мамочки-мамочки! «Мисти»! Бокалом! «Тропикал-коктейль-ликер»! Вы не знаете, не представляете, что это такое! Сливочно-розовое! Ананасово-клубнично-манговое! Греющее, но не горячительное! Его кро-о-охотными даже не глоточками, а поцелуйчиками надо в себя втягивать! А он: бул-ль! Для меня ведь привез! А сам: бул-ль! Жалость какая! И ролями поменялись – теперь мой Красилин, видите ли, смертельно обижен…
Еще бы! Он – с розами, а я ему – полковника в штатском, полотенце б/у, гостей кофейных! Какой там полковник?! Был бы полковник – бегала бы я без пальто от рэкетиров проклятущих! И чашки – мои. Все до единой. Просто утром приготовишь порцию, примешь – а мыть лень, да и некогда. До воскресенья копятся. Сервиз шесть штук, по дням недели. В воскресенье все сразу и отскребаю. Вот завтра воскресенье – я бы их и…
Тут еще приключения ресторанные, дверь заклятая… И ведь опять я права! Был, был за дверью! Пусть Красилин, но был! И на крик мой вылетел пулей. Даже штаны не подтянул. Сюрприз, ничего не скажешь! Поздра-авил! Осьминога подложил. Приятное хотел сделать. Сделал! И я ему сделала!
Однако, если дальше будем сидеть-молчать, то – мой проигрыш. Надо, придется обозначить шаг навстречу моему Красилину… Да никакому не моему! Что еще за «моему»! Давно не моему! Но придется.
– Я так и буду сто лет с сигаретой сидеть? Может, догадаешься дать прикурить?
А-га! Вскочил, захлопал крыльями по карманам. Ой, зажигалочка прелесть! Отберу! Сам отдаст.
Ну?! Так и не научился давать огня. Повыше, повыше. Не собираюсь я еще и наклоняться. А сам лови мой взгляд, лови. Вот-вот!
– Галка… Ну, Галка… Ну, Гал…
Ладно, так и быть, прощаю. Сейчас еще сосредоточенно затянусь и прощу. «Бе-бе-бе!» – видишь, Красилин, язык тебе показала, гримаску скорчила. Выдохни, не напрягайся. Простила. Рассказывай, что ли, интересное…
– Галка, ты не представляешь! Они там так колдырят. У них алкоголики даже на гособеспечении. А мы сидим с их фирмачами. Те с женами. И обе рядом – по левую и по правую руку от меня. Наш представитель жантильно меня провоцирует: «Красилин, почему вы не ухаживаете за дамами?». Я тут возьми да и ляпни: «С какого-то момента это должно называться не «ухаживать», а «следить». Ерунда! Они все равно на таком уровне русским не владеют…
– … С кормежкой нормально! Чухна, а все есть! И как! Ты слушай, я там решил выпендриться перед нашей переводчицей, повел ее в кабак. Карта блюд – с нашу телефонную книгу. И вот я выбираю, а она переводит. Читаю: фондю. Спрашиваю ее: что за фондю? Фондю, говорит, и фондю. Непереводимо. Сдуру заказали. Представь, приносят нам два примуса, сверху на сковородочках куски чего-то непонятного, но сырого. Оказывается, Мы сами должны примусы раскочегарить и с пылу, с жару есть. Особый шик! Я эти примусы час целый накачивал, весь в саже, и Таська тоже, переводчица. Конструкция идиотическая. В общем, дым, вонь. А куски мы, чтоб не позориться, съели сырьем и гордо ушли!
– … Гал, ты не смотри так. Просто товарищ по работе. А я для тебя там высматривал. Для твоей ИТД. Хотя ты знаешь, как я ко всему этому отношусь… Там интересные штучки. Как тебе осьминожка? Пригодится? Вот и я так решил. Еще штучка забавная была – брелок для рассеянных. Он на свист отзывается. Засунешь куда-нибудь ключи, ищешь-ищешь. Надоест, посвистишь – он писком отзывается, вот, мол, я где. Только пока мы в Союз ехали, Таська, ну, переводчица, всю дорогу балаболила не переставая. А у нее тембр совпал, и брелок свиристел не смолкая тоже всю дорогу. Деться, главное, некуда – купе СВ. Ты не думай, просто самый удобный поезд, чтобы из Чухны выбраться, а других билетов нет. Я сам пожалел: сплошной свист без передыху. И батарейка села. Я его, брелок, тут же фарце сдал, как на перрон вышли. Слушай, фарцы в Питере развелось! Но тебе такой брелок все равно для дела – никак. Там электроника сплошная. И штамповка. А из пластмасс – только осьминожка. Ты ее пока в серию запускай, а там я еще чего привезу. Как у тебя пока? Идет товар? И «лягуха»? И «мышка-норушка»? И «дребездильник»? А «цокотуха»? А «шлепа»?.. Ну, значит, просто рынок насытился. «Крантик»-то пока нарасхват? Что и следовало ожидать. Если и упадет спрос, то у тебя секретное оружие наготове – осьминожка!..
– … Нормально. У меня нормально. Три договора уже заключили. Они за нашу древесину, по-моему, готовы душу заложить. Шеф мне четыре тысячи марок определил. У них, правда, пособие безработным – две тысячи. Но для советских специалистов четыре тысячи более чем нормально! Гал, не смотри ты так, я не выпендриваюсь, правда!
– … Гал, а Гал, я ведь только на сутки. И обратно. Очень хотелось тебя увидеть. И поздравить. Ничего, что я приперся? Я же сам не ожидал такого эффекта. Сижу, пардон, на горшке – а ты как закричала. Я просто перепугался. За тебя… Ты уж прости. Там ключ мой… то есть твой… ну, второй – я его найду потом и отдам, правда. Где-то звякнул на кафель. А у тебя что новенького? Нет, я вообще спрашиваю. Мы не будем возвращаться к старой теме, не будем. Я помню, я знаю… Только вдруг у тебя что-то изменилось… Ну, извини…
– … Галонька, я сейчас, только несколько минуточек подремлю. Я тебя не буду шокировать, если подремлю? Буквально несколько минуточек. Прямо в кресле, хорошо? Ты не думай, я – никаких поползновений… Я уже сейчас встану, сейчас только самую малость. Мне завтра с утра – на автобус. Договорился еле-еле. С нашими туристами, с группой – обратно. В восемь ноль-ноль… Глаза устали, сейчас они отдохнут, и я снова буду бодр и свеж как обычно. Как обы-ы-ы…
Знаю я, Красилин, твои несколько минуточек. Пушкой не поднимешь. Сдал, ой как сдал мальчишечка. Хоть пледом тебя укрыть. Сквозит ведь. Боже мой, давно я твоего сопения не слышала, давно…
«Никаких поползновений».
Был дурачок и остался. Хотя как сказать. Таськазначит. Переводчица, значит. В СВ на двоих катаются…
А ведь опять хочу замуж! Взбешусь, надо полагать, через полгода. Все, конечно, зависит еще и от обеспеченности. Если у меня не будет ни гроша, тогда тяжело. А если о деньгах думать не надо, тогда другой расклад… Да-а, попробуй о них не думать, если со всех сторон только палки в колеса – и в исполкоме, и в милиции, и население готово волком загрызть. Тут еще гады вымогатели…
Не отдам! Наизнанку вывернусь – не отдам! Ой, кто бы защитил! Кто хотя бы не нападал!
Взрыднуть что ли? Поздно. Раньше надо было думать. Теперь нельзя – глазки до утра в норму не придут. Жуть с ружьем, и тут по расписанию. Спать-то осталось всего два часа. Единственный выходной по случаю юбилея решила устроить, ан Красилин к восьми утра в автобус должен грузиться – и в свою Чухонию ту-ту-у! А мне из-за него теперь не свет не заря…
Все равно пришлось бы подниматься, чтобы к двенадцати в «Неву» поспеть, к открытию. За пальто. Но все-таки к двенадцати… Ой, что-то там бу-удет!
Ну нет, Красилина, даже если дела складываются паршиво, сохраняй оптимистическое спокойствие. Подавленность обходится дороговато, к бесу ее!
А Красилин – отрезанный ломоть. Розы, «Мисти», шоколады – пусть. Но защиты у него искать – фигушки! Год назад я ему сказала? И докажу! За «дурилки» – сдержанное спасибо, пусть не мнит. Хотя что бы я стала делать, какая-такая индивидуальная трудовая деятельность у меня получилась, если бы не его «дурилки». А народ наш любит «дурилки», о-ой как лю-убит. Пусть подольше любит, уж я им наштампую. И «лягуху», и «дребездильник», и «норушку», и «цокотуху», и «шлепу»… И «крантик» ныне наиболее ходовой. И осьминожку, и… черта в ступе! Боже мой, все сама, все сама!
Хоть вой!
Есть же люди в миллион раз хуже меня, но они живут как люди, а я?!
***
Емкий сон. Бывало, всю ночь проворочаешься, а утром что-то мутное брезжит и улетучивается мгновенно, эфирно – не понять толком, снилось или нет. А тут, казалось бы, на миг подушку придавила, и на тебе: цвет, вкус, запах. Родная лаборатория, будто и не прошло года. Химией смердит. Но обрадовали, зарплату повысили. Всего на десятку. Зато к ней, к десятке, – три талона впридачу на продовольственные наборы. Иду с талонами в наш Помгол, в профком то есть. А на них мне словно великую милость вручают сетку мокрой картошки, банку тушенки в солидоле и (!) банку кофе растворимого, бразильского. Почему-то вскрыто. Гляжу туда – там всего на дне слой в палец толщиной. Чего вдруг, спрашиваю? На всех не хватает, отвечают, понимать надо! Приходится на всех поровну делить. Одна на шестерых. Зато всего рубль банка. У вас в лаборатории шесть человек – и получите! Только я созрела, чтобы их облаять, а они первые ка-ак загавкают!..
И проснулась.
Гавкают. На лестнице. Значит, уже половина седьмого. Трояшу на прогулку ведут. Точность – вежливость королевских пуделей. Можно без будильника жить.
Вставай! Мамочки мои! Вставай, храпун! У тебя автобус уйдет! Да проснись ты, горе луковое!
Вот когда я его ненавижу. Когда он опаздывает. А он всегда опаздывает. И нас же еще считают истеричками. Да мужики нам сто очков вперед дадут. Красилин – и всю тысячу. Только мы сразу выплёскиваем, а они все – внутренние истерики: копят, давят, уплотняют внутрь и гордо именуют сдержанностью. Посмотрел бы Красилин на себя сейчас со стороны! Граната, которую в окоп закинули: фырчит, шипит, на месте кружит, об стенки ударяется, отскакивает, зигзагами снует. Лучше бы взорвался! Нет, не рванул… Для них же высшая доблесть – наступить на горло собственным эмоциям и назвать сдержанностью. Что же за граната такая, которая не взрывается! Пшик!
Все! Сумку! Сумку, балбес, не забудь! И на остановке не жди, до метро пешком быстрее.
– Помню я, помню! Все! Ку-ку! До встречи!
Лети, голубь, лети. Упаси бог тебя опоздать, ведь тогда вернешься, а мне совсем ни к чему. Помнит он!
И я помню! Недаром – сон. Красилин и навеял. Я-то боялась, что кошмары будут мучить: с преследованиями, шантажом, гнусными личностями, которые вчера чуть кислород мне не перекрыли… Но родная лаборатория ничем не лучше. Еще тот кошмар! Со всеми исходящими…
Приличная квартира, престижный муж, ответственная работа. Что еще нужно для полного счастья! Ничего! Счастья… И то, что оно не в деньгах, придумал какой-то мерзавец, у которого их без счета.
Приличная квартира, как же! Квартира престижного мужа, выложившего за нее семь тысяч по родственному обмену. И родственник седьмая вода на киселе, но тоже не мой, а мужа. Двенадцать квадратных метров! Жилье – 2000! Каждой двухтысячной семье – отдельную квартиру…
Ответственная работа, как же! Варево полимерное нюхать всю жизнь, боевую подругу Клавдию Оскаровну в начальниках иметь и лишней десятке молиться – раз в год, в день химика! На нее даже колготок элементарных теперь не купишь. И полторы сотни в месяц – бумажка бумажкой, прикуривай от нее, на что она еще годится по нынешним временам?!
Престижный муж, как же! Совместные предприятия! Сейчас – да, совместные предприятия, а еще год назад что? Шишка на неровном месте в своем НИИ. И большой философ: «Вот счастье, например. Если уж так неймется, то будь счастлива. Раньше я думал: попался счастливый билет и ой какое счастье привалит! А потом понял: счастье уже в том, что он, билет, попался! Разве нет?».
Не надо мне такого счастья. Провались оно!
Спасибо Мише, личную инициативу ниспослал. Предприимчивость, кооператив, ИТД, и т.п.
Да я за один только год, стоило мне решиться и порвать с тягучкой, на одних «дурилках» Красилину семь тысяч за его кооператив выплатила, чтобы подспудно не претендовал. Тряпок приличных надоставала. И могу себе позволить колготки выбрасывать, а не мазать их «Моментом», если поедут. И могу себе позволить категорию люкс, икру. Могу себе позволить…
Индивидуал – замечательное слово! Да, индивидуал, и ни от кого не хочу зависеть. И не буду! И могу себе позволить быть женщиной, хоть это и дорого!
Могу позволить! Но, чтоб вас всех разорвало, не позволяют! Ведь только-только все выплатила – долги застарелые, взятки нашим ответственным безработицам, за патент (отнюдь не те объявленные рубли- копейки, а те, что НАДО БЫЛО в конверте подсунуть) – все все! И – пожалуйста! Вдруг откуда ни возьмись…
Да уж, родная лаборатория, навеянная Красилиным, – кошмарный сон. А кошмар с грабителями придется переживать наяву. Конечно, грабители, кто же еще! Десять процентов ежемесячно! Не дам и все! Хоть режьте…
… И ведь могут, ведь пообещал прыщавый. Угораздило меня вчера именно в «Неву»!.. А может, плюнуть на пальто? Да-а, жа-а-алко. Дело не в том, что оно – семьсот, а в том, где достать? Негде!
Мыльников запропал, носа не кажет, не проявляется. А самой на удачу дежурить в Апраксиной, пока конфискат не выбросят – ищите девочку! Такого все равно не достать. А «советское, значит, лучшее» покупать – ищите старушку! Процентщицу!.. Нет, правда, зла не хватает! Пусть полторы тысячи, пусть! Но почему они какие-то… абстрактные – что пальто, что шубы. Будто инопланетяне делали – наблюдали за нами издали, разглядели приблизительно и сшили тоже? что-то приблизительное, похожее только издали.
Да уж, быть женщиной дорого!
Придется все-таки в «Неву» наведаться. Подумаешь, ничего страшного! День на улице. А к полудню и вовсе рассветет. Что ОНИ среди бела дня со мной на Невском сделают?! Воскресенье, народу полно! ДА и нет их там, нет. Что, самая неотложная задача для НИХ – в засаде бедную женщину дожидаться – караулить?! Ну, не бедную. Ну, богатую… В перспективе…
Точку на «Удельной», конечно, придется сменить. Без никаких! Обидно. Я за лоток, чтобы его там установить, столько в лапу положила, а теперь вот… Ну, из двух зол…
До открытия еще времени куча. Чашечки отскрести, все шесть – неделя закончилась. Бокальчики ополоснуть, протереть – в бар. И «Мисти» туда же: если маленькими поцелуйчиками, то надолго растянуть можно. Кресло, постель.
Вроде все. Чем бы себя занять, чтобы жуть с ружьем в голову не лезла? Кофеек? Это не занятие, это я – в последний момент, взбодриться.
Осьминожка! Правильно. Вот я и посмотрю, из чего же такого полимерного тебя сварганили. Колба, так. Реторта. Прокладка асбестовая задевалась! А, вот! Кстати, реактивы на исходе. Ортофосфорная кислота – без нее никак. Катализатор! В крайнем случае, серная концентрированная. Но и ее почти не осталось. Опять предстоит поход и всеобещающее лицо, чтобы расщедрились. Все ведь своим горбом, своим горбом. Пусть только кто-нибудь скажет, что я не заработала то, что я заработала!..
Ну очень милая осьминожка, что у нас болит? А что у нас внутри? А мы кусочек отщипнем и посмотрим, разложим на продукты деструкции, сейчас подогреем и будем надеяться – сразу мономер полетит. И не елозь, «дурилка» импортная, я тебе скоро братиков-сестричек наштампую…
… Ничего, себе, цепочка-связка! Нагревание попусту. Значит, либо ее путем конденсации строили, либо вообще раскрытием цикла. Что за цикл, кой черт знает, что из чего там выросло?! Где я хотя бы приблизительный аналог найду?!
В лабораторию Клавке позвонить разве по старой памяти. Может у них такой полимер оказаться?.. О, большой успех! Уже думаю: у них. А недавно еще не могла избавиться от: у нас. Да, но по той же причине Клавка отбреет, даже если у них такое и есть. Мол, индивидуал – и работай над собой, а наши полимеры – плод коллективного НАШЕГО труда. Завистницы, с-собаки… на сене.
Лучше Петюню подозвать. Но так, чтобы ни Клавка, ни Марьямушка, никто из лабораторного девичника не включился, что это я. А Петюня-то скажет, все скажет. Что-что, а из Петюни я веревку могу вить… хм, чтобы на ней потом повеситься. Все-таки, мужчина страшно самонадеян – он всегда придумает себе такую женщину, такую… такую… которой он и даром не нужен. Так что Петюня скажет. Только он не может сказать по существу, если даже я в толк не возьму, из чего проклятые капиталисты полимер строили! И потом – воскресенье! Совсем счет дням потеряла, Красилина?! То ли дело «крантик». Банальная пластмасса. Накупила копеечных неликвидов и переплавляй, формуй из них трешки.
А тут придется посиде-еть, и еще как!
Так! Но не сейчас! Я вам не Красилин, я опаздывать не умею. Я еще и кофейку успею глотнуть. Только мыть – увольте. Потом, потом, потом…
Зя-а-абко в плащике-то! И мороза нет, а пробирает. Или это не от этого? Просто боюсь.
Ничего я не боюсь! Центр! Невский! «Нева»…
… И внутри там, за стеклом – пусто.
Правильно я сделала, что до открытия успела. Гарантия, во всяком случае, что я первая буду. Даже если ОНИ стерегут, то снаружи не тронут (люди кругом!), а внутри – я первая (и швейцары тоже люди, и здоровенные: помогут, если обращусь!).
Пора! На Думе часы пробили.
Ой, пробил мой час!
И номерочком стучу по стеклу: цок-цок. Чтобы сразу поняли бравые ребята в синих фуражках: я по делу, а не просто так от голода, вот и номерок ваш у меня. Нечего карасями из аквариума пялить на меня снулые глаза – не дам рубля, дело у меня тут, пальто мое тут.
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
… Выдали! Мое! А я-то приготовилась долго им объяснять, врать. К тому же смотрю: на вешалках – ничего! Делось куда-то, пропало! Запаниковала и сразу решила скандалить, попробуй они мне его не вернуть. Сую номерок под нос, но не выпускаю из рук:
– Ваш номерок! – говорю и электризуюсь.
Глазом своим карасьим не моргнул, кивнул и ушел.
А я все электризуюсь, уже искрить начинаю. За дверью входной слежу – вдруг ОНИ тут как тут?! Мало того, что рисковала, но еще и зря, получается, – пальто исчезло. Это сам по себе та-акой повод током долбануть! Пусть попробуют только не вернуть мое пальто!
– Ваше пальто!
Оглядываюсь – оно… И карась в синей фуражке готовно держит его за плечики: надевайте.
Тут же весь заряд в землю ушел. Но я всего секунду пребываю в состоянии «слава богу!». Потому что вдруг чувствую: все четыре карася (а их четверо) – не сами по себе, а вместе. И каждый действует по модели, по давно испытанной ими и не однажды опробованной модели – давно обрыдло, но работа есть работа, и у каждого в ней свои функции…
Один – пальто подает.
Другой – подошел с некоторой ленцой и весь выход закрыл широченной спиной, вроде на проспект любуется.
Третий просто встал и стоит. Но так, что лестница в «зало» (которая наверх) отсечена.
А четвертый – на страже у «Ж».
Столбенею! Потом судорожно вбрасываюсь в пальто и, щелкая кнопками, иду по дуге словно подскользнувшись – уже понимаешь: падаешь, но продолжаешь двигаться – иду, сейчас ткнусь в синюю спину-валун. Не будет же он со мной драться, с женщиной!
И боковым зрением вижу: по касательной меня догоняет… нет, не швейцар… откуда-то из подсобных дверей – молодой, высокий, спортивный, наглый, в костюме. Хвать меня за руку. Таким манером, что сломать запросто, если вздумаю вырываться. Не вздумай!
– Простите, это ваше пальто, вы уверены? – взгляд уверенный, снисходительный, презирающий, начальственный. У НИХ, у вчерашних, не бывает такого взгляда, не может быть. – Тогда придется пройти…
И все становится, если это не ОНИ, тем более дико, непонятно и потому стра-а-ашно! Жуть с ружьем! И я вырываюсь по мере слабых сил.
Слепну от боли – руку мою он держит СПЕЦИАЛЬНО.
Пинаю каблуками поспешающих на помощь (не мне!) карасей.
Бороздю царапины по одной из их мясистых рож.
И потом кричу-причитаю:
– Ой, мамочки-мамочки-мамочки! Ой, больно, больно так! Я сама-сама-сама-сама! Я иду-иду-иду-иду!
И я иду…
***
Невозможно так разговаривать!!!
Помнится, давным-давно уже испытывала подобный приступ: приступ и ярости, и обиды, и растерянности одновременно. В Болгарии. Десять лет назад.
Еще студенткой решилась подкопить-занять и кровь из носу, но заграницу повидать. Только и хватило на Болгарию. И то спасибо. Деду спасибо: завещал внучке ворох безжизненных облигаций конца сороковых годов, а больше у него и не было ничего. И вдруг государство расщедрилось, погасило. Вот и Болгария тебе, студенточка-внучка…
Красоты красотами, но помимо них хотелось и шмоток. Тогда джинсовый бум в разгаре был. И прихожу в лавчонку, спрашиваю у продавца: «Джинсы есть?». Он разулыбался аж светится, башкой отрицательно мотает: «Няма! Няма!». Что ж ты, думаю, паразит усатый, радуешься, если «няма»! А день последний. На исходе.
Так и уехала. Ерунды всяческой нахватала по мелочи уже на вокзале, лишь бы валюте не пропадать.
Этот самый приступ и накатил, когда он, усатик, мне свою «няму» вместо джинсов предложил. И говорили на одном языке (ну почти!), а реакции противоположные. Все понимаем, но совершенно не так. И права не покачаешь на чужой территории. И теперь вот в нынешнем ОПОПе тоже накатил…
В самом-то деле, невозможно разговаривать! Жуть с ружьем и есть! Ладно – Болгария: теперь все умные и знают, что «нет» у болгар – наше «да», а арбуз они называют дыней и наоборот. Но тут-то!!!
По-русски говорим, а получается «няма»! И снова права не покачаешь, снова чужая территория, не моя…
– Что я вам сделала?! Зачем вы меня сюда притащили?!
– Ну-ну! Только не выступай. Ты лучше скажи…
– Я вам не «ты»! Я тебе не «ты»! Сопляки! Вы мне за все ответите!
– Ну-ну! Пока ты нам ответишь. На все интересующие нас вопросы. ЗДЕСЬ мы спрашиваем, а нам отвечают.
ЗДЕСЬ – комнатенка о трех стульях, диване, столе, сейфе. Вымпел на сейфе, на стене – грамота за неясные успехи и полуголый календарь… Да! Еще на столе скорчилось мое пальто. ЗДЕСЬ – это ОПОП. Что за ОПОП? Охрана порядка, опорный пункт, да? И три бугая. Большое геройство: скрутить хрупкую женщину и в свой ОПОП затащить (оп! оп!). Спра- авились, победители!
– А не надо было оказывать сопротивления. Ведь вас вежливо попросили пройти. Зачем было сопротивляться? Царапину нанесли человеку, а он швейцар, он при исполнении служебных обязанностей…
Зачем сопротивлялась! Да переодень вчерашних рэкетиров из «варенок» в «тройки», дай им власть (официальную!), чтобы взгляд приобрел социальную защищенность… вернее, социальное нападение – тогда не отличить! Откормленность и чувство хозяина. Не то, о котором пресса долдонит, а: «я здесь хозяин!» Боже мой, о чем я думаю! Мамочки-мамочки-мамочки! До прессы ли! Разговаривают так же: угрожающе-доброжелательно, с издевкой, будто низшее существо перед ними. (Я вам не низшее существо, понятно?!!). И на «вы» перешли, играя-глумясь. И все трое абсолютно одинаковые, черт побери, инкубаторские!
Только один разыгрывает большого начальника.
Второй – коллегу-подчиненного.
Третий – бездельника, уже сдавшего дежурство. Но почему бы праздно не полюбопытствовать…
– Будем отвечать? – спрашивает Начальник, отвалясь на спинку стула, даже потянувшись.
– Смотря на какие вопросы! – еще хорохорюсь, но уже сдаюсь. Лишь бы поскорее все кончилось и хоть что-то конкретное выяснилось!
И Коллега, сидящий на краю стола, придавив задницей рукав моего пальто, и Бездельник, скучающе сторожащий дверь за моей спиной, – оба хмыкают уничтожающе. А Начальник, разыгрывая начальника, устроженным тоном говорит Коллеге:
– Ты бы лучше записал, чем груши околачивать. А ты, – Бездельнику, – пока халдея найди. Скоро понадобится.
Коллега спрыгивает со стола, показушно зевнув, лезет в буфет, выуживает какой-то бланк и пристраивается записывать.
Бездельник, который мне чуть руку не сломал, демонстрирует, что ему все надоело, произносит потолку:
– Где наш халдей! Пожалте в кандей! – и уходит…
– Фамилия?
– Красилина. Галина Андреевна.
Коллега записывает, Начальник спрашивает.
– Год рождения? Только не врать.
– Пятьдесят девятый. 21 января.
– Оо, с днем рождения! С прошедшим.
– Спаси-ибо!
– Пожа-алуйста! – он, Начальник, поднимает трубку, что-то там набирает и – Коллеге: – Какой у нас ЦАБовский код? Двести один, «баржа»?
– Двести один, «баржа».
– Алло! – говорит Начальник в трубку. – Двести один, «баржа».., Красилина Галина Андреевна. 1959-го. Январь… Момент! Записываю! – и он диктует Коллеге мой собственный адрес. – Спасибо. Да.
– Вы что, не могли у меня спросить? – злюсь, но получается некоторым образом просяще, и от этого еще больше злюсь.
Тоже мне, психическая атака! «У нас длинные руки»!
– Так ведь ты все равно соврала бы!
– Вы!
– Ах, пардон! Вы! Вы все врете. А документов как всегда никаких, ведь так?
– Кто это «вы»?! Кто – мы?! У меня есть документ! У меня в пальто квитанция! Отдайте мне мое пальто!!! Я сама, отдайте, оно мое, вы не имеете права! Не смейте рыться в карманах! Мужчины вы или нет?! Вам не стыдно?!
Им не стыдно.
Коллега встряхивает пальто, выгребает из карманов все что там есть: пробитые автобусные талоны, всякий мусор и… квитанцию.
Они с Начальником изучают ее как решающую улику.
А я окончательно сдаюсь: оправдываться – последнее дело, и дело это мною сделано.
Разговор превращается в какую-то вообще невообразимую «няму».
– Международный. С Хельсинки. Поня-атно… А с кем именно, если не секрет?
– С мужем! Только мы в разводе! – глупо уточняю.
– Поня-атно. Финик?
– Что – финик?
– Муж финик? Ну, чухонец?
– Русский он, русский! Наш!
– Поня-атно! Обрусеешь с вами… Работаете? Где?
– Я индивидуал.
– Поня-атно. Все вы индивидуалы.
– Не в том смысле! – тороплюсь я, догадываясь уже о «том смысле». И с языка срывается: – Я «дурилки» делаю!
– Поня-атно… Любопытно, любопытно. Делать «дурилки» вы все мастерицы. А вчера недобор получился, да? – издевательски сочувствует Начальник.
– За кого?!! За кого вы меня принимаете?!! – непроизвольно закипаю слезой и от безвыходности ищу помощи, поддержки у Коллеги.
– Первый привод? – помогает, поддерживает Коллега.
– Какой еще привод?!
– Первый, первый, – знающе подтверждает Коллега Начальнику – Реакция всегда одна: рыдают, сучки.
И они как два китайских слоника медленно, долго, внушительно кивают друг другу. Кивают и кивают, будто меня и нет.
А я есть. И после «сучек» от всей происходящей дикой «нямы» я тоже киваю слоником. Чисто инстинктивно, чтобы слезы по щекам не ползли, а сразу из глаз на пол падали.
Вскидываюсь, когда в коридоре кто-то топчет, гусарски ржет, басит и тенорит, идет сюда, в ОПОП. Пусть кто угодно, лишь бы кто-нибудь!
Дверь от пинка распахивается. Это Бездельник и…
… слава богу! Вчерашний халдей! Он скажет, он помнит!
Он помнит, он говорит:
– Конечно, она!
– Вот видите! – торжествую я, надеясь, что бред кончился, но бред только начинается.
– Ви-идим! Еще бы!
Дальше – не в лицах. А в харях. Лица – они разные, а хари всегда одинаковые. Одна большая харя на всех.
Рыхлая харя халдея, да, подтверждала: именно меня вчера обслуживала, меня и того монголоида…
– Какого монголоида?!!
– Сама знаешь какого! У которого бумажник вынула!
– Какой бумажник?!!!
– У тебя надо спросить!
Харя Начальника наставляла, что тебе (мне!) очень повезло. Ничего, что он теперь на «ты» перешел?
– Монголоид отечественный, а ты небось решила: Бирма, Кампучия! Считай, действительно, счастлив твой бог. Иначе валюта бы светила, а так – рубли. Статьи кодекса знаешь? Тебе ли не знать! Считай, легко отделалась!
Харя Коллеги помогала, поддерживала:
– Пальтишко-то ношеное. Стоило ли ради пальтишка сыпаться? Все жадность, жадность все. Эх девоньки, вы девоньки. Непутевые…
Харя Бездельника гоготала:
– Все настолько очевидно, а она еще строит святую невинность!
(«Она» – я. А я ли это?!!).
Потом Бездельник снова ушел, снова пришел – на сей раз с монголоидом.
И харя монголоида была… восточней некуда. От нее разило непроспавшимся перегаром, и непроспавшиеся щелочки не то что глазами, а и щелочками не назвать было. И он сквозь них удостоверил, проворчал тарабарским языком:
– Тот самыя!
Получалось вот что: я была «тот самыя», которая вчера пришла в ресторан, долго «пасла», потом «сняла» монголоида и пыталась ему втолковать по-английски: «Гонконг – гуд! Сингапур – гуд!».
Рыхлый халдей сам слышал, он не глухой, он же их столик и работал! Он еще хихикал: дамочка явно новенькая, расклада не знает: откуда в «Неве» интерам взяться! Это в «Москву» надо, минимум. Да что с нее возьмешь! Начиталась-насмотрелась, решила попробовать. Ведь в летах дамочка, а туда же! Да в ее летах иные пятнадцать годков стажа набирают. И опыта. И соблюдают железное правило: обирай хоть до копеечки (до цента), но не воруй ни рубля (ни доллара). Монголоиду приспичило, а пиджак на стуле оставил. Она (я!!!) – шнырк в боковой карман и с бумажником ноги сделала.
Пальто? Что ж, пальто. Все для Начальника логично, потому что глупо. Гражданка Красилина рассчитывала на валюту. Валюта покрыла бы пальто с такой лихвой, что и говорить нечего. А потом гражданка Красилина обнаруживает рубли, всего триста. Пальто… м-м… тоже где-то триста (Семьсот, придурок! Семьсот! Не соображаешь в женских шмотках – не говори!). Игра, получается, не стоит свеч. Почему бы не попробовать вернуть и пальто. Тогда хоть отчасти можно оправдать акт… Глупо, ох глупо. Понятно, опыта никакого, но, гражданка Красилина, такой опыт лучше не приобретать. Особенно в ваши годы. Сбежали, а квиток в пальто оставили. Неужели думали: не найдем? Глупо.
Не плачьте. Поздно теперь плакать. Он, Коллега, сочувствует и все готов понять. Но отказывается понимать, как можно в собственный день рождения таким образом… И почти голяком на улицу… Воспаления легких вы, Галя, не боялись? Не плачьте, мы ведь тоже люди, у нас тоже нервы. Но вы сами создали ситуацию (я?!!), и теперь придется отвечать по закону. За все надо платить. За все в нашей жизни.
Го-го-го! Не верит он. Бездельник, в бабью водичку! Они сами себя убедят в чем угодно: и что раскаялись, и что больше не будут, и что даже не знали… Вон когда Фею в «Прибалтийской» на валюте взяли, она что накорябала? «Он давал мне немного денег, которые называл долларами»! Это Фея-то! Не стоит нас за дурачков держать!
Тот самыя! Тот самыя!
…Все мужики садисты! Им доставляет наслаждение уничтожать женщину! Отыгрываются!
И я уничтожена. Отыгрались. Я не могу им сказать, что рыхлый халдей (мерзавец!) скорее всего в одной шайке-лейке со вчерашними молодчиками, и ему перепадает от них, а вчера не получилось, он и мстит. Я не могу им сказать, что пьянь монголоидная хоть в кариатиду пальцем ткнет, если ему втолкуют: мол, она, она тебя обчистила, и мы ее заставим вернуть. Я не могу им сказать, что бугаям конечно нравится прикидываться Штирлицами, но по сути они с удовольствием исполняют роли мюллеров.
Кому из них я могу это сказать? И зачем?! Только еще больше раззадорю. Нет выхода! Никакого! Кто бы защитил! Кто хотя бы не нападал! Я и молчу.
Говорю:
– Позвонить можно?
Они от души веселятся:
– А ка-ак же! И позвонить, и постучать, и погудеть, и за веревочку дернуть! Го-го-го!
– Пожалуйста! – взмаливаюсь я. – Человеку! Я прошу, я просто прошу! Пожалуйста!
Киношно переглядываются, гримасничают: разрешим?
Ах вы мои великодушные! Зас-с-сранцы!
– Что за человек?
– Просто… человек, – теряюсь.
– Кто он? – вдалбливают мне, кретинке.
– Капитан… В милиции. В ОБХСС. Мыльников Виктор Николаевич. Год рождения – мой.
– Бэх? – становится им интересно.
– Нет… Он капитан…
– Вы же сами сказали: бэх.
– Я?..
– Бэх. ОБХСС. Сказали? – вдалбливают мне, кретинке.
– A-а… Сказала. Хоть горшком его назовите, только дайте позвонить! Пусть «бэх»…
Они опять затевают глубокомысленную возню с телефоном, с ЦАБом, с «201», «баржа»…
Да знаю я, знаю его телефон!
Вот и они хотят знать. Сами. И узнают. И набирают номер.
Мамочки-мамочки-мамочки! Только бы Вика был дома! Только бы он был! Вика-Викушка, будь! Я все прощу!
Есть!
– Виктор Николаевич? – струнным голосом осведомляется Начальник. -Мыльников? Момент! Сейчас с вами будут говорить. – И врет: – Предупреждаю, ваш разговор записывается на пленку. Вы готовы?
– Викушка! Вика! – ревмя реву в трубку.
– Ле-ешик, ты? Где и что? Быстро!
… Я в девичестве Лешакова, а Мыльников – одноклассник. Он – Вика, а я – Лешик.
***
– Моя милиция меня бережет! – не нахожу ничего свежей и благодарственней, когда осознаю: кошмар таки кончился, и сажусь не в «черный воронок», а в красную Викину «шестерку».
– Какая, к хренам, милиция! – процеживает Мыльников, впрочем, не в мой, а в чей-то другой адрес. – Пристегнись.
… Красилин, например, всегда старался изобразить из себя стопроцентного мужчину, уверенного в победах маленьких и больших.
И любая машина на улице тормознет, если только рукой ей обозначить!
И любой разнаиспесивый официант уже рядом, уже прогнувшись, лишь за столик сядешь!
И какая бы многочисленная шпана навстречу ни попалась, как бы ни выражала нетерпеливую готовность проверить на прочность, достаточно их специфически предупредить: «Пацаны! Не советую!», и они уважительно расступаются: «Мужик! Нет вопросов! Уважаем!».
И какого бы уровня начальник, вплоть до министра, ни командовал, достаточно в глаза ему спокойно сказать, что эту работу буду делать я, или: эту работу я делать не буду. И вплоть до министра признают: пожалуй!
И какая бы женщина ни появилась на горизонте, начхать, как она отнесется, ибо само собой разумеется: однозначно и до могилы… Остается только определить свое отношение к ней.
И так во всем. Был!
У Красилина никогда не получалось. Но он старался и все время терпел поражения. И просто изображал свое поражение своей победой. Счастье, видите ли, в том, что билет счастливый уже попался!..
А Вика Мыльников никогда ничего не изображал. Сколько его знаю – никогда. Он просто был. Победителем. И билета счастливого ему не надо, он и так победит, просто иначе быть не может. Мир так устроен! Огурец зеленый, вода мокрая, Земля вращается вокруг Солнца, Мыльников – победитель. И особой гордости или радости от подобного положения вещей у него в помине нет: просто такова объективная реальность.
Обширная категория мужчин в свое время Хемингуэем переболела, а вирус остался, затаился: чуть что – дает о себе знать. По-моему, сам Хемингуэй болел Хемингуэем. А Мыльников по определению не болел. Он и есть вирус – и чувствует себя великолепно.
Сидит за рулем и непонятно, как машиной-то управляет: ни суеты, ни резких движений, ни вообще движений. Впечатление, что управляет мысленно. Не поседел, не полысел. Не обрюзг, не обдряб. Наоборот! И загар. Откуда в январе загар? Красавец! Только уши пельменными были, пельменными и остались. Хотя и они придают ему некий шарм: у Бельмондо челюсть обезьянья, у Вентуры мешки под глазами, у Филатова грудь впалая. А у Вики Мыльникова уши пельменные.
– Рад тебя видеть, Лешик.
– И я!
Он действительно рад, но насчет «видеть» – ему сложно: он на дорогу смотрит и меня наблюдает косвенно, краем глаза. Это я на него пялюсь сбоку и снизу вверх. Опять получается: победитель – побежденная. Потому, наверно, ничего у нас не получилось. И ни он, ни я никогда не пытались, чтобы получилось… Почти никогда. Начиная со школы. Терпеть не могу подчиненности (вероятно, и военных потому на дух не выношу), а Вика не может не подчинить. Вот и отношения сложились, как у России со Швецией: дружим, уважаем, рады видеть, не претендуем. Да и вообще Вика настолько безэмоционален, что просто не сможет сделать глупость.
– Что ты им сказал?
Он мельком делает узорчатый жест правой рукой и заканчивает его тем же мельком, проводя-погладив внешней стороной ладони меня по щеке. Дружеская ласка-утешение, надо полагать, что и почувствовала. А жест и правда узорчатый, каратэшный. Терпи подчиненность, Красилина, – сама призвала Мыльникова на помощь.
Ведь помог:
– Галина Андреевна, подождите меня в коридоре!
И ни один из садистов не пикнул. А через десять минут вышел и говорит мне:
– Ну, двинулись?
А все садисты ему из комнаты ручкой делают, как «и другие официальные лица». И с тем же выражением лица!
Я конечно пыталась прислушаться, о чем там за дверью. Но Викиного голоса: ни гу-гу. А садисты бухтели громко, но неразборчиво. Потому что все сразу. Сколько дыхание не затаивала – не понять… При чем тут любопытство! Судьба решается, без преувеличений! Я себе рисовала: вот они орут, будучи в своем праве; вот пауза после демонстрации Викой удостоверения; вот они орут объясняюще, а Вика фразой-двумя урезонивает их и реабилитирует меня; вот они орут уже виновато и примиряюще, а он если не прощает, то щадит их кратким междометием и покидает. «Ну, двинулись?».
– Что ты им все-таки сказал?
– Неважно. Отдыхай.
– Но ты им дал как следует?! Чтоб запомнили. A?
– Отдохни, сказал, от этой мысли.
– Но ты дал им?!
– Дал, дал, успокойся.
– А как? – теперь уже просто любопытство. Злорадное.
– Из рук в руки, как же еще.
– Что из рук в руки? Как ты им дал, тебя спрашивают!
– Не как, а сколько. Пятьсот ровным счетом. Но пусть тебя это не волнует.
… Меня это волнует. Настолько волнует, что глаза, не успев просохнуть, снова текут. Мокрое место от них остается. Два мокрых места…
Когда садисты в ОПОПе мне групповую пытку устроили, я расквасилась от злости и бессилия. А тут… злости нет, сила есть, но вот… На помощь позвала От беспомощности и реву. Беззвучно.
Значит, получается, Вика не то чтобы защитил честное имя одноклассницы, которую сто лет знает и, будучи представителем власти, может поручиться за ее беспорочность. А получается – откупил. Получается, принял как должное: гражданка Красилина обобрала пьяного, не сойдясь в цене за совместную ночь. А старая дружба не ржавеет и надо выручать гражданку Красилину (в девичестве Лешакову), в какую бы растакую-разэтакую Красилину одноклассница Лешакова ни переродилась за прошедшие сто лет. И откупил. За пятьсот.
«Но пусть тебя это не волнует».
А почему пятьсот, внутренне вдруг возмущаюсь! Откуда цифра вообще такая – пятьсот?!
– Триста – узкоглазому. Двести – налог ублюдкам! – говорит Мыльников, даже не покосившись. Скупым жестом выдергивает откуда-то тугой, твердый платок, обозначив внимательность, и кладет его мне на колени, похлопав – нет, опять же просто обозначив похлопывание дружески и успокаивающе.
– Уб-блюдки! – повторяет он. Холодно констатирует. Без ярости, а брезгливо.
И становится легче. Я реву уже облегченно, промокая стерильным Викиным платком капли-капельки. Вирус ты, хемингуэйный! Ничего не стал объяснять мне, но одним жестом, одним словом дал понять: Лешику верит, а во всю кабацкую историю не верит.
И поступил он просто по ситуации, единственно верно поступил. Победитель не должен метать бисер перед свиньями. Тогда сразу превратится в побежденного: нет большего удовольствия для ублюдков, чем покуражиться над мечущим бисер. На то они все там и садисты, чтобы, понимая абсурд обвинений, настаивать на них. И не такой уж абсурд с их точки зрения. А какая точка зрения может быть у свиней? Вика и победил: не стал объясняться, просто огрел взглядом и молча выложил пятьсот. Правильно! Триста за монголоида, двести… двести вымогали вчерашние мерзавцы. «Такса есть такса», – вразумлял меня прыщавый давеча. Пошел он со своей таксой! С-сутенер! Пусть со своих швабр стрижет свою таксу!.. Ну да, он и сунулся состричь? С меня… Неужели я похожа на… Утешься, не похожа! Красива – да, но уж тут. Просто для ублюдков любая красивая женщина – кукла для постели. А если кукла решила таким образом заработать, она должна платить. Такса есть такса…
Но обидно-то! Хоть и полегчало, но обидно-то! Отдаю себе отчет в том, что Мыльников поступил единственно возможным образом (по-другому он и не мог поступить и не поступал никогда). Но! Плевать мне на то, как ко мне отнеслись садисты. Их отношение понять несложно и безболезненно для собственного самолюбия и душевного комфорта. Если на них как на людей плевать, то просто смотришь и видишь. Да и вся их свинская сущность столь незатейлива, что там и понимать нечего, честно говоря. Но вот если человек для тебя кое-что значит и к тому же достаточно умен, дело становится во сто крат сложнее. Не потому, что перестаешь видеть, а потому, что постоянно сомневаешься в истолковании увиденного.
Вика достаточно умен. Вика для меня кое-что значит. Он – ровня. Именно! Красилин никогда не был ровней: смотрела снизу вверх и ни черта не видела, а рассмотрела и… равняться глупо. Не говоря уже о многочисленной категории вечнозеленых юнцов типа Петюни, на которых иначе как сверху вниз не глянешь, куда там равняться. А Вика… успокоил жестом, и то-то и плохо, что успокоилась.
Не буду успокаиваться, не подчинюсь! Ровня на то и ровня, чтобы не подчинять! Спасибо, спасибо, но больше ничего не надо, не на-адо.
– Куда мы едем? – дошмыгав обиду, спрашиваю с претензией на высокомерное недоумение. Едем мы через Литейный мост, а там рукой подать до «дворянского гнезда», что у Финбана. Такое суперсовременное «дворянское гнездо», облицованное идиотическим фиолетом. И живут в нем какие-то избранные. И Вика в нем живет. Где же ему еще жить! А я – нет. Ко мне ехать не через Литейный, а через Кировский мост. – Куда мы едем, я спрашиваю?
– Едем… – отвечает Вика нейтрально, обозначив не столько цель, сколько процесс, и оставив за мной право самой решать. Не право, а обязанность получается, демократ непробиваемый!
– На Комендантский! – проигрываю я собственному высокомерию, но все еще ерепенюсь: – Я тебе деньги должна отдать как-никак.
Сейчас он: пусть тебя это не волнует. А я: вот уж нет! что нет, то нет! А он: да ну, перестань! А я: это ты перестань, и… отдохни от этой мысли, дружба – дружбой, но…
Дружба – дружбой. Он отдыхает от этой мысли. МНЕ надо от нее уставать, а ОН отдыхает и, бесстрастно поглотив мою вводную, выезжает по набережной мимо гостиницы «Ленинград», мимо своего «гнезда», по мостику, по Куйбышева (там же нет поворота! ан для него – есть!) на прямую Кировского проспекта. И светофоры при его приближении торопливо перемигивают с желтого на зеленый.
А на переезде у Новой Деревни, где обычно получасовой транспортный застой, он проскакивает под верещащий опускающийся шлагбаум и даже ухом своим пельменным не ведет, в боковое зеркальце не глянет: что там позади.
Позади (не удержалась, обернулась) – запнувшееся, мгновенно образовавшееся стадо машин.
Мы прибыли…
***
– Значит, насчет рэкетиров. Ранее их можно было привлечь только по девяносто пятой или сто сорок восьмой Кодекса. Но не привлекали. Вот почему: девяносто пятая – вымогательство государственного или общественного имущества. И наши бар-раны никак не могли решить, относится ли собственность кооперативов к общественной. Не было на этот счет никаких прецедентов ранее или специальных разъяснений. Сто сорок восьмая – вымогательство. Не привлекали, потому что сложно доказать факт вымогательства: рэкетиры сразу начинали плести, что просто забирают свой должок. Или еще проще: они же не требовали никакого имущества, на что указано статьей, а просто немного деньжат. А деньги – не имущество, как считают некоторые законотворцы и законоисполнители… Да, пожалуй. Чашечку. Без сахара… Самая же главная причина беспомощности властей, на мой взгляд, заключается в том, что поскольку ничего подобного ранее не было, то бараны, коими сделала почти всех нас система, просто не могли решить, что же нужно делать в данном нетривиальном случае, а указаний сверху не поступало по причине наличия вверху таких же бар-ранов… На самом деле, я в том совершенно убежден, можно привлекать рэкетиров по семьдесят седьмой: за бандитизм. Поскольку есть первое – факт организации банды, второе – факт вооруженности (а два ножа уже значит – вооружены), третье – реальная угроза нападения на общественные организации… У тебя сейчас сбежит, убавь газ… Другое дело, доказывать – безнадежное занятие в наших условиях, при нынешней оснащенности милиции, при современной оценке доказательств. Ведь не принимаются в расчет нашими – и только нашими! – судами ни магнитофонная запись, ни даже видеозапись, сделанная без ведома подозреваемого и без его на то согласия. Подобные факты годятся только для того, чтобы заставить самого ублюдка честно, по-вышински, признать свою вину. Оттого несчастная милиция без всякой охоты бралась за такого рода дела, провальные изначально. Сейчас, правда, что-то меняется. Во всяком случае уже взята сотня-другая рэкетиров, возбуждены уголовные дела. Только неизвестно, как дела пройдут в нашем демократизировавшемся суде… Посмотрим… Нормальный кофе, благодарю… И надо учитывать: если берут одного, то он под каким угодно страхом не признается, что не один. А ведь не один. Их много и, не сомневайся, сделают все, чтобы потерпевший забрал иск, если потерпевший такой круглый дурак, чтобы иск подать.
– То есть ты хочешь сказать, никаких гарантий…
– Я ничего не хочу сказать, Лешик. Ты просила разъяснить, я разъяснил.
Он разъяснил. Пришли. Посиди, говорю, я пока кофеек поставлю, не возражаешь?
Терпеть не могу мужиков, которые на входе начинают туфли с себя стаскивать и шарят ищуще взглядом: тапочки есть?.. ладно, я в носках, они чистые, и ноги заодно расслабятся… Плебейская привычка! Других забот у меня нет, нежели верить в чистые МУЖСКИЕ носки и сочувственно гадать: расслабятся ноги, вдруг возьмут и не расслабятся!.. Впрочем, я и тех мужиков терпеть не могу, которые входят и сразу чапают своими дерьмодавами: о, наследил, пардон-пардон, ну, ничего-ничего! Тоже плебейская привычка! Других забот у меня нет – подтирать за каждым!
Вика же ступил на коврик и даже ножкой не шаркнул, но столь основательно ступил, что если и была на его подошвах грязь, то вся впечаталась, сошла с обуви на мой коврик.
И – в комнату, и – в кресло.
Я ему ручкой хотела по-хозяйски плеснуть: мол, займись пока чем-нибудь, музыку включи. А он уже сидит, розы красилинские вдумчиво осмотрел и- ага! – будто давно искал и здесь наконец обнаружил, с искренним (искренним, клянусь!) увлечением листает журнал по вязанию. Венгерский. В «Науке» на Литейном мне повезло. Семь с полтиной, венгерский, но итальянский. Листает, изучает! И мне по-хозяйски ручкой плеснул: мол, только музыку пока не надо, чуть позже.
Умойся и утрись, Красилина.
А звуковой фон не помешал бы, пока я на кухне стараюсь бесшумно выпростать коробочки с фильтрами, не шелохнув чуткую химпосуду. Дзинь-дидзинь!
И ящик с визгом открывается! А и пусть в конце концов! Я у себя дома!
– Поставила джезву! – докладываю будто не у себя дома. И вроде между прочим, вроде чтобы просто потом не забыть: – Да, Вика возьми. Здесь пятьсот.
Берет как ничто, нырко вкладывает в задний карман джинсов, одновременно поднимаясь. Повторяет узорчатый жест, неслышно проведя пальцами по моей щеке, и устремленно идет на кухню.
А я за ним следом. Волей-неволей, но следом. Что за напасть такая! Вечно его догонять приходится, чтобы сравняться! Так нечестно!.. Хотя конфорку под джезвой надо было конечно запалить, раз уж сказала, что поставила. Ладно, сам запаливай, если такой проницательный.
Проница-ательный:
– Оригинал! – слегка шутит, чтобы не задеть.
– В смысле? – задел все же. И объяснись!
– Обычно в белье прячут. Или в книгах, – объяснился.
Зло берет, вот зло берет! И на него, и… на себя: даже высокомерного недоумения толком изобразить не могу – что в машине, что здесь на кухне. Кретинство беспросветное! Я же не от Вики прячу! Я от Вики прячу, что я их, сбережения треклятые, вообще прячу. И он понимает, и я понимаю, но выглядит все не мудро. Он-то – да, мудро. А я – дура-дурой, стараясь еще и лицо сделать.
… Да, пунктик! И такой пунктик у меня есть. Храните деньги в сберегательных кассах! Удобно! Фига с два! Плавающее расписание, потная толпа, «вас много, я одна!». Хватит! Испытала на себе, когда дедовы облигации гасила перед Болгарией. Три дня угрохала. Главное, мои ведь деньги, а выдают в виде высочайшей милости. Нет уж, пусть лучше мое всегда при мне. Только место понадежней найти, чтобы в воде не тонули, в огне не горе…
Стоп! Красилина нет, и некому меня ковырять-подхихикивать! Дернуло меня за язык рассказать ему в пору сумасшедшей влюбленности, в пору безопасного для самолюбия САМОподтрунивания… Ну решилась всe-таки на весь отпуск к матери съездить пять лет назад. Ну спрятала в квартире сотню (пятерками) на черный послеотпускной период. Квартира месяц пустая, Красилин в Карелии срубы кладет, тыщи сулит. Первый отпуск врозь. В общем, если заберутся, надо чтобы не нашли. Никто не забрался. Зато я вернулась (три дня поездом, сажей разит и плацкартой), с порога все содрала с себя и в стиральную машину запихала. Вода чернущая – и наружу прет, не циркулирует. Мамочки-мамочки-мамочки! Жуть с ружьем! Тут-то и сверкнуло: кто бы догадался, куда я сотню спрятала? Там слив такой выпуклый у стиральной машины, у «Риги» – на двух винтах. Под него и… Никто не подумает! И я тоже думать забыла. Ковшиком черпала-вычерпывала, отвинтила: горсть бурых ошметьев в жутких волосах и нитках. Разложила на противень и в духовку на самый малый огонь – просушить. Пока бельишко вешаю, чую: паленым несет! Мамочки-мамочки-мамочки!.. Самое смешное – в банке мне их обменяли все-таки. Чего мне стоило – особый разговор. Получается, действительно – в огне не горят, в воде не тонут. А Красилину зря рассказала, скомпенсировала его несостоятельность, любя – вернулся без тыщ, с долгом в три сотни, кто-то там их нагрел- наказал, да еще с трещиной ребра, бревно сгоряча не туда двинули. Вот на мою непотопляемую-несгораемую сотню и жили до получки. За мой счет. Но зачем за мой счет еще и воображать себя бывалым добытчиком, которому просто разик не повезло, а тут ко всему прочему жена выкинула номер, разве я не рассказывал, эт-то всем историям история! Все! Стоп! Нет Красилина. И не надо. И не было его. Ничего не было.
А деньги – в коробочку с бумажными фильтрами, в третью сверху. Кто будет в химикатах рыться, если и заберется в квартиру? Там кислоты-щелочи, порошки неизвестные, гранулы всяко-аллергенные. И коробочки. С фильтрами. Видите: с фильтрами. И другая… видите, с фильтрами. И третья… Ну их! Все, что ли, ворошить?! Понятно, что не здесь. Очевидно… Молодец я? Я молодец!
И не просто молодец, но и – оригинал. Профессионал-сыскник похвалил: не в белье, не в книгах, не как все! Ему виднее! Ему знакомо! Он журнал «Вязание» с увлечением читает. Вязать – работа у него такая! Чуть что: вяжи их! Зло берет! На себя и… на Мыльникова даже больше!
Клиенты Мыльникова – они от кого прячут? От того же Мыльникова, если он столь часто обыски проводит, что и закономерности отмечает (и: вяжи их!). А меня пусть ОБХСС не касается, меня пусть всяческие «бэхи» не трогают! Я – затравленная итэдэшница, которой есть кого опасаться, помимо доблестной милиции. Ей вменяется меня беречь, пусть и бережет. Да, бережет, – а не только звонит по старой школьной привязанности за день до выброса в распродажу конфискованных шмоток: учти, завтра в Апраксином после трех. Бережет, а не юродствует по поводу моих сбережений. Пусть лучше оградит меня от свинских ублюдков-садистов и прочих вымогателей раз и навсегда, а не только в случае пожарного звонка. Чтобы не от кого мне было прятаться и прятать.
Зло берет! И все-таки больше на себя, чем на Вику. Потому что понимаю всю огромность требований к нему и если выскажу сейчас, то проявлюсь мелкой истеричкой. Он-то при чем? Сделал все и даже больше, а у тебя, милая моя, рефлексии нервные к существующему порядку вещей в глобальном масштабе. Пользуйся тем, что Мыльников доподлинно, знает существующий порядок вещей, и спроси как бы ненароком, как бы уходя в сторону… К слову…
У него же связи, у него же должность, он в системе работает. Поможет? Не хочу, не буду просить! Не хочу, не буду понимать – не женское дело! Женское дело – рефлексировать.
Хорошо – не просить. Но спросить?
– А я вот оригинал! – соглашаюсь я, перепрыгнув через самолюбие. – Индивидуал. Таких поискать! – И, нутром ощущая, насколько неестественно мое «к слову», равнодушно интересуюсь: – К слову! Вика, ты можешь разъяснить? Все эти рэкетиры, кооперативы… На них вообще есть управа?
– На рэкетиров или на кооперативы?
– Ну на кооперативы, я знаю, есть. Я же не слепая-глухая! – смешок у меня ва-аще! Сама непринужденность, тьфу! – А на рэкетиров?
Меня, мол, постольку-поскольку занимает. Постольку-поскольку одноклассник есть человек занимательной профессии, а женщины существа любопытные. Кто им еще расскажет, если не одноклассник?! Что-нибудь такое не служебно-секретное, а типа просветительной лекции.
И Вика не пошел навстречу, не проникся, а именно прочел просветительную лекцию: «Значит, насчет рэкетиров. Раньше их можно было привлечь только по девяносто пятой или сто сорок восьмой Кодекса. Но не привлекали…». Чуть раскачиваясь в такт на кухонном табурете, спиной опираясь на холодильник, аккуратно прихлебывая кофе.
Хоть бы спросил, почему я только ему налила, а себе нет! Хоть бы спросил, где я, по нынешним временам кофе достаю. И себе не налила потому, что джезва маленькая, сувенирная, всего на одну чашку. Но это не от этого. Просто всего ничего осталось: горсточка зерен на дне банки. Что за напасть: раньше кофе был- денег не было, а деньги появились – кофе днем с огнем не сыщешь. Завтра пойду искать, глазки строить. А он хоть бы спросил!
И спрашиваю.
– Еще сварить?
Не дай бог, скажет «да»!
– Да. Спасибо.
Я не успеваю очередной раз на него разозлиться, так как испуг опережает – да, пугаюсь и теряюсь: после «Да. Спасибо» Вика встает и… не прощаясь уходит. Замок входной двери щелкает, закрывшись за ним. Ушел…
Сижу, как дура на чайнике!
Куда же ты?! Куда же ты?!
***
Почему Вике проигрываю? Потому что вынуждена первой затевать разговор, спрашивать. Он ни разу не задал ни одного вопроса, чтобы представилась возможность хотя бы его проигнорировать. Или перебить, отсечь в беседе: «Ой, хватит, достаточно!». Хилый, но все же выигрыш.
Жизнь – борьба. Жизнь женщины – борьба с унижениями. Просящий – заведомо в униженном состоянии. Просящий, спрашивающий. Заведомо!
Можно, правда, по-разному спрашивать. Например, как садисты в ОПОПе. Тогда наоборот. Но тут дело в том, что задавая вопрос, они знают ответ, то есть владеют ответом, который единственно верный с их точки зрения. Они только проверку ведут. Показывают кошку: кто это? Кошка, говоришь. Пра- авильно! А скажешь: собака? Бровью не поведут, отметочку между собой тебе выставят и дальше спрашивают. Если вопрос звучит экзаменующе, а не удивленно, всегда выигрывает экзаменатор.
В исполкоме вот тоже. На комиссии…
… сначала промурыжили сорок минут в зале с лепниной и позолотой. Оказывается, зала – только подступ в святая святых, где слуги народа решают судьбы народа.
– Товарищи индивидуалы! Не расходитесь и не шумите. Сейчас кооперативщиков освободят, и сразу вы. Не расходитесь и не шумите!
Разойдешься тут, пошумишь! С тобой как с равным власти будут говорить! Но именно «как». Непринужденно, демократично, в духе времени – ан ей, власти, решать: быть тебе или не быть… индивидуалом. Выдать тебе патент или погодить. Нам просить, им спрашивать почему просим.
Зверякина очередную папку открывает, называет меня. Иду будто первый раз на каблуках. К тому времени, что нас запустили в зеркальноковровую святая-святых, уже трех зарубили: двух фотографов и одну «фриволите».
С фотографами в нашем районе вопрос уже решен. С избытком…
– Ваше «фриволите» еще не на должном художественном уровне. Мы же о наших жителях обязаны думать, о покупателях ваших. Вкус воспитывать…
А Зверякина вообще бы всех зарубила – по глазам читается. Дал же бог фамилию секретарю исполкома! Еще на стадии оформления кипы предварительных бумажек она всех и каждого изводила. И все и каждый предвосхищали: вот пробьемся на комиссию исполкома, там заодно вмажем по Зверякиной при всей власти! Вот ей будет-то!.. И я предвосхищала…
Головой-то я эту жуть с ружьем понимаю: сидит на ста сорока и если думает пересесть, то в той же системе. А тут идут и идут нэпманы новоявленные, деньги лопатой собрались грести! Вот она сейчас все бросит и займется вашей лопатой, как же! Не-ет, мы у нее набегаемся, насидимся, настоимся, напсихуемся, напереписываемся… Головой-то Зверякину понимаю, но потому душой не выношу! И предвосхищала.
А пока дожидалась своей очереди, поняла, что Зверякина пусть и винтик, но в машине. И машина дорожит каждым винтиком, а сейчас она, машина, вкупе со Зверякиной будет решать. Про меня… Моя очередь.
Строгокостюмные, сверлящеглазые. Человек двадцать. А во главе – Сам.
Вопрос о квалификации.
Химик с дипломом и со стажем. Семь лет.
Вопрос о месте работы.
Лаборатория полимеров. Внушительно.
Вопрос о сырье.
Неликвиды! Неликвиды! (Ничего с прилавков не исчезнет, если Красилину комиссия соизволит утвердить и дать добро на патент!)
Вопрос о пункте сбыта.
Есть договоренность, уже есть.
На Некрасовском?
Спаси и сохрани, конечно нет! Что же я, не знаю… В вестибюле метро. На «Удельной».
Лоток?
Да, самодельный… (Пока толклись два месяца по коридорам власти, сотоварищи настрого внушали: «Про место сразу надо говорить, что уже есть. Они, исполкомовцы, по закону обязаны сами предоставить, если нет, а у них самих нет. Так что если не сказать, то – зарубят без вариантов!»). Самодельный, но очень хороший! Товарищ по работе сделал, он специалист! (Петюня меньше всего специалист в строительстве лотков, даже меньше, чем химик. Но ДЛЯ МЕНЯ действительно расстарался. Подозреваю, даже не сам, а в кооперативе заказал. Но уверил, что сам. Бедняжка, с его-то зарплатой…).
– Ну-у, Галина… – зырк в бумагу перед собой, – Андреевна! С лотком можно было так и не торопиться. Вдруг мы вас сегодня не утвердим? – и смотрит Сам, гад, отец родной, с той самой, как они обожают говорить, с лукавинкой. – Вы, например, уверены, что ваша продукция будет пользоваться успехом? Не обанкротитесь? А то подумайте еще, и мы подумаем. Мы ведь о каждом жителе нашего района должны думать. Опытные химики району нужны, а вот нужны ли… хм!., «дурилки»… И вообще, что это такое? Виза отдела культуры есть? – не у меня спрашивает, у своих. – Есть. Хм!
Под увесистым «хм!» Варвара качает осуждающе своим «Каре» и что-то такое записывает. Словно не она визу, то есть резолюцию отдела культуры, ставила. И прыскала, охала-ахала, когда я ей «крантик» продемонстрировала, а потом от широты души подарила, чтоб ты подавилась! (Как раз я его, «крантик», освоила, а «шлепа», «цокотуха» и прочие – давно готовы!).
– Так что это такое? Что это? – Сам вопрос задал, но без удивления. Не было удивления. Превосходство экзаменатора было, да.
Все, подумала тогда, зарубили!.. И – была не была!
Мое счастье – я в третьей десятке итдэшников шла. Власти подустали, и потом какой-то важный футбол должен был начаться, сборная – не сборная, не знаю, мне до лампочки. А Самому – нет, по-видимому. И остальным тоже. Там почти сплошные мужики, кроме Варвары и Зверякиной. И чем ближе к семи, тем они чаще на телевизор взгляды кидали – пока не включенный, «Радуга» цветная (хорошо живут слуги народа!). А я так стояла, что спиной его загораживала. И – была не была!
Плюп!
– Как бы вам объяснить… – отчаянно наглею. Все одно пропадать! И вроде в порыве делаю шаг от телевизора к ним, к столу поближе.
– Что это?!!
И поняла: выиграла!
Теперь и удивление было в вопросе, и такое… остолбенение. Не только у Самого, но у всех. Еще бы! Они в телевизор смотрят, а сбоку у «Радуги» (никелированной, хромированной, полированной) торчит… кран! Нормальный водопроводный кран. Медный, с вентилем, допотопный. И капля с носика свисает, дрожит, сейчас сорвется.
– Что это?!!
А еще говорят: женщины барахольщицы! Да мужики сто очков вперед дадут! Дети и дети, дай им только игрушку. Тот же футбол. И вот… «крантик».
Даже Сам встал к телевизору, пальцем «крантик» тронул, отдернул руку, снова тронул.
И тут Варвара не выдержала, зарылась в платочек и хрюкнула тайком.
И Самого взорвало здоровым мужским гоготом.
И остальные повскакали, сгрудились – «дурилку» общупали, «да-а уж!» изрекли, как после хорошего анекдота.
Отличные, в принципе, ребята, с чувством юмора, ура!
И сразу загорелись, дрожь нетерпеливая, ощущаемая: а мне, а мне!
Всего-то игрушка, «дурилка» – пластмассовый водопроводный кран на присоске, как у мыльницы. Куда прилепишь – плюп! – там и торчит, была бы поверхность достаточно гладкая. И от настоящего неотличим (моя забота – химика, формовщика, красильщика – чтобы стал неотличим). И капля из носика висящая – тоже пластмассовая (тут уж я самый-самый молодец – у «фирменного» крантика, который Красилин привез и с которого я свою модель слизала, никакой капли не было, не додумались буржуи).
То-то! Глядите у меня! И чтоб если вопрос, то с удивлением! «Что это?!!». Она и есть, «дурилка»! Нате, радуйтесь!
Радуются! Выиграла. Отличные, в принципе, ребята! Почему-то ребята сразу становятся отличными, если у них выигрываешь. И милость к падшим призывал. Правильно призывал! Таким образом вопрос, будет ли моя продукция пользоваться успехом, отпал сам собой. И вопрос «утвердят, не утвердят» тоже отпал. Словом, все отпали.
А Сам отлепил «крантик» от телевизора и озирается с явным искушением куда-нибудь его пришлепнуть. Дети!
Зверякина от Самого по левую руку мысленно меня расстреляла. А я думаю: ну прицепи, пришлепни ей на лоб! И говорю победно:
– Дарю! Остальным для справки: станция метро «Удельная». Вестибюль! – и процокала на выход.
У дверей всего четверо соискателей мандражируют:
– Ну что там?! Что там?!
А там – хохот, как фонтан прорвало. Я так и представила, что Сам внял моему мысленному посылу и – плюп! – Зверякиной «крантиком» в лоб. Еле удержалась, чтобы не заглянуть. Нет, вряд ли ей. Все же дама. Скорее, кому-то из мужиков. Смешно-о! По себе знаю, перед зеркалом у себя всячески примеряла.
Так что выиграла за счет ошарашивания. Рисковала, но выиграла. Так и надо!.. Только когда эйфория от победы поутихла, вычислила, что промашку дала, когда остальных, кроме Самого, назвала остальными – и у них эйфория пройдет от новизны игрушки, а подкожная обида останется. Вычислила, потом на практике убедилась: ни один из всей их комиссии ко мне на «Удельную», к лотку не появился. Не то чтобы врагов нажила, но влиятельных знакомцев утеряла. А они бы мне пригоди-ились. Ведь Сам помнить помнит, но заниматься проблемами отдельно взятой итэдэшницы не будет – поручит коллективу, а те помнить помнят, но не подарок, а обиду…
***
– Что это?!! – вот и Вику проняло! Самоиронично, с достоинством, но офонарел.
Еще бы! Знай наших!
И сразу стал отличным парнем НА РАВНЫХ. Наконец-то. А то я ему все вопросы, вопросы: ты им дал как следует? куда мы едем? в смысле? на них вообще есть управа? еще сварить? И совсем униженное, хорошо что хоть немое: куда же ты?!. куда же ты?!
А он – никуда. Через какие-то секунды поняла, что он не ушел, а вышел. К машине. Даже поняла зачем – за чем. Я не я, если сейчас не презентует (банку? пачку? горсть?) кофе. Снова сам все просчитал и, оставив меня на минуточку идиоткой, после «Да. Спасибо» вышел, ничего не спросив.
Не-ет, ты у меня спросишь! Ты у меня еще как спросишь!
Пришел. Точно, с пакетиком. Пакетик чуть промасленный. Ого, кофе сейчас будет! Из конфиската, полагаю. Однажды довелось попробовать. У Вики же. Это не наш жмых, даже не финский суррогат (отличный, отличный, но суррогат), даже не бразильская растворючка, за которой почему-то убиваются. Это «мокко»! Чер-р-ный, будто пережженный, но просто цвет у него такой. И промасленность пакетика натуральная, от зерен. Интересно, Вика им запасся или время от времени пополняет закрома, экспроприируя экспроприаторов? Мы ведь с ним лет семь назад «мокко» и пробовали. У него…
Да-да! И такой пунктик у меня тоже есть, не приставайте, отстаньте: кофе. И у Вики тоже. А у кого из нас нет подобного пунктика?! У кого из нас, из тех, кого долго умоляли-приучали силком с витрин: «Тот, кто утром кофе пьет, никогда не устает!», а впоследствии резко отняли. И нечего врать-завирать про неурожаи и валюту. Не верю и никогда не поверю! Ой ладно, только не надо мне ля-ля… вот как раз в этот кофий. И про политику не надо. Надоело! Что за политика, если кофе нет!
И когда Вика появляется с пакетиком «мокко» во всей красе своих превосходящих сил, я готова сдерживать эти силы до полной победы. У меня все готово, у меня готов контрудар. Ты у меня, Мыльников, спросишь! Ты у меня сейчас та-ак спросишь!
Он как должное ставит пакетик с «мокко» на стол и специфически шевелит пальцами: ополоснуть бы. Уже подался было к ванной и… офонарел. Еще и подумать не успел, а оно вот оно! И торчит из боковой стенки беленького «Саратова» препохабный зеленый крантик. Только что ничего не было – он, Вика, сам же только что сидел, спиной опирался, лекцию про бессилие милиции читал и – выросло!
Что выросло, то выросло.
– Что это?!
Сработало! Вика очень вкусно и красиво смеется. Не клокоча горлом, не ге-гекая, не вереща, а, запрокинув голову, чисто и свободно. И заразительно.
– Ну, Лешик! Да уж, Лешик! – снова узорчато гладит меня по щеке староприятельски, где-то даже нежно. И признает себя побежденным – в данном конкретном случае.
И мы пьем «мокко», словно семь лет назад. И он спрашивает, а я отвечаю. Он удивленно восхищается и восхищенно удивляется: ты, Лешик, дае-ошь!
Отвечаю:
– Сама делаю. Очень просто: сижу и делаю…
Видишь, всю кухню в лабораторию превратила…
В свободное от работы время, а когда же еще!..
А у меня теперь, чтоб ты знал, нет другого времени, кроме свободного!..
Давно – не давно. Год назад. Всего-то!
Для меня такое ощущение, что вечность прошла. Я теперь свою лабораторию только в ночных кошмарах вижу…
Естественно ИТД! А ты думал?! ИТД и т.п.
Свободный человек полностью! Я и не знала никогда, что такое бывает!..
Дел под завязку, но свои дела, понимаешь!
И никакой зависимости! Ни от кого!
Я же сказала: ни от кого! Сказала же: свободна полностью! Абсолютно!
Послала куда подальше и никакого сожаления! Честно-честно! Никакого!
Я наверное не как все женщины. Вот поверишь: никто не нужен! ни вот на столечко!
– А у тебя что, Вика?
Он говорит:
– Работаю.
И чувствуется, что он р-р-работает. В охотку и без пресса. Как же можно в милиции работать в охотку?
И без пресса? Никак не могу понять! И никогда не пойму.
– Ты часом не полковник уже? – В их званиях я тупица тупицей. Помню, Вика был капитаном. А при его умении и желании р-р-работать, при его победительности он теперь не иначе как…
– Капитан. В отставке… – произносит он само собой разумеющееся.
– Нич-чего не понимаю!
– Лешакова, в наше время, особенно года три назад, сказать о себе, что ты капитан ОБХСС, все равно что признаться в сокрытой судимости…
Тон у него – тон истины в последней инстанции. Ни самоуничижения, ни самоприподнимания над обстоятельствами. Да, мир так устроен: огурец зеленый, вода мокрая, Земля вращается вокруг Солнца, Мыльников – победитель, звание капитана равно судимости.
А я рассчитывала на него, да-а…
– И что, никаких связей не осталось?
Нет, совсем никаких. Он сам ушел, его даже удерживали, с документами тянули, должность предлагали, уговаривали. Но ушел, успел уйти сам. А вот следом уже посыпались как с груши, обивая бока, а то и расшибаясь вдребезги. Зачем же ему поддерживать связи с теми, кто расшибся? А с теми, кто на их месте возрос – и подавно: новая генерация, она играет в свою игру, по другим правилам. Викина генерация поступала КАК ПРАВИЛО таким образом. Новые поступают КАК ПРАВИЛО иначе. Поддерживать же связи с теми, кто усидел, приняв новую игру, – тем более не имеет смысла. Вернее, имеет прямой смысл НЕ поддерживать: новообращенные всегда святее папы римского, еретиков жгут чаще чем спички.
– Почему все случилось? Жизнь! Обещали в ближайшей перспективе: от каждого по способности, каждому по потребности. А пока, мол, не обессудьте: от каждого по способностям, каждому по труду. Якобы! Но на сегодня, особенно в милиции, лозунг преобразился в: от каждого по способности, каждому по жопе!..
(Так и сказал. Я сделала вид, что не дослышала, мимо пропустила, глазом не моргнула, только зарубку сделала).
– И что теперь?
Теперь Вика – член кооператива. «Главное – здоровье!». Такое название. Свободный человек полностью, ты, Лешик, должна понимать, сама только что говорила.
Что есть здоровье? Хорошая физическая форма. Что есть хорошая физическая форма? Ай-ки-до, кунфу. У Вики – черный пояс. (Не знаю, что он означает, но сильный мастер в их китайском мордобое, поняла).
– Группа – двадцать человек, три раза в неделю. Наши бар-раны еще восемь лет назад федерацию каратэ прикрыли, потому официально преподается у- шу, невинная восточная гимнастика – дошлые люди по телевизору представили, а в принципе метода одна.
– Рэкет (ты, Лешик, интересовалась) нам не грозит, понятное дело. Хотелось бы повстречаться с ребятишками, которые решились бы шантажировать кооператив «Главное – здоровье!». Этим ребятишкам сразу на пальцах бы объяснили, что главное – здоровье, и его следует беречь. Методом от противного объяснили бы.
Но только сказать просто, что объяснили бы. На самом деле ни в коем случае нельзя – расписку давали при аттестации в спорткомитете. И если провокация – нужно не поддаваться, держаться. Конечно, провоцируют! Не без того…
– Тут свои дела, Лешик, для тебя – темный лес, и не нужно тебе знать. Тут не деньги даже, а сфера влияния. Вот было: веду урок на Каменном – подъезжает ГАЗ-24, из него четверо амбалов вылезают. За рулем, смотрю, Мясо. Тебе это ничего не скажет, но я-то его давно и прилично знаю. Он в свое время при Пеке в первой тройке ходил. Хотя Пека – это тебе тоже ничего не скажет. Короче, мои пацаны разгоряченные, им только дай. А Мясо четырех амбалов и отдал: справиться с ними – не вопрос. Вопрос – когда нас прикроют, если мы с ними справимся: тут же, или до завтра погодят? Еще и гарантий нет, что хотя бы один амбал не имеет красной книжечки, которую я имел в свое время. А это сама понимаешь…
– Пацанам своим говорю: стоять! Вышел навстречу один, поднял кирпич (зал на реконструкции, добра этого вокруг хоть пруд пруди), разбил пополам и доходчиво объяснил: людей не калечить – расписку давал, но вот в какую черепаху мы с пацанами сейчас изуродуем замечательный автомобиль «ГАЗ-24» – на то стоит поглядеть, приглашаю.
– Сразу поняли, приглашения не приняли, влезли обратно и уехали. Мясо бровью не повел, правила есть правила, проигравший выбывает. Пока выбыл. Там посмотрим…
– Но это все к слову, что-то я разговорился, извини, Лешик. Хотя тебе, я вижу, интересно.
Опять поймал! Только я созрела состроить снисходительное внимание: распускай хвост, распускай, на то и мужик, пусть и безупречный Мыльников. Но поймал! Искру поймал, которая у меня мелькнула, мысль, можно сказать, очевидную – ту, что я заторопилась скоренько скрыть под снисходительным вниманием. Опередил!
Красилин не умеет распускать хвост. То есть он только и делает, что распускает – а он, хвост, бумажный. Чтобы подурачиться разок – годится, а чтобы изо дня в день – кого угодно дос-та-нет! Опять же оборачивать свое поражение в победу – хорошо однажды, но если превращать в систему – беги-убегай! («О, я такой зануда! Еще в институте, если два преподавателя замечали меня в конце коридора, то моментально расходились в разные стороны. А я еще долго шел ЗА КАЖДЫМ ИЗ НИХ». Да, смешно.
Особенно в пору суицидентной влюбленности. «О, я такой зануда! Шеф спрашивает…», «О, я такой зануда! Стою было за квасом…», «О, я такой зану…»). Мамочки-мамочки-мамочки! Какая же ты зану-у-уда!!! И хвост бумажный давно истрепался, размок, черт-те во что превратился, а ты все веером пытаешься, веером!
У Вики хвост натуральный – не чтобы покрасоваться, а функциональный. Если же кто-то (я!) воспринял на минуточку его в качестве роскошного бесплатного приложения, то тут же шлеп хвостом лениво:
– … Хотя тебе, я вижу, интересно.
Проница-ательный! Еще бы не интересно! Может, в самый раз то, что мне нужно: не капитан милиции, но черный пояс. У-шу! Шу-шу-шу.
Ведь вот же! Так и есть! Сразу поняла – не просто телефонный звонок, ИХ звонок!
Мне давно не звонит никто. Междугородка разве – мать полпенсии угрохает на очередное: «ты не так живешь, надо жить не так, как ты живешь!». Или придурок Красилин из Чухонии с неизбывными сюрпризами «перезвони, а то валюта кончается!». Еще Петюня, но он днем звонит из лаборатории (домашнего телефона нет, а был бы – жена его, лошадища, вусмерть уделала бы его копытами, звякни он при ней). И не день уже, а вечер. И глубокий вечер. Засиде-елись.
Досиде-елись!
– Здравствуйте, Галина Андреевна! Вы ведь здравствуете? Пока! Нет?
– Здравствую!!! – скандально-базарно пру напролом с перепугу. – А вам сейчас не поздоровится! Я сейчас мужа позову! Он вас изуродует, как бог черепаху! У него черный пояс! – И, наплевав на идиотическую ситуацию, в которую я ставлю одноклассника, зажимаю трубке ухо и в голос умоляю:
– Ви-ика! Умоляю! Я тебя просто умоляю!
Ему ничего не остается – возникает из кухни, перенимает у меня трубку, презрительно встряхивает, как градусником, слушает внушительно:
– Слушаю!
Лучше бы ему не слушать. Мне – тем более. Но я слушаю, слушаю (у меня очень громкий телефон, к сожалению).
Мы слышим:
– Ты, ка-аз-зел в клеточку! Подонат вонючий! Будешь приставать к замужней женщине, пестик обломаю! Понял, хлебарь вшивый?! Монтировкой по тыкве и кайки!.. А Галине Андреевне – наилучшие наши пожелания и доброго здоровьица. И мужу ее, Вадим Василичу!
И все. Гудки. Жуть с ружьем!
Вика… что тут говорить! Плеснули помоями из проходящего поезда, попали в лицо, дальше просвистели – а ты на платформе хоть на нет изойди.
Но Вика и тут победитель. Конечно, можно НЕ ЗАМЕТИТЬ, но потом все равно придется отвернуться и вытираться.
А я ему еще и помогаю фальшиво:
– Что тебе сказали? А? Что сказали?
Вика не исходит на нет и возможность НЕ ЗАМЕТИТЬ тоже опускает. Пусть будет. Потому что плеснувший помоями мимо просвистел, зато тот, кто поставил на платформу и посулил «гляди, сейчас интересно бу-удет!» – он вот он. Она. Я. Навсегда проигравшая и сдавшаяся на милость.
– Я боюсь! – причитаю я. – Викушка, прости поганку, но я очень-очень боюсь!
И вываливаю ему свои страхи, всю подноготную без всяких ухищрений и претензий на якобы праздную светскость.
Что подошли на «Удельной» к моему лотку. И что потребовали. И что готова была отдать не только процент, а все! И потому вдруг ляпнула: гуляйте, мальчики! А на следующий день, то есть вечер, они меня нашли в «Неве» и…
– Вика, ты поможешь, а? Можно ведь, наверное, через ваш кооператив… Деньги у меня есть. Я бы оплатила… Но чтобы ИХ не было… Чтобы ОНИ ко мне не приставали никогда больше! А, Вика?
– В ресторане были другие. Не те, что требовали у тебя процент с выручки… – он говорит размеренно и сухо, будто прогноз погоды сообщает по радио.
– Да-да! Я понимаю! Их много! Они и там и тут! Но я могу, я в состоянии, у меня есть… И двух из твоего кооператива… И трех… троих… ну это… н-н… нанять…
Вика смотрит с интересом. С плохим интересом. То есть не с тем, который мне нужен, а таким: экая, мол, забавная штукенция!
– Ресторанная шушера не имеет отношения к… он похлопывает по телефону. – Двести рублей не деньги для… – он снова похлопывает телефон. – У каждого своя поляна. Ты их свела воедино автоматически. Потому, что и те, и те требовали дань. Но у них разные поляны. Уж поверь моему опыту и учти на будущее.
Я верю! Я учитываю! Я не желаю такого будущего! Я готова заплатить за двоих, за троих, даже если сутенеры из «Невы» отпадают и остаются только рэкетиры на моей «Удельной»! Готова хоть сейчас! За двоих, за троих! Вдвое, втрое! Только бы Вика взялся, только бы он переговорил со своими в «Главное – здоровье»!
Они ведь могут, умеют! Что им стоит защитить слабую женщину! Чего бы ни стоило – заплачу! Заплачу, но заплачу! Ты ведь возьмешься, а, Вика?
– А, Вика?
– Нет… – и глядит все с тем же каким-то чуть ли не сожалеющим интересом.
– По… почему-у-у?! – вой волчицы у меня получается. – Почему-у-у?!!
– Куда же ты сунулся, Лешик, куда же ты сунулся… – приговаривает Мыльников и гладит по щеке, гладит, гладит. – Как ты еще год умудрилась продержаться!.. Куда же ты, Лешик, сунулся…
И я уже не спрашиваю «а куда, объясни?». Я чувствую: сунулась! В каждой игре свои правила. Я их нарушила. Почти год продержалась благодаря тому, скорее всего, что просто не знала правил и не соблюдала. Несоблюдение – не есть нарушение. Нарушение – когда знаешь и делаешь вопреки. Сделала! «Гуляйте, мальчики!».
Мальчики погуляют. Ой, погуляют! И телефон мой они уже разузнали, и Красилина по имени-отчеству выяснили (я сама думать забыла, что он Вадим Васильевич!), и адрес мой им известен, теперь уже точно известен, если номер телефона знают. И… придут.
Вика делает движение, и я постыдно вцепляюсь в него и заклинаю бабьи:
– Миленький, не уходи! Викушка, только не уходи, пожалуйста! Останься, родненький!
– Здесь я, здесь. Никуда не ухожу, Лешик… Но!.. Это сильнее меня!
Отлучается. Недалеко и ненадолго. Только журчит.
***
Мы слишком долго были с Мыльниковым в дружески-приятельских отношениях для того, чтобы вдруг угореть. Для того, чтобы нас вдруг кинуло друг к другу. Для того, чтобы внезапно произошло, ПРОИЗОШЛО. Ничего и не… Во всяком случае для меня. Да и для него тоже – вот что обидно! За него обидно. И… за себя.
Не ночь была, а сплошное выматывание нервов! Сначала по инерции поскулила у него под мышкой, поплакалась в жилетку в самом что ни на есть прямом смысле.
А Мыльников все оглаживал и оглаживал: утешающе-дружески, дружески-ласково, ласково-настойчиво, настойчиво-требовательно, требовательно-нетерпеливо:
– Успокойся, Лешик. Все хорошо. Я с тобой. Успокойся, успокойся, успокойся, успокойся…
А я успокоилась! Я спокойна! Спокойна, как ведро воды! Моментально все иллюзии испарились, стоило мне услышать два мягких стука, пустых и легких, упало что-то. Вечный друг, платонический приятель, одноклассник Мыльников (не спугнуть бы) сбросил с себя туфли…
Он у нас умница! Он знает: мир так устроен!
Защиты тебе, Красилина, захотелось? И получай! Ой, кто бы защитил! Кто хотя бы не нападал! Ой, обидно за Мыльникова, очень обидно! Не только не перестала видеть, но и постоянно сомневаться в истолковании увиденного причин не нашла. Спокойствие наступило трезвое и безразличное, лишь только обувь с Мыльникова свалилась.
И я со всей трезвостью и безразличием взвесила всю цепочку, которой Мыльников думал, что приковал. Звенышко за звенышком. Нет, он не думал, конечно, не прикидывал варианты, а поступал должным образом. Он у нас всегда поступает только должным образом!
Звенышко: вытащил меня из безнадежной кретинской ситуации.
Звенышко: жест его узорчатый, раз от разу интимней.
Звенышко: кофе в дом принес, хозяин!
Звенышко: говорил-говорил да и позволил себе относительно крепко выразиться (не матом, не шокирующе, а средне, по-домашнему, свои же люди, БЛИЗКИЕ!).
Звенышко: сама хозяйка предоставила замечательную возможность оскорбиться телефоном.
Звенышко: женщина в истерике, а ему, видите ли, приспичило! Естественно, она не так поймет и взвоет про миленького-родненького, лишь бы не уходил! Вот и не ушел.
И туфли: пум-пум на пол.
Приди, дорогая! Я открываю тебе свои объятия!
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
И не настраивайся на лирический лад…
Бог женщину наказал навечно и со строгой периодичностью – чтоб помнила и знала, каково яблоки без спросу кушать, даже райские.
Бывает, что все к лучшему! Расслабилась бы, размякла, соскучилась, в конце концов! Тогда утром – ничегошеньки из средств для удерживания на расстоянии. Полная подчиненность. Но тут, хочешь не хочешь, товарищ Мыльников, несгибаемый ты наш, – подчинись!
Сказано: нельзя! И подчинись… Ну сказано ведь! Неужели нужно, чтобы еще и продемонстрировано было?!
Что ты там приговаривал? Успокойся, успокойся, успокойся, успокойся!
Как ты там успокаивал? Отдохни от этой мысли. Вот и отдохни. Спят усталые игрушки…
Но нервы пришлось помотать, не пожелаю никому. Глаз не сомкнуть ни мне, ни ему. (Повторюсь: «Мокко» вам не суррогат паршивый!). Жарко и душно в придачу: зима рехнулась и весной себя воображает в конце января. А окна заклеены. И Мыльников печкой пышет.
Беседовать – о чем беседовать? Я ему уже плюнула в лицо – опосредованно, через телефонную трубку, да и теперешнее отлеживание боков не возвышает мужского самолюбия. Мыльников тоже в плевках преуспел, сказавши «нет» про конкретную помощь силами своего «Главное – здоровье!».
Вот и будь здоров!
Нет, я все понимаю. То, что зависит от него, он всегда сделает – вплоть до вынь и положь полтыщи за «Лешика». Но применить на практике свой черный пояс ради того же «Лешика» – зависит не от него. Зависит от спорткомитета, где его расписка хранится. Зависит от кооператива, где Мыльников не председатель, а только тренер (будь он председателем… и подавно сказал бы «нет». Всюду только и ждут повод, чтобы прихлопнуть – и Мясо, и краснокнижники, и конкуренты. А повод – лучше не надо!). Плюс: в одиночку переть против системы – заведомая безнадега. Мыльников и безнадега – две вещи несовместные. Вот я поперла против системы (гуляйте, мальчики!) – и: куда ты сунулся, Лешик, куда ты сунулся!
Все я понимаю, все! Но совершенно не обязана принимать. И не приму!
И промаялись целую ночь: и Мыльников, и я (тоже ведь живой человек). Хочется? Очень хочется? Переможется-перехочется, ишь!
Перемоглось. Шесть часов исполнилось. Сквозь стены радио запиликало, гимн заторжествовал. Гимн надо слушать стоя. Пора вставать. И метро заработало.
Мыльникову метро до лампочки, у него «шестерка» при подъезде. Он на ней мог, кстати, и среди ночи уехать. Но тогда было бы именно некстати, получилось бы: изгнан за ненадобностью и невозможностью. Мыльников такого себе не позволит. И мне не позволит. Победитель вирусный! Лучше в ночи промучиться и промучить.
Но теперь можно – утро, дела…
Безмолвный ледяной душ.
Безмолвный свежий кофе «мокко».
Безмолвное надевание фирменно-вареной «Монтаны». (Ой, каков! Мышца к мышце! Ой, боженька, за что сурово женщину наказал!.. Да-a, человек слаб. Я тоже человек… Цыц, стерва! Блюди верность бывшему мужу! К тому же ничего больше и не остается. В крайнем случае доброхоты проследят за нравственным обликом и оградят: «Будешь ходить к замужней женщине, пестик обломаю! Привет Вадим-Василичу!»).
Сеанс окончен, Мыльников готов проститься – и мне невозможно не встать.
Думала: уйдет и уйдет, ни за что не поднимусь, дверь на «собачке», сама захлопывается. Но Мыльников ждет и остаточно подчиняет.
Покидаю жуть с ружьем, в которую за ночь превратилась постель, халат набрасываю. Прежде всего – в ванную, хотя бы физиономию сбрызнуть! (Ничего, Мыльников, подождешь, если уж заставил встать! Посторонись, дай пройти!). И видок же у меня! Ни в коем случае нельзя тридцатилетнюю женщину по утрам показывать. Никому! Даже себе самой, в зеркале. А Мыльников вынудил показать. Ну я ему сейчас покажу-у! Напоследок. Даже спазм хватает от ненависти! И я хватаю готовый «крантик» из таза (они у меня там всей последней партией сохнут, до кондиции доводятся). Напоследок!
Напоследок он говорит:
– Да, для справки: твой вчерашний абонент – шофер.
– Спасибо, я поняла. Благодарю за помощь.
– Не за что.
Сама знаю, что не за что. Я не Мыльников, я не профессионал, я вчера мимо ушей пропустила фразу «монтировкой по тыкве». А Мыльников профессионал, и мимо его ушей столь пельменных неосторожная фраза не пролетит. Но что мне дает эта ценная информация? Ровным счетом ничего! Шофер, шахтер, лифтер, вахтер! Кто бы от них защитил, а не просто сообщил! Вот и: не за что. Сам понимает.
– Я тебе позвоню. Денька через два, три, – сообщает Мыльников без просительности, а директивно и добавляет ободряюще: – Лешик…
Мол, мы еще вкусим с тобой, сольемся в экстазе. В самый раз будет через пару дней.
Фигушки ему!
– Ты свой пакетик забыл. «Мокко»! – даю ему понять, что ни послезавтра, ни послепослезавтра, никогда вообще. Забирай, и чтоб ни малейшего повода для возвращения не было!
– Считай, подарок. Мой. Тебе, – дает он мне понять, что куда я от него денусь! Мир так устроен: огурец – зеленый, далее по тексту, и в заключение: куда я от него денусь!
Стоит уверенный, непобедимый, неотразимый. Выбритый. Когда успел?! Чтоб у тебя кран во лбу вырос!
– А это мой. Тебе! – отвечаю и с размаху (бац!) ему «крантиком» в лоб. Плюп! – Считай, подарок!
Даже не шелохнулся, не вздрогнул:
– Спасибо, Лешик!
Вот напасть-то! Стоит уверенный, непобедимый, неотразимый… И мой подарочек («крантик» во лбу) ему… идет, не умаляет многочисленных Мыльниковых достоинств, а, напротив, подчеркивает. Вот напасть-то!
– Так я позвоню! – еще директивней додавливает он.
Ой, провалитесь вы все пропадом! Непременно все, и непременно пропадом!
Закрываю за ним и буквально падаю, добредя до тахты. Действие кофе кончилось. Даже если и третий день подряд коту под хвост и ни рубля прибыли – забыться и уснуть. Не видеть, не слышать…
Мыльников свою «шестерку» завел, мотор прогревает.
Лифт вверх-вниз карабкается, гудит.
Трояша по лестнице пролаял на утреннюю прогулку.
Вода в ванной капает, не привернула до конца…
Кап-капкап-кап-капкап-кап…
– С добрым утром, Галина Андреевна! С новым трудовым днем! – будит меня сволочь-вымогатель, шофер-шахтер-лифтер-вахтер. Голос юродствующе- дружелюбный, а самое кошмарное – близкий! Рядышком-рядышком! Будто из будки у подъезда звонит. – Как спалось?
Спалось мне (гляжу на будильник) все рекомендуемые медициной восемь часов, но сон сдуло в миг! Началось! Вернее, продолжается! Забылась, Красилина? И достаточно. Есть кому напомнить.
– Кто рано встает, тому бог подает. Если больше некому, – резвится сволочь. – Я понимаю, Галина Андреевна, у вас была утомительная ночка, но пора и на рабочее место. Понедельник, день тяжелый. Но совместными усилиями справимся. Мы уже заждались, даже забеспокоились, не случилось ли с вами чего? С вами ПОКА ничего не случилось? Тогда пора-пора-а. Труд – почетная обязанность каждого гражданина. Индивидуальный в том числе. Вы помните, где ваше рабочее место? Хорошо помните?
– Что вам от меня надо?! – надрывно кричу.
– Самую малость. Мы ждем…
И я начинаю собираться. Не из покорности, а наоборот. Голос – рядом, и лучше я на свою «Удельную» проскользну, где люди, пассажиры и пункт милицейский, чем в квартире одной сидеть на осадном положении, куда ОНИ запросто нагрянут (да хоть через окно!), а одинешенька ничего я с ними поделать не смогу. Но зато на «Удельной» я такой-ой хай подниму! В полную силу подниму! Никаких иронических «гуляйте, мальчики». Только: «люди! товарищи! помогите! убивают! милиция!». Пусть стыдное безобразие, но при народе, который отреагирует. Это лучше, чем трястись от страха в четырех стенках, ожидая неминуемых сволочей-вымогателей и зная, что отреагировать некому и нечем.
Собралась. «Дурилки» в сумку. Сумку через плечо. Сапоги… «Молнию» менять пора. Что за «молнии» стали делать – задушила бы собственными руками!
Ключи! Где ключи! В сумочке нет! В пальто нет! На полке нет! Нигде нет! Вот каждый раз так! Одна и та же история! Мне бы тот брелок-свиристелку красилинскую, чтоб откликалась на звук! Ну нигде!!! А второй ключ? Тот, что Красилин позавчера растерял в ванной, когда второпях штаны подхватывал… Может, пока его удастся найти?.. Да нет никакого ключа! Ведь наврал по обыкновению, опять с собой увез, а я ползай тут по кафелю.
Озарило! Дура я, дура! В плаще я вчера была, а не в пальто! Волос долог, ум короток. Сама пальтишко с боями вернула, и сама же в его карманах роюсь! В плаще ключ, в плаще!
Да! Он.
Собралась. Умница-разумница! И что дальше?
Предположим, я выйду, а ОНИ – у порога. Ори – не ори, никто не высунется, такой уж у нас подъезд. С тех пор, как хиппари новоявленные его облюбовали – в основном, площадку между первым и вторым этажом…
Скучкуются, кассетник гоняют, балаболят в полный голос, регочут, отношения выясняют, покуривают. Тусовка называется. Ныне перед молодежью пасуют, чего там говорить, боятся. И потому стараются показать, что не боятся: «Они же хиппи! Которые хиппи, те совершенно безобидные! Подъезд не лучшее место для общения, а где им прикажете собираться? А лампочку можно ввинтить новую на лестнице. Неужели мы все разоримся на копеечных лампочках?! Важно, что не матерятся, бутылками не брякают, лужи за собой не оставляют. В наши дни молодежь покруче была – действительно, бандиты. А нынешние – цветы. Добрее к ним просто надо быть, терпимее». Заговаривание, значит, собственных страхов. Если боишься – первое дело зажмурить глаза, уши заткнуть: пугало и сгинет…
Потому ори – не ори, никто не высунется. Учитывая еще, что у детей-цветочков есть манера именно заорать внезапно, будто их режут. Типа: «на по- омощь!». Или: «убива-ают!». А потом покрыть все молодеческим хохотом… Давненько их не было, недели две. Наверно, из-за того, что теплынь на улице, не надо от мороза прятаться. Впервые очень пожалела, что не тусуется никто из них: все-таки, живые организмы, могли бы косвенно воспрепятствовать, если что. Не будут же мои вымогатели при свидетелях мне руки крутить, обратно в квартиру заталкивать, чтобы уж там утюжком прижигать.
Но – никого. Я чутко вслушиваюсь, обостренно. Никого. Да и некому, высунуться, если заору – времени третий час дня, все на службе, на работе. А рэкетиры, если они есть, то они должны бесшумными быть, выжидая меня, выманивая.
Есть они, есть! Сами не скрывают: «Мы вас заждались».
Нет, ни за какие коврижки не пойду через дверь. А идти надо, не то кончится их терпение, и сами пожалуют.
Милицию вызову! Прямо сейчас!
Да? И что скажу? Приезжайте, тут двое (или; трое? или… сколько?) грозятся меня… м-м… побить.
Предположим, милиция даже приедет – а никого не будет. Шофер-шахтер-лифтер-вахтер, они все могут; и не у подъезда стеречь, а на остановке автобусной, тоже совсем рядом. Поди докажи, укажи. На кого? Я ведь их толком не запомнила позавчера в метро, глаза от испуга застило. Прыщавый? Мало ли при нынешнем питании и невской водичке прыщавых? (В ресторане тоже был прыщавый с-сутенер! – а не тот). Татаристый? Который второй? Мало ли у нас тех, кому татаро-монгольское иго наложило на лицо свой горестный отпечаток? (Даже великий борец за мир, генсек-паралитик ту печать носил. Ничего себе примета: рэкетир на Брежнева похож, только молодой и урод). К тому же я до сих пор не знаю, сколько их – двое к лотку подгребли, а к подъезду могут совсем другие. Милиция без вариантов решит: паникерша. И не приедет милиция, скажет: вы где? в квартире? в своей? к вам ломятся? нет? тогда извините!..
Да когда ОНИ ломиться будут, поздно будет!
«Мы вас заждались».
И наелась я по горло нашей родной милицией! И в ОПОПе окаянном, и Мыльниковым.
Не пойду!
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
Не открою! Не пойду… через дверь.
Это мысль! Я просматриваю сквозь сетку-занавеску внутренний двор (меня не видно, мне видно). Окно у нас во двор, дом змейкой – пока обогнуть, я сто раз успею удрать. Дверь-то с фасада, а окно во двор. Если только ОНИ и здесь не стерегут. Я просматриваю, мне видно – не стерегут.
Двор чист, только прутики там и сям нагишом торчат из снега. Ого, снег успел выпасть. Вчера слякоть, сегодня снежок. Ночью выпал и уже подтаивает. Но мне видно – никто не наследил, двор чист. Значит, есть возможность!
Невысоко… н-не очень высоко. И чап-чап сразу до «Удельной». ИМ в голову не взбредет, что вместо нормального автобуса до «Пионерской» и оттуда на метро одну остановку, я на своих двоих поплетусь по коломяжской грязище напрямую до… до своего места работы. ИМ не взбредет, – только мне может такое взбрести. Зато уж там, за лотком, я им устрою, я им навизжусь.
Торопиться надо! Надо торопиться!
Дергаю окно в лоджии, еще дергаю. Наконец оно с оглушающим хлопом распахивается, вся заклейка зимняя насмарку. Держу сумку с «дурилками» на вытянутой руке, отпускаю – падает грузно, наполовину зарываясь в снег. Ой, все-таки высоко! Ой, боюсь!.. Красилина!!! Решай, чего ты больше боишься – высоты или ИХ?! Тут не рассусоливать, тут прыгать надо!
Но перед этим все-таки сменить сапоги на «дутики». Не хватало мне только ногу подвернуть-сломать… «Молния», гадина, будешь ты расстегиваться?! С мясом сейчас выдеру! Не идти же в разных! Высокая блондинка в серебристом «дутике»! Сла-ава богу, расстегнулась!
И меня уже бьет лихорадка спешки, я словно вчерашний Красилин мечусь по комнате (Что бы ему хотя бы на день позже приехать! Или чуточку задержаться, опоздать на свой автобус и вернуться. Какая ни есть, но защита! Муж, хоть бывший! ОНИ же обозвали меня по телефону замужней женщиной…). Мечусь, шиплю, бешусь. Пора. Давно пора!
«Мы вас заждались».
ОНИ могут в любой момент опять позвонить, – всякому терпению приходит конец, – поторопить. Я должна быть уже далеко. Чем дальше, тем лучше!
Ой, как же так прямо прыгать? Падучей звездой, Красилина, падучей звездой! Ну?! Звездой, звездой, зв…
… вонок! Звонок! 3-з-звонок! Телефонный. ИХ терпению пришел конец. Надо выгадать себе хоть минут пятнадцать. И не снять трубку нельзя, тогда следующий звонок – в дверь.
Я снимаю трубку:
– Должна я себя в порядок привести?! Или нет?! Неужели нельзя еще хотя бы пятнадцать минут!!! Через пятнадцать минут я буду!!! Буду!!! На «Удельной»!!! Неужели нельзя еще хотя бы!..
– Галина Андреевна! Галина Андреевна, у вас… Что у вас стряслось?!
Петюня! Только Петюни мне недоставало!
***
– Это я, Петюня это…
– А, ты?.. Ничего не стряслось. Прости, мне надо выскакивать. Я буквально в дверях.
– Но я же слышу, что-то стряслось! Я же по голосу слышу! Что стряслось?!
Еще бы! Голос овцы, идущей на заклание и от смирения огрызающейся, мол, нечего подталкивать, сама иду, взяли, тоже мне, моду подталкивать, я сама… (вот какой у меня голос) «буду!!!! На «Удельной»!!! Неужели нельзя…».
– Нич-чего не стряслось!
ОНИ, может, как раз сейчас мой номер набирают и – занято. Трудно предсказать дальнейшие их действия тогда. Вешать надо! Трубку…
– Нич-чего не стряслось!
– Я сейчас приеду! – жертвенно, благородно всполошился лыцарь.
– Не смей! Меня все равно уже не будет.
– Не смейте!!! – вдруг вопит Петюня. – Галина Андреевна, дождитесь, я сейчас приеду.
С запозданием, но соображаю, откуда у Петюни нежданная буря эмоций в тоне: он, недоумушка, по- своему понял мою последнюю фразу…
Определенно, в моем тоне еще та буря эмоций, соответствующая: «Меня все равно уже не будет!».
Мамочки-мамочки-мамочки!
Неуровновешенная психика, травмированная, неустойчивая. Каких только слов не подбирают! Боже мой, да почему бы нельзя назвать все своими именами: больная!
– Петюня! – собираю в кулак всю холодную наставительность и этим наставительным кулаком по башке ему, по башке: – Петюня, у тебя рабочий день не кончился. Трудись и никуда не рыпайся, понял меня?!
Окатила, чтобы в чувство привести.
Он понял меня. Но рыпается:
– Я все-таки сейчас прие…
Хватит!
Я… меня уже нет. Не «буквально в дверях». А буквально в окне.
Падучей звездой, так падучей звездой!
Со снежным хрустом впиваюсь рядом с сумкой в сугроб, валюсь на больной бок, который при Красилине ушибла. Ой, больно-больно-больно!
Выпрямляюсь, сумку на спину и хромаю через двор.
А окно-то! Окно даже не прикрыла. Розы померзнут!
Возвращаться плохая примета. Бог с ними! Не померзнут. И не влезут. ОНИ.
А влезут – меня, главное, нет. И коробки с фильтрами (с «фильтрами»), главное, тоже нет. Она при мне, в… в надежном месте.
Оборачиваюсь, гляжу на прощание в свое открытое окно, чуть только задвинутое, и…
… из соседнего неплотно задвинутого окна на меня глядит, таращится прибалдевший сосед. Лащевский. Лысик. В исподнем.
***
Крюк сделала, чтобы к Коломягам выйти, чтобы с автобусной остановки не засекли, чтобы не нагнали, пока по глинистому, склизкому, размазанному склону взбираюсь. Еще немножко, ну еще!
Спина, будто на ладони, под идеальным наблюдением. Не оглядываться! Только не оглядываться! Поздно все равно. Ничего не изменить. Пошла и пошла. Иди!
Иду. Иду.
Все! Зону обзора миновала. Вот моя деревня. А мой дом родной скрылся за коломяжскими избушками. Вернее, я за ними, за избушками, скрылась. Она именно здесь проходит, полустертая грань между городом и деревней. Сто метров всего и – другой мир. Теперь вперед и только вперед!
Прямо и только прямо! Или… налево? Или направо? Я же этим маршрутом ходила разик-другой от силы. И конечно только летом: матери детскую железную дорогу показывали по единственному ее приезду и на теннис до спортбазы сходили с Красилиным, когда он решил животик подобрать. (На полчаса его хватило, потом – корт не тот, ракетки не те, мячи облезлые, тренер, поручик Ржевский, на мои ноги пялится!…Гордись, что у твоей жены ноги, на которые пялятся! Нет, «ноги нашей здесь не будет! Ни моей, ни твоей!». Прикинулся, что скаламбурил. Прикинулся, что взъелся: «если тебе так нравится, можешь сюда ходить, но без меня. Дорогу найдешь?». Те ракетки, те! И корт тот, и мячи в меру мохнатые, и тренер навидался всяческих ножек. Просто уже в натуре у Красилина: вместо признания «не могу», деланное «не хочу». Ах, спорт миллионеров! Ах, Борис Беккер, Иван Лендл! Ах, ракеткой – ж-жих-х! Ах, все вовне, а мы внутри во всем белом!.. Это если чисто зрительно. Попробуй сам побегай, попотей! Попробовал… «Не хочу!». Признайся хоть однажды: не могу! Не-а! «Дорогу найдешь?»).
Дорогу найду!
Слева – гомон пьяный, пивная точка там.
Справа – церквушка голубенькая, святого Даниила Салоникийского.
Заступись, Даня! Где же дорожка на «Удельную»? Летом здесь все по-другому – черемуха, густо-зелено и вообще… по-другому. Определенно, у меня топологический кретинизм. Или патологический?
Ну где?! Где-е?! Асфальт еще должен быть…
Заступился, Даня. Вот он, асфальт. И электричка ориентирно простучала вдали. Железнодорожная станция «Удельная». Метро «Удельная». И будет горек мой удел… Топай, Красилина, топай. Километр, не меньше.
Узнаю! Узнаю!.. Котлован будущего кардиоцентра, спортбаза (она! она!), аллея дубовая, лесопарк, пустырь… Правильной дорогой идете, товарищи! Только летом лучше – парочки прогуливаются, физкультурники бегают, народ электрички, с дач возвращается… И… тенисто. Теперь же никого и ничего. В чистом поле под обстрелом.
Иди, Красилина, иди! И не думай. О чем угодно, но об этом не думай: обнаружат, догонят, поймают. Почему ОНИ непременно должны тебя обнаружить, догнать, поймать! ОНИ и знать не должны, что ты тут!
А вдруг? Мало ли, что не должны? Почему-почему? Потому, что у меня виктимность повышенная. Это такое слово. Очередное. Время от времени всплывают в обществе слова, и все кому не лень повторяют их к месту и не к месту, поддерживая в себе ощущение, что не отстают. Спорадический. Рефлексировать. Амбивалентный. Суицид. Виктимность. К месту и не к месту. Потом слова линяют, новые возникают. Модные.
Но в отношении меня виктимность – очень к месту. И к сожалению. Означает, что жертва сама провоцирует среду на то, чтобы стать жертвой. И не поведением, а самим фактом своего существования. Фатум! (О, еще одно слово того же ряда, слинявшее давно… но действительно фатум! Ведь за что мне все?! За какие грехи?!). И ничего не изменить. Поведение менять бессмысленно, это не от этого. А по поводу факта существования – моя решительность столь далеко пока не заходит… Нет, мне нравится это ПОКА! Сбрендила, Красилина? Нет! Мы молоды! Счастливы! Талантливы! Не чета слабакам-мужчинам! Всяким Красилиным, умозрительным теннисистам, всяким Петюням! Вот у кого виктимность так виктимность! У Петюни… Правильно, Красилина, черпай силы в мыслях о слабых, познавай в сравнении, черпай.
«Галина Андреевна, дождитесь, я сейчас приеду!».
Не было у бабы хлопот…
Петюня – хроническая жертва, просто хроническая! Жертва тех же баб из-за своего к ним отношения. И они как чуют. Ладно, похож на Есенина в худшие годы его, Есенина, жизни. Дело не в этом. Это не от этого. Мало ли смазливых мальчишек! (И смазливость Петюни относительна. Длинный и сутулый верблюд. Человек – звучит ГОРБО. Выпрямись ты, плечи расправь!.. Какие там плечи! Все же мужик должен быть мужиком, а не глистой в обмороке!). Не из-за формы он жертва, а из-за содержания. Содержание у него книжное: женщина – святое! Нашел с чем святость олицетворять, с нами!
Подобные Петюни первым делом непременно женятся и непременно на распоследних задрыгах.
Дубинушка стоеросовая! И билет у него тогда пропал, и юга первые в жизни. Тогда, сто лет назад… Уже и посадку объявили на Московском вокзале, уже толпа ринулась. И Петюня ринулся. Но не к вагону, а к ребятам с красными повязками – те волоком волокут соплячку, нагрузившуюся до выщипанных бровей. Верная кандидатка в «синеножки» годикам к тридцати, а пока ей вдвое меньше, но опыт уже солидный и не только по части «нагрузиться». По ней видать, по мату ее, по шмоткам, по всему. Московский вокзал!
И он, недоумушка, ринулся:
– Не смейте трогать девушку!
Чтоб у Петюни такая дырка в голове была, какая она девушка! Ему и сделали дырку в голове – дурь выветрить. Когда с кулачками полез. Сопротивление при выполнении и прочая, и прочая. Ну, дырку – не дырку, а макушку рассадил, приложившись к поребрику.
Потом их обоих – в предвариловку, в приемник- распределитель. Там уже приличный урожай собран: бомжи, фарца, цыгане, соратницы Петюниной соплячки. Ее тут же и вывернуло на цементный пол. А он замолотил в дверь:
– Откройте!!! Девушке стало плохо!!! Немедленно откройте!!! Девушке плохо!!!
Открыли, а он ее пытается на руки взять (кино!), вынести, в чувство привести, спасти:
– Вы что, ослепли?! Ей плохо!
У самого «голова обвязана, кровь на рукаве». Гер- рой! Сам он ослеп.
Посмотрели на него: надо же, такие еще бывают! Под колпаком стеклянным тебя, парень, выращивали? И отпустили.
Упирался: без нее он шагу отсюда не сделает!
Волевым порядком Петюню в дежурную машину усадили и домой отвезли. Без нее, конечно. Жаль, с рук на руки не сдали – некому, родичи у Петюни в отпуске, в Пупышеве, участок обживают, а он парень теперь самостоятельный, школу закончил, ему в августе поступать – пусть бабку в Астрахани проведает: заодно отдохнет, заодно фруктов поест, икры (для мозгов полезно), заодно подготовится – бабка кандидат химических наук, лучшего репетитора не надо.
Ни в какую Астрахань он не поехал, да и поезд давно тю-тю. Три дня выискивал «девушку» на Московском. Нашел. Хоть трезвую на сей раз. Привел за руку:
– С прежней жизнью, – говорит ей, – покончено. Живи у меня. Садись пока, почитай, музыку ■ послушай. А я в универсам сбегаю, поесть куплю. Ты что любишь?
Сбегал.
Ее, естественно, уже нет. И пластинок Петюниных нет, всех битлов. И кроссовок Петюниных, «адидасовских». И на кой ей сорок четвертый размер?.. Ко всему – в ванной, в ванне демонстративная кучка навалена. Горячую воду включил, дубинушка, смыть. Аромат на неделю!
И ведь что? Ведь снова пошел на Московский. Снова ее нашел, был отлупцован ее дружком (дружок в «адидасах», знакомых до боли, именно до боли – именно ими и отлупцован). И… снова пошел на Московский за ней.
Я понимаю, втрескался по уши. Я понимаю: обнявшись и в пропасть. Я понимаю, возраст, восстание плоти, невтерпеж, пришла пора!..
И ведь что? Ведь нет! Ему от нее ничего не надо, он по благородству, он бескорыстно, он от высоких помыслов.
Кончилось тем, что соплячка врубилась и со всем удовольствием записалась с ним, выжила из квартиры Петюниных родителей и продолжала активную, еще более активную деятельность на поприще жадного общения с кем бы то ни было. И чтобы Петюня не подумал чего, бешено имитировала бешеную ревность.
Он сокурсницу привел с химфака чаю попить, конспект сдуть. Пока попивали и сдували, жена в той же ванной, где нагадила годы назад, ныне затеяла вешаться. На шланге от стиральной машины. Он растягивается до бесконечности, последнему дураку видно – театр. Но Петюня дурачок за последней чертой, ему той картины хватило навсегда и всюду мерещится. То-то он ненормально воспринял мое: «Меня все равно уже не будет».
А к нам лаборантом пришел, когда со второго курса отчислили. На экзамене преподавателю нанес пощечину. Тот «шпору» засек у Петюниной сокурсницы, подошел и говорит, мол, поднимите юбку! поднимите-поднимите! очень меня интересует, что у вас там! Петюня безусловно вскочил, изрек свое «как вы смеете! не смейте!» и – не врезал, не стукнул, не ударил даже, а именно нанес пощечину.
Ну, а уж в лаборатории, где наш девичник моментально Петюню унюхал, – отдельная история! Виктимный ты наш!
… Вот и пришла! Видишь, Красилина, ничего с тобой не случилось. Видишь, Красилина, уже поезд. Уже метро. Видишь, твой вестибюль. Видишь, твой лоточек, жертвенно сработанный тем же Петю… НЕ!
НЕ вижу! Не-ту!
Был же! Здесь же стоял… Как это так! Что за жуть с ружьем! Может власть арестовала? Я ничего вроде не упустила! Патент еще только через месяц переполучать! Декларацию о доходах – регулярно, тик в тик! Все по закону! По закону же все! Я не нарушала ничего!..
В исполком! Звонить! И не Зверякиной, а Самому! Я все правила соблюдала, не имеют права! Все правила! Все правила! Все…
… правила. Мысль просачивается, я ее всячески не пускаю, всячески прижимаю, но она просачивается. «Вы помните, где ваше рабочее место? Хорошо помните?» – сказано мне по телефону. Намек непонятен? ИХ-то правила я нарушила…
Да нет, ерунда! Не может быть! Полная ерунда! Не настолько же ОНИ обнаглели, чтобы среди бела дня прилюдно красть недвижимость. Мою недвижимость! Здесь же и пункт милиции, и дежурная у пропускных автоматов. Не может быть. ИХ бы, минимум, спросили: куда? зачем? кем санкционировано?
– Дама! – говорю я. – Здесь лоточек стоял. Такой из текстолита, с крыльями, красивый такой…
– Увезли! – не поворачивает она головы. У нее дела поважнее: следить, чтобы все только с проездными шли, чтобы «заяц» не проскочил.
– Кто-о? На чем увезли?!
– На машине.
– На какой еще машине?!!
– На государственной! – презирает она меня. – На «Совтрансавто»! Гражданка, посторонитесь, вы мешаете проходу пассажиров!
Мыльников: «Да, учти: твой вчерашний абонент – шофер».
– Гражданка, вы отойдете или что?
Я отхожу. В том и в другом смысле. Я начинаю тихо, бестелесно оседать на мраморные плиты. В последний момент меня кто-то подхватывает под мышки со спины и не дает упасть.
Петюня…
Только Петюни мне недоставало!
– Вы муж?
– Муж я, муж!
– Что же вы так! Нельзя же так! Хороший хозяин и собаку не выпустит…
Сижу на скамеечке, привалясь к пронизывающему мрамору. Сквозь плащ пробирает, леденит… Сумка где?! С «дурилками»! Тут, тут…
«Муж» такси ловит. Темно. Час пик. Народ с работы пошел. Плотно, нескончаемо. Никому до меня дела нет. И – слава богу, и – раздражает. Сочувствие посторонних унизительно, оно мимолетно и неискренне: больше для себя, мол, нам милосердие не чуждо, мы готовы помочь, какие мы чуткие! Утвердились и дальше, мимо. Жди-дожидайся от них реальной помощи! «Надо на свежий воздух! Надо таблетку какую-нибудь! Надо нашатырь! Надо холодное на лоб!». Советчики! Страна советов! Надо – сделайте! «Так вот ведь муж, зачем нам вмешиваться?». В одном только поспособствуют – на свежий воздух вывести. Еще бы! Нейтральная территория, не их участок. Они, контролерши и милиция, за порядок отвечают. В пределах станции, вестибюля. Свежий воздух – за пределами. Порядок! Опять можно отвечать: порядок! И никому до меня дела нет. И слава богу!
А раздражает потому, что действительно помощь нужна! Ведь сперли лоток на глазах! «Заячий» пятак – дело государственной важности. Они не пройдут! В смысле, «зайцы». Бдительность, неусыпное око!.. Да-а? Где же мой лоток? Государственная машина и забрала, есть причины, наверное. Вам лучше знать, какие. Развелось вас, жулья, на нашей шее, скупили все – ни постираться, ни сахару… Вот и правильно, что лоток конфисковали.
Не конфисковали! Сперли!
Не зна-аем, не зна-аем…
В нашей замечательной стране можно спереть что угодно. Необходимые условия успеха – не прятаться, не тайком, а с официальным видом деловито уведомить: мы тут у вас сейчас будем спирать… Пожалуйста-пожалуйста! Помощь нужна?
Это МНЕ помощь нужна!.. Хотя ну вас всех! Ничего мне от вас не нужно!
Сижу на скамеечке… Под дулом пулемета в метро не пойду! Ради одной остановки давиться в час пик?! И опять эти рожи видеть?!
Петюня до ночи может такси ловить. «Муж»! Нужен он мне, как мертвому припарки! Примчался, додумался, в нужное место, в нужное время. Правильно, я сама ему сказала: буду на «Удельной», через пятнадцать минут. Не ему, а ИМ, но получилось-то – ему. ОНИ, кстати, не проявились.
«Мы вас заждались».
То есть проявились – лоток-то… Другого эффекта им и не надо – приходите, Галина Андреевна, гляньте. Нравится? На сегодня достаточно. Завтра продолжим.
Лоточек мой, лоточек! С крыльями… Вот и улетучился. «Совтрансавто», шофер. Не будут же они меня действительно утюжком прижигать, деньги выпытывать. Есть средство попроще. Погрузили, повезли. «Вы помните, где ваше рабочее место?». А я-то, психопатка, из окна прыгаю, сугробы примериваю, крюк делаю, по грязище чапаю…
Теперь придется обратно. Петюня меня бросил на произвол судьбы, я его еще должна дожидаться, такси и то поймать не в состоянии, «муж»! Запропастился, юноша бледный со взглядом горящим! Пойду-ка…
– Галина Андреевна! Куда же вы?! Я ведь просил всего пять минуточек посидеть!
Он мне указывать будет, попрекать!
– Домой! Надоело.
– Я же такси… Я же ловил…
– Поймал? Где твое такси?
– Не останавливаются… – виноватый-виноватый. И бестолковый. Верблюд сутулый!
– Тогда зачем вернулся? – если надо на ком-то злость сорвать, лучше Петюни не найти.
– Вы же здесь…
– Я здесь. А тебя дома ЖЕНА ждет. И на работе – Клавдия Оскаровна, тебе с ней завтра объясняться предстоит.
Ой, Клавка Петюню завтра вздует за самовольную отлучку в разгар смены! Учитывая еще и ее ко мне отношение и всему девичнику известное, кому Петюня что ни день названивает.
– Я провожу!
– Не надо. Не трогай сумку, она легкая. Донесу, справлюсь! – и примиряюще, жалеючи недоумушку, но безвариантно почти командую: – Езжай домой. К жене. Спасибо.
– Я про «мужа» сказал, чтобы не приставали лишний раз, – переминается, угрызается, самоуничтожается. Плечи под ушами. Если это можно плечами назвать.
– Поняла-поняла. Спасибо.
Неуверенно двинулся ко входу в метро.
Ну а я двинулась к переезду. Впереди знакомый путь на своих двоих.
Обернулась и слежу: Петюня у самого входа тюльпаны торгует у прибалтов. Те шеренгой выстроились со своими пластмассовыми аквариумами, со свечками внутри (и от холода берегут, и красиво… правда, у меня ассоциации: «на цепях хрустальный гроб»).
Правильно, Петюня! Жену надо цветами баловать, если провинился, если назвался мужем посторонней женщины – Фрейд не дремлет, Петюня! Пусть умозрительно провинился, но для него все едино – слишком всерьез жизнь воспринимает.
А мои-то розочки сгибли наверняка в квартире, никто им свечечки не поставил.
Прощай, Петюня. Достаточно резину тянули. Тюльпанчики для супруги-лошадищи я тебе не забуду. Не канючь больше по телефону – не подойду. И из прежней жалости не подойду. Отжалела! Кто бы меня пожалел…
– Галина Андреевна! Куда же вы! – он догоняет меня за переездом. Растет, мальчишечка! В руке цветочки для благоверной и, не моргнув, взывает ко мне, КО МНЕ!
– Это же вам! Сегодня же двадцать третье. Тридцать лет. Дата…
Ой, дубинушка! Кто же цифру женщине напоминает! Ума бы тебе побольше! Что ни сделает, все не то и не так.
– Мой день рождения был позавчера! – отбриваю.
– Я… я почему-то считал, что двадцать третьего.
– Позавчера. Все надо делать качественно и в срок, Петюня. Качественно, в срок и с меньшими затратами. Езжай к жене. Порадуй букетиком.
Иду, не оглянусь. Петюня неотвязно следом плетется, дистанция в десять шагов. Отвяжись! Не оглянусь! Оглядываюсь, остановившись, – тоже останавливается.
– Я не могу вас одну оставить. Здесь…
Здесь – то есть во тьме, в глуши, в непогоду (снова посыпалось с неба – дрянь полуфабрикатная, не снег, не дождь). И ни единой души на дороге.
Как хочешь! Передергиваю плечом, вольному воля. Вот и движемся, соблюдая дистанцию. Нагнать он меня не решается. Сейчас выберемся из деревенской, из природной зоны – посажу я тебя, дорогуша, на автобус и попробуй пикни.
Лесопарк миновали, спортбазу миновали, котлован кардиоцентра миновали. Уже церквушка. По склону бы свежезапорошенному не проехаться.
Петюня решился меня нагнать, вместе высматриваем – определяем, где меньше риск сверзиться, топчемся. Он меня под руку страхует несмело. Можно, Петюня, можно. Разрешаю. Лишь бы не сверзиться. А там и автобусная остановка.
– Ну ты, ка-аз-зел в клеточку! – слышу позади.
Вся сжимаюсь. А Петюня получает три резких стука – по хребту, по почкам и, когда приседает от боли, медленно поворачиваясь вокруг оси, досыл в лицо, в переносицу. Все в одно мгновение. Оно, мгновение, длится и длится. Я не только успеваю запечатлеть общую картину, но и тороплю чертово мгновение: заканчивайся, заканчивайся же!
Петюня увлекает меня за собой, мы падаем и катимся к такой-то матери, в тартарары, вниз по склону…
– Вы не ушиблись, Галина Андреевна? Экий у вас кавалер неловкий! – слышу голос с неба. – На ногах не стоит. А еще «черный пояс»!
С неба, не с неба – темная полоса, пропаханная нами с Петюней в снегу, упирается наверху в две фигуры, фигурищи! Уже темнотища чисто январская, но я угадываю и прыщавого, и «Брежнева».
– Вам не больно? – юродствует «Брежнев» (он по телефону говорил, он!). – А нам мучительно больно!.. За бесцельно прожитые годы. Вами… К вам спуститься? Подсобить?
И они оба демонстрируют готовность спуститься. Подсобить!
– Люди! Товарищи! Помогите! Убивают! – допускаю я стыдное безобразие, которое планировала на «Удельной». Какое тут планирование! Тут така-ая жуть с ружьем! Сверх плана белугой взревешь!
«Люди-товарищи» в сотне метров всего, на остановке! Восьмой час только, время детское – «людей- товарищей» дюжины две стоит. И никто! Ни один! Только глазеют: чего там? дерутся вроде? Коломяги, свой уклад, свои разборки! не вмешивайся, Борис (Костя, Сема, Шура)! И не вмешиваются.
– Не переживайте вы, Галина Андреевна! – слышу сверху. – Мы не нужны, мы уйдем… Только нервы, нервы берегите! Они вам очень и очень понадобятся. Мы завтра вас найдем, и нервы ваши будут как нельзя кстати.
Я безнадежно смотрю на далекую-близкую остановку. Потом поднимаю глаза наверх, туда где ОНИ.
ИХ уже нет.
Петюня пускает носом розовые пузыри, весь в кровище и в отключке, беззвучен и недвижим. Ой, недвижимость ты моя неподъемная! И тюльпаны вокруг разбросались. Ассоциации – кошмар! Мамочки- мамочки-мамочки! Как там медсестры бойцов с поля вытаскивали?..
«Люди-товарищи», когда я до остановки добредаю с грузом-Петюней, деликатно не замечают, не пристают.
Автобус пришипел, остановка опустела. Куда Петюне теперь автобус! Уж доберемся. До дома. До моего.
***
«Скорую» надо вызывать, ничего другого не остается! Ну не умею я, не знаю, как его в сознание привести.
Холодная вода на Петюню не действует, плескай, не плескай. Перекопошила от безнадеги ящичек с лекарствами – но-шпа, баралгин, аллохол, пектусин, инфекудин, аэрон. Ничегошеньки подходящего! Даже валидола… Зачем ему валидол, дура! У него, может шейный позвонок перебит. И почки. И покрывало у головы намокло, кровь долго не унималась, лицо всмятку. Валидол Петюне, что мертвому припарки. Ой, тьфу-тьфу, типун мне на язык! Ой, мамочки-мамочки- мамочки!..
Дышит? Дышит. Еле-еле.
Петюня, очнись, пожалуйста! Я тебя заклинаю, очнись! Нельзя же меня так изводить – два часа никаких признаков жизни не подавать. И все из-за меня! Я знаю, из-за меня!
ОНИ бы его не били, если бы не я. ОНИ бы его не так били. Ведь он же дохляк, сразу видно. Дали бы по шее или под дых и достаточно, ему было бы достаточно!
Петюня, очнись, очнись, Петюня!
Но это все я, все я! ОНИ его «мужем» посчитали, Мыльниковым, которого я вчера ИМ к телефону подставила. Черный пояс! Как бог черепаху! ОНИ и решили не рисковать (закурить есть?) и сразу покалечить, чтобы он ИХ не покалечил. И Мыльников бы так просто не дался, он бы справился, запросто справился, а Петюня…
Петюня, очнись, очнись, Петюня!
«Скорую» надо, «скорую»!
Рука не поднимается «03» набрать. Наберу, значит, отчаялась и передоверила тем, кто свое дело знает лучше меня. Значит, серьезный случай. Не хочу я, не хочу, чтобы с ним был настолько серьезный случай!
Петюня, очнись, очнись, Петюня!
Кто тебя дергал за язык «мужем» назваться в метро! ОНИ же где-то там были, точно были, где-то там в пределах слышимости и видимости наблюдали. Не назвался бы «мужем», отделался бы парой-тройкой синяков. Сам виноват!
Ой, не ври, Красилина! Себе не ври! Сама виновата – сама вместо Мыльникова Петюню шантажистам предъявила!..
Ну, получилось так, Петюня! Господи! Господи, ты же все можешь! Если можешь, прости!
Петюнечка! Петюнечка!
Холод в квартире – могильный. Выстудило. Розы сникли. Их к жизни уже не вернуть. А он… его надо вернуть!
Ну что, что сделать, чтобы ты в себя пришел?!
Окно!.. Нет, его лучше пока и не закрывать – ему сейчас свежий воздух нужен. Или наоборот – в тепло? Горячий компресс! «Скорую»!
Решайся, дура, – вдруг потом уже поздно будет, вдруг уже поздно! Приедут, скажут: поздно… Вот как раз этого боюсь. И не вызываю. Но надо! Хоть что-то, но надо!.. Что? Сейчас, Петюня, сейчас решусь. Сейчас, только нервы разгулявшиеся успокою парой затяжек и вызову.
На кухне, чтобы дым не в комнате, чтобы ему хуже не стало. Куда еще хуже! Гаси, Красилина, не помогает финская подачка бывшего мужа. Тут не ментоловый «Ньюпорт», тут самосад нужен! Что-нибудь крепко в нос шибающее, по мозгам моим куринным.
В нос. По мозгам. Шибающее. Тупица беспросветная! Стою же и гляжу на банки с реактивами. Рабочими реактивами. Догма недоразвитая! Все, что лекарство, – в ящичке, в комнате. А на кухне – все для работы… Вот же, вот! NH3. В нос! По мозгам! Шибающее! Аммиак. Тот же нашатырный спирт! Если и он не подействует…
… Петюня дергается, как током ударенный, и бьется в кашле, сотрясая тахту. Банка чуть не выпрыгивает у меня из рук. Я ловлю ее мертвой хваткой и ладонью затыкаю горловину.
Химик дипломированный! Гнать таких химиков. Только будучи в невменяемом состоянии можно вот так под нос подсунуть двухлитровую емкость NH3, концентрированный раствор. Токсикат! Если меня аммиак по глазам долбанул, то каково Петюне! Мое счастье, что банку удержала, и даже не выплеснулось. Наше счастье. Лежать бы нам…
Глаза слезятся, фырчим оба, у Петюни снова кровь ринулась. Сейчас, мой хороший, сейчас. Все-все, мой хороший, все-все. Полотенце влажное на лоб, компресс. И на глаза, на глаза – чтобы не воспалились, чтобы отдохнули.
Мамочки-мамочки-мамочки, как хорошо, что ты очнулся. Все, мой маленький, мой замечательный, все. Самое страшное позади.
Он стихает, нащупывает мою руку поверх компресса и замирает. Ему очень-очень плохо и хорошо. Он, может, годами мечтал: геройски раненный, и я у изголовья.
Неси свою ношу, Красилина, сама провинилась и неси теперь. Успеешь разочаровать, а сегодня терпи. Дважды чуть не угробила парня – шантажистами и аммиаком – и терпи теперь. И правда, ведь чуть не угробила! Слава богу, самое страшное позади. Самое страшное позади. Позади, поза…
… ди! И слышу! Все еще впереди… самое страшное… Я слышу, слышу… такая умиротворяющая тишина в комнате, что любой звук на слуху – слышу звук. В дверь кто-то скребется. Вкрадчиво, настороженно. Кто-то есть там, в подъезде, у моей двери! Затаенно сопит, скребется.
Добрались! Решились! ОНИ!!!
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
Петюне передалось, он мою панику кожей ощутил. Внезапно сел, полотенце с глаз спало. Ахнул от резкости. Больно! Вслушался и – полыхнул взором, опять на подвиг готов.
Я сразу поняла, но он вопреки моим утишающим жестам (скорее, благодаря им) еще упорней полез с тахты к двери. Вкрадчиво, настороженно. Сейчас он им… Ух, он им сейча-ас!
Скособоченный, скукоженный, но двигается чутким охотничьим ходом. Карикатура на зверобоя. Из боя в бой. Сейчас он им… Мало ему! Не добили, не поломали? Сейчас ОНИ все недоделки устранят. И за меня примутся!
Стой, дубина стоеросовая! Ты же не собой ради меня рискуешь, но и мной! Стой, замри, отзынь от двери!
Поздно!
Он, как часовой «стой, стреляю!», зычно вспугивает:
– Кто там!!!
Там, за дверью – секундный вакуум. Потом – порыв, вихрь и дверной хлопок – не из подъезда, а в квартиру. Рядом. У Лащевских!
– Гъ-гъ-гъ-гъ… – у меня реакция наступает. Не смех, нет, не слезы, не икота. Все вместе. Истерика.
За стеной у Лащевских кто-то что-то своротил второпях и впотьмах. Грай, крик, бу-бу-бу, хлесь- хлесь.
– Гъ-гъ-гъ-гъ! – задыхаюсь.
«Ты у меня сейчас!.. Я тебя сейчас!.. Я тебе покажу – за почтой! Я тебе на голову это мусорное ведро надену! О ребенке бы подумал!» – дает себе волю мымра.
«Ма-а-амы-а-а!» – ревет спросонок Дашка.
А лысик-Вовик только: «Бу-бу-бу!».
«Я эту давалку с милицией выселю! Кончилось мое терпение! Все, ей больше не жить!» – мымра кричит прямо в стену, чтобы я была в курсе.
Я в курсе…
– Гъ…
По каким же извилинам Лащевский произвивался, чтобы прийти к выводу: можно! Стоит бедной одинокой женщине сигануть в окошко собственной, кстати, квартиры, а соседу в исподнем засечь этот факт, как-то неожиданно у соседа в лысенькой головушке что-то смещается, и он в полночь скребется у порога: пусти, свой!.. Обмылок!
– Гъ-гъ-гъ!
Петюня все слышит сквозь стену, как и я. Петюня видит мою истерику. Он суров, оскорблен, неприступен и…
– Прекрати! Не смей!
… и властен! Петю-у-уня! Ничего себе, вареники! А у него-то что с извилинами?!
Не могу остановиться, не могу прекратить и не сметь. Еще безудержней захожусь.
Он плакатно, обвиняюще тычет пальцем в несчастные, почившие розы:
– Чьи?! Чьи, я ТЕБЯ спрашиваю?!
Бью себя кулаком в грудь, не в силах вытряхнуть гъгътанье; одновременно объясняя: мол, мои, чьи еще! Ну, государственный прокурор, ни дать, ни взять! Карикатура!
Петюня собирает погибший букет в горсть, как за горло, выхватывает из вазы и швыряет об пол: н-на тебе! И то же самое вытворяет со вторым букетом из второй вазы, хвать: н-на тебе!
Потом Петюня делает ко мне шаг и крест-накрест дважды хлещет по щекам.
Истерика запинается. Я сглатываю. Наконец-то вдыхаю долгожданный воздух и на сипящем, свистящем выдохе отвешиваю в ответ сипящую, свистящую затрещину. Ишь, возомнил!
Петюню отшвыривает в кресло. И снова становится тихо. Тихо-тихо. Он телячьи глядит из кресла синими брызгами – Есенин в худшие годы жизни! Если так, то бе-едненький! Не Петюня, а Есенин… как же ему жилось!
Заливается густой краской, жмурится, пряча, впитывая обратно проявившуюся слезу.
– Я ведь только хотел, чтобы кончился…
– Спасибо. Я поняла!
Я поняла, он хотел, чтобы приступ кончился. Но ведь – и не только, и не только! Петюня всю оставшуюся жизнь будет себя убеждать в обратном, истязаться будет, не сумев до конца убедить. Его проблемы! А меня последний раз по щеке били год назад. Последний и первый. Первый и последний. Красилин. И в каких бы разобранных чувствах он ни был тогда, для меня Красилин теперь только БЫЛ. Не – есть. Не – будет. Был. И сплыл. Перечеркнула и забыла, да! Забыла!
– Неужели ТЫ все забыла? – нищенствует Петюня.
Ох, несчастье мое! Что я еще могла забыть?! И о чем таком помнить! О чем, Петюнечка! О чем?! О че…
… м-м-м! Высверкнуло! Как тем аммиаком садануло! Я же с ним единожды таки… И напрочь из памяти вон. Не помню, забыла, хоть распни!
А он-то уже себе обширное одеяло в уме связал! Для него же – святое!
Вот жуть с ружьем!
***
Профкомовские двухдневные путевки, всем коллективом на выходные. По Золотому кольцу, на Валаам, в Прибалтику, в Новгород, Кижи. Наш отечественный профсоюз из элементарного самосохранения изредка делает вид, что проявляет заботу о трудящихся. Чтобы трудящиеся не ликвидировали его за ненадобностью, даже за вредностью.
Мы славно поработали и славно отдохнем. По принципу: возьми из миллиона рубль и ни в чем себе не отказывай. Товарищи, профком решил сделать нам очередной подарок!.. Бойтесь дары приносящих, особенно если дары – за счет одаряемых (из наших же все взносов, из наших!).
Мы славно поработали: тягомотина лабораторная, друг друга никто уже видеть не может, все одно и то же изо дня в день!
И славно отдохнем: та же тягомотина, те же физиономии, путевки только на группу, и все одно и то же. Дурной транспорт, третьеклассная гостиница или даже общежитие свободное на летние каникулы, комплексные обеды «не хочешь – не ешь», гиды с «фефектом фикции». И тоска-а-а!.. Сразу хочется обратно домой. А дома – тоска-а-а!..
Не надо только себя обманывать, голову морочить: мол, зато новые впечатления, новые места! Места все те же – Золотое кольцо, Валаам, Прибалтика, Новгород, Кижи. Из года в год. Других путевок нет, на других предприятиях и таких нет, благодарите и за такие, а то никаких бы не было, совершенно неблагодарный народ наши полимерщики!
Впечатления тоже все те же – хоровые безголосые автобусные распевки (мы веселы! счастливы! талантливы!), шараханья из магазина в магазин (вдруг тут есть то, чего у нас нет… ан везде ничего нет), кучкование мужичков наших, бряцающих бутылками: «К вам можно на вечерний огонек?». И пьяное по утру челомкание, братание: все-таки мы замечательный, дружный коллектив, одна семья!
В семье не без урода… Да, урод я, урод! Подобные стадные мероприятия мне вот где! Лучше я отойду в сторонку и не буду жить в вашей семье, где неизбежно подразумеваются еще и ТЕ САМЫЕ семейные отношения: под утро, когда настолько все породнились, что не грех и… вас проводить до номера.
«Вас проводить до номера?».
Нет уж, лучше я отойду в сторонку!
Но шаг влево, шаг вправо – побег! Коллектив, понимаешь ли, не по ней! Индивидуалистка! Наградили тебя за ударную работу, подарили от щедрот два дня полноценного отдыха тридцатипроцентной стоимости? И срывай цветы удовольствия, попробуй не сорви! Глядите, она их и нюхать брезгует! Клавдия Оскаровна на что начальник лаборатории, но наш парень, демократ, вон разгулялась – а Красилина нос морщит и, гляди-гляди, не пьет! Что вы, разве наша компания ее может устроить! Она же у нас ого-го, а мы все тьфу! Она что, совсем ни капли? Чи дюже больная, чи дюже подлая…
Залились бы вы все своими медовухами, «вана таллинами», «ворошиловками» (мужички сэкономленный лабораторный спирт нарекли: от «ворованное шило»). Не могу я по-свински стаканами глушить! Одно дело – что-нибудь вкусное типа «Мисти» ма-аленькими поцелуйчиками. А стаканами хлобыстать – не могу и не хочу!
Клавдия Оскаровна – ваш парень, демократ? И возлюбите вашу Клавдию Оскаровну! Тем более, что она только того и ждет. Накушается до кондиции и лишь о своей неотразимости все застолье долдонит:
– Она мне в парикмахерской говорит: «А с вас я возьму за две головы!». «Берите!» – говорю, потом думаю, чего вдруг? У меня все-таки одна голова! Не вытерпела, спрашиваю: «Чего вдруг?». «А у вас волосы очень густые! – отвечает. – Шампуня больше уходит и вообще!». Конечно, ей возня лишняя! Ей проще вместо меня двух лысых старушек завить! Всяко не то что мои кудри!
(Кудри у нее! Мочало у нее! Чтобы только расчесать, дюжину гребешков обломаешь. Химзавивка на химзавивке!)
– Ребятки, меня нечто преследует! Стоит мне раздеться у врача, сразу обязательно приходят какие- то маляры, столяры. То вот только разделась, а какой-то именно в этот момент стал табличку снаружи на кабинет прибивать – дверь и открылась. Или у терапевта сижу в неглиже, справка в бассейн нужна, и входят: «Где тут у вас окна на зиму заделывать?». Или неделю назад лежу на ЭКГ вся обвязанная датчиками. Лицом к двери и абсолютно голая, ну абсолютно. И работяга в самый раз появляется, дверь начинает снимать! Иного времени найти не мог. И застыл – бесплатная картинка. А бабка-врачиха спиной к нему, ничего не видит, за ЭКГ следит и мне: «Что вы так разволновались?! Прекратите сейчас же волноваться!». У меня на экране волны, наверное, – девятый вал! Лежу, думаю: пользуешься, паразит, что я в таком состоянии, от моей фигуры взгляд оторвать не можешь?!
(Фигура у нее! Бюст, как уши у спаниеля!)
– Я в одной компании вращалась. А там все время блистать надо было. И вот я изо всех сил блистаю-блистаю, потом гляжу: все уже пьяные и спят. А наутро никто ничего не помнит. И опять блистать приходится!.. Надеюсь, у нас сегодня не такая компания?
Такая, Клавушка, такая! И все твои распаляющие откровения разве на зэка могут подействовать, изголодавшегося за свой срок. На себя-то хоть глянь, лахудра с бездной вкуса! На шпильках и в носочках! Пуссер – «электрик», юбка красная. И не грызи меня глазами: да, я не раскисаю, и мужики ко мне липнут (только я их щелчками, щелчками), и стакана мне не надо для утепления атмосферы.
«Чи дюже больная, чи дюже подлая!».
Ладно, отстаньте, не сверлите! Нате! Довольны?
(Ф-фу, гадость!)
Нет, мне и одного такого стакана более чем достаточно. Крепче спать буду – и то утешение.
Бедный пацанчик вот только… Ему все в новинку. Он впервые с нашей «дружной семьей» выехал, недели не проработал, а профком его уже заодно со всем стадом облагодетельствовал. Виктимный ты наш Петюня. Ничего не остается, как оставить его на растерзание девичнику. От судьбы не уйдешь.
Клавка все равно зря старается – для него она Начальник, существо бесполое, на такой должностной вершине, что признаков пола не разглядеть.
Да уж кроме Клавки найдутся охотницы – и Светка, и Ларисия, и Марьямушка («Ой, девочки, какой он характерный!»).
Только на меня не реагируй, пацанчик. Не реагируй, не надо, не рисуй себе! Пойду-ка я спать от вас от всех, от ваших стаканов с гадостью и прочих гадостей без стаканов. Устала, от стенки к стенке мотает. В семье не без урода. Урод я, урод!
– Вас проводить до номера?
Не приставай к уроду, пацанчик! Вон сколько красавиц в твоем распоряжении – только и ждут. Не рисуй себе!
Нарисовал, лыцарь печального образа:
– Я женат! – гарантия от даже нескромных мыслей. С горчинкой, но, гордо: мол, как вы могли хотя бы заподозрить нехорошее?!
Ой, пацанчик-пацанчик!
И ду-ду-ду полночи, ду-ду-ду! Само благородство, незапятнанность, аристократизм духа. Вычитанный. Садитесь, д'Артаньян, сказал граф де ля Фер, я расскажу вам одну историю… про одного моего друга. Е-е-есть в старом замке черный пруд, там лилии цвету-у-ут!
И ду-ду-ду полночи, ду-ду-ду! И я со слипающимися глазами, как последняя дура, как последний д'Артаньян, вынуждена клевать носом и внимать историю про одного друга, альтер эго Петюни: про давнюю вокзальную историю, про бабушку-астраханку, про его лошадищу, которую ни до, ни после и никогда доныне в глаза не видела, про суицид посредством шланга, про изгнание из университета, про: «она просто несчастный человек, и я не имею права, морального права бросить ее на произвол судьбы», про: «даже если я, предположим, только предположим, встретил человека, который… которая… ну… понимаете?.. – я все равно не смогу ее оставить», про: «как в «Маленьком принце» – мы в ответе за тех, кого приручили, она же действительно повесится, вы понимаете, вы чувствуете? вы не можете не понять, не почувствовать…».
Ой, надоел! Ой, достал! Понимаю! Чувствую! Кто кого из вас приручил?! Да я бы сама повесилась от такого мужа, но не если бы он ушел, а если бы он не ушел! От меня-то ты чего хочешь?!
И ведь ничего! Платоник, Тургенев хренов! Нашел себе Виардо! Не рисуй себе! Я тебе не Виардо, я только одного хочу: чтобы ты наконец иссяк и дал мне хоть пару часиков поспать! Голова раскалывается от твоих изливаний и от стакана с вашей гадостью! Сплю я, сплю!
Ду-ду-Ау. Ду-ду-Ау.»
Ну хорошо! Я сама инициативу проявлю, да! Только уйди!
На!..
Было, не было? Боже мой, я даже не помню, где, куда мы тогда выезжали. Вроде Таллинн. Нет, Новгород! Или Кижи? Точно, Кижи! Иначе бы наша дружная семейка распивала, скажем, «Агнес», если Таллин. Или «медовуху», если Новгород. А мне «Ворошиловки» нацедили, из запасников… Или по Золотому Кольцу мы тогда?..
«Неужели ты все забыла?».
***
Все-таки мы, бабоньки, существа непредсказуемые. Супервирус Мыльников с чем пришел, с тем и ушел. А тут…
Бог с ним, с божьим наказанием. Теперь замывай, не замывай – проще сгрести в узел и выкинуть. Сейчас, только проснется, бедолага.
Надеюсь, прошедшая ночка его наконец отвратит от меня. Сам хотел, сам добивался? Получи! За все перенесенные тобой невзгоды по моей вине. А уж что получил – не моя вина.
Холодно-то как. Морозец, что ли, приударил? Да, минус семь за окном, на термометре. Стоило мне всю зимнюю клейку порвать, и морозец тут как тут. Вот напасть!
Кофе поставить? Петюня, просыпайся! Петушок пропел давно! На работу пора. Просыпайся же!
И не растолкать – боязно коснуться: живого места нет. Лицо-то распухло, ничего себе! Куда же он с таким лицом пойдет, на какую-такую работу? Его и за порог не выпустишь – сразу заметут, чтобы неповадно было. Да просыпайся, ну!
– Ам-м… м-мыам… Сейчас, сейчас! – гундосит. – Еще минуточку, еще самую маленькую секундочку. Самую ма-а-а… ам-мыам-ам… – Спит!
Как хочешь. Не обессудь – кофемолкой приходится жужжать, посудой греметь, радио включать на полную громкость: должна я знать, который час, будильник не завела вчера. Ты у меня проснешься!
– Московское время шесть часов тридцать минут. Международный дневник…
Кофе готов. Вставай же, соня! Никакие посторонние шумы на него не действуют. Петюня! Петюнечка! Пе-е-етя!.. Петр, черт возьми!
– Еще чуть-чуть, ну пожалуйста! Ну масенькая, сейчас-сейчас. Уже встаю, уже встал… Ну, Таньчик… Ну, Татьяшенька… Я уже не сплю.
Он уже не спит. Он после мгновенной гробовой тишины подскакивает (куда там вчерашнему NH3!), осознав, кого и как он назвал, и где, в чьем доме находится. Фрейд не дремлет, Петюня. И ты не спи.
Он уже не спит. Сидит на тахте, глаза раскрыть боится. Так зажмуренными глазами на меня и смотрит. И скорбно-скорбно шепчет.
– Галина!!! Галина!!! Галина!!! Галина…
– … Андреевна, – тепло, даже где-то ласково подсказываю я. – На работу пора, Петюнечечка. Кафе стынет. На кухне… – и отправляюсь на кухню.
Слышу сочные удары, Петюня кулаком молотит подушку и взревывает:
– Почему! Ну почему! По-че-му!!! Почему все так… Все так… почему! По-че-му! За что?! За что мне?!!
А мне за что? Не за что. Ты, Петюня, в ответе за тех, кого приручил – и отвечай: Таньчик, Татьяшенька. А меня еще никому не удавалось приручить. Не бери в голову, отдохни от этой мысли. Я вешаться на шланге от стиральной машины не буду. Во всяком случае из-за тебя, Петюня, точно не буду. Других поводов предостаточно, более весомых. Прощевай, Петюня. Иди к жене. Ах, жаль, тюльпанчики вчера на склоне остались! Могу розочки предложить, они чуть подувяли, но главное не подарок, главное внимание. Вот и подаришь. От нашего стола вашему столу. Таньчику, Татьяшеньке, лошадище. И не задавай вопросов, ответы на которые тебе прекрасно известны. Почему-почему! По кочану!
Слышу – Петюня не унимается, все молотит и взревывает.
Слышу – звонок. В дверь!
Кого черти принесли в полседьмого утра?!
Внутри екает. ОНИ! Только ОНИ с утра пораньше способны названивать в квартиру одинокой беспомощной женщине. С агрессивными намерениями!
«Мы завтра вас найдем, и нервы ваши будут как нельзя кстати!».
Нашли…
На цыпочках докрадываюсь, плотно закрываю дверь в комнату (кавалера моего будто молнией разразило – стих! только его мне именно сейчас не хватало!) и очень сварливо, ну очень сварливо:
– Кто там?
– Милиция.
– Да что вы говорите! Никогда бы не поверила! – провоцирую, чтобы еще голос подали.
– Участковый уполномоченный Грибанов. Разрешите?
– Не разрешаю, конечно!
Голос-то не тот, не «брежневский». Но прыщавый- то, прыщавый ни словечка не проронил вчера. И третьего дня тоже. Знаем мы ваши штучки! Пришло время – проронил.
– Я сейчас в милицию позвоню! Посмотрим тогда, кто из вас милиция. Учтите, замок у меня сложный, сразу не взломать. Ноль два всегда успею набрать.
– Гражданка Красилина, нам уже звонили. Я уже здесь. По заявлению. Откройте, если вам не трудно.
Мне трудно, мне о-ох до чего трудно! Потому что я слышу за дверью еще голос. Голосок. Голосочек. Меццо-сопрано. Не найдется такого кузнеца, который смог бы шантажисту-«Брежневу» за ночь перековать его волчий голос…
– Это он, товарищ сержант! Я слышала его! Это он! Он там, товарищ сержант! Сделайте что-нибудь, товарищ сержант! Вы же милиция!
– Откройте, если не трудно.
Тру-у-удно!!!
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
… Не могу я их винить. Но пусть тогда и они меня не винят. Головы стереотипами набиты, и потому, чуть только вцдимое расходится с заранее воображаемым, – нутро протестует!
«Таньчик-Татьяшенька» – не лошадища, скорее пони – миниатюрненькая, ладненькая, копытца тридцать третьего размера, не больше (у меня и то тридцать четвертый), «маленькое черное платье», ленточка в гриве, челка мохнатая, и глаза тоже от пони: покорные, печальные, все примут. И принимают.
– Можно, я не буду заходить? – у милиционера спрашивает. – Можно, я тут посижу на ступеньке? – Опустилась на голый камень, утешая-приговаривая про себя: – Живой, главное! Главное, живой!
Хоть кусок сахара ей на ладони выноси! Таньчик- Татьяшенька, дубленушка на вздрагивающих плечиках внакидку. Никогда ее не видела, но по Петюниным откровениям сложила стереотип: одно слово, Московский вокзал! Даже облегченно вздохнула, когда открыла, а там рядом с милиционером эдакое воздушное созданьице, не лошадища, не жена, не она.
Не лошадища, да. Но жена. Но она.
Ай, Петюня, ай, фантазер, ай, предатель! Жену предал, меня предал, себя предал – рассказками, из книг вымороченными: е-е-есть в старом замке че-о- орный пруд! Только бы себя де ля Фером чувствовать!
(Порядочным, кстати, засранцем был граф, образец для подражания! Втюрился, сам напросился в мужья – и какое его дело, что у женщины в прошлом было?! В настоящем-то и в будущем (да! да!) она – любящая и преданная жена! Нет, собственное Самолюбие ему дороже! Карать взялся… Да кто ты такой, чтобы карать?! Не можешь себя победить – отваливай, испарись! Ан если не себя, то лучше тогда он ее победит!.. Потом бегают, шпажонками отмахиваются, поражаются: «У-у, злодейка! Чего мы ей такого сделали, чего она нападает?!» Не нападает она! Защищается!).
Атосы вшивые, само благородство! Фантазеры, предатели, Петюни чувственные!
Ты у меня сейчас отчувствуешь свое!
– Вон отсюда! Карета подана, граф!!!
Уже встал, причиндалы свои изыскивает. Глиста в обмороке! Прикрылся ладонями, как перед штрафным ударом. Не будет тебе от меня штрафных ударов, мало тебе вчера навесили! Вот тебе твои портки, за креслом. Нет уж, носки сам ищи! Буду я их еще вынюхивать по углам! Куда вчера закинул, там ищи. Найдешь!
– Гражданочка, я извиняюсь, но…
Никаких «но»! Ишь блюститель порядка! Конная милиция нравов! Тоже стереотип: волевой подбородок, литое матерое тело, всезнание на лбу написано. А тут: вообще без подбородка, такая же глиста в обмороке, но еще моложе, и полное незнание предмета. Всего и милиционер, что в форме. «Новая формация», Мыльников сказал? Неудачная формация! Представления не имеет, что делать, с чего начать, кто виноват. И в квартиру не войти – «пони» на лестнице сидит, нельзя ее так оставлять. И отступать невозможно – я ведь ясно даю понять, что захлопну дверь и открою ее, только чтобы Петюню вышвырнуть, пусть только манатки соберет, и снова захлопну! Не тушуйся, сержант, когда перед тобой в буквальном смысле грязное белье выворачивают! Никаких «извиняюсь», никаких «но»! Я милицию к себе не звала! А когда звала, где ты был, участковый уполномоченный Грибанов?!
Накачала себя так, что вот-вот лопну. И… лопнула. Весь воздух из меня вышел, когда на шум мымра Лащевская выскочила во всеоружии:
– А-а-а, доблядовалась, самогонщица!
Бабья ненависть – убойное оружие. А я все свое распатронила на Петюню, на сержанта-молокососа… и вообще. Воздух из меня вышел.
Не могу я их винить. Но пусть, пусть тогда и они меня не винят! Стереотипы – от них не сбежишь, не скроешься. «Няма», беспросветная «няма»!
– Идите, идите, я покажу! Я понятая! Я эту прошмандовку выведу на чистую воду! Вот, видали?! Вы смотрите, смотрите! Во что кухню превратила!
– Так-так. Агрегат.
– Я химик! Химик я!!!
– Упекут тебя года на три на химию, станешь «химиком»! И мы все от тебя наконец отдохнем!
– Живой главное! Главное, живой!
– Так-так, что у вас в банках? А в баллонах? Так-так, и змеевик…
– Для фенолов это! Для фенолов! Я их перегоняю!
– Знаем мы твои филоны! Весь подъезд провоняла! Не слушайте ее, товарищ сержант! Ф-филоны|
– Так-так, придется на работу сообщить, гражданка Красилина…
– А она безработная! Она – ИТД! Вы что, на знаете их?! Шатия-братия! И мужа бросила! Очень приличный человек с положением! А она каждую ночь хахалей водит!
– Не смейте трогать эту женщину!
– A-а, ещ-ще один! Штаны застегни, сопляк! Женой своей командуй!
– Так-так. Спокойней, гражданин. Разберемся. И с вами разберемся. Вы здесь прописаны? Это ваша жена? А кто? Где? Кто ваша жена?
– Живой, главное! Главное, живой!
– Она вас по всем моргам, по всем больницам ищет. К нам в милицию…
– Вы на нее посмотрите! Этой оторве все равно!
– Не смейте!!! Галина Андреевна, не слушайте старушку! Вы все равно самая лучшая, самая…
– Петюня, заткнись!
– А-ах, старушка?! А-ах ты!
– Товарищи! Товарищи! Спокойней, спокойней!
– Главное, живой! Живой, главное.
– Варя! Варя, чего это? Чего ты? Иди домой, Варя! Дашутка зовет…
– А ты не высовывайся, кобеляка! У-у, про ребенка сразу вспомнил! Вот и цацкайся! Я его вчера крючьями от ее двери оттаскивала, товарищ милиционер! А она – в окно! И серьги из квартиры пропали! Воровка!
– Так-так. Гражданка Красилина, приводы были?
– Какие приводы?! Какие серьги?! Какое окно?! Вы что, спятили все?!
– Вас раньше задерживали? Предупреждаю, мы проверим.
– Да… Товарищ сержант, я все объясню…
– Варя, в ломбарде серьги! Забыла?!
– Без разницы! Не высовывайся, сказала! Товарищ милиционер, обратите внимание! Вот, вот – под окном! От нее вмятина! Она прыгала! Я их застукала! А он-то – больным прикинулся! Я по аптекам мотаюсь, без ног совершенно! А он тут с прошмандовкой!..
– Не смейте трогать этого человека!!!
– Пет-т-тюня! Иди к жене! Товарищ милиционер, я все объясню, я сейчас все…
– Так-так. Ваши следы? Под окнами? Ваши?
– Н-нет! Это не от этого! Товарищ мили…
– А чьи же? Других следов нет, гражданка Красилина. Окно на зиму заклеивали? Жарко стало?
– Да! Мои, мои! Но это не от этого! Товарищь милициион…
Протокол на нее! Протокол! Я понятая! У-у, давалка!
Уйдите все!!! У-у-уйди-и-ите-е-е!!! Все-е-е!!! Разобью! Все-е-е!!! Уйди-ите!!!
И разбила бы! Схватила, взметнула над головой баллон. Наугад схватила. H2SO4 крупно обозначено, серная концентрированная. Не аммиак, но сгодилось бы! Разбила бы, ей богу!
Ушли.
– Я вас вызову в райотдел.
Вызывай, вызывай, но сейчас уйдите! Ушли.
Лащевские в свою щель заползли с тараканьим еле слышным шуршанием; вдруг психопатка на самом деле кислотой плеснет, она такая! Ушли.
Петюня сберегающе, чтоб только мне не повредить, переступил порог, поднимая ноги так, будто не порог перед ним, а барьер. Переступил, уставился на свою Татьяшеньку, дернул головой и мимо нее – на улицу. Ушли.
Пони – за ним вскачь, спорхнув со ступенек. Задержалась только на секунду, смерила меня, изрекла и – ну мужа догонять.
А изрекла она… именно изрекла…
Руки опустились, грохнула бы я баллон без вариантов после ее прощальных слов. Не знаю, каким чудом удержала. И стою, судорожно в стеклянные бока вцепившись. Пошевелиться боюсь, а то грохну.
Изрекла она:
– Будьте здоровы…
***
Женщина женщину всегда поймет. Между нами всякая «няма» исключена.
Никакой Петюня не фантазер, не предатель, не де ля Фер. Ничего он не придумал, когда откровенничал. А то, что «пони» с печально-покорными глазами НЕ МОЖЕТ быть лошадищей с Московского вокзала – обратная сторона того же стереотипного мышления. Еще как может! Кто сказал, что не может?! Может и есть. Женщина женщину всегда поймет.
Не врал Петюня. Хотя бы потому, что сам ни сном ни духом об интенсивности и разнообразии контактов дорогой жены, способной обзвонить морги-больницы и приговаривать «живой, главное! главное, живой!» и вместе с тем… Одно другому не мешает. Даже помогает! «Понял я, что в милиции делала моя с первого взгляда любовь!». Ни фигашеньки не понял! Петюня по-прежнему ни сном, ни духом. Татьяшенька – святое.
Но уж позволь мне самой делать выводы, дубинушка стоеросовая, как женщине, когда рассказываешь о женщине. Мы всегда друг друга поймем. Дадим понять.
Она и дала понять:
– Будьте здоровы…
Но Петюня! Петюня! Если бы она его «наградила», он бы ни за что со мной не… Я для него более чем святое. Виардо недоделанное. Он ведь должен ощущать «награду»! Это нам хоть бы хны, а мужики на третий день корчатся… И если не подозревает, то… что мне остается подозревать?!
Для Московского вокзала «пони» слишком ухожена, не тот контингент. И тряпки на ней излишне импортные, излишне элегантные. (Мужа кинулась искать, а на ней «маленькое черное платье»! И дубленушка еще та, канадская. Валютная! Годы идут, квалификация повышается…).
«Будьте здоровы!»
Петюня ничего не подозревает. Петюня и тогда: в Кижах (или в Новгороде?) ничего не подозревал. А может быть уже тогда?!
Тогда… тогда… Но тогда и Красилин! И…
… нет, Мыльников и тут избежал! Да-а, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Победитель! Вирус окаянный! Вирус на вирус дает плюс.
Но почему, если да, почему ее не изолировали?! Почему она разгуливает и… и… Она же знает! Ведь у нас даже указ был! Сажают за сокрытие! Даже если она анонимно обследовалась, то должна прийти и сказать: так и так! Должна!..
Теперь что же, и я должна?! Не-ет, ни за что! НИ ЗА ЧТО! Вот тебе и ответ, Красилина! Не хоочешь, чтобы тебя изолировали?! Никто не хочет. И «пони» не хочет. И не будет. Знает и молчит.
«Будьте здоровы!».
Знай и молчи. Лучше мести не придумать.
Нет, враки! Не бывает, не должно так быть! Она просто на испуг взяла! Женщина женщину всегда поймет, только не поймет, когда та врет – сама такая.
За чем же дело стало? Ступай, Красилина, проверься анонимно! НИ ЗА ЧТО! А вдруг – да?! НИ ЗА ЧТО!.. То-то и оно. Лучше жить и не знать, чем знать и не жить.
«Будьте здоровы!».
Симптомы? Симптомы! Ломота… Ерунда, это не от этого. Резкое похудание. Нет, нет. Сорок девять килограммов – нормальный вес! Диета, гимнастика, но только не… Обмороки! Вчера в метро… и когда Красилин осьминожку подсунул! Это тоже не от этого. Просто стресс! Не может быть, чтобы это от этого!..
«Будьте здоровы!».
Я драгоценно ставлю на пол балон с H2S04, опустившись на корточки. Потом драгоценно, медленно поднимаюсь с корточек. Слабо тяну на себя дверь, чтобы ее, наконец, закрыть, и, не справившись, всласть, с грохотом впадаю в обморок. В очень глубокий обморок еще оттого, что успеваю осознать: впадаю в обморок! Симптомчик!
А больше ничего не осознаю.
«Будьте здоровы!».
***
NНз!!! Удар-р-р!!! В нос!!!
Отскочить! Отползти!
Дрыгаю ногами – они упираются в мягкое, сминаемое: ни на сантиметр не продвинуться. Запрокидываю голову, бьюсь в бессильном кашле. Только не открывать глаза! И не вдыхать! Тогда – все! NH3! Разбился! Два литра! Все! Но там же H2SO4 маркировано!
– Порядок! – слышу. – Поря-адочек!
Ватка, нашатырь. Белые халаты. Бригада…
A-а, бригада! «Скорая»! Я – дома. Я – на тахте. Баллон не разбился, никто ничего не перепутал с реактивом – просто верное средство: ватка, нашатырь… (Легче тебе было бы, дура, если бы H2SO4 раскокалась?!). Отлегло…
… и тут же взбаламутилось! Вздернутый шприц, бисерная высокая проверочная струйка. Сейчас вонзят!
– Не надо! Не на-а-адо!!!
– Поря-адочек! – вонзили… – Теперь поря-адочек. Нервишки у вас, однако. Взрослый человек, уколов боитесь. Сейчас еще таблеточку… Ну-ка, разожмите зубки! Во-от, не надо капризничать. Это амитриптилин. Сейчас успоко-оитесь.
Не успокоюсь! Что вы наделали! Убийцы в белых халатах! Не боюсь я уколов, теперь сами бойтесь! А я не скажу! НИ ЗА ЧТО! «Сейчас успоко-оитесь». Не успокоюсь! Не успо…
… каиваюсь, ус-по-ка-и-ва-юсь. Туман истомный подступил густой.
Глухо пробивается сквозь него:
– Родные у нее есть? Она одна живет?
– Доктор, что-то серьезное?
– Обычный обморок. Похоже на голодный. Ее накормить некому? И нервная система истощена. Так и до ДМП недалеко!
– Я, понимаете, пса выгуливать, а он – сюда. Лает, разоряется. Дверь приоткрыта. И – она лежит. А там еще вся постель в крови. Я, понимаете, хотел и милицию сразу вызвать, но…
– Не надо милицию. Ничего криминального.
– Но кровь…
– Не надо милицию. Впрочем, дело ваше. Вы с ней хорошо знакомы?
– Нет-нет-нет! Я, понимаете, пса выгуливать, а он… Мне на службу…
Ой, мамочки-мамочки-мамочки! Позор-позорище! Так осрамиться! Век не забуду теперь и при встрече с Трояшкиным хозяином только глаза прятать! Уже прячу, пря-а-ачу, успока-аиваюсь… Хорошая таблетка – амитриптилин! Успока-а-а…
«Простите, мне – на службу. Был доктор. Сказал, прийти в поликлинику завтра. Сказал, ничего серьезного, а мне на службу, простите.
Сосед».
Дундук! Кто же записки карандашом «Косметика» пишет! Единственным моим карандашом! И за то спасибо!
Замечательное настроение! Жуть с ружьем! Хоть хихикай! И хихикаю. Трояшка – друг человека! Сосед – дундук: «кровь! милицию вызвать!». Не слишком ли много милиции на душу населения?! На мою душу грешную! Много крови, много песен! Врачи – дундуки: «ну подумаешь, укол! укололся и пошел!». Направление в поликлинику рядом с запиской соседской. Небось инсулин вкатят, глюкозу. Все теми же допотопными многоразовыми шприцами. Эх раз! Еще раз! Еще много, много раз! Хихикаю…
А, живем однова!..
Кто же меня заложил с Петюней вместе?! Кто навел, кто знать мог?! Неужто «Брежнев» с прыщавым?!
«И нервы ваши будут как нельзя кстати!».
Вряд ли они, вряд ли. Хихикаю. Если ОНИ Петюню с Мыльниковым спутали, то знать о его дражайшей супруге-пони все вплоть до адреса и домашнего телефона – вряд ли, вряд ли. Не сама же она ИМ позвонила: «Случайно не попадался вам мой муж? Не знаете, где он может быть?». Хихикаю. Точно! Сама позвонила, сама! Но не ИМ. А – ей! Знаю, кому!
Хорошая таблетка – амитриптилин! Надо бы раздобыть на будущее. Через врача знакомого! Только где бы его найти – врача знакомого?! Зря Красилин веселился-забавлялся «образчиком женской логики»! (Представляете, она к дантисту пришла, села, а тот посмотрел и говорит: «У вас же все зубы в идеальном состоянии!». А она: «Я знаю». А он: «Что же вы ко мне пришли?». А она: «А я слышала, вы хороший врач!»). По-моему, логичная логика! Заранее надо готовиться. Каждая женщина должна иметь личного парикмахера, дантиста, гинеколога и косметолога. Чтобы когда началось, было бы к кому. Дантист пока – тьфу-тьфу! – в запасе, но амитриптилин – не его профиль. Непременно надо найти такого, чтобы с амитриптилином. Хорошая таблетка!
Не будь ее, я, пожалуй, сорвалась бы и наговорила боевой подруге Клавдии Оскаровне всего того, чего она только и дожидалась.
Не дождется!.. Хихикаю. Вечер. Уже вечер. Какой у нее домашний? Ага!
– Клавдию Оскаровну, будьте любезны!
– А кто ее спрашивает?
– Приятельница. Давняя приятельница.
– Минуту. Кла! Ну, Кла-а-а!.. Тебя!
– Сейчас! – отдаленно. – Я только выключу, а то у меня бигуди убегут!
– Клавушка, приветик!
– А кто это?
Будет тебе, будет! Мудрено меня не узнать. Тон, согласна, для тебя, лахудра, неожиданный, но голос не узнать бы не могла! Ждала ведь, предвкушала после вчерашнего – наведя Петюнину благоверную на след давней приятельницы!
(«С работы не пришел? До сих пор? Нет, я его не отпускала, но он даже пораньше сегодня ушел… Что вы, какие могут быть извинения! Да, я уже легла, но дело серьезное… Я вас понимаю, я очень хорошо понимаю… Нет, не представляю даже куда… Он по телефону с кем-то беседовал и ка-ак вскочит! Мне показалось, с дамой. Не с вами, нет?.. Я решила, что с вами. ОН ТАК беседовал, что я решила: с вами… Нет, даже предположить не могу. Вы уже обращались куда-нибудь?.. Нигде, ничего? Знаете, попробуйте записать адрес. Телефона я не знаю, не помню, но адрес есть… Что вы! Не за что!.. Непременно сообщите, если что-нибудь выяснится. Все-таки наш сотрудник…»).
Телефона она не помнит! Все она помнит! И адрес продиктует то-то будет весело, то-то хорошо! За все, про все Красилиной, которая ее в грош не ставит!
«А кто это?».
Ждала ведь, предвкушала.
Не дождешься! Выкуси!
Я это, я! И жизнерадостнейшим тоном сообщаю: у меня «чэпэ»! (навострилась? прицелилась? лах-худра!). Мне позарез нужна вот такая связка-цепочка. Или приблизительный аналог. И наговариваю ей осьминожкинский полимер. Нет ли у нас в лаборатории?.. Ой, правда?! Клавушка, ты меня спасаешь! Понимаю, «не совсем то», но ты-то понимаешь, для нашей с тобой квалификации – пара пустяков! Сама выправлю. Главное, что не пластизоль. Петюне передашь завтра, ладно? Он ко мне занесет… А что с ним такое? Нет, не знаю, не слышала. А что такое?.. Ну ничего, так ничего. Значит, передашь. Ой, Клавушка, ты просто моя спасительница! СПА-СИ-ТЕЛЬ-НИ-ЦА!.. Что – жизнь? Жизнь прекрасна, Клавушка!.. Не-ет, конечно! Естественно, я по всем скучаю, но менять свободу обратно на нашу вонючую теснотищу и в мыслях нет! И не зови, не вернусь! Мне простор нужен, пра-а-астор и свободное парение! Я же индивидуа-а-ал! Ист! Дас ист индивидуалист!.. Ой, прости, мой полковник бибикает, нам еще через весь город до восьми в консульство успеть на прием. Вечер китайской кухни! Осьминожки! В собственном соку!..
Ну наворотила! А пусть! Так и надо. Ни в жизни бы Клавка полимер не отдала, если бы не предвкушала: это только присказка, сказка впереди. Отзывчивая и щедрая подруга дней моих суровых: на, возьми-подавись полимером, только заканчивай присказку, сказку начинай… Так на тебе, лахудра, сказку – возьми-подавись! Подавится. От зависти. Даже если не поверит ни слову. Хихикаю.
Уже не хихикаю. Эйфория таблеточная кончилась. Спад не наступил, но подъем кончился. Слабость. «Голодный обморок». Жуть с ружьем! Я ведь четвертые сутки крошки во рту не держала, только кофе глушила. То-то гадаю, чего мне так плохо, откуда обмороки и похудание. Симптомчики! Блефанула пони. Наверняка блефанула. Или… нет. Ой, лучше об этом сейчас не думать, ой, лучше не думать, чтобы нервы не трепать. Если есть, то все равно ничего не изменить.
Да-а, чтобы нервы не трепать, вообще надо перестать думать о том, что есть. И ничего не изменить, вот ведь как все разом навалилось! Четвертые сутки не ем, четвертые сутки не сплю. То есть сплю, но по-идиотски. День с ночью перепутала. Сколько я под уколом с таблеткой продрыхла? Больше двенадцати часов! Опять мне ночь коротать, бездействовать?! Натощак! Универсам до восьми, а уже без десяти. Не успеть, и нет там ничего. И не попрусь я в такую погоду. Опять все развезло, увязнуть по уши можно!
«Гидрометцентр сообщает, что похолодание, которого ленинградцы так долго ждали, вновь не оправдывает надежд. Лишь на два дня температура опустилась ниже нулевой отметки. Но уже сегодня к вечеру теплый воздух с Атлантики оттеснит холод к востоку. Потепление будет сопровождаться небольшими осадками, возможен слабый гололед, ветер юго-западный, западный, пять-десять метров в секунду».
Никто не оправдывает надежд! Даже похолодание! Никто и ничто!… Отдохни от этой мысли, Красилина. И вообще отдохни. Мисс миллионерша! По кабакам категории люкс взяла моду шляться, а дома даже холодильник отключен, всего и продуктов – пяток яиц с незапамятных времен. Протухли давно, наверное. Китайская кухня, китайская кухня: счищаешь скорлупу, а оттуда на тебя глаз смотрит. И плачет! Бр-р-р!.. Масла все равно ни грамма…
О, мука ведь оставалась! И сгущенка еще с красилинской шабашки в лоджии валяется. Я же сметанник могу испечь! Он же без всякого масла готовится! Если хоть одно-два яйца не испортились, то запросто! Яйца, стакан муки, банка сгущенки и… сметана, черт побери! Где ты сметану возьмешь, Красилина, дурья башка! Сметанник – без сметаны. Не уподобляйся боевой подруге Клавдии Оскаровне («Девочки! Я во Фрунзенском такую шерсть видела, такую шерсть!
Шестьдесят процентов хабэ, сорок процентов акрила! Нечего хмыкать, Красилина! Всего рубль стоит»).
Что же теперь – с голоду подохнуть?
«Ее накормить некому?».
А вот представьте себе, некому! Готовить должен мужчина, не женское это дело. Я из любого мономера любой полимер сварю, а еду пусть варит мужик. Пусть добычу в дом приносит и варит… Где только его взять, мужика настоящего?
И ладно! Не трави себе душу Красилина. Доктор Хайдер терпел и нам велел. Утречком сходишь за сметаной, а пока сиди и вари из мономера полимер – блюдо китайской кухни, осьминожку. Обсказали тебе приблизительный аналог – и вари. Даром ли дипломированный химик! Не рассчитывать же на то, что Клавка настолько сбрендит и действительно завтра Петюню с образцами ко мне подошлет. Совсем без мозгов надо быть!
Работай, Красилина! Кто не работает, тот не ест. И не думай ни о чем, только о работе. Работа, работа, работа. Пора «крантики» разнообразить осьминожками. Отдых есть перемена деятельности… Сейчас мы ее пероксидом водорода проинициируем, поглядим. Н2О2…
Не думай о том, где ты будешь реализовывать «дурилки». (С-сволочи! ОНИ!).
Не думай о последней партии «крантиков» в сумке, не заглядывай туда, каша там из обломков, когда по склону вместе с сумкой кубарем летела. (С-сволочи! ОНИ!).
Не думай о новых неизбежных взятках государственной мафии. И что СЭСу с пеной у рта доказывать предстоит: не вредно, не токсично, не из пластизоля, а красители не кадмиевые! (С-сволочи! ОНИ!). Не думай о грядущем процентном отчислении мафии подпольной. (С-сволочи! ОНИ!).
Не думай о том, куда ты сунулся, Лешик, куда ты сунулся! Затрахали окончательно! Пусть бы хоть без последствий, а то ведь один морды учит бить под девизом «Главное – здоровье!», другая напрямую желает. «Будьте здоровы!» (С-сволочи! ВСЕ!).
Работай, не отвлекайся!
Не отвлекайся, Красилина, не тебе звонят, квартирой ошиблись. Оттрезвонят и уйдут, не отвлекайся. Уже ушли, уже не звонят. Нет, не унимаются!
О-ой, шугану сейчас! Ой, как шугану, кто бы ни был!
– Кто?!
– Милиция. Вызывали?
А как же! Только ее и вызывала! Денно и нощно!
«Отк'ивай, отк'ивай!..». Шейчаш вы вще у меня ужнаете!!!
Уже повернув замок, уже дернув ручку… (Мысль бросилась вдогонку. Поздно! Слишком большой отрыв!) узнала, осознала: ОНИ!
***
Старо как мир, а действует. Может быть, именно потому, что старо как мир. Один – хамло непросыхающее, тупица агрессивная. Второй – вежливо угрожающий, с потугами на интеллект и (конечно, ну конечно же!) тайный союзник жертвы, сокрушающийся: ничего не поделаешь, обстоятельства сложились определенным образом, но мы-то с вами понимаем…
– Но мы-то с вами понимаем, Галина Андреевна, не так ли? – «Брежнев» даже учтив и не издевательски, а искренне. Во всяком случае изображает искренность отменно. – Я ведь не изображаю перед вами что-то такое. Я действительно искренен. Не обмануть же я вас хочу. Наши условия вы знаете, все честь по чести. Мы вас уважаем и понимаем, но и вы должны нас понять и уважить. Не так ли?
– Где мой лоток?!
– Где-где! – встревает прыщавый мордоворот. – Там же, где гаечный ключ семнадцать-на-девятнадцать! – Он выбивает беломорину из пачки и калечит бумажную гильзу мощными пальцами с трауром под ногтями. Такой лапищей кому угодно шею свернуть проще, чем папироску размять.
– Я, кажется, сказала: у меня в комнате не курят! – отстаиваю независимость, прикончив сигаретку в пепельнице и выщипывая следующую из пачки «Ньюпорта» (Да, только так! Кто в доме хозяин, я?
Я и устанавливаю свои порядки! Хочу – курю, а больше никому не позволю! Пустили вас в приличный дом, ведите себя соответственно или… Что, собственно, «или»? Классический способ сохранения хоть крупицы, но самолюбия: уже и приговор прочтут, и к водоему подведут, и камень на шею привяжут, и говорят: «Вот носки тоже надо будет снять». «А вот это уж, извините, ни за что!» – упираешься. «Как знаете». Бултых! В носочках ты, без них…).
И тем не менее!
– Я, кажется, сказала! Еще повторить?!
– Да пошла ты! – хозяйствует в моем доме прыщавый.
– Синюха! – подчиняет «Брежнев». – Тебе ДАМА, кажется, сказала?! Положи курево!
– Да пошел ты! – подчиненно огрызается мордоворот.
– Значит так! – демонстрирует командирскую жесткость «Брежнев». – Одно из пяти: или ты прислушиваешься к ДАМЕ, или четыре раза по морде.
– Да пошли вы! – сдается Синюха, втискивая беломорину обратно в пачку.
– На кухне у вас можно, Галина Андреевна?
– Пусть только форточку предварительно откроет. И пальцем ни до чего не касается! – горю я как швед под Полтавой, имитируя подписание пусть капитуляции, но отнюдь не безоговорочной, а на вполне почетных условиях. Заодно пусть ОНИ не думают, что в кухне у меня что-то есть. В коробке с фильтрами. Да и нет там ничего. А что было, то… в надежном месте. И не в книгах, не в белье.
– Синюха! Слышал? – направляет «Брежнев» прыщавого на кухню. – Разумный компромисс… Видите, Галина Андреевна, во всем возможен разумный компромисс. Не так ли?
Старо как мир, а действует. Из двух зол надо выбирать меньшее. Но помнить, не забываться, что меньшее – оно тоже зло, даже если убеждает, что желает тебе только добра. Я помню, я не забываюсь, но куда деваться, деваться-то куда!
Где была моя голова, когда я их впустила в квартиру?! Где-где! Там же, где вот тот самый… гаечный ключ. Психологически объяснимо и оправдано. Еще Мыльников семь лет назад зазывал в свое «дворянское гнездо» и прокручивал кошмарики по «видику» (По-моему, Мыльников был в Питере самым первым владельцем «видика». Нет, вторым! Первым был тот, у кого его изъяли, превратив в конфискат). Так вот, всяческие «Челюсти», «Кинг-Конги», а потом и «Ужасы на улице Вязов» – они до визга страшили, до немоты… Но! Только пока страшилища оставались за кадром, пока только атмосфера сгущалась и нагнеталась. А стоило акуле, горилле, когтистому Фредди объявиться и… ф-фуф! Даже некое облегчение наступало. Тоже кошмарик, но куда более терпимый. При том, что акула по-прежнему жрет пловцов, горилла рушит небоскребы, Фредди сечет в капусту все, что под его когтистую руку попадает.
Потому и впустила. Атмосферка моими страшилищами, моей парочкой сгущалась и нагнеталась по всем правилам. И когда открыла и прыщавый с порога запел «Бо-о-ояре, а мы к вам пришли! Дорогие, а мы к вам пришли!», а «Брежнев» тут же заткнул напарника «Синюха! Одно из пяти!..» и предупредительно осведомился: «Галина Андреевна?..» (мол, впустите?), – впустила. С чувством глубокого удовлетворения, облегчения, чуть ли не с возгласом: «Сколько вас можно дожидаться?!».
Дождалась! Акула по-прежнему жрет, горилла рушит, Фредди сечет в капусту. А ОНИ, перестав быть абстрактно-ужасными ИМИ, сидят и чин-чином оговаривают условия почетной сдачи. Не впусти я их, кошмарики продолжались бы и продолжались. А теперь – хоть кончится все это. Чем кончится, чем?! Сама знаешь, Красилина: внутренне уже вызрела.
– Видите, Галина Андреевна, во всем возможен разумный компромисс… Ох, если бы вы знали, как я от него устаю! – кивнул в сторону кухни. – А лоток ваш никуда не денется. Мы, как вы понимаете, сами заинтересованы в том, чтобы вам его вернуть. У вас снова будет возможность реализовывать свой товар. А у нас…
– … отстригать у меня десять процентов? – упрямлюсь саркастически.
– Пятнадцать, – миролюбиво уточняет «Брежнев».
– Па-а-ачему это пятнадцать? С какой-такой стати?! – чуть язык не прикусила от ненависти к себе: ишь возмутилась! А на десять процентов выходит, согласна? А, Красилина?
– Большие накладные расходы с вами, Галина Андреевна. Сами посчитайте. Сбор данных – информация нынче недешево стоит. Погрузка, перевозка, доставка… теперь еще обратная погрузка, перевозка, доставка. Оперативные действия… Наконец престиж: слухи, сами знаете, разносятся молниеносно. Сегодня вы заупрямились, а мы вам даже процент в назидание не повысили, – завтра кто-нибудь другой заартачится, решив, что мало чем рискует, в крайнем случае те же десять процентов, а то и вовсе отстанут. Не отстанем, Галина Андреевна, не отстанем. Просто из чувства самосохранения обязаны все учитывать и контролировать. Все мы живем в социалистическом обществе. Социализм – не только строй цивилизованных кооператоров. Социализм – еще и учет и контроль. Помните?
– Вы же грабители! – не возмущенно, а констатирующе говорю я, оттягивая неминуемое.
– Грабь награбленное… Не мы изобрели, а все то же общество. Не нам менять… – разводит он руками сокрушенно и тоже констатирующе. – Сколько с вас государство содрало за патент? А налог с оборота какой? А СЭСу вы сколько в лапу дали? А вы знаете, что постановление готовится по кооперативам, по индивидуалам, вообще по новому налогообложению? Кто же больший грабитель? Нельзя жить в государстве и быть свободным от него, кажется, так. Помните?
На редкость политически подкованный шофер! Вождей шпарит с листа!
– Мы ведь, Галина Андреевна, с вами еще по-божески. Годик предоставили, чтобы вы могли основательно на ноги встать, стабилизироваться, оценить свои возможности. Мы-то их давно оценили. Что такое в конце концов для вас пятнадцать процентов? Пустяк, не пустяк, но вполне приемлемая цифра.
– Отъемлемая… – еще и шучу, оттягивая неминуемое.
– Как угодно… – покладист, дальше некуда.
– И если я скажу «нет?» – дразню себе нервы, оттягивая неминуемое.
– Тогда, Галина Андреевна, остается одно…
– Из пяти! – оскорбляюще подхватываю. – Или я соглашаюсь, или четыре раза по морде, да?
– Зачем вы так, Галина Андреевна? – обижается он за фирму. – Вы не могли не заметить, что в отношении вас никаких насильственных мер мы не не предпринимали. И не предпримем. У нас есть масса других рычагов, вы могли бы заметить.
– Заметила, заметила! Человека чуть не убили! – обвиняю, оттягивая неминуемое.
– Ваша вина, Галина Андреевна, только ваша вина. Во-первых, мы предупредили, что приставать к замужней женщине недостойно настоящего джентльмена. Думаю, Вадим-Василич нам был бы только благодарен, узнай он об э-э… эксцессе.
– Не надо меня Вадим-Василичем шантажировать! – злорадствую. – Гоните в шею ваших информаторов, они вам устаревшие сведения поставляют. Я уже год в разводе, и мне наплевать с высокой горки на Вадим-Василича и его эмоции.
– Знаем-знаем, Галина Андреевна! А также знаем, что ему, напротив, не наплевать. Отнюдь не наплевать. Он вас по-прежнему нежно лю…
– Вон отсюда!!!
– … бит. Зачем же вы так, Галина Андреевна? Судя по вашему настроению, все неоднозначно в нашем запутанном мире. Успокоились? Тогда я продолжу свою мысль, которая вам почему-то кажется знакомой…
– Кого? – суется из кухни в комнату на звук прыщавый с невпопадным вопросом.
– Вон отсюда!!! – отвожу я душу на мордовороте. – Марш на кухню!
– Да пошла ты! – огрызается он.
– Синюха! Одно из пяти… – напоминает «Брежнев», подавшись из кресла.
– Кого! Ка-а-ав-во?! – будоражится прыщавый, но усовывается назад.
– Вы всегда в паре работаете? – перевожу я тему.
– Ох, если бы вы знали, как я от него устаю! – обреченно жалуется «Брежнев». – Но ничего другого не остается. Иногда он незаменим.
– Например, человека покалечить, чуть не убить, да? Нанимать чужого, наверное, дорого? Ну, для этих, как вы сказали? Оперативных действий.
– Не-ет, не в том дело. Между прочим, не так дорого, как может показаться. Ну, сколько… Человеческая жизнь – от пятисот до тысячи. Рублей. Ваш нынешний месячный заработок в самый неудачный период. Вот и считайте.
– Угроза? – надменно бравирую, оттягивая неминуемое.
– Галина Андреевна, что вы в самом-то деле! – устало отмахивает он. – Мы же с вами интеллигентные люди.
– Особенно ваш… м-м… коллега.
– Вы жестоки к людям, Галина Андреевна! (Мне это нравится! Я – жестока! Я!) – Надо принимать их такими, какие они есть. За каждым – судьба. Между прочим, бывший сокурсник. Подавал немалые надежды. И чемпион Союза. Спорт и не таких губил. Банальнейшая история! А я, видите, подобрал. Не пропадать же ему совсем. Да, не сахар. Но существует, даже мыслит. По-своему. Он – тоже объективная реальность, данная нам пусть в неприятных, но ощущениях. Милосердней надо быть к людям, Галина Андреевна, милосердней.
– Вчера вечером вы наглядно показали, что у вас слова с делом не расходятся.
– Ваша вина, Галина Андреевна! Опять только ваша вина. Зачем было про «черный пояс» придумывать? Угроза? – передразнивает он мою интонацию. – Так что Синюха только защищался. С опережением. В строгом соответствии с недавней государственной доктриной: мы, конечно, никогда первыми не нападем, но наш удар может быть упреждающим. У нас ведь на Руси еще с Петра Великого повелось. Помните? Если к тебе приближается супротивник, превосходящий силою, с явным, а такижды тайным, но разгаданным намерением ударить, ударь первым, поелику потом поздно бысть. Помните? Между прочим, целиком и полностью укладывается в тринадцатую статью: необходимая оборона.
– А в девяносто пятую или сто сорок восьмую ваши действия никак не укладываются? Целиком и полностью? – пугаю, оттягивая неминуемое.
– О-о, Галина Андреевна! Уважаю, уважа-аю. Подготовились, проконсультировались. Тогда должны знать, что нет, никак. Ясно?! – вдруг рявкает. Не чтобы устрашить, а внутри, видать, задело. Даже из кресла выскочил.
– Ка-ав-во-о? – прыщавый тут как тут.
– Синюха! Одно из пяти!.. – отсылает он напарника обратно жестом того самого медного Петра-великого.
– Да пошли вы! – снова усовывается.
– Что за кличка, фу! Он же тоже человек. Тем более сокурсник. Милосердней надо быть к людям милосердней! – отыгрываюсь для вящего самолюбия. – Мы же с вами интеллигентные люди. Не так ли? Вы, кстати, что заканчивали? Философский? Исторический? Или…
– Юрфак, – примиряет он воспалившуюся ситуацию возвращением в кресло и свойской усмешкой. – Продолжим!
– А почему «Синюха»? – логично не отстаю я. Разве не логично? По-моему, даже очень.
– Это не кличка, это определение, – отстаивает «Брежнев» постулат «мы же с вами интеллигентные люди». – Наши в Финляндии всех алкоголиков так зовут. Там они, в смысле алкоголики, на полном гособеспечении. Между прочим, резонно. Их там не лечат, не перевоспитывают, как у нас безуспешно стараются. Считается – бессмысленно, если человек сам выбрал. Такой пропащий добровольно сдает квартиру, имущество и не претендует ни на что. Государство предоставляет ночлежку, кормежку, пособие мизерное – марок десять-пятнадцать. Живите как знаете. И живут. Наши их прозвали «синюхами» – прикипело. Больше всего их в Турку – там верфи, там они и пасутся, клянчат. Выглядят, между прочим, не так жутко, как наши, но ВЫГЛЯДЯТ. Не очень напористые, но подходят, просят: «Дай марку». И тут же уточняют: «На кофе!». Жека фактически у нас без всякой Финляндии «синюхой» стал. И если бы я его не подобрал почти с пола…
Я пресекаю его моим специфическим движением «ой, хватит, достаточно!» и спрашиваю:
– А вас как зовут?
«Брежнев» натыкается на мой логический забор, и на секунду сохраняет лицо человека, внезапно наткнувшегося на забор. Но только на секунду:
– Леонид Ильич, как же еще? Разве сразу не заметно?
– Заметно, – соглашаюсь.
– Между прочим, о Финляндии. Вернемся к теме. Итак, все неоднозначно в нашем запутанном мире. Даже если вы настолько охладели к СЕБЕ, что вам все равно, как отнесется к вам бывший муж… бывший, мы владеем информацией, зря вы столь пренебрежительно о наших сведениях… В общем, не настолько же вы охладели к НЕМУ, чтобы не представить, не предположить, каких дров может наломать человек, по-прежнему вас любящий. Тихо-тихо-тихо! Умерьтесь… Из чистого милосердия подумайте: человек в заграничной командировке, не чужой вам человек, между прочим, и вдруг узнает: мужики по ночам, милиция, «скорая», скандалы (соседи небось уже вовсю сигнализируют?), драки безобразные при всем честном народе прямо на улице… и тэ дэ и тэ пэ…
ИТД и т.п. Связался черт с младенцем! Куда ты сунулся, Лешик, куда ты сунулся!
Если бы у меня хоть капля осталась от той сумасшедшей влюбленности, от той суицидальной влюбленности в моего законченного кретина! Но: «Все, Красилин. Достаточно. Я достаточно подушек проплакала. Без повода, с твоей точки зрения. Сегодня ты дал повод. По лицу меня до сих пор не били. Но я плакать не собираюсь. А ты собирайся… на выход с вещами! Все, Красилин, все! Какие могут быть еще разговоры?!». Якобы волевым усилием прекратила. Волевым усилием – когда себя насилуешь и поступаешь поперек. А ведь вдоль поступила. По течению. Несло, несло и вынесло. Такого всего налипло, пристало – пора в сухой док становиться на профилактику. Чувство проходит медленно, но верно и много ранее, чем осознаешь. А когда осознаешь, уже и не надо из себя раба выдавливать. По капле. Сам вытек, самопроизвольно. Непросто признаться, но хоть себе можно? Дай мне Красилин по физиономии три, ну еще два года назад – оправдала бы, а себя засудила: заслужила – носи! А тут никаких взбрыков. Просто повод лучше не надо. То, что он, в отличие от меня, не остывает – его проблемы. Пожалуйста, можешь хоть вечность «еще долго идти за каждым из нас», как ты выражаешься.
Ах, если бы у меня хоть капля осталась! Я бы на него понадеялась-положилась, я бы за него не отвечала, он бы за меня отвечал. А я бы… плакала в подушку, психовала, беспокоилась, называла бы в сердцах дурачком, кретином, павлином, пижоном беспочвенным!
Но – ни капли. Выдавила. Вытекло. Само.
Теперь хочешь – не хочешь, беспокойся. Не за него! За себя! За себя в отношении к нему. Понятно, нет? Не хочу и не могу, чтобы из-за меня он наломал дров. Из-за меня – не надо! Только у него налаживаться стало в его Чухне – и опять все на слом! Все равно бы потом на слом (золотое клеймо неудачи на еще – ВСЕГДА! – безмятежном челе), но потом и не по моей вине. Я и поводом быть не хочу. И не буду!
Будешь, ставят перед фактом, будешь! Если не согласишься на вполне приемлемые-отъемлемые условия.
И не ОНИ мне устроили соседей-Лащевских, милицию старой и новой формации, лыцаря-Петюню, пони-лошадищу, «скорую», которая мне чудом ДМП не диагностировала, то есть депрессивно-маниакальный психоз и т.д. и т.п. Не ОНИ мне устроили ИТД и т.п. Сама, все сама. А ОНИ только пришли и взяли. То, что плохо лежит. Плохо, ой плохо!..
– Вы меня слушаете, Галина Андреевна? Вы о чем-то задумались? Не могу ли я хоть чем-нибудь помочь? Не потеряли нить наших с вами рассуждений?
– Кстати, о кофе! – доблестно создаю видимость, что нить не потеряла. – Мы не в Финляндии, не в Турку, но кофе хочется, ночь просидели. Не возражаете? Присоединяйтесь. Марки с вас я не потребую.
– Единогласно! – ратифицирует «Брежнев» негласное соглашение (Я не сказала «да», милорд! Вы не сказали «нет!»). Конечно, соглашение! Попробуй не согласись, Красилина. – Между прочим, Галина Андреевна, я поговорю со своими. Знаете что? Пожалуй, мы с вами сможем убедить их на десять процентов. А-га?! – подмигивает заговорщицки: «мы с вами».
– А-га! – в тон подгадываю я. Ой, безнадега-безнадега. – Так что? Кофе?
– Я бы по такому случаю не отказался и от подлинного напитка «синюх».
Дотягиваюсь до бара, нащупываю в нем «Мисти».
– Га-а-алина Андреевна! – в полный голос демонстрирует «Брежнев», насколько он сражен.
В такой полный голос, что из кухни рефлекторно доносится заспанное:
– Ка-ав-во?! Ка-а-ав-во-о-о?!
«Брежнев» прикладывает палец к губам, потом той же рукой хлопает себя в грудь: мол, виноват, виноват.
– Ему ни в коем случае нельзя! – посвящает он меня в домашние секреты заговорщицким шепотом – Сразу «развяжет» и уже не человек. Будем милосердны. А-га? Тш-ш-ш!
– А-га! Тш-ш-ш!
По рюмочке всего и… Был «Мисти» и нет «Мисти».
– Я вам еще достану, Галина Андреевна, не печальтесь. По своим каналам.
– Не стоит беспокоиться… Леонид Ильич.
– Это вам теперь не стоит беспокоиться, – кивает он поощрительно, дав понять, что оценил. – Теперь все ваши беспокойства на нашей совести. Теперь и навсегда вы под нашей надежной защитой.
Кто бы защитил! Кто хотя бы не нападал!.. Допрыгалась? Допросилась?..
– Синюха! Не спать на посту! – тыркает он прыщавого мордоворота Жеку.
Тот так и задрых с беломориной на губе. У форточки в кухне, на сквознячке.
– Ка-ав-в-во-о-о?!! – взбучивается. – A-а! Ну? Хоп?
– Хоп, хоп! Кофе хочешь?
Я разматываю кофемолкин шнур, мельком вглядываюсь через форточку: «моя» вмятина полуторасуточной давности оплыла и затвердела – пепельница чешского стекла. Папиросных бычков в нее набросано десятка три.
– Под моим окном гадить не стоило бы! – делаю выговор младшему по званию.
– Свинья ты, свинья! – корит «Брежнев». – Сейчас когда пойдем, все до единой подберешь!
– Н-ну! – всегда готов Синюха. – Видала? Поладили!
Я кривлю губой, и «Брежнев» перехватывает у меня кофемолку, учтивый-учтивый!
– Позвольте, поухаживаю! Жека, ты абсолютно не умеешь себя вести. Перед тобой ДАМА, а ты как последняя синюха ей тыкаешь! – Он сжимает кофемолку, та жужжит.
Перед ним ДАМА. ДАМА молчит. Потом как последняя синюха тыкает ему:
– Леонид Ильич, а ты чего это после юрфака и вдруг в шоферы подался? Не сморгнул даже. Только жужжание сбилось на затихающий вой, но тут же снова набрало обороты.
– Так ведь свобода дороже, Галина Андреевна. Вам ли меня не понять. Сам себе хозяин, не так ли?
– Опять же не просто самосвал, а «Совтрансавто», да?
– Опять же, опять же!
– Опять же валюта перепадает?
– Валюта, валюта. Ваши информаторы не хуже наших, Галина Андреевна, поздравляю!
– Спаси-ибо!
– Ка-а-ав-в-во-о-о! – бросается было Синюха.
Отсутствие интеллекта иногда полезней в жизни, чем его наличие. Рефлекс всегда опередит мысль. Потому Синюха и бросился на меня.
Но я-то тоже на рефлексе, мысль еще не оформилась, а действо проделано. Опоздал, мордоворот прыщавый!
В кулаке у меня – клизма. Ведь надавлю! Не шевелитесь лучше, добром прошу!
– Аш-два-о-два! – предупреждаю. – Гуманитариям не понять? Пероксид водорода! Без глаз останетесь! И кожа клочьями слезет!
(Это вам не тридцатипроцентный раствор, это вам не пергидроль, которым блондинки недоделанные высветляются, это вам девяностопроцентный, инициатор полимеризации! Но очень и очень годится, чтобы любого изуродовать почище обожженного Фредди!).
– Не подходи! – грожу я и пускаю чуть-чуть из клизмы им под ноги: пузыри, ш-ш-шипение, скворчание. – Понятно? Поставь кофемолку и…
– Так хорошо обо всем договорились и на тебе… – сетует «Брежнев», ставит кофемолку.
– Теперь одно из пяти. Или вы оба исчезаете, или четыре раза по морде. Пероксидом! – конкретизирую.
– Ц-ц-ц, – переживает за меня «Брежнев». – Так славно договорились!
– Вперед, вперед! – зову их на выход и конвоирую под клизменным прицелом. – Чего застряли?!
– Люди пусть пройдут, – показывает на шум за дверью «Брежнев».
– Тяф-тяф! – шум. – Троян, Троян, нельзя! Троян, кому сказал?! Тяф! Тяф-тяф!
Из «Брежнева» раздается свиристельно-электронный сигнальчик. Часы импортные носит, с-сволочь, с музыкой.
– Вы не передумаете, Галина Андреевна?
– Скорее всего нет.
– Ц-ц-ц. Ведь так по-хорошему, по-доброму все было. А теперь… эх-х!
И они, переждав Трояшку, исчезают из моей квартиры.
Я смотрю на будильник. Мамочки-мамочки-мамочки! Опять без двадцати семь. Паршивые часы у шофера-шахтера-лифтера-вахтера. Барахольские! Заранее играют, спешат. Или запаздывают… Зато с музыкой!
***
«Вы не передумаете, Галина Андреевна?».
Передумала. О чем только не передумала, пока не передумала! Обо всем…
Зареклась в такую слякоть из дома выходить, но не помирать же с голоду.
Теперь отныне и навсегда единственной проблемой у меня будет, пожалуй: не помереть с голоду.
Старушка по склону семенит навстречу, прямиком от Даниила Салоникийского. Подзывает жестом, подманивает. Ей-то что от меня нужно? Ну?!
– Вот ты молодая, горя не знаешь! (Это я-то! Тебе бы мои заботы, бабка!) – А когда узнаешь, помолись богу. Вот я сейчас шла баночку майонезную сдавать, а она с отбитым краюшком. И помолилась: господи, помоги мне сдать баночку! И у меня ее приняли!
Понятно. Избыток чувств. Надо с кем-то радостью поделиться. Богомольные старушки всегда чуют, с кем делиться. За версту чуют!
Других проблем у меня теперь не будет: только боженьке молиться, чтобы майонезную баночку с брачком приняли, чтобы денежку выдали.
«Вы не передумали, Галина Андреевна?».
Передумала. Час-другой просидела с клизмой наперевес, тупо уставившись в свое стеклянно-лабораторное хозяйство. «Дурилки» вы мои, «дурилки». Кончилось ваше время. И «крантик», и «шлепа», и «лягуха», и «мышка-норушка», и… Кончилось. И мое время кончилось.
Прав «Леонид Ильич» хренов:
«Давно бы так, Галина Андреевна! Верное решение. ИТД – заманчивая стезя, но все-таки не для прекрасной половины. Тут не всякий мужик сдюжит, не то что ДАМА».
И теперь: экономика должна быть экономной. Претворим в жизнь! Ничего другого на остается, сидючи без твердого заработка, пока-а еще устроишься куда-нибудь. Куда угодно, только не в свой бывший гадючник-девичник под Клавкин диктат. «Опытные химики району нужны», – сказал исполкомовский Сам. Посмотрим…
Час-другой просидела, продумала. Здорово на НИХ клизма подействовала! Надолго ли? А потом? Сила действия равна силе противодействия. Могу представить, что за противодействие ОНИ мне устроят. Я конечно сто лет в Ленинграде живу, осада-блокада дело если не привычное, то знакомое: в генах засело. Но девятисот дней мне не выдержать. Хватило и неполной недели, чтобы в голый нерв превратиться.
Устала я. Уста-а-ала! Дальше хуже будет, если на ИХ условия не согласиться. А согласиться и… – дальше хуже будет. Еще хуже!
«Теперь вы под нашей защитой!».
Не нужна мне ВАША защита. Куда ни ткнешься, всюду: знаете, все зависит от очень многих обстоятельств. Знаете? Знаю! Всё и все зависят от всего и от всех. Зависимость проклятущая! От конъюнктуры рынка, от исполкома, от болгарской Ванги (катастрофа! катастрофа!), от погоды, от того, кто и как пукнет в программе «Время». Даже от… Красилина (Ишь взвился, когда почувствовал год назад: вышла из подчинения. Любовь, любовь! Для него прежде всего важно не то, как он относится ко мне, а как я к нему отношусь. Никак! Уже никак, хотя давно никак. И моя ИТД – последний штрих, окончательно зачеркивающий так называемую любовь. ЕГО любовь. Она для Красилина, в первую очередь, – моя зависимость от него. Фигушки! Любишь – люби, я-то при чем? Пушкина читай, Александра Сергеевича, руководство к действию: «Если я люблю, какое твое дело?». Слабо? Слабо-о.. Твои проблемы, Красилин. Хочешь – не хочешь, от тебя я независима).
Но ОНИ приходят и волей-неволей… от тебя я зависима. Просто жуть с ружьем! И не в том дело, не в том! Я даже от тебя, Красилин, готова была бы зависеть, мне не привыкать! Но не от НИХ!!!
«Теперь вы под нашей защитой!».
Спасибо, не надо! Десять процентов, пятнадцать – это не от этого! Просто зависеть от ИХ дружбы поунизительней, чем зависеть от ИХ вражды.
«Вы не передумаете, Галина Андреевна?».
Передумала. Просидела с клизмой в обнимку, и телефоный звонок угодил в самый раз – я уже издергалась, что ОНИ не проявятся.
Проявились:
– У вас очень низкая культура отказа, Галича Андреевна, – поучает «Брежнев». – Вы не передумали? А то мы тут уже приготовили небольшой сюрпризик…
– Бомбу под дом заложили? Или по-простому, что-нибудь с оптическим прицелом? – не оттягиваю я неизбежное, а, наоборот, тороплю, бегу неизбежному навстречу.
– Зачем же бомбу? У нас, вы могли убедиться, достаточно иных действенных…
– Ой, отстаньте! Плевать я хотела на…
– Мы же с вами интеллигентные люди… – с укоризной увещевает «Брежнев».
– Не перебивай ДАМУ, интеллигент! Плевать, повторяю, я хотела на всех вас и все ваши сюрпризы. Заходи или подсылай своего боевичка.
– Галина Андреевна, учтите: я звоню в двух шагах от вашего подъезда.
– Да не вызову я никого! Можешь не предупреждать. Трусишка зайка серенький!
… Ушел. Надеюсь, теперь навсегда. Насовсем.
Подавитесь моими деньгами. Не десять, не пятнадцать, а все – получите и подавитесь! Сотню оставила на бедность. Должно хватить на месяц пока не устроюсь. Раньше вдвоем с Красилиным на сотню протягивали. Правда, теперь инфляция, но и я – не вдвоем. Много ли надо одинокой безработной? Сметаны банку и чтобы все отстали. Ничего не надо мне, только чтобы отстали! В Чухне две тысячи марок безработным выдают в качестве пособия? Я – не в Чухне, мне сотни достаточно. А Красилин – в Чухне? Пусть и вкалывает за свои четыре тысячи марок (большой прогресс: в два раза больше, чем безработное пособие!) и ни прямо, ни косвенно ко мне не относится. И всяческие шоферы-шахтеры-лифтеры- вахтеры – не относятся! И милиция, и петюниция, и лошадищиция, и мымриция, и… все вон!
– Давно бы так, Галина Андреевна! Верное решение. ИТД – заманчивая стезя, но все-таки не для прекрасной половины. Тут не всякий мужик сдюжит, не то что ДАМА! – попытался на прощание поправить пошатнувшееся самолюбие «дорогой товарищ Леонид Ильич».
По-моему, я его все-таки поставила в тупик. Но это так, попутный результат. Главное – все вон!
И он – вон.
… Автопилотно действую. Реторта. Плитка. Осьминожка. Цикл раскрытый, гадай что из чего выросло. Что выросло, то выросло, Красилина! На кой бог тебе теперь осьминожка? Кончилась твоя ИТД. Да так как-то… автопилот.
Автопилотно чашки кофейные перемыла. Накопилось за три дня – не счесть. Или за четыре? Вечность! «Мокко» иссяк…
Автопилотно белье погрузила, замочила. «Лотос» на исходе, а в хозяйственном – шаром покати. Довели город трех революций! Хоть четвертую устраивай.
Автопилотно подмела, тряпкой прошвырнулась. Пылища – не продохнуть. И розочки наконец в мусор. Они свое отстояли. Белые розы, белые розы, ля-ля-ля, ля-ля-ля!
Автопилотно банку сгущенки в лоджии ископала, вспорола. Лизнула длинную каплю. Достаточно. Остальное – для сметанника. Слишком расточительно будет – ложками хлебать. Переходим на строгий режим экономии Красилина. Стакан муки. Граммульку соды с уксусом. И меси, меси тили-тили-тесто. Как на наши именины испекли мы каравай! Кого хочешь выбирай! Выбрала… Все, что можно, я себе уже выбрала. Кушай на здоровье. Пока оно у тебя есть. Вернее, пока ты доподлинно не знаешь, что его у тебя нет. Кушай. Сметанник. Сме…
… таньчик-Татьяшенька. Курица ты, Красилина! Не о том надо думать, а о том, что сметаны-то нет. Где твоя башка, Красилина, курица автопилотная! Где- где – там же где гаечный ключ семнадцать-на-девятнадцать. Если курице башку оторвать, она еще долго бегает и, кажется, даже кудахчет – непонятно только чем. Вот и я. Курица. Всего лишили, а чего-то делаю, чего-то хлопочу по дому, чего-то…
Да, зареклась в такую слякоть из дома выходить, но… Сметаны мне, сметаны!
… Пропадите вы пропадом, отцы города недорезанные! Сметаны и той нет! Ни в Коломягах, ни в универсаме, ни в ближнем, ни в дальнем! Впору действительно молиться по старушьему наказу Даниилу Салоникийскому: ниспошли! А лучше: порази к чертовой матери чертовых отцов! Кстати, когда отцы врут, что не в состоянии прокормить детей, с них алименты дерут в обязательном порядке. Неплохая идея: исполнительный лист отцам города от пятимиллионного ребенка. Агушеньки!
Придется в центр ехать, что ли? В час пик опять. В пасть метро. Про такси забудь теперь, Красилина, не вспоминай. Погуляли и будет…
Наплевать! Пусть! Наплевать. Пусть нечем даже наплевать: башку куриную отвернули. Фигурально. Но и на это наплевать. Смирись, гордый человек! Смирилась, смирилась. И не человек я больше, а так… население.
Население жаждет сметаны. Оно, население (я!), программу выполняет. Продовольственную. Заложили в тебя программу – и действуй.
На «Петроградской».
– Нет, сметаны нет. Сегодня и не привозили.
Пешочком по Кировскому. Три гастронома, один специализированный, молочный.
– Вы что?! Сегодня же среда! Какая может быть сметана?!
На Малой Посадской.
– У нас ее и не бывает. В Елисеевском попробуйте.
Елисеевский так Елисеевский.
Очередь так очередь.
Давка так давка.
Есть? Есть и есть. Какая разница. Постоим…
– Сначала чек пробейте, а потом подходите!
– Мне – в банку.
– Какая разница! Сначала чек!
– Какая разница? Мне – в банку.
– Есть разница!
Есть и есть. Чек и чек..
– Ку-уда без очереди?!
– Я уже отстояла…
– Нечего-нечего! Молодая еще!
И на том спасибо. Какая разница…
– Я вас не толкнул, а культурно подвинул и все!
Какая разница…
– Доплатите в кассу семнадцать копеек!
– У меня нет лишних семнадцати копеек…
Нич-чего у меня нет. Ни-че-го. Какая разница…
Вот сметанник теперь есть. Почти есть, если сметану достала. И проблема досуга сама собой решена; был день – нет дня.
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
Нет у меня больше никакой дверебоязни. Ничего у меня нет. Как после первого аборта. Чутье осталось – опять кто-то в квартире засел – но страха нет. Ну отк'ою, ну ужнаю. Какая разница? Голову-то уже оторвали.
Поворачиваю ключ, толкаю дверь и…
… что я говорила! Так оно и есть. Оно!
Оно, Красилин, высится в прихожей этаким сицилийским гангстером, расставив ноги и слегка присев. Палец у него на спусковом крючке. «А где твой черный пистолет?». Вот он, в судорожных красилинских руках – на вытянутых руках натуральный, тяжелой фактуры, опасный, громадный, чуть ли не маузер целит мне в голову.
Нет у меня головы, Красилин, нет. Но рефлексы остались. Не хотела, не думала (какая разница!), но рефлексы сами за меня сработали.
Ка-ак грянула сумкой. Наотмашь. По пистолету.
И в сумке сметана грянула разбитой банкой.
И пистолет в пол грянул: выстрел!
Уши заложило, огонь, дым!
Мимо! В пол! В обувную полку!
И мысль: ну если он мне последние зимние сапоги продырявил, то берегись!!!
– Я не хотел! Я не то!.. – кричит Красилин. – Не хотел! Не то я!!!
Что да, то да: ты, Красилин, – не то…
***
И маузер, и наган, и браунинг, и кольт – на любой милитаристский вкус.
– Я давно на него зарился, – говорит Красилин. – Один раз даже пытался с собой прихватить и Союз. Нас вообще-то чисто формально проверяют на таможне. Главное правильно заполнить таможенную декларацию. Еще обязательно сличить написанное в твоем заграничном паспорте и один к одному перенести в свой въездной-выездной талон. Но с паспортом сличить непременно, а то там запросто может оказаться совсем не то, что ты сам о себе знаешь. Раздолбайство – наша хроническая национальная черта! Могут в паспорте написать, что ты 1089 года рождения и фамилия твоя Чингисхан. И будь любезен буква в букву переноси в талон. Пограничники совершенно индифферентны: им важно чтобы паспортные данные совпали с тобой же заполненным талоном. Не совпадет – и они по десять раз могут переспрашивать медленно, белоглазо, чисто по-фински. И только смотрят: паспорт-талон-человек, паспорт-талон-человек. Таким образом, к слову, человек запросто может сгинуть за границей. В нашем ОВИРе какая-нибудь канцеляристочка заполнит на тебя паспорт, ошибется в фамилии, ты вынужден ошибку повторить. А сгинешь – наводи о тебе справки, не наводи… Толку-то! Такой-то к вам въезжал? Нет, такой-то не въезжал, судя по талонам. Справляются-то по верным данным, а не по ошибочным! Такие дела… Мы уже не первый год ездим, научены, а новички, особенно туристы, попадаются за милую душу. Потому что исходят из здравого смысла. А у Погранцов свой здравый смысл. Я когда пытался по первости пистоль провезти, тоже исходил из здравого смысла: игрушка! Даже в баул не спрятал, за пояс заткнул (к нему и кобура прилагается – во!). И что бы ты думала? Изъяли и разломали прямо при мне! Говорю: «Вы что? Игрушка ведь!». Они говорят: «У нас именно с помощью таких игрушек шестьдесят процентов банковских ограблений происходит, извините». Извинил, естественно. Зато вот на этот раз положил в баул на самое дно и в декларации написал: игрушка-сувенир. Без уточнений. Никакой не пистоль, а просто игрушка. И пожалуйста!
Говорю же: чисто формально проверяют… Хорошая игрушка? Тебе понравилась? Гал, ну Гал!.. И пистоны к ней специальные. Абсолютно не отличить от настоящего, скажи? Ну скажи, Гал, ведь не отличить? Гал, ну Гал!
Хорошая игрушка. Мне понравилась. И пистоны. Абсолютно не отличить, да. Не скажу!
Что Красилин за дверью в квартире – догадалась, в общем. Кому еще быть, кому я еще нужна, у кого еще второй ключ есть? Только у него.
Что он круглый идиот, еще раньше догадалась – идиот, которому доставляет неизбывное удовольствие пугать до кондрашки своих ближних (меня, в частности).
Что за кордоном давно научились делать игрушки неотличимые от оригинала – догадалась еще со времен «шлепы», «лягухи», не говоря уж о «крантике».
А вот что пистоль – игрушка, каюсь, не догадалась сразу. Абсолютно не отличить, да! Но это не от этого! Пистоль пистолем, но лицо – рожа красилинская, стоило двери открыться! Никакого предвкушения розыгрыша не было на его роже. Был отчаянный страх и припертость к стенке. ТАК не сыграешь. Красилинские эмоции я, слава богу, изучила за семь лет – и подлинные, и мнимые.
Вот сейчас – мнимая эмоция: бравирование, балагурство и подарок-сувенир (вроде как мне). «Дурилка» – первый класс!
А подлинная эмоция – загнанность и припертость, когда я ключ повернула. Не загоняла я его, не припирала – а он и не меня рассчитывал увидеть, не в меня целил. То есть не то, чтобы рассчитывал, но допускал. И пистоль сувенирный (не ври, Красилин!) не мне в подарок, а «дурилка» для самозащиты. Павлин с бумажным хвостом! Даже для самозащиты – и то игрушку, пусть абсолютно неотличимую. И так он во всем! И по отношению ко мне – тоже так. Большое чувство, большое чувство! Абсолютно неотличимое, но… «дурилка». Себя же дуришь, Красилин, себя. Я тебе давно все высказала.
– Ну скажи, Гал! Ведь не отличить? Гал, ну Гал!
– Я тебе давно все высказала… Кровь унялась?
(Он, балбес, умудрился раскроить ладонь, располосовать, когда кинулся банку сметаны спасать. Ничто ее уже не спасло бы: дребезги измазанные. Сумку теперь только выбросить. Еще бы головой туда залез! Ой, устала я, уста-а-ала. Перекись, вата – и вата на исходе, а тут на Красилина ее трать, самой мало! – Бинт. Посиди, пережди. Пока кровь уймется, но далее извиняй: не хочу никого видеть! Тебя, Красилин, в том числе. Ни-ко-го не хочу видеть! Устала я! Уста- а-ала!).
– Кровь унялась?
– Кажется…
– Ты надолго?
– Не знаю. Обстоятельства всякие… Можно? Или… прости, Гал, ты кого-нибудь ждешь?
– А ты?
– То есть?
– Я и спрашиваю: то есть?
Ладонь потетешкал перевязанную, осмотрел, паузу протянул: черт! не унимается! сквозь бинт, видишь, проступило.
Вижу. Я все вижу. Не все пока понимаю, хотя брезжит. Но вижу все. Очень тебе, Красилин, не хочется уходить. Изучила я твои эмоции, подлинные и мнимые. Сейчас ты у меня есть запросишь, чтобы чуток времени выгадать, да?
– Гал, у тебя не найдется чего-нибудь перекусить. Я, понимаешь, сразу с поезда, он в двадцать с минутами приходит, все закрыто, ничего не успел и…
– Сметана. Была.
– Прости. Ну прости, Гал!.. Я же не нарочно! А, хотя бы яичницу на скорую руку, а?
– С кетчупом, с сыром, с корицей?
– То есть? – не понял тона.
– Да так. Не обращай внимания. Цитата. В БДТ.
Пьеса забавная. Была тут на премьере с… неважно. «Кушать подано!». Не обращай внимания… – Съел, Красилин? Боже мой, все-таки в нас, ведьмах, что-то сидит! Нужно тебе мужика добивать? И так он – блин блином. А не удержалась. Устала, уста-ала, а не удержалась. «Кушать подано!» – Ни кетчупа, ни сыра, ни корицы. Возьми сам в холодильнике. Там яйца. Придется всмятку, масло кончилось. Сальмонеллеза не боишься? Да! И хлеб – сухарь. Можно водой попрыскать и в духовку. Оживет. Уж прости, я гостей не ждала.
– Сам я, сам! – обрадовался, занеуклюжил.
Какое там «сам»! Даже достать из холодильника ничего не в состоянии, раненый-обезрученный! Сиди, ладно. Сама я.
Сидит. Ест.
– А ты, Гал?
– Я не хочу. Ешь… – у-у-у, за что такая пытка! Слюнями истеку, захлебнусь, сглатывая. Но не буду. Этих яиц – не буду. Им сто лет в обед. Я, в отличие от Красилина, сальмонеллеза боюсь. У него, может, всяческие заграничные прививки, а мне для полного счастья только и не хватает того самого… изойти на… О! Прививки, кстати!
И то ладно, что не «китайская кухня», не глаз плачущий внутри. Не испортились, уцелели, долежали. Пару штучек надо оставить на сметанник. Или одно хотя бы! Вот жрет! Куда в него только влазит! Остановись, Красилин, заворот кишок будет – а у меня сметанника не будет!.. Тьфу, сметана то…
– А соль?
На! Засолись! А соль! Ассоль! Прыщ хренов! Будьте моей женой!.. Мыльников байки травил: жена мужа отравила. А им ничего не доказать (Мыльников тогда еще не бэхом был, а в уголовке). Парочка развелась, ждали-ждали размена в такой же однокомнатной халупе. На ножах жили. Муж (то есть бывший) демонстративно сжирал все съестные припасы, которые жена (то есть бывшая) по магазинам как проклятая, как я за сметаной, добывала. Тогда она рыбы купила, даже не просто рыбы, осетрины где-то исхитрилась. Выставила на солнцепек уже отваренную, а потом – в холодильник. Он по обыкновению пришел, сожрал и – ногами вперед. Ботулизм. Поди докажи злой умысел! Поди засади. Тогда полторговли нужно сажать, и весь Агропогром судить – не пересудить, если проанализировать, чем живем-кормимся. Но Красилин – ничего, никаких признаков отравления не подает (Жуть с ружьем! Ситуация-то аналогичная! Доказывай потом всяческим мыльниковым, что не воспользовалась мыльниковской же подсказкой, рецептом!). Нет жив-здоров. Никаких признаков, кроме признака завидного аппетита.
А неплохо было бы, если вдруг – брык! Он. Или я. Какая разница! И нет больше проблем. Ни одной!.. Лучше даже я, чем он. То есть что я говорю! Гораздо лучше! Мне похорон деда на всю оставшуюся жизнь хватит для нервотрепных воспоминаний. Все ведь сама тогда, все сама! И никто, и никто!.. Так что, Красилин, чур я первая! А ты со мной помучайся, я с тобой достаточно помучилась. Боже мой, о чем я думаю! Какая разница!
А со стороны поглядеть – идиллия! Кухня. Ночь. Жена мужа кормит. Любящая жена любимого мужа с любовью…
– Так ты не ждешь? Гал?
– Кого? – «Ка-а-ав-в-во!» внутренним голосом, будто давешний Жека-синюха.
Что ты себе вообразил, Красилин?! И впрямь вообразил: идиллия?! Дурак какой!
– Гал, где твой полковник?
Вот тут, каюсь, не поняла я красилинского тона. Вижу все, брезжит что-то, но не поняла.
– Како-ой еще полковник?!
– Ну… в штатском. Помнишь ты в субботу говорила?
– Нет никакого полковника! – устала я, уста-ала. И в БДТ совсем даже и не «с…», и вообще не в БДТ (попадешь туда, как же!). Пьеску дали почитать, по рукам машинопись бродит, ничего крамольного, но не берется никто ставить почему-то. А смешная…
– Ка-ак нет?
– Так! Ты что, ревнуешь? Поздно, миленький! Еще, может, по физиономии мне дашь?! Или сразу предложишь воссоединиться?! И попробовать все сначала?! Я же вижу все, вижу! Ну говори-говори, выкладывай! Я тебе давно все высказала! И с тех пор ничего не изменилось! А справочка у тебя есть, кстати, что у тебя СПИДа нет?! Знаем мы ваши заграницы! Секс-шопы! И переводчиц ваших знаем! Тасенька-масенька! Таньчик- сметаньчик!!! – несет меня, ох несет!
– Ка-а-ак нет! Мне он нужен!!!
– Отношения собрался выяснять?! Да он тебя одной левой! У него… как его… черный пояс!
– На хрена мне ваши отношения!!! – орет Красилин. Несет его, тоже несет. Понесло-о! – Мне полковник нужен!
– Нет никакого полковника!!!
– А «одной левой»?! А «черный пояс»?! Ка-ак нет?!
– Не ваше дело! Вон отсюда!
– Пока ты мне его не дашь, я никуда…
– Нет никакого полковника! Боже мой, что за идиот!!!
Идиот размякает и сползает на стул кашей-размазней. И тихим, жидким голосовым мазком повторяет:
– Ка-ак нет?…
– Так. И не было. И нечего здесь снова рассиживаться! Поел? Насытился? Иди…
– Я тебя убью… – обещает размазня убито.
Я все вижу, и брезжит почти отчетливо. Не за то он меня убьет, что полковника завела. А за то он меня убьет, что нет никакого полковника. А он, идиот, очень на него полагался. На чтобы «в штатском» и «свой». «Свяжи меня с ним, дорогая, по старой дружбе, в память о былом. Дело есть». Загнанность, припертость, пистоль.
«А Галине Андреевне – наилучшие пожелания и доброго здоровьица! И мужу ее, Вадим-Василичу!».
И мужу ее, Вадим-Василичу. Наилучшие пожелания.
И мужу ее, Вадим-Василичу. Доброго здоровьица.
ОНИ его достали. Загнали, приперли. Из-за меня. Я во всем виновата, мое упрямство!
«У нас, вы могли убедиться, достаточно иных действенных…».
Могла. Убедилась. Во что ты превратился, Красилин! Что они с тобой сделали! Нет, не они! Я! Каюсь, я!
Сейчас все пройдет, сейчас я тебе все расскажу, и все пройдет: ОНИ ушли, нет ИХ, не будет больше, навсегда и насовсем! Сейчас я…
– Я тебя убью… – отрешенно повторяет Красилин. – Я тебя убью.
Тут не выдерживаю! Я ему, можно сказать, спасительную весть собираюсь сообщить: кошмар кончился! А он вместо благодарности: «Убью!» Напрочь флюидов не ловит. «Убью!» Тут не выдерживаю и без всякого внутреннего голоса в мордоворотной тональности и громкости:
– Ка-ав-во?! Ка-а-ав-в-во-о?!
Он вздрагивает: знаком ему возглас, знаком.
Я вздрагиваю: который час? шестой! кто настолько спозаранку способен меня беспокоить по телефону? ОНИ? Уже не должны! А звоня-а-ат!
– Не поднимай! Галонька, только не поднимай!
Балбесина лысеющая! Ты же просто не в курсе пока, что ОНИ отстали, что я ИМ все до предпоследней сотни отдала. И ни меня, ни тебя ОНИ больше не колышат. Ты просто не в курсе. А я в курсе. И сейчас наговорю много теплых-ласковых слов тому, кто осмеливается звонить одинокой усталой женщине в такую рань!
– Не поднима-ай!
Поднимаю.
***
– Да, не сплю… Какую информацию? По каким каналам?.. А по телефону никак нельзя?.. Думаю, это будет лишне… Нет, не преждевременно, а вообще не надо. Я считала, что ясно дала понять… С кем бы ни было связано… Почему не догадываюсь? Более того, не просто догадываюсь, а знаю… Да он сам тут сидит… Давно, да… Ради этого стоило звонить в шестом часу?.. Тем более не надо… Если только ради этого, то тем более не надо приезжать… А я считаю, что нет… Вам с ним – не о чем… Да, я так считаю… Мы с ним сами разберемся… Даже если не во всем, то никого это не должно касаться… Я сказала, не надо приезжать… Хорошо! Но никакого смысла не вижу, честно говоря!
Красилин извелся, приплясывая вокруг меня, жестикулируя, выражая мимикой, звука не проронив.
Опускаю. Трубку.
– ОНИ? Я же просил: не поднимай! ОНИ? Так и знал! Так и знал! ОНИ! – Красилин все той же неразорвавшейся гранатой мечется, шипит, скачет от стенки к стенке. – Ах, черт! Ах, черт! Вот ведь черт! Вот ведь! – и таки взрывается: – Я же просил тебя!!! Не поднимай!!! Я тебя просил или нет?!!
Надо же, какого страха нагнали. Телефонных звонков боится, двери открывающейся боится – застрелить готов бывшую жену, потому что вдруг это не она, а ОНИ! Ключ подобрали и проникают. Нет у них ключа – только у меня и… у тебя. Отдал бы, кстати. Давно пора.
– Суетишься много, – остужаю. – Смотреть противно.
Замерзает, остекленев. И вид у него нашкодившего щенка, которого сейчас носом ткнут. Не совсем понимаю эмоцию Красилина, мне бы в своих эмоциях разобраться! Хуже нет говорить на два фронта по телефону, безлично. Чтобы ни тот, ни другой фронт не перешел в наступление. Хуже нет, и не удалось. Хотя Красилин не понял, с кем я беседовала, но легче не стало. А с кем и о чем?
– Лешик. Ты, я знаю, не спишь… Я для тебя по своим каналам кое-какую информацию. Тебя заинтересует. Я сейчас приеду… Нет, по телефону нежелательно, лучше мне приехать… Преждевременно? Мы же договорились, что я загляну через пару деньков. Как раз… Это связано с одним твоим давним знакомцем… Уверен, ты не догадываешься. Я не интригую тебя, но лучше – не по телефону… Хорошо! Фамилия Красилин тебе говорит о чем-нибудь? И давно сидит?.. Гони в шею!.. Хорошо! Тогда я тем более приеду! Я его сам – в шею! Да, считаю, что надо!.. Нам с ним есть о чем поговорить… Считаешь?.. Я хочу с ним разобраться… Во всем вы не разберетесь, тем более ты… Все! Я сейчас приеду!.. Ты сказала: не надо, а я сказал: надо!
Если, конечно, наши с Викой реплики совместить, то все понятно: вздыхатель решился на серьезный разговор – с поливанием бывшего мужа, с уверениями типа «все будет хорошо!». Сольемся в экстазе (где же преждевременно, коли пара деньков миновала!). С диктатом сильнейшего, берущего на себя решение житейских проблем. И т.д. и т.п.
Но для перекаленного Красилина наш с Викой разговор состоял только из моих реплик – и такая «няма» выродилась для бывшего мужа, что однозначно решил: ОНИ!
Но Вика-то! Вика! Он же победитель, он же не вздыхатель! Или для перекаленной меня его реплики однозначно выродились в иную «няму»? Зачем бы ему вдруг звонить так рано и так бурно? И что за каналы у него такие информационные, если порвал все связи с прежней работой?!
Чего-то я не понимаю! И не хочу я ничего понимать! Не мое дело – понимать! Понималка перетрудилась, раскалывается! Отстаньте все!
– ОНИ? – не отстает, просительно настаивает Красилин уже без истерики, а мирясь: общая беда объединила, вместе справимся.
– Нет, не ОНИ. Приди в себя, Вадик. Кончилось все. У НИХ теперь ни повода, ни причины… Я уже не ИТД. Все позади, Вадик… На работу надо устраиваться… Ой, устала я, Вадик, как я уста-а-ала.
– Ты ИХ не знаешь, Галонька, – вперился в стенку, а говорит мне, проникновенно-проникновенно. – Ты ИХ не знаешь. Эх, если бы полковник был… Ты не знаешь, ты не все понимаешь, ты не сможешь понять… Ну, ничего-ничего! Мы справимся! Нам с тобой и не такое… И с работой тоже. Я с шефом столкуюсь, я и тебя от НИХ заберу… Черт, ку-уда заберу?! Черт, черт, черт!
Боже мой, сто лет тебя Вадиком не называла, само вырвалось. Ведь страдает неприкрашенно, под спудом что-то держит, никак не высказать.
Выскажи – пойму! Таська что ли? Переводчица? Какое мне дело, Вадик, до Таськи! Мало ли что было. Нельзя начать все сначала. Но когда ничего не остается, можно ведь попробовать все по новой. Уцепиться друг за друга и – хуже-лучше? – просто по новой. Яростной влюбленности не будет, но в знак признательности очаг могу обещать. Пусть тусклый, но тебе же, Вадик, неважно. Лишь бы я у тебя была, вот что тебе важно. Могу обещать. Могу обещать, что если вдруг, то ты и знать не узнаешь. Ой, Вадик-Вадик, что тебе еще остается! Ой, Красилина-Красилина, Лешакова-Лешакова, что тебе еще остается! Только не хотелось бы мне быть причиной…
– Вас на СПИД проверяют?
– Проверяют, проверяют… – машинально, о неважном, о второстепенном бормочет он. – При чем тут СПИД!
Ни при чем. И я жалобно тяну ноющую ноту, все горше и горше: оттого, что обманула лошадица-пони, что заставила меня тянуть ноющую ноту – и все горше и горше оттого, что обманула. Зачем, ну зачем так врать было. За что?..
Ой, Вадик-Вадик, если бы ты знал!..
– Галонька-Галонька, если бы ты знала!.. – он риторически обнимает меня, все так же вперившись в стенку.
Глажу пальцем его залысину. Вадик-Вадик…
– Ты не знаешь, Гал, ты не все понимаешь, ты не сможешь понять… Ну, ничего! У меня хватит сил! У нас с тобой хватит! На двоих, на троих!
(Выскажи! Пойму! Не дура же я совсем! Ребенок у тебя намечается от кого-то?).
– На все хватит! – и маскируя тяжесть, груз, спуд под деловитой бодростью (общая беда объединила, вместе справимся), чеканит: – Все правильно! ИТД – заманчивая стезя, но все-таки не для прекрасной половины. Тут не всякий мужик сдюжит, не то что ДАМА! (Слово в слово!). Я же тебе еще тогда говорил, год назад… Ничего, я с шефом столкуюсь, мы тебя оформим. Заграница, представляешь! Я тебе все там покажу, повсюду повож… Гал! ЧТО!
Меня отщелкивает от Красилина пружинной волной. Он мне говорил! Год назад, еще тогда! И не только он, и не год назад! СЛОВО! В! СЛОВО! «Брежнев»!
Брезжило, брезжило – набрезжило! Ах, вот та-ак?! Дура я, дура! Ну не дура же я совсем!
– Тяф-тяф! – отсигналил утреннюю прогулку Трояшка.
Зря я грешила на буржуев, совсем не барахольские часы у шофера-шахтера-лифтера-вахтера. И не часы вовсе. Это попутно, это не главное – да и мало ли привозят из-за кордона всякой всячины, тех же брелков со свиристельным отзывом небось не одна тысяча по Союзу наберется – с отзывом на всякий тонкий звук, будь то свист, женский щебет, собачье тяфканье. Но тут – попадание в попадание!
– Знаешь, Красилин, – сообщаю новость. – А «Брежнев»-то твой батарейку где-то раздобыл. Для брелка.
– Какого брелка?!
Врешь, Красилин! Врешь!
– Который ты фарце сдал прямо на перроне. В субботу. Только за что ты человека обижаешь? У него почетная профессия шофера, а ты – фарца, фарца-а!
– Не знаю никакого шофера! Гал! Ты ЧТО?!
– Какой же ты… Ты… Какой же ты…
– Гал! Ну Гал! Подожди! Давай поговорим! Поговорим давай! Ты выслушай! Ты только выслушай!
– Не прикасайся ко мне!
– Выслушай же!
– Ка-ав-во?! Ка-а-ав-в-во-о?!!
– Не надо так! Ты не все понимаешь, ты не сможешь понять! Я ведь… Люблю ведь я!!! Тебя!!! Теб-ь… б-б-б…
Он б-б-бкает, сжав ладонями виски, раскачиваясь, и не врет слезами (кто придумал про «скупую мужскую»?).
– Я же вернуть хотел… б-б… Я не могу без те-б-б… Ты не слушай слова, ты прости за слова, я не умею сказать… Мы с ним просто говорили… По душам… Там тоска-а… и каждый русский – свой. А Ильич, Леня – тем б-б-б… олее.
– Он что, действительно Леонид Ильич?
– Представляешь? Мы по душам… Там же все наши вместе держатся… Шофер… Мы долго и не раз… Ты не думай, не месть, а просто люб-б… б-блю. И он… что я прав, сейчас об-б… щая тенденция… и налоги… и посадят, и вообще пропадет девка… то есть ты… Он об-б… щал помочь… Что поможет… Мы так с ним не договаривались, чтоб-б… б-бы так далеко заходить. Он об-б… щал только пугнуть. Не пугнуть, нет! Ты не слушай слова! Я узнал, что ОНИ увлеклись, они сами дали мне понять… Я сразу приехал. В суб-б… боту! Я же видел, чувствовал, что ты, что у теб-б… б-бя все на пределе! А ты не сказала. Мне никак не остаться б-б-было. Я им… ему позвонил. Из Хельсинки. Говорю, мы так не договаривались, прекращайте! А они, а он говорит: «Чего-о?! Ка-азел в клеточку! Теб-б… бя не спросили!». Я им тогда… А они… Сам навел, говорят, и молчи. Или, говорят, в ментовку поб-б… б-бежишь?! Не поб-б-б… А теперь они и с меня треб-б-б… И об-б… бещали, если я не… то…
– Ничем не могу помочь, дорогой! Даже одолжить не могу. Не из чего. И потом тебя, то есть их, рубли, наверное, не интересуют? Только марки? Нету. Даже на кофе… Ты на автобус не опоздаешь? Или тебя Леонид Ильич по договоренности подвезет на «Совтрансавто»? Кабина просторная! С ветерком!
– Зачем ты так?! Зачем?! Так?! Я, если хочешь знать, тайком почти. Я вообще не имел права приезжать!
– Это уж точно! СЮДА приезжать ты права не имел!
– Зачем?! Ну зачем так?!
– У тебя заграничный паспорт в порядке? А то подари какой-нибудь канцеляристочке шоколадку? Чтобы ошиблась в буковке, фамилию не так написала. А ты – буква в букву перенеси во въездной талон! И сгинь! Сгинь! Для меня хотя бы сгинь навсегда!!!
– Зачем ты так?! Зачем?! Так?!
Отвратительное зрелище: зареванный мужик!
Нет, лю-у-уди, нет у меня си-и-ил! Мало того, что подставил по большой любви, еще и сам влип и сочувствия требует и обижается, не получив! Искренне! Я не знаю, как все это назвать! Как вообще всю эту жи-и-изнь назва-а-ать! И не хочу, не буду! Застрелюсь или убью!!! Всех! Всех! Не-е-ет у меня больше си-и-ил!
Звонят! Опять в дверь звонят! Мыльников, ты же всегда появляешься вовремя! А сейчас не вовремя! Даже если сказал: я сейчас приеду. Должен ведь чувствовать! Чувствилище изменило?! Ну заходи, полюбуйся! Мы во всем разобрались, хотя ты сказал: вы во всем не разберетесь, тем более ты. Мы разобрались, я разобралась – и не знаю, для чего ты здесь нужен! Но тебе лучше знать, если пришел! У тебя свои каналы информации! Уж не мордовороты ли тебе ее поставляют как сэнсею?!
Сейчас, сейчас! Замок теперь стал заедать! Сейчас открою! Вот!
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
Ну, здрасте, Ви…
… ка… а-ак?! Петю-тю-тю… С ума сойти! Петюня! С чемоданчиком! Клавка что?! Все-таки совсем без мозгов?! И не великоват ли чемоданчик для полимерных образцов?!
– Я пришел, Галина Андреевна! – Петюня стоит на границе квартиры, не переступая черты. И рожа, ну рожа! Все цвета радуги! Разукра-асили.
– Доставай. И, прости, у меня времени для тебя нет. Вообще нет. Ни для кого.
– Я всю ночь не спал, Галина Андреевна. Я решил. Она опять вешалась. И с балкона хотела прыгнуть. Но я решил. Я пришел! – герой-пионер, подвиг совершил. – Что с вами?! Кто вас оби…
Петюня меняется в многоцветном лице. ПЕРЕСТУПАЕТ ЧЕРТУ, отстраняет меня (Петюня! Меня!) и шагами Командора – на звук, в квартиру:
– Кто этот мужчина?! Что он тут делает?!
Он, Красилин, ничего тут не делает, он приподнимается с тахты и… звонко падает обратно – Петюня наносит ему книжную аристократическую пощечину, потому и звонко, потому и падает, что тахта под коленки пришлась.
Потом… Потом… Боже мой, кто-нибудь! Ну хоть кто-нибудь! Они же глотку друг другу перегрызут! Два инвалида! Один – синяк на синяке, другой – рука забинтована. Они катаются, рычат, сипят, волокутся, ойкают, задев больное место, вываливаются из квартиры, трутся о штукатурку, бьют головой об ступени, раскровениваются…
Дети-цветы, хиппари морозоустойчивые после долгого перерыва опять обсели площадку между этажами – затихли было, но поняли: не про их души.
Старшее поколение меж собой грызется, последний бой.
Дети-цветы свесились с перил, подзуживают, улюлюкают:
– Давай-давай! По кумполу! По кумполу!
– Мы вмес-те! Мы вмес-те! Р-р-ра-а!!!
– Зе-нит – чемпион!
Припадочно топаю ногами, трясусь:
– Разнимите их! Разнимите!
Боже мой, ну хоть кто-нибудь!!! Но…
… только не это! ЭТО – Лащевский в пижамных штанах с молотком, полный решимости покончить раз и навсегда.
Машина! Скрежет! Тормоз! Дверь подъезда – с петель! Вика! Все-таки он вовремя! Опять он вовремя!
Черный пояс! Молоток Лащевского на замахе – в лампочку, выбит. Брыз-з-зь! Только ввинтили.
В-в-вх! В-в-вх! В-в-вх! Не уследить! Что за звук?! Руки, Викины руки: в-в-вх! в-в-вх! И – груда тел. И Вика в замершей, искривленной плоскости – чуть задрав голову: кто там еще? между этажами?
И мымра:
– Уби-или! Уби-и-или!
И вторящее мымре хиппаревое то ли резвящееся, то ли перепуганное:
– Уби-и-или! На по-о-омощь!!!
И когти мымры у самых моих глаз.
Отшатываюсь, опираясь на что-то (обувная полка!), хватаю! Сам ложится в ладонь: и маузер, и наган, и браунинг, и кольт. И палю в белый свет как в копеечку!
Не-е-ет! Бух!
У! Бух!
Ме! Бух!
Ня! Бух!
Боль! Бух!
Ше! Бух!
Си-и-л! Бух! Бух! Бух!
В мымру! В лысика! В Красилина! В Петюню! В Вику! В ИТД! В и т.п.! В исполком! В шоферов! В полимер! В продавцов! В дефицит! В алкашей! В лошадищ! В хиппарей! Во! Всю! Эту! Жи-и-изнь! В се-бя!!!
Никого нет. Ничего нет. Ни снаружи, ни внутри. Наизнанку вывернутая. Опустошилась. Долго я барахталась. Мамочки-мамочки-мамочки! Долго агонизировала, «ю-юьф» издавала… (Идет человек, за ним крокодил. Крокодил в спину ему свистит: «Ф-фью!». «Прекрати!». «Ф-фью!». «Сказал, прекрати!». «Ф-фью!». «Если не прекратишь, я тебя сейчас наизнанку выверну!». «Ф-фью!». Схватил, вывернул наизнанку, дальше пошел. Крокодил все так же следом и в спину ему: «Ю-юьф!»).
Мне же так мало надо. Нам, бабонькам, так мало надо! Ерундовину (тряпочку, цветочек, лучик, открыточку!) – и мы за радость эту крохотную уцепимся, надуем до предела и еще побарахтаемся, всплывем, пусть кругом потоп. «Ю-юьф!».
Денег нет. Плеча рядом нет. Работы нет. Защиты нет. Сочувствия нет. Пощады нет. Веры нет. Спичек… Сил нет! Совсем нет сил! Спичек – и тех! Духовку зажечь, спечь – и даже спичек нет! Зажигалку никто и не починил, рой мужиков – и никто! Некому починить! Зажигалку-галку-галку… галку… некому починить.
Сырым тестом мне питаться?! Стакан муки, банка сгущенки – ладно, без сметаны сметанник! Смирилась! Но не сырое же тесто! Должна быть в доме хоть одна спичка?! Мамочки-мамочки-мамочки! Двадцать минут – и корж готов. Только бы духовку зажечь. Да! И яйцо не забыть вбить, а то корж не поднимется. Осталось одно-единственное от идиллического ужина. Вобью, испеку. И – «ю-юьф!».
Вот спичка! С ваткой намотанной, в туши. Размотаем! Не горелая, целая! «Ю-юьф!».
Зажечь, испечь. Сначала – яйцо!
Цок! Мамочки-мамочки-мамочки!
Длиннющей, ускользающей, неминучей зеленой соплей – в тесто: плип! Она, китайская кухня! Одно ведь оставалось! И мне досталось. Запах-запашище! NH3 в квадрате! В кубе! За что мне?! Ну за что?!
Срочно, немедленно – из квартиры! Всю китайскую кухню – в мусоропровод! Ф-фу!
В ящичке почтовом, в дырочках – белеется, топорщится. Открыточка! С запозданием. Поздравление? Мама? Больше и некому. Тридцать лет. «Ю- юьф!».
Да, открыточка… Вызов в административную комиссию. В исполком. Зачем мне в исполком?! Я уже не ИТД… Но это не от этого. Это не ИТД Это – и т.п. На предмет нарушения т. Красилиной правил социалистического общежития. Мамочки-мамочки-мамочки! За что! Ну за что мне!
Крохотное бы что-нибудь! Кро-о-охотненькое, чтобы на глоток воздуха: «ю-юьф!» в себя и еще побарахтаться.
Есть же, есть люди в миллион раз хуже меня, но они живут как люди, а я? Уж лучше не жить! Мамочки-мамочки-мамочки!
Ш-ш-ш-ш… Не нужна мне теперь духовка. Не будет мне коржа. Ничего мне не будет. Выключила. Ничего и никогда мне больше не будет. Мамочки-мамочки-мамочки! Включила. Ш-ш-ш-ш.
«Отк'ивай, отк'ивай! Шейчаш ужнаешь!».
Откинула дверцу. Двадцать минут и корж готов. Нет коржа. Двадцать минут и я готова. Спекусь. Мамочки-мамочки-мамочки! Если сухарь водой попрыскать и – в духовку, то оживет. Если меня попрыскать и… Хорошую религию придумали индусы… И никаких проблем! Все по новой! Ни ИТД, ни и т.п., ни налогов обдирающих грядущих, ни окружающей ненависти, ни безработицы, ни безденежья, ни страха, ни упрека, ни безнадеги. Ничего больше! Ничего больш…
… ш-ш-ш-ш-ш. Мамочки-мамочки-мамочки! Колени подгибаются. Сами подгибаются. И голову, голову – туда. И глоток в себя: «ю-юьф». Это безболезненно. Это нужно только чуть-чуть подождать. Опять ждать! Но не кислоту же пить! Не осетрину же ботулизмованную есть (где она!). И никаких мук. Мамочки- мамочки-мамочки! Ш-ш-ш-ш-ш…
Темно, вонюче и – не страшно совсем, просто раздражает! Мгновенно должно быть! Брык и все! Опять ждать… Опять ждать… Что за жизнь! Даже смерть в этой жизни и то ждать… Мамочки-мамочки- мамочки!
Щекотно за ухом. Будто давешним узорчатым жестом провели. Смахнула, стряхнула. Меж пальцев кракнуло. Липко.
Бро-бо-бом-м! Подскочила башкой о «потолок» духовки: бро-бо-бом-м! Ой, больно-больно-больно-больно! Таракан! Дрянь какая! Какая дря-а-ань! Ой, мамочки-мамочки-мамочки! Под воду, под сильную струю! Какая га-а-адость! Он, насекомое, усиками будет шевелить, а я – брык?! Я брык – а он, насекомое, по мне будет ползать, семенить, щекотать! Дрянь какая! Какая дря-а-ань!
Мне ДМП присвоят посмертно, депрессивно-маниакальный психоз диагностируют, а они все будут ползать, семенить, щекотать: по магазинам, по совещаниям, по заграницам, по кабакам, по жизни… с песней! Фигушки! Фигуш…
… ш-ш-ш-ш-ш…
… шп! Выключила!
Головенка болит! Голове-о-онушка! Ой, больно- больно-больно-больно! Шишка будет. Теперь шишка бу-у-удет! Бу-у-у… У-у-у! У-у! Мамочки-мамочки-мамочки!. Что же мне делать, что делать мне-е-е! Кто бы защитил! Кто хотя бы не нападал! Лю-у-уди! Кто- нибудь! Кто-нибу-у… у-у-у! Лю-у-у… у-у-у-у!
Мамочки-мамочки-мамочки! Какой там код?! Сто лет не звонила. 8-892-0… и номер.
«Неправильно набран номер. Справки по телефону…».
Почему же неправильно?! 8-892-0… и… Я же помню! Я же не могла совсем забыть! Мамочки-мамочки-мамочки!
«Неправильно набран номер. Справки по телефону…».
Не ноль, а двойку надо, вспомнила! 8-892-2… и…
Срывается номер! Срывается и все! Все срывается в этой жизни! Кто бы защитил! Кто хотя бы не…
Да! Кто это?
– Мамочка-мамочка-мамочка! Ма-ам!
– Галчик, ты?
– Мамочка-мамочка-мамочка!
– Что произошло?! Я тебе варенье послала. Дошло? Что у тебя произошло?!
– Ничего. Совсем ничего! Ма-а-амочка! Я к тебе хочу-у!
– Объясни немедленно, что произошло!
– Ничего! Совсем ничего! Ма-а-а…
– Ты опять врешь! Ты все время мне врешь! Я же слышу: произошло! Это все твой образ жизни! Нельзя так жить, как ты живешь! Так никто не живет! Надо жить не так, как ты живешь!
– Что ты замолчала?! Сказать нечего?! Нечего возразить?!
– Ты что, позвонила, чтобы молчать?!
– Галина!
– Вся в отца! В мерзавца! Скажешь что-нибудь или нет?! Не молчи, мерзавка! Твои же деньги идут!
– Ну?! Господи, зачем я тебя рожала! Зачем только я тебя рожала!
– Гал-л-лина!!!
– … Я тебя не просила! Знать тебя не хочу! Дурная, злая баба! Кто тебя просил меня рожать?! За что?! За что ты меня родила?!! Не хочу тебя слышать!!! Не хочу тебя знать!!! Не хочу!!! Жить не хочу!!!
Пип-пип-пип-пип…
Кто хотя бы не нападал…
Пип-пип-пип…
Кто бы, кто…
Пип-пип…
Мамочки-мамочки-мамочки!
Ой, больно-больно-больно-больно-о-о… О-о-о! У- уоу-у…
***
…500. 459. 458. 457.
.. мыло, извлеченное сотрудниками ОБХСС на подпольной фабрике кооператива. Следы, оставляемые самодельным мылом (к нам поступило и продолжает поступать очень много звонков), смываются таким количеством натуральных моющих средств, что впору объяснить нынешний дефицит. Кроме того, пользование кооперативным товаром – язык не поворачивается именовать его мылом – вызывает непредсказуемые кожные раздражения, которые многие неостывающие головы готовы приписать экологической обстановке в Невской губе…
…412. 411. 410.
Теперь, как всегда, видеосюжеты…
405. 404. 403. 402. 401. 400.
Трудно поверить, но то, что вы видите, произошло не где-нибудь, а в нашем городе. Сегодня во второй половине дня, около восемнадцати часов, в районе бывшего Комендантского аэродрома эта женщина…
Февраль – июль, 1989.
ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО
Застою…
«Какой идиот! Нет, какой идиот!» – было в мыслях у Гребнева, пока он сам прыгал со ступеньки на ступеньку вверх. Вроде энергичного припева, который годится каждому куплету – с небольшими вариациями.
Какой идиот!.. Нет, ну вот какой идиот придумал рыть канаву и менять трубы, отрезав таким образом поликлинику от автобусной остановки. А по наброшенным поперек доскам и на двух ногах перебегают опасливо, балансируют. Что же про Гребнева говорить с его временной одноногостью! И надо прыгать вдоль канавы, пока она не придет к своему логическому завершению – трясущемуся от жадности экскаватору, хапающему грунт клыкастым ковшом. Обогнуть технику и снова вдоль – обратно.
Какой идиот!.. Нет, ну вот какой идиот планировал размещение кабинетов в районной поликлинике?! Это надо было крепко подумать, чтобы травматологический пункт устроить на последнем, четвертом этаже!.. Прыг! Еще прыг! Очень выматывает. Через каждые пять ступенек – грудью на перила, центр тяжести перенести, отдышаться. И дальше, вверх. Попытался чуть приступать – никак!
Какой идиот!.. Нет, ну вот какой он, Гребнев, идиот, что лихо отмахнулся вчера, когда дед упредил: «Ты осторожней на лестнице-то. Горазд смешная лестница!». Смешного мало: сверзился Гребнев с нее, как гвардеец кардинала в кино. И в до-о-олгую секунду, пока летел, не вся его жизнь в мозгу пронеслась, как по легендам полагается, но зато этаким вспыхнувшим салютом возникли все и сразу передачи «Здоровье», которые когда-либо смотрел – где про переломы и уникальные сращения.
Сначала показалось – ничего особенного. Слава Богу, шея цела и остальное все вроде в норме. Мол, дойду.
Дош-шел!.. Врачиха была улыбчивой, бодренькой. Не потому, что травматологу наплевать, и не такое видел. Просто любая болячка – всего лишь болячка, пока она не у тебя лично. Но как только она обнаруживается лично у тебя, то моментально вырастает до невероятных масштабов. Ловишь взгляд знающего человека, который обсматривает и общупывает. И читается на лице пациента чуть ли не: «Жить буду?!». Мнительность по отношению к собственному здоровью – примета времени. Тут как раз очень нужен улыбчивый, бодренький врач, лучше – она. Который не делает из любой травмы трагедии, никаких ахов- охов. Лоб не хмурит, языком не цокает. А оптимизмом пациента заразить: не грипп, полезно.
Гребнев не был мнителен, как-то обошла его эта примета времени. Наоборот! У него была другая примета, возраста что ли: ну что со мной может случиться?!
Действительно, что может случиться, если тебе тридцать, если шесть лет монтажил, на какой только верхотуре ни работал – и скользко было, и ветром сколько раз чуть не сдергивало, а хоть бы хны!.. Или раньше еще, в армии. Когда сержант Бочкарев сказал: «Па-аказываю!». И показал – ведь предупредил заранее, чтобы Гребнев замахнулся по-настоящему. Так нет же, рядовому Гребневу захотелось свою искушенность продемонстрировать – и вылетел по невидимой касательной с матов. Грох-грох! На голые доски, а хоть бы хны! Или когда их, первогодков, к высоте приучали: разбежавшись по настилу с пятиметровой высоты – в рыхлую землю. Или потом, когда настоящие прыжки пошли: «Спружинил – и набок! Набок! И сразу стропы тянуть! Тянуть! Ясно?!».
Ну что с ним может случиться!.. Поэтому Гребнев удало подыгрывал травматологу-оптимистке – еще заподозрит в мнительности! Та поставила Гребнева коленкой на табурет, проследила пальцами голень:
– Как? – спрашивает, будто предвкушает восторг со стороны исследуемого.
– А-ага! – в тон ответил Гребнев. – Еще ка-ак!
Нет, не перелом. С переломом он бы вчера до дома не добрел. А он не только добрел, но и спать плюхнулся безоблачно – царапина, наверное, завтра отболит. В крайнем случае, связку чуть потянул. Но утром никак на ногу не ступить. Такая болезненная ерунда, что ни шагу. Вытащил с антресолей лыжную палку – подскакивал, подскакивал на одной здоровой, подцепил и вытащил. И поковылял. Ну что с ним может случиться!
– Частичный порыв ахиллесова сухожилия, – сказала врач. – Месячишко придется отдохнуть, а пока – в гипсовую. Через коридор. Доберетесь?
Вот эт-то да-а!
– Травма производственная или бытовая? – переспрашивают потом в регистратуре. – Какая же производственная?! – скептически. – Где вы так? На юбилее? Поня-атно!
– Да у меня работа такая!
– Ха-арошая у вас работа! – в карту больничную утыкаются. – Значит, Гребнев Павел Михайлович. 1952… Корреспондент. Ах, корреспондент? Тогда поня-атно!
Что им понятно?! Насмотрелись, начитались беспардонного вранья: журналист – это вечные беспробудные коктейли у зарубежной стойки; журналист – это глубокомысленные сигареты за непринужденной беседой с прогрессивной кинозвездой: журналист – это умелая зуботычина идеологическому противнику, если пристанет: а чтоб знал!
Только в «районке» у корреспондента несколько иная специфика, нежели у «золотых мальчиков»… Мотаться приходится неизвестно где. То есть известно! Кого, например, послать на строительство пансионата, если не Гребнева? Он же сам недавно монтажником был – он и разберется лучше всех! Это комплимент. Парин умеет говорить такие комплименты, глядя ясно и просветленно.
А до пансионата – километров семь, транспорта к нему никакого, редакционный «жигуль» на домкратах отдыхает. Степка, шофер, что-то с ним мудрит… Но не это главное. И даже не то, что ни одной попутки. И даже не то, сколько приходится искать предполагаемого героя – названного по телефону передовика. Ой, сколько искать!
– Вы не видели Канавкина?
– Вроде туда пошел! Спросите у мужиков на растворном…
– Вы не видели Канавкина?
– Был тут, да куда-то пошел.
– Как он хоть выглядит?
– О-ох, молодой человек, пло-охо! Очень плохо. Вчера еще получку получил…
– Слушайте, что же мне за ним – по всей территории рыскать?! Приметы у него хоть есть?
– А как же! Есть! В очках и в ватнике!
– В мае – ватник? Ну, ладно! А это не Канавкин?
– Не-ет! Какой же это Канавкин!
– М-да, приметы. Сколько ему хоть лет?
– Шестьдесят.
– Да ты что! – подключается еще один. – Не больше сорока!
– Кана-авкину не больше сорока?! Да он только у нас на участке лет двадцать пашет.
Самое удивительное, что Канавкина все же удается найти через пятнадцать минут. Действительно, в очках и в ватнике. И, перекрикивая баритональный динамик на столбе, Гребнев втолковывает передовику, что ему надобно. А динамик вещает:
«Мы, делегаты XIX съезда ВЛКСМ, выражая мысли и чаяния комсомольцев, всех юношей и девушек нашей великой многонациональной Родины, обращаем слова безграничной любви и сыновьей благодарности к родной Коммунистической партии, ее боевому штабу – ленинскому Центральному Комитету, Политбюро ЦК, лично Генеральному секретарю ЦК КПСС, Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Леониду Ильичу Брежневу…».
И Канавкин, косясь на столб с динамиком, нехотя бубнит:
– Наша комсомольско-молодежная бригада, встав на трудовую вахту «60-летию СССР – 60 ударных недель», активно включилась… Особыми успехами в деле монтажа конструкций решено отметить двадцать восьмую неделю, посвященную Ленинскому комсомолу… Вместе с тем, нельзя не отметить…
А когда Гребнев отрубает: «Вы можете нормальным человеческим языком?», – передовик смолкает, глядит тоскливо и мимо: что, мол, тебе от меня надо! Гребневу надо, чтобы ему лапшу на уши не вешали: ведь, пока шел семь километров, ни одной машины – ни туда, ни обратно. Арматура, песок, цемент – не грибы, сами вокруг пансионата не вырастут, их привезти надо. Значит, простаивают. Значит, пусть и по каким угодно объективным причинам, но валяют дурака. Вот оно главное: стройка-то в завале, а нужна румяная зарисовка в духе времени о трудолюбивом Канавкине, который вот уже четверть века…
Канавкин на самом деле – четверть века… а что он один может сделать?! Да ему этот кавардак во где!.. – и горло ладонью режет. Втягивается в разговор, почуяв в Гребневе знающего человека, начинает костерить проектировщиков, смежников, поставщиков и вообще всех этих… – и тычет пальцем вверх, в динамик на столбе, который:
«Бесценные уроки непоколебимой идейной убежденности, большевистской стойкости и принципиальности, мужества и доброты, умения жить и бороться по-ленински, по-коммунистически черпает молодежь в ваших замечательных книгах «Воспоминания», «Малая Земля», «Целина», «Возрождение»…».
Получается жестко и по существу. Только вот румяной зарисовки не получается. А позже, в редакции, Парин укоризненно качает седоватой головой: «Ну разве так можно! Так же нельзя!». Он точно знает, что можно, что нельзя. У него жизненный опыт, он заранее все знает.
Тогда Гребнев вскипает, ломится к редактору и, плюхнув отпечатанный оригинал на стол, говорит все, что думает. А Парин входит следом и за спиной успокаивает мимикой: молод, горяч – вы-то помните, как с «Филипповым отчетом» было…
Редактор помнит. Гребнев помнит. Еще бы! Первый большой материал – и такая лужа! Вопрос только – кто его к луже толкнул? Но это уже второй вопрос. Теперь же Гребневу предписано выйти из кабинета и подождать, пока редактор не поговорит со своим заместителем.
Говорят… Говорят… Кот, Костя Пестунов, высовывает в коридор свои бандитские усы, потом и сам целиком появляется. «Опять?» – спрашивает-утверждает. Гребнев даже не кивает, просто смотрит. Говорят… «Вот тебе наплевать на мои слова, а я тебе который раз…» – начинает Кот в который раз. И не заканчивает – Гребнев на него опять просто смотрит. Кот разводит руками: вольному – воля! Втягивает голову обратно, дверь прикрывает, чудом не защемив собственные усы. Говорят…
Наконец выходит Парин – не с видом победителя, с видом старшего товарища, удрученного промахом младшего коллеги. Добра ведь желает!
– Сейчас не время пока, – говорит редактор Гребневу. – Материал хороший, но сейчас пока слишком острый. И у нас же Пленум ЦК на носу, ты же в курсе… Пусть полежит, а строчки я зачту. Договорились?
Договорились, если можно так выразиться. И уже три недели интервью с Канавкиным – под спудом. И никаких коктейлей, никаких приятных бесед. А уж про зуботычины (чтоб знали!) – и думать забудь. Но так хочется… изредка.
Однако не будет же Гребнев обо всем об этом – в регистратуру вываливать! И про юбилей не будет объяснять, что иногда на юбилей идешь не «Поздравляю!» кричать со всеми сопутствующими действами.
Вчера Хинейко в последний момент письмо принес – прямо в летучку. Понедельник и так день тяжелый, и уже на исходе, а тут – пожалуйста:
«Дорогая редакция! Никогда не писал в газету, но послезавтра, 14 июня 1982 года, старейшему жителю нашего района восемьдесят лет. Я, как человек много лет уважающий и знающий Трофима Васильевича Авксентьева, считаю, что газета должна по достоинству…».
– Надо! Обязательно надо! – говорит редактор.
Послезавтра – так в письме. То есть, как раз сегодня, четырнадцатого. Уже припоздали, но если оперативно, если взяться, если приложить все силы, если… Кто?
У Бадигиной, конечно, дети из садика. К Молохову мастер должен прийти, холодильник чинить. Пестунов? Кот сначала навострил уши – бывало, Хинейко с очень уж курьезным письмом летучку перебивал. А у Кота хобби, он свой «маразмарий» собирает – из газетных ляпов и особо идиотических стишков в редакцию. Много накопилось…. На этот раз не то, а если так, то у Пестунова срочная-неотложная встреча с рабкором, вот буквально через час. Заранее договорились – рабкор ему обещал, и он рабкору обещал. Завтра с утра – сто строк, как минимум, уже на столе будут. Да-да, по продовольственной программе, естественно, а как же иначе, только так! (Врет! Просто в 19.15 по ТВ – Италия-Польша, а в 23.00 СССР- Бразилия. Чемпионат мира! Испания! Какой там юбилей старейшего!.. Врет, но завтра действительно положит с утра сто строк. Не ущучишь).
Сам Хинейко? С его-то ногами по проселку? Почти пять километров? Полиартрит, эндоартериит. Совсем расклеился. Всего год до пенсии.
Значит, кто остается? Гребнев. И… Парин. Но Парину необходимо быть на встрече избирателей с кандидатами в депутаты – в санатории. Расчет прост: юбилей – заманчиво, но встреча избирателей закончится явно намного раньше, чем какой-то там юбилей начнется. А с утра можно в полчаса надиктовать машинистке сразу набело. Первая полоса вечно «голая» – значит, с колес пойдет, строки в зачет:
«Началась 32-я неделя трудовой вахты в честь 60-летия образования СССР. Она посвящена Советам народных депутатов.
Радостное и приподнятое настроение было у…».
У Парина наработанные навыки. И чихать, что никто не поверит – мол, на встрече было веселей и интересней, чем на юбилее старейшего жителя этого района. Зато голову не надо напрягать, а после с апломбом проследовать в тот же санаторный восстановительный центр (финскую баньку в просторечии). И принимать все как должное: подчеркнутое уважение обслуги, подчеркнутое дружелюбие того же Долганова, априорного кандидата в депутаты. Еще бы! Парин же не напишет: «Было серо и скучно, работники дремали и во сне видели пляж. Наиболее нахальные вдруг вставали с озабоченно-виноватым видом, успокаивали тихим жестом: сейчас, сейчас! только утюг горячий выключу!.. Пробирались к двери, сгорбившись между рядами, и не возвращались вовсе». Нет, Парин напишет: «Радостно и припо…».
Гребнев отнюдь не жалел, что пришлось все-таки ему. Он еще не обрел усталой кокетливости профессионала: а, надоело все! Он еще с удовольствием сдавал зачеты и прочее на третьем курсе заочного отделения. Он еще с удовольствием шел куда пошлют.
Он еще с удовольствием лез в конфликт и, когда писал «давайте разберемся», всерьез старался разобраться. Он еще с удовольствием выискивал в человеке, о котором рассказывал, нечто. Ведь интересно!
– Любитель! – лениво уничижал Пестунов, лениво оглаживая свои бандитские усищи, – Был любителем, им и останешься.
– Кот! Ты только послушай! – заходился от эмоций Гребнев, вкатываясь к Пестунову после очередного «урока» Парина. – Нет, ты послушай, что он мне…
– И правильно делает! – зевал Пестунов напоказ, шевеля усами (Кот и есть Кот). Объяснял: журналистика – работа. Работа, понятно?! Очень интересная, а кто спорит! Сплошные новые впечатления. Но, между прочим, сколько их можно впечатывать?! Простой незакаленный турист за двухнедельную путевку так устает от этих самых впечатлений, что не только увлекательно рассказать, а и смотреть больше не желает на какую ни есть достопримечательность. Отдых, называется! Это только за две недели, а если из месяца в месяц – и смотреть, и записывать! Ладно бы еще: страны и континенты. Всяко хоть надеешься на что-нибудь новенькое. А если район? Газета – четырехполоска половинного формата. Ее четыре раза в неделю надо чем-то заполнять. Пусть край озер, пусть турбазы и кемпинги чуть ли не почкованием размножаются, пусть проблема отдыха. Но дальше четвертой… ну, третьей полосы проблему отдыха не протащишь. А первая полоса? А вторая? Ладно, сейчас время такое – сплошные «шпеки» в газете, сплошной официоз. Дальше-то, дальше? Свой материал нужен, местный. И откуда брать? «Рукава» у района немалые – полста километров от хозяйства до хозяйства. Каждый «рукав» за годы существования газеты хожен-перехожен, каждый передовик спрошен- переспрошен, каждый разгильдяй обсужден-обобщен. Такое дело!.. А, брось, Гребнев! Ему ли, Пестунову, не знать с его, Пестунова, красным дипломом! Только он, Пестунов, никак не ждал, что его сюда забросит распределением. Ничего, еще два года проваландаться, а уж тогда-а! Ему, Пестунову, уже два раза звонили из областной печати…
– По головке гладили? Хорошо, мол, валандаетесь? Да?
– Чего-о?!. А, брось, Гребнев! Л-любитель и есть!.. Глянь лучше, что сокурсник бывший прислал! – И Пестунов зарывался в папку, в свой «маразмарий», бурчал: – Ему вообще облом! В многотиражку влип! Вагоноремонтный завод, а свою двухполоску имеет. Ага, вот! Читай! Ты заголовок читай! «Главный двигатель плана – исправные тормоза!» – и ронял в усы мрачный смешок.
Гребневу было любопытно, но неинтересно. А вот выискивать в человеке, о котором рассказывал, нечто – было интересно. «Это пройдет!» – обещал Пестунов.
Вероятно. Но пока не прошло. И не надо. Пока Гребнев не жалел, что пошел. Эх, если бы еще не злополучный полет с лестницы!.. А с другой стороны: месяц отдыха, сказал врач? Можно спокойно подумать, не гнать строку. Парин над душой виснуть не будет: «Вы что, только очерк за целый месяц сдали? Один только очерк?!». Вот только сессия… Что-то вызова нет и нет. А если придет, то куда Гребнев на костылях?
Мда, проблема на проблеме, но одно очевидно – с юбилеем Гребневу повезло! Надо же, какой мельник! Какая биография! И никто не докопался! Понятно – далеко, глухо. Мы ленивы и нелюбопытны: ну, мельница! ну, речка Вырва! ну, сто пятьдесят строк на четвертую полосу!..
Ну, уж не-ет!
***
А без костылей, оказывается, никуда. Вот ведь, выяснилось, еще одна проблема! Где их доставать? И как? На одной-единственной прыгаючи.
В травматологическом пункте улыбчивая, бодренькая врачиха только бодренько улыбнулась:
– Я врач, а не снабженец. Сами мучаемся. Я вам сейчас нашу машину вызову, а дальше уж… В аптеку попробуйте позвонить. Или у знакомых…
Дефицит, надо же!
Хорошо, что Валентина внезапно наведалась по телефону:
– Ал-ле! Ну, как ты там?
У Валентины за целый год совместного с Гребневым существования выработалась такая привычка – звонить и узнавать «как он там?». Хотя они уже две недели не виделись после того, как… Словом, не виделись. И Гребнев убеждал себя, что и не увидятся. Но слышал он ее часто. Привычка у Валентины сохранилась. И Гребневу, ну, совершенно безразлично, кому она теперь звонит, только по инерции через раз старый номер набирает и сразу:
– Ал-ле! Ну, как ты там?
– Что со мной сделается! – регулярно отвечал Гребнев в нейтрально приятельской тональности.
Тут Валентина соображала, сдавленно хихикала и делала вид, что никакой ошибки, что Гребнев-то ей и нужен. Хотя весь скорострельный диалог раз от разу сводился к: «Все в порядке?» – «Все!» – «Ну, хорошо!» – «Да уж, куда лучше!». Действительно, расстались и расстались: не сквозь зубы же теперь говорить. Потом она вешала трубку и, вероятно, набирала другой номер уже правильно. Или в последнее время усвоила манеру – первой голоса не подавать, пока не услышит гребневское «Да-а?». И тут же – отбой. Мало ли еще ошибочных соединений.
Вот и на этот раз ее палец машинально набрал его номер, и она машинально:
– Ал-ле! Ну, как ты там?
– Да не особенно! – нарушил Гребнев однообразие реплик.
После привычного короткого смешка она вдруг осмыслила:
– То есть как это?
Вот так. Коротко, не посвящая в детали: связку надорвал. Каким образом?! Никаким! Порвал и порвал!
– Я так и знала!
Что, интересно, она знала?!
… Она вообще все знала заранее. Она знала, что Гребнев от нее никуда не денется. Как увидела год назад, так и… Ни-ку-да не денется!
– Смотрю, – говорила ему потом, – такой мужик! И не мой! Все! Будет мой! Такой мужик!
– Да какой – такой?!
– Уж мне лучше знать!
Валентине очень сильно стукнуло за тридцать, и ей было лучше знать.
Сорокашки, толковала она, выпятив губу, – сорокашки и есть! (Надо же, слово какое слепила!) Тоже мне, ровесники! – толковала она. – Как в школе: несоответствие полное между видимостью и сутью. Больше говорят, чем могут. Пыжатся, гонорятся! Мы еще ого-го, горы можем свернуть!.. А если до сорока не свернул, то уже не свернешь. Ни в постели, ни в карьере. В сорок решать поздно, да и не хочется ничего решать. Семью создать? Если до сих пор не создал, то так и плывет: а зачем? и без семьи неплохо! А если семейный, то тем более. Способен только на удрученные мужские сжатые челюсти, когда о своих речь заводит. И расстаться этим сорокашкам никак, даже если обрыдло. Как же можно расстаться, аргументируют: сыну скоро шестнадцать, какими глазами он на отца смотреть будет!.. Шкодить и кобелировать еще могут с натугой, но решать – уже нет. Мышцы пружинят и в волейбол мячи рискованные режут молодечески, а больше ни на что не способны! Сорокашки, одно слово!
Вот если ему за пятьдесят, толковала она, то другое дело! Он созрел, уже чего-то достиг, и видно – чего.
Здесь не ошибешься: не выбирать же среди пятидесятилетних еще и неудачника! Нет, конечно, удачника надо выбирать! Он и не должен уже никому ничего: если есть дети, то им уже под тридцать – свои проблемы решают; если есть жена, то она уже… на закат – и довольно снисходительно к приключениям мужа относится. Впрочем, морока это – нацепить себе пятидесятилетнего с нагрузкой! Нет, оптимальный вариант – без нагрузки, крепко стоит на ногах, своего добился и… седина в бороду, никакие сорокашки в подметки не годятся.
Или – чтобы тридцать… с небольшим, толковала она. Эти, если и хорохорятся, то у них и время есть, чтобы допрыгнуть. И энергии еще с избытком. Разной! Даже если с прицепом – не страшно. Разведенный, к примеру. Значит, так: бывшая жена – безусловная змеища, а детей он у нее непременно отсудит и воспитает как надо. Главное, не разубеждать его в этом. Все равно не отсудит! Ей ли, юристу, не знать! Ни одного случая за пятнадцатилетнюю практику. А потом, со временем, он своим умом дойдет, что – дохлый номер. Перегорит и решит, что надо начинать все сначала. Вот такому на самом деле как раз время: все сначала. Опыт есть, и – какие его годы!
Так Валентина толковала регулярно, и Гребнев регулярно накалялся тихой яростью, отдавая себе отчет: ее богатые теоретические рассуждения скорее всего базируются на не менее богатой практике. Но не задавал вопросов: что было раньше? кончилось ли все, что раньше? не будет ли впредь? Обидеть боялся, что ли… Но ярился бесконтрольно.
Она знала, определяла эту тихую ярость. И тем не менее, а скорее, именно поэтому и продолжала толковать, провоцируя.
– Вот! – говорила Валентина, поймав пик. – Вот такой ты первый раз и пришел! – Обезоруживала: – Все, думаю! Будет мой! И больше ничей!
– …Он пришел тогда к заведомому врагу: кто же ему юрисконсульт, как не враг?! Все они заодно, да! И Сельянов, начальник МСУ! И Шахов! И юристка эта – ноги, как на колготных пакетах; лицо… модное, с тяжелыми веками, с глазами умными, скулами тугими. А тут и большого ума не надо! С одной стороны – простой бригадир монтажников, с другой – заместитель главного инженера по технике безопасности и целый начальник МСУ!
– Я, как заместитель главного инженера по технике безопасности, настаиваю!.. – перекладывал на Гребнева Шахов.
– Так-так! – однозначно сопел Сельянов, как будто не было гребневских докладных, как будто не было гребневского ультиматума еще за три недели до: «Я не допущу своих людей на объект! Вы там перекрытия видели?! Пусть Шахов сам под ними работает, а угробится – туда ему и дорога!».
– Было, было грубейшее нарушение техники безопасности! У него двое без касок работали! И без касок! – продолжал перекладывать Шахов на Гребнева.
– Так-так! – сопел Сельянов и тормозил Гребнева: – Что ты горячишься? Главное, все живы?.. Ключица? У кого это? У Ерохина? А он в каске был? Что значит – какая разница! Ну, обвалились вместе с… Ну, месяц без премии посидят, ничего им не сделается! Что ты горячишься! Ведь и твоя вина, как бригадира, как ответственного, который должен был…
– Моя-а?!!
И чтобы уже все мосты сжечь – к юристу. Чтобы, выслушав непременные рассуждения – «с одной стороны… но с другой стороны», – иметь полное право на окончательное: «Ах, так?!!».
Но юристка с ногами-глазами-веками-скулами выслушала Гребнева, и рассуждения у нее не оказались «многосторонними». Юристом все-таки Валентина была классным!
– А в голове, – толковала она потом, – одно: все! Будет мой! Или я не я!
Она все знала заранее. Так и получилось. И Гребнев выиграл, бригада без премии не осталась. Правда, Шахов усидел. Не говоря уж о Сельянове. Тогда ушел Гребнев.
– Я же говорила! – было резюме Валентины. – Я предупреждала: зря завариваешь! Я так и знала! Выиграл, да?
– С твоей помощью. И не жалею, да! – огрызался он. Сначала просто бодрился, а потом действительно перестал жалеть.
Шесть лет отмонтажил, страну повидал. Вот квартиру однокомнатную получил здесь – ведь, можно сказать, сам ее строил. Ну и пусть первый этаж! Чем только первый этаж людей отпугивает?.. А за шесть лет масса публикаций набралась: в «районках», в областных – четыре раза, даже в республиканской однажды. Была не была! И подал документы на журфак, на заочное. Прошел! Никакой не Божий дар, вдруг обнаружившийся. Просто писал нормальным русским языком о том, что глодало, – много чего гложет на любой стройке. А если гложет, то куда? Известно куда – в газету!.. Назывался он рабкор и неожиданно для себя весьма ценился. Это он потом понял почему. Когда, уже будучи на втором курсе заочного, ушел из МСУ после своего «выигрыша». Когда определился в газету и стал не рабкором, а сотрудником. И обнаружил, что нормальный русский язык – редкость. Все больше «беззаветное служение делу коммунистического обновления мира лично дорогого…». Тот же Парин, учитель-наставник… А, ну его!
Чего жалеть? Работа ему нравилась. Квартира ему нравилась. Валентина ему… Валентина ему еще не раз помогала, когда он забирался в проблемные дебри. Только вот с «Филипповым отчетом» он здорово вляпался. Парин тогда впервые применил свой комплект: «надо было хотя бы посоветоваться!». Будто не знал всех подводных камней! Будто не знал, что посылает на верный провал. Зато теперь чуть что, и: «Вы помните «Филипповый отчет»? Вы помните, чем тогда кончилось?». Не так чтобы хрипло, но действенно.
С Валентиной тогда не посоветоваться – в Пицунде была, отпуск у нее. Вернулась – лоснится загаром:
– Я так и знала! Дождаться не мог, пока вернусь? Я бы тебе сразу сказала – безнадега! Ведь на поверхности лежит!
Гребнев отмахивался: переживу! Переходил в наступление: «Нечего без меня уезжать! Почему тебя не устраивал вариант совместного отпуска? Подумаешь, Пицунда! У нас турбазы не хуже! Та же «Крона»! Почему бы не…».
– Потому что! – толковала Валентина, и вырастали за снисходительным «потому что» перспективы отдыха в раздельных номерах, потаенные перебегания с оглядкой на коридорных дам, и все такое прочее.
Ведь по паспорту они никто друг другу. Хотя паспорта Валентины Гребнев и не видел никогда – некорректно. Мало ли, что там! Но что Гребнева там, в паспорте, нет – это точно.
– Так почему бы нам и не… – говорил он.
И Валентина туманно высказывалась в том смысле, что на одном и том же месте каждый раз падать – уже не трагедия даже, а клоунада, это уже смешно. Снова начинала теоретические рассуждения про «оптимальный вариант», пока не доводила Гребнева до тихой ярости. А потом… сразу обезоруживала. Имела средство. Так – весь год.
Но две недели назад она переусердствовала. Или решила, что время пришло. И когда Гребнев в который раз сказал: «Так почему бы нам и не…», Валентина растолковала:
– Дурачок! Я замужем давно.
***
За две недели Гребнев понял, что отнюдь не достаточно узнать о многолетнем стаже замужества Валентины, чтобы забыть и отрезать. Разве можно разлюбить волевым усилием? Только больше мучиться будешь.
Хватал трубку – телефон не успевал отзвонить дважды. Не то болтал, правда:
– Слушай, ты бы как-нибудь занесла второй ключ. А то может неудобно получиться. Ворвешься внезапно…
– О-ой, кому ты нужен! – толковала она скептически.
Нет, не то… А что в подобной ситуации то?!
– Как ты дальше жить будешь? – весело, но ждуще интересовалась Валентина.
– Нормально! – бодрился Гребнев. – Ты же знаешь, я умею жить нормально.
– Ты вообще не умеешь жить! – вздыхала в трубку.
Потом Валентина стала звонить, только если ошибалась номером и по инерции набирала гребневский. И второй ключ как-то по инерции все оставался у нее.
И вот:
– Я так и знала!
Лучше бы костыли помогла достать. Узнала бы в аптеке!.. Она узнала. В нашей аптеке нет, но есть еще одна аптека. Она узнает, она достанет. И вообще такие вещи лучше брать напрокат. Примета плохая – костыли в доме.
– Да хоть напрокат!
Хотя забавно: костыли напрокат. Кто-нибудь пробовал на костылях прокатиться? Богат наш язык… Словом, обещала.
А вот и она – звонок тренькнул за дверью. Гребнев заскакал на одной, цепляясь за стенки, за вешалку – обрушил. Отнюдь не достаточно узнать о… о чем угодно, чтобы забыть и отрезать. Валентина!
Это, оказывается, не Валентина. Правильно, зачем бы ей звонить – у нее ключ.
Это, оказывается, Сэм – очень дисциплинированный и застенчивый. Хотя так и не скажешь на первый взгляд. Ему бы кожаную жилетку на голое тело, цепочек навесить, жаргон в зубы и жевательную резинку туда же – цены бы не было такому статисту при съемках чего-либо из «не нашей жизни». Очень рельефный – каждая мышца. И челюсть рельефная – из тех, которые почему-то называют волевыми. Подобных парней ныне развелось немало, но они в силу непонятных причин больше работают не там, где рельефные мышцы нужны. Они в силу непонятных причин все больше в комиссионках стоят, в отделе многоваттной и многотысячной аппаратуры. Тот же Сэм – в «Стимуле», в макулатурном вагончике. Хотя для бесперебойного перешвыривания ежедневного бумажного скопища рельефные мышцы, вероятно, нужны. И работа престижная. Так почему-то считается. Метаморфоза произошла с престижностью. Впрочем, чего уж тут – метаморфоза! Книга, что ни говори, с каждым годом становится все лучшим и лучшим подарком. Даже если за нее выкладывается неимоверная сумма. И признательный восторг: «Ну-у! Спаси-ибо!».
Вот и Гребнев – не исключение:
– Ну-у! Спаси-ибо!
Потому что Сэм, посочувствовав гребневской ноге («Надо же так!»), вытянул из безразмерной чернокожей сумки тяжелую компактную стопку – темно-бордовую с золотом. Четыре тома.
«КЪ 25-ЛЬТЮ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАВРИКIЯ ОСИПОВИЧА ВОЛЬФА ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ живаго
ВЕЛИКОРУССКАГО ЯЗЫКА ВЛАДИМlРА ДАЛЯ».
Гребнев сразу начал листать, старательно увлекаясь подарочным факсимильным, или, как еще называют, «маленьким» Далем. А Сэм старательно сосредоточился на заевшей «молнии» своей чернокожей сумки. Такие разговоры обычно ведутся, не поднимая глаз на собеседника. Разговоры короткие:
– И сколько?
– Сто… – разводит руками, вздыхает: мол, ничего по поделаешь.
– Да-а… – тянет Гребнев и цокает, сетуя непонятно на кого, собственно.
– Да-а… – тянет Сэм, цокая в тот же неясный адрес. Потом выкладывает очень веский с его точки зрения аргумент: – Ведь ему и госцена аж за тридцатник!
Аргумент, по идее, должен окончательно убедить Гребнева: ему еще повезло! Втрое дороже, но зато сотни связей, и не только в голове: их ведь, связи эти, поудерживать надо. И в городе, и на двух десятках турбаз. Кому что, кто кому. Учитывая еще ежесезонную смену клиентов: приехали, отдохнули, леса, озера – да к тому же с местным книголюбом познакомились, а у него как раз то, адресами обменялись и… уехали. Новые нагрянули. Их много – Сэм один. Связи ветвятся, прогрессируют геометрически. Просто ли? Непросто. На одну беготню сколько времени утекает! Так что любезность любезностью, но цену ей назначает Сэм.
Никакой он, конечно, не Сэм. Свои репортажи и отчеты с заседаний и мероприятий районного общества книголюбов подписывает «Г. Семиков». Так оно и есть – Григорий Семиков. Сэм – производное от фамилии. Его все так и зовут. Только Парин – Гришей. Очень покровительственно и снисходительно у Парина получается всегда: «A-а! Гри-иша пришел!». Никак ему не смириться, что Гребнев рабкора перехватил: книголюбы тоже в широкий профиль Парина попадают. В «районке» сотрудников – наперечет. Потому, если ты в промышленном отделе, это совсем не означает гарантированного «невмешательства» в сельхозпроблемы, культбыт. И наоборот. Вот помимо основных тем, которые разрабатывает отдел, попутно прихватываются и другие. Юбилей у мельника, кстати, никаким боком не касается ни промышленности, ни строительства. Юбилей, кстати, на совести Бадигиной, – но ей в садик за детьми. Так что… получилось то, что получилось.
Но с Сэмом получилось по-другому. Просто Парин был в отпуске, а тут приходит Сэм в редакцию и первым делом натыкается на Гребнева: «Я, знаете, заметку вот…». И была такая тонкость, которая как раз у Гребнева рвалась: соотношение строк по итогам месяца должно быть – сорок на шестьдесят. Сорок процентов собственных, шестьдесят – авторских, рабкоровских. По каким сусекам скрести эти проценты Гребневу с его стажем – без году неделя! Благо, за долгий срок пребывания в газете Парин давно подобрал всех мало-мальски прилично пишущих по району. И получалось: только Гребнев набредал в письмах на интересный слог, на нестандартную тему, как Парин уже ел Хинейко: «Зачем же вы Гребневу это письмо передали? Это же мой рабкор! Я его, можно сказать, научил писать. Мы с ним уже пять лет сообща работаем». Хинейко удрученно пожимал плечами: не разглядел толком. Да и не отдавал он – Гребнев сам ухватил. Хинейко всячески утрировал свой предпенсионный статус. Старость – не радость…
Вот интересно – а молодость?! Когда Парин говорил в потолок: «А некоторым молодым нелишне бы и в поле побывать, и на строительной площадке! Успеют еще пылью редакционной надышаться!» – тем самым загребая в союзники старичка Хинейко.
Так надо понимать, что Парин только и делал, что дневал-ночевал в поле и на стройке! Да Гребнев в Красноярске сутками!.. Да он в Нижневартовске при минус тридцати!.. Да хотя бы здесь! Два санатория своими руками! И дом культуры! И… Впрочем, когда человеку за пятьдесят, когда по Валентининой классификации он «созрел», то уже не переделать, не переубедить. И не очень-то хотелось! Будет еще Гребнев Парина переделывать!
Только ведь Гребневу тоже – не юношеские двадцать, у Гребнева своя система взглядов, свой словарный запас, все свое. А у Парина – все свое. И на здоровье! Пусть не пристает! Но ведь пристает – как старший товарищ. Ему когда-нибудь исполнится восемьдесят, а Гребневу шестьдесят – и Парин по- прежнему будет приставать как старший товарищ… если сил хватит. Пока хватает. И не только на Гребнева.
Но рабкора все же Гребнев у Парина перехватил. Хотя что значит – перехватил?! Разве Гребнев виноват, что Парин решил сходить в отпуск, а Сэм как раз тогда решил сходить в редакцию?! И «вербовал» Гребнев автора сам. В традициях… трудно сказать, в каких – лучших ли, худших ли. Но в традициях. Тут и осененность неожиданной удачной идеей была: «О! А вы бы попробовали критический обзор по книжным новинкам сделать!». Тут и горячая убежденность была в ответ на категорический испуганный отказ: «Почему же нет?! Это интересно! Новую рубрику можно открыть! А я вам покажу как, помогу!». Тут и бессовестная лесть была: «Об-бязательно получится! Вы же образованный, интеллигентный человек!».
Потом Гребнев облегченно отдувался, выцарапав согласие. Потом получал вымученные три странички от руки, всячески ободряя: лиха беда – начало! Потом глядел тупо в эти странички: действительно – беда лиха! Слог – как в инструкции из финской бани: «В целях интенсификации потоотделения пребывание в суховоздушном отделении более целесообразно после предварительного мытья с мылом в моечном отделении». Вместо того, чтобы коротко и ясно написать: «Грязным не входить!».
Одно дело, когда такую инструкцию тайком сдирает Кот для своего «маразмария», а потом мрачно веселит редакционные чаепития. Другое – когда такую, подобную филологическую гнусь выдает образованный, интеллигентный человек, который и словарь Даля может из любезности достать. Образованный, интеллигентный человек, у которого дома – сто погонных метров книг. (Относительно новая мера объявилась! Книги выстраиваются на полках, и общая протяженность корешков высчитывается складным метром!.. Нет, в самом деле, какая-то метаморфоза происходит!). Образо… интеллиге… И в правление общества книголюбов входит, и в газету пишет. Правильно, как же Сэму не входить, не писать! Можно это назвать «легализацией», можно еще как-нибудь назвать. Ясно только, что иначе быть ему банальным спекулянтом- книгобором, пусть и высокого пошиба. А так вроде – книголюб, дальше некуда! Чихать Сэму, что Гребнев думает о его образованности, интеллигентности, о его бумажках, накаляканных кое-как. Нужны Гребневу эти бумажки? Пусть получит! А уж как их Гребнев перекраивает, перетряхивает – Сэму дела нет.
Впрочем, на этот раз Сэм никаких строк не принес – даже «банного» уровня. Очень извинялся, очень. Все-таки у них отношения не «продавец-покупатель» – это так, по случаю. Главное: «рабкор – штатный сотрудник». Но так получилось – замотался, закрутился. Вот завтра – обязательно! У них, у книголюбов итоговое собрание секции афористики прошло, и завтра он всенепременно…
Ладно, ладно! Далем искупил… Откланялся.
Гребнев еще повозился с четырехтомником, переставляя с полки на полку, корешки погладил – оставил «на сладкое». Хватит! Надо браться за мельника! Пока свежо, пока сохранилось послевкусие от общения. Иначе получится бадигинский выношенный материал: когда Бадигина планирует себе очерк на моральные темы. Загадочно утверждает: «Материал у меня давно собран!». Потом носит этот материал из редакции домой, чтобы там вдохновиться, а то в редакции не пишется. Потом носит из дому нетронутым в редакцию, чтобы там вдохновиться, а то дома не пишется. Так она ходит неделю. И носит. Так его и называют мотом, когда обтреплется и обветшает: «выношенный материал».
Ну, Гребнев не очень-то и походит-поносит – с ногой загипсованной… Вот и хорошо. То есть плохо! К мельнику он бы еще сходил: поговорить, договорить. Благо, и атмосфера там на мельнице совсем не юбилейная, не нафталинная. Если бы Гребнев не сообщил Трофиму Васильевичу Авксентьеву о дате, тот бы и не вспомнил. А вспомнил – и продолжал работу и, не отрываясь от нее, попутно рассказывал, вспоминая: «Горазд давно было, не вспомнить…».
***
«Так что с тех пор еще я тягу, видно, чуял к теперешнему делу…».
Теперешнее дело, теперешнее дело! Вот Гребнева его теперешнее дело, то есть отстуканный на машинке текст, не так чтобы устроил. По нескольким соображениям. Тяга… Тяга-то была хорошая – дров не хватало. А потому, как ни балансируешь, все одно – оступаешься в эпически-этнографическую былинность. В духе времени…
Да-а, не договорили на мельнице, сошлись на том, что днями встретятся. Знал бы Гребнев, так соломки бы подстелил. Впрочем, и соломка бы не помогла, когда он с лестницы загремел. «Горазд смешная лестница!».
А теперь получалось «кино»: эпизод отыграть – остальное доснимем в павильоне. И неважно, что концовка в середине, а начало в конце. Еще и оглядка была: надо, обязательно надо позвонить, пока хоть кто в редакции есть.
– Кот? Слушай, Кот! Дай редактора!.. Потом… Ну, потом!.. Давай!.. Добрый д-д… вечер то есть. Это Гребнев. Из дома звоню, откуда еще. Ах, да! Вы же не в курсе… Нога, одним словом…
И пока непременные сердобольности, ахи-охи, Гребнев под этим соусом аккуратно проговорился про очень ему нужный «разворот». Да, про юбилей. Только совсем не про юбилей – Авксентьев и думать про него забыл. Но фактура хорошая, «разворот» необходим.
И начинается торг. Дело обычное. Любую фактуру можно втиснуть в двести строк, стрижет редактор заранее. Тем более Гребнев должен понимать – комсомольский съезд только-только отгремел, майский Пленум местных откликов требует, выборы вот-вот! Но Гребневу нужен «разворот»! Мало ли кому нужно! Сказано: двести строк! Пусть еще «спасибо» скажет – запланировано жестко сто пятьдесят, и те слетят, если более значимое поспеет. Торг продолжается.
И когда Гребнев убито говорит: «Ну, хотя бы полосу?!», то слышит: «М-м-ладно! Все равно Молохов не успеет «кирпич» по Продовольственной программе сдать». А большего Гребневу и не надо. Что ни говори, а хорошая бригадирская школа за плечами: раствор выбить, арматуру… «Нам три машины с верхом позарез нужно!» – «Три не дадим, – с хитрым видом говорят, – но две берите!». Ага, а Гребневу с бригадой одна нужна. Эх, сколько раз! И пригодилось. И не раз.
– … Да, месяц точно пролежу. Ну, что вы! Когда я месяц материал мусолил? Через три-четыре дня сделаю, пусть заедет кто-нибудь! – и, пользуясь временной льготной ущербностью: – Я ведь как-никак левую ногу повредил, а не голову. Это если бы у Парина левая нога отказала, тогда бы вы из него ни строчки не выжали… А что я сказал?! Что – ладно-ладно?!. Рядом стоит? Ну, передайте ему что-нибудь. Привет, что ли…
Дался Гребневу этот Парин! Дался не дался, а давит. Гребнев потому и храбро хамил – чувствовал: давит. И когда горбился над машинкой, отставив загипсованную ногу, чувствовал: давит. И зарежет. «Я не я, – мелькало у Гребнева, – если не зарежет! Парин не Парин, если не зарежет!». Черт побери! Нет ведь никаких ГОСТов в журналистике! Плохо, хорошo – кому определять? Тому, кто старше, опытней и вообще твой зав. отделом. Получается, что определять Парину. Несмотря даже на упреждающий звонок редактору. Все равно, определять Парину.
Редактор – дядька неплохой, но образование у него педагогическое, журналистикой не занимался. Предложили газету – «Я же не справлюсь, я же не знаю!». Вот и вздрагивает ежеполосно: вдруг сгущено? вдруг частное обобщено и таким образом святое-неприкосновенное очернено?
Бадигина тоже оттуда – начальные классы вела.
Молохов – крепкий, но улитой пишет, ему бы не в газете, а в ежегоднике работать, даже в ежевечнике.
Камаев – ответсек, из технарей: нарисовал макет, заслал. Хвостов нет? Дыр нет? Упаси Господи, заставка не вверх ногами? Ничего полоса смотрится? Вот и ладушки! Для Камаева важнее, как полоса смотрится, а не как она читается. Особенно после того, как предшественник с треском вылетел. (Кто же так макетирует: на первой полосе фото ТАСС, где дорогому товарищу очередную «блямбу» на грудь цепляют, а под фото репортажик о славном молодежном вожаке строителей с ба-альшим заголовком: «НЕ УРОНИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!»).
Кто еще? Хинейко? Хм-хм…
Еще Пестунов. Но Кот не встревает, Кот знает цену Парину, но не называет ее. Зачем? Добарабанит свои три года, а уж в областной-то ого-го! Зачем Коту с Париным ссориться?
Кстати, это и невозможно. Гребнев пытался, и не однажды. Невозможно поссориться с Париным! Доброжелательный увещеватель. Хами не хами – стекает, как с прорезиненного. И улыбка до-обрая, укоризненная – все равно ведь по его будет. Он подскажет, если нужно. И редактору подскажет – за плечами столько лет многосложной журналистской работы! И чтобы не повторилось ЧП типа «Не урони свою звезду!» в 1976-м, когда одного сняли, а нынешнего поставили, Парин ему специфику профессии разобъяснит и от неприятностей гарантирует. Если бы не Парин, то за тот же недавний «Филипповый отчет» такого бы нагорело газете, ой-ей! Он, Парин, чистосердечно в этом уверен и всех в этом уверил.
Давит… Была оглядка у Гребнева, была. Выстукивал текст, а вторым планом проборматывалось, как плохо стертая запись на пленке, – и не слышно почти, а мешает, давит…
Тут Гребнев на нее и наткнулся – мысленно скандаля с Париным, который непременно упрется по тексту в «горазд», в «бурат», «постав», «невпрогреб», «вкрасне»… «Это не нужно, это изыски. Надо проще». Куда проще?! Вот же он, Даль! Словарный запас – более двухсот тысяч слов. Словарь – Русского! Живого! Языка! Вот ведь: «гораздо или гораздъ – довольно, очень…». Вот ведь: «вкрасне – в лучшем виде…». Вот ведь: «поставъ мельничный – снасть, станъ, каждая пара жернововъ». Вот ведь: «бурат…». Нет, бурата не было! Но ведь говорил мельник – бурат, именно бурат: «Для пеклевки бурат нужно мастерить. Гляди, такой штырь железный метра два, и крестовины на концах крепят, внизу и наверху. А на крестовины ме-елкое сито натягивается, шелковое. Получается такой… цилиндр. Его внаклонку ставишь в ящик. Ящик к поставу подтаскиваешь. К бурату – привод, чтоб вертелся. Мука из постава сыплется: горазд мелкая, пеклеванная, сквозь сито просеивается, в бурате, в цилиндре этом, остается. А что покрупнее – мимо. Тогда ее снова на помол, пока не изотрется».
Тут Гребнев на нее и наткнулся – закапызясь в словарь, выискивая нечто созвучное «бурату». Мог и не дослышать там, на мельнице? Мог.
«Буравъ – стальная полутрубка, желобокъ съ винтовымъ носкомъ и поперечною колодочкой…». Пусть и для сверления, но похоже. А если не «б», если «п»? Нет, нету такого! А, вот!
«Пурить – бурить, цедить…».
Тут Гребнев на нее и наткнулся. Ищите и найдете, да! Иногда, впрочем, совсем не то, что ищете. Из тяжелого тома высунулся уголок листка. Мысль стрельнула, бабахнула: никак древнее, пожелтевшее, раритетное, с «ятями» и «ерами»! Но та же мысль сразу же срикошетировала: какой, к чертям, раритет, если издание 1982 года, просто факсимильное!
Это был самый обычный листок, сложенный вдвое. В обычную клеточку. Из обычной ученической тетрадки. Только текст был не самый обычный:
РАСПИСКА
Я, Звягин Николай Яковлевич, 1912 года рождения, получил 18 декабря 1981 года от Крайнова Евгения Дмитриевича, 1913 года рождения, сумму в 12.000 (двенадцать тысяч) рублей и обязуюсь вернуть названную сумму Крайнову Е. Д не позднее 18 июня 1982 года.
18. декабрь. 1981 Н. Звягин».
Ничего себе получился словарный запас! Запас на 200 тысяч слов и на 12 тысяч рублей!
Весьма пикантно, что листок был заложен между теми страницами словаря, где значилось: «Прятать, прятывать -… класть въ сохранное мЬсто, убирать, укладывать куда для цЬлости, сбережения. Скрывать, таить, уносить куда тайно, чтобы не вЬдали, не знали, гдь вещь лежитъ».
Перебив. Листочек и листочек. Но мысли виснули и зарылись глубоко – никак не хотели возвращаться к мельнику. Расписка! Расписка!..
Ну и расписка, внушал себе Гребнев. Ну и что? Для него, во всяком случае, лучше бы десятка оказалась. А то после отъятия сотни в пользу Сэма теперь придется и с кофейком поджаться, и не только… Тут и нога еще – когда-а бюллетень закроют! Тем более когда-а оплатят!
Расписка!.. Живут же люди, дюжину тысяч друг другу в долг дают. Что же это за люди такие? На монтаже доводилось и по тысяче в месяц зарабатывать – разлеталось все непонятно куда. Нет, если копить и копить, то почему же?.. Или откладывать. Получает ведь Гребнев теперь раз в пять меньше. И хватает, в общем, на все. Даже на сторублевого Даля, которому и госцена аж за тридцатник.
Даль. А внутри – словарный запас на двенадцать тысяч. Листочек и листочек…
Но для некоего Крайнова и для некоего Звягина – далеко не просто листочек. На что может человеку понадобиться такая сумма? Машина? Дача? Обмен комнаты на многометражную квартиру по так называемой договоренности?.. В конце концов, это дело некоего Крайнова и некоего Звягина – и может быть, не очень чистое дело: расписка без печати нотариуса, хотя сумма мало сказать приличная. А если эти оба – хорошие друзья и решили обойтись без нотариуса? Тогда бы они и без расписки обошлись. М-может быть…
Что Гребнев знает?! Заявится завтра Сэм, отдаст ему Гребнев расписку. Да, но Сэм все-таки Семиков, уж никак не Звягин, не Крайнов. А в расписке сказано: 18 июня, а сегодня – 15 июня. Как себя сейчас чувствует некий Крайнов? Пожалуй, плохо чувствует. А Звягин? Этот – хорошо. В том случае, если знает, расписка неизвестно где, неизвестно у кого, вообще потерялась – и лучше бы насовсем.
Только Сэм-то при чем? Застенчивый и дисциплинированный Гриша Семиков, скромный работник «Стимула», отъявленный книголюб, у которого «сто погонных метров книг», собранных не без влияния фактора того же «Стимула». Гриша Семиков, у которого чисто книжный «Стимул» – не единственный стимул: за макулатуру выдаются не только абонементы, но и копейки. А кто их, копейки, берет? Даже если прилежно отсчитать и пододвинуть, машут рукой: «Да ну! О чем речь!». Так может немало набраться. Но не двенадцать же тысяч! И всяко Гриша Семиков – не Звягин, не Крайнов.
А вот найдет Гребнев номер Сэма в записной книжке, а вот наберет Гребнев этот номер – и сейчас все и выяснит.
Выяснил Гребнев только одно – посредством ответных тягучих гудков: Гриши Семикова нет дома. И правильно! Откуда ему быть дома в разгар рабочего вечера в условиях макулатурного бума? Тут люди с ночи переклички затевают, а Гриша Семиков вдруг дома отсиживаться будет, очередь ярить своим отсутствием. Вот и нет его дома. В «Стимуле» он. Так надо полагать.
Но, однако, расписка… Никаких ассоциаций не вызвали у Гребнева фамилии – ни Звягин, ни Крайнов. Казалось бы, корреспондент «районки», вдоль и поперек, и район изучен до колик: центр в сорок тысяч, десяток совхозов, рыбоконсервный комбинат, хлебозавод, институт закрытый – изучающий и производящий нечто особо точное: «ящик», о нем в газете ни-ни! Нет, не встречались Гребневу две эти фамилии. Вполне возможно! Газету иногда интересует самое неожиданное, но мало иметь двенадцать тысяч, чтобы только этим заинтересовать газету.
Сложнее, если Даль достался Сэму через приезжую клиентуру. Турбазы, кемпинги – россыпью. Все- таки край тысячи озер, как пишет Парин. Оригинал! Карелия – край тысячи озер, Латгалия – край тысячи озер, Псковщина – край тысячи озер. Здесь, конечно, тоже край тысячи озер. Свежо! Шут с ним, с Париным… Но если Звягин и Крайнов – из отдыхающих, то Гребнев, естественно, может их не знать. Вернее, не может знать. А Сэм? Сэм может. Крайнова, по крайней мере, должен знать. Логично: расписка от Звягина – значит, у Крайнова… была. Не гуляют же они вдвоем, взявшись за руки в лесах среди озер только потому, что один занял у другого…
Вот кончится рабочий день у книголюба Семикова, прозвонится к нему Гребнев… Или даже не так. Зачем взбалтывать? Явится завтра Сэм с обещанного собрания секции афористики – Гребнев у него и спросит. Или нет, не спросит. Сначала поглядит, каков завтра будет Сэм: хватится, сам спросит? Если же не подозревает о вложенной расписке, то Гребнев ему и… Не нужна Гребневу чужая головная боль. Хотя слукавил: нужна. Как бесплатное умственное развлечение в период вынужденной недвижности – чего только ни напридумываешь, дабы заглушить подступающее одноногое безделие. Впрочем, завтра. Завтра!
Спать. Всего ничего – по квартире попрыгал туда-сюда, а вымотался, как в авральную ночь перед сдачей на монтаже. Устал. Непривычно. Спать.
А Валентина так и не пришла. И не позвонила. А ведь обещала. И не…
Да! Бурат нашелся-таки! Гребнев пролистал для очистки совести словарь иностранных слов. Вот он!
«БУРАТ – (ит. buratto – букв, волосяное мельничное сито) – мельничная машина для очистки зерна просеиванием и для сортировки продуктов, перемола».
Мельник-то полигло-от… И хорошо. Спать!
***
Какие-то наждачные отношения возникают, когда две недели не виделись. Гребнев разлепил веки – сидит Валентина перед ним, носом хлюпает, глаза с тарелку, как у собаки из «Огнива», и… на костылях!
Ужаснулся было со сна: и у нее с ногой?!! Ф-фуф! Сообразил, что это обещанные, что это ему. Просто она на них локтями оперлась, кисти свесила. Сидела и ждала, когда проснется. Второй ключ при ней, вот и вошла. И сидела. И ждала. Хлюпала.
Недостаточно узнать о… чем угодно, чтобы охладеть: искра проскочила между ними. По-прежнему. Но отношения наждачные, абразивные – искра нипочем. Потому Валентина хлюпнула носом уже не тишась и досадливо скривилась:
– Насморк проклятущий. Между прочим, – обвиняюще, – по твоей милости! Из-за этих ходуль в область пришлось ездить. Продуло зверски. У тебя галазолин есть? – Отмахнула: – А, откуда! У тебя вечно ничего нет!
И Гребнев глянул хмуро, руку протянул: дай-ка. Вроде и даром ему не нужны костыли, а вот принесли, навязывают. Недовольно стал их обсматривать, общупывать: железные… м-мда, железные… м-мда, деревянные бы лучше… так, низковато, неудобно… слушай, поройся там на антресолях – плоскогубцы должны быть.
Валентина порылась на антресолях, сотрясая табурет, чуть не сломала каблук, удерживая равновесие, принесла.
– Это не плоскогубцы.
– Ну, ты скажи мне, какие они!
И когда Гребнев, зло дыша носом, заскакал к антресолям, Валентина зло говорила ему в спину:
– Ты что, не можешь сказать, какие они?!
И когда Гребнев с треском и грохотом зашуровал вслепую, хлопая ладонью по невидимым снизу инструментам, когда он вернулся в комнату с плоскогубцами, Валентина зло говорила:
– Ты что, не мог мне сказать, какие они?!
Гребнев занялся костылями: ослаблял гайки, вытаскивал штырь, переставлял повыше. Хотя прекрасно понимал: Валентина ездила в область – автобус три раза в сутки и два с половиной часа ходу. Вчера позвонила после четырех – значит, только на последний автобус попала, а обратно – ночным. Из-за него. И насморк – из-за него. Даже если это не совсем насморк – из-за него…
Но насморка у Валентины уже как не бывало, она тоже приняла тон. Предложенный Гребневым тон.
Да никакого тона Гребнев не предлагал! Так получилось! Однако, поздно. Раз уж начали… И ничего не поделать, не перестроиться на скорости.
– Могу ли я еще быть чем-то полезна? – морозно произнесла Валентина.
– Да! – произнес Гребнев, не поднимая глаз от невероятно сложной костыльной конструкции, просто никакой возможности нет оторваться! – Мне нужна консультация. Юриста… – и, кряхтя над зажатой гайкой, бросал фразы: – Если есть расписка… На много тысяч… Резьба сбита, с-скотина!.. И вот расписка одного другому… Без нотариуса… Не-ет, я тебя выверну, скотина!.. Для чего она может быть, если в обход закона? Ага, я сказал тебе, паразитка, что выверну! – И, подняв наконец голову: – Понятно?
Ничего не понятно. Кроме того, что Гребнев опять куда-то влезает. Так она ему и сказала:
– Опять ты куда-то влезаешь? – прежним тоном давней давности. Снова проскочила искра.
Но Валентина прочла в гребневском лице: «А тебе-то что?!».
Действительно, ей-то что?! Консультация нужна? Хорошо!
– Криминальное значение расписки, – снова заговорила морозно, – если именно это тебя интересует, может заключаться в следующем… Большая сумма денег берется для покрытия крупной недостачи в магазине на время пребывания там ревизоров. Не меньшая сумма – в виде расчета между партнерами по валютной или крупной спекулятивной сделке. Разумеется, это уже не долговая расписка, а просто деловая. Так… Еще! Расписка в том, что деньги получены за… за действия, предусмотренные статьями кодекса. Когда дающий сумму не хочет быть запачкан и нанимает людей. Так… Еще. За лжесвидетельство… Ну, вот и… Да! Сама по себе расписка не много значит, но если она дается на крупную сумму, а сумма идет на нечто незаконное – тогда другое дело. Но в расписке ни один дурак не будет отражать цели, на которые будут затрачены полученные средства.
Гребнев сосредоточенно кивал, прикидывая варианты Валентины к «словарному запасу» из Даля, изображая погруженность в свои мысли.
– У тебя ручка есть? Кстати, о расписке! – и голос у Валентины стал морозным до поскрипывания. – Возьми ручку, пиши… – Хотя Гребнев не взял ручку, не стал писать, заторопилась, задиктовала: – Я, Гребнев Павел Михайлович, 1952 года рождения, получил от Артюх Валентины Александровны, возраст не установлен, костыли металлические, количество – два, по цене – пять рублей сорок копеек… Сумму прописью, будь добр… 16 июня 1982 года, и обязуюсь…
Еще бы чуть-чуть, и расползлись бы оба в улыбке и… кто знает? К тому шло. Но тренькнул звонок.
– Я открою, Павел Михайлович! – громко и официально сказала Валентина.
И когда вошел Сэм, мусоля в руках очередную «банную» продукцию, Гребнев пригласил: «Проходи, проходи!». А еще громко и официально сказал:
– Посмотрите еще раз, Валентина Александровна. Подумайте. Я вам там отчеркнул… – и впихнул ей свой вчерашний текст про мельника Авксентьева.
Правила, которые никто из них не устанавливал, но они тем не менее установились: на людях – только знакомые. Мало ли вопросов возникает по работе! Где журналист, там и юрист. И наоборот. Так что, «посмотрите еще раз, Валентина Александровна».
Валентина Александровна тут же стала «смотреть», грызть кончик авторучки, взявшейся неизвестно откуда. А Сэм… Сэм застенчиво и виновато выдавил, что он почти сделал, буквально последнее предложение осталось, но оно никак не получается. Он сейчас, он вот прямо здесь сядет и сейчас доделает. И сел. Прямо на секретер. А Валентина на тахте устроилась за журнальным столиком – плоскогубцы задела: скользнули они с тахты, брякнулись об пол.
Гребневу как-то и места не осталось. Тихо, рабкоры на него спину гнут, а он стоит, как гипсовый гость, в центре – чего, спрашивается, стоит?! Дали тебе костыли, даже расписки за них не взяли?! Вот и расхаживай, тренируйся, осваивайся.
– Я пока чай заварю! – нашел себе занятие, поковылял на кухню, осваиваясь на подпорках.
Не спросил Сэм про расписку. Не спросил. У него дело поважнее – последнюю фразу дописать. Чтобы Сэм когда-нибудь проявлял подобное рвение?! Поглядим, решил Гребнев.
Потом Валентина пришла на кухню. Не просто так пришла. Надо же помочь временному калеке. «Где у вас заварка?.. Чашки какие брать?.. У вас песок или кусковой?».
Гребневу показалось даже, что она переигрывает: ей ли не знать – где, какие и что кусковой. Все-таки, показалось. Ведь для Сэма, который не в курсе их отношений (прошлых и нынешних) все естественно: нормальная, очень женская хлопотливость, будь ты рабкором, юристом, хоть кем. Он бы и сам помог, только вот последнюю фразу дописать надо. Очень надо. Как там, кстати, Сэм?
Валентина уставила поднос, пошла в комнату. Гребнев – следом, Сэм втискивал на место… Даля, сминая соседствующие книги, спеша. Незаметно не получилось, тогда он сразу переориентировался, вынул один из томов обратно, плечами недоуменно пожал:
– Ничего не понимаю! – листнул. – «Аббревиатура» через одно «б» или через два?
– Через два, – не моргнул глазом Гребнев.
– Вот и я… – не моргнул глазом Сэм. – А тут, у Даля, – через одно. У меня фраза последняя как раз с этим словом.
– Сто лет назад писали так, а теперь так. Обычное дело, – объяснил Гребнев нейтрально. – Лучше справляться по орфографическому словарю.
– Так что у вас получилось? – все внимание Гребнева на отображенном собрании секции афористики. Угу… Угу…
Нормальная рабочая обстановка. Однако почерк, в отличие от хозяина, недисциплинированный и беззастенчивый. Абсолютно наплевать было хозяину почерка, прочтут или нет, и возможно ли такое прочесть в принципе. А в Дале Сэм копался, ворошился. Ну и почерк!.. А про расписку Сэм так и не спросил… Ну, хоть одну букву разобрать – уже подвиг!.. Аббревиатура ему нужна! Тут одна сплошная аббревиатура!.. Не спросил про расписку-то!
Чай стынет. Уткнулись в бумажки, как последние… А Валентина для них – пустое место. Для Гребнева Валентина – пустое место. Сидит, как последняя дура, пятый раз про какого-то мельника перечитывает. Мельник, мельник! И тут – мельник! Дался всем этот мельник!.. Если Валентина здесь не нужна, то она пойдет. Чай стынет. Если здесь нужна не Валентина, а Валентина Александровна, то тогда:
– Павел Михайлович, отвлекитесь на минутку. Еще по поводу суммы в несколько тысяч…
Как Валентина Александровна она здесь тоже не нужна – осек ее Гребнев досадливо:
– Потом, потом!
Потом так потом. Если будет это «потом». До свиданья. А он еще и:
– И не забудьте связаться с Крайновым. Или – пожалуй, так будет надежней, – со Звягиным.
Кретин! Какой Крайнов! Какой Звягин! Хватит с Валентины и того, что она с ним, с Гребневым, связалась! Дерг – сумочку. Оттуда – врассыпную мазилки, таблетки, ключи, флакон. Не надо ей помогать! Сама соберет! Не нуждается она в помощи ни Гребнева, ни бугая с бумажками! Сама соберет, сказала! Если Гребневу бугай с бумажками важней, чем она, пусть Гребнев и занимается бугаем. А ее не надо провожать! Пусть Гребнев сидит и тетешкает свою ногу. Неужели не чувствует: не надо ее провожать!
– Что-о-о?!. Ну, и дурак!
… Гребнев сам не ожидал от себя той резкости, с которой оборвал («Потом, потом!»), когда Валентина вдруг заговорила о тысячах, а у Сэма что-то дрогнуло, мигнуло. И Гребнев сразу оборвал Валентину на полуслове – не объяснишь ведь, да и что объяснять? Вот он, Сэм, – тут, рядом. Слушает внимательно. Гребнев понял, что Валентина уходит, и решил «ковать железо»: ляпнул про Крайнова, пока было кому ляпнуть при Сэме. Расписка от Звягина Крайнову, расписка в Дале, Даль у Сэма, Сэму словарь мог достаться от Крайнова. Ну?!
На фамилию Сэм не отреагировал никак. Зато когда Гребнев по инерции, уже довырабатывая жилу, назвал Звягина, Сэм отреагировал – снова дрогнуло что-то, снова мигнуло.
И Валентина отреагировала: встала, завернулась в свою крупноячеистую шаль и – в коридор на выход. Все это одним движением. Не одним, конечно, но так. у нее получалось: один жест плавно переходил в другой – неуловимо, пантерно. Даже мелочевку чисто женскую, разбежавшуюся по полу из сумочки, слизнула горстью, как завершающее коронное па. Чего чего, а изящества ей было не занимать. Да, умела!!!..
Гребнев, во всяком случае, очень ей проигрывал, наверное, когда зашкандыбал, пытаясь проводить. Долг вежливости… И уж совсем для самого Гребнева непонятно, как у него сорвалось с языка:
– Мужу привет! – вполголоса и весьма ехидно.
Хотел браво пошутить…
– Ну и дурак! – сказала губами Валентина, уронила тяжеленные веки. Ушла.
А Гребнев вернулся в комнату и остервенело сказал Сэму:
– Н-ну?! Чай будем пить?!
Очень дисциплинированный и застенчивый Сэм не стал пить чай. Сэм вообще заскочил только на секунду. Сэм вообще лучше материал пока заберет, а завтра- послезавтра принесет готовый. А то это только наметки и не очень разборчиво – он сам знает. Он посоветоваться хотел только, как композицию выстроить. Сэму еще в три места надо.
И Сэм отправился в свои три места, хотя Гребнев с удовольствием отправил бы его только в одно.
Чай остыл. Гребнев издолбил кусок сахара в чашке – сахар рассыпался под ложечными ударами на крошки, но никак не желал растворяться.
***
… За те два часа, которые он сам себе дал, уйти удалось довольно далеко. Хотя трудно сказать, далеко ли ушел: новолуние. Темнота давила сверху низким небом, беспросветным переплетением листвы над головой, еловыми могучими шапками. Темнота липла к лицу неожиданной паутиной – он торопливо смазывал ее ладонью со лба, с подбородка. Шел дальше. Темнота норовила ткнуть ему веткой в глаз – он отшатывался назад, ощупью находил ветку, отводил в сторону. Шел дальше, уже вытянув руку перед собой. Темнота подставляла подножки – он больно ударялся коленкой, спотыкался, стараясь упасть бесшумно, вставал. Шел дальше. Темнота чавкнула под ногами набухшим мхом. Болото, определял он, надо левее. Болото – это хорошо. Если уже болото, значит, ушел далеко. Теперь только надо взять левее, чтобы не завязнуть.
Ушел! Успел проскочить клещи до того, как сомкнулись челюсти облавы. Успел! До последней минуты не был уверен в этом: а вдруг не проскочил, вдруг раздастся впереди приглушенный говор, неизбежные шорохи – даже при идеальной выучке шорохи неизбежны. Их ведь должно быть очень много – тех, кто брошен на облаву. И продвигаться они должны частой цепью, чтобы никто не проскочил. Он знает, он сам делал перевод.
Он проскочил! Дал себе целых два часа и проскочил до того, как цепь замкнулась. Он понял это, когда: за спиной, далеко, застучал пулемет, сорвались с цепи автоматные очереди, расплескали тишину гранаты…
Тогда он побежал – шумно, ломая сучья, разгребая трещащий кустарник дикой малины, взвизгивая от хлыстовых протяжек лесной, в рост, крапивы. Дышал тяжело, с «хаканьем». Силы кончались. Въехал ногой в муравейник, отскочил в сторону, сделал еще несколько шагов, запнулся щиколоткой о торчащий корень здоровенного выворотня – свалился в яму. Все. Силы кончились. Затих.
Он даже не стал подгребать листьев, прятаться. Нависшее над ямой корневище выворотня надежно укрыло его скрюченными пальцами… Но заснул не сразу. Сил не было, но сна – тоже. Что же он сделал?! Что он сделал! А что такого он, вообще-то говоря, сделал?!. Если рассуждать логически! Если логически рассуждать! Если логически-то!
… Лыба молодцевато выскочил сегодня днем из землянки командира, поманил пальцем:
– Пра-ахфессор! Ну-ка!
Он старательно продолжал оттирать миски песком. Никакой он Лыбе не «профессор»!
– Ты что, оглох?! Светик!
И никакой он Лыбе не «светик»! Привязался! Все из-за этих четырнадцати лет! Светик… Придумали, тоже мне!
Разве он так представлял себе все это? С его-то знанием языка!!! Он представлял засаду у развилки – вот он, автомобиль! Гранату – под колеса, очередь! И они уже выволакивают с заднего сиденья сухощавого полковника с моноклем. Почему-то непременно сухощавого и непременно с моноклем. И портфель. А потом командир говорит: «Мы долго думали… Больше некому. Язык знаешь ты один». И он надевает мундир полковника (хорошо, что сухощавый, – и ушивать не надо), вставляет в глаз монокль, зажимает портфель под мышкой… Потом эта сволочь Кринкль смотрит на него прозрачно, сквозь, но кривит губу вежливой улыбкой: «Ну, как там в Берлине?». И он с чистейшим нижнесаксонским выговором высокомерно отвечает: «В Берлине осень. Меня больше интересует, обер-лейтенант, как у вас обстоят дела с… Покажите все документы, имеющие отношение к…». И так далее. Что – и как далее, он не задумывался. Ясно одно, он бы такого понаделал немцам. И они бы ничего не заподозрили. С его-то знанием языка!
А он со своим знанием языка скребет миски и котелки, бинтует раненых, переводит портфельные бумажки, добытые другими при вылазках, дублирует на русский попавшихся фрицев. Все из-за своих четырнадцати лет! Какой может быть монокль, какой сухощавый полковник, какой маскарад! Тот же Кранкль сразу – хвать! И – в «больницу». Несмотря на нижнесаксонский выговор. Да и без всякого маскарада его все равно – хвать! Стоит Сытнику увидеть его в городе. Сытник не простит царапины. Сытник очень заботится о своей внешности. Сытник тогда на майские врезал так, что выбил ему четыре зуба, а он… что он мог сделать, тогда тринадцатилетний, против верзилы, который уже восьмилетку окончил и еще три раза в одном классе сидел? Вцепился ногтями в лицо, чуть глаза не выцарапал… Теперь Сытник, Клим Сытников, ходит по городу с повязкой полицая, винтовка за спиной болтается прикладом вверх. «Я его!.. – шипит тот же Лыба. – Я из него!..». И говорит, что он сделает из Клима Сытникова, когда доберется до него. Но добраться до Сытникова непросто: чует, ходит только днем. А ночью баррикадируется, пьет – никаким калачом не выманить, не достать.
Так что в форме ли воображаемого полковника, без формы ли – в город ему, пацану еще, нельзя. И он уже который месяц скребет миски и котелки, бинтует раненых, переводит…
– Све-етик!!!! – Лыба подобрал камешек, метнул несильно. Камешек брякнул об котелок.
Он вздрогнул от неожиданности, поднял голову – теперь не сделаешь вид, что не заметил. Лыба его бесил. Своей покровительственностью. «Ты у нас праахфессор!». Уж по сравнению с Лыбой – тоже мне, тракторист! – да, профессор! Подумаешь, герой – штаны с дырой! Очередного «языка» взял! И на каком языке вы с этим «языком» будете говорить? Так-то! А сами: Светик, Светик!
Лыба по-свойски хлопнул его по плечу. Он дернулся, сбрасывая руку, извернулся, шагнул в землянку. Лыба – за ним.
Командир, иссиня-бритый («И если увижу у кого щетину, на костре палить буду! Не распускаться!». Но и личный пример не помогал…), сидел на чурбаке, мучил английским и себя, и вытянувшегося перед ним «языка»:
– Do you speak English? Вот дубина! Ты спик или не спик? Тебя спрашивают!
«Дубина» явно был не «спик». Пялил пуганные глаза, молчал вмертвую.
– A-а, Светик! – обернулся командир. (И этот тоже: Светик!) Помоги. А то я английский в школе… Может, думаю, и он тоже? А он никак что-то…
– Я пойду, командир? – полуутвердительно сказал Лыба, дождался кивка, отступил к выходу.
«Язык», рассмотрев в полумраке Лыбу, непроизвольно дернул шеей. Хватка у Лыбы крепкая. Шея «помнила».
Лыба сощурился, сложил пальцы «уточкой», щипнул воздух перед немцем:
– Кря-кря! – и от уха до уха свою знаменитую улыбку.
– Боец Ковтун! – призвал командир.
– Все, все! – колыхнулась за ним плащ-палатка на выходе.
«Языка» Лыба взял… незапланированно. Хоронился у шоссе, считал грузовики – они шли один за другим. Покачивались зеленые каски, целили в небо автоматы, зажатые между колен. Сколько же их?!.
Внезапно очередной грузовик, уже было проехав мимо, резко затормозил. Отставшая пыль догнала и накрыла волной, потому как солдаты вдруг заколотили кулаками по кабине – и грузовик остановился.
Лыба проверился – надежно! Не могли они его заметить. Или все же заметили? Да не может быть! Тогда чего встали? А-а-а… Трое солдат выпрыгнули из кузова, пошли в лес, на ходу дергая ремень, всхохатывая, весело огрызаясь через плечо на гогот из грузовика. Ну, и остальные повыскакивали. За компанию. Аккуратный народ! Уселись рядком. Эх, пальнуть бы сейчас! От пальбы Лыба удержался, но когда крайний немец сел чуть поодаль, буквально в двух шагах от него, то из кустов раздалось тихое и очень натуральное: «Кря! Кря-кря!..».
Лыба еще и не так умел. Он и соловьем умел, и кукушкой, и петухом, – бабка с хворостинкой по двору гонялась, когда он ее среди ночи поднимал кукареканьем, давился смешком.
Так вот: кря-кря! Лыба интуитивно почуял, что немец не будет сзывать остальных. Точно! Немец привстал, застыл в малограциозной позе, вслушался. «Кря!» – подтвердил Лыба и пополз вглубь.
Немец, натянув штаны, двинулся на звук – осторожно, тихонько, чтобы не вспугнуть. Это Лыбу устраивало. В самом деле, зачем поднимать шум? «Кря!». Дальше, еще дальше. «Кря!». Вот теперь пора! Хватка у Дыбы была крепкая. А не будешь гадить на нашей земле.
Немцы еще долго выкликали: «Хайнрих! Хайнри- их!». Но в лес не сунулись, хотя и могли: цепью и прочесать. Спешили? Ведь шли в колонне. Опасались наткнуться на мощную засаду? Может быть. Они с дороги проскочили лес длинными и частыми очередями. Полаяли на своем и… не сунулись.
Повезло Лыбе. «Ха-айнри-их!». Вот тюти! Сами зовут и сами палят – в своего же Хайнриха можно угодить. Но нет. Далеко уже ваш Хайнрих. И шея перехвачена так, что не пикнуть.
Откуда и насмешливое «кря-кря!» Лыбы пленнику. Пусть помнит, не забывает.
– Бедовый черт! – усмехнулся командир. Посерьезнел: – Светик! Попрактикуйся, – кивнул на «языка». – Значит, первое. Сколько…
Он выслушивал вопрос, переводил, выслушивал ответ (баварец – гласные глотает варварски!), переводил. Чем больше говорил «язык», тем машинальней он переводил. Голова «раздвоилась», лихорадочно работала: что делать? что? Ибо пленный Хайнрих выбалтывал нечто жуткое:
Обер-лейтенант Кранкль представил туда, наверх рапорт: в лесах не просто один или несколько отрядов партизан, в лесах – регулярные части русских. Поэтому искоренение имеющимися в его распоряжении силами не является возможным…
(Какие регулярные части?! Немцы нагрянули слишком быстро! Ни времени, ни опыта, чтобы организовать хотя бы ядро партизанских отрядов!).
По сведениям, поступившим обер-лейтенанту Кранклю, численность войск противника – более тысячи единиц.
(Сорок семь человек в отряде! Вместе с четырьмя ранеными! Сорок семь!).
В пункт направлены отборные части под видом передислокаций. Все для того, чтобы покончить с партизанами одним ударом… Всего около двух тысяч.
(Две тысячи! Отборных! Против сорока семи!).
Операция разработана до мелочей, но господин партизан должен понимать, что простой солдат не может знать этих подробностей! Господин партизан должен понять, что перед ним простой солдат, что он рассказал все, что он ответил на все вопросы, что он ничего не скрыл! Он простой солдат!..
(Что делать?! Что?! Нельзя так! Так бессмысленно! Это ж бессмысленно!).
Когда операция? Операция назначена на… на сегодня.
– Einen Stunde vorher die Mittemacht… – сказал «язык».
– Операция назначена на сегодня, – перевел он механически, споткнулся на миг: – Через час после полуночи.
И замер, задохнулся, ожидая неминуемого – что его разразит гром и молния, что он сквозь землю провалится за подобный перевод.
– Так что ты мне голову морочишь?! – вдруг страшно засипел командир, вырастая и нависая над ними обоими.
Светик съежился, втянул голову в плечи: понял! понял командир! все понял!
Но не Светику сипел командир, а «языку».
Мог Светик ошибиться? Мог он просто оговориться?! Мог! Он убеждал себя, что мог… просто оговориться. Случайно! Он просто оговорился и вместо «за час до полуночи» перевел «через час после полуночи». А потом сразу завертелось. Сразу очень быстро все…
Командир рванул плащ-палатку на выходе:
– Лыба!
Сразу возник Лыба. Командир, повернувшись спиной к «языку», показал Лыбе на него глазами:
– Без звука!.. Гасить огни!
Костры зашипели, давясь мокрым дымом. Лагерь зашевелился в полной темноте – без суеты, без спешки, но споро, бесшумно. До облавы оставалось ровно три часа.
Не три! Не три, а всего один час. Но об этом знал только Светик и… «язык» Хайнрих…
Лыба налетел в темноте на Светика.
– Мат-ть! – хрипнул Лыба. – Прахфессор! Не стой столбом! Пораниться можно в темноте. – Он держал на отлете штык-нож. Воткнул в землю, обтер об голенище.
Светик действительно стоял столбом, окаменел. Штык-нож, Лыба, влажный высверк на лезвии.
Он все эти месяцы драил миски, он хоть и бинтовал раненых, но раны наносились где-то там, далеко, не рядом, не на глазах. Он знал, что бывает, если пуля прошла навылет, если нож рассек руку, если осколки взгрызлись в плечо, – он знал и не знал. Для него все это было бинтами с проступившими, расплывшимися красно-бурыми пятнами. Лыба убил, зарезал вот сейчас, вот здесь, вот только что…
– Что глазеешь?! – снова хрипнул Лыба. – И со всеми гадами так! Пусть сунутся!
Они сунутся. Две тысячи против сорока семи. Через час. И что им Лыба со штык-ножом?!
Светик все убеждал себя, что он мог просто оговориться. Но убеждал машинально – так же, как раньше переводил. А голова работала. Если бы командир знал, что в запасе у него, у них всех не три часа, а всего один, то… То ничего бы не изменилось – лагерь так же занимал оборону, только Светику было бы не так просто уйти.
Сорок семь и две тысячи. Каждый из сорока шести (Светик!) понимал, что обречен, что не имеет ни единого шанса. И потому без суеты и спешки занимал оборону. Командир отдал приказ занять оборону, командир не давал приказа уходить. И некуда уходить – сняться всем отрядом и попытаться уйти, напороться на замкнувшееся кольцо и принять бой на марше? Что так, что эдак. Нет, эдак лучше – лучше не на марше, а с относительно укрепленных позиций, в лагере, где знаком каждый бугорок, каждое дерево. Больше положат. Сами лягут все, но и гадов больше положат.
Будь у них не три часа (как они полагали), не уползти бы Светику – первым делом замкнули бы лагерь, не вырваться («Куда пополз!»). Он дал им лишних два часа. Вернее, он дал их себе. Им – отряду, командиру все равно: начнись облава через час после полуночи, как он перевел, или начнись она за час до полуночи, как пролопотал Хайнрих, все сорок шесть человек готовились бы сопротивляться. Бессмысленно!
А ему, Светику, одному можно выскользнуть. Он не струсил, он просто оговорился. Нет! Он не оговорился там в землянке! Но он все равно не трусил. Просто он не хочет так бессмысленно. Что так, что эдак. Он не хочет ни так ни эдак! Он прорвется! Всему отряду не прорваться – ни за три часа, ни за час до облавы – а одному можно попробовать. Нужно попробовать! Это не трусость, нет! Он прорвется и еще даст гадам прикурить!
Он прорвался. Прошмыгнул.
… Ногу шпарило огнем. Светик задергался, открыл глаза. Было холодно, влажно, белесо – светлая муть вокруг и больше ничего. Он не сразу, но сообразил: туман прибило к земле, туман переполнил яму выворотня. Он резко сел, стукнулся головой, пошарил выход, выбрался.
Туман плавал у колен. Ногу жгло. Он стянул сапог – муравьи пригрелись за ночь после прямого попадания в муравейник, кишели. Он затряс портянку, выбивая из нее кусачую мелочь. Перемотал, надел сапог.
Куда? Куда теперь? Если бы он хотя бы знал, где находится! Хотя бы приблизительно. Очень хотелось пить. Побрел наугад. Набрякшие от росы заросли оставляли мокрые полосы на штанах. Не выжимать же их и… пить. Он тихонько завыл от бессилия – воды кругом рассеяно: хоть залейся. А не глотнешь!
Он шел. Солнце поднялось, притягивая к себе влагу. Воздух задрожал. Он шел. Черника! Собирал, полную горсть, опрокидывал в рот, давил языком. Пить хотелось еще больше. Он шел. Попадись хоть какое болотце – руки лодочкой и в мох, нацедить пусть ржавой, пусть вонючей, но воды!
Лес был прямоствольный, сосновый, сухой. Он не знал этого леса. Он вообще ничего не знал! Север, юг? По лишайнику? С какой стороны он гуще, там юг. Или север?
Откуда ему знать?! И зачем?! Проходили когда-то в школе. Но разве так важно знать коренному горожанину, с какой стороны лишайник гуще?!
Вот с какой стороны нож, а с какой вилка – это он знал хорошо. И какую вилку к рыбе, какую к мясу – это он тоже знал. И язык знал. Петра Густавовна просто-напросто не реагировала на Светика, когда он говорил с ней по-русски. Светик мог обессилеть в истерике, ревмя выпрашивая игрушку, поставленную высоко – на стол, требуя завтрак, уговаривая выпустить его во двор погонять мяч. Петра Густавовна не реагировала. И только когда он смирялся и выговаривал то же самое на немецком, она невинно вскидывала брови: а кто это у нас тут? а что мальчику надо? ну, конечно-конечно!
Он тихо ненавидел Петру Густавовну с трехлетнего возраста – со дня, когда она появилась в их просторной четырехкомнатной квартире.
Отец не бывал дома месяцами, появлялся изредка и снова исчезал. Мог исчезнуть в любое время. В основном – ночью. Черная, блестящая, «горбатая легковушка» подбиралась под окна, коротко сигналила. Потом в гулком парадном цокали подковки посыльного – невнятица у дверей, в прихожей. И отец, неслышно ступая по комнате, застегивал китель, отпирал шкаф, доставая оттуда вкусно пахнущую кожей портупею. Мать – пуховой платок внакидку – кусала губы. Отец грозил ей пальцем: «Опять?». Она прикладывала ладонь к губам: молчу, молчу. И отец исчезал. И надолго. Потом – всегда неожиданно – возвращался.
Мать училась. Она уходила утром, приходила поздно вечером. Она училась не только в институте, она проходила курсы – автомобилистов, стрелков, парашютистов. Бредила рекордами Куталовой, собирала все вырезки, где говорилось о новых рекордах парашютистки. Сколько Светик помнил мать – она все время училась.
А Светик оставался один на один с Петрой Густавовной, которая совмещала в себе домработницу, няньку, экономку. Да, это она в конце концов выучила его языку на уровне коренного ганноверца. Это она выучила его всем премудростям застольного этикета и светских манер.
В три года он ее тихо ненавидел. В тринадцать он понял, что владеет многим из того, что может пригодиться… в дальнейшем, когда он закончит школу. Но ненавидел ее теперь громко: вел с ней задушевные, улыбчивые беседы на тему: «все вы, немцы, одинаковы, и если ваш гад с усиками, хоть шаг сделает против нас, то вы у меня из окошка – вниз головой». Он говорил по-немецки, как его учила Петра Густавовна. Мать за ужином улыбалась – она, несмотря на все свои курсы, не улавливала и половины из того, что наговаривал сын. А Петра Густавовна теперь делала вид, что не воспринимает его немецкий, застывала, желтела лицом. Через месяц взяла расчет. Исчезла, растворилась в большом апрельском городе.
А при Светике остался его словарный запас, произношение, знание этикета. Потом отец появился – снова ночью. Они вдвоем с матерью до утра говорили за плотно прикрытыми дверями, на кухне. Светик поджимался в постели, ловя голоса, но не разбирая слов – только интонации. Интонации были суровыми, нервными. «О Петре Густавовне!» – поджимался Светик. Но разговор шел не о Петре Густавовне…
Утром Светик на той самой горбатой, блестящей «легковушке» был сопровожден на вокзал. Отец сидел рядом, но глядел вперед. Изредка похлопывал Светика по руке, в которой тот зажал чемоданчик с вещами, тетрадками, продуктами. Отец приговаривал: «Ничего, ничего…». К тетке. Пусть и не так далеко, но спокойней. Ненадолго. Отец так думал, что ненадолго. Все думали, что ненадолго.
И теперь, через полгода, Светик один в лесу со своим словарным запасом, произношением, знанием этикета…. Но ни то, ни другое, ни третье не могло пригодиться ему сейчас – когда хотелось пить, когда было неясно, куда идти, когда ноги снова стали запинаться. Он шел. И когда ему стало уже совсем все равно, потускневшее к вечеру солнце поманило бликом на металле – далеко впереди. Рельсы!
Он добрался до полотна. Рано или поздно должен пройти состав. Рано или поздно пройдет. Он прилег за насыпью. Идти по шпалам не было сил – и в какую сторону идти! Ему стало все равно. Даже если вдруг появится состав, то это будет не наш состав. Ему было все равно. Его заметят и прошьют очередью – ватник, сапоги, лес: партизан! Ему было все равно. Даже если не заметят, то на скорости он не впрыгнет, оступится, его намотает на колеса. Ему было все равно. Он вспрыгнет, не оступится, а дальше что? «Здрасте, граждане фрицы! Не найдется ли водички попить?». Ему было все равно. Голова уже не работала. Проснулся инстинкт.
Инстинкт спас его. Когда уже в полной темноте рельсы загудели, он распластался на насыпи, вжался в гравий. Луч прожектора не ухватил его, проскочил. Скорость была небольшая, осторожная – поезд нащупывал путь не торопясь. Вдруг впереди разворочено?
Светик приподнялся. Мимо проплывала подножка. Уцепился, проволокся, обдирая коленки, влез. На площадке – никого. Товарный вагон. Ему было все равно. Очень холодно. Очень хотелось пить. Он на одном инстинкте выжался вверх, царапая сапогами доски, – на крышу.
Ветер вымораживал. Он на инстинкте почувствовал – людей внутри нет. Люки прикручены проволокой, не высовываются, жестяные трубы печек не дымят. Он отогнул проволоку, приподнял люк, спустил вниз ноги, повис на руках. Обдало ужасом – под ним в темноте что-то колыхалось: большое, сплошное… Руки разжались, он свалился – ноги разъехались, ударило в пах.
Фырканье, топот и… мычание. Коровы! Светик потрогал вокруг, понял – сидит верхом. Сполз, пошел, еле переставляя ноги. Коровам не нужны сторожа, коровам не нужны печки, но им нужна вода. Здесь должна быть вода!
Вода была. Перекатывалась от стенки к стенке в резиновой кювете, сделанной из разрезанной покрышки.
Он пил, пил, пил. И вода, чувствовал, уже перекатывалась от стенки к стенке в собственном желудке. Отдышался. В затылок, в спину тыкались мягкими губами недоумевающие коровьи морды. Вот бы их подоить! Но как и во что?!
Он втиснулся между тушами, пробираясь назад, к хвостам. Корова переступила, толкнула его в бок – он упал на солому. Вот и хорошо! Солома – это хорошо! Зарылся с головой – спать, спать! Пахло свежим навозом, угольной пылью, дезинфекцией.
Спать! На сапог плюхнулась полновесная коровья лепешка. Ему все равно.
Куда идет поезд? С коровами! Может быть, его гонят туда…
Туда, где его нижнесаксонский выговор придется очень кстати. Может быть. Ему было все равно. Коровы. Скот. Их будут резать. Резать… Влажный высверк на штык-ноже Лыбы. Резать так же бесшумно и умело, как Лыба… И они будут безропотно, как «язык»… Там. Там, куда придет состав. Ему было все равно. Он им всем еще покажет! Он выберется обратно и еще покажет всем-всем им!
«Все они» – были не только гады, но и командир, и Лыба, и отец, перетянутый портупеей, и мать, собирающая вырезки про рекорды Куталовой…
… Сытник бил его прикладом куда-то в позвоночник, спихивая в пропасть. Лицо у Сытника менялось, превращалось в ухмылку Дыбы. Штык-нож блестел мокрым. Светик цеплялся за край пропасти, но сползал, сползал. Крика не получалось, он тягостно и дико мычал, мычал. Потом падал, падал, падал.
Потом открыл глаза и понял, что на самом деле падает, не во сне. И в позвоночник ему било копыто. Корова, дергая привязь, пыталась устоять. Не удержалась, навалилась мягко и душно всем крупом. Вагон накренился, пробалансировал, свалился вниз, увлекаемый инерцией головного поезда. Все закувыркалось. Не углядел прожектор. Все закувыркалось, ссыпалось, затрещало…
***
Такого просто быть не может. То есть такого просто быть не могло до сегодняшнего дня. Либо он во мне души не чает (но тайно, так тайно, что сам себе отчета не отдает), либо он меня на дух не выносит. Что вероятней.
Гребнев взвешивал оба соображения, склоняясь ко второму, – так ему было проще, объяснимей. Иначе чем объяснить ранний визит Парина? Ничем!
Вот он, Гребнев, не переваривает Парина – пришел бы он к нему, к Парину, случись с тем травма? Не пришел бы! То есть, конечно, сдал бы в общий котел рубль или сколько там нужно на редакционный гостинец. Но сам бы не пошел.
Не тратьте время, чтобы помнить зло. Легко сказать. И звучит довольно лицемерно, как и каждый красиво выстроенный афоризм. «Будем выше мелочных счетов!» – расхожая формула и справедливая. Но Гребнев потому и бесился бессильно, что к Парину у него был не мелочный, а крупный счет. Парин был олицетворением времени: многомудрого времени, значительного, конечно-оптимистичного, о дальнейшем улучшении которого только и стоило говорить – вслух! Кот хотя бы циник – Кот говорит вслух, но и думает вслух: иронично и зло, совсем не то, что говорит. А Парин думает синтонно тому, что слышит.
«Думаю, товарищи, – сказал на заседании Президиума Верховного Совета СССР Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Леонид Ильич Брежнев, – мы правильно поступаем, когда стремимся встретить юбилей нашего многонационального государства практическими успехами в хозяйственном строительстве, в подъеме благосостояния и культуры советских людей. Так учил нас Ленин!».
Парин так и думает. И что Ленин именно так учил, Парин не сомневается. А Гребнев сомневается. И не хочет быть выше! Выше чего, собственно? Выше своих принципиальных позиций? Тут только ниже можно быть. Позиции-то свои… Впрочем, у каждого свои. У Парина – свои. Вот он и пришел. Сетку с грушами принес. Сочувственную улыбку принес, прочувствованные слова принес. (Груши! В июне! С ума сойти!).
А Гребнев бы все таки не пришел и не принес. Любишь – люби. Не любишь – так и скажи. И не морочь голову ни себе, ни окружающим. И по мелочному счету, и по самому большому… И с большим энтузиазмом Гребнев приветил бы Бадигину, которая традиционно обихаживает занемогших сотрудников. С большим энтузиазмом Гребнев бы с Пестуновым покощунствовал над собственной травмой: «Слушай, Гребнев! Ка-ак я тебе завидую! Месяц отдыха!» – «Ничего, Кот! Вот снимут гипс, я что-нибудь придумаю – и для тебя. Чтобы не завидовал!».
Поэтому особой радости Гребнев не испытал, открыв дверь и увидев Парина. И еще меньше радости испытал он, закрыв за Париным дверь через два часа.
Все эти два часа Парин врал-не врал. Как и в том, что обычно строчил. Въелось, что ли? Присохло? Или сам верил в то, о чем врал-не врал.
– Очень не вовремя! Ох, как не вовремя! – врал- не врал Парин по поводу гребневского сухожилия. – Редакция в очень тяжелом положении!
(Да не редакция, а Гребнев в тяжелом положении!
И Парину определенная выгода – никто его теснить не будет на полосах целый месяц. А уж он, Парин, найдет, что высыпать в газету, собрав еще и урожай моральных дивидендов: выручил коллектив, пока кое- кто неосмотрительно повреждает ногу).
– Груши хорошие, мягкие. Кушай, кушай! – врал- не врал Парин, заботливо, вытряхивая гостинец прямо на постель. – Только сетку мне надо будет забрать…
(«Кушай, кушай!» Хватило ума принести, а вот вымыть, сходив на кухню, – никак! Когда же Гребнев необязательно спросил, дабы убить паузу: «Долго в очереди-то?». Парин ясноглазо сказал: «Какая может быть очередь! С утра был в централизованном магазине. Там матерьяльчик по Продовольственной программе нужно было взять. И положили немного. Груши мягкие, хорошие. Кушай, кушай!»).
– Кстати, о матерьяльчиках. Я тут вам еще принес, чтобы не скучали, – врал-не врал Парин, лавируя между «ты» и «вы», доставал из портфеля взлохмаченную стопку бумаг. – Это авторские. Все равно лежишь – сделаешь обзор? Только учти, его к выборам нужно подогнать, к двадцатому.
(Писем – более десятка. В основном благодарственные. Мол, хотим через редакцию сказать «спасибо» дворнику за то, что подмел; доктору – за то, что вылечил; водителю – за то, что довез. Неинтересно! Гребневу неинтересно. То есть, конечно, просто здорово, когда есть люди, исправно выполняющие свои рабочие функции. Тем не менее толика здравой бессмыслицы есть в том, чтобы сводить воедино письменные благодарности в адрес людей, которые делают то, что должны делать. Да еще умиляться: ну просто здорово!.. Но Гребнев не стал говорить Парину. Сколько же раз можно говорить, в конце концов!).
Гребнев сказал:
– Это так срочно?
– Желательно срочно! – врал-не врал Парин.
Я же говорю, к двадцатому, а сегодня шестнадцатое. Сам понимаешь…
Гребнев сам понимал: возиться Парину неохота – разбирать неразборчивые почерки, приводить в грамматическое соответствие, выстраивать в удобоваримой последовательности, избегая «спасибо… а вот еще одно спасибо… а также вдогонку снова спасибо… и наконец, еще одно спасибо!». Нет уж! Спасибо! И Гребнев отпасовал:
– Я бы с удовольствием, но… спасибо. У меня тут и так пока материал горит.
– Мельник, что ли? – не то чтобы пренебрежительно спросил Парин.
– Мельник! – не то чтобы вызывающе ответил Гребнев.
– Вот как раз о мельнике я хотел поговорить. И предупредить. Я еще вчера, когда вы звонили к нам, подумал: стоит ли давать целую полосу под…
– Стоит! – перебил Гребнев.
– Под злостного хулигана.
– Что-о-о?!!
Снова усталая покровительственность из Парина наружу выперла. Уж пусть Гребнев Парину поверит. У Парина есть сведения. Достоверные сведения. Сведения о том, как хваленый Гребневым мельник год назад еще бы чуть-чуть – и искалечил двух товарищей, находившихся, между прочим, при исполнении. Милиция этим вопросом занималась, на мельницу приезжала. Он, Парин, так думает: только преклонный возраст хулигана спас того от заслуженного наказания… И потом… что-то там еще не все чисто с военным прошлым. Не все ясно. В свое время вызывали Авксентьева куда надо. Он, Парин, не имеет сведений, чем тогда дело кончилось, но имеет сведения, что н-не все там чисто. И вот пусть Гребнев сам подумает, если не хочет прислушаться к мнению старшего товарища: стоит ли поднимать на щит человека, который… у которого… с которым… м-м… не все ясно. Тем более накануне выборов, когда за каждой публикацией особенно пристально следят. И в райкоме, и не только. Пусть сам подумает.
Вот тебе и здрасьте!
Чего угодно ожидал Гребнев, но такого не ожидал. Да нет же! Врет Парин! Не может быть, чтобы не врал! Глядит участливо в глаза и врет!..
Нет, не врет. Парин никогда так не врет. Он слишком осторожен, чтобы так откровенно врать. И ради чего? Дабы Гребнев не сделал хороший очерк? Не те средства. Парин бы другие средства избрал. Парин бы просто перекорежил очерк, буде тот готов, навычеркивал бы, зарезал бы живое. В духе времени. Парин бы… В общем, Гребнев прекрасно представлял, что бы сделал Парин. А Парин взял и сделал вот как…
И не врет. Хотя бы вчерашним поведением не врет: когда предпочел юбилею мельника санаторную встречу депутата-избирателей. Это юбилею-то, где вкусно накормят-напоят при непосредственном выполнении редакционного задания! А он, Парин, это дело любит и не упустит (груши!). Он, Парин, искренне обиделся бы вчера, когда и если попал бы на мельницу вместо Гребнева: что же за юбилей без всего того, что должно быть! И ведь как чувствовал Парин – не светит у мельника мероприятие в том смысле, как его представляет Парин. И лучше пусть Гребнев съездит. А там глядишь – очередной «Филипповый отчет». Вы помните, как с «Филипповым отчетом» было?! То-то и оно!
– Как вчера встреча с кандидатом прошла? – ядовито поинтересовался Гребнев, имея в виду всю цепочку своих умозаключений-прикидок.
Но Парин по обыкновению оказался противояден. Он-то, Парин, никаких умозаключений не имел в виду. Он простой. Совсем простой. Как мячик. По нему долбанешь изо всех сил, а он только выше подпрыгнет. Если его в лужу посадить, то чинно, величественно заколыхается, блестя мокрыми боками, – не мячик, а прямо-таки шарик земной. Или, по крайней мере, его пуп.
– Хорошо прошла! Долганов такие перспективы развернул! – И Парин стал вещать о перспективах санаторного комплекса, о слиянии его с турбазой «Крона», о крупномасштабности задуманного, об энергичности, деловой сметке и хватке будущего депутата, изложившего свою программу, о директоре пока еще только «Кроны», но в недалеком будущем и всего комплекса – о Долганове. Солярий! Три новых корпуса! Зимой – слаломная трасса! Санный желоб! Уровень высочайшего сервиса! Восстановительные центры с каминным залом! Между прочим, вчера после мероприятия Парина пригласили в такой центр. Эт-то!.. Эт-то!.. Заново родился!
«А зря!» – чуть не брякнул Гребнев. Хватит Гребневу и того, что Парин уже родился один раз – так тот еще и заново норовит. Гребнев удержал язык за зубами, не брякнул. А Парин все продолжал и продолжал сагу о Долганове. Мало Парину газетной площади, где он что ни неделя, то: О, Долганов, о! Скорее всего, директор действительно более чем достоин похвал. Но от изобилия бывает оскомина.
– Мне на УВЧ пора. Прошу прощения! – перебил Гребнев.
… Ушел Парин. Отряхнул свою сетку, усовал в портфель, пожелал: «Ну, выздоравливай!». И ушел. А чего приходил?
Да, не договорили! Не с Париным – с мельником не договорили. Вот и пиши теперь… Особенно в свете стукнувшей по темечку информации. Не договорили. Ага!
– Кот! Слушай, Кот!.. Да из дома звоню, из дома! Откуда я еще могу звонить!
– Слушай, Гребнев! Ка-ак я тебе завидую! Месяц отдыха!
– Ничего, Кот! Вот снимут гипс, я что-нибудь придумаю и для тебя. Чтобы не завидовал! – (Хорошие мы, все-таки, ребята! Ведь с полуслова!) – Но это потом, когда мне гипс снимут. А пока знаешь что?..
– … Ну, ты и любитель! Любитель и есть! Ты что, серьезно?! Да сегодня в полвосьмого англичане французов раскатывать будут! И ФРГ-Алжир ночью! А ты… Кстати, ты позавчера наших смотрел с Бразилией?! Судья – сволочь!.. Что ты орешь-то на меня! Вот елки!.. Ты трезво хоть поразмысли!
«Трезво поразмысли» – так сказал ему Кот. Так сказал ему Костя Пестунов. И был по-своему прав.
Гребневу не хотелось трезво поразмыслить. Гребневу захотелось не ждать, когда снимут гипс, а «что- нибудь придумать» для Пестунова сейчас, в данный момент, пока тот еще на проводе. Хорошие мы все- таки ребята, да! Но за тридевять земель Пестунов, конечно, не поедет. С мельником Пестунов, конечно же, не собирается встречаться. И душевно беседовать тоже не собирается. Много чести какому-то мельнику – два корреспондента друг за дружкой. Один уже «приехал», а теперь еще и Пестунову ехать? И жертвовать Англией-Францией?! Чемпионатом мира?! Было бы ради чего! Да ну, Гребнев, не ерунди! Вот, может, помощь Гребневу нужна? Тут Пестунов – пожалуйста. В булочную заскочить, в «мясо-молоко» после работы. Посидеть, потрендеть, «маразмарием» развлечь:
– Во! Смотри, чего поймал. Из истории болезни. «Больной выписан по причине отказа от вскрытия». Я отпал! А медсестра обиделась. И нечего, говорит, заливаться! У больного абсцесс был на деликатном месте, он застеснялся и ни в какую! А вы заливаетесь!.. А? Как тебе?! Слышишь, нет?! Каково?! Да ты слышишь меня или нет?!.. А почему не реагируешь?!
Может, он и прав по-своему, Кот. Может, трезвый мыслитель Костя Пестунов и прав. Действительно! Тащиться черт знает куда, добивать чужой материал – раскочегаривать старичка, торопливо записывать, если старичок еще бойкий, или клещами каждое слово вытягивать, если старичок угрюм. А тут из Испании – матчи, матчи!..
Да и потом! Что в самом деле потом? То ли пересказывать все Гребневу, то ли самому садиться – не за очерк на целую полосу, естественно, а за разве что зарисовку на сто пятьдесят строк. По глубокому убеждению Кости Пестунова, из мельника больше не выжмешь. Объем должен соответствовать значимости. Так стоит ли ради полутораста строк эк куда? А на Гребнева он спину гнуть – с удовольствием, но только но линии булочной и «мяса-молока». А по линии творческой – просто никак невозможно. Тем более что творческие линии у них разные и не пересекаются. Это ж надо целый вечер на мельнице уже ухлопать ушами – да так, чтобы потом на зарисовку не наскрести. Л-любитель и есть!
– Ладно, слушай! Пока я тут с тобой треплюсь, у нас тут планерка начинается! – благовидно завершил Кот. – Я к тебе сразу после нее заскочу. Так надо тебе что-нибудь?
– Не надо. Заскакивай. Заскакивай. Если застанешь.
– Шуткуешь все?
– Нет. Мне на УВЧ надо. Там, по слухам, дикие очереди.
… Просто не хотелось Гребневу видеть Пестунова. Прав Пестунов, но видеть его не хотелось. Состояние обиженности на весь мир возникло у Гребнева. Обиженность на Парина, который из колеи выбил. На мельника, который черт знает что… так не бывает, ан… На Валентину, бросившую его болезного, будто не он сам ее сегодня утречком удалил. На Пестунова, который отказывается помочь, хотя при трезвом размышлении правильно делает, что отказывается. Нормальная обиженность на весь мир, который ходит на двух ногах без костылей, а ты… как трехногий табурет – столь же изысканный и столь же устойчивый. И на УВЧ действительно надо. И очереди действительно дикие.
По слухам. И даже никакой книги с собой не прихватить. Куда ее, в зубы, что ли?!. Большая и глубокая обида!
Потому, когда телефон снова зазвонил, а в трубке на гребневское «Да-а?» кто-то притаился, Гребнев в ответ на мнимое ошибочное соединение прямо так и залепил:
– Уважаемая товарищ Артюх Валентина Александровна! У вас неправильно набран номер! Справки по телефону… Ах, да! По какому же телефону справки- то?! Но не по этому. Гарантирую… Повторяю! Уважаемая Артюх Валентина Александровна! У вас неправильно набран номер. Неправильно набран номер. Неправильно набран номер… – и так до тех пор, пока трубка не отозвалась отбойными гудками.
Вот так! А пусть знает! И запомнит!
***
Слухи, как с ними нечасто, но бывает, подтвердились. Очередь на УВЧ была-а… А-а-а! Вот такая очередь. Страсть сколько желающих и с чем только ни. Руки-ноги, зубы, ухо-горло-нос. Очередь делилась болячками, ощущениями, историями болезней. О чем еще говорить в очереди на УВЧ? Гребнев об этом говорить не хотел.
– Мне еще три сверлить и четыре удалять, – делилась «крайняя», за которой занял Гребнев. – Но самое жуткое: это все, что у меня есть. Как вы думаете, УВЧ поможет хоть что-нибудь сохранить? Мне говорили, УВЧ восстанавливает…
Не-ет, в подобных откровениях Гребневу нужды не было! Изобразил крайнюю усталость, прикрыв глаза и откинув голову. Особо изображать и не надо – пока снова канаву у поликлиники обскакал, пока по лестнице прошкандыбал, запарился. Пот накипел, спадал тяжелыми каплями с носа, щекотно полз за ушами, пробирался по всему телу. Еще саднило подмышки. Гребнев представил, что с ним станется, к примеру, через неделю, когда замурованная гипсом по бедро нога начнет зудеть. И ему совсем муторно стало. От разговоров увлекательных вокруг, от перспективы зудежа, от неизвестной пока процедуры УВЧ.
«Да что вы! Не больно, а наоборот!». Мало ли что скажут, а неизвестное пугает… Он повертел в уме и так и сяк: УВЧ – увэчэ – увечье. Глупости! Но чем же заняться, когда впереди очередь, а глаза уткнуть некуда? Прогуляться, что ли? Во-во! Ему сейчас как раз прогуляться!.. Но не сидеть же, не слушать про то, у кого что болит!
Заелозил гипсом по полу, выбрался из кресла, утвердился на подпорках. Побрел. Как и всякий коридор в поликлинике – длинный, узкий, увешанный плакатами Минздрава… тяга к чтению у человека всепобеждающа. Когда бы при трезвом уме и добром здравии Гребнев сосредоточил внимание на подобной печатной продукции? Да никогда! А тут – читал. Что: он рот рукой не прикрывал и грипп знакомым передал. Что: терапевт О. Н. Белинова. 10.00-18.15. Что: сегодня царапина – завтра столбняк, если к травме отнестись кое-как. Что: отоларинголог. С. Ю. Карасис. 10.30 – 18.45. Что: такая-то болезнь не позор, а несчастье… не стыдитесь поделиться своей бедой (эх, Пестунова здесь нет!). Что: стоматолог. Н. Я. Звягин. 9.30 – 17.45. Что: регулярное проветривание помеще… Стоп!
Гребнев, суетясь костылями, повернул назад.
Если бы не посыл мысленный, усугубленный «крайней» в очереди («три сверлить, четыре удалять»), он бы и проковылял мимо. Вполне могло так статься. Но…
Ну, дверь! Стоматолог. Н. Я. Звягин. 9.30-17.45. Ну, закрыта дверь. И правильно. Коридорные часы прыгнули стрелкой – ровно шесть часов.
Звя-гин! Н. Я.
«Я, Звягин Николай Яковлевич, 1912 года рождения, получил 18 декабря 1981 года от Крайнова Евгения Дмитриевича…».
Расписка!
Тут маленький заскок получился в голове у Гребнева. Смотрел на дверь, и мельтешило: «Почему Звягин? А где Крайнов?! Ведь Крайнов же должен быть! От Звягина же расписка! Значит, здесь должен быть Крайнов! А здесь – Звягин!».
Потом мысли осели, упорядочились. Звягин – стоматолог. Гребнев набрел на его фамилию. Пусть будет доволен, что набрел. Он надеялся наткнуться на фамилию Крайнов? Нет, он вообще ни на что не надеялся, так получилось. И будь доволен! Звягин – стоматолог? Почему Крайнов должен быть тоже стоматологом? Потому что Гребнев ожидал встретить здесь, в городе, скорее фамилию того, чья расписка, нежели того, от кого расписка? Ясно, бред. Первая сигнальная система… Получил Звягина? Будь доволен. Да и до Звягина ему нет никакого дела!
Вот придет завтра Сэм, притащит своих афористов, и… Да и потом – вдруг совпадение? Мало ли Звягиных… Нет же, какое может быть совпадение! Он! Двух Н. Я. Звягиных слишком много на один город, даже на район. Опять же понятно, почему Гребнев не сталкивался с этой фамилией. Во-первых, врачами и прочими трехполосными темами ведает Бадигина. Во-вторых, при всей нужности, необходимости, неотложности стоматолога в повседневной жизни – кто и когда читал про него?! И кто когда писал! Про стоматолога-то! Уровень изустной популярности разве что с гинекологом может сравниться. Но чтобы печатно – ни-ни! Инстинкт самосохранения срабатывает: забыть и не помнить, как только из кресла выполз. И в-третьих наконец – с чем с чем, а с зубами у Гребнева пока все нормально. Тьфу-тьфу. Вот и получается, что не сталкивался он с фамилией Звягина. И вот столкнулся. В самый раз…
– На большое УВЧ еще есть кто-нибудь? – высунулась голова в коридор. – А что же вы разгуливаете?!
… И правда, не больно. Лежишь себе – в изножье гудит нечто и, как уверяют, способствует заживлению. Пятнадцать минут. Как раз время поразмыслить.
Точно – он! Пусть не Крайнов, зато Звягин. Ниточка! Веревочка! Канатище! А зачем Гребневу хвататься за этот канатище? А и не хватался – тот сам в руки попал. Грех не дернуть. На досуге. Сидючи на бюллетене.
А вот зачем двенадцать тысяч стоматологу? Золото! На коронки? У кого простой стоматолог из поликлиники может вот так взять и купить золото? И какой это стоматолог из поликлиники может позволить себе купить золота на двенадцать тысяч? Полкило золотых зубов! И кто может позволить продать золота на двенадцать тысяч? То есть себе-то может позволить, но закон не позволит. Есть такой закон? Где-то сейчас дорогой товарищ Артюх Валентина Александровна? Она бы и статью из УК сразу привела.
Да не нужно никакого юрисконсульта, чтобы и так понять: не позволит закон перепродажу золота частного лица частному лицу! А если не золото? Да ну! Как это не золото?! Сто-ма-то-лог! Зу-бы! Тыщщщи! И расписка. Валентина, помнится, говорила, что ни один дурак не будет указывать в расписке, куда пойдут деньги, если они идут на нечто незаконное. Но тогда и зато в расписке никто и не укажет: я взял у такого-то полкило золота. Будет прямая улика. Если же взял золото, а указал его стоимость, то есть цену… Презумпция невиновности презумпцией невиновности, но Гребнев – не суд и не следствие. Он журналист, имеет право на допущение. Итак, допущение – золото, полкило!
Надо как следует обмозговать, не спешить с выводами. Разобраться на досуге. Этого добра, досуга, у Гребнева теперь предостаточно. Вот доплетется он до дома и попробует разобраться. С распиской в руках. Только сначала попробует доплестись – что не так просто.
– Все. На сегодня все. Свободны. Завтра в любое время.
И снова – канава. Снова прыг-прыг. Еще и дождь обещается. Грязюку развезет, если грянет. Каково по грязюке завтра будет плестись на одной ноге? Если по хорошей погоде и то – кое-как. Ну, уж до остановки он сейчас доберется. Всего ничего, метров сто. Вот и хорошо! Вот и прекрасно! Так уговаривал себя Гребнев.
Уговорил, добрался. Ну, и что хорошего? Что прекрасного? Автобус по расписанию только через сорок минут будет. Упорядочили, называется, движение! Для удобства пассажиров, называется! Бензин берегут! Экономика должна быть экономной, называется! Бардак это называется, да! Всего две остановки проехать – и стой здесь на костылях сорок минут!
Тучи скопились, набрякли. Обдало ветром, резко потемнело. Грянет! Ох, как грянет сейчас!..
Гребнев постоял, прикинул, озяб. За сорок минут он точно дойдет. Даже на костылях. Даже не за сорок, а за тридцать. И от дождя убежит. Что значит – тяжело! Привыкать надо, еще целый месяц так предстоит. А если сорок минут торчать на вечернем холодке, то окоченеть недолго. Все, решил! Раз, два, три, четыре, пять – вышел зайчик погулять! Па-ашел!
Гребнев с места в карьер отмахал костылями порядочно, приговаривая на каждом махе: «Эх-ма! Да не до-ма! Да не на печ-ке! А на кры-леч-ке!». Больше мыслей не было. Если подстегивающее «эх-ма!» считать мыслью, то она – единственная. Домой! Домой! Вышел зайчик погулять! Да не до-ма! Да не на печ-ке!.. Устал сразу, спекся. Остановился, облокотился на подпорки – продышаться надо.
Вранье! Обычное борзописное вранье, когда читаешь: он орудовал отбойником, и тут подумалось ему… он правил плот через пороги, и вдруг навалились воспоминания… Ни черта! Тяжелая работа требует полного на ней сосредоточения.
Двинулись дальше! Н-ну, зайчик-попрыгайчик! Н-ну, погоди! Эх-ма! Да не до-ма! Пол-ной от-да-чи, да! Да не на печ-ке! А на кры-леч-ке!
Ветер совсем озверел, толкал в спину. Хорошо хоть – в спину. А ну как был бы встречный? И пусто! Никого. Попря-а-атались! Англия-Франция, шайбу- шайбу! Почта – позади. Универмаг – позади! Успе- ех! Ба-альшой успех молодого мастера! Шай-бу, шайбу! Поворачиваем…
А вот теперь ветер набьет Гребневу лицо! А он тогда еще раз повернет! И угол заодно срежет. Мимо «Стимула», где ежедневно вкалывает рабкор Гриша Семиков (все еще вкалывает, окошко светится, и футбол мировой ему нипочем). Сойти с маршрута, разве? Полтораста метров в сторону, к «Стимулу», а там передохнуть, покалякать и с новыми силами… Не-ет уж! Сам! Только сам! Держать дыхание! Держать эго! Какое твое первое слово было, Пал-Михайлович, когда учился говорить? «Сам!» Вот и вперед! Эх-ма! Да не до-ма! Но все ближе. Сам!
И ни-ко-го! Повымерли! А нам дождик нипочем! У нас морда кирпичом! Да не на печ-ке! А на кры- леч-ке!
Молния долбанула по глазам – дельтовидная, толстая. И сразу полный мрак: по контрасту. Не успел. Сейчас ка-ак громыхнет! Ка-ак польет!
И тут Гребнева повалил толчок в спину. И это был не ветер. Сильный толчок – ладонью от плеча и на полный рычаг, судя по ощущению. Много ли надо, чтобы брякнуться плашмя, «спадом», когда руки уперты в костыли, а нога в гипсе? Мало надо… Он успел отвернуть лицо при падении – где-то сработала армейская выучка, хотя особо не сгруппируешься, будучи временным инвалидом. Но и то хорошо. Упал щекой и ухом. Громыхнуло. И с неба, и в голове Гребнева – одномоментно. Так совпало… И – полный пас.
… Темно, липко, мокро, холодно – такой букет впечатлений, когда очухался. Значит, недолго Гребнев провалялся. Дождь в июне – явление быстротечное.
Какая же зараза его толкнула?! Вокруг никого не было. И – костылей тоже не было! Гребнев пошлепал по раскисшей глине вокруг да около. Не было! Да что за… Вот это фокус! Покус! Гребнев нервно хихикнул. Грабитель, однако, ныне пошел! На костыли зарится! Кому они нужны?! Разве – такому же ушибленному? Дефицит. Валентина их аж откуда привезла. Но не у каждого ушибленого есть такая Валентина. Гребнев еще нервно хихикнул, представил нечто совсем карикатурное: идет он на костылях, а за углом с дубинкой наготове – такой же загипсованный без костылей. Хм!.. Шутки – шутками, но темно, липко, мокро, холодно. И костыли канули. Что дальше? Дальше-то что?! Как добираться?!
Хоть бы встать – и то задачка! Гребнев извозюкался целиком и полностью, пока поднимался. Оскальзываясь и громко говоря слова. Поднялся, застыл. Огляделся – может, инерцией костыли забросило? Нет… Какая же зараза, все-таки, его толкнула?! Пусто. А двигаться надо. Как?! На одной здоровой ноге, без опоры, по грязюке?! Ползком?! Абсурд! А что делать? Помог бы кто! Кто поможет, даже если и наткнется на Гребнева – стоит посреди дороги какой-то непонятный. «Баушка, возьми на ручки!».
Так и стоял. Здоровая нога запросила отдыха. Опять в месиво опускаться?! Ну, хоть кто-нибудь!..
Кто-нибудь зачвакал уверенной походкой, приближаясь, насвистывая. Ур-ра! Мужик! «Баушка» не станет насвистывать! И шаги у «баушки» не столь твердые. Ур-ра!
Прохожий вывернул из-за угла навстречу. Еще раз: ур-ра! Сэм! Рельефномышечный Сэм! То, что надо! Сэм-м-м!..
***
Сэм допер Гребнева на закорках до самых дверей. Обменялись информацией: «Какая-то зараза толкнула!» – «А я как раз иду в «Стимул» – покопаться вечерком в макулатуре, чтобы никто не мешал. Там тако-ое попадается, Павел Михайлович! Вы не представляете!.. Да, иду вот и вижу…» – «Главное, костыли-то заразе на кой?!».
Сэм сгрузил Гребнева у порога и, пока тот ковырялся ключом в замке, все приговаривал: «А я как раз иду…».
Да что за напасть такая! Ключ упрямится, заедает! Что за денек выдался?! Или это Валентина пришла? Сидит внутри, ждет. И замок – на «собачку». Услышала посторонний голос и – на «собачку».
– А я как раз иду в свой «Стимул»… В «Стимул» свой как раз иду и… Павел Михайлович, дайте-ка я попробую. Вдруг у меня получится.
Спасибо. Не надо. Гребнев сказал, не надо! Спасибо, сказал!.. Совсем не ловит Сэм никаких флюидов! А вот, поймал:
– Как хотите. А то – помочь переодеться? И помыться вам надо. У вас грязь сзади. И… спереди. И по бокам. Вы пока лежали там, весь испачкались. А я как раз иду…
Нет, не надо. Благодарствую. Сам!
По-хамски получилось, правда. Сэм Гребнева на собственном горбу вынес, а Гребнев ему так… Тогда Гребнев в качестве извинения гнусновато подмигнул, кивая на дверь: понимаешь или нет, дундук!
Сэм понял, подмигнул в ответ:
– Ну, вы даете!.. Ну, я пошел?.. А завтра точно принесу. Я уже почти все переписал. Ну, про секцию афористки… Ну, пошел я?
Сэм пошел. Гребнев надавил кнопку – открывай, открывай! Дверь молчала. Он еще посражался с замком, победил наконец! Щелкнуло, повернулось. Ну, Валентина-а!
А ее тут не было. То есть она была, но ушла. Гребнев точно помнил: бумаги на секретере лежали не так, когда он уходил. Вообще, все было немножко не так, когда он уходил. Папки – стопкой: другая папка сверху была, когда он уходил. И записная книжка была открыта, когда он уходил. А теперь закрыта. Зачем Валентине понадобилось в бумагах шуровать?.. И что, не могла уж досидеть, дождаться, если пришла? Ну, Валентина! Ну, артистка!
Телефон заверещал.
– Да-а?
– Ал-ле! Ну, как ты там? – она!
– Да так себе!
– Я представляю!
Она представляет! Плохо она себе представляет: обваляный в глине, мокрый, дроглый.
– Ты где так долго шляешься? Бедную девушку волноваться заставляешь!
– Да гулял тут. На свидание. К одной туристке.
– Ой, кому ты нужен! На костылях!
– А нету костылей!
– Уже загнал?!
– Нет. М-м… Потерял.
Они облегченно приняли игриво-дурашливый тон: забудем утрешнее, мало ли… Но в гребневском «потерял» прозвучала интонационная истина. И Валентина сказала:
– Я серьезно!
– И я серьезно… Что молчишь? Я серьезно! Вот стою – обвалянный в глине, мокрый, дроглый. И костыли потерял. Я серьезно! Дождалась бы, сама увидела.
– Где?
– Что – где?
– Где дождалась?
– У меня! У… нас.
– Когда?
– С-сегодня. После своего же звонка.
– Какого звонка?
– Да твоего же!
– Знаешь, Гребнев! Ты бы разобрался со всеми своими бабами! Запутаешься! – и поэтапно после каждой телефонной реплики Валентина уходила от дурашливой игривости в наждачную раздражительность.
– Погоди! Ты мне сегодня звонила?
– Я тебе пять раз сегодня звонила! Но ты либо шлялся где-то, либо занят был сильно… с кем-то! Так занят, что сил не было трубку поднять!
– Погоди! Ты была сегодня?
– Где?
– У… нас.
– У вас я сегодня не была! – холодный тон, стальной. Таким тоном запросто зарезать можно.
– Я серьезно!
– Да уж какие тут могут быть шутки! Когда в бабах запутаешься, так не до шуток!
И ведь при всей нелепости обвинений она в них верила. Сейчас, в данный момент, – верила. Несла в трубку белиберду оскорбленным тоном и верила. Кто из них, вообще-то, имеет больше оснований для обиженности?! Кто из них, вообще-то, замужем?! Кто из них, вообще-то, «запутался» и телефоном регулярно ошибается?!
– Ва-лен-ти-на!!! – проорал Гребнев.
– Вот умница! Не перепутал на этот раз! – зарезала его Валентина тоном. И брякнула трубку.
Ничего себе, логика! Образцовая женская логика! А еще юрист. Ведь насмотрелась, наслушалась за свою юридическую практику такого всякого – и опыта пора набраться, и приложить этот опыт к реальным ситуациям, с ней возникающим! Так ведь нет! Опыт у нее умозрительный, чужой. Насмотрелась, да. Наслышалась, да. Но сама не влипала. Знает, как надо и как непременно будет. Знает, как не надо и как никогда не будет. Из своей богатой юридической практики. Балда! Подменяя реально происходящее с ней реально происшедшим с теми, кто нарабатывал ей юридическую практику. «Я так и знала!». Все она знает, балда!
Еще и она же обижается! Ничего, обида – это чувство, которое предполагает дальнейшее развитие отношений. При всех заскоках образцовой женской логики юрисконсульта.
Гребнев, хватаясь за стенки, перебрался к секретеру, набросился на папки. У него, в отличие от некоторых, мужская логика. Кто-то был здесь! Папки – не так. Записная книжка – не так. Бумаги – не так. И ключ! Ключ не сразу провернулся. Кто-то был здесь, пока он в поликлинике получал свою порцию УВЧ. Зачем? Что искали? Мужская логика – это логика. Расписку! Вот именно!
Ведь расписка лежала в папке – он сам ее туда сунул, обнаружив в Дале. Он ее сунул в папку с последними рабочими бумажками, где начало «Мельника» и словарные изыскания: «Бурат… невпрогреб…». Кто про нее мог знать?
Сэм?! Гриша Семиков, скромный работник «Стимула»! Как он утром в словарь вцепился! Аббревиатуру ему надо! Не знает он, как аббревиатура пишется!
«Павел Михайлович, дайте-ка я попробую?» – когда Гребнев с замком застопорился. И по дороге навстречу попался, на закорках доставил. Стоп-стоп! Сэм шел навстречу, шел в «Стимул» – в «Стимул», где горел свет! Гребнев же еще отметил, когда мимо шкандыбал. Что получается? Увидел из окошка, догнал, толкнул и, пока Гребнев валялся, рванул к нему домой, изъял расписку и – обратно: Ой, кто это у нас тут такой беспомощненький! Кому тут помочь нужно!
Логика!
… Но расписка была на месте. В папке. Второпях не сразу, но нашел. Да, на месте.
«Я, Звягин Николай Яковлевич…».
Все в порядке, та самая расписка, ничего не стерто, не зачеркнуто, не приписано. И на месте. Вот и логика!..
И на Сэма, выходит, зря наклепал. В квартиру еще попасть надо, а по карманам у Гребнева никто не шарил – это он бы и в бессознательном состоянии почувствовал. Ключ же как был в привычном кармане, так там и был. Не мог же Сэм, таща Гребнева на закорках, незаметно подложить ему ключ обратно. А что свет в «Стимуле», так, возможно, Гриша Семиков не воспринял душой и сердцем лозунг момента насчет экономной экономики.
М-да, неудобно перед Сэмом. Хоть и мысленно наклепал, а все равно неудобно, гаденько.
Но кто-то ведь здесь все же был! Кто-то шуровал! Будь это Сэм (пардон! пардон!), не видать Гребневу расписки – в папке таки рылись и не найти не могли! Будь это не Сэм – то… кто?! Валентина? Говорит, что не была. Или врет, что не была. А к чему ей врать? Где логика? Ах да, с логикой у нее того… Надо же! «Ты бы разобрался со всеми своими бабами!». Но если и была, зачем ей рыться в бумагах, в папке с «Мельником»? Не начиталась утром в присутствии Сэма?! Кстати, Сэму очень хотелось тогда отыскать в Дале аббревиатуру. Знаем мы эту аббревиатуру!.. Да, но расписка-то на месте!!!
Или все-таки показалось Гребневу, что – не так? Нет уж! Что-что, а зрительная память у него еще та, с армии выработана: из двенадцати предметов все двенадцать фиксировал после их передвижки и команды «Круго-ом!». Теперь определяйте! И сейчас определил безошибочно – не так.
Что получается? Получается по логике, что Валентина была, не дождалась, ушла, а потом в сердцах насвистела ему по телефону. Чтобы не думал о себе слишком много: приходи, жди его, а он неизвестно где, неизвестно с кем.
Вот на этом Гребнев и остановится. А то полный бред получается – гангстеры, пираты двадцатого века, агенты и прочая, прочая. Ему, Гребневу, и так пока таинственностей хватит. Расписка Н. Я. Звягина. Завтра Гребнев выяснит, что это за расписка. Придет к Н. Я. Звягину в приемные часы и выяснит.
Только как он, интересно, придет? Без костылей – ни шагу… Какая же зараза его толкнула? А может, случайно? Ничего себе, случайности! От души ладонью в спину, и костыли – тю-тю. Какая же зараза?!. Этак Гребневу завтра носа не высунуть из дому. Разве что Пестунову звонить, чтобы по аптекам побегал? Или Сэму – чтобы на его горбу до поликлиники рысью? Нет, но какая же зараза?!
И в чем завтра идти? Не высохнет. Гребнев изошел потом и матом, пока сдирал с себя одежду, пока отжамкивал ее в ванной – сплошная глина потоками. Извертелся, измаялся, пока вымылся сам. Очень относительно вымылся – гипс и на гипс стал непохож. Будто Гребнев как раз раненной ногой землю рыл. Нет, но какая же зараза?!. Ни шиша до завтра не высохнет! А джинсы на гипс не налезут. Да, дела-а…
А когда наконец ушел в кровать, сон его буквально убил. Наповал.
– Старик! Я что говорил?! Три-один! Англичане их сделали, как детей! Вот забой будет, если они в четвертьфинал выскочат, а потом в полуфинале с Аргентиной скрестятся! Ой, кто-то кому-то Фолкленды припомнит! – так начался четверг 17 июня. Четверг начался звонком Пестунова. – Старик, ты что, не проснулся еще? Ах да, тебе же что футбол, что городки! Тогда слушай! Ты слышишь, да? Сейчас я тебя развеселю! Я еле выпросил у Хинейко! Слушай! «Черт с моей женой дернул меня купить этот холодильник! А теперь у него течет между задних ножек!». Га! Ты будешь реагировать или нет, балбес?!
– Смешно, – отреагировал Гребнев. – А чего звонишь?
Пестунов моментально сориентировался по тональности. Пестунов это умел – ориентироваться. И верно. Коллега обезножел, а он, Пестунов мало того, что вчера так и не навестил, но еще и неуместно перлы зачитывает, совместно повеселиться приглашает. Не желает коллега веселиться? Не хватает у коллеги на то настроения? И ладно! Собственно, Пестунов ему по другому поводу звонит:
– Собственно, я тебе чего звоню! Жди гостя!
– Какого еще гостя?!
– Не твое дело! – прямо-таки распирало Пестунова сообщить, какого гостя…
– Ладно, жду.
Выдержали аукционную паузу. Кто раньше сорвется? Гребнев ли: «Так какого-такого гостя?». Или Пестунов: «А вот какого!». Ничья. Не хочешь отвечать, не надо. Не хочешь спрашивать, не надо. Ни тебе, ни мне.
– А может, надо чего-нибудь? Ты извини, я вчера закрутился и никак не мог.
– Понимаю. У меня же телевизора нет…
– А, брось, Гребнев! Что ты, в самом деле! Ceгодня я точно буду. Увидишь! Говори, что тебе надо!
– Костыли.
– М-можно. Только если достану – к концу дня. Ты пока никуда не собираешься? Га! – пошутил Пестунов.
– Пока нет, – нажимая на «пока», пошутил Гребнев.
Пестунов повесил трубку. Позвонили в дверь. Вот и гость! Оперативно! Допрыгал кое-как, открыл. Там – Сэм. И под мышкой у него – два костлявых костыля.
– Извиняюсь, Павел Михайлович. Я на секунду. У меня там толпа. Я опять про афористов не принес, зато…
Телефон снова зазвучал.
– Момент! – обратно к аппарату. – Это кто? О, привет! Бадигина, тебя по телефону не узнать!
– А кто это? О, Гребнев! Тебя по телефону не узнать! Как нога? Я как раз собиралась. Ты черноплодную рябину любишь? Тебе кто готовит? Ты с голоду не помираешь? Дотерпишь? Хотя бы до обеда? А то Камаев меня поймал – у него дыра на сто строк.
Я до обеда управлюсь, и жди. Тебе постирать не надо? А подмести не надо?
– Мне Пестунова надо! – оборвал Гребнев. Так вот какого гостя имел в виду Пестунов. Бадигину он имел в виду.
– Он уже смылся, только что…
– Павел Михайлович, я ведь на секунду, – напомнил о себе Сэм. – У меня там толпа. Вот…
Он положил перед Гребневым костыли, застенчивый и вежливый Сэм. А Пестунов, значит, смылся уже, найдет ли? В область, как Валентина, он не поедет. И смылся-то, Кот, не по причине, а по поводу. Теперь Сэм.
– Я как раз на работу иду. И как раз там, где вчера. Вдруг спотыкаюсь, а это они. Они просто в грязи утонули. Я думаю, как вы без них? И вот… сразу к вам. Только у меня там толпа. Сегодня абонементы пришли. Я и так опоздал. Чтобы вам костыли занести… Ну, я побежал?
Сэм побежал. Бадигина шепелявила в отставленной от уха трубке:
– Что Пестунову передать, когда придет?
Ничего не надо передавать. В крайнем случае, две пары подпорок у Гребнева будет. В самый раз объявление на заборе вешать: «Кто хочет ходить на костылях, обращаться по адресу такому-то к Гребневу П. М.».
– Тогда я трубку Парину передаю, – обрадовала Бадигина. – Он очень хочет.
– Павел Михайлович! – участливый голос у старшего товарища Парина, проникновенный.
– О-о! – приподнято сказал Гребнев. – Кого я слышу! Добр… – надавил на рычаг, -… рый день! – продолжал пустой трубке, симулируя разъединение. Надоел ему Парин дальше некуда.
Телефон опять зазвонил – Гребнев заалекал в ответ Парину, убедительно ругнулся, дал отбой. Опять зазвонило – опять, «не слыша» Парина, костерил телефон. Все, молчит. Отстал.
Гребнев дотянулся до костылей, придвинул. Это были его костыли. Умница, Сэм! Нашел-таки! И принес! С полдороги вернулся, невзирая на то, что у него там толпа… Где же он их нашел? «И как раз там, где вчера…». Как раз там, где вчера какая-то зараза толкнула Гребнева в спину и где Гребнев исшлепал ладонью всю слякоть, – так вот… не было там костылей. Он достаточно глух, когда ему не хочется слышать Парина, но он недостаточно слеп, чтобы в зоне собственного падения не найти ходуль, без которых никуда.
«Они просто в грязи утонули», – сказал Сэм. «И вот… сразу к вам», – так он сказал.
Костыли были чистенькие, отмытые. И сухие…
***
– Меня хлеб ждет, – сказал мельник.
– Тюрьма тебя ждет, – устало сказал следователь.
Следователь действительно устал. Щека дергалась – подпрыгивал уголок рта, будто человек вот-вот расхохочется. Но не до смеха!
– Итак?
– Меня хлеб ждет!
– Ты! Пособник врага!
– Я партизанам пособлял.
– Кто подтвердит?
– Люди.
– Люди видели, как тебя расстреляли. Люди видели – тебя увели. Ковтун и Сагадеев утром, после разгрома отряда Чекмарева, и расстреляли. Как предателя.
– Я им пособлял, чекмаревцам. Они меня расстреляли, чтобы немец мельницу не тронул. Там же Варя оставалась. И хлеб. Хлеб кто-то должен молоть?
– Для врага?
– Хлеб каждому нужен.
– Так! Значит, признаешь, что пособничал врагу?
– Хлеб и мальцу нужен, и старику, и бабе. И партизану. Немец, не будь моей мельницы, достал бы где хлеба. А людям его откуда было взять? От немца и отсыпал.
– Помогал, значит, людям? – щека задергалась еще сильней. – Чекмаревцам помогал? За что же они тебя расстреляли?! За помощь?! Кто может подтвердить?!
– Люди из отря…
– Отряд Чекмарева был уничтожен весь до единого человека. Кто еще?
– Люди.
– Люди видели, как тебя увели Ковтун и Сагадеев. Кто еще?
– Ковтун. И Сагадеев.
– Ковтун и Сагадеев погибли. Тогда же, у мельницы. Люди же видели. И слышали.
– Но я-то жив.
– Вот именно! Вот и хотелось бы знать, каким образом?
– Горазд ты смешной, паренек…
– Я тебе не паренек! – взвился следователь. Вцепился в свою щеку, усмиряя тик. Хлопнул ладонью по столу.
Стакан-карандашник опрокинулся, веером разбросав карандаши. Несколько их покатилось, упало на пол.
Мельник нагнулся с табурета..
– Сидет-ть! – следователь сдвинулся со стула, медленно опустился на корточки. Спина прямая, глаза – в мельника. Нашарил один карандаш на полу, второй, третий.
Мельник смотрел на него сверху.
– Как же мне называть-то тебя?
– Гражданин следователь! – он вернулся на стул, зажав в руке пучок карандашей.
– И чего же ты от меня хочешь, гражданин… хороший?
– Признание!
– В чем?
– Во всем!
Мельник склонил голову набок, смотрел долго, изредка смаргивая. Тихо было. За окном хмурился дождь.
– Ну, гляди… – мельник привстал, собираясь придвинуться ближе к столу. Звук был – металлический писк гвоздей, выдираемых из дерева.
Следователь подскочил, упал спиной к стене, прикрыв вжатую в плечи голову рукой. Будто сейчас, вот сейчас метнет карандаши-дротики в мельника. Загрохотал опрокинутый стул. В дверь плечом вперед заскочил конвойный, сдергивая автомат – уставил в мельника.
Мельник стоял посреди комнаты, перекидывая с ладони на ладонь «грибок» табурет, разглядывал. Выдранные гвозди бряцали в гнездах корневища табурета.
– Брось! – надсадно скомандовал конвоир, следуя дулом.
Мельник чуть пожал плечами, аккуратно уложил «грибок» на пол, выпрямился.
– К стене! – пугал криком конвоир. – Руки на стену! Выше! Еще выше!
Стена была белая, сырая, с желтыми потеками.
– Эк у вас тут смешно оборудовано! – мирно сказал мельник. – Я ж подсесть хотел ближе. Признание-то как писать?
За его спиной стало спадать напряжение. Перестрелка взглядов, шумное дыхание, тихая команда.
– Молоток бы дали, – сказал мельник в стену. – Враз на место поставлю.
– Молоток запрещено! – сипло сказал следователь.
– Так я же…
– Не поворачиваться! рявкнул конвоир.
За спиной снова открылась дверь. «Клименко!». И в коридорах больницы, где еще месяц назад практиковал герр Кранкль, запрыгало: «Клименко!.. Где этот хренов шофер!.. Молоток!.. Сержант, где тебя носит!». – «Так ведь, товарищ лейте…» – «Молоток!». Потом стук. «Ат хреновина! Согнуло как!». Стук, отдающий в ступни. «Ну-ка!» – натужный мык. «Намертво!» – «А вдруг он… А пусть только попробует. Видал?! Свободны!..». «Но, товарищ лей…» – «Свободны, я сказал!» Топот из комнаты. В дверях: «Но он ведь может…» – «Свободны!!!».
– Ты это, случаем, не мне, паренек? – подал голос мельник, по-прежнему глядя в стену.
– Я тебе не паренек! – визгнул следователь. Получилось у него жалобно.
– Повернуться-то можно? – хмыкнул мельник в бороду. – Гражданин… хороший.
– Значит, признаешься, – уточнил следователь, когда мельник снова утвердился на приколоченном грибке.
Тот развел мозольными, с разделочную доску, ладонями. Стер – одну об другую – следы приставшего мела…
Писал он медленно, старательно, шевеля губами, ровно, без задумчивых пауз.
– Дату и подпись!
– Эт' непременно… Вот ежели ошибки какие, то прости, гражданин… хороший.
– Ошибки неважно. Ошибки мы исправим… – приговаривал следователь, читая признание. – Ошибки мы все-е исправим. Мы ошибок не делаем. Царица доказательств! – Подражая чьему-то очень взрослому голосу: – У нас в работе ошибок быть не может. Ошибки исключены. Исключены ошибки. Их у нас быть не может, потому что их не может быть. Ошиб… Ты что?!! Издеваешься над следствием?! – взвился он, дочитав и запнувшись. – Ты что написал?! Что написал, вражина?! – он скомкал в кулак листки и кинул их мельнику в лицо.
– Как было… – непонимающе сказал мельник, отстраняясь от шуршащего комка.
– Что – было?!! – на исходе ярости простонал следователь. – Что – было?!! Ты как подписал?! Как ты подписал?!
– Где? – мельник принял в ладонь смятое «признание», с расстановкой прогладил об колено. Стал перечитывать – так же, как писал: медленно, старательно, шевеля губами.
– Издеваешься… – неожиданно спокойно проговорил следователь. Зла у него уже не хватало. Просто подтвердил сам себе. – Я сказал, подпись! Подпись!
– Ты погоди, паренек, – отмахнулся мельник, не прерывая чтения. – Ты меня своим блебетаньем не сбивай. Я по-другому не учен. Дело надо делать от начала. Тогда горазд верно получается… – дочитал. – Подпись. Так. Дух святой. Верно! – поднял глаза.
Следователь сидел, уперев ладони в щеки. Лицо получалось перекошенное, а взгляд – прозрачный, сквозь и мимо. В окно. Деревянный щит-козырек снаружи над окном, установленный «санитарами» Кранкля, закрывал все. Капли набухали на краю и спадали вниз… Дождь… Следователь устал. Очень устал.
– Ты меня слушай, паренек! – неожиданно жестко сказал мельник. – Ежели виноват чем, казни. Виноват – хлеб молол. Я его четверть века без малого молол. Ты говоришь: виноват, что немцу молол. Партизаны были ко мне вхожи. Лыба мне колесо наливное собил чинить, горазд понимал в железе. Получается, Лыба тоже помогал, чтобы немцу молоть?.. Получается! Паренек, ты как? Слушаешь меня?
Следователь пусто кивнул, отсутствующе. Капли с козырька, там, снаружи, зачастили. Уже струйками.
– У Лыбы руки хорошие были. Шальной, а понимал. Руки, как мои… – поглядел на ладони, сравнивая, вспоминая. – Когда они с агрономом пришли, он мне такую стобуху дал! Звезды в голове зажглись!.. Я же тебе написал там. «Прости, дядя Трофим, – говорит после. – Надо же было, чтоб натурально». Уж куда, говорю, натуральней! Губу рассек, бес!
– Кто подтвердит? – стряхнул следователь.
– Горазд забавный ты, паренек. Ты за что меня казнишь? За то, что меня чекмаревцы расстреляли? Мол, предатель? А я – накось! – живой! А ты верить не хочешь, что они меня для отводу глаз… Чтоб мельница работала. Чтоб хлеб шел. Я ж тебе толкую: немец хлеб и без моей мельницы у кого ни есть сгребет. А люди?.. А не стрельни меня Лыба с агрономом, так меня немцы враз бы и запытали. Сытник, сучий хвост, немцу долдонил: мельник партизанам хлеб мелет. Что получается? Мельника партизаны стрельнули. Такую фильку сложили!.. А Варю они не тронули. Хлеб шел.
– Кто?! Кто подтвердит?!
– Я живой? – спросил мельник рассудительно.
– Кто подтвердит?! – осекся. Бред! Бред какой-то!
– Видал?! Тогда я расстрелянный. Казни, паренек. По второму разу. Работа у тебя. Ошибок не бывает, тогда виноват. А виноват – тогда расстрелянный – тогда кто ж я? Дух святой, не иначе.
– Ты все врешь! Врешь все, понял? Вражина! Пособник! – защищаясь от чего-то в себе, прокричал следователь.
– Вот заладил! Пособник, пособник!.. Вру, конечно. Какой же я дух святой? Оно, конечно, верующий, но чтоб дух святой – не-е… Так что, живой я получаюсь. Тебе, паренек, хоть кто подтвердит. Люди подтвердят. Я вон как ушел тогда с мельницы, так три года с карпушинцами немца бил. Одним святым духом с немцами не сладишь.
– Не вводите следствие в заблуждение! Твое пребывание в отряде Карпушина установлено и… и нечего тут… Еще вопрос, не специально ли ты старался… это… чтобы не было подозрений. Выслуживался!
– Я бы, паренек, сейчас дернул снова грибок тот. Хоть и горазд справно его тут прибили. И вот грибком приложил бы по маковке твоей дурной. Только чего дураку вдалбливать? Морока одна! – Мельник не в сердцах сказал, не пригрозил, а вот так же склонил набок голову, как раньше. Всматривался, прикидывал: что же мне с тобой, таким упрямым, делать- то?
– Да вы поймите!.. – просяще сказал следователь, снова прижал тикающую щеку пальцами.
– Я понимаю, что ж! – понимающе откликнулся мельник. – Работа. Тут ошибиться никак. Работа такая. Нравится горазд? Работа-то?
– Молчать!
– А мне что? Я замолчу…
– Я тебе замолчу! Ты у меня заговоришь! Ну! Будешь говорить?! Признаваться?!
– Ты, паренек…
– Я тебе не паренек!!!
– Ну, лады, лады. Гражданин… следователь. Так чего ты услышать-то хочешь?
– Правду!
Мельник безнадежно вздохнул, поднялся с табурета-грибка, шагнул, приоткрыл дверь:
– Который тут? Давай, уводи меня, Притомился я горазд от вашего…
Конвоир, возникший в дверях, затеснил подследственного обратно, приборматывая: «Ну, ты что! Ты что! А ну, садись! Ты что! Не дома!».
– Я дома, – сказал мельник, возвращаясь на место.
Следователь встал, вышел из-за стола, заскрипел сапогами вокруг мельника. Один круг, еще один, еще…
– Ты сядь, гражданин… хороший. Чего мельтешить?
Следователь сел, молчал. Мельник тоже молчал. Повисли. Дождь шуршал. На потолке, впритык к стене, проступило сырое рыжее пятно. Капнуло по нервам.
– Кто знал о вашей связи с отрядом? Не карпушинским, а отрядом Чекмарева.
– Никто. Как можно! – мельник поднял палец. – Конспирация. Никто не знал.
– Но хоть кто-то может подтвердить?!
– Тебе бы Сытник подтвердил. Горазд уверен был.
– Предатель Сытников казнен карающей рукой… – машинально заговорил следователь.
– Во-во! А то бы ты его спросил, – перебил мельник. – И поверил. Ему.
– Ах, да… Ну, да… – он снова усмирил прыгающую щеку. – С отрядом Ступина у чекмаревцев была связь?
– Нет, ступинцы далече от нас сторожились. Мы тогда и не знали про них. И они про нас.
– Но хоть кто-то может подтвердить про вас?!
– Люди, конечно, догадывались.
– Нам не догадки нужны! Нам нужны факты! Факты!
– Варя знала.
– Жена подследственного не является…
– Понятно.
– Что вам понятно?! Что понятно?! Понятно ему?! – следователь снова вскочил. – А мне непонятно! Мне вот непонятно! – сел, перевел дух. – Ну, хоть кто-то! – просяще.
– Я не знаю. Мы как разошлись с Лыбой и агрономом, так и все. Они на немца напоролись, я – нет. Два дня шел, пока не попал на карпушинцев.
– Могло так быть, что еще кто-то уцелел после облавы?
– Лыба сказал: всех положили. Это надо Лыбу знать, чтобы понимать, как он оттуда… И агронома еще на себе!
– А вдруг кто-то все-таки?
Мельник снова развел ладони в стороны.
– Можете перечислить, кого вы знали в отряде Чекмарева? Поименно.
– Так ведь кто приходил ночью, того и знал. Лыба вот…
– Ковтун, – уточнил следователь.
– Да. Вот Ковтун. Сагадеев, понятно. Еще, значит…
… Всего набралось шесть фамилий. Три двойки.
Двойки, державшие связь с мельницей, возившие хлеб.
– Но кто может подтвердить?! Вы понимаете, что ошибок мы не делаем? Потому… потому, что мы не делаем ошибок! Если не осталось никого, кто может подтвердить вашу связь с погибшим отрядом Чекмарева, то… Вы понимаете, что тогда нет выхода?! Нет выхода!
– У кого?
– Ни у кого! Вы хоть понимаете?!
– Понятное дело. Понимаю.
Напитавшийся водой кусок штукатурки отвалился от потолка, упал – об пол в рыхлые, мокрые крошки.
***
Нет, не Сэма имел в виду Пестунов, заинтриговав: жди гостя! И не Бадигину имел в виду.
Вот ведь как! Если гора не идет к Магомету, то… Впрочем, получилось наоборот. Или не наоборот? В общем, сидел перед Гребневым Трофим Васильевич Авксентьев, мельник с Вырвы. Вот собрался в город – соль кончается, и сигарет надо бы прикупить, еще Варвара наказала квадратных банок привезти – красных в горох, жестяных, куда и крупу, и вермишель, и перец. Приходила Клычиха из Щукино и насорочила Варваре, что банок этих в городе – невпрогреб. Ан их и нету. Потом людей спросил, до редакции пришел: как там парень-то? Лестница все же горазд смешная случилась, голову не велика мудрость свернуть. Проведать надо бы. Голову не голову, но ногу… Адрес ему дал этакий… усы у него до пупа.
– Ты ешь, ешь.
Гребнев ел, ел. Он вдруг ощутил такой глубинный голод, когда мельник развернул кусок полотна – и мягкой сильной волной нахлынул дух хлеба, затопил комнату. Каравай! И мед! Тяжелый, настоящий – желток.
Гребнев наконец-то осознал, что толком не ел два дня. Не потому, что нечего. Малый холостяцкий набор имел место в холодильнике, в ящичного объема «Морозке»: непонятная колбаса «особая», десяток яиц, сыр бессмысленный – не соленый, а какой-то сладковатый, прибалтийский, банка сосисок еще с импортным названием «хреновки». Разве осознаешь, что голоден, при таком разнообразном однообразии?
А тут осознал. Как только мельник развернул каравай и Гребнева накрыло запахом. И он ел, ел. Соображая: не только за солью, сигаретами и квадратными банками пришел Авксентьев в город. Стал бы тогда Трофим Васильевич тащить с собой каравай и банку меда!
… Не договорили там, на мельнице. Залихорадило Гребнева: теперь-то они договорят! Ах, как кстати! Ах, как вовремя!
Мельник сидел прямо, выложив руки на колени. Он мало соответствовал тонконогой мебели, древесно-стружечному секретеру, уже проседающему под книгами, тисненным обоям, наконец. Вернее, наоборот! Это атрибутика городских квартир не соответствовала мельнику, сразу тушевалась, чувствовала себя неуютно. А сам он был какой есть. Что на Вырве, среди великанского основательного железа, камня, дерева, – что здесь…
Готовился мельник к городу, готовился. Дед-Морозная борода расчесана, очки не те, которые были на Вырве: не скрепленные изолентой в переносье, а «парадные» – каплями. И джинсы с тщательно отпаренными стрелочками – отечественные, отнюдь не в «облипочку», но выглаженные. И! Он не казался смешным. Все было при нем. Даже то, что курил он болгарскую длиннофильтрную «Вегу», а не более подходящую, по идее, самокрутку – это тоже получалось у него естественным. Так гримируют и одевают компанейских и демократичных деловых миллионеров-стариков, главное в которых – чувство достоинства.
Чувство достоинства у Авксентьева не имитировалось, не обуславливалось какими-то там миллионами, оно было. От него просто так и веяло – достоинством… Вот вернется на мельницу, скинет с себя горазд забавные причиндалы, хмыкнет: чудно, однако, в городе – только «Вега» и есть, что надобно. А то папирос ныне найдешь ли где, а «Приму» – либо до половины и выбрасывай, либо усы подпалишь. Длинный фильтр – это справно додумали. И продукт до конца используется, и табаку легкость, никакой мундштук не сравнится.
… Они договорили…
– Как же вы, все-таки, умудрялись? Немцы – аккуратный народ, внимательный. И что, они не усматривали, что хлеб в лес уходит?
– Во-во! Аккуратный. У меня своя книжечка была, куда записывал, сколько от кого зерна. Ну, и гарцевый сбор. За помол-то не деньгами бралось. Мукой. Девять килограммов с центнера – это и был гарцевый сбор. И все я в свою книжечку записывал. Тут немцы приставили к мельнице одного… Аккуратный бес! Герр Донат. С одним буркалом, но зо-оркий! Журнал какой-то разлинованный мне все совал. Заноси, мол, все до грамма. Непонятный какой-то журнал, сложный. Где уж нам, необразованным, в нем разобраться. Ну, раз уж надо, то, конечно, запишем чего ни есть в тот хитрый журнал. А для себя в книжечке черкнем… Так что даже не мешком, а иногда и подводой хлеб в лес шел.
… Они договорили…
– А потом?
– Потом горазд большую каменюку бросили, чтоб плеск был натуральный. Вроде как стрельнули меня и я, значит, упал. А боле не довелось свидеться… Потом с карпушинцами. А как вернулся в сорок четвертом, как немца вышибли, так еще и в регулярных частях послужил. В конвойные войска попал.
– И не было искушения?.. Ну… Вот же они! А на памяти и весь чекмаревский отряд, и Ковтун, и Сагадеев, и… Не было искушения? Вот так, очередью!
– Н-нет… Они ведь тихие были. В плену-то. Жалкие какие-то. Вот глаза у них не волчьи уже, а собачьи какие-то, бродячие. Тоже люди. Горазд плохие. А может, и было такое желание. Не помню сейчас. Стар стал… Потом, значит, незадача такая и получилась – трех недель не прошло моей службы и… То я конвоировал, а то меня…
… Они договорили…
– И как же вы из всего того?
– Да Карпушин поручился. Его как вызвали, стали спрошать про меня, он, бес, забуянил. «Смир-р-рна! – кричит. – Я вам покажу пособника!». И вгорячах пальцем тычет в паренька того, в следователя. Поручился. Это он мне потом рассказывал. Когда же он на Вырву-то наведывался? Вот аккурат в пятьдесят пятом. Четверть века тому уже, значит. Посидели. Он в том же пятьдесят пятом и ушел в землю… А паренек тот – что ж, паренек. У него своя правда была, понимать надо. Каждого понимать надо. И жалеть, коли не его вина. Паренек-то – совсем распашонок. Видимость одна, что взрослый. Какая у него правда? Время было. При тех обидах и фофаны в нарядах.
– Да как же! Да вы бы сказали… вы бы объяснили! Да в конце концов!..
– Экий ты молодой, – чуть протянул Авксентьев, не снисходительно, а с какой-то даже завистью.
… Они договорили…
Они договорили. Каравай кончился. Мед кончился. Гребнев тихо ужаснулся, как ужасаются всему непонятному. Совершенно непонятно, как он умял целый каравай и целую банку меда!
Пленка кончилась. Магнитофон пискнул, дав знать: пленка кончилась. Гребнев включил его на запись, как только пошел «материал». А строчить в блокнот, поглощать дары природы (никаких сил оторваться!), бегать в ванную – полоскать липкие пальцы да еще вести беседу в русле… не то что две ноги – две головы надо иметь. Тогда же, в самом начале, Гребнев потянулся, включил запись:
– Можно?
– Хозяин – барин.
Удивительное все-таки дело! Сколько на памяти Гребнева было людей, сникавших перед микрофоном. Только что так говорили, такое выдавали – хоть на запись включай. Включаешь на запись – куда что девается?! Осознание стопорит, что уже не просто так, а на пленку, уже выступление, м-м, речь – где бумага, бумага где?! М-да, наша страна – самая читающая вслух страна в мире!.. Иначе сникают.
При мельнике же сник магнитофон, тихо-тихо накручивал пленку, не дребезнул ни разу, не комкал пленку в «салат», что за ним водилось. Даже пискнул стеснительно, робко: тут, знаете, у меня пленка кончилась, извините.
– Утомилась твоя механика? – сочувственно сказал Авксентьев. – Да и мне пора. Для какой хоть надобности?
Гребнев понял, что мельник спросил о записи, а не о магнитофоне как таковом – показал жестом, накалякав в воздухе строчку воображаемым пером.
– А, ну-ну. Этот у вас там, в редакции… линялый такой, обходительный. Он, никак, главный?
– Ка-акой он главный! – спонтанно взорал Гребнев.
Нет, но каков мельник! В самую точку – «линялый»! А Парин подсознательно и сознательно гордится своей благородной сединой. Линялый и есть! И взорал Гребнев потому, что мгновенно повторил для себя ход мыслей Авксентьева: для газеты разговор, а в газете этакий главный, линялый и обходительный.
– Никакой он не главный! Это Парин! Парин это! – как будто фамилия могла что-то сказать мельнику.
– А, ну-ну… – Опять же, недооценил Гребнев Трофима Васильевича: читал тот «районку». Не такие уж дремучие дебри – мельница на Вырве. Регулярно читал. И добавил. Не Гребневу, а куда-то себе: – Много мелева, да помолу нет.
…– А банки я вам достану! – пытаясь выразить признательность, симпатию и вообще… все чувства, заверил Гребнев уже в дверях. – Квадратные. В горошек. Для пряностей! – напомнил он непонимающему мельнику. – Вот только гипс снимут, и сразу привезу.
– А, ну-ну. Ты вот что. Ты так приходи. А банки- пряности – блажь бабья. Так приходи. Коробков-то я Варваре две дюжины сплел. Лыко просушил – и хоть большие, хоть малые. Ни крупинки не высыпется, и не ржавеют.
***
Да, договорили. За все, про все. Гребнев, оставшись один, напал на магнитофон, погонял ленту клавишей перемотки. Порядок! Записалось! Все записалось. Теперь только сиди и расшифровывай. А потом конструируй, отсекай все лишнее. Есть ли здесь лишнее? Гребнев «поплыл». Нет лишнего, все важно! Да тут не на полосу и даже не на разворот, а на три полных номера, как минимум!
Отсечь? Что отсечь? Партизанские годы? Послевоенную таску? Историю с якобы расстрелом? А начало? То самое, которое Гребнев уже «нарисовал» не лучшим образом – про первую мельничку-игрушку, смастеренную Тришей Авксентьевым на талом ручейке? Нельзя отсекать – долгий след от той игрушки – годы и годы, хлеб и хлеб. Путь.
А что тогда? «Злостное хулиганство»? Вот уж нет! Уж это будьте-нате, малоуважаемый товарищ Парин! «Много мелева, да помолу нет», – сказал о Парине мельник? Прав и не прав. Помол-то есть, только сильно мусорный, просто-таки сплошной мусор! Значит, не все ясно с военным прошлым, малоуважаемый старший товарищ?! Значит, злостный хулиган, говоришь?! Сведения, говоришь, есть?! Не все ясно, но есть сведения, говоришь?! А вот Гребнев и прояснит! И про военное прошлое. И про злостное, хулиганское настоящее. Ох, как Гребнев понимает мельника! Ох, как! «Значит, выхожу я, – говорил Авксентьев, – а тут…».
… А тут на взгорке – двое. Один с теодолитом, кепка козырьком, чтобы окуляру не мешать. Приник, рукой второму показывает: левей, правей, еще немного правей. А второй с рейкой поодаль, перемещается. Ни до кого им дела нет, работа у них. Погоди, дедок, не мешай! Работа!
Они его сразу дедком стали звать. Не мешай, дедок, – работаем, понимаешь, нет?
Работа – он понимает, он очень даже уважает, если делом человек занят. Только вот не объяснят ли ему гости – перекур у них, пусть пока и объяснят, – что они тут затеяли?
А тут, дедок, тако-ое будет! Тут, дедок, целый комплекс будет. И тебе кемпинг, и тебе харчевня. На втором этаже харчевня. У тебя же там, дедок, не задействовано?
Вроде как чердак там…
Н-но! Говоришь! А скоро: панелями обобъем, светильники, посуда самая простая. Знаешь, как турики на такое клюют?! Да ты не бойся, дедок! Никто тебя не гонит! Будешь свой хлеб молоть, даже тесниться не придется – чердак-то у тебя никак не задействован. А тут тебе его в конфетку превратят. И все не за твой счет. И мели свой хлеб. Это же экзот! Турики толпой повалят! Первым делом, закордонные: их хлебом не корми, ха-ха, дай поглядеть, как русский хлеб получается. Тебя же, дедок, во всем мире знать будут – турики закордонные с себя последнее снимут, чтобы с тобой в обнимку сфотографироваться. На фоне мельницы. Тебя, можно сказать, увековечат. Тебя как, дедок, звать?.. О! Так и харчевню можно будет назвать. «У Трофима». Только, дедок, это предварительно, это не мы решаем – другие инстанции есть: название еще согласовывать и согласовывать. Ну, а теперь, дедок, ты нам опять не мешай… Давай, Колян, вставай. Нам на сегодня еще ого-го сколько успеть надо… Так! Эту деревягу придется потом спилить на фиг…
Мельник выслушал все. Двинул не спеша в сарай – выходит оттуда с большущим дрыном и очень спокойно говорит: «Сейчас я вашей одноглазой трубке ноги ее паучьи переломаю и вам тоже могу заодно, ежели через минуту хоть дух ваш здесь будет. Вам доступно?».
Им стало доступно.
Ты что, дедок! Ты что, с тараканами в башке, дедок?! Колян, он точно с тараканами! И через минуту их не было – взбежали на пригорок, сгинули.
А мельник еще долго успокаивался, выхаживая вдоль Вырвы, бурча: «Ишь, диковину отыскали! Я вам покажу диковину! Игрушки задумали! Я вам покажу игрушки! Я вам покажу иностранцев! Видел я ваших иностранцев!.. Хлеб им диковина! Я вам! Я… ух-х-х!». И похлопывал успокаивающе по коре мощного, в обхват, дерева – по «деревяге», которую «придется потом спилить на фиг». Я вам спилю! Я вам головы-то каждому спилю. Вот откуда тараканы-то брызнут!
Так было дело. Да, участковый приезжал разобраться. Разобрался. «Хулиганишь, Василич?» – «А то как же!» – «А как?» – «А вот так…». Рассказал. «Он в своем праве!» – так разобрался участковый и делал застегнутое лицо, как только на него пытались нажать. А пытались…
И что же?! Это все – отсекать?! Да ни за что!
Ладно, сначала – расшифровка, а там видно будет. Итак…
Дрынь-дрынь! Звонок, чтоб его! Дадут Гребневу сегодня поработать?!
Бадигина. И только он дверь открыл, как:
– Я должна тебе сказать, Гребнев, на тебя Парин очень обиделся! Я должна тебе сказать, Гребнев, меня Камаев просто умучил! Я должна тебе сказать, Греб- пев, ты кошмарно выглядишь! Я тебе скажу, Гребнев, вот черноплодка. Очень хорошо, чтобы пропотеть! Особенно если простуда! У тебя простуда, Гребнев! У тебя явно температура! И глаза красные! Что ты ухмыляешься?! Что ты вечно ухмыляешься?!
Попробуй не ухмыльнуться! Все-таки Бадигина – прелесть какой анекдот. Зуд под гипсом защекочет не сегодня-завтра, а она: пропотеть! Черноплодка! «Кошмарно выглядишь». Спасибо. Того же и вам… Она так и выглядит.
Бадигина всегда выглядит кошмарно. Вот парадокс! Восьмидесятилетний мельник в очках-каплях, в джинсах (пусть и со стрелочками) выглядит импозантным старцем. А Бадигина – коренная горожанка, и лет всего-то сорок пять, и одевается в ателье («Я вам скажу, у меня нестандартная фигура!»), но впечатление такое, что это мужчина, плохо переодетый в женщину. Очень плохо переодетый.
– Я тебе скажу, Гребнев, вот за твою ухмылку я тебя не люблю! (Не хватало Гребневу, чтобы Бадигина его любила. Ему за глаза хватает, что его Валентина лю… кто ее, впрочем, знает, Валентину! Шутки шутками…).
Однако темпы и скорости у Бадигиной! Гребнев все еще стоял в прихожей, а голос сердобольной коллеги звучал одновременно из кухни, из комнаты, из ванной:
– Мясо я побросала, оно быстро. Это азу! На вынос продавали. Ты вообще хоть когда-нибудь подметаешь в комнате?! Где ты штаны так извозил! И постирать толком не можешь! Тазика у тебя, конечно, нет! Ай! Горячая!.. – Бурлык-бур-рлык, тугой, гулкий звук наполняемой ванны. – Порошок у тебя есть?! Как вы, мужики, вообще живете! Я прямо в ванной простирну!.. Гребнев, проследи за сковородкой! Я не успеваю! (Она не успевает!). Мне еще за Антохой в садик!
Гребнев так и стоял в прихожей. Сгинь, Бадигина, со своей сковородкой! Он на неделю вперед наелся: хлеб, мед.
Опять звонок! Урожайный день! Гость косяком прет! Благо не надо к двери скакать. Открыл.
– А я ключ посеяла! – как большой веселый секрет выдала Валентина. – Зато вот компот! Почему-то больным всегда компот приносят. И тогда они сразу выздоравливают! А вот – новые костыли! Деревянные, как хотел. Не теряй больше!.. Стой! – она смерила Гребнева взглядом, Гребнев стоял на совсем даже не потерянных костылях. – А ты… Нарочно?
Что – нарочно… этого она не договорила. Дверь в ванную открылась и оттуда, вместе с «бурлык-бурлык», вырвалось:
– Посмотри мясо!!! А то я в ванной!!!
Валентина подобралась лицом, улыбка стала оскалом. Она перехватила новые костыли поудобней, раскачала и забросила их в комнату через всю прихожую, мимо Гребнева. Банку с компотом переставила через порог, внутрь. Выпрямилась. И сквозь оскал дикторским голосом:
– Посмотри мясо. А то она в ванной.
– Ва-ля!
Затряслась мелко-мелко и страшно, горлово:
– У-уйх-хди! – ткнула Гребнева в грудь ладонями. Одним прыжком метнулась вниз через четыре ступеньки и вон – из подъезда. Хлоп!
Как Гребнев не грохнулся, сам не понял. Падал, падал – рука по стенке поехала, зацепила крючок, прибитый для авосек. Вот как надо крючки прибивать! Какая-никакая, но опора. Он еще и отжаться ухитрился, снова приводя себя в вертикаль. Ай да крючок! Выдержал!
– Звонили, что ли? – высунулась Бадигина. – Ты где, Гребнев? Звонили, спрашиваю?
– Здесь я, здесь. Не звонили. Это я костыль уронил.
«ВОР УСТРОИЛСЯ С КОМФОРТОМ».
Он вошел в подъезд. Поднимаясь по этажам, звонил в каждую дверь. Когда на звонок отзывались, проскальзывал дальше… Но вот на звонок у очередной двери никто не откликнулся. Ясно – дома никого. Он быстро достал лом из-под пиджака и ловко открыл дверь.
Не ошибся. В квартире действительно – никого. Вор быстро собрал ценные вещи, золотые украшения, деньги, уложил все это в пару чемоданов. Поставив их тут же, он заглянул в ванную…
Дальше события разворачивались в плане почти комедийном. Залив ванну горячей водой, он с удовольствием выкупался, понежился. Потом побрился найденной тут же бритвой, не забыв при этом сменить лезвие. Ну, а после ванной… Он не мог себе отказать в привычном удовольствии! В холодильнике как раз нашлась бутылка «Пшеничной», отыскалась и неплохая закуска. Он быстро сервировал стол, выставив хрустальную рюмку. Инстинкт подсказывал, что пора уже бежать. И уж было ухватил чемодан, но его взгляд упал на пианино. Утонченная душа не выдержала. Он подсел к инструменту. Ударил по клавишам и запел…
Ничего не подозревающий хозяин, входя в открытую квартиру и слыша музыку, решил, что в доме кто-то из домочадцев. Он неторопливо снял пальто, переодел обувь, зайдя в ванную, помыл руки и только потом заглянул в комнату.
Нет, человек, самозабвенно играющий на пианино и напевающий знакомую песню, был решительно не знаком. И лишь разбросанные кругом вещи и два чемодана, стоявшие посреди комнаты, сказали ему все.
Учуяв неладное, незнакомец собрался бежать, но, услышав на лестничной площадке голоса, спрятался в шифоньере.
Из этого прибежища вскоре его извлекли вызванные работники милиции – сержанты М. Ансаров и М. Зейналов. Задержанный оказался двадцатидевятилетним Артуром Месроповым – человеком без определенных занятий и места жительства, неоднократно судимым за воровство и ограбление. В ближайшие дни он предстанет перед судом.
Так матерого преступника подвела любовь к комфорту…».
– Шейчаш ты отпадешь! – предсказал Гребневу Пестунов. Он, Пестунов, появился тогда, когда Гребнев решил, что хватит ему на сегодня гостей и сопутствующих впечатлений. Пора укладываться.
– На! – сказал Пестунов, вручая трость с резиновым набалдашником. Очевидность ее бесполезности для Гребнева была столь же понятна Пестунову. – А костылей – нигде. Даже в области. Благодари и за это. А, ну ты уже достал?! Здорово! У тебя есть чего внутрь забросить? Жрать хочется, как из пушки! Пра- а-адовольственную пра-а-аграмму в жизнь! – и, ерничая лозунгом, нырнул в кухню. -… Шейчаш ты отпадешь! – сказал Пестунов уже с набитым ртом, облазив холодильник и наколов себе яичницу чуть ли не из всего десятка яиц. – Ты читай, чита-ай!
Где он их только не откапывает – образчики для своей коллекции! «Вор устроился с комфортом» – вырезка из бакинской газеты «Вышка» за 18 января 1981 года. И ведь натуральная вырезка, не просто перепечатка на машинке. Потому что любой самой тщательной побуквенной перепечатке все равно иногда, а то и никогда, не верят, сколько бы Пестунов ни клялся, ни давал голову на отрез: есть там такое, есть! Никто не полезет подшивки листать, сочтут очередной легендой. Мало ли легенд о невероятных, но проскочивших опечатках. Сам Пестунов год охотился за экземпляром, в котором по легенде было тако-ое! А оказалось, ничего такого и не было. Потому в «маразмарии» у Пестунова – только «подлинники». И вырезка из «Вышки» была подлинником. Кто не верит, пусть проверит: 18 января 1981 год. Тут, правда, не опечатка, не «маразм» газетный, но сама по себе историйка замечательная.
– Шейчаш ты отпадешь!
Гребнев не отпал, но кое-какие мысли всплыли. Он их утопил было вчера, а сегодня они всплыли. И предстояло их обдумать. Только Пестунов очень мешал:
– Знаешь, чего-то я не наелся! Это что? Ого! Гребнев, подари банку! Чихал я на твои сосиски, мне наклейка нужна! «Хреновинки»! Ты гляди, а на вкус и не скажешь! Га! Чего ты снулый какой-то! Давай я тебя расшевелю!
– Не надо меня шевелить!
– Давай, давай! Музыку включил бы, что ли! У тебя тут что? – Пестунов щелкнул клавишей. Кассета все та же, с мельником. – A-а! Встретились? И как тебе гость? Колоритный старикан! Из него такой очеркешник можно сбацать! Но ты ведь – л-любитель. Загубишь! А на другой стороне что? Тоже?! Ты что, полтора часа пленки на своего мельника извел?! Точно, л-любитель! Что ты теперь со всем этим делать будешь?!
И Пестунов стал излагать: чем меньше у журналиста материала, тем для журналиста лучше – главное, чтобы было за что уцепиться, а там можно и нужно лезть на собственном воображении. Нет, не врать, а… воображать, основываясь на фактах. Гребнев что, вчера родился?! Давно уже все… воображают! И замолотил Кот, не сбиваясь, не запинаясь: Как руководство к действию восприняли советские люди разработанную по инициативе и при непосредственном участии дорогого товарища Леонида Ильича Брежнева принятую майским пленумом ЦК КПСС Продовольственную программу СССР на период до 1990 года! Ура!.. А едим, между прочим, «хреновинки», а не сосиски. И то, если повезет! Тебе, Гребнев, повезло. И с «хреновниками», и со стариканом. У старикана – факты, а не одно твое воображение.
Только фактов нужно всего три-четыре отобрать, а не три десятка. Не то заблудишься. Вот хочешь, на спор, – ни шиша ты из этих полутора часов записи не сделаешь! Старикан, конечно, колоритный. Он, Пестунов, может себе представить, о чем только колоритный старикан не наговорил: или он на колорите играет, или он на профессии играет, или он на биографии играет. Иначе – винегрет. Не то что в полосу, а в три номера не уместится. Кстати, Парин против полосы. Парин гундит, что настоящий журналист должен умещаться в тот объем, который заранее обговорен. Обговорен двести строк? Будь любезен… И прав Парин, хоть Гребнев и фыркает. Он, Пестунов, тоже фыркает, и Гребневу ведь известно, как Пестунов к Парину относится? Но заданный объем есть заданный объем. Это ведь газета – это прежде всего производство. Пусть не фыркает! Производство, в котором каждый свое делает, но в общую кучу. Пусть не фыркает! Пусть в тот же «Справочник журналиста» поглядит. Сдавал Гребнев уже производство газетно-печатного дела? Когда будет сдавать, пусть обратит внимание – фраза в пестуновский «маразмарий» так и просится, но суть дела отражает: «Первую в мире строкоотливную машину, осуществляющую набор и отливку литер по идее русского изобретателя Н. И. Ливчака, запатентовавшего свое предложение в Англии, построил в Америке немец О. Мергенталер». Страница 384. Вот как! Каждый свое, но в общую кучу. А Гребнев, ишь, на эпохальное полотно замахивается. А рамки жесткие – рамки не под полотно подбираются, а наоборот, полотно под рамку обрезается. А рамка известна – половинный формат. Максимум шестьсот строк. Понял, нет?
Гребнев понял. Гребнев понял, что Парин, не достучавшись до него по телефону, переменил тактику. Очень не хочется Парину – про мельника. Особенно в канун радостного события для всех и каждого избирателя. И когда Парин увидел мельника в редакции и понял, что тот к Гребневу собирается, то Парину еще больше не захотелось.
– Паразит! – сказал Гребнев.
– И правильно! – сказал Пестунов, сразу поняв, о ком. О ком же еще, если не о Парине! Не о Пестунове же. – А ты как думал? Он на одном Долганове сколько лет паразитирует, но кто сказал, что это плохо? Очерк о геройской партизанской юности есть? Есть. Репортаж со строительства «Кроны» есть? Есть. Интервью о вдохновляющих планах турбазного расширения есть? Есть. Так и надо! Работа такая.
Гребнев брякнул «паразита» отвлеченно, вне буквального смысла. Ругательство и ругательство, вырвалось и вырвалось. Словарный запас по части некорректных выражений богатый. И в армии напитался, и на монтаже. Когда на сельяновском участке все они обвалились вместе с… тогда Гребнев такое завернул в сердцах, что и вспомнить-повторить – никак. Определенное состояние души необходимо, чтобы такое повторить, накал эмоций. А тут какой может быть накал – Парин он и есть Парин. Вот и паразит.
Но Пестунов подхватил, придал первоначальный смысл и еще долго развивал тему: журналист – он и есть паразит, паразитирующий на объекте или субъекте элемент. И чем крепче вопьется, тем лучше результат. Особенно если субъект-объект полнокровный и многогранный. А Парин как раз. Сам знаешь, если уж берет интервью, то берет за горло. И выбирает такое, на чем можно не день-два насыщаться. Ну, чего Гребнев ерепенится! Ах, не нра-авится! Пусть на себя посмотрит! На колоритного старикана насел, присосался и отвалился только, когда пленка кончилась. Скажешь, нет?
Гребнев не сказал: нет. Да – он тоже не сказал. Морщился только и фыркал. Как-то неприятно, а что возразить?! Не он ли сам полдня назад барахтался в изобилии фактов по мельнику? Не он ли сам возрадовался визиту Авксентьева: сейчас я его на магнитофон, чтобы материал не растерять. Так что Пестунов не такую уж ересь говорил. И усы у него топорщились очень победно и вызывающе – вызывающе-раздражающе для побежденного Гребнева.
– Кот! Сбрил бы ты это. Давай сбрей! А то я лица твоего не вижу. Давай вот сейчас сбреем! У меня лезвие есть хорошее – «Жиллет». Кот, ты когда-нибудь брился «Жиллетом»?!
– Ни за что! – истошничал Пестунов. – Что ты понимаешь в мужской гордости! Это моя гордость! Ни за что!
– Ну, если больше нечем гордиться… – подыграл-провоцировал Гребнев.
– Балбес! Это есть экономия времени и сил, да!
– Чего-чего?!
– Вот! И в институте тоже – на военной кафедре прохода не давали: сбрить! Сбрить, а то без зачета останетесь! Главное – не спорить, не спорить. Главное – аргументировать. Я им, на военной кафедре, и аргументировал. Усы: пусть сантиметр в высоту, десять – в длину. Ежедневно брить, пять лет учебы. Итого: 365 дней на пять лет – и еще на десять, на площадь выбриваемого. Получается 18250 квадратных сантиметров усов! Сто восемьдесят два с половиной квадратных метра! Представляешь?! Они там на военной кафедре как представили меня ползающим с электробритвой по плацу, так и отстали. А ты: «Жиллет!».
– Кот! В одном квадратном метре не сто, а десять тысяч квадратных сантиметров. Так что всего меньше двух метров в квадрате – не столь тяжкий труд.
– Я гуманитарий – ты монтажник. Бывший. Технарь. Тебе видней! – обиделся и, стремясь обидеть, сказал Пестунов. Но здравый смысл взял верх (Повод! Смешно!)… Хорошо-хорошо! Ты тоже гуманитарий! Выдающийся журналист! Почти автор «Малого возрождения целины»! Но… – снова свернул в колею, – л-любитель! Как этот, с «Вором»!
Гребневу сильно захотелось, чтобы Пестунов ушел. А Пестунову совсем не хотелось уходить, перевозбудился от удачи: не каждый день такие перлы, как «Вор», попадаются.
– Вот смотри, почему я «Вора» – в «маразмарий»? Потому что писал непрофессионал. Это же видно! Профессионал бы конфетку сделал, иронии добавил, абсурд подчеркнул, чуть-чуть кистью бы потрогал. М-м, конфетка! А тут сам автор под абсурд попал. Ты смотри, он же на полном серьезе пишет: «матерый преступник!». Это после ванны, пианинного пения и пряток в шкафу! Да разве только это!..
Пестунов бухтел и бухтел. Гребнев сделал вид, что засыпает. Потом сделал вид, что просыпается. Он несколько раз делал вид, пока Пестунов не заявил:
– Ты что, спишь, что ли?! Знаешь что?! Я у тебя и заночую! А то соседи опять возбухнут: растрезвонился среди ночи, а им вставай, цепочку открывай. Все! Заночую!
Этого Гребневу еще не хватало! Гребневу бы спокойной тишины, чтобы разложить мысли по полочкам. А Пестунова так просто не угомонишь – не каждый день предоставляется возможность коллеге Гребневу свое кредо высказать: коллега Гребнев от разговора уходит. Но уж теперь коллега Гребнев не уйдет: нога, она и есть нога!
– И потом, экономия времени! А то пока дойду, пока с соседями доругаюсь, пока лягу – и спать уже некогда. Слушай, Гребнев, что-то я в последнее время совершенно не высыпаюсь! А ты? Я удивляюсь: передачу «Здоровье» смотрю – показывают, рассказывают, как правильно зубы чистить. Пятнадцать минут! Я утром подскакиваю – до начала работы всего десять! А они совсем с ума сошли! Еще учат: так и только так правильно, так и только так зубы будут здоровые! Все, заночую!
Как бы Пестунова выпроводить?
– Что – футбол? В Испании. Играют?
– Не то слово! Ой, как наши с бразильцами! Кастильо сволочь, все об этом пишут! И не только наши. Баль, правда, на дурнячка штуку запузырил, но когда Эдер нам вбил, то весь стадион обсвистелся! А сегодня у них выходной…
Понятно, почему Пестунов не торопился. Как бы его все-таки выпроводить?!
– Идиот! Мотай отсюда! Ко мне дама должна прийти! Первая брачная ночь, понял?! – рискованно пошутил Гребнев.
– Вот я вам ее и скрашу! – ответил тем же Пестунов, веселясь. – А утром все вместе будем зубы по науке чистить. Встанем пораньше…
– Мотай отсюда! – с глубокой искренностью повторил Гребнев. – А то я, клянусь, ночью состригу твою гордость! В смысле, усы. Понял?!
… Когда Пестунов все же умотал, заграбастав с собой «хреновники» и пристыдив Гребнева («Что ж ты сразу не сказал, что у тебя мясо в сковородке! А теперь я наелся, и не влезет!»), тот осторожно уложил себя на тахту. «Дама»! Теперь, после Бадигиной, «дама» если и придет, то с гранатой, чтобы уже раз и навсегда.
Спать не получилось. Под гипсом таки пополз зуд. И в голове зуд. Чесались мысли по поводу пестуновской вырезки из «Вышки». Сама по себе историйка забавная. И (прав Пестунов) усугублена авторским слогом. Чего тут говорить! Но вот аналогии! Но вот историйка с его собственной квартирой! Тут и Парин со своим Долгановым отодвинулся, и Пестунов со своими измышлениями, и Валентина со своей агрессией, и даже мельник со своей колоритностью.
Не так лежали пешки. Не так он оставлял бумаги. Или все же Валентина? Приходила и не сознается? А если нет? Если «набредить» под впечатлением «Вора»? М-да, но визитер явно не «матерый преступник» из пестуновской бакинской газеты. И дверь он открывал явно не ломиком. Ключом? Чьим ключом, каким ключом? «А я ключ посеяла!». Кстати, с Валентиной надо будет… Стоп! Это потом. Надо от эмоций отвлечься.
А если отвлечься от эмоций и воспринимать (как там Пестунов сказал?) – субъект-объект, то…
Поехали! Субъект-Валентина приходит в объект- квартиру. Туда же и тогда же приходит субъект-Сэм. Субъект-Сэм роется в словаре и не находит того, что ищет. Могла Валентина посеять ключ у Гребнева в квартире? Когда у нее из сумочки посыпалось. Еще как могла! Мог Сэм подобрать? М-мог. Чтобы выжить, должен Гребнев хоть когда-то выйти из дому. В поликлинику, например. Что и сделал. Скорости у них разнятся в силу понятно каких причин. Проследил субъект-Сэм, куда и зачем отправился Гребнев, спокойненько отпер прихваченным ключом дверь в объект-квартиру, спокойненько нашел злосчастную расписку… Оп! Не сходится! Расписка на месте. Да и на кой она субъекту-Сэму, если вдуматься?! Вот она и на месте. Или Сэм не нашел ее, не успел? Какое там «не успел», если фора во времени у Сэма была более чем достаточная! Хотя откуда Гребневу знать точное время визита? Вдруг Сэм «созрел» в последний момент? Не так-то просто решиться в чужую квартиру влезть, пусть и с ключом. А вдруг Сэма макулатурщики-книголюбы до последнего в «Стимуле» держали? И он – все впопыхах, второпях. Усек из окошка бредущего Гребнева и решился… Правильно! Сэм же оговорился: «испачкались, пока там лежали». Откуда Сэму знать – лежал ли Гребнев посреди дороги, если Сэм увидел Гребнева стоящим (пусть и на одной ноге)?! Одно дело: упал. Другое дело: лежал. Значит, Сэм знал, что до-олго пришлось Гребневу валяться. Откуда знал? Да сам же и толкнул! Костыли прихватил, чтобы фора во времени была солидней, и – с ключиком в квартиру. Но спешно – а то вдруг кто сердобольный наткнется на инвалида и поможет добраться. Потому и второпях, впопыхах – папки переворошены, а расписка на месте. Не нашел… Все может быть. И все может быть совсем не так…
Бездарная ночь! Ни тебе заснуть. Ни тебе хотя бы чисто механической работой заняться, магнитофонную запись расшифровать. Пестунов с новостями о паринских поползновениях начисто перерубал настроение. Завтра Гребнев до редактора дозвонится, разбушуется, наубеждает. Завтра. А пока ковылял бесцельно из комнаты в кухню, из кухни в комнату – зуд извел. Какое тут может быть раскладывание мыслей по полочкам! Сел, встал, включил, сжевал от нечего делать давно застывшее бадигинское азу… Лучше боль, чем щекотка! Древнекитайцы знали толк в казнях. Птичьими перьями защекотать – никакое четвертование в сравнение не идет!
Ай, какая бездарная ночь! Еще Валентина! Еще Сэм! Еще Парин!.. Ай, как зудит! До чего, елы-палы, пакостно! Он умер с улыбкой на устах! Так и будет! От щекотки! Нет, ну хоть молотком разбивай гипс и… Хуже зубной боли. Хуже! Гораздо хуже! Съедаешь таблетку от зуба, и есть полчаса успокоения, чтобы успеть заснуть. И пусть во сне болит.
В ванную. Зеркало. Чистим по науке – пятнадцать минут. Перенести центр внимания, рассредоточиться на зуде и сосредоточиться на зубах. Здоровые зубы! Как у невольника на торге! Не помогает! Зуд! Зуд – не зуб.
Зуб… зуб… Завтра Гребнев провентилирует Звягина на предмет расписки, про Сэма у Звягина провентилирует. Завтра, завтра!.. Давно уже – сегодня! Настолько сегодня, что светает. Ай, какая бездарная ночь!
Газированная нога, чтоб ее! Таблетку! Таблетку снотворного, чтоб свалила! Откуда у Гребнева в доме взяться таблетке, откуда у одинокого мужика в доме взяться какой бы то ни было таблетке!
Что со мной может случиться? Ничего со мной не может случиться!.. Вот и майся!
Зато когда измаялся, когда организм сдался, Гребнев заснул так славно, что ничего не понял, очнувшись: засыпал – светало, проснулся – все еще светает! Сколько же он «придавил»? Сутки? Или всего полчасика? Оказалось, ни то ни другое. Оказалось, не еще светает, а уже темнеет. Подскочил по привычке – швырнуло его обратно: заковали в гипс, вот и отучайся от резких движений.
Опоздал. Всюду опоздал! На УВЧ опоздал. К Звягину опоздал. Беспросветно опоздал!
Абсолютно отвыкли удивляться! Ну чем можно удивить? Пусть даже пришельцы с зеленым хоботом прилетят. И что? И пришельцы. А я еще когда-а читал в одном журнале. А я еще когда говорил… «Ух, ты!» – уже и забыли, когда и по какому поводу восклицали.
Так вот. Звягин восклицал «ух, ты!» по каждому поводу. Звягин не отвык удивляться. И Гребнев сразу насторожился. Сразу, как только Звягин восхитился, увидев Гребнева на костылях и воскликнув:
– Ух, ты! Вы ко мне?
– Да.
– Ух, ты! А вы уверены?
Гребнев был уверен, что ему нужен Звягин, автор расписки. Он был уверен, что Звягин и есть тот самый Звягин. Который к тому же и стоматолог, практикующий на дому. Ага! В замаскированной каморке, занавешенной куском старого холста, муфельная печь или какая там нужна для переплавки золота! Под половицей – тайник…
Когда Гребнев запаниковал, что всюду опоздал, то вспомнил: есть ведь такой удобный аппарат – телефон. Позвонил в регистратуру поликлиники.
– Вы бы еще ночью позвонили! УВЧ уже не работает. Ничего страшного, пропустите сеанс, а завтра с утра… Нет, Звягин уже не работает. Ничего страшного, завтра с утра за номерком и… ах, с острой болью? Очень острой?
Гребнев изобразил в трубку степень острой боли – убедительно. Регистратура сжалилась:
– Запишите адрес. Вы записываете? С острой болью Николай Яковлевич примет. На дому. Вы записали?
Само собой, записал. «А он старенький такой?..». – «Старенький, старенький». Потом спросил, записали ли его? «Зачем? Вы же на дом к Николаю Яковлевичу пойдете. Мы в таких случаях не записываем…» – «Нет, а вы как раз запишите. Гребнев Павел Михайлович…». – «Да не записываем мы!..» – «Ну, что вам трудно записать? В карточку, в крайнем случае. Чтобы завтра, например, с номерком не было проблем. Гребнев Павел Михайлович…» – «Слушайте, вы! Придете завтра и возьмете номерок!..» – «Я не смогу, у меня нога в гипсе!..» – «Слушайте, вы!».
Трубку бросили, но Гребнев остался доволен. «Вы же на дом к Николаю Яковлевичу пойдете!». То-то и оно! И правильно он сделал, что надоел регистратуре своей фамилией. Если что и случится, то в поликлинике записано: обращался такой-то, тогда-то, направлен к тому-то. Даже если не записали, то трубку бросили. «Тут вчера такой зануда звонил! Даже трубку пришлось бросить. Гребнев? Ну, да! Гребнев! Он все приставал: запишите, запишите!».
Не без скептических усмешек в собственный адрес страховался Гребнев. И расписку он оставил дома. В крайнем случае – это будет его козырем. «Можете делать со мной все, что хотите, но документа у меня нет. Он спрятан в надежном месте, и если со мной что-нибудь случится, то… А-ай! Больно! Это же больно! Не скажу-у!». Все-таки кино напластовало в сознании каждого изрядного мусора. В крайнем случае! Какой еще крайний случай может случиться? Что с ним, с Гребневым, вообще может случиться?! Лицемерный вопрос, риторический: как раз теперь, когда одна нога в гипсе по бедро, когда лицо садняще помнит вчерашнее плюханье в грязь, когда предстоит визит к подпольному золотозубу, который…
Вот Гребнев и поглядит. Усмешки усмешками, но когда и если дело дойдет до выяснения отношений, то лучше иметь в запасе регистратуру, где он «наследил», и расписку, которая пусть пока дома полежит.
Идти оказалось всего квартал. Много ближе, чем до поликлиники. И вот он пришел. И насторожился. Сразу. Не понравился ему Звягин.
– Вы ко мне? А вы уверены?!
Приходит к стоматологу один, а у него нога в гипсе. Такой, значит, анекдот. Ни в зуб ногой. Ха-ха! Весело.
– Ух, ты! Тогда прошу!
Коридор был узким. Совсем узким. Книжные грубо сработанные стеллажи по обеим сторонам коридора суживали его еще больше. То, что это книжные стеллажи, можно было понять только по нескольким покосившимся рядам томиков и плотной стопке альбомов. Остальное – пусто, пыльновато. С недавнего времени пусто. Чувствовалось. Еще вчера, ну, позавчера все было забито. Пыль размеренными полосами и свежий простор там, где она еще не успела накопиться. (Книги! Словарный запас! Даль! Сэм! Расписка!).
– Вы бочком, бочком! – советовал Звягин, показывая на собственном примере. Пример был неудачным. Звягин оказался необъятным. Анфас у него был много уже, чем профиль. И очень рыхлый. Погрузи его в какой угодно сосуд, и он примет форму сосуда. Не понравился Звягин Гребневу.
– Вы бочком, бочком! – советовал Звягин, сам еле-еле протиснувшись, просунувшись в комнату. – А костылики под мышечку! А на одной ножке! А за полочки держитесь! Они крепкие, они выдержат! Ух, ты! Какой молодец! – он неподдельно радовался успеху пациента.
Или поддельно? Какой-то Звягин… приподнято-веселый. Или он трешку-пятерку-десятку предвкушает от внепланового больного? Он зря предвкушает!
Гребнев пыхтя продрался между полками, прикидывая, как он будет выбираться обратно. Потом…
Все. Коридор преодолен! А в комнате ничего не было. То есть не то чтобы совсем ничего. Ну, стол. Ну, шкафчик, дребезжащий стеклянными полками при каждом грузном передвижении Звягина. Ну, тахта с клеенчатым покрытием. И – зубоврачебное кресло. Рабочий кабинет на дому. Где же он золото плавит и прячет? Во второй комнате? Там и ночует! На сундуке…
Звягин суетливым студнем опустился на тахту и занял ее целиком. Выхватил ручку, как градусник из- под мышки, пододвинул к себе журнал на столике:
– Сейчас мы посмотрим… Сейчас только я вас запишу. А вы садитесь, садитесь пока.
Нет, не понравился он Гребневу. Садиться было некуда. Разве, сразу в кресло? Но Гребнев не за тем пришел!
– Сразу в кресло! Сразу! – подтвердил Звягин. – Так, какое у нас сегодня число? – сказал он журналисту.
Собственно, выбора у Гребнева не оставалось. А нога устала. Он оперся о краешек кресла, нащупав предварительно его за спиной. Не собирается он тут рассиживаться!
– Восемнадцатое, – подсказал Гребнев. – Уже восемнадцатое. Июня, – добавил он не без задней мысли. Ну-ка!
Звягин колыхнул всеми четырьмя подбородками, сокрушенно бормотнул вроде бы про себя:
– Восемнадцатое! Ай-яй-яй! Ух, ты! – Записал. И, не поднимая головы: – Вас ко мне кто прислал? В регистратуре? Правильно! Если с острой болью, то зачем терпеть? Сейчас мы посмотрим. Сейча-ас… Гребнев. Павел Михайлович. Ух, ты! – оторвался от журнала. – Вы не тот Гребнев, который в газете? П. Гребнев? Да? Ух, ты! Да вы садитесь удобней, поглубже!
Гребнев только чуть-чуть подался назад и… Удержаться он не смог, да и не за что было удерживаться – кресло поволокло его и уложило. Вот тебе и «в крайнем случае»! А-ап! Мгновенный испуг сжал изнутри. «Грохнусь!».
Не грохнулся. Но теперь Гребнев уже лежал в зубоврачебном кресле, и над ним нависал Звягин:
– Вы когда-либо видели нечто подобное?! Вы никогда не видели ничего подобного! И не увидите! А здесь?! А вот посмотрите тут! А тут?!
Теперь, лежа, Гребнев мог оглядеть, обтрогать. Кресло было космическое. Ультра, экстра, супер, сверх! Оно приняло Гребнева в себя, усвоилось по всем его изгибам, включая «нестандартную» ногу. Оно матово устраняло бьющий обычно в лицо свет. Оно блестело, сверкало, переливалось. Оно пахло новеньким. Ух, ты! А рядышком, на подносике сверкали, блестели, переливались орудия… м-м… производства. И пахли они новеньким – новеньким инквизиторством на более совершенном уровне. Ух, ты!
Инквизитор Звягин был горд. Он восхищенно удивлялся, удивленно восхищался, приглашая Гребнева разделить чувства – чувства хозяина, обретшего мечту своей жизни. Будто ноль-шестой «жигуль»: а подфарники, подфарники! а дворники, дворники! а коробка передач, коробка передач!
Только зубоврачебное кресло, пусть и самое совершенное, – не ноль-шестой «жигуль». И очень трудно разделить чувства с врачом, если ты пациент. Тем более с зубами. Тем более со здоровыми. Еще чего доброго, в эйфорическом экстазе от необъятных возможностей кресла необъятный Звягин пересчитает Гребневу зубы в самом прямом смысле: а смотрите как бесшумно сверлит! ух, ты! а как незаметно удаляет! ух, ты! а полость выжигает и вообще ничего не заметите! ух, ты!.. Бр-р-р!
– Откройте рот!
Гребнев предпочел бы, чтобы Звягин закрыл рот. Чтобы пауза возникла – тяжелая, мрачная, настороженная. Тогда хоть в какой-то мере это совпало бы с представлениями Гребнева, с тем, что он себе «нарисовал». Потому и не нравился ему Звягин: своей уверенностью, своей неуемной энергией.
Хотя с чего Звягину пугаться? Ну, пришел журналист. Ну упаковал Звягин журналиста в кресло. Да так что не выбраться! И все кошмарные профессиональные железки в распоряжении Звягина. Вот ка-ак включит сейчас бур. Или бор? Бр-р-р! И вообще неизвестно, кто во второй комнате прячется и сколько их. Дверь-то прикрыта…
Так что совсем незачем Звягину держать мрачную паузу. Это не он попался, это Гребнев попался.
– Откройте рот! – ласково повторил Звягин и вдруг пропел: – Но голова-ва-ва тяжелее ног-ног-ног, и он оста-ался под водою!
Потолок поехал вверх и вперед – Гребнев не сразу, но сообразил, что плавно опускается назад, головой к полу, ноги вверх. Звягин на какую-то педаль в своем чудо-кресле нажал.
– Откройте рот!
– У меня, собственно, нет острой боли. Я, собственно, хотел проконсультироваться! – Нет, с такой дикцией Гребнева не взяли бы на радио: он выцедил испуганное признание сквозь намертво сомкнутые челюсти. Ни за что Гребнев не откроет рта этому типу!
Потолок поехал на прежнее место, ноги снова перевесили голову.
– Можно, я вылезу?
– Ух, ты? – восхитился Звягин. – Так вы трусишка!
Гребнев молча принялся выкарабкиваться из кресла.
– Дайте я хоть посмотрю, что у вас! Да не сделаю я вам больно! Совсем не больно будет!
Конечно! Совсем не больно – чик и готово! И, что называется, вы ничего не почувствуете – ничего и никогда больше.
Гребнев выкарабкался. Перебросился на клеенчатую тахту. Так-то лучше! Теперь они в относительно равном положении. И закрытая дверь во вторую комнату перед глазами, а не за спиной. И за спиной у Гребнева нормальная стенка, а не валящаяся в ничто конструкция, ультракресло.
Надо забирать инициативу в свои руки. Резко, одной фразой, неожиданно! А то этот зубовный толстячок излишне развеселился. Вот и посмотрим, кто тут трусишка. Костыли костылями, но у Гребнева хватит умения и давней выучки, если Звягин… Да Гребнев его одними руками, несмотря на звягинскую массу, несмотря на предполагаемых злодеев-соучастников во второй комнате – он и их тоже только так положит!
Время скептических усмешек прошло. Оно прошло, когда Гребнев испугался. А испугавшись, он озлился на себя и на Звягина. Больше – на Звягина. Пора!
– Я, собственно, хотел проконсультироваться, – твердо, чеканяще проговорил еще раз Гребнев, – насчет золотых коронок. Насчет золота!
Звягин не дрогнул. Звягин в который раз восхитился:
– Ух, ты! Дорогой вы мой! Прямо вот так на костылях и за коронкой?! Ух, ты! И ко мне?! Это кто же вас надоумил?! Я же стоматолог, дорогой вы мой! А не протезист. Я коронками не занимаюсь. У нас на то специальные техники, они с золотом работают. Да кто это вас надоумил?!
Гребнев собрал себя на клеенчатой тахте: дважды Звягин спросил – кто надоумил? А теперь склонился к своему подносику. Показно? Следить, следить!
– Ну, ну! Не выдумывайте! – Звягин рылся в позвякивающих инструментах. – Не упрямьтесь. Я вам обещаю, что не сделаю больно! – Звягин повернулся к Гребневу, в руке у него вдруг опасно блеснуло.
Гребнев был готов. Он закрылся весь, отметив несколько «дыр» у стоматолога, куда он, Гребнев, дотянется, попадет, ткнет, пробьет эту тушу. Пусть только Звягин сделает хоть одно движение!
Звягин не стал делать этого одного движения. Он застыл. Он почуял, что нельзя двигаться. Стоял, как играя в «замри». Вот и замер. Вот и возникла пауза – тяжелая, мрачная, настороженная. Как Гребнев и хотел.
Он давяще спокойно сказал:
– Положите на место.
Звягин уронил опасную железку на подносик. Звяк!
– Сядьте!
– Вы кто?! Что вам…
– Сядьте!
– Ух, ты! Да что за цирк?!
– Это не цирк. Кто в той комнате?! – Гребнев не спросил «есть ли», он спросил «кто», давая понять, что все видит и все слышит.
– Никого… – Звягин сделал движение к двери.
Гребнев прянул с тахты, рассек воздух между закрытой дверью и Звягиным, обозначил границу – ребром ладони.
Звягин отшатнулся назад. Снова застыл.
– Я же говорю, это не цирк! – чиркнул голосом Гребнев. Дотянулся до закрытой двери, резко дернул на себя, не теряя из виду Звягина, но и сконцентрировавшись на возможном злодее-сообщнике: как выскочит, как выпрыгнет!
С урчащим мявом из комнатного мрака выстрелил котяра – столь же необъятный и бесформенный, как хозяин, белый до розовости. Бесшумно просеменил в коридор. Скрипнула дверь – и тихо, звеняще тихо.
– Это – Март, – скованными губами сказал застывший Звягин. – Он в туалет захотел. Он сам умеет дверь туда открывать.
– Сядьте! – сказал Гребнев. Конфуз! Ну, не совсем! Все-таки, он верно почуял, что во второй комнате кто-то есть. Ковать! Ковать! Пока горячо! Пока конфуз не охладил от дрожи.
– Где Крайнов?! – Гребнев не спросил «кто», он спросил «где», давая понять, что знает многое, ох многое!
– Женька?! – прояснил для себя Звягин. Изменился в лице и наконец сел. Сполз в свое суперкресло.
А оно послушно приняло его по всем выпуклостям. То ли педаль была незастопорена, то ли еще что: ноги поехали вверх, а голова вниз. Краской Звягин залился мгновенно. Темно-красной, натужной.
Пошел купаться Веверлей, оставив дома Доротею. С собою пару пузырей берет он, плавать не умея…
***
Если каждое утро просыпаешься и говоришь себе, что вчера был дураком, что это? Привычка или ежедневное самоусовершенствование?
Хотя уже не утро. Солнце добралось до тахты, настойчиво будило душным теплом. Просыпаться было тяжело. Спать дальше было еще тяжелей. День в разгаре, если солнце до тахты добралось. Надо просыпаться.
Гребнев открыл глаза – веки по килограмму каждое, не меньше. Приподнял голову – в ней и вообще не меньше центнера. Хотя чему там быть?! Если вспомнить вчерашний визит к Звягину, если разложить все по полочкам, если определять адекват поведения Гребнева обстоятельствам, то не центнер у него в голове. Или центнер, но отнюдь не мозгов. А что голова тяжелая, так нечего спать на солнцепеке. Вовремя надо просыпаться, ложиться надо вовремя. И если лег, то сразу надо засыпать! А то вся постель сбита, простыня вообще как будто Гребнев ночью из нее веревку вил.
Золотоискатель! Расписка! «Это не цирк!». Ну и дурак!
Ему бы сидеть смирно и плановое редакционное задание до конца доводить. Ему бы не шляться по стоматологам, обладая здоровыми зубами и нездоровой ногой вкупе с нездоровым воображением, а сесть и как следует поломать себе голову над тем, как он собирается летнюю сессию сдавать за третий курс и как он собирается на эту сессию прибыть, когда вызов придет, – гипс… Меньше двух недель осталось, а он о чем угодно думает, но не о…
Золотоискатель! Расписка!
Все! Проснулись. Поплелись. Умылись. Посмотрели в зеркало. Сказали этой небритой, красноглазой роже: «Ну, дурак! Ну, дурак!». Пора разложить по полочкам, отсортировать полученную информацию. Чтобы к ней не возвращаться, стыдливо забыть как можно скорее.
ЗАЧЕМ ЗВЯГИНУ ТАКИЕ ДЕНЬГИ?
Затем, что зубной кабинет как раз таких денег стоит. Зубной кабинет – это не только супер-сверх- ультра-экстра-кресло. Туда же – бормашина, воздушная турбинка, набор фрез. Пасты, цементы… фосфат- цемент, ксилит-цемент, дентин для временных пломб.
Наши зубные кабинеты неплохие. Но, скажем, чешская «Хирана» – много лучше. Скажите любому стоматологу: «Хирана»! И следите за глазами. Если они не сверкнут, значит это не стоматолог. Сейчас многое зависит не только от умения и опыта врача, но и от того, чем он располагает. Наши отечественные пасты, мягко говоря, не верх совершенства. А потом клиенты говорят: к такому-то не советую, поставил пломбу, и через месяц вылетела. При чем здесь врач! Будь у него не норакрил или протакрил, а те пасты, которые в набор к зубному кабинету входят, то он бы гарантию пломбе на сто лет давал.
Или те, кто на удалении специализируется. Послушать клиентов: чудо! чудо! А все чудо: вместо новокаина вкалывают лидокаин. Или ксилокаин. И хватает «замороженности» на четыре-пять часов. Как раз самый болезненный период. И не болит. Будто и не удаляли. Ух, ты!
Да, от умения и опыта, конечно, тоже зависит – опираясь на них, можно делать нормальную работу в ненормальных условиях. Но лучше делать нормальную работу в нормальных условиях. И когда Звягин увидел этот кабинет, он… Когда он сразу определил, что это даже не «Хирана», а нечто запредельное, он… Когда Звягин предположил, сколько все это может стоить, а потом услышал, сколько все это стоит, он…
А Гребнев голову себе морочит: зачем Звягину такие деньги! Да на зубной же кабинет!
ЗАЧЕМ ЗВЯГИНУ СОБСТВЕННЫЙ ЗУБНОЙ КАБИНЕТ?
Затем, что Звягин давно к этой мысли подкрадывался. Возраст – давно на пенсию пора. Здоровье – никуда. Тяжело стало добираться каждый день до поликлиники. Да и там тоже – такого ритма он уже не выдерживает. И нервотрепка. Хоть Звягина и уважают, но нервы треплют. И персонал, и пациенты.
Звягин давно подумывал взять патент. Хоть налог большой, но по пенсии скидка на патент полагается. Получается так на так, особого выигрыша в материальном отношении нет, зато дома практикуешь. Такие давно были беспочвенные мечтания. Ведь чтобы практиковать, нужно как минимум собственное кресло, а его не купить. Частным лицам не продают. Стоматологи, которые по патенту работают, буквально из кусков собирают, из списанного. Спинку в одном месте, станину – в другом, турбинку – в третьем. Не те уже годы у Звягина, чтобы… А тут видит: вот оно! Выкладывай сумму – и получай! И практикуй на здоровье!
Минуточку, Николай Яковлевич! Не далее как только что вы сказали: частным лицам не продают.
А я, Павел Михайлович, и не покупал. Я только деньги заплатил. Давайте, не будем вникать, договорились? Вы вот журналист, интересуетесь, а я не хочу человека подводить. Но там все чисто, уверяю. Не покупал, а только заплатил!..
Жмурится довольно. Такой – хитрый колобок, от дедушки ушел, от бабушки ушел, кабинет приобрел. А самого так и распирает вывалить, как он ловко «не покупал, а только заплатил».
Но Гребнева это не особо интересовало. Гребнева особо интересовала расписка.
ЗАЧЕМ ЗВЯГИНУ РАСПИСКА,
если они такие большие друзья с Крайновым?
– Расписка? А, ну да, бумага… С Женькой? Сто лет не виделись, а друзья. Еще учились вместе. До войны еще. И потом. И после.
А когда встречались, то как будто вчера расстались. Крайнов кафедрой заведует в Ленинграде. Звягин его все в гости зовет на лето: отдых – лучше не придумать. Крайнов и рад бы, но все никак. Работа, работа… Пусть лучше Звягин из своего медвежьего угла выбирается в гости, Питер посмотрит, Крайнов его в запасники сводит… Звягин и рад бы, но все никак. Работа, работа… Вот разве что теперь, когда он патент возьмет на частную практику.
– Что? Что – расписка? А, ну да, бумага. Сейчас…
Звягин в тот же вечер, когда зубной кабинет увидел, по междугородке Крайнову дозвонился. Говорили как-то бестолково. Всего три минуты дали, что за три минуты успеешь? Так и поговорили: деньги есть? сколько? двенадцать тысяч! на сколько? на полгода! есть! Друзья, называется, пообщались. Три минугы, больше и не скажешь.
Деньги через день телеграфом пришли. Тогда Звягин и написал бумагу в двух экземплярах. Зачем? Видите ли… У врачей отношение к смерти более философское, что ли. Учитывая мой возраст, один инфаркт и осколок с войны – да, с войны… партизанил со ступинцами… – учитывая все это, есть смысл предусмотреть любой вариант. Тогда в случае… неприятной неожиданности у Женьки остается бумага, по которой он… или его сын, два взрослых внука будут иметь право на компенсацию. Звягин знает: эти тысячи Женька Крайнов на машину насобирал. У каждого свой пунктик. У Женьки – машина. Сколько они были знакомы, столько Крайнов на машину собирает. Собрал. Через полгода как раз и распределят, в июне. То есть теперь уже вот. А пунктик надо уважать. Крайнов врач и сам понимает, что никто ему права на вождение не выдаст в таком возрасте, но пусть хоть сын, пусть хоть два внука повозят.
Вот Звягин и послал бумагу Крайнову. Для успокоения – пусть даже крайновского сына и внуков. А второй экземпляр у себя оставил, зная Крайнова, который, если разбушуется, то так, что ни сын, ни внуки не утихомирят. И верно! Крайнов срочно вызвал Звягина по телефону и за три минуты наговорил много. И в частности: «Эту твою бумажку я знаешь как использую?! И куда ее потом спущу?!». Крайновский голос перебивался в трубке увещевающим моложавым басом: «Папа, не скандаль! Папа, человек сделал правильно! Это же сумма! Папа!..». Звягин успел сказать: «А у меня копия есть! Спускай свою куда хочешь! Найдут! У меня. И тебя найдут, старый дурак!». «Сам старый!». Еще моложавый бас: «Папа! Дай трубку! Алло! Вы слушаете?! Как вас найти, если… если… Папа! Не рви трубку!». На том и отключили. ПОЧЕМУ ПОЛКИ ПУСТЫЕ, тоже стало понятно. Восемнадцатое июня. Прошло полгода. Как раз завтра Звягин собирался отсылать деньги. Он – человек слова, и… сын Крайнова, наверное, волнуется там, и внуки взрослые. Все-таки, солидная сумма. Вдруг пропадет?..
А Гребнев, конечно, перепугал Звягина до обморока. Приходит непонятный бандит на одной ноге, маскируется под журналиста, потом ладонями машет, про Женьку спрашивает, тоном угрожает. А у Звягина сердце больное. Да, где Мартик спал. Да, все двенадцать тысяч. Библиотеку пришлось продать. А какие были книги! Звягин стал перечислять, загнул палец, сказал: «История России с древнейших времен» Соловьева, загнул второй палец, сказал…
Гребнев его перебил. Рефлексы у Гребнева безусловные, слюноотделение нормальное – захлебнуться же можно!..
Теперь как будто все стало на свои места.
– Вы что же, всю библиотеку оптом продали?
– Да. Молодой человек подъехал на таком… по- лугрузовом.
– Здоровяк?
– Что? Да-да! Он, наверное, хороший спортсмен. Мышцы развиты. А книжками интересуется, представляете? Он меня очень выручил. Я никогда такими коммерческими делами не занимался. Не знал, как и подступиться. Пришел в наш книжный, спросил. Мне ответили, что надо смотреть в каждом конкретном случае: год издания, состояние, цена по каталогу. Сказали: приносите. А вы, спрашиваю, не можете сами прийти? Они смеются…
… Там-то, в магазине, Сэм и вышел на Звягина. Определил безошибочно: лопух! Вежливо представился: Григорий. Да, можно просто Григорий. Предложил помощь. Помог. Пришел на дом к Звягину, долго обследовал, уважительно отзывался о собраниях сочинений, назначая им цену.
И Звягин понял, как ему повезло! По сравнению с тем, что ему предположительно обещали в книжном, и тем, что реально обещал Григорий… Словом, Звягин понял, как ему повезло. Правда, Григорий предупредил, что деньги сразу отдать не сможет. Если Николай Яковлевич имеет возможность подождать месяц, два? Дело в апреле было, Звягин имел возможность подождать. Но заранее оговорил, что ему нужны деньги до восемнадцатого июня, даже до пятнадцатого. Устраивает? Устраивает.
Несколько раз Григорий приходил. Описывал, оценивал. И каждый раз к Звягину: устраивает? Очень вежливый и предупредительный. Звягина все более чем устраивало. Особенно гарантии. Гарантии Григория – они были у Звягина в виде тысячи рублей аванса. И если до пятнадцатого июня Григорий не выкупит библиотеку, то Звягин имеет полное право распоряжаться своими книгами и уже своей тысячей. Ух, ты!
Хитрый колобок, Звягин, – святая простота! Деловой! Умеет жить. Такого не проведешь! С законной гордостью всем своим видом демонстрирующий: я деловой, я умею жить, меня не проведешь! Если бы не демонстрировал, тогда, возможно, кто-нибудь и поверил бы.
Эх, Николай Яковлевич! Да нагреет вас предупредительный и ничего не демонстрирующий, кроме вежливости и стеснительности, Сэм. То есть уже нагрел. Вывез библиотеку. И тысячей своей нисколько Сэм не рисковал. Знает Сэм, что почем. Куда бы вы делись с тысячей?! Вы, который деньги с пациента гнушаетесь брать! («Ух, ты! Что вы! Я же вам ничего не сделал, не помог ничем. Вы даже посмотреть не дали… Какое беспокойство?! Перестаньте!.. И я же еще патент не получил. Нельзя…»). Вы, который расписку пишете другу на всякий неприятный случай, а у нотариуса ее заверить – такая мысль даже и не приходит!.. Ничего этого, конечно, Гребнев не сказал, но подумал. А вот про расписку подумал и сказал: куда же она подевалась и подевалась ли?
– Расписка? А, ну да, бумага. С ней очень просто…
Звягин засунул ее в Даля. Маленький Даль. Его еще подарочным называют. Да-да, Гребнев знает… Звягин очень хорошо помнит. И когда Григорий приехал на своем фургоне, Звягин тоже помнил, но все неожиданно быстро произошло. Челночная беготня от полок к фургону. Звягин еще пытался помочь. Совсем из головы вылетело про расписку. Григорий уехал.
А на следующий день пришел уже без машины, с сумкой – кое-что забрать еще из «разнобоя». Да, он так выразился. И Звягин ему сказал: «Не посмотрите ли? В словаре». Еще уточнил: не в третьем издании, а в подарочном. У Звягина Даль в двух вариантах был. Третье издание под редакцией Бодуэна де Куртене, где словарный запас богаче. А подарочное издание ему подарили. На семидесятилетие. В поликлинике… Григорий оба издания взял у Звягина. Подарочное, конечно, намного дешевле, но все-таки семьдесят рублей…
– Сколько?!
– Семьдесят. Я понимаю, дорого. Но ведь Григорий сам столько за него предложил. А я все равно ничего не вижу в этом издании, шрифт слишком мелкий.
Сэм-Григорий обещал непременно посмотреть. И завтра же непременно сообщить о результатах. Завтра и сообщил: нет там ничего, в подарочном Дале. И ладно! Вероятно, вывалилась при погрузке, или при транспортировке, или…
А не могло так быть, что Звягин эту… бумагу в другого Даля положил? Да нет, он точно помнит! Он Григорию так и сказал: точно помнит – именно в подарочного Даля.
Бог с ней теперь! Какая Звягину разница! Деньги собраны, завтра уедут к Крайнову. Оба они живы, бумага не понадобилась, пусть и потерялась.
Что? Нашлась? У Гребнева?! Ух, ты! Какое совпадение! Гребнев что же, знаком с Григорием? Ух, ты! И подарочный Даль теперь у Гребнева? Ух, ты! Как же Григорий бумагу не нашел? Наверное, невнимательно смотрел. Пусть Гребнев ему, Григорию, передаст от Звягина большую благодарность.
Его, Звягина, объегорили, а он благодарит! И книги-то какие уплыли! Неужели ничего другого нельзя было придумать? Кроме как книги продавать!..
Можно. Но Григория интересовали именно книги. Марки Григория не интересовали.
– Какие марки?
– О-о, еще какие марки! Книги, конечно, жаль, но с другой стороны – их еще где-нибудь можно достать. А где вы достанете такие марки?!
Если Звягин обронил иронию по поводу машины Крайнова – пунктик, то сам Звягин имел, как выяснилось, не пунктик, а пункт. Пунктище!
…– Это «консульский полтинник». Видите надпечатку – «Воздушная почта РСФСР». Сейчас расскажу. В 1921 году существовала почта между наркоматом иностранных дел и советским консульством в Берлине. Почту перевозили на самолете. Так что это практически первая авиамарка. Специальную не стали выпускать, взяли в кассах царские марки номиналом в пятьдесят копеек. Откуда и пошло: полтинник. Да, и сделали надпечатку. Вот как раз эту, такую. И еще, вот видите, 750 германских марок – под надпечаткой. Очень большая редкость. Между прочим, стоит где-то как раз десять-двенадцать тысяч.
– Это «черный пенни». Смотрите, какая тонкая гравюра! Портрет королевы Виктории. 1840 год. Первая в мире марка. Великобритания. Нет, не такая большая редкость. Вполне по силам рядовому любителю. Видите, гашеная? Вот если бы чистая. Ух, ты! Да еще бы кварт- блок! Ух, ты! Чистый кварт-блок чер-но-го пен-ни! Тоже около двенадцати тысяч стоило бы.
– А, нет, вы просто ничего не понимаете! Эту марку не надо отклеивать. Она как раз ценнее с куском конверта. Это первая саксонская марка. Три пфенинга. Саксон-ская трой-ка на вы-рез-ке! Ро-озо- венькая.
Звягин очень вкусно произносил. Марки, да, это был – пункт! И дело не в том, что Сэм не заинтересовался марками. Да и понятно, почему не заинтересовался: чисто коммерчески невыгодно. Покупать у крупного специалиста марку, а потом искать такого же крупного специалиста, чтобы ему эту марку за… за ту же цену? Уж что-что, а цену каждой редкости филателисты со стажем знают. И, кстати, надуют без зазрения совести, только попадись. Другая шкала.
Но даже если бы Сэм и заинтересовался марками, Звягин бы ему не продал. Ни одной, ни за что! Вот обменять – другое дело. Григорий книгами интересуется, а может, он и марками интересуется? Может, у него есть на обмен что-нибудь? Как не похвастаться коллекцией!
Но Сэм предпочел свой верный кусок заработка. Книги. Хоть марки посмотрел. И восхищение с хозяином разделил. И ушел. А потом сказал, что в словаре ничего не было.
Теперь Гребнев попался Звягину и, чувствуя себя виноватым за подозрения, за вторжение, за «цирк» с ложной острой болью и ее последствиями, покорно сутулился над альбомами с готовностью подхватывая восхищенное цоканье языком.
Звягин все-таки святая простота! Его Гребнев до смерти напугал, непонятно в чем подозревал, сам вел себя подозрительно, а Звягин – все мимо ушей: в тумбочке у меня двенадцать тысяч, а вот марки на еще много-много тысяч. Время – за полночь! Деловой, умеет жить, такого не проведешь…
И таким образом довосхищались до двух ночи. Потом Звягин предложил Гребневу глюконат кальция, заметив, что Гребнев ерзает:
– Вы бы сразу сказали! Зуд – это же невозможно терпеть. Сам знаю. Сейчас я вам глюконат кальция… Таблетки. Они у меня вразброс, прошу прощения. Но я их вам в чистую пробирочку уложу. Она стерильная, не беспокойтесь.
– А поможет? – доверчиво-искательно испросил Гребнев, вспомнив бестолковую вчерашнюю ночь в зуде.
– Все ваши чесания прекратятся! Глюконат кальция очень действенное средство! С эффектом плацебо, о! – опять щурится хитро-колобково. – Заснете моментально!
… Но Гребнев заснул не моментально, когда доковылял до дома. Думал, раскладывал по полочкам. Полочки обрывались, повисали на одном гвозде, содержимое их падало и разбивалось.
И вот только днем, только когда припекало, только когда невмоготу стало спать, – Гребнев прояснил для себя вчерашнюю фразу Звягина.
Значит, Звягин просил Сэма посмотреть в Дале расписку на двенадцать тысяч. Нет, расписку он не упомянул. Слово неделикатное. Еще когда Гребнев произносил вчера «расписка», Звягин морщил губу и следом повторял: «Ну да, бумага!».
Вот что Звягин сказал Сэму. Звягин Сэму сказал: «Посмотрите в словаре. В подарочном Дале. Там должна быть бумага на двенадцать тысяч».
«Павел Михайлович! Я, как обещал, был. А вас не было. Я попозже еще буду. Я материал приносил, как обещал».
Гребнев взъярился, обнаружив записочку в дверях, вернувшись с дневного сеанса УВЧ. Какой все-таки вежливый и стеснительный! Какой деликатный!
К чему такие церемонии, рабкор Семиков?! Открыли бы дверцу ключиком, пока хозяин в поликлинике. Принесли бы журнальчик, полистали, книжку – одну, другую, третью. Если в словаре Даля нет искомой «бумаги на двенадцать тысяч», то где-то ведь она есть? И библиотека у хозяина квартиры не та, что у вас – не сто погонных метров. Вполне хватило бы времени для всецелого пролистывания.
А можно еще в папках покопаться – не туда ли хозяин квартиры бумагу запрятал?
А можно еще – в белье!
В посуде!
Нет? Нету? И правильно нету! Потому что хозяин квартиры, уйдя в поликлинику, убил двух зайцев: и получил свою порцию УВЧ, и «бумагу на двенадцать тысяч» вернул Звягину.
(- Ух, ты! Вот спасибо! А я уже и деньги послал. Теперь это разве память только… Но спасибо! Как ваш зуд? Помогло мое средство?
– Помогло, помогло! Громадное спасибо!
– Не за что! Я же сказал: эффект плацебо! – хитрый колобок, щурится. – Вы знаете, что такое эффект плацебо? Вы не знаете, что это такое. Эффект «пустышки». Когда помогает не таблетка, а разговоры о ней. Дается контрольная таблетка, совершенно безвредная, и сообщается – сильнодействующее средство! Больной верит, и ему помогает – он выздоравливает. Или наоборот. У шаманов разных, в Африке. Дают простой травяной отвар, а говорят: яд. Человек выпивает и в судорогах умирает. Эффект плацебо! Но не только. Глюконат кальция на самом деле устраняет зуд. Слабенько, но действует. Не так чтобы очень, но действует. У меня просто ничего другого не было… Вы извините, сегодня суббота, день короткий. Меня ждут…
Ждут, ждут. И волком смотрят из очереди на Гребнева, который отвлекает доктора.)
Вежливый и стеснительный Сэм не стал открывать дверь ключиком. Не стал листать-копаться. Он оставил записку.
Гребнев ранее было умозаключил: когда он обнаружил, что в квартире не так, тогда – была Валентина. Была и не сознается из упрямства. Но! Но Валентина ключ посеяла. А Сэм? Сэм – пожал. У нее из сумочки все высыпалось (и ключ? и ключ!), а вежливый и стеснительный Гриша Семиков кинулся помогать, подбирать. И было это как раз в тот день, когда Сэм предварительно пытался найти в Дале «аббревиатуру». Логично? Еще как! Прихватил ключик и попользовался – риск стоит «бумаги на двенадцать тысяч». А не нашел, ибо торопился.
Теперь же оставил записку, не рискнул влезть второй раз, памятуя, как Гребнев мучился с замком в его присутствии – вдруг вообще без привычки угораздит рабкора Семикова сломать либо ключ, либо замок? Тогда хозяин квартиры определенно заподозрит что-нибудь. И не видать Сэму «бумаги на двенадцать тысяч». Ему ее пока и так не видать, но есть надежда. Потому он еще попозже будет – вот и в записке так сказано…
Интересно, как Сэм представляет себе эту бумагу? Аккредитив на предъявителя? Выигрышная облигация?
Вряд ли. Сэм не может не понимать: имея то или другое, человек не станет спешно продавать за бесценок редкую по подбору библиотеку. За бесценок, за бесценок! Уж Сэм-то знает, что почем.
Тогда какова же эта бумага в представлении Сэма? Бумага Звягина, продавшего книги, но не продавшего марки. Марки! Верно, марки! Лопух Звягин запрятал особо ценную марку в книгу. А Сэм свалял дурака и сдал книгу Гребневу. Ну, так все еще поправимо! Гребнев-то не знает, что у него в подарочном Дале особо ценная марка!
Но толкать-то зачем было?! Костыли зачем было хитить?!
Когда Сэм, «как и обещал», пришел попозже и деликатно толкнул в звонок, Гребнев рявкнул не без ехидцы:
– Да, слышу! Заходи!
Дверь дрогнула. Недоуменное затишье и снова звонок: тюк! Конечно же Сэм! У него и звонок такой – вежливый и застенчивый, как он сам.
– Заходи, заходи! – с угрожающей приветливостью еще раз рявкнул Гребнев.
Дверь снова дрогнула и не открылась.
Не хочет Сэм открывать ее ключиком. А предпочитает Сэм вынудить Гребнева подняться на костыли, прокряхтеть через всю комнату в прихожую.
Да, так и есть. Сэм.
– Я же говорю, заходи!
Очень трудно общаться с человеком, который глядит на тебя честнейшими, удивленными глазами. Гребневу проще было яриться в заочной мысленной беседе с Сэмом. И даже через дверь было проще язвить: заходи – ключи у тебя есть, я знаю. А вот предстал Сэм как есть, глядит на Гребнева честнейшими, удивленными глазами. Гребнев знает, что Сэм врет, Сэм знает, что Гребнев знает. Но снова правила какие-то неписаные в права вступают. Как тогда, когда они оба прятали глаза друг от друга, сетуя на драконство безымянных чернокнижников. И кто кого большим болваном считает – недифференцируемо.
Любопытно – чаще говорят человеку, что он болван, нежели что он – обманщик. Практически никогда не говорят, что – обманщик. Даже если видят, что врет нахально. «Не врите!». Кто когда и от кого последний раз такое слышал: «Не врите!». Пусть не в свой адрес, пусть в адрес разнаипоследнего завравшегося: «Не врите!». Охо-хо, времечко!.. В лучшем случае такому разнаипоследнему скажут: «Болван!». А он не болван, отнюдь! Он просто врет. Но ведь если: «Вы – обманщик!», то для того, кто это произнес, – косвенное признание, что сам болван. Потому что кто-то признал его глупей себя и собирается надуть. И пусть этот кто-то много глупей тебя по твоему мнению, но все равно обидно.
А самое парадоксальное, что, столкнувшись с таким обманом, с честнейшими и удивленными глазами, сам отводишь глаза, впрямую ничего не говоришь. Всем своим видом даешь понять, что обман раскушен, но правила есть правила. Потому не кричишь обличающе: «Вы обманщик!», а все тем же своим видом даешь понять: ну, я жду, когда сам сознаешься. А этот сам никогда не сознается. И ты со своим многозначительным видом становишься много глупей того, кто много глупей тебя по твоему мнению. И сам это ощущаешь.
Гребнев ощутил это в полной мере, получив на свое многозначительное «Заходи!» честнейший и удивленный взгляд рабкора Григория Семикова. Ярись не ярись, а пришел к тебе рабкор, который ничем не обязан, а вот написал нечто, как и обещал. Спасибо ему большое за то, что потрудился, поработал над текстом. Мы славно поработали и славно отдохнем! Вот текст – уткнись и заткнись. Гребневу ничего не оставалось, как только это и сделать. Он так и сделал.
Сэм писал про итоговое собрание секции афористики при районном обществе книголюбов. Сэм писал, что за пять лет существования секция афористики накопила в своей коллекции более десяти тысяч высказываний афористического жанра. Что афористы секции собрали мудрость всех времен и народов, включая сюда и забытые афоризмы забытых авторов, поиск которых ведется в книгах русских, зарубежных и советских писателей, публицистов, общественных деятелей. Что секция не останавливается на достигнутом и сама пробует свои силы в сложном и увлекательном деле придумывания мудрых мыслей. Более того, готовит сейчас устный сборник избранных мыслей активистов секции, для которых афоризмы являются длительным и глубоким увлечением, которому они посвящают весь свой досуг.
(Досуга у активистов, судя по более чем десяти тысячам мудрых мыслей, было в изобилии.).
А со своим устным сборником они намереваются выступить перед полеводами и отдыхающими, предложив на их взыскательный вкус целый ряд собственных афористических высказываний, в частности, посвященных детской тематике. А примеры афористических высказываний приводились такие: «Шалости и проказы – кислород детства: не шалят лишь обездоленные дети». Или вот: «Мыльные пузыри детства учат не унывать, когда будут лопаться радужные мечты».
(Му-уд… дро!)
А заканчивалось пятистраничное рукописное откровение Сэма фразой в том смысле, что работа секции служит – внимание! – «предотвращению возникновения распространения заблуждения о том, что молчанье – золото».
М-мда, разнообразие вариантов предполагает их изобилие. Обратное утверждение, собственно говоря, тоже верно.
И почерк у Сэма аккуратный, буковка к буковке. Совсем другое дело теперь! Постарался.
Гребнев, мстя за честнейший и удивленный взгляд, задушевно и нудно рассказал Сэму, почему принесенное нечто не годится никуда. Гребнев от души попрыгал на авторском самолюбии – благо тут-то загипсованная нога не препятствовала.
Гребнев растерзал, замордовал, изничтожил рабкора Григория Семикова, который кивал и смиренно приговаривал после очередного оскорбления: «Да-да. Я понимаю».
А потом Гребнев понял, что сам болван. Понял, что не затрагивает нудная и задушевная нотация никаких нервных окончаний рабкора Григория Семикова, – он, рабкор Григорий Семиков, и не претендует на «золотое перо». И глядит он на Гребнева стеклянными глазами, в которых есть все – и понимание, и сокрушенность собственной несостоятельностью, и уважение к авторитетному мнению профессионала. Только глаза стеклянные. Как у чучела – то, что они выражают, никак не связано с тем, что чувствуют. А ничего не чувствуют.
– Короче, это – волапюк! – рассердился на себя, болвана, Гребнев. Слово это он выудил недавно, грызя гранит истмата. Сессия на носу. Он и грыз. Полез в словарь иностранных слов, чтобы проверить себя, верно ли он трактует слово «волюнтаризм». Проверил. Верно. Заодно выудил «волапюк». И включил в свой словарный запас – щегольнуть перед Пестуновым или Парина прижучить. Вот и для Сэма пригодилось:
– Это – волапюк!
– Да-да. Я понимаю.
– Не-ет. Ты не понимаешь. Ты мно-огого не понимаешь. Что такое «волапюк»?
Сэм виновато пожал плечами, сохраняя в глазах все то, что изображал до перемены гребневского тона. Гребнев переменил тон, но это дело Гребнева. Больные вообще очень раздражительны. Лучше им во всем поддакивать.
– Возьми словарь. Полистай.
Сэм пожал плечами уже более независимо. Капризы больного! Он, Сэм, и не обязан их выполнять, но чего не сделаешь ради одноногого инвалида.
Естественность поведения подразумевает прежде всего бесконтрольность. Когда же под контролем чужого взгляда надо вести себя естественно, то получается… неестественно.
Массу движений проделал Сэм – неуклюже-непринужденных, – пока вытаскивал словарь подарочного Даля с полки. Полистал:
– Здесь нету…
– И быть не может. В словаре Даля не может быть. Видишь ли, Гриша, волапюк – это такой язык, придуманный для международного общения. А изобрел его Иоганн Шлейер уже после того, как Даль составил свой словарь.
– Да-да. Понимаю.
– А еще «волапюк» означает – набор пустых, бессодержательных фраз. То, что ты накорябал и принес мне, как раз и означает волапюк.
– Да-да. Понимаю.
– А в словарь Даля тебе не мешает заглядывать почаще. Хотя там и нет слова «волапюк».
– Да-да. Понимаю.
– Там ты найдешь как раз более десяти тысяч…
– Да-да. Понимаю. – Вот теперь у Сэма прозвучало иначе. И в голосе, и в мимике (вернее – в отсутствии ее), и в глазах – честнейших – заварилась куча-мала мыслей и чувств. То ли испуг: ай, попался! То ли облегчение: наконец-то нашлось, пусть и не он сам ее нашел! То ли надежда: возьмут в долю, чтоб не продал?! То ли нетерпение: да что же там, что же?! Всего понемногу.
– … как раз более десяти тысяч, – повторил Гребнев,- которые твои афористы накопили за пять лет. Я имею в виду высказывания афористического жанра, как ты изящно выразился в своем волапюке.
Теперь они сразу поменялись ролями. И тот и другой поняли, о чем речь. Но теперь Гребнев в свою очередь сделал невинные стеклянные глаза чучела, хотя внутри нарастало предвкушение: сейчас! вот сейчас!
– Только ты не заглядывай в Даля у меня дома, ладно? Ты у себя дома заглядывай в Даля. Он у тебя и полней: словарный запас богаче. У тебя ведь третье издание? Ну вот, там есть слова, которые…
– Да-да. Я знаю!
– Не сомневаюсь. Теперь возьми стульчик. Ну, инвалид тебя просит, окажи такую маленькую услугу. Молодец! Теперрь… а то мне, инвалиду, никак… поставь-ка этот словарик на полку. Нет, на самую верхнюю. Чтобы никто не достал без стульчика. Молодец! А теперь!
… Да, Сэм не врал, когда сказал «Я знаю!» о более полном словарном запасе в издании Даля под редакцией Бодуэна де Куртене. Что и продемонстрировал, падая всем своим большим, рабочим, мускулистым, тренированным телом со стула – немногосложно, громко и в сердцах.
Совсем не хотелось Гребневу калечить рабкора. Потому Гребнев и отруководил про стульчик так, чтобы с этого стульчика, стоявшего именно так и именно там, человек рухнул именно на тахту, именно при этом не долбанувшись затылком об стенку. Так Гребнев прикинул возможную траекторию, еще раз прикинул. Понял, что Сэму некуда больше деваться, как именно на тахту, – и только тогда подсек костылем ножку стула.
Сэм как раз поставил словарь и собирался повернуться. Очень неустойчивая поза. Сродни той, в которой пребывал Гребнев посреди слякотной дороги. Вот тут-то Гребнев оперся спиной о стенку и подсек ножку стула костылем.
Сэм баттерфляем кинул руки вперед, еще раз кинул.
Р-рух-х!
Гребнев рассчитал правильно. И хоть подстраховал, но это оказалось излишним. Сэма подбросило на пружинной плоскости и вообще не ушибло. Только перепугало. Или разозлило. И то и другое, вероятно. Сэм задышал глубоко и громко. В полной тишине. После грохота и выкрика – тишина. Только очень слышно дышал Сэм. Задохнулся.
– Кислорода не хватает? – осведомился Гребнев. – В детстве своем обездоленном не надышался? Дыши, дыши. Проказник! Шалунишка! Афорист!
Сэм с выражением «ну, вы меня достали! ну, я долго терпел!» стал угрожающе подниматься с тахты, бугря мышцы, которым место в кинофильмах из ненашей жизни. Куда только делись вежливость и стеснительность! Да никуда не делись. Тут и были. Интересное сочетание – угрозы и стеснительной вежливости. «Очень неприятно, однако ничего другого не остается, как вас придушить, вы уж извините великодушно».
В кинофильмах из ненашей жизни такими как раз бывают восточные злодеи. Только у них улыбка шире, а глаза уже.
Гребнев подождал, пока Сэм возьмет его за воротник и рванет на себя. Тогда только Гребнев коротко ткнул пальцем под ребро – снизу вверх.
Сэм сказал: «Ак-к-к!», разжал кулак и упал обратно на тахту. Дыхание сломалось, из глубокого и злого стало мелким и беспомощным. «Ак-к! Ак-ак-ка-а…».
Заверещал телефон.
Гребнев в два костыльных маха достиг столика, сдернул трубку. Остро захотелось, чтобы это вдруг оказалась Валентина. Подсознательно. Победил огромного, сильного – и тут же звонит красивая женщина. Комплекс павлина – он в каждом мужчине, независимо от стати и сути. Подсознательно. Остро, захотелось, чтобы…
Мало ли что кому захочется! Звонил Парин:
– Вы уже написали?
– Что я вам должен написать?
– Мне лично – ничего. И оставьте этот тон!
– Какой тон?
– Вот этот вот. Где ваш материал?
– Какой материал?
– Запланированный. Двести строк. На четвертую полосу. Про юбилей старейшего жителя.
– Слушайте!!! То вам его не надо, то вам его срочно надо! Сегодня суббота! Какой материал, если редакция не работает? Вы что?!
– Редакция работает! И завтра будет работать! Это вы не работаете! Вам наплевать, что завтра выборы! Вы думаете, в такой день редакция будет прохлаждаться, как некоторые?! У нас внеплановый праздничный номер пойдет! Так вы бы хоть на четвертую полосу свои двести строк представили! Уж на первую-вторую-третью мы всем коллективом что-нибудь сообразим!
(Ах, Парин еще и саркастичен?! Ах, так?!).
– А почему двести?! Не двести, а всю полосу! Ну-ка, дайте редактора!
– Гребнев! Вы что, совсем ориентацию потеряли?! Редактор в области! Он же от нашего района выдвинут в область! За газету отвечаю я! И пока я отвечаю за газету…
– Я договорился с редактором на целую полосу!
– Она у вас готова?
– А она вам очень нужна? – съядовитил Гребнев.
– Мне лично – не нужна. Материал нужен газете. Вы в газете работаете, и вам запланировано в праздничный номер двести строк на четвертую полосу!
– Я не работаю, я сижу на больничном!
– Правильно! А потом вы еще на две недели попроситесь на сессию. А работать не собираетесь!
– Я сижу на боль-нич-ном! У меня нога в гип-се!
– Вы так сидите, что вас невозможно застать дома!
– Ну, конечно! Я, несмотря на болезнь, бегаю трусцой! Для здоровья! Ежедневно. Двадцать километров.
– Оставьте этот тон!
– Да какой-такой тон?!
– Вот этот вот! Я вас убедительно прошу в течение сегодняшнего дня представить материал на двести строк. После обеда я подошлю кого-нибудь. Вы поняли?! Я вас убедительно прошу, как ваш непосредственный начальник…
– Это вам кажется, что вы просите убедительно. Я бы не сказал, что вы меня убедили!
Треснул трубкой по рычагам. Хватит! Вернемся к Сэму.
Сэм, как заправский футбольный симулянт, «выпрашивал пенальти». Дыхание восстановилось, но он его утишил совсем и вообще лежал живописно: убит я, убит!
– Вставай, – сказал Гребнев. – Встань! Что, никак? Могу дать костыли. Которые ты принес вчера. Тебе они могут понадобиться, а у меня еще одни есть, свои. А это не мои. Мои были грязные и мокрые. Ты принес вчера чистые и сухие. Сам встанешь? Или помочь?
Сэм обошелся без помощи Гребнева. Еще поизображал, сколь тяжела нанесенная травма и сколь героически он преодолевает ее последствия. Но поднялся.
Гребнев попытался поймать его взгляд – честнейший и удивленный. Не поймал.
«Не врите!». Действительно, сказать это убежденному вруну в глаза – непросто. Но еще трудней приходится самому убежденному вруну, когда ему все же говорят: «Не врите!». И деваться вроде некуда, и выбора нет, как только не врать. А очень трудно.
Сэму было очень трудно…
Толкнул-то зачем?! Там на дороге, позавчера. Зачем?!
Не толкал он! То есть он не хотел. То есть так получилось. Случайно! Сэм увидел из окошка своего «Стимула», что Гребнев куда-то торопится, – и побежал Сэм вдогонку за Гребневым. Помочь хотел. И только…
Что – помочь?! Толкнул-то зачем?!
Не толкал он! Он помочь хотел! Видит: трудно Гребневу на костылях. И еще гроза. Вот и хотел помочь до дома добраться. А когда догнал, хотел по плечу легонько хлопнуть и не рассчитал. Получилось, что толкнул. Ну, честное слово! А Гребнев упал, а Сэм испугался – особенно когда Гребнев лежит и не встает. Сэм и… убежал. Ну, испугался, честное слово! Но не насовсем же убежал! Он же вернулся, вернулся же! Подождал немного, чтобы Гребнев на него не подумал, если сразу очнется, и вернулся. Чтобы помочь. Он же помог! Гребнев же помнит, ведь так!
Допустим. А костыли зачем красть было?
Не крал он. Он только толкнул… То есть не хотел толкнуть, но получилось так. А потом, когда вернулся, то увидел, что Гребнев уже стоит на одной ноге. И костылей уже нет. Наверное, кто-то, пока Сэма не было, а Гребнев еще в себя не пришел, захотел воспользоваться и…
«Не врите!».
Или в грязи утонули.
«Не врите!». Все бы так: и кто-то другой их спер, и в грязи утонули. Но Сэм принес их на следующий день – чистенькими, отмытыми, сухими.
Но ведь он сам принес. Ведь принес же! А мог бы и забросить куда подальше. Что бы тогда Гребнев без костылей делал? А Сэм их обратно принес. Мог ведь и не принести! (Благородным поступком, достойным самой глубокой, искренней и долгой признательности, было возвращение костылей, оказывается!). Мог ведь не принести. Но ведь подумал: как же Павел Михайлович без костылей ходить будет?
«Не врите!». Отнюдь не благородные побуждения двигали Сэмом. И на своем горбу Сэм выволок Гребнева потому, что лучше он, чем кто-то посторонний, которому Гребнев может сказать: «Какая-то зараза толкнула!». А вдруг этот посторонний скажет: «Этого так оставлять нельзя!». А вдруг потом завертится тако-ое! Вот и встретился Сэм совершенно случайно лицом к лицу с Гребневым на раскисшей дороге. На своем горбу до дома донес. А потом и костыли вернул. А то вдруг Гребнев заявит… что у него неизвестный грабитель костыли украл. И станут грабителя искать – завертится тако-ое! Лучше тишком, пока Гребнев не успел растрезвонить, вернуть ему подпорки. Инцидент будет исчерпан. Правильно Гребнев восстановил ход мыслей Сэма? Рабкор Семиков, вас спрашивают! Правильно?
– Н-нет…
– Не врите!
– Правильно.
– Так! Возвращаемся, что называется, к напечатанному. Все понимаю: не хотел толкать и сам перепугался, что так получилось. Понимаю. И даже верю. Но зачем костыли было красть? За-ачем? Вот зачем?! Ну? Вот просто интересно! Теперь-то уж чего молчать. Ну? Так зачем?
Сэм подумал…
– Ну-ну!
Сэм предположил, и ему, значит, показалось…
– Так-так!
И-и… такая мысль у Сэма возникла, что…
– Да-да?
Потом еще плоскогубцы лежали, когда Сэм к Павлу Михайловичу пришел, и Сэм на них обратил внимание и…
– Да разродись ты наконец!
И-и… Сэм решил, что оно внутри. Вот.
– Оно? Внутри?
– Да. Вот это, на многое тысяч которое. В костыле.
– Марка?! В костыле?!
Чего угодно ожидал Гребнев, но столь высокого полета фантазии от рабкора Григория Семикова не ожидал!
– Марка?! – Сэм даже почти обрадовался: значит, верна была его догадка!
– Марка! – с каменным лицом подтвердил Гребнев свою собственную догадку о догадке Сэма. – Но почему в костыле?
Сэм, такое впечатление, впервые сам уперся лбом в этот вопрос. На самом деле, почему? Н-ну-у, как – почему? Вот Сэм приходит к человеку, и Сэм знает – у человека в словаре лежит марка. Сэм смотрит в словарь, а марки нет. Человек же вертит в руках свеженький костыль, а рядом плоскогубцы. И царапина на костыле свежая («Видите, вот тут! Я тогда еще сразу обратил внимание…»). Очень удобный тайник – штырь, на который надевается деревянная ручка-упор, и намертво гайкой крепится. Между штырем и ручкой: можно в трубочку скатать, если большая, или так всунуть, если маленькая. И не повредится, и не подумает никто, и под рукой в буквальном смысле. А Сэм сразу подумал. Еще и потому, что человек был какой-то напряженный, не такой как всегда, будто скрывал что-то (Болван! Валентину «скрывал»!). Еще и потому, что человек помянул Звягина. Сэм сразу понял: человек знает Звягина, человек нашел марку в словаре, человек сказал при Сэме о марке – не о самой марке, а о нескольких тысячах, но Сэм-то понял… Короче, человек дал понять Сэму, что за словарь благодарит, а больше тут ловить нечего, и у человека со Звягиным свои дела, пусть Сэм не встревает. А марка – что ж марка? Пусть найдут, пусть докажут. Кто успел, тот и съел. Сэм не успел, а человек, то бишь Павел Михайлович, съел. И надежно ее спрятал. Так надежно, что она… она только в костыле и может быть.
Вот такой полет мысли. Всяк мерит на свой аршин.
Сэм примерил Гребнева на свой аршин, и вот что у него получилось. Сэму очень огорчительно, но как сказано его афористами: «мыльные пузыри детства учат не унывать, когда будут лопаться радужные мечты». И получалось у Сэма, что радужные мечты у них одного поля с Гребневым. Только у Сэма они пока лопнули, а Гребневу повезло больше.
Оскорбительней некуда! И теперь Гребнев с удовольствием ткнул бы рабкора повнушительней – так, чтобы тому и притворяться не пришлось. Обидно, когда о тебе думают, что ты такой же, когда думает такой, как Сэм. А что тут поделаешь? Возмущенно ахать: «Как ты мог подумать?!» Как же он, Сэм, еще-то мог подумать? Только так!
– Верю! – проникновенно сказал Гребнев. – Вот теперь окончательно верю.
Он, пока Сэм блуждал глазами и языком, все придумывал, как бы к Сэму применить армейскую формулу «заслужил – носи!», которая включала в его понимании не только медаль за всяческие заслуги. И придумал!
Эффект плацебо, значит? «Пустышка», значит? Марка, значит, ценой в двенадцать тысяч? Где-то есть, но не в костыле?
И когда Сэм с готовностью отреагировал честнейшими и удивленными глазами, перестав блуждать, Гребнев повторил:
– Теперь наконец верю. Значит, у тебя ее нет…
… Чистый квартблок «черного пенни»! Гребнев произносил с тем же удовольствием, смакованием, с каким вчера – Звягин:
– Чис-тый кварт-блок «чер-р-рно-го пен-н-ни!».
Гребнев отдает должное сообразительности рабкора Семикова. Только пусть Сэм учтет: Гребнев отказывает ему в порядочности! Но не отказывает в сообразительности.
Да, у Гребнева свои давние дела со Звягиным – совершенно не такие, какими их представляет рабкор Семиков, но это как раз совершенно не касается рабкора Семикова.
Да, фамилия Звягина не случайно была помянута в присутствии рабкора Семикова – это был легкий нажим на сознательность: чтобы Сэм сознался, пока не поздно. Все-таки двенадцать тысяч – это особо крупные размеры…
Да, знает-знает Гребнев, что не в чем было тогда сознаваться рабкору Семикову, пусть не перебивает! Но дело в том, что Звягин к тому времени уже позвонил Гребневу и попросил помочь: не знает ли журналист Гребнев такого мускулистого книголюба? Журналисты, они всех знают. А если и не знает, то всегда могут найти через газету. Тут такое дело – сунул весьма ценную марку в книжку, в один из томиков Даля вроде… или, может быть, в какую-то другую – с памятью совсем худо стало. Помнит только, что в книжку, в толстую. И если найти мускулистого книголюба, а он нашел марку…
Да, знает-знает Гребнев, что не нашел рабкор Семиков марки. Тогда не нашел. Гребнев ему. верит. Но теперь пусть рабкор Семиков ищет. И пусть найдет, ясно?! И пусть, как только найдет, сразу же принесет Гребневу или Звягину. Лучше Гребневу. Ясно?! Что за марка? Там даже не одна марка, а четыре вместе. Чис-тый кварт-блок «чер-р-рного пен-н-ни»!
Гребнев вдохновенно валял экспромтом, отдавая отчет самому себе, что не все концы у него сходятся с концами. Ну зачем опытному, судя по коллекции, филателисту засовывать марку – и еще какую! – в книгу?! Впрочем, такой вариант менее абсурден, чем впихивание той же марки в костыль, – ан рабкор Семиков принял же такую гипотезу.
И сейчас рабкор Семиков внимал – глядел все честней, все преданней. Будет сделано! Всенепременно! Исполнено в точности! Все-таки попался Сэму не махинатор рангом выше, а обыкновенный благородный болван. Надо же! Чистый квартблок – больше десяти тысяч! И делиться не надо! Надо только найти – полистать погонные метры книг в собственной квартире!
Этот? Этот будет, думал Гребнев. Рабкор Семиков будет листать книгу за книгой в поисках квартблока. Другое дело, что рабкор Семиков, найдя этот квартблок, ни за что не признается. «А откуда он знает, куда тот подевался? Он честно искал, все перерыл, как ему приказывал Павел Михайлович. Он два раза все честно перерыл. Пусть склеротик Звягин напряжется и вспомнит, в какую конкретно книгу он захоронил чистый квартблок «черного пенни».
Пусть найдут, пусть докажут. Пусть благородный болван Гребнев ждет-дожидается! «Верю! Вот теперь верю!». Пусть верит! Но когда Сэм найдет, то ни за что…
– Ну, смотри-и!
– Да-да. Я понимаю.
Они оба остались довольны друг другом. Сэм представлял себе, как он найдет, и никому ни за что… Гребнев представлял себе, как Сэм ни за что не найдет – как Сэм станет перелистывать каждую книгу, каждую из библиотеки на двенадцать тысяч рублей! Черт знает, сколько это погонных метров! Нет, не будет у рабкора Семикова теперь никакого досуга. А пролистав все, он примется по новой – марка не столь уж велика, вероятно, залистал, промахнулся. И снова. И опять. И еще. Пока не впадет в то самое состояние той самой редкой птицы, долетевшей до середины Днепра. Главное, надо будет постоянно держать рабкора Семикова в состоянии вины, позванивать, строжайше спрашивать: «Ну, как? нашел? смотри у меня! внимательней смотри!».
Это ему за все. И за тридцатку, нажитую на Дале. И за толчок в спину. И за рысканья в квартире. Тоже мне – вор устроился с комфортом. Кстати!
– Стой!
Сэм уже было откланялся – рвение через край.
Надо же за работу браться, за раскопки. А тут опять что-то. Что?
– Ключ! – потребовал Гребнев и постучал пальцем по журнальному столику: вот сюда чтобы положил и сейчас же.
– Какой ключ?
– Никакой. Все. Иди.
… Столь не преувеличенным было удивление Сэма. Столь естественна реакция… Пусть идет книжки листать. А у Гребнева опять все рассыпалось – не получается. Не брал Сэм ключа. Среагировал Сэм на вопрос естественно, и Гребнев понял – не получается.
Все бы было верно в схеме, которую набредил Гребнев, терзаемый зудом: Валентина выронила ключ, Сэм подобрал, а потом проник и, так сказать, «устроился с комфортом». Е-рун-да! Ключ, если его и выронила Валентина, имеет ли отношение к гребневской двери? Иметь-то имеет, но Сэму откуда об этом знать? Ведь они сами на два голоса убеждали рабкора Семикова в служебности отношений. Пусть они его не убедили… ну, пусть. Хотя сомнительно, что не убедили. Тем не менее это не повод, чтобы хватать первый же попавшийся, то есть выпавший из дамской сумочки ключ и однозначно решать: вот он! а вот я и проникну! Потолок полета фантазии тоже должен быть. Марка, скатанная в трубочку и спрятанная в костыль, и то реальней, правдоподобней.
Потому Гребнев и осекся. И сказал: «Все! Иди!». И Сэм, пожав мощными плечами, ушел: ключ какой-то…
Да-а, вовремя. А то стал бы Гребнев в разоблачительном пылу давать ответы на вопросы, которых Сэм и не задавал. Валентину бы «засыпал» и себя. Ну, себя – ладно. А вот Валентину – при ее, как выяснилось, замужнем положении…
Наверно, все же сама она и приходила. Не дождалась и устроила телефонную истерику. Иначе кто? Если не Сэм, не Валентина, то кто? Кто?
После обеда я подошлю кого-нибудь, пригрозил Парин. После обеда Парин подослал Бадигину.
– Я тебе скажу, Гребнев, ты легкомысленно относишься! Тебе лежать надо, а ты скачешь! Я тебе скажу, Гребнев, нельзя так легкомысленно относиться – у нас скандал назревает, номер по выборам с колес идет, а ты ни строчки. Парин сказал, что он тебя на твою сессию не отпустит, если ты… Ты что, действительно ни строчки?! Камаев из себя выходит. Парин из себя выходит – а ты ни строчки?! Что – редактор?! Он в области! А вообще головой кивает. Ты что, его не знаешь? Вот так кивает. Я тебе скажу, Гребнев, на твоем месте я бы села и написала, а ты… Ты что тут – на стенки прыгал? Лежи, я уберу. Чай будешь? Я чай поставлю. Я тебе торт принесла. Свежий! С крррэмммом!..
Торт на самом деле был с крррэмммом. Не с кремом, а с крррэмммом. Кондитеры на таких тортах план по валу выполняют. Увесистые, с кулак, желтые розы – эмблемы печали для желающих сбросить вес. Просевшие под собственной тяжестью, полуутонувшие цукаты, занесенные сахарной пылью. Розовая, с палец толщиной, вязь по диагонали: «Поздравляем!».
Есть с чем! Вас так же. Не будет Гребнев есть этот торт – с крррэмммом. Пусть Бадигина угощается.
– Ты что, Гребнев, нарочно издеваешься?! Я тебе скажу, Гребнев, ты нарочно издеваешься! Я тебе скажу, Гребнев, у меня нестандартная фигура, а ты издеваешься! Вот за эту ухмылку я тебя, Гребнев, не люблю. Ты бы, Гребнев, вместо того чтобы ухмыляться, подумал, что мне теперь Парину говорить! Он же меня теперь съест. Что ты опять ухмыляешься?! Ну, я просто не знаю!..
Бадигина сварила чай, Бадигина убрала комнату, Бадигина ушла – ей еще за Антохой, он один дома сидит, сегодня же суббота и садик закрыт, а у нас день рабочий, а он, пока один дома сидит, может квартиру взорвать. Потом ей с Антохой в поликлинику надо. Гребнев был сегодня в поликлинике? Гребнев не обратил внимание – к терапевту большая очередь? Не обратил? Ладно, если из редакции будут звонить, то она была у Гребнева и только что ушла, когда бы ни позвонили. А то Антоху в лагерь отправлять, справок – кучу. Когда их собирать?!
***
Почему Парину так нужны эти двести строк про мельника, Гребнев просчитал безошибочно. Именно потому, что Парину не нужны двести строк про мельника, и тем более полоса. Потому и условия «сказочные»: всю крупу переберешь, все клубки перемотаешь, а потом отправляйся себе на бал! да ради Бога! кто тебя держит?! езжай, конечно!
А не нужен Парину мельник потому, что мельник «хулиган». Потому что мельник покусился со своим дрыном ни больше ни меньше как на святая святых Парина, то бишь на планы блестящего хозяина «Кроны», кандидата в депутаты на завтрашнем подлинном празднике торжества народной демократии – на Долганова. Что называется – и к бабке не ходи!
Мельник еще в силах отмахать за милую душу двух конкретных теодолитчиков («Я вам покажу сувенир!»). Но мельник при всей своей могучести бессилен против печатного слова. А вот как намалюет Парин про дикорастущий сервис, про ошеломляющие перспективы, про «все для отдыхающих, все во имя отдыхающих». А уж Парин непременно намалюет… Так и хлынут отдыхающие поглядеть, как там и чего «у деда Трофима». Мельник один, отдыхающих много. Всех не отмахаешь. Да что там – много! Все! Раз в году все – отдыхающие. Не только обещанные иностранцы, но и отечественные. А также те отечественные, которым престижно отдыхать как раз там, где иностранцы, – пусть и в лесных гущах-пущах.
Так что идея понравится. Многим, И тем, кто, прочтя Парина, солидно скажет: «Солидная идея. А рыбка там водится? А солярий там есть? А восстановительный центр?.. Что вы говорите?! С каминным залом?!. Что же вы резину тянете?!»
Они не тянут резину. У них и проектная документация давно готова, и смета составлена, и шефы от крупнейшего в районе предприятия готовы сутками безвозмездно расширять санаторный комплекс вплоть до слияния его с турбазой «Крона». Уже достигнута договоренность. Нужно только официально решить и ответственно подписать – вот это и вот это. Да, и вот тут, пожалуйста… Так за чем же дело стало?!
Мельник? Какой-такой мельник? Ах, мельник! И что – мельник? Его никто не трогает. Сказали же ему: живи спокойно на своей мельнице, мели… Емеля. Ах, да, конечно, Трофим. Как же, как же, – Трофим. Думается нам, что и назвать надо так, чтобы ничем не обидеть: «У деда Трофима»… А вы говорите – Паланга! Вы про какие-то Золотые пески и Слынчев бряг! Вот оно – сермяжное, настоящее, уж и забытое. Средняя полоса, речка, кувшинки, колесо шумит, навевает. Хлеб прямо из печи, лес кругом… А грибы там есть? Вот оно, вот оно – на ус намотано! Крепко намотано! Намотаем на ус, запомним. И будущим летом ждите гостей. Управитесь к будущему лету!? Глядите, очень на вас рассчитываем.
Правильно рассчитывают! Долганову – да не управиться?! При его энергичности, деловой сметке и хватке?! Лишь бы «добро» было. Есть «добро»! И Парин туда же: как-никак, в некотором роде крестный отец. Он первый написал, осветил. И в восстановительном центре с каминным залом есть возможность попотеть в ой какой компании. Веником по ой какой спине прошустрить, лизнуть…
Слаб будет Трофим Васильевич против такой волны. Мельник – хозяин в своем лесу, на своей мельнице, у своей речки. Но какие же они станут «свои», когда разнопестрых людей станет вокруг до около, как в муравейнике. А муравейников не станет – люди отдыхать приехали, а тут ползает всякое, щекочет, нервирует и даже в перетянутые резинкой целлофановые мешки пробирается. Слаб будет мельник Трофим Васильевич Авксентьев.
Ах, слаб?! Да вы что! Он еще ого-го! Это у него временное недомогание. Знаем мы таких дедов, у них после ста лет второе дыхание открывается. А недомогание – временно. Отвар из трав, настой на стеблях, припарки – эти деды много знают такого из народной медицины! Можете за него не беспокоиться. А то – в санаторий? Рядом ведь! И палату можно устроить отдельную (за отдельную плату, конечно), и помощь квалифицированную, и зонд.
Да нужен ему зонд, как мельнику припарки! Как Гребневу трость пестуновская!
Гребнев забирался все выше в собственной накачке, озлясь – аж в горле засмыкало. «Ишь, диковину отыскали. Я вам покажу диковину!» – грозил мельник. «Игрушку задумали! Я вам покажу игрушку!» – грозил мельник. Никому и ничего он не покажет – не тот калибр. А вот Гребнев – да, покажет. И отнюдь не игрушку!.. Дед-то! (Осенило Гребнева). Дед- то затем и приходил! Защиты хотел. Так и не попросил защиты, но хотел. Ему, деду, это оружие несподручно – газета. А вот Гребнев…
А? Ведь непонятное происходит. Ведь сколько лет жил горазд просто: постучался кто – заходи, голодный – ешь, гадишь – уйди, не уходишь – выгоню. Теперь же говорят, что не гадят, а гадят. И выгнать – не выгнать. Еще кто кого. Непонятно. Не понимает такого мельник.
Зато Гребнев понимает. Еще как понимает! Если Гребнев сделает полосу, шестьсот строк – и всерьез, не былинно-этнографический речитатив, а так, чтобы стало ясно: нельзя трогать мельницу на Вырве, нельзя из истории лепить разнаикакой сувенир, нель-зя! – если Гребнев это осилит, и так оно все и выйдет в номере, то Парину сложней будет демонстрировать преимущества пряничного домика Долганова перед древней развалиной, хозяин которой, во-первых, хулиган, во-вторых, в военные годы у него… н-не все чисто…
Гребнев не обольщался. Если карусель завертится на более высоком витке, если вариантом Долганова увлекутся в области и дальше, то «вяк» в районной газете и будет «вяк». Но пока не завертелось, пока не завелось, надо говорить «а». И Парину уже не выговорить так, как он себя готовит к этому, не выговорить: «б»! А силу нынешнего переболтавшегося газетного слова хоть и можно скептически не переоценивать, но и недооценивать не стоит. Тем более! На фоне вертикально-горизонтального бормотания в газетах, на фоне шамкающего, маразмирующего слога, который ныне принят за норму, даже за образец, – если Гребнев напишет так, как может, то внимание привлечет. Ну, получит по кумполу за разухабистость и непонимание серьезности текущего момента – зато незамеченным не пройдет. Что и требуется.
… Пестунов был в редакции и очень кстати поднял трубку. Сдавленно обрадовался, что очень кстати Гребнев сам позвонил, а то у них тут такое! Парин делает скандал. Да он его именно делает. Гребнев в курсе, да? А Гребнев в курсе, почему Парин делает скандал? И что же Гребнев предлагает, раз уж он в курсе?
Гребнев предложил Пестунову сбацать замену. Гребнев предложил Пестунову сбацать хоть что-нибудь на двести строк – не может у Пестунова не быть ничего в загашнике. Пестунову же ничего не стоит (меньше язвительности в голосе! побольше пиетета и «умоляю!»), Пестунову раз плюнуть: сбацать матерьяльчик, да хоть про что!
Никак Гребнев по фазе сдвинулся! Пестунов как раз собирался «эвакуироваться из обстреливаемой зоны»! И поздно уже, типография взбунтуется, она и так на взводе, в субботу пришлось работать, Камаев с ножницами к горлу пристанет!
Типография потерпит, не впервой, бунтом больше, бунтом меньше! Может Пестунов сделать хоть что-то для друга. Для друга! Может или нет?!
Уговорил, речистый! Придумаем! Сейчас я только Парина успокою. А, вот и он…
Гребнев положил трубку, громко сказал: «Уф-ф-ф!!!».
Злость не ушла, но стала веселой – той, с которой хорошо работается. Та веселая злость, еще та!
Та, с которой Гребнев ходил по краю на монтаже, и не было нормального освещения, только глазастые фонари рубили ночь на ослепительные клинья (Сельянов отруководил: «Объект должен быть сдан хоть тридцать шестого декабря, но этого года!»).
Та, с которой Гребнев на учениях при полной выкладке пробежал, прошел, прополз маршрут, нешумно обезвредил-обездвижил четырех «противников», вышел на кэпэ (Сержант Бочкарев все допытывался: «Ты как его обнаружил? Нет, как ты мог его обнаружить?! Его же никто не мог обнаружить!»).
Та злость, при которой самая трудоемкая и, чего там, нудная работа шла в охотку. А работа Гребневу предстояла трудоемкая и нудная.
Расшифровка – у репортеров это списывание наговоренного текста с магнитофона на бумагу. Сейчас Гребнев ка-ак сядет! Ка-ак расшифрует! Ка-ак не будет он отсекать все лишнее по совету коллеги Пестунова, а все уложит в полосу. Все-все! Сейчас Гребнев заварит себе кошмарной крепости кофе и уж эту ночь проведет с толком. Никакой зуд ему не помешает, а то и поможет – не даст спать! На крайний случай – глюконат кальция! Эффект плацебо, да! Плацебо-цебо-бо-бо-бо! Веселая злость!
Он чуть не подпрыгивал на единственной ноге от нетерпения, выжидая шапку пены, прущую из джезвы. Вот она! Сдерг! А то, что въехал локтем в гирлянду никчемушных ложек-плошек-поварешек, – ерунда! Главное – кофе не сбежал. Кухонная утварь покачалась маятником, укоризненно. И нечего качаться! Не будь вы подарком Валентины, вас бы и не было!
(- Живешь, как не знаю кто! Вилка, ложка, табурет! Как в общаге какой-то!
– Зато однозначно. Нож упал – мужик придет. Ложка -…
– Что – ложка?
– Ты…
– У тебя одна ложка?
– Одна. Одн… Так и будем на кухне?
– Пойдем… Я сейчас только, на минутку… Да! А вилка – кто? Вилка-то – кто, а?
Потом принесла коробку – глаза блестят. Сюрприз! Так и называется «Сюрприз». Набор кухонный. И с увлечением:
– Это мелкая шумовка, это лопатка для блинов, это картофелемялка, это вилка транжирная, это… и не знаю что…
Так они и висели – никчемушными бирюльками.
– Ну, на кой они нужны?!
– Молчи, ты ничего не понимаешь. Это символ. И пригодится… Состаришься, я тебе пюре буду картофельное мять, когда зубов не останется, вот!
– Ста-ар я стал! Волосы седеют! Зубы выпадают!
– Перестань! Ну, перестань! Ну, не на кухне же…).
М-мда, Валентина…
Все-таки одна штуковина сорвалась, продребездела по плите и – на пол. Теперь сгибай свою несгибаемую, местами загипсованную фигуру в поисках. Загадочный предмет: то ли картофелемялка, то ли чегототамдавка – Гребнев так и не усвоил. Упала. Это кто же такой загадочный к Гребневу в гости торопится? Не нож. Не ложка. Черт знает кто и что!
Грянулась картофелемялка об пол и обернулась чудищем невиданным…
Кофе получился. Гребнев предвкушающе потер ладони. Торт с крррэмммом громоздился на столике, настырно «поздравлял», по-прежнему не вызывая аппетита. Ненормальная муха, которая не заснула на ночь, села на цукат и тоже предвкушающе «потерла ладони». Кыш. Теперь и подавно не будет есть Гребнев это… с крррэмммом. Пусть чудище невиданное съест. Или Парин! Придет Парин с грушами еще раз, а Гребнев ему – торт: кушайте, кушайте! Хоть Парин как раз и не придет. Парин теперь официально выразил свое неудовольствие и делает скандал. Еще, чего доброго, на самом деле вызов на сессию задробит. «Поздравляем!» Есть с чем!
Кофе действительно получился. Настоящий, без сахара. Необходимой кошмарной крепости. И можно, как ненормальная муха, не спать, а работать…
Работать отменно! Нога сама нашла оптимальное положение, не мешала. Зуд спрятался. Магнитофон никаких забастовок не объявлял. Клавиша «паузы» не западала, исправно отщелкивалась после каждой остановки. Наверное, мельник благотворно влиял на аппаратуру – незримо, но голосом присутствовал. И влиял.
Работалось отменно!
«Иной раз и рассердишься на нее. Когда вдруг закапризничает. Старая уже, характер бесов. Упрется – и колесом не пошевелит. А то жернов вертит, как юла, да напоказ этак. Стремно, а без толку, с зазором. Ну, накричу на нее… Потом, правда, миримся. Вот я ей все обещаю турбинку. Вместо наливного колеса поставлю. Обнова!..».
«… Он себе растет и живет. Много ли ему осталось? Старик совсем, макушка лысая, и жук изъел. А эти-то! Спилить, спилить! Пусть сначала хоть какой прутик в землю приживут, и чтобы тот гораздым деревом стал. А то: спилить! Я им спилю! Я им головы-то каждому спилю, вот откуда тараканы-то брызнут кучей!».
«… Герр Донат ихний все мне журнал какой-то разлинованный совал: заноси, мол, в него все до грамма. Непонятный какой-то журнал, сложный. Где уж нам, необразованным, в нем разобраться! Ну, раз уж надо, то, конечно, запишем чего ни есть в тот хитрый журнал. А для себя в книжечке черкнем. Так что даже не мешком, а подводой хлеб в лес шел…».
«… В плену-то. Жалкие какие-то. Вот глаза у них не волчьи уже, а собачьи какие-то, бродячие. Тоже люди. Горазд плохие. Но люди…
Потом, значит, незадача такая получилась – трех недель не прошло моей службы и… То я конвоировал, а то меня…».
«А паренек тот – что ж, паренек. У него своя правда была, понимать надо. Каждого понимать надо. Паренек-то совсем распашонок. Видимость одна, что взрослый. Какая у него правда? Время было…».
Гребнев поспешал за голосом, списывая механически, почти синхронно. Настроение сохранялось. Что-то уже складывалось. Увлекся. Не замечал, что кофе остыл. Что кофе кончился. Что торт с крррэмммом оплыл, сбился набок. Что за окном проснулось, зачирикало и засвиристело. Что уже светло. Что вот и солнце, а у него все лампа светит.
Еще одно подтверждение, что тяжелая работа требует полного на ней сосредоточения. Да, тяжелая! Даже если за собственным секретером, в собственной квартире. Один. Ночью. То есть уже утром.
– Здравствуйте! – звучно рокотнуло у Гребнева за спиной, прямо в затылок. – Днем с огнем? Преотлично!
Гребнев сильно вздрогнул.
***
– Хотите, я вам скажу, что вы обо мне думаете? – В Долганове не было фальши. Он располагал к себе – открытость и дружелюбие. И улыбка открытая и дружелюбная, ждущая ответа. Как если бы учились в одном классе, и связывало их многое: общие драки, общие побеги с контрольных, общие тайны о первых симпатиях. А теперь сто лет прошло, и Гребнев, чертяка, все забыл, вот даже Долганова забыл, а Долганов все помнит, и Гребков же сейчас вспомнит и после неуверенного «Как же, как же…» радостно заорет: «Да это ж ты-ы-ы!!!». И тот столь же радостно заорет в ответ: «Я-а-а!!!».
Гребнев видел хорошо пожилого человека, с которым никак не мог учиться в одном классе. Но человек этот явно много хорошего слышал и знал про Гребнева, а кроме того, был уверен, что Гребнев, в свою очередь, много хорошего слышал и знал про него. Что с того, что не виделись никогда? Зато сколько слышали! «Да это ж ты-ы-ы!!! Я a-a!!!». Взгляд был без обманки – распахнутый, не вскользь мимо, не в область живота уперевшийся, а навстречу – на встречу.
Гребнев встретил взгляд, поежился от такого напора непринужденности. Стало неудобно. За себя.
– Нет, вы хотите, я вам скажу, что вы обо мне думаете? Хотите?
– Хочу! – принудил себя Гребнев к встречной, ответной непринужденности.
– A-а! То-то! – обрадовался Долганов. – Вы думаете: не мытьем, так катаньем. Вы думаете: сейчас начнется обработка, раздача пряников, если уже кнутом не получилось. Посулы благ в обмен на молчание. А то у Долганова и проектная документация давно готова, и смета составлена, и шефы от предприятия рвутся на объекте отработать, и санаторный комплекс вот-вот сольется с «Кроной» – только мельник артачится. А некий журналист, считающий себя без страха и упрека, взял сторону мельника, еще чуть-чуть, и все испортит несвоевременной публикацией. Сейчас Долганов будет уламывать бесстрашного и безупречного журналиста!
– А что, не так? – грубовато ответил Гребнев, пряча за грубостью неловкость.
– Да! – шумно обрадовался Долганов, щелкнул пальцами, обезоруживающе захохотал. Смеялся честно, запрокинув голову, хлопая себя по бокам. Отзвучал. И неожиданно: – Вы завтракали? Я – нет. Не возражаете?
Гребнев не возражал, но ему стало вдвойне неловко: «хреновинки» унес Пестунов, бадигинский кус мяса он сам машинально уговорил в чесоточную ночь, кофе – пригоршня праха на дне банки, и на полджезвы не хватит. Пусто. Один компот от Валентины в холодильнике мерзнет. Торт еще оплывает.
– Преотлично! Вот и позавтракаем! – заключил Долганов. – И давайте без ложных… этих самых.
Гребневу стало неловко втройне, когда Долганов извлек из отличного «дипломата» с наборным замком отличную палку колбасы, крохотные баночки с отличным гусиным паштетом, креветками, икрой минтая.
– Ну, хлеб-то у вас есть?
Иных подобных Гребнев числил в пижонах. Даже в п-пиж-жонах. Седеющих висками, нестареющих, мужественнолицых, кварцевозагорелых, несущих на себе «импорт», который и дефицитом не назовешь – потому что дефицит это то, что очень трудно достать, но можно, а такой импорт достать невозможно.
Иные подобные для Гребнева состояли в п-пиж-жонах, плейбоях, х-хозяевах жизни: они подавали себя и знали себе цену, постоянно эту цену демонстрируя.
Долганов себя не подавал, он таким был. Мягкий костюм – мятый, «по идее» мятый, а не из-за долгого незнакомства с утюгом. Мягкие бескаблучные туфли – бесшумные, удобные, мнимо неказистые. Мягкая, скрадывающая сорочка – скрадывать-то нечего, ни брюха, ни складки – пресс! Шейный платок на небрежном узле. Цвета «песок и море». Все неказистое, но еще как казистое. Своеобразный мужской вариант «маленького черного платья». Но не раздражало. Не манекенщик, рядящийся под плейбоя, застывающий в неестественно-естественных позах с дурацким шейным платком перед камерой для журнала мод. И не псевдохозяин жизни, рядящийся под журнал мод. А нормальный парень, герой французского боевика – и все симпатии на его стороне. Он – такой. Одет так потому, что всегда так одет. И шейный платок ему нужен не из пижонских молодящихся соображений, а исключительно чтобы… ну, лоб промокнуть, когда всех победит.
На завтрак? Паштету, креветок, икры, кружок «майкопской» – знает Гребнев такое название или хотя бы помнит?
– Я же сказал, давайте без ложных… этих самых. Все-таки праздник! Выборы. А это по заказу-наряду – набор выдавали. Как кандидату в депутаты. Противненькая практика, я вам скажу, – меня выбирают и за это кормят редкостной колбасой. По логике не меня должны кормить дефицитом, а тех, кто выбирает. Вы уже голосовали сегодня? Ах, да… нога. Ничего, к вам на дом должны с урной прийти.. Вот давайте в знак молчаливого протеста против сложившейся порочной практики распределения благ позавтракаем чем исполком послал: избиратель и избираемый… У племянницы свадьба через месяц, у них там на Урале с продуктами не очень – весь набор им и пошлю. Но думаю, от нее не убудет, если мы сообразим маленький завтрак. Так есть у вас хлеб?
– У меня компот есть… – внезапным для себя виноватым голосом извинился Гребнев. – В холодильнике.
Долганов согласно кивнул, застыл, воздел палец, прислушиваясь. Нашел холодильник по урчанию, точно ткнул пальцем и шагнул по самому себе указанному направлению.
Гребнев хмыкнул: Долганов ему определенно нравился. Специфика работы газетчика: приходит совершенно незнакомый человек, а ты его знаешь как свои пять. Можно сказать, досье на него имеешь. Читал: трудное детство, нелегкая юность, энергичная, ответственная зрелость. В недобросовестности Парина не упрекнешь – присосался к Долганову и шаг за шагом «радостно и припо…».
А жаль, что нет никаких ГОСТов в журналистике! Потому что хоть и шаг за шагом, хоть и «досье» – но приходит к тебе человек, которого ты знаешь как свои пять по публикациям, и выясняется, что ты его ни на вот столько не знаешь. И представлял его совершенно иначе – даже по газетной фотографии. Правда, снимок после «цинка» при растре «двадцать четыре» такой, что хоть вешай на стенд «их разыскивает милиция» – век не разыщет, а разыщет, так скажет: «Да нет! Это совсем не тот!». Ладно, фотография: высокая печать, не офсет все же, техника несовершенна, не в силах передать. Но Парин-то! Что, тоже техника несовершенна? Тоже не в силах передать? «Радостно и припо…».
А приходит живой, конкретный человек. Приходит море обаяния и сама непринужденность. Приходит не парено-строчный, а нормальный парень Долганов и… Как он, кстати, приходит? Дверь-то… «Здравствуйте!» – в спину.
– Кстати, как вы зашли? – Мгновенно ожил в памяти «Вор устроился с комфортом». И приключения с ключом.
– Ногами! – Долганов пожал плечами, еще улыбнулся. – У вас же дверь приоткрыта, не захлопнута. Еще думаю: наш человек! Я сам такой – на турбазе не дом, а проходной двор, вечно двери нараспашку.
Гребнев чертыхнул Бадигину – последнюю, кто был у него, и спешно удравшую в поликлинику: уходя, проверьте – надежно ли вы заперли дверь! Хотя что с ним, с Гребневым, может случиться? Сэм, разве, подкрадется среди ночи и по голове сзади шарахнет, чтобы никому, кроме него, не достался «чис-тый» квартблок?! Бред и полная ерунда, да!
– Преотличный компот! – оценил Долганов, подкидывая банку на ладони. – Ананас дольками. Большая редкость. Если у вас найдутся специи и хоть одно яйцо, то я вас сейчас приятно удивлю. Да! Так есть хлеб или нет?
Долганов приятно удивил. Он нашел хлеб – сопревший, задохнувшийся в целлофане. Он обрезал его как надо, наготовил квадратиков каких надо, посвежил его в духовке как надо. Он нашел специи (Валентина натащила в свое время для гастроуюта). Он нашел как раз последнее яйцо. Проколдовал с компотной банкой, насыпал, перемешал, взбил, туда же – кубики льда. Он одним плавным круговым движением взрезал каждую баночку, лепестково – колбасу. Он уложился в какие-то считанные минуты – и Бадигиной было бы слабо. Да что – Бадигина! Она работала – умело, быстро, много. Но работала. А Долганов получал большое удовольствие, работая. И Гребнев получал удовольствие, наблюдая.
– Кофе попозже, так? – утверждающе спросил Долганов и в ответ на гребневское разведение руками («Как это все у вас, слов нет!») наставительно поднял палец: – Пищу должен готовить мужчина. Всегда. И сервировать. А женщин на пушечный выстрел к столу нельзя подпускать. У них вкуса нет… Начнем, Павел Михайлович? – он пододвинул столик вплотную к Гребневу, сам мягко присел на тахту, не поддернув брючин.
– Начнем, Святослав Борисович!
Рассмеялись во взаимосимпатии. «Вот и познакомились!» Обозначили рукопожатие легким хлопком ладонью о ладонь – через столик.
– Так! Только я все-таки дверь закрою. А то у вас так сквозит по ногам! – щелкнул замком, вернулся. – Так, Павел Михайлович! Вот теперь я вас буду охмурять.
«Охмурять» – это было сильно сказано. Но сделано было еще сильней. Долганов умел вести речь. Он говорил всерьез.
– Давайте разумно. Отрешимся от представления, что отдыхают на курортах только те, кто не особенно устает. И не только зарубежники. Отдыхают все. И те, кто по-настоящему устал. В «Кроне» как раз сейчас тюменцы, например. И группа из Иваново. Из Ленинграда «кировцы». Так что договоримся: «Крона» – место массового отдыха, а не высокоперсонального. Хотя конечно и персоны бывают. Что ж, персоны тоже имеют право на отдых. И помощи от таких персон впоследствии намного больше, чем хлопот с ними же в момент проживания…
Надо ли Гребневу объяснять про бытующий кавардак, когда можно, к примеру, украсть, но никак нельзя купить? Даже если нужное тебе гниет и ветшает без применения. Надо ли Гребневу объяснять про бытующую систему «от звонка до звонка» – позвонил персоне, персона позвонила суперперсоне и так далее? И можно уже не красть. И даже не покупать. А получить. Получить, между прочим, не для себя – для дела! А дело, между прочим, таково, что те же зарубежные гости клюнули на «Крону», и с каждым годом их все больше. Надо ли Гребневу объяснять про укоренившееся в самых разных сферах убеждение, что любой самый дремучий зарубежник имеет больше преимуществ, чем наш: нашего, к примеру, коленом вышибут из номера, чтобы туда заселить иностранца. Но не наоборот. А если все будет так, как сейчас, то через год-два не с кем станет в «Кроне» русским словом перемолвиться. Конечно, престижно накрепко завязаться с «Интуристом». Конечно, престижно, когда открываешь газету, а там… Кстати, не мог бы Гребнев повлиять на Парина? Долганову этот летописец во уже где!
Гребнев терял аргументы – и не только свои логически выстроенные, но и аргументы эмоций – ту накрутку, которая была в ночь перед расшифровкой текста. «Ах, вы так?! Вы так?!». Кто, собственно, «вы» и как это – «так», представлялось общо. Но Долганов в это общо попадал и проходил если не первым, то вторым, третьим номером.
И вот получается, что не попадает и под номером не проходит… И коктейль безумно вкусный. И колбаса. И паштет.
Долганов трунил. Небезобидно. Ощущение такое, что накипело у человека – нормального парня прижали со всех сторон, свои возможности он знает и отобьется, но, черт подери, как утомительно. И от дела отрывает! Он все равно, черт подери, будет улыбаться – хотя бы для того, чтобы видели: зубы есть. Он все равно, черт подери, будет делать свое дело – он расширит этот туристский комплекс до таких пределов, что в этих пределах не только и не столько зарубежные гости отдыхать будут, но и хозяева – отечественные, наши, те, кто по-настоящему устает! Он, черт подери, будет содрогаться от стыда перед самим собой за подползания и лизания, но, отстранившись, отдаст отчет: для дела. Для Дела! Которое движется со скрипом, застревает на каждом стыке – вы же знаете, как у нас все… через пень делается. И чтобы на метр прыгнуть, надо сантиметр проползти. Долганов в традициях отечественной застольной беседы бередил общие болячки, уже знакомо для Гребнева вздергивая палец вверх:
– Нам в глаза врут о дальнейшем улучшении, друг другу с трибуны твердят: халва, халва, халва! А мы только успевай отплевываться: горьковато…
Долганов не злобствовал, не занудствовал, а с иронией играл большое удивление: украсть можно, а купить нельзя, вот ведь, а?! нашего – коленом, а ненашего – с распростертыми объятиями, надо же?! выматываешься как вол, а пишут: радостно и припо… диву даешься!
– Душа сего клеветника
Смутила даже силы ада…
Других подробностей не надо:
Он журналист наверняка… – продекламировал Долганов, предварительно пощелкав пальцами, вспоминая. Вспомнил, продекламировал. – Каково?! Испанская анонимная эпиграмма, девятнадцатый век! А свежо!
Гребнев «остановил» лицо. Долганов сообразил, рассмеялся, приложил руку ко лбу;
– Па-авел Михайлович! О присутствующих не говорим, ну что вы! Но этот ваш летописец!.. Вы можете убрать от меня этого седого дурака? Вы можете как- нибудь повлиять на него в редакции? Он мне надоел, он же все время врет, хоть по мелочам, да соврет! И меня вечно в дурацкое положение ставит – радостно и приподнято! Нашел себе героя! Герой – бюджет с дырой! Мне подрядчики газету под нос суют: не прибедняйся, видишь, тут написано: размах и перспективы. Хихикают: «Документ!». И я же ему как обязан. Он так считает. Друзья-приятели. Он под это дело из нашего восстановительного центра не вылезает, хоть штопором его оттуда выдергивай. Буквально каждый вечер! У меня группа гимнасточек на летней спортбазе, им после тренировки туда не попасть: Парин парится. Я ему как-то сказал: эта финская баня называется восстановительный центр. Да вот как раз в понедельник и сказал! Он у вас иронию напрочь не воспринимает. Подмигивает: мы-то с вами знаем! Друзья-приятели! Присосался! Ты мне – я тебе. А он мне что? Он мне в вашей газете из нового зала столовой отравиловку делает! Вы прошлогодний мартовский номер помните? Ах, нет? А я вот надолго запомнил… Мы открыли второй зал – исключительно кавказской кухни. Я шеф-повара залучил из Баку. Пити, аджаб-сандал, джыз-быз, таба-кебаб. Назвали «Чинар». Вам не приходилось еще бывать? Зря. Рекомендую… Да, и вот открываю в марте газету, читаю: «Распахнул свои гостеприимные двери новый зал столовой на турбазе «Крона». Вдумчивый персонал кавказской кухни символично назвал его – «Анчар».
А-а, вот смешно-о! А ваш дурак невинно глазами хлопает: какая разница – «Чинар» или «Анчар», опечатка, никто не заметит, не опровержение ведь давать!
– Надо было! Надо было дать! – обрадовался Гребнев. А ведь действительно никто не заметил, даже Пестунов. – Нашли кого щадить! – Определенно ведро бальзама вылил Долганов на его душевные раны…
– Себя пощадил, Павел Михайлович, себя! Так оно проскочило, и мало кто заметил. А представляете – отдельной заметкой: «В прошлом номере замечена опечатка. Вместо «столовая «Анчар» следует читать «столовая Чинар». Приятного аппетита. Кушайте на здоровье!». Ну! A-а, вам смешно-о…
Гребневу было смешно. И хорошо. Долганов умел вести речь. Говорил о своих проблемах легко, не нудя (Войдите в мое положение! Ну, войди-ите! Пожалуйста!), а как бы приглашая разделить большое удивление. Балагуря, убеждая всех и себя: проблемы-то мы решим, но ведь смешно, право слово!..
– Я после этого «Анчара» за своим кавказским поваром месяц как привязанный ходил, уговаривал. Тот все порывался кровью смыть. «Такой абид! Такой абид!». Хоть не уехал обратно – и то благо. Где я еще одного шеф-повара достану?! С кадрами вообще та еще проблема. Я вон старшего инструктора год высматривал. Квалификация нужна, контактность, чувство юмора. Не каждого поставишь. Ставлю Волгина. И что бы вы думали? Ну, хотя бы предположите!
Гребнев чуял новую байку и с удовольствием ее ждал.
– Преотлично! С чувством юмора у Волгина даже перебор оказался. Вот представьте: прибывает группа, тридцать человек. Очень издалека. Ну, не видели они никогда утопленников!
– Кого-кого?!
– Что? Ну, «утопленников». Пакетики с чаем, которые в чашку окунают. На веревочке. Тот же Волгин их так окрестил – прижилось. Но мера должна быть? И вот вы представляете: у группы – завтрак. Ну, не сводила их раньше судьба с «утопленниками»! Спрашивают: «Что с ними делать?». Этот обормот инструктирует: «Вы их, – говорит, – засовываете в рот, чтобы веревочка свисала. Пальцами веревочку придерживаете, чтобы пакетик не проглотить, и запиваете кипятком!». Представляете? Вхожу в столовую – сидит группа в тридцать человек с веревочками из рта и, щуря глаза, хлещут кипяток!
Гребнев смеялся, очень живо представив картину. Глупость несусветная, но смешно.
– Так! – снова воздел палец Долганов. – По поводу чая. Сделаю-ка я нам кофе.
– Там почти не осталось, – извинился Гребнев. – Но можно наскрести. Банка сбоку. А джезва здесь.
Долганов подхватил джезву, взвесил ее – пустую, с гущей – на руке:
– Сколько же вы сюда кофе вбухали? Нерационально. Я вас сейчас приятно удивлю! – Сыпанул остатки в старую гущу, еще что-то сыпанул из пряностей, снова проколдовал на кухне у плиты, куда было дернулся Гребнев. – Сидите уж со своей ногой! – Комментировал свои действа: – Совсем убавляем газ. Теперь полный огонь. Чадит, так! Снова убавляем. Поползло! Теперь несколько капель холодной воды из-под крана. Готово!
А Гребнев был уверен, что кофе у него всегда получается отменный! Все познается в сравнении. Ни в какое сравнение кофе Долганова не шел. И крепко, и вкусно, и запашисто, и ведь почти из одного жмыха.
– Торт как раз… – попытался внести посильный вклад в общий стол Гребнев.
Они оба посмотрели на торт, переглянулись.
– Или его в морозилку положить?
– Его надо положить в бак для пищевых отходов, – наставительно произнес Долганов. – Если позволите… – Он одним плавным пассом прочертил дугу, подсунул под коробку ладонь, поднял над головой и торжественно вышел: – Я сейчас.
Дунуло по ногам. Вернее, по ноге. Гипс непродуваем для сквозняка. Долганов вышел на лестницу. У Гребнева юркнуло ощущение, он не успел его ухватить – потерялось. Долганов вернулся все с тем же тортом:
– У вас там переполнено. Ничего! Буду уходить, напомните. А пока пусть… украшает, – вернул коробку на место.
– Да не стоит, что вы, Святослав Борисович!
– Стоит! – назидательно показал палец Долганов. – Кондитерским изделиям срок хранения – двадцать четыре часа. А он у вас, судя по всему, уже такой долгожитель! Или вы его собираетесь хранить вечно?
– В памяти. Исключительно в памяти! – глубокомысленно сделал попытку пошутить Гребнев. И чтобы уже закрыть тему: – Хранить вечно, да!
– Не много есть того, что стоило бы хранить вечно. В памяти, – столь же глубокомысленно и неудачно пошутил Долганов. – Испорченный желудок гарантирую.
Да, тема себя исчерпала. Пришел спад. Молча пили кофе. Звякнула ложечка. Проявился ранее неслышный гуд – монотонный и непонятно откуда.
– Я все хочу спросить, Павел Михайлович. У вас магнитофон как обогреватель работает?
– Ах ты ж!.. – Гребнев заерзал, силясь встать. Так вот что за гул! «Паузу» нажал, а из сети не выключил!
– Я сделаю, сделаю! – опередил его Долганов, Встал, обогнул столик, щелкнул клавишей. – Работали?
Светский вопрос. Нет, обогревался!
– Вот давайте и вернемся к работе, – Долганов снова обнажился в улыбке – искренней и чуть смущенной. – Я вам не буду рассказывать о всех своих сложностях в связи с предстоящим строительством, реконструкцией, «косметикой». Вы сами работали на монтаже и можете себе представить, каково все это – охватить общим взором…
Странное дело, Долганов выкладывал практически те же аргументы, что и сам Гребнев ночь назад, когда в собственной накрутке черпал веселую злость: «Говорите, слияние турбазы и санаторного комплекса?! Говорите, все для блага отдыхающих?! Говорите, «де дуню не побеспокоим»?! Говорите, если что, то лучшие санаторные палаты к его услугам?!».
Долганов так и говорил. А странное дело потому, что Гребнев чувствовал, как переубеждается, переоценивает ценности. Очень неуютно себя чувствовал.
Хотя в самом деле – какие контраргументы? Эмоции? Ладно, не будем отбрасывать эмоции.
Санаторий – не просто для отдыха, но и для лечения. Сотни отдыхающих (не персон, не зарубежников) автоматически лишаются возможности… Дети! С предрасположенностью к сердечным, туберкулезным и так далее. Вывозить ежегодно на юг? Юг не безразмерный. Как, впрочем, и кошелек у родителей. А из-за капризов одного старика сотни тех же детей будут томиться в прожаренных городах, пыль глотать. Каникулы, называется! Вцепился в свою игрушку и не подпускает. Ему же объясняют: это не игрушка, она для дела нужна, для настоящего дела! А для старика – только забава. Наверное, единственная забава, которая у него есть. Но ведь забава! На старости лет. В самом деле, не относиться же всерьез к мельнице как к единственному и незаменимому производителю муки на район! В каждый населенный пункт хлеб фургонами привозят. На один такой фургон мельнице неделю молоть не перемолоть. Кто спорит – преотличная забава! Но такой забаве можно найти более рациональное применение, чем утешение в старости. Нет! Вцепился! А в качестве самого веского довода – первобытное «Зашибу!» Кстати, мельник не единственный, кто вцепился в мельницу. Долганов не будет посвящать Гребнева во все перепитии, но скажет: когда он докладывал в области о планах и перспективах, то кое-кому (без фамилий!) идея настолько понравилась, что появилось мнение (Гребнев знает, что такое: «Есть мнение»?) о создании этакого персонального уголка отдыха – для очень узкого круга на очень высоком уровне. Долганов чудеса изворотливости проявил, пока убеждал: для массового отдыха место идеальное, а вот для избранного круга – не вполне. И убедил! Хотя проще было согласиться, а уж дивидендов собрать с этого согласия и того проще. Не так ли? Вот такие эмоции…
Гребнев «валился». Долганов был точен и логически, и эмоционально. Гребнев согласно кивал. Все становилось с ног на голову. А в голове слабо пульсировало: «получается, что мельника я предаю».
Почему «предаю»? И что значит – «предаю»! Вроде Гребнев ему на верность не присягал. Друг мой единственный! Преданный! То есть в смысле верный – преданный мне, а не в смысле – преданный мной.
Мельник Гребневу «пришелся», а Парина Гребнев на дух не выносит. И если Парин поливает мельника сомнительными слухами, то Гребнев вдвойне – за мельника. Но Долганов тоже на дух не выносит Парина. И оперирует Долганов не сомнительными слухами, а вескими доводами и не менее вескими эмоциями – в свою пользу, в пользу дела. Дела!
Вот тебе и здрасьте. Выслушал одного – ты прав! Выслушал другого – и ты прав. Как так? А и я прав! Чувство, однако, противное. Противненькое.
Гребнев соглашался. Долганов его убедил.
– Я вас убедил?
– Нет! – шумно и неестественно обрадовался Гребнев, как давеча Долганов. Тоже щелкнул пальцами и попытался обезоруживающе захохотать. Вышло нарочито. Потому что не «нет», а «да». Хохот таким и вышел, когда его изображают: с хорошей дикцией, раздельно, по слогам: «Ха. Ха. Ха».
Ну, не пускало его сказать «да!». Специфика, опять же, газетной работы. Переворачивание с ног на голову всегда эффектно, этим можно любоваться, цокая языком. Но работа у Гребнева такая, что не раз, не два встречаешься именно с таким перевертышем, и не до любования.
Да тот же гребневский печальной памяти «Филипповый отчет»! Не то что один раз голову с ногами местами поменял, а колесом прошелся. И до сих пор, как бы его Парин ни поминал, Гребнев упирался: «Я прав! Или… нет».
Долганов молчал. Гребнев глядел виновато, но упрямо. Не могу и все тут! Не мо-гу!
Тут заорал телефон. Гребнев опять сильно вздрогнул. Заторопился с костылями, не удержал – один из них брякнулся, разбомбив чашку на столике, опрокинув джезву, выползла густая лужица. А костыль «прошелся колесом» и улегся вообще в самом дальнем углу. Гребнев упал обратно. Телефон орал.
– Я подниму! – сказал Долганов. Но не о костыле. Взял трубку, прижал к уху. Сосредоточенно сдвинул брови. Что-то выслушал. Ответил:
– Преотлично!
Еще подержал трубку, не дождался, опустил на рычаг.
– Это мне… – холодно объяснил Гребневу. – Скорее всего.
***
…– Вот, к примеру, колбаса! – сказал Долганов, сняв двумя пальцами с тарелки кружок депутатской «майкопской» и предлагая его вниманию Гребнева.
Гребнев был весь внимание.
Они оба стали весьма внимательны друг к другу, беседу вели аккуратно и предупредительно. Ни о чем. Taк могло бы показаться…
После «нет» Гребнева и нежданного звонка ничего не изменилось и изменилось все. Они говорили словами, но те не имели особого значения. Они сохранили дружелюбную интонацию, но интонация не имела особого значения. Никакой демонстрации. Аккуратно и предупредительно. Беседа. Но в этой беседе и Гребнев и Долганов, помимо произнесенных слов, «говорили в сторону». Частая ремарка в текстах пьес: «в сторону». «О, как я счастлив вас видеть! (В сторону): Чтоб ты провалился, мерзавец!».
Первым говорить в сторону стал Долганов. Гребнев полагал, что теперь гость уйдет. Во-первых, Гребнев ему отказал. Во-вторых, Гребнев его обидел, отказав. В-третьих, звонок. Долганов деловой человек: «Если что срочно, то найдете меня по этому телефону». У него дела и в воскресенье. А может, в связи с выборами – все-таки кандидат. Все-таки его избирают. Сомнений-то нет, что изберут, – все 99,97 процентов избирателей с чувством глубокого удовлетворения единодушно отдали свои голоса… и так далее. Но мало ли какие вопросы возникнут! Потому: найдете меня по этому телефону. Нашли.
Пора!
Но Долганов не ушел. Он, положив трубку, вернулся к столику, критически оглядел разгром, учиненный костылем. И Гребнев уже был готов упредить его бессмысленной, из одной только неловкости, репликой: «Да не убирайте вы сейчас. Я сам. Потом!». Но, оглядев разгром, Долганов остался к нему равнодушен, мягко присел обратно на тахту и поднял глаза на Гребнева – безмятежные-безмятежные.
– У кого в пятнадцать лет Друга истинного нет,
К двадцати – красоток томных,
К тридцати – долгов огромных,
Положенья – к сорока,
А к пятидесяти – денег,
Тот валяет дурака
И порядочный бездельник! – с удовольствием щелкнул пальцами. – Преотлично! Мануэль дель Паласио. Испанец. Девятнадцатый век.
– То есть? – потребовал Гребнев объяснений самым светским, заинтересованным тоном.
– То есть всему свое время. Как тому, что было, так и тому, что будет. Вековечная истина, не так ли?
Гребнев примерил вековечную истину, почувствовал резкую перемену климата. Почувствовал подкожную обиду на неслучайный стишок и то, что Долганов говорит «в сторону». И принял манеру собеседника:
– У вас что же, Святослав Борисович, много денег?
– У меня, Павел Михайлович, положение.
– А выглядите вы старше. На как раз чтобы: «денег».
– Я выгляжу на свои пятьдесят три. И денег мне хватает, чтобы находить в этом удовольствие. А что вы о деньгах? Нуждаетесь? Точно по графику Мануэля дель Паласио?
– Нет, я предпочитаю красоток томных, Святослав Борисович, извините.
– Не за что. Но выглядите вы старше. На «долгов огромных».
– Чего нет, того нет, извините. Выбиваюсь из графика. Тридцать есть – долгов нет. Как-то так сложилось, что никому и ничего не должен, извините.
– Это дело наживное. Знаете, Павел Михайлович, как это один испанский автор сказал… Вот дословно не помню сейчас. Вот память! Гаспар де ла Торре-и- Перальта. Автора помню, а строчки дословно – вылетели. Короче, там смысл такой, что долги множатся, как враги, враги множатся, как долги. И он пожелал бы свои врагам платить по его долгам.
– А вы, Святослав Борисович, случайно не активист нашего районного объединения афористов? Они копят мудрые мысли.
– Нет, Павел Михайлович, не активист. Мудрые мысли – не для многих, а для одного. Если он их не копит, а принимает как руководство к действию. Вот и испанцы…
– А вы, Святослав Борисович, на досуге специализируетесь в испанском?
– Досуга у меня не бывает, Павел Михайлович. Он весь уходит на организацию досуга других. А для этого приходится понемногу знать и понимать не только русский язык, но и финский в известных пределах, и английский, и немецкий. Испанцев, кстати, я вам читал на русском языке. Из книжки «Испанская классическая эпиграмма». Она у нас выпущена, на русском. Специализируюсь же я, Павел Михайлович, в немецком. Не увлекаетесь немецким? Могли бы попрактиковаться.
– Мне хватает своего словарного запаса, Святослав Борисович, извините.
– Зря-а! Рекомендую. Богатейший язык! Многозначный, вкусный. А по фразеологии частенько даже наш превосходит.
– Не может быть! – светски не поверил Гребнев.
– Да что я вам буду доказывать! – Долганов обвел взглядом столик…
– Вот, к примеру, колбаса! – сказал Долганов, сняв двумя пальцами с тарелки кружок депутатской «майкопской» и предлагая его вниманию Гребнева. – Die Wurst! Попробуйте вспомнить один-два устоявшихся фразеологических оборота. «Лучшая рыба – колбаса» – не в счет. Это не фразеологизм, а беспочвенное утверждение. Ну, попробуйте. У вас богатый словарный запас, вы говорите.
Гребнев попробовал, изо всех сил попробовал. Но в голове плавала одна «лучшая рыба», подпущенная Долгановым. Никак!
– Es ist alles Wurst! – начал Долганов, не дождавшись ответа. – Мне все равно, мне на все наплевать. Раз! Es ist Wurst wie Shale. Эквивалентно нашему «что в лоб, что по лбу». Улавливаете? Два!
Ich kann gewi Wurst machen aus Ihnen. Я, конечно, могу из вас сделать котлету. Три!
Долганов так и держал кружок колбасы двумя пальцами, резким жестом отсчитывая перед носом Гребнева, как рефери при нокдауне, скупо и фиксированно.
– So wird die Wurst nach der Speckseite geworfen. Нечто в том роде: пожертвовать малым ради большого. Отдать ценное, чтобы получить бесценное. Понимаете? Хорошо понимаете? Преотлично! Четыре! Wurst wider Wurst. Услуга за услугу. Пять! Es geht um die Wurst. Речь идет о важных вещах. То есть решается не пустяк. Шесть!
Долганов уставился в кружок, зажатый в пальцах. Перевел взгляд снова на Гребнева. Снова на кружок колбасы. С изрядным презрением сказал:
– Ein armes Wurstchen! – Закинул в рот. Прожевал, проглотил. Перевел: – Жалкий тип. Ничтожество… Семь!
Долганов говорил увлеченно, с напором. Судя по всему, в немецком он действительно специализировался и делал это здорово. Гребнев гораздо хуже специализировался в английском. Каждая сданная «тысяча» – как подвиг. Немецкий – тем более. Хотя в немецком языке Долганова звучали протяжные англизированные гласные. Наверно, диалект какой-нибудь. Гребнев все равно ничегошеньки не понимал, пока Долганов не переводил. Гребнев только и улавливал постоянно выпрыгивающее во фразах: «Wuirst. Wurst. Wurst». И еще кое-что улавливал: кроме как увлеченно и с напором, Долганов «говорил в сторону».
– Понимаете? Хорошо понимаете? – переспросил Долганов.
Гребнев понимал. Фразеологизмы фразеологизмами, но из них вот ведь что складывалось, если вдуматься в перевод:
Долганову в принципе на все наплевать… Что в лоб, что по лбу… И ему ничего не стоит сделать из Гребнева котлету, если тот будет упорствовать… А надо-то всего мелочь, пустяк – ерундой какой-то поступиться ради настоящего дела… И можно не сомневаться, в долгу перед Гребневым не останутся: услуга за услугу… И пусть он поймет наконец, речь идет о важных делах!.. А если не поймет, то преотлично! Реакция будет соответствующая…
– Катись колбаской по Малой Спасской! – с радостным нажимом провозгласил Гребнев. – Вспомнил, как видите! Очень удачный фразеологизм! Или, как вы говорите, преотличный. И очень к месту.
Это уже было не «в сторону», это уже было прямое приглашение выйти вон. Чего Гребнев не терпел, это когда ему пытаются угрожать. И еще раз – специфика газетной работы: никогда не спрашивать, чего, собственно, человеку нужно. Кивать головой, вставлять понимающие междометья, покорно принимать на себя любой самый бурный и самый неуправляемый речевой поток, а втайне тоскливо гадать: чего, собственно, человеку нужно, и когда, наконец, человек иссякнет или когда хоть что-то прояснится в этом потоке. Потому что скажешь человеку: «Вы чего хотите? Чего сказать-то хотите?». А он, человек, оскорбится, он в газету пришел поделиться самым дорогим, а его грубо и бестактно обрывают, совершенно не умеют с людьми бороться, то есть работать! Особенно в «районке». Тылы слабы, практически беззащитен. Кто там в тылу? Парин? А ты сегодня пишешь с голоса, завтра этот голос вызывают на ковер к районной персоне и говорят: «Что ж ты, батенька, такое наговорил? Коллектив подвел, даже очернил». Потом районная персона звонит в редакцию и говорит: «Что ж вы, батеньки, напечатали? Как вы могли?..» – «Нет, ничего такого наш голос не говорил. Как он мог такое сказать? Вот я ему трубочку передаю». И голос столь же бодро, сколь и в разговоре с корреспондентом, говорит: «Не говорил. Не было такого. Это ваш товарищ все напутал». А в тылу Парин, который добра желает и поминает укоризненно: «Ведь не в первый раз. Вы помните «Филипповый отчет»? Помните, как с ним было? И вот опять…». Не таскать же по грязям и весям с собой магнитофон. Стационар. Стационарище. И к переноске не приспособлен. Потому и не зафиксировать: говорил. Потому и не зафиксировать: не оскорблял корреспондент, не обрывал грубо и бестактно, а вежливо спросил, чего человек сказать-то хочет?
Отсюда и принцип: никогда не спрашивать. Пусть человек выговорится и сам проявится.
Но, не спрашивая, зачем пришел, Гребнев с полным правом и даже каким-то облегчением потребовал, чтобы ушел. Чтобы Долганов ушел! Чего бы Долганову ни было нужно от Гребнева, но вот угрожать не надо, не на-адо, совсем ни к чему!
Все! Поговорили. Благодарю за доставленное удовольствие, за вкусный завтрак. И ничего высидеть не удастся: на вопрос дан ответ, дорожка скатертью выстлана – надо поторапливаться, дела не терпят, по телефону вызванивают.
Но Долганов не ушел. Он как ни в чем не бывало невозмутимо воздел свой палец:
– Видите?! Ищущий да найдет. И тем не менее семеро моих против одного вашего, хоть и очень весомого! – Но развивать тему не стал. Очень бы проиграл, если бы продолжал резвиться со словом – уж слишком очевидно прозвучал наконец-то выуженный из глубин памяти колбасно-спасский фразеологизм. Пора подводить черту!
Но Долганов не ушел. Вдруг обхватил челюсть, слепо уставился в никуда, прислушиваясь к себе, скривился.
Гребнев не мог не оценить: молодец! Лучший вариант обрыва нити разговора – обнаружить у себя недомогание. Но не в обморок же хлопаться, не за сердце же хвататься нормальному парню, который «всех победит». Еще сочтут косвенным признаком поражения. Зуб – другое дело. Он и у нормального парня может схватить внезапно, а нормальный парень лишь скривится, еще и проявив железную волю: так схватило, хоть по потолку бегай, а он лишь скривился. Впрочем, таблетку не помешало бы. И пойдет неувядаемый разговор в стиле того, от которого Гребнев сбежал из очереди на УВЧ в коридор поликлиники.
И верно! Долганов коротко м-мыкнул, помассировал челюсть, просожалел:
– М-м, как не вовремя. Это все колбаса. Уже не по зубам. У вас не будет никакой таблетки?
Гребнев понимающе закивал, захлопал себя ладонями по груди. Нашел в нагрудном кармане рубашки звягинскую безымянную пробирку с глюконатом кальция, вытряхнул таблетку, сунул пробирку обратно.
– М-м… Вот спасибо! – Долганов заглотил. Не запивая. Снова вслушался в себя. – Баралгин? Седалгин?
– Лучше! – заверил Гребнев. – Опытная партия, по случаю перепало. Как-то либо Сальвадор, либо бельведер, – подбавил самоиронии: глотаем что ни попадя? – Но очень мощное средство. С эффектом плацебо.
Долганов соучастливо да-дакнул:
– Тоже маетесь? К слову, если надо, могу помочь. У меня есть хороший врач, преотличный стоматолог.
– Спасибо, у меня тоже есть.
Нет, не собирается Долганов уходить. Вот и на общую зубную боль переключил. Так можно сутки просидеть, пробеседовать. Что ему надо?! Надо-то чего?! Ясно ведь сказано: «нет». Ясно ведь сказано: «в направлении Малой Спасской». Сидит! Ну, достаточно. Поделикатничали!
– К слову, о стоматологе. Хорошо, вы напомнили! – жестом попросил телефон.
Долганов привстал, передал аппарат через столик, держа на отлете, чтобы не зацепить шнуром остатки сервировки, не вляпать в торт, и… снова уселся.
Гребнев сосредоточенно покопался в записной книжке, неразборчиво забормотал, вообще повернулся спиной к гостю, набрал номер Сэма (хоть кому позвонить, дабы занятость показать).
В трубке уныло-длинно гудело. Нет чернокнижника дома, пошел, вероятно, реализовывать свое право избирать.
Зато на отсутственных гудках можно через плечо пояснить засидевшемуся Долганову.
– Вы извините, всю ночь пришлось работать. Подустал. Еще надо кое-что уточнить… – Однозначней некуда, пусть и «в сторону». Материал для газеты? Да, готовлю. Будете проходить мимо, приходите. – Работа, работа! – напоказ посетовал Гребнев Долганову.
– Работайте, работайте! – напоказ уселся поуютней Долганов. – Кофе еще заварить?
Трубка, утомившись затяжными гудками, вдруг отозвалась:
– Слушаю! Слушаю! – пропыхтел Сэм.
– Это Гребнев, – деловито сказал Гребнев.
– Павел Михайлович, я как раз… – сразу зарапортовал Сэм. – Я со стремянки слезал долго. Я как раз сейчас этим занимаюсь. И со стремянки слезал. Пока ничего…
– Почему не на выборах? – тем же деловитым, суровым голосом задал Гребнев вполне идиотский вопрос.
– Я же со стремянки слезал! – зациклился Сэм. – Я же говорю, Павел Михайлович, как раз ищу. Пока ничего. Я неделю за свой счет взял. Ищу. В большом Дале тоже нет. И в Диккенсе тоже – он зелененький тоже, и я подумал… Но там тоже нет.
– Ищите! – сварливо откомандовал Гребнев. – Как следует ищите. Должен найтись. Я жду от вас результата. И я, и Николай Яковлевич. Ясно?!
– Я ищу. Ищу я. Я как раз со стремянки слез. Мериме тоже зелененький. Я сейчас – его. Я сначала все зелененькие… В красном Дале его точно не было, потому я подумал: наверно, это в зеленом. А теперь все зелененькие…
– Продолжайте! – дал отбой, развернулся к Долганову, изобразив «как? вы еще здесь?».
– Николай Яковлевич? – напоказ встрепенулся Долганов. – Звягин?! – полуутверждающе. – У нас много общих знакомых, Павел Михайлович! – опять теплая, неприкрытая улыбка. – Воистину, наш район слишком велик, чтобы тебя знали все, но достаточно мал, чтобы ты знал всех! Видите? – провел надоевшим Гребневу пальцем по верхним боковым зубам. – Мастер! Сорок лет без малого как вставил, и преотлично! А разве отличить от настоящих?
Зубы трудно было отличить. Улыбку тоже. На первых порах. На какой-то одной эмоции – любой, даже самой сильной, тем более сильной – долго не удерживаешься, устаешь, меняешь. И если человек часами без устали искренне улыбается и качает головой, то либо он на мотопеде без защитного шлема врезался в дерево и с тех пор всегда такой, либо… врет. Хорошо, качественно врет, но врет. Без зазрения.
«Не врите!».
А ведь располагал к себе. Открытость и дружелюбие. В Долганове не было фальши. «Хотите, я вам сразу скажу, что вы обо мне думаете?!». Была, была фальшь. Правда, на ином, почти недосягаемом уровне. И ведь Гребнев с таким уровнем уже один раз сталкивался…
***
Как раз тогда, когда он с бригадой все-таки подготовил объект к сдаче «тридцать шестого декабря, но этого года». И как раз тогда, когда они все в последний день обвалились вместе с… И Ерохин сломал ключицу, и его отвезли домой отлеживаться у елки. А на площадку прикатила очень важная машина, из которой степенно выбралась очень важная персона – чуть ли не из главстройчтототама, настолько важная, что аж целый Сельянов этаким пристегаем за его спиной выдерживал субординационную дистанцию. А персона ступила из машины в мешанину снега и глины, бесстрашно зачвакала в своих тонкокожих туфлях к выстроившейся гребневской бригаде.
Было уже одиннадцать, и всего час до Нового года. Они все-таки успели. Запарившись, но успели. А теперь стыли и дрогли – в спину колотил ветер, и прожектор наделял каждого острой, непроглядной тенью. Домой, к елке!
Персона шла к ним, раскинув руки и улыбаясь вот такой вот искренней, открытой, дружелюбной, восхищенной улыбкой. У Сельянова, чвакающего следом, так не получалось: мину-то он состроил, но то ли «ну, молодцы!», то ли «вот я вас!».
Персона подошла вплотную и, все так же улыбаясь и качая головой, неподдельно почти вышептывала:
– Нет слов! Просто нет слов! Молодцы! Мо-лод- цы! Мо! Лод! Цы! Поздравляю! По-здра-вля-ю! По! Здра! Вля! Ю!
И бригада ведь прониклась, нестройно засмущалась: чего там! понимаем, надо было! да мы бы еще не то!..
Персона, жмурясь от прибивающего к земле света, вгляделась поверх голов в, черт побери, завершенный объект, всплеснула раскинутыми для объятий руками, обнимать, правда, никого не стала, но снова зашептала от избытка чувств:
– Ребята! Вы даже не представляете, что вы!.. Нет слов! Успели! Сделали! С Новым вас, ребята! С годом!
Бригада вся как была извелась-переизвелась в ответном наплыве чувств.
– Желаю вам в Новом году новых… новых… самых… самых… – задохнулась персона.
– Конечно! А как же! Не сомневайтесь!
– Я не сомневаюсь! – строго сказала персона.
В вас, ребята, я не сомневаюсь. Я очень на вас всех рассчитываю! – И в ту самую улыбку добавилось деловой заинтересованности: – Может быть, у вас какие-нибудь просьбы? Может быть, проблемы, сложности?
– У нас тут Ерохин… – доверился Гребнев, ничего не требуя, просто делясь.
– Да-да? – еще добавилось заинтересованности в улыбку и в голос. – Что – Ерохин?
– Да ничего, в общем. Мы вот час назад обвалились вместе с… – Плевал Гребнев на гримасы Сельянова из-за спины! Но персона выразила лицом обеспокоенность, и Гребнев: – Вы не беспокойтесь, все обошлось! Только Ерохину не повезло, он ключицу сломал…
Гипноз какой-то! Просьбы, проблемы, сложности! Да они всей бригадой такого бы навыдавали – по первое число! И про штурм, и про перекрытия, и про «давай, давай, давай, давай!», и про спецавтобус, который должен среди ночи их по домам развозить, а его – где?! Каждый раз попуткам в колесики кланяешься! Но вот спрашивают с неподдельным участием: «Проблемы, просьбы, сложности?» – и: «Да ничего, в общем. Вы не беспокойтесь, все обошлось…».
– Только Ерохину не повезло, он ключицу сломал.
– Да-а-а?! – нахлынуло большое сочувствие в улыбку, схлынуло, омыв: снова искренняя, открытая, дружелюбная, восхищенная и… прощальная: – Ну, надеюсь, что он поправится!
Крепко, с чувством пожала персона каждому руку двумя своими, встряхнув, всматриваясь в глаза каждому. И зачвакала назад в машину. Уехали.
А Гребнев с бригадой так и остался стоять.
Восемь километров шлепали пешком до города – какие попутки за полчаса до Нового года?! Никаких…
Свернули за минуту до двенадцати в лесок, елочку окружили, схороводили, спели «Зимой и летом стройная, зеленая была!», срывая глотки…
Зато было что вспомнить: когда и где еще так Новый год встретишь! Убеждали потом друг друга:
– Всех же он не посадит в легковуху! В багажник, что ли?! Выбирать самых лучших, что ли?!
– Ну, ты скажешь!
– Все путем, парни! А зато какая елка, а?!
– А как Телешов в сугроб-то воткнулся?! О-охо-хо!
– Главное, воткнулся и орет: «Берлога!» А-аха-ха!
– Не орал я! Ничего я не орал!
– Орал, орал! А скажи, Теляш, перепугался? Ну, теперь-то хоть скажи!
– А то!
– О-охо-хо! А-аха-ха! У-уху-ху!
«Не врите!».
– У нас много общих знакомых, Павел Михайлович? – сказал Долганов.
– Много. Как зуб? – еще раз пригласил к выходу Гребнев.
– Успокоился. Преотлично. Вас не Звягин ли Николай Яковлевич таблетками снабдил?
– Он.
– Надо будет его навестить. Попросить поделиться. А что такое вы с ним ищете? – показал глазами на телефон. – Или для него? Не могу ли я быть чем-либо полезен?
– Как зуб? – повторил Гребнев.
– Успокоился, благодарю. Я уже сказал… – Он еще основательней расположился в кресле. – У меня есть большие возможности, вы даже представить себе не можете какие. Вы его кабинет видели? То есть, конечно же, видели! – и с законной за себя гордостью: – Это я! Ему. Нас с ним связывает да-авняя дружба! Целых сорок лет!
– Вы. Ему… «Не покупал, а только деньги заплатил», – глубокомысленно процитировал Гребнев звягинскую формулировку, подражая звягинской же хитроколобковой интонации.
– Преотлично! – палец снова уставился в потолок. – Нечто в этом роде я и предполагал. Должен отметить, глубоко роете, Павел Михайлович.
– Стараюсь. Ищущий да найдет, как вы метко заметили, Святослав Борисович.
– Не зарыва-айтесь, Павел Михайлович.
– Как зуб?
– Прошел. Совсем прошел. У меня вообще с зубами преотлично. А у вас?
– Мне от вас нечего скрывать, Святослав Борисович. Тоже преотлично!
– Вот как совпали! И мне от вас нечего скрывать, Павел Михайлович. А кому вы звонили, если не секрет? Тоже поисковик? Ваш коллега?
– Как ваш зуб, Святослав Борисович?
– Куда лучше. А говорите: вам нечего скрывать…
Они давно перестали говорить «в сторону». Диалог шел радостно и припо… Летящий, с комком невесомости внутри, предвкушающий, с педалированием имени-отчества, с церемонными расшаркиваниями.
Гребнев заловил – неясно что, под водой и не видать, но заловил. И теперь «мотал катушку спиннинга», готовился подсечь, лишь только высунется из воды. А пока «мотал катушку», напускал значительность на лицо и туману в реплики. Долганов сам вел его в этом тумане.
– Я спрашиваю исключительно для экономии вашего времени. Чтобы вы его зря не тратили на выяснение того, о чем я вам сам могу рассказать, объяснить. Вам не жалко своего времени? – сочувственно спросил Долганов.
– У меня его предостаточно! – не очень последовательно заявил Гребнев.
– Это у вас возрастное, это у вас пройдет. А вот мне, представьте, уже жалко времени.
– Это у вас тоже возрастное, – схамил Гребнев.
– Потому и предпочитаю его экономить! – выдержал укол Долганов. – Опыт так подсказывает. Так вот, я сэкономлю вам очень много времени, поделюсь опытом.
Опыт у Долганова был немалый. «Не покупал, а только деньги заплатил!». Нашел, сопляк, за что ухватиться!
Может ли районная поликлиника позволить себе роскошь – приобрести на складах «Медтехники» импортный зубной кабинет? Черта с два! Никаких безналичных фондов не хватит, даже если бы эта техника продавалась за рубли. А она – импорт. Значит, валютная аппаратура. Откуда у районной поликлиники валютный фонд? Ниоткуда. И никогда. А кто может? Ведь кто-то же может?
Может. Например, крупное предприятие, крупный институт, у которого есть договоры на поставку туда и оттуда. У которого есть непосредственный контакт с «Союзторгоборудованием». Известно Гребневу такое предприятие? Тут не очень подалеку? Преотлично! Так вот у такого предприятия в отличие от заштатной поликлиники валютный фонд есть. И предприятие может себе позволить хоть роботизированный карусельный станок, хоть роботизированный унитаз, хоть… зубной кабинет! Пожалуйста!
Нужен крупному предприятию зубной кабинет? Нужен! Не так чтобы очень, но если есть такая возможность, если предлагают: не нужен ли? Конечно, нужен!.. Это потом он, кабинет, будет тускнеть в пыли – когда привезут, распакуют, установят и начнут друг друга заверять: Нужен! Просто необходим! А зачем? Ну, вдруг для чего-нибудь понадобится.
И вот числится он на балансе предприятия и числится. И передать его с баланса на баланс той же поликлинике – отрасли мало сказать разные. Хотя поликлиника как раз нуждается, но не может. А предприятие как раз не нуждается, но может. Может, конечно, сделать широкий жест – списать. Но, списав по акту, аппаратуру нужно сдать на склад. Приемщики люди малоискушенные в тонкостях стоматологической аппаратуры. Можно оставить только одно название, рожки да ножки, сняв и отвинтив все мало-мальски… Но тогда нет гарантий, что кто-либо когда-либо не ухватит за хвост. Нет, не нужны предприятию пусть и гипотетические, но неприятности. Потому – пусть тускнеет. В лучшем случае есть возможность подарить. Подшефной организации.
Такой случай действительно лучший. Ибо шефствует предприятие над туристическим комплексом «Крона» – и поработать приезжают на общественных началах, и отдохнуть… Вероятно, Гребнев не раз читал об этом в газете, где и работает… Так вот, «Кроне» импортный зубной кабинет просто необходим – на досуге кто не искусится зубы в порядок привести. Да еще на импортной аппаратуре, да еще у хорошего стоматолога. И престиж «Кроны» еще выше. Выше уже и некуда!
Только с хорошим специалистом проблема! Он есть, но он не хочет в «Крону». Верно, Звягин Николай Яковлевич! Очень давняя дружба. В свое время, можно сказать, челюсть спас. Когда одна сволочь эту челюсть разворотила чуть не вдребезги. Четыре зуба. Да, вот эти, Долганов уже показывал.
Только вот проблема: Звягин Николай Яковлевич до поликлиники с трудом добирается, а до «Кроны» за десяток километров ему и подавно никак. А поселиться на турбазе – никак не соглашается на такое, продиктованное единственно добрыми к нему чувствами, предложение: турбаза, а не дом. В кабинет же зубной Звягин Николай Яковлевич влюбился по уши с первого взгляда. И нужно быть совсем извергом, чтобы сказать Звягину Николаю Яковлевичу: «Посмотрели? Влюбились? Работайте! Ах, не можете здесь? Жаль, жаль. Придется искать другого специалиста- стоматолога». Ведь руки на себя старик наложит, не иначе!
Тогда что? Подарить ему? И рад бы Долганов от широты и глубины добрых чувств. Но такого права нет – это раз. И в таком подарке с барского плеча есть нечто унижающее – это два. Щепетильность Звягина Николая Яковлевича известна Гребневу? Вот и Долганову она тоже известна.
Тогда что? Продать ему? Тоже исключено. Организация – частному лицу?! А деньги кому? От частного лица Звягина частному лицу Долганову? Тут не нужно быть семи пядей во лбу для понимания, что нужно быть полным идиотом, решившись на подобную махинацию. Итак, тупик?
Тогда что? Тогда Звягин Николай Яковлевич приглашается на турбазу «Крона» как специалист – для ревизии, для опробования поступившей импортной аппаратуры. Он, Звягин, всплескивает руками, осматривает, нажимает, включает, поглаживает и бормочет нечто неразборчиво восторженное. Тут-то Долганов ему объявляет: «Преотлично! Вот вы ее и сломали!». «Ух ты! – говорит Звягин. – И шутки же у вас!». «Никакие не шутки! – втолковывает Долганов. – Сломали! Необратимо! Сейчас мы с тварищами и акт составим!».
Акт такой: «В результате небрежного обращения приглашенного специалиста Звягина Николая Яковлевича с аппаратурой, представляющей собой…». И так далее. Акт вводится в приказ директора турбазы, суть Долганова: «Виновным признать т. Звягина Николая Яковлевича и взыскать с него сумму в покрытие убытка – 12000 (двенадцать тысяч) рублей, которую он обязан перевести на банковский счет турбазы в срок до…».
После всего этого приглашенный специалист может увозить «порушенный» зубной кабинет хоть себе на дом. Внеся деньги. Списать ничего не стоит. То, что досталось по линии шефской помощи, и на балансе-то у турбазы не числится.
Когда Долганов втолковал все это Звягину, тот («Ух ты!») чуть не до потолка запрыгал, хоть и трудно такое представить.
И с щепетильностью – порядок! Обман? Кого и в чем? Государства? Государство только выиграет… собственно, уже выиграло… от того, что импортная аппаратура, обретенная на валюту, не бездействует. Собственно, все выиграли! Предприятие: одарив подшефных и своеобразно укрепив шефские связи. Турбаза: ведь не в карман себе положил директор тысячи рублей, а поступили они на банковский счет «Кроны» и очень пригодятся при грядущем расширении и слиянии. Звягин: есть у него теперь, есть! А про пациентов Звягина и говорить не приходится!
«Не покупал, а только деньги заплатил!». И Гребнев еще роет, Гребнев еще кому-то звонит, Гребнев еще требует: ищите, ищите!.. Гребневу еще семь лет бревном плыть до таких выверенных, изящных комбинаций! И таких комбинаций у Долганова – в дюжине двенадцать. Сказано же было в неоднократных публикациях: умелый хозяйственник. А умелый хозяйственник ни на шаг не отступит от закона и все равно его обойдет. Имеет место такое явление.
– Имеет место, но не имеет на это права, – сказал Гребнев, чтобы хоть что-то сказать. Долганов был безупречен, безукоризненно логичен.
– И право имеет, – увещевающе сказал Долганов. – И больше права имеет тот, кто имеет место. То есть вы можете конечно все, что я вам сейчас изложил, перевести на бумагу: приправить всяческими ядовитостями и пропихнуть в вашей газете. Кончится, предполагаю, однозначно. Моя репутация умелого хозяйственника вырастет еще больше, и единственно, чего вы добьетесь, – у Звягина могут отнять кабинет. Этим вы окажете большую услугу ему и неисчислимой группе его потенциальных пациентов, у которых с зубами не так благополучно, как у нас с вами… – и снова улыбнулся: широко, снисходительно и оскорбляюще, уничтожающе.
Долганов вообще весь монолог, всю арию о зубном кабинете держал на оскорбляющей ноте. Оскорбляюще-снисходительной, оскорбляюще-увлекательной, напевной: «В некотором районном центре, в некотором лесном массиве жили-были…».
Не суйся, сопляк! Много времени сбережешь и себе, и умелому хозяйственнику. При однозначном результате.
«Сопляк» Долганов не произносил. Он его явственно, напоказ подразумевал. И еще показывал зубы – уже в другой, странноватой ухмылке:
– Вы только не беспокойтесь за меня, Павел Михайлович. Я чист. Я, прежде чем сделать что-то, не один раз проконсультируюсь. У меня – хороший юрист… – Поднял палец, держа паузу. – А у вас?..
Захлебнулся звонок. Шарахнул по ушам внезапным взрывом и захлебнулся. И снова взорвался. Кто-то остервенело жал кнопку за дверью – попадая, промахиваясь. Неужто в самом деле с избирательной урной на дом заявились? И не терпится! В дверь после звонков еще и заколотили – так же беспорядочно.
Долганов, игнорируя потуги Гребнева встать, по- хозяйски шагнул в коридор, открыл.
Проползла долгая секунда. То есть она просрочила, промелькнула. Но вобрала многое. Как тот самый легендарный последний миг, когда перед глазами Гребнева прошли все и всяческие передачи из цикла «Здоровье», – при полете с мельницы. Долгая секунда!
В эту секунду Гребнев осознал ощущение, юркнувшее у него тогда – когда Долганов ходил выбрасывать торт, когда Долганов вернулся, когда Долганов прикрыл дверь. И еще раньше – когда Долганов только возник за спиной: «Здравствуйте! Днем с огнем? Преотлично!».
Осознал: «У вас же дверь была приоткрыта, не захлопнута». Осознал: не была дверь приоткрыта! Сквозняк по ногам. Не было сквозняка ночью, пока Гребнев сидел над расшифровкой текста. Ногу обдало ветерком за какие-то мгновения до громкого приветствия в спину. И снова обдало коротким сквознячком, когда Долганов выходил-заходил, открывал-закрывал дверь. Осознал: Бадигина ни при чем, Бадигина нормально захлопнула дверь. Осознал: Долганов открыл дверь ключом. Осознал, чьим ключом. И звонок телефонный осознал, долгановское «Это мне… Скорее всего» тоже осознал.
«Дурачок! Я замужем давно!.. Вот если ему за пятьдесят, то другое дело. Он созрел. Уже чего-то достиг, и видно – чего… А я ключ посеяла!.. Алле! Ну, как ты там?!». И вместо знакомого «Да что мне сделается?!». услышать не менее знакомое «Преотлично!». Как там Долганов сказал? «Воистину, наш район слишком велик, чтобы тебя знали все, но достаточно мал, чтобы ты знал всех».
«У меня – хороший юрист… А у вас?».
Муж всегда последним узнает о любовнике. Оказывается, возможна и обратная ситуация…
Такая долгая секунда.
Никакие это не активисты с избирательной урной…
Валентину вихрем внесло в комнату. Остановилась, как наткнулась. Глаза слепые: смотрят – не видят. Не с сумасшедшинкой, а с сумасшедшищем. Горлом сиплый свист. Дрожь, как на вибростенде. «Уб-бить готова!». Только вот кого? Кого в первую очередь? И за что? Это как раз ей неважно!
Долганов, открыв, за дверью и встал, пропустив Валентину вперед, в комнату. И теперь появился у нее за спиной. Не снимая странноватой улыбки, пропел на мотив «Се си бон»:
– О-о де труа! Только ты, он и я-я-а!
Валентина взвизгнула, резко обернулась – взгляд все тот же, бессмысленный.
Долганов жестом психиатра показал ей палец, поводил им из стороны в сторону и тоном психиатра размеренно заговорил, игнорируя Гребнева:
– Вас зовут Артюх Валентина Александровна. Сейчас 1982 год. Вы работаете юрисконультом. Летом дни длиннее, а ночи короче. – И жест и тон отдавали шутовством. – Вы находитесь в квартире Гребнева Павла Михайловича, корреспондента. Гребнев Павел Михайлович сидит на тахте. Он жив. С вами разговаривает Долганов Святослав Борисович. Ваш муж. Все мы находимся в идиотской ситуации. За что спасибо. И себе спасибо. И Гребневу Павлу Михаиловичу спасибо. И тебе, психопатка, истеричка, дура, набитая высшим образованием, спасибо… – Последнее «спасибо» Долганов произнес все тем же ласковым, размеренным голосом.
Гребнев пребывал в оторопи. Как окунули в прорубь. Осознать-то он осознал в долгую секунду, но нужно какое-то время, чтобы привыкнуть.
Валентина цапнула издевательский палец навостренными ногтями – Долганов ловко отдернул руку, спрятал за спину:
– Преотлично! Совсем иное дело. И реакция в норме!
Валентина снова обернулась к Гребневу, в комнату. Выстрелила глазами по столику, разбитой посуде, малоприятной кофейной луже, валяющемуся костылю: как после хорошей драки. И с размаху, с разворота вцепилась Долганову в горло.
Он был готов – отшатнулся. Рубашка цвета «море» с треском расцарапалась.
– Что ты с ним сделал! Что! Ты! Сделал! – Она все пыталась достать если не до горла, то хоть до лица.
Долганов умело отмахивался, паясничал:
– Ой, щекотно! Ой, какая была рубашечка! Подарок жены! Ой, какой темперамент!
Безобразно! Безобразная сцена.
– Смир-р-рна-а! – проревел Гребнев, чтоб проняло.
Но и проверенный неоднократно сержантский рык не подействовал. Валентина теперь уже оглохла от ярости. Долганов было дернулся, но тут же определился и с видимым удовольствием продолжал держать оборону. Бессильная ненависть Валентины его забавляла, а уж гребневское бессильное «Смир-р-рна-а!» тем более. И на двух-то костылях не особенно разгуляешься, а на одном – и думать нечего! А второй костыль валяется так, что не дотянуться. Ползком разве? Вот Долганов и посмотрит на ползающего Гребнева – при Валентине. То-то, Павел Михайлович! Не поползете!..
– Хватит! Я устал. Щекотно! – сквозь ту же странноватую ухмылку выговорил Долганов.
Но Валентина набрасывалась истово и неукротимо, норовя теперь еще и коленом в пах.
– Преотлично! – заключил Долганов. Показал влево, ушел вправо. И четко выдвинул кулак под дых.
Валентина опала мягкой куклой. Без стука, с шелестом.
– Я же сказал щекотно! – Долганов еще ерничал, хотя не мог не понять: перебор!
У Гребнева зазвенело в ушах. И он метнул костыль…
***
Сытника мотало из стороны в сторону – стелькой. Он и был в стельку, мало что соображал. Он чуял. Чуял ужас за спиной и тщился от него сбежать. Спотыкался, пробегал на четвереньках, обезьяньи перебирая руками, падал. Скреб ногами по щебенке, взрыдывая на истерике. Поднимался, бежал. Бежал от твердых и неторопливых шагов.
Сытник бросался в проулки, перекарабкивался через разбитые стены, обжигался. Шаги не отдалялись и не приближались, сохраняли дистанцию в десяток метров.
В воздухе порхали клочья сажи. Стлался тяжелый дым. Оконные стекла лопались взрывчато, упруго. Была глубокая ночь, но света хватало. Город пуст. Ушли. Ушел немец.
Сытника опять мотнуло, он въехал лицом в стеклянное крошево. Снова завозил ногами – стекло запищало, захрустело, сминаемое подметками. Сытник встал, укрепился на ногах, панически боясь обернуться – шагов за спиной не было, но он там, за спиной! он там!
Сытник все же оглянулся. Выстрел ударил громко, одиноко – стекло фонтанчиком разбрызгалось у каблуков. Сытник упал, накрыл голову руками, поджал колени к подбородку. Заскулил. Безнадежно, по-звериному.
– Вставай! Вставай, гнида!
Сытник не встал. Он, извиваясь, червячьи протаскивал себя подальше, подальше…
Шаги снова зазвучали, стоило Сытнику сдвинуться с места. Шаги не догоняли, но гнали, гнали – загоняли Сытника. Его вытошнило от ужаса и вчерашней дозы.
Ушел немец! Сытник не слышал – валялся невменяемым сивушным кулем. Сквозь сон пробивалось: тарахтенье, лязг, лай, взрывы, стрельба. Но очнуться не мог. Очнулся только тогда, когда стало тихо. Потрескивало. Уютно потрескивало – костром на заимке. Сытник зашевелился, усовывая голову под телогрейку – от света. Уютно, тепло… Дымно! Он хлебнул гари и подскочил. Вокруг горело, щелкало, оседало с тихим шуршанием. Ушли! Бросили!.. Сытник брел по пустой, разбитой улице. Очумело пялился на рваный огонь – в крови бродила не перегоревшая за ночь сивуха.
Тень прыгнула из проулка и встала перед ним. Сытник еще ничего не понял. Всмотрелся. Узнал и блаженно заорал:
– A-а! Попался, шныреныш! – нелепо, некоординированно захватал руками в поисках оставленного у матраса винтаря. – Сейчас я т-тебя! Я т-тебя, шныреныш!..
Тень не двигалась. Блеснули зубы в отсвете огня. Улыбка была чуть – губами, не глазами. Глаза смотрели льдисто, с любопытством: ну-ну? Автомат дал очередь – в упор, в Сытника. Не в Сытника – поверх головы.
Тогда Сытник айкнул, присел, рванулся.
Он убегал – от шныреныша. Уже не от шныреныша, не от пацана, который три года назад попортил Сытнику физиономию. Шныреныш раздался, вытянулся, а сейчас и вовсе занимал все пространство за спиной Сытника. Ничего не было позади – только шныреныш, только этот гонящий ужас. Шаги за спиной. Шаги, строго выдерживающие дистанцию. И насмешливое любопытство в глазах, когда Сытник останавливался в изнеможении. Глотку шпарило судорожными глотками воздуха.
– Не стреляй! Не стреля-ай!
Где-то перекликались, топали, плескали воду, гасили.
«Это они, наши!» – колотилось в Сытнике.
«Не наши» – колотилось в Сытнике.
Для Сытникова они – не наши. Он бежал от этого перекликания, этого топота, этого плеска. Оглядывался – сзади все то же насмешливое любопытство, изымающие душу шаги. Страх!
– Ы-ых-ых! Ых-х! – Сытник чуял: конец! Загнал, шныреныш!
Был тупик. Сытник вильнул в развалины дома. Шаги – следом. Сытника волокло по длинному коридору – Дом был вскрыт миной, с вывалившимися внутренностями. Опрокинутый буфет, втоптанные тряпки, скрученная винтом кровать с тяжелыми шарами на спинках.
Один шар срубило ударной волной – он попал под ногу Сытника, лежал напоказ, как последний шанс. Сытник, подавшись вперед, схватил шар и бросил руку назад, за спину, не оглядываясь. Зазвенело!
Шар угодил в раму с портретом, который непонятно как сохранился на стене. Шныреныш слегка отклонился – шар разбил портрет, слабо отскочил, ткнулся об пол.
Все! Стена. Обои крупного рисунка: коричневое с золотом, виноградные грозди. Сытник силился подняться по стенке, выдирая ногтями полосы обоев. Поднялся, повернулся – та же дистанция, насмешливое любопытство, льдистость. Ствол автомата стал подниматься – медленно, слишком медленно.
– Стреляй! Стреляй!
Грузно, осыпая обломки, куски штукатурки, кто-то заторопился на крик. Из коридора в дверь, отрезанную для Сытника, ввалился второй – в копоти, с дорожками пота на щекастом, нездорово полном лице:
– Святослав! Не смей!.. Не смей, я приказываю! – Брезентовая сумка на боку, стеклянный звяк. – Не смей, Святослав!
Тот повел стволом в сторону толстяка:
– Тише, Яклич! Тише! Это мое дело. Это наше с ним дело! – снова нацелился в Сытника.
– Святослав! – воззвал толстяк, беспомощно запнувшись на пороге. – Это же пленный! Пленный!
– Не-ет! Это не пленный! Это, Яклич, Сытник. Клим Сытник. Ты помнишь Сытника, Яклич?
Толстяк помнил Сытника. Сытник тоже узнал толстяка:
– Доктор! Я пленный! Помоги! Пленный я! Доктор, скажи ему! Пленный я!
– Не-ет… – спокойно, как бы даже вразумляя, сказал Святослав, не выпуская Сытника из-под прицела. – Пленные, они сдаются. А ты вот убегаешь, шариками кидаешься.
– Я сдаюсь! Сдаю-у-усь! – Сытник вскинул руки.
– Святослав! Святослав, не надо! – взвыл толстяк. – Он сдается! Ты не имеешь права!
– Логично! – он снова улыбнулся: чуть, губами.
Толстяка обманул спокойный тон, улыбка. И Сытник обманулся защитой – той, которую он в отчаянии искал у доктора.
– Не имею. Никакого права, – сказал Святослав. И нажал на спусковой крючок.
Сытника исполосовало очередями, прибило к стене. Он оползал толчками – срываясь с одной автоматной очереди, зацепляясь за следующую, ниже. Еще ниже. Все!
Стена была взлохмочена дырами, виноградные грозди – коричневые с золотом – слизнула густая неровная красная полоса.
– Святосла-ав! – кричал доктор, по-бабьи зажав уши ладонями, зажмурив глаза. – Святосла-а-ав!!!
Эхо стихло. Доктор убрал ладони, открыл глаза.
Святослав закинул автомат за спину.
– Идем?
– Ка-ак?! – затрясся толстяк-доктор. – Ка-ак же ты мог?!
– Wie die Saat, so die Emte! – проговорил Святослав тем же вразумляющим тоном. – Идем!
Нижнесаксонский выговор был безупречен, поговорки он тоже знал прекрасно. Глаза… теперь улыбались и глаза – удовлетворенно, безмятежно.
Доктор заглянул в них и испугался.
***
– Wie die Saat, so die Emte! – проговорил Долганов, растирая плечо. – Перевожу для малограмотных: что посеешь, то и пожнешь. Она заслужила.
– Кто боится мужчины, тот бьет женщину! – глухо сквозь накатившую ненависть сказал Гребнев. Вызвал: – Поговорим?
– Конечно! – согласился Долганов. – У нас с вами разговор еще не окончен. Он как раз становится интересным. Только говорить мы будем не так, как вы себе представляете. – Снова потер плечо. – Одноногий Сильвер из вас не получится. Он метал костыль куда эффективней. Но вы тоже ощутимо… Вот этого не надо! – предупредил Долганов (отметил, что Гребнев бесконтрольно собрался, набрякнув расслабленными руками). – Не надо вот этого, не надо… – Долганов на расстоянии от Гребнева показал: гибко свернулся, закрывшись весь. – Знаем, занимались, держим себя в форме. Она далека от вашей, но, учитывая гипс, было бы глупо. А что вы так разволновались? Это моя жена. Осталась при своей фамилии, но жена. У нас с ней свои отношения. Она относится ко мне, я – к ней. А вы к ней не относитесь. Совсем. Это не вы, а я должен волноваться – вдруг да узнать, что верная подруга жизни крепко, хм, дружит с журналистом, согласен, без страха, но, согласитесь, не без упрека. Не так ли?
Волей-неволей выискрилось в глазах у Гребнева раздражение. «Ну, Валентина! Год молчать немей немого, что замужем! Зато потом сразу обрушить стереоинформацию! Гребневу: есть муж! Мужу: есть такой Гребнев! Ну, Валентина!».
– И от кого узнать?! – Долганов прочел в Гребневе раздражение, – Не от жены, нет. От, хм, преемника?
– От кого-о?
– Уважаемая товарищ Артюх Валентина Александровна, – «справочным», язвительным тоном продекламировал Долганов. – У вас неправильно набран номер. Справки по телефону… Ах, да! По какому же телефону справки-то?.. Но не по этому, гарантирую. Уважаемая товарищ Артюх Валентина Александровна! У вас неправильно набран номер, неправильно набран номер, неправильно набран номер… Преотлично! – Он перешел на тон вразумляющий: – Согласитесь, когда уважаемый человек, директор турбазы набирает номер журналиста, с которым намеревается провести деликатную беседу, а в ответ получает весьма официальное обращение к собственной жене, то… – перевел дух. – Не смотрите вы на торт. Не смотрите так. Кстати, про ваш компот. Большая редкость, я говорил. Да, вы правы, как говорит комментатор Маслаченко. Не представляете, с каким трудом я вытягивал из ОРСа приказ-наряд на этот компот. Только для турбазы, только для интуристов! Только этим и пронял.
А вот вышло так, что и вам перепало. Вкусно? На здоровье!.. Так что о характере ваших отношений с уважаемой товарищ Артюх Валентиной Александровной нетрудно догадаться. Но это же тогда многое меняет, Павел Михайлович! – нарочито радостно воскликнул Долганов, радостно и припо… – Какой там директор турбазы, какой там журналист, какая там деликатность! Свои же люди! Дружим, хм, семьей! Впору на огонек друг к другу заглядывать… Да, вы правы, как говорит комментатор Маслаченко. Заглянул. Дня три назад. Вас шокирует? А что прикажете делать, если хозяин, как достоверно известно, сидит дома в гипсе, но ни в какую на звонок не реагирует, не открывает. Боится, что ли? Меня? С чего ему меня бояться? – унижал Долганов, актерствуя, подчеркивая жесты, мимику, интонацию. – Свои же люди!.. Да что вы в торт уставились?! Глаз не отвести! Бесполезно ведь… Итак, хозяин меня не боится, не с чего. Может быть, хозяин так плотно сидит в своем гипсе, что встать не может? Поможем! Сами откроем! Ключом. Вас шокирует? Своим ключом, своим, Павел Михайлович! Имущество семьи неделимо до определенного момента. Уважаемая товарищ Артюх Валентина Александровна не посвящала вас? Жаль, жаль. Так что своим ключом. Где там сидит наш больной? А он не сидит. Вот те на! Но не мог же он надолго отлучиться в гипсе?! Преотлично! Значит, есть резон подождать. У вас уютно, Павел Михайлович… Нет, не сейчас. Дня три назад. Тогда я и устроился.
– С комфортом? – обвинил Гребнев.
– Да, благодарю.
– Ванну, не думали принять? Побриться? Спеть? – по нарастающей обвинял Гребнев.
– Что? А, у вас какие-то неконтролируемые ассоциации, Павел Михайлович. Нет, ванну и побриться – нет. Я брезглив. И петь предпочитаю хором. Но не с кем… Да, вы правы, полистал у вас какие-то наброски скуки ради. Ничего интересного. А вас нет и нет. Преотлично! Я человек дела, мне время дорого. Не дождался я вас, Павел Михайлович, долго ходите-бродите. Но повидаться решил непременно. Надо же все точки над i поставить. Надо же хоть раз преемника поглядеть. Не чужие… Дайте-ка я торт все же от вас отодвину. А то ведь только стенку загадите.
Долганова прорвало. Он говорил заряженно, упруго. И ненависти к Гребневу у него было много больше, чем у Гребнева к нему. Долганов актерствовал, излагая то, что излагал:
В сумочку к жене залез? Залез! А как еще с вами, если вы так?!
В квартиру без приглашения забрался? Забрался! А как еще с вами, если вы так?!
Жене под дых заехал? Заехал! А как еще с вами, если?!.
Долганова прорвало. Говорило оскорбленное мужское достоинство. Да так отрешенно и самозабвенно говорило, что Долганов упустил миг – Валентина взметнулась с пола и вцепилась ему в волосы.
Она давно очухалась от нокаута, и если бы Долганов не стоял к ней спиной, то понял бы: затаилась, слушает, ловит миг… И поймала!
Кошмар! Еще одна безобразная сцена! Энергия в Валентине неиссякаемая.
Она плевалась словами, уже знакомо для Гребнева – горлово выхрипывала бессвязности, знакомо для Гребнева – пантерно уходила от перехватывающих рук Долганова. Таскала, таскала за волосы. Рвущая боль лишила Долганова самообладания. Они кружились на месте, опрокинули столик – торт увесисто ляпнулся всем своим крррэмммом в пол.
Гребнев опять сидел бессильным зрителем, лишенный и второго костыля, запущенного в Долганова. Сидел зрителем, хотя видеть бы он всего этого не видел! И не слышал!
Из бессвязностей Валентины, если связать, получалось:
– Свинья! Какая же ты свинья! Хранитель очага вшивый! А кто тебя с гимнасточкой застукал позавчера?!. Кобелируй хоть по всей турбазе, а меня не приплетай! «Я хоть сейчас, лапа. Но жена! Не можешь даже представить. Юрист! Так обмотает, так затеребит. Век не отмыться. Ни мне, ни тебе. Нет, не думай! Она – собака на сене. Уже год спим врозь, хоть и вместе. Правда, лапа. Так с ней решили». Свинья! Решили?! Это меня от одного твоего прикосновения корчит, не то что от… Юрист тебя обмотает, затеребит?! Да я тебе и нужна только как юрист! Одним только мельником сколько мне мозги морочил?! Махинатор вшивый! Хранитель очага вшивый! Муж вшивый!
Так связывалось, если перепускать междометъя и восполнять смысловые пробелы. И еще один пробел восполнился – опять проползла долгая секунда: точно так же Валентина плевала словами третьего дня. «Слушай, Гребнев! Ты бы разобрался со своими бабами!». Усекла Долганова с гимнасточкой – все! Звонить Гребневу. Чтобы – обнявшись и в пропасть. И будь что будет. А он: «Ты была? У… нас». Вот на него, на Гребнева, и выплеснулось. Потом еще и напоролась на интимно-недвусмысленное бадигинское: «Посмотри мясо! А то я в ванной!». Ничего себе, досталось Валентине!..
Между тем Долганов все-таки освободился, потеряв клок волос. Стиснул Валентину в охапку, волоком протащил к двери, вытолкал:
– Домой! Я кому сказал, домой! – приказно, отрывисто. – Там поговорим. Домой!
– Дом-мой?! – давя слово, смешала Валентина это слово в кашу из отвращения и удивления. – Дом-м-мой?!!
Долганов вытеснил ее за дверь и щелкнул замком, заперся. У Гребнева. С Гребневым.
За дверью сначала – тихо. Валентина не сразу взяла в толк, думала, что Долганов уйдет вместе с ней. Потом – опять осада, трезвон, беспорядочные колотушки. Потом – голоса в подъезде, на этажах. Белый шум. У кого там? Что там? И – хлопок пружинистой двери подъезда. Улетела.
Долганов остался.
Гребнев тоже думал, что Долганов уйдет вместе с Валентиной. Долганов остался.
– Еще какая точка над i не поставлена?! – угрожающе спросил Гребнев, сделав костыльный мах навстречу Долганову. Пока шла очередная безобразная сцена, Гребнева озарило: у него же две пары костылей, две! Выскреб из-под тахты, пока длилось семейное разбирательство. Успел встать. – Предупреждаю, я ведь тоже брезглив. Есть еще точка над i?
– Есть, – бесцветно, как-то никак сказал Долганов. – Мельник. Авксентьев Трофим Васильевич. Злостный хулиган. С неясным военным прошлым.
– Вам Парин об этом сообщил? После вашей встречи с избирателями? В финской баньке? То есть в восстановительном центре?
– Отнюдь. Это я Парину сообщил. После встречи с избирателями. Да, вы правы, в финской баньке. В восстановительном центре. Он у вас очень не любит неприятностей.
– Я их люблю.
– У вас они будут. Если вы… – И внезапно прорвало уже без всякого актерства, без шутовства: – Слуш-шайте, вы! Пе-рес-тань-те вал-лять Вань-ку! – По слогам, дыша в лицо.
… Мы легко забываем свои ошибки, если они известны лишь нам одним. Нет, это не испанцы. И не Долганов. Это Ларошфуко. Продолжая: если ошибки вдруг стали известны кому-то еще, их будут помнить, еще как помнить. И напоминать. Тому, кто их совершил. Еще как напоминать! Но Долганов никогда не признает своих ошибок, он их просто не делает. И тогда тоже. Гребнев понимает?
Гребнев не понимал, но лицо хранил – ни в коем случае даже и тени недоумения! Долганов снова сам вел его. Долганов говорил, исходя из того, что Гребнев знает. Гребнев не знал и пытался мысленно про- буриться сквозь первый, верхний пласт того, что говорил Долганов.
Долганов говорил:
– Любой самодостаточный человек поступил бы так же. В той ситуации. И вы тоже, уверен! Да-да! Если бы вам было столько же, сколько мне… И потом! Дело даже в простом сопоставлении: кто ценней объективно? Не субъективно, нет! Убью, но и убьют. Без вариантов. Я – одного, двух. Но и меня тут же. Фатально и бессмысленно. Всегда должен быть смысл! Я со ступинцами три года бил немца, когда к ним, к ступинцам, вместе с вагоном свалился. Три года! И в этом был смысл, была цель. Победить! А тогда, с чекмаревцами, оставалось только одно – погибнуть. Может ли это быть целью? И есть ли в этом хоть какой смысл?
Гребнев прощупывал нить: тогда – это война, что-то не то и не так сделал Долганов тогда. Что именно? Гребнев не знает. Долганов же говорил, полагая: знает!
– … И не было бы всего сегодняшнего. Ни «Кроны», ни такого притока туристов. И район бы плелся где-то в хвосте любых сводок. Надо ли объяснять, кто поднял район на нынешний уровень? Думаю, не надо. Так, значит, был смысл, получается? Тогда… Не вопрос! Был!
… Теперь этот ваш мельник. Да, чист! Знаю. И знал. И тогда тоже. Но подай я голос по тем временам в защиту подследственного и… Не знаю, не знаю… Вы того времени помнить не можете. По книжкам разве, и тех нет. Анкета бы аукнулась на долгие годы, на всю жизнь. Вообще, неизвестно, куда бы я тогда делся. А в результате что было бы? Знаю точно, чего бы не было! Всего того, что сегодня есть! Не у меня, нет! У района, у области, у всех нас!
… И потом! Мельника ведь так и не посадили, не сослали. Ведь за него поручились. Как молол, так и мелет! Ему – что анкета, что не анкета. И потом! Даже и не поручились бы за него – так ведь был Указ. Вы этого помнить не можете. Сентябрьский Указ Верховного Совета в 1955 году. Об амнистии. Конечно, не все под него попадали, кто… Но ваш мельник бы попал… Десять лет? Пусть десять лет! Что для мельника изменилось? Как молол, так и мелет. Да и те. Тогда. Кто погиб. Они кто? Учитель, агроном, тракторист? Мало у нас сегодня учителей, агрономов, механизаторов? Много! Личностей мало. Чтобы настоящая Личность и чтобы могла сделать то, что другим не под силу.
Гребнев понимал: про Личность – это Долганов про себя. Про умелого и неординарного хозяйственника с размахом и фантазией. Который сделал много и сделает еще. И немало!
– … И еще сделаю! И немало! Сколько бы ни рыли под меня, ни копали, ни звонили… соратникам- поисковикам. Отрыли? Откопали? Да одним щелчком я вас пошлю в эту вырытую вами же яму. И сверху присыплю. И притопчу. Преотлично! За оскорбление, за клевету, за надругательство над памятью… Побудительные мотивы мне для вас найти – искать не надо! Уважаемая Артюх Валентина Александровна. Порочить видного человека, параллельно отбивая жену. Аморалка – самое малое, что вас ожидает. В том случае, если хоть один вяк прозвучит. Журналист ведь работник идеологического фронта? Объяснить, что такое аморалка для идеологического работника? И последствия? Преотлично! Я не говорю о том, что никто не поверит невнятному вяканью, но еще и…
Гребнев слушал и думал. Думал и слушал. Слушал и понимал, почему Долганов ранее не уходил, хотя его не раз и не два и не в самой вежливой форме приглашали на выход. Да без этой последней точки над i мыслимо ли было Долганову уйти?!
Гребнев слушал и думал. Думал, что нестыковка. Гребнева всегда отвращали самые интригующие детективы своими последними страницами – теми, где умный-умный собирал всех в кружок и втемяшивал им простым, немудреным текстом: как, кто, что, зачем. Не столько всем собравшимся в кружок (они и так созрели за триста-четыреста страниц, только намекни – все поймут), сколько читателям. Оно так, читатель только и ждет, когда ему все втемяшат – и того, чего он, читатель, не знал, не подозревал, ибо только на последних страницах и обнаруживается. Оно так.
Но Гребнев – не читатель. И Долганов – не умный-умный. Нестыковка. С какой радости или печали Долганова понесло? Да, из того, что он сказал, не все понятно, но ясно, что он, Долганов, большая сволочь. Что-то такое случилось тогда, и Долганов уверен, уверяет себя и Гребнева, что любой на его месте поступил бы так же. (Как? Конкретно, как?! Гребневу неважно теперь. Важно, что это было. И было это плохо). И Долганову, не вникая в подробности, надо было за все не тортом в физиономию запортить и даже не костылем. Сволочь с идеей! Даже из того, что Долганов сказал, даже из этого…
Мельник, по Долганову, под амнистию попал бы! А то, что амнистия объявляется только для преступников, – это как?! И если амнистирован, то, значит, был осужден, – это как?! И если преступник, то попробуй требовать к себе отношение как к честному, ни в чем не повинному, – это как?! Чего там! Авксентьев был признан без вины, отпущен. За него поручился командир отряда. И что?! Сам же Долганов его склоняет на все лады Парину: не все ясно с военным прошлым. Сам же Долганов, у которого – вот выясняется! – не все ясно с военным прошлым! Что же там такое?
Если верить саге о Долганове, накорябанной Париным, то действительно три года геройски партизанил, действительно первым, одним из первых вошел в город, действительно пацаном прошел через все, что и взрослому не всегда под силу.
Парин осторожен – на таком материале, о том времени не стал бы врать или даже просто умалчивать. Себе дороже обойдется, если всплывет. Значит, Парин ничего такого не знал и не знает. И никто не знает.
И Гребнев не знает. Только строит версию, свой вариант. Версия и есть лишь версия. Нужно полное знание, и потому Долганов неуязвим. Хоть и приоткрылся… И уязвим как раз Гребнев, когда и если вякнет какую-то там версию. Мол, сам слышал от Долганова. Слышал Гребнев плохо – опять звон в ушах нарастал, глушил. Вот сволочь!
Но с чего эту сволочь понесло на манер умного- умного с последних страниц?!
– А пленку вы, Павел Михайлович, я вам настоятельно советую, сотрите. Можете поверх музыку записать. Хорошую музыку, ритмичную. Гимнастику под нее делать будете. Преотлично для здоровья… Сотрите, сотрите. Некуда музыку будет писать – пленка нынче дефицит. Это я вам как умелый хозяйственник авторитетно заявляю. Вот эту пленку, вот эту! – Долганов указал своим веским пальцем на магнитофон. – Этого совсем не надо. Никому не надо. Ни вам, ни мне, ни мельнику вашему, ни городским, ни районным… Никому! – подступился к магнитофону, перемотал немного назад, нажал.
– «А паренек тот – что ж, паренек. У него своя правда была, понимать надо. Каждого понимать надо. Паренек тот совсем распашонок. Видимость одна, что взрослый. Какая у него правда? Время было…».
– Видите? Пра-ав Трофим Васильевич. Каждого понимать надо. Своя правда была. Мельник безграмотный – и то понял. Другой вопрос, как он добрался до меня. Но ответ я найду. И глядите – добрался, но понимает. А вы никак не хотите! Я же вам уже говорил: немного есть того, что стоило бы хранить вечно. Испорченный желудок гарантирую. А вы Ваньку валяете, светски беседуете.
Гребнева прошибло! Пробурился! Понял! Вот тебе и эффект плацебо!.. Цебо-цебо-бо-бо-бо!
Долганов пришел к нему как раз в тот момент, когда шла расшифровка! И как раз прозвучало – мельник о следователе! Возможно, Долганов и не планировал столь долгой, светской беседы. Возможно, Долганов просто устроил бы «маленький мужской разговор» про Валентину – сильный ход! Ведь Гребнев, наверное, не стал бы тогда писать о мельнике. Получалось бы, что он гадит мужу Валентины, гадит сознательно за то, что Долганов – муж Валентины. Поди докажи обратное хотя бы самому себе! Не докажешь. И не стал бы писать. Или стал бы?..
Но Долганов сам открыл дверь чужим ключом, сам пришел в чужую квартиру. И сам получил по мозгам прямо с порога: «А паренек тот – что ж, паренек…».
Мы легко забываем свои ошибки, если они известны лишь нам одним. Ларошфуко. Эрудирован Долганов. Да, забываем, если не напомнят. Если только делаешь вид, что забыл, то каждая частность даже по совершенно иному поводу замыкается на того, кто делает вид, что забыл. (Бегущий в толпе – мнящий, что только на него все и смотрят). «А паренек тот…». Сколько было Долганову тогда? Тринадцать? Четырнадцать? Мельник – про следователя, а Долганов – не про него ли, не про Долганова ли?! Про кого же еще!
Ай, да паренек! Ай, да следователь! Через тридцать пять лет, а докопал! Косвенно, а докопал! Сам в этом принял участие, пусть опосредствованно, через Авксентьева, а докопал, расшевелил! И не знал мельник ничего о Долганове, и следователь-распашонок ничего о Долганове не знал. А докопал, расшевелил! Вот это эффект! Плацебо! Не таблетка, а разговоры о ней!
Долганов получил по мозгам, войдя в квартиру и услышав запись, на ходу перестроился. Не дурак! Если у Гребнева за душой не только Валентина, но и «неясное военное прошлое» Долганова, то маленького мужского разговора не хватит. Не те козыри против паренька-распашонка, принятого Долгановым на свой счет.
Вот Долганов и сменил тактику. «Охмурял». Не дурак!.. Дурак! И сволочь!.. Но что же там такое произошло? Тогда?
– Ну, так я вам еще раз напомню! – прощально сказал Долганов. – Ich kann gewip Wurst machen aus Ihnen! Я из вас запросто могу сделать котлету. В немецком – не котлета, а колбаса, но сути это не меняет. Могу. А вы – нет. Кстати, хотя бы в силу моей депутатской неприкосновенности. Надеюсь, у вас нет сомнений, что меня сегодня изберут? У меня – нет.
– Как зуб? – напоследок спросил Гребнев не без вызова.
– Успокоился, благодарю. К слову, что за таблетку вы мне всучили? Это конечно не… как вы там лопотали?., это я понял. Но, надеюсь, не отрава?
– Глюконат кальция. Совершенно безвредно! – заверил Гребнев. – Зато с эффектом плацебо. Знаете, что это такое? Полюбопытствуйте на досуге, в чем эффект! – вероятно, в голосе у него проступило нечто.
– Непременно! – Долганов, уже выйдя на лестничную площадку, склонился в церемонном вызывающем полупоклоне. Но в глазах не было победы, была реакция на нечто, проступившее в голосе Гребнева. Спохватился, отслеживая назад: не раскрылся ли? не зря ли раскрылся хоть в той степени, в какой раскрылся? и стоило ли?
Гребнев с силой захлопнул дверь, чтоб по носу задело. Не задело. А жа-аль! В чем же таком раскрылся Долганов? В слишком многом, чтобы безошибочно заключить: сволочь! В слишком малом, чтобы доказательно объявить всем; это – сволочь!
На том и расстались. Обоюддозадаченные. Полный дискомфорт в душе.
… Самое смешное, но очень логичное в своей нелогичности, – первое, что сделал Гребнев, это полез в Даля.
«Вот, к примеру, колбаса».
Он ему покажет – колбасу! Ишь, немецкий богаче!..
«КОЛБАСА, кишка, начиненная рубленнымъ мясомъ съ приправами, б. ч. изъ свинины. На колбасахъ штаны проел! – дразнят приказныхъ. Коли бъ у колбасы крылья, то бъ лучшей птицы не было! (Ага! Даже у Даля есть! Вариант «лучшей рыбы»! А этот… говорит!). Колбасный, к колбасе относящ. Колбасник – кто делаетъ или продаетъ колбасы… Бранное или шуточное прозвище немцев…».
– У, кол-лбасник! – выразился Гребнев. – Знаток языка!
«Сотрите, сотрите!».
Так Гребнев и стер!
«Не советую!».
Так Гребнев и прислушался к совету! Да он этого колбасника!.. Он… он сейчас такого понапишет! Про все! У-у, кол-лбас-сник!
***
«Солнце поднималось, сначала заслоненное лесом, просеянное сквозь стволы бликами. Потом взобралось на верхушки самых высоких деревьев, оттолкнулось от них и прошествовало еще выше, выше. Как и вчера, и позавчера, и каждый день, год, десятилетия. Освещая щедро и нежно-зеленый ковер поля, раскинувшегося до горизонта, и спелые волны этого поля, и зябнущую, усталую черноту отдавшей урожай земли, и одеяльную ослепительную покойную снежность – до весны.
Весна-лето-зима-осень. Хлеб. Солнце поднималось, шествовало привычным путем, всматриваясь с высоты, все ли в порядке? Зеленый-желтый-черный-белый. Весна-лето-осень-зима. Да, все в порядке! Будет хлеб!
А как там мельница, всматривалось солнце. Невидимо струит свои воды речка Вырва, цепляется за край плотины, переваливает через нее. И шумит, вертится колесо древней мельницы. Да, все в порядке! Будет хлеб!
А как там хозяин, мельник? Как там Трофим Васильевич Авксентьев, всматривалось солнце. И мельник выходит на лужайку, притеняясь от яркого солнца, из-под руки смотрит в чистое бездонное небо:
– Все в порядке, ярило! Здравствуй!
– Здравствуй, старина! С днем рождения!..».
…– Сейчас ты отпадешь! – заорал Кот с порога. Стрелки его непотребных усов, буде лицо циферблатом, топорщились «без пяти час». – Гр-ребнев-в! С тебя причитается!
С Гребнева причиталось.
Газета свежая. Понедельник. Только-только сегодняшняя.
«Как подлинный народный праздник начался день 20 июня 1982 года, вошедший красной датой в наш советский календарь. Нынешние выборы проходили в обстановке огромного политического и трудового подъема, под знаком активной подготовки к 60-летию образования СССР, в атмосфере решимости претворить в жизнь одобренную на майском Пленуме ЦК КПСС Продовольственную программу.
В шесть утра гостеприимно распахнулись двери всех избирательных участков нашего города. К полудню проголосовало 90 процентов избирателей…».
– Не здесь читай! Не видишь, это Парин! «Гостеприимно распахнулись», «обстановка огромного подъема!..». Долганов, Долганова избрали, кого же еще! В количестве одного человека! Да ты третью полосу посмотри, третью!..
Третья полоса. «А все-таки она вертится!».
Гребнев лихорадочно перепускал куски текста, воспринимая лишь отдельные слова и слова: из года в год… живая страница истории… разлапистые великаны… могуч мельник… заповедная…
«… кольцует годы под бугристой кожей-корой стареющий исполин у порога мельницы, укрывает ее просторной тенью, заботится – и пора бы. Потрескалась мельница, серой бледностью покрылись бревна от летнего зноя и зимней стужи.
Но по-прежнему бодр и полон сил хозяин мельницы восьмидесятилетний Т. Авксентьев. Он горд за нее. А все-таки она вертится! Годы, кажется, не властны над ним. Вот и мельница состарилась, а он, несмотря на возраст, возится с железом, камнем, деревом – ладит, чинит, латает. И она вертится!
И еще долгие годы будет вертеться! Вторую жизнь заслуженной ветеранше подарит бережная реставрация и капитальный ремонт, выполненный под руководством вновь избранного депутата райсовета, директора турбазы «Крона» С. Долганова. Сотни, тысячи отдыхающих придут к помолодевшей, захорошевшей мельнице «У Трофима». И встретит их у порога радушный, гостеприимный хозяин Т. Авксентьев:
– Заходите, гости добрые! Здесь у нас корчма, а здесь – только осторожно, лестница слабая! – покажу вам, как зерно в муку превращается. А здесь, в печи – на ваших глазах из муки, из теста: каравай! Пышный, душистый, настоящий! Хлеб-соль! Хлеб- соль!».
Как же так?! Как же так?! Как же так?! – монотонно перестукивалось в голове Гребнева.
«… и поднимается солнце. Глядит из поднебесья: все ли в порядке? Да! Поле, лес, мельница – и все-таки она вертится!
К. Пестунов, П. Гребнев.» Двести строк тик в тик. Подлинный былинно-этнографический речитатив.
Гребнев все понял, хотя ничего не понимал из того, что ему говорил Кот, просто не воспринимал. И так все понятно.
– Причитается!.. Сбацал!.. Парин, нет, ты бы его видел! Издергался, как «раскидай»!.. Двести строк, как ты и… Двух зайцев!.. Ему и крыть нечем! Только, говорит, добавьте про вторую жизнь и чтобы Долганов фигурировал (депутат, как-никак)! Я говорю, вы чего! Выборы же еще идут! А потом думаю – ладно! Что у нас может измениться?!. Парин буквально поник! Он уже выговор тебе было навесил, а я ему – бац!.. Причитается!.. Говорил тебе, что чем меньше у журналиста… Главное – была бы фактура!.. Простор для… Фактура твоя, работа моя… Гр-р-ребнев-в! Ты бы его видел, когда я ему – бац!.. Цветет и пахнет!.. И ведь в полчаса! Левой ногой! Представляешь, если бы я все это еще и правой ногой?! Тогда бы вообще все отпали! И ты бы тоже!
Гребнев «отпал», как ему и обещал Пестунов. Гребнев смотрел в текст и видел… ничего он там не видел. Потом посмотрел на заливающегося Пестунова. Был взгляд. Было во взгляде такое, что… Такое! Такое, что…
Пестунов запнулся. И усы у него упали. Как в кинокомедии – р-раз и вниз!
– Там дерево не у порога. Какое поле до горизонта? Там лес кругом. Чернота земли? У нас почвы – болото. Не чернозем… – упавшим голосом говорил Гребнев, хотя это было совсем неважно. Не это было важно. А он все падал и падал голосом. О дереве ли, о почве ли речь?!
– О чем речь! – сказал Пестунов, тяжело контуженный Взглядом коллеги, что-то такое почувствовал, сник, продолжая просто по инерции: – Это же обобщенная метафора. Ты еще скажи, что солнце не умеет говорить!
– Не скажу.
– Да что ты в самом деле! Сам же просил! Хорошо, я прозвонюсь в область, забью для тебя триста строк в областной. Делай на здоровье! Я договорюсь, у меня там контакт. Хоть что про этого старикана! Хоть все, что намотал на маг!
Гребнев прокостылял к магнитофону. Снял кассету. Протянул ее Пестунову:
– Дарю, соавтор! Пленка ныне – дефицит. Запишешь что-нибудь веселенькое поверх.
– На кой мне твоя пленка! – взъерепенился Пестунов.
– Что-нибудь веселенькое! – повторил Гребнев. – Все! До нескорого свиданья.
– Да что ты в самом-то деле?!!
И снова был Взгляд.
И Пестунов ушел. С пленкой. Что-нибудь веселенькое…
Попался ли в сундук афористам крик души: «Избави меня от друзей, а от врагов я сам…»?
Гребнев сидел и смотрел в одну точку – ничем не примечательную точку. Точка и точка. Крапинка на обоях. Не в нее он смотрел. Он смотрел в никуда, в ничто.
Парин из штанов выпрыгнул, чтобы не… Долганов из штанов выпрыгнул, чтобы не… А точка вот она. Поставлена. Пестуновым. «Для друга».
«И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ!». Название нашел – лучше не придумаешь! «… и поднимается солнце. Глядит из поднебесья: все ли в порядке? Да!.. К. Пестунов, П. Гребнев».
Да-а, все-о-о в поря-адке! То-то обрадуется мельник, прочтя. То-то рады и Парин, и вновь избранный депутат Долганов, и свора реставраторов будущей корчмы! Ай, да П. Гребнев! «Избави меня от друзей…».
Час он просидел, просидел два, три. Не двинувшись. Глядя в никуда, в ничто.
Зуд. Рассыпался по ноге, затерзал. Глюконат кальция! Не помогает! Никакой эффект плацебо не спасает. Наверное. Что, еще одну ночь без сна?!
Гребнев раскачивался, обхватывал гипс руками, пытаясь его расшатать и пусть этим же гипсом, но учесать зуд. Нет, крепко заковали! Крепко-накрепко! Ох-х-х, каково!
Потом стало еще хуже. А сволочь Долганов неуязвим. (Он этого колбасника!.. Что – он этого колбасника?!). Сволочь Долганов унял свой зуд многолетней давности и теперь даже не почешется. А Парин «цветет и пахнет». А Пестунов в областную метит, Пестунов «левой ногой сбацал, и сейчас ты отпадешь!». Профессионал! Ох-х-х, каково!
Потом все стало собираться до кучи. Гнусно-базарным голосом позвонили из поликлиники:
– Сами просят, чтобы записали, а сами что?! Вы сегодня были на УВЧ?!
– На каком еще УВЧ?!
– На большом! Вы уже один раз пропустили! Сами просят, а сами… Если вы не явитесь сегодня, то мы вас вычеркнем, и больничный не получите!
– А идите вы! – сорвался Гребнев. – Траншею сначала закопайте!
– Пьяный! – определил для себя гнусно-базарный голос. – Вы еще и пьяный! Мы вам на работу сообщим! И вычеркиваем! Вы еще узнаете! Вы ещ…
Заскреблось за дверью. Кто еще?!
Никого. Почта. Конверт в ящике – в дырочки проглядывает. Открыл ящик, достал. Тощий конверт. Как пустой. Не пустой – листок-осьмушка:
«Уважаемый т. Гребнев П. М. Вы не будете допущены к летней сессии, если в срок до 21 июня Вами не будет представлена курсовая работа по районной газете за шестой семестр. Список тем – у старшего методиста кафедры…».
Мама родная! Елы-палы! Блин горелый!.. Забыл начисто! Заочник хренов, хвостист стукнутый! Курсовик! Список тем! До 21 июня!.. Какой список, каких тем, когда уже сегодня двадцать первое!!! Когда нога! Когда зуд!
Ай, плохо! Ай, как все препаршиво и плохо! Долганов – плохо. Парин – плохо. Валентина. Мельник. УВЧ. Курсовик. Нога. Зуд…
Телефон позвал. Гребнев даже возликовал сардонически: что еще?! что может быть еще?! вали до кучи!
– Паша! – В жизни Бадигина его не называла Пашей! – Я тебе скажу, Паша… Ты материал видел?! Про «вертится»?! Паша! Тут у нас такое творится! Ты не представляешь! Я тебе скажу, Паша! Кот пришел в редакцию… бритый! Бри-тый! Без усов! Я его не узнала! И к Парину! Паша, он Парину очки разбил! Парин докладную пишет редактору! Он требует срочного собрания партгруппы! А тебя же нет?! И редактора нет! Вообще никого нет! Я тебе скажу, Паша, теперь Коту не то что областная, а и у нас бы усидеть! Паша, он взбесился! Да Пестунов же! Не Парин же! Я тебе скажу, Парин тоже взбесился! Он и про тебя что-то кричит! Да Парин же! Ты, кричит, подбил! Паша, это ты подбил?! Я тебе скажу, он всех в свидетели зовет! Да Парин же! Паша, мне идти в свидетели? Или нет?
– Иди! Иди, Бадигина!.. Иди ты знаешь куда?
– Не пойду!
– Куда?
– В свидетели. Я вообще в корректорской была. Ой, Паша, я «вешаюсь»! Тут такое!..
… Ай, Кот! Ай, кретин! Ай, молодец! Все равно кретин! Рефлексирующий кретин с томиком «маразмария»! Ай, Кот! Парин же – мячик! Только выше подпрыгнет. Утрется, срикошетит и врежет! Не физически, а более внушительно! Плохо. Все плохо. Парин – мячик, Долганов – мячик. И сколько их, этих мячиков! Плохо. Поди победи, попробуй!
Стоп. «Не врите!». Я сам!
ЧТО СО МНОЙ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ? НИЧЕГО СО МНОЙ НЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ!
Ну да, конечно! «Катерина с верой в будущее прыгает с обрыва». Гребнев с верой в будущее хрестоматийно налегает корпусом на пишмашинку.
– Чем занят?
– Пишу! – с усердным оптимизмом, непоколебимостью в тоне.
– Про мельника?
– Нет! Не про мельника! – обещая черте что в перспективе всем: и врагам, и друзьям. – Не совсем про мельника. Совсем не про мельника. Но и про него!
Ну да, конечно! На этом сахарная хрестоматийная концовка обычно уходит в многозначительное затемнение или камера отъезжает. Победа-а!
И уже затемнено или камера так далеко отъехала, что не видать снисходительных лиц, не слыхать покровительственных оппонентов, имя которым легион, силы которых немерены, послушные зависимые овцы которых не считаны.
– Ах, пишешь? Ну пиши, пиши…
Плохо. И все – до кучи. Отворяй ворота.
Но! «Не врите!».
Но! ЧТО СО МНОЙ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ? По большому-то счету?! Ничего со мной не может случиться! Не съедят же!
«Как у вас с зубами, Святослав Борисович?
Преотлично! А у вас, Павел Михайлович?
Лучше! Гораздо лучше!». И не только с зубами!
Будем живы – не умрем!
Плохо? А это как?
А хорошо – это как?
«Бац! А я ему – бац!».
Пестунову сейчас очень плохо.
«Не врите!». Пестунову сейчас очень хорошо! И Гребневу тоже! Оч-чень хорошо!
Овчинка с легиона послушных и зависимых стоит выделки! Отворяй ворота – нате! Нараспах! Вали до кучи!
Я САМ! ЧТО СО МНОЙ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ?! Снова телефон!!!
Отключит его Гребнев! С корнем вырвет провода! В окошко вышвырнет! С веселой злостью! Радостно и припо…
– Да-а?!
Алле! Ну, как ты там?..





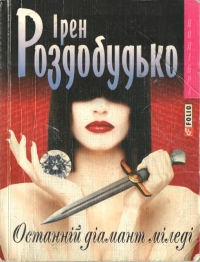
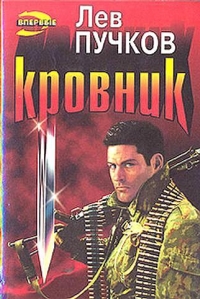
Комментарии к книге «Время ненавидеть», Андрей Нариманович Измайлов
Всего 0 комментариев